Часть I
О чем пели рабы, возводящие пирамиду Хеопса? Что пели и, пели ли вообще, несчастные кули, строившие Китайскую Стену? О чем, кроме горсточки риса, мечтали они, во что верили, на что надеялись, как обращались к своему Богу, о чем просили Его, упав на землю в изнеможении?
Страшен, непосилен был труд их, безнадежно глядели они в равнодушное небо… И шли, и шли, и шли. И несли тяжести, и складывали их так, как велели им их надсмотрщики, видимо, ничто не приходило им в голову, кроме мысли о еде и отдыхе. Они и умирали молча, зная, что на место каждого умершего сразу же будет пригнан новый, даже я, который никого не будет интересовать.
Прошли века. Изменилось лицо земли и труд, и люди. И многое стало иным, лучшим. Но многое, очень многое осталось по духу своему таким же, каким было оно при стройке пирамид.
И если попал ты в машину, перемалывающую людей, в наше, ах — столь богатое вождями и социальными идеями время, то кончишь немногим лучше тех, кто таскал дьявольски тяжелые камни на самую вершину пирамиды.
Всё это инстинктивно чувствовал Семён, безрадостно не то напевая, не то постанывая старинную казачью песню.
Через всю длину огромного помещения пролегла на высоте человеческого роста бесконечная лента, по которой неустанно бежит уголь в широкие пасти бункеров. Когда заглядывает после полудня солнце на эту ленту, падает тогда ее тень на противоположную стену и, будто в кинематографе, бежит по ней живым, мутно мерцающим отражением.
И кажется Семёну, уже много лет вынужденному, как феллах, как кули, молча и безропотно работать кочегаром, что вовсе это не тени угольных горок, а высокие холмы с выстроенными на них городами. Стены, колокольни, зубчатые башни, храмы и капища, купола и крыши домов быстро пробегают мимо и исчезают там, где, сгибаясь на вале, выбрасывает лента свой черный груз. И бегут, и текут снова и снова в фантастическом, миражевом рисунке.
Сколько таких городов повидал Семён в своих скитаниях, в скольких жил и сколько их оставил, уже и не сосчитать. Часто казалось ему, что нашлось, наконец, надежное пристанище, часто влюблялся в какой-то из городов, но неумолимые обстоятельства вынуждали покидать и эти города. И всё холодней и холодней глядели на него чужие окна…
Бегущая лента вызывает в нем томительные воспоминания о всех них, но чаще всего, отчетливо и ярко, о хуторе Пономарёв, в котором родился он в семье казачьего офицера.
Пра-пра-пра-прадед его Яков Пономарев, служа под командой генералиссимуса Суворова в «Итальянском походе», прошел от Вероны на Милан и Турин, и сам видал и участвовал со станишниками своими в бою в ущельях реки Рейсы при взятии Чертова Моста. Был за это награжден чином сотника и в составе группы особо отличившихся казачьих офицеров был отправлен в город Санкт-Петербург, где и удостоился приема у императрицы Екатерины. Обласкала их раздобревшая царица. Умела она и весело поболтать, и очаровательно улыбнуться, и такое слово сказать смущенному степняку, что на всю жизнь запомнил он и лицо ее, и звонкий смех, и улыбку, показавшуюся ему ангельской.
Подивилась немудреным словам его матушка царица, сравнив их с пышной реляцией о его подвиге, в результате которого казаками взят был неприступный Чертов Мост и тем выиграна кампания Италийская.
Вот такими словами, как на духу, рассказал сотник Пономарев, до конца дней своих никак понять не мог: за что же пожаловала царица его в есаулы, дала ему звание дворянское и десять тысяч десятин земли в юрту станицы Островской.
Вернулся на Дон Яков Пономарев и в первый же день по возвращении в полной парадной форме пошел на могилу деда, подарившего ему шашку со словами: «Смотри, внучек, не осрами Войску Донскуя!», и живым его не дождавшегося.
Крепко чесал затылок отец Якова Пономарева, есаула, урядник Егор Пономарев, прикидывая, как же это так начнут они теперь оба хозяйничать на десяти тысячах десятин земли с тем инвентарем, с которым едва управлялся он на станишном своем наделе. И как же это теперь пойдет за плугом с быками сын его Яков, когда вышел он в чины и стал дворянином Империи Российской?
А на полученных в дар землях, по которым еще со дня их сотворения плуг не хаживал, выли холодными зимними ночами волки, сновали бесчисленные лисицы, и хоть сто верст скачи — живой души не встретишь. Туговато пришлось новым дворянам, да помогло Войско: обстроились, поставили на речке Ольховке хутор, развели овец, ушли по уши в хозяйство; одни умирали, другие родились и слали, непрерывно слали сынов своих в полки казачьи на границы Российские, в бесчисленные войны против врагов и супостатов.
В те же далекие времена прославился и другой прапрадед — Семёнов Гавриил, налетевший в городе Саранске на взбунтовавшихся горожан, пошедших на зов Пугачева, и успевший вовремя потушить зажженный со всех четырех сторон большой сарай, в котором затворили они взятых ими в плен верных царице офицеров и их семейства. Сотни мужчин, женщин и детей спас он от смерти в пламени, и носили с тех пор они двойную фамилию — Пономарев-Саранский.
Немногим отличались тогда казачьи мелкие дворяне от рядового казачества. Только и было разницы, что позднее могли они учить сыновей своих в корпусах кадетских, что выходили те в номерные полки не рядовыми, а офицерами, и служили там вместе со своими одногодками-казачатами, с которыми в детстве ловили они в станицах рыбу, гоняли коней на попас, джигитовали на церковных праздниках и, попав в армию, оставались и там станишниками и друзьями. Беспрекословно слушались казаки офицеров своих на службе, в строю, а вне службы, на биваке, у костров, по зимним квартирам, балагурили с ними так же, как смеялись и шутили на улицах и по садам своих хуторов и станиц. Не зазнавался казак, став офицером, а по старому обычаю становился лишь старшим в братстве столетних традиций и обычаев.
С годами разрослась семья Пономаревых; на донской трехверстке-карте обозначались их хутора большим черным кружочком, и имели они теперь, кроме старого прадедовского дома, еще пять поместий, лежавших вдоль речки Ольховки.
Совсем еще Семён был малым, не знал, что, отвоевав на русско-японской войне, вернулся отец его домой, составил, было, планы новых построек, но со всеми остальными взрослыми ставшей совсем большой семьи должен был снова отправиться в полк. Не знал еще тогда Семён, что это за «беспорядки», начавшиеся тогда по всей России, не знал он, что закипала это революция, которая позднее лишит его родины, его Тихого Дона. Не знал, что решили, наконец, русские крестьяне стать хозяевами той земли, на которой сотнями лет жили они рабами, а вместе с ней прибрать к рукам и Земли Казачьи.
Семьи ушедших в полки офицеров собрались на прапрадедовском Старом Хуторе, у бабушки, где и жили, ожидая ушедших на службу…
Как-то ночью приснился ему сон, страшный сон, будто бросается на него их самый большой петух и норовит клюнуть его прямо в глаз и неестественно высоко в воздухе трепетал красный его гребешок.
Тогда он еще не знал, что мужики села Клиновки, собравшись на мирском сходе, порешили сжечь имения Пономаревых, а с ними и всех в них живущих. Глубокой ночью всем селом подошли они лесистым берегом речки к Старому Хутору. Те из них, что раньше у Пономаревых работали, приманили и передушили охранявших хутор собак, а остальные, обложив постройки соломой, подожгли их вместе с теми, кто в них спал.
Совсем еще Семён был маленьким. Испугавшись страшного петуха, криком своим разбудил бабушку Наталию Ивановну, и ослепил его наяву сквозь щели в ставнях огонь горевшей за деревянной стеной дома соломы.
Одному из клиновцев, бывшему работнику у Пономаревых, удалось от односельчан скрыться. Три версты пробежал он босиком по лесу в казачий хутор Разуваев и всполошил там стариков-казаков. Охлюпкой прискакали они к горевшему хутору, все жители его были спасены, но построек отстоять не удалось. Всё тогда погорело у Пономаревых. И пра-пра-прадедовский дом есаула Якова Пономарева. А когда явились домой вызванные из полков телеграммами отцы семейств, то нашли они жен своих и детей у разуваевских казаков на квартирах, а на месте хуторов лишь золу, головешки, да старое родовое кладбище. Не знал тогда Семён, что позднее, на суде, разводили, недоумевая руками их поджигатели, ничего не понимая из того, что происходит. Истово крестились на висевшую в углу икону Николая Угодника и говорили с подкупающей искренностью:
— Никак мы не виноваты. А пожечь поместья, верно, всем миром сговорились, потому время такое подошло, чтобы помещичьи земли нашими стали. Грех на душу для пользы народной брали.
Снова отстроились Пономаревы.
И так же, как при Якове, как при Гавриле, так же и теперь, при старейшем в роде Алексее Михайловиче, носившем бакенбарды и расчесывавшем надвое свою аккуратную короткую бородку, шумела вода на речных перекатах, всё так же пахла акация и сирень в садах, так же яблони, груши с вишнями, и так же дружно заливались соловьи, заглушая вечерние концерты лягушек.
Безудержно катились годы. Родились, вырастали, учились военному делу и шли служить царь-отечеству Пономаревы. И если не погибали в боях где-то в Турции или Японии, то окончательно возвращались домой, уйдя в отставку с чином не старше войскового старшины или полковника, получали пенсию, сеяли пшеницу, рожь, ячмень, подсолнухи и люцерну, разводили бахчи и огороды, овец и скот и добрых донских лошадок, охотились, рыбалили и доживали свой век до глубокой старости. А когда призывал их Господь к Себе, то тесно ложились они друг возле друга на плетнем огороженном старинном кладбище с добротными, по сто лет стоявшими дубовыми староверческими крестами.
Лежали там и Яков Пономарев с супругой своей Маланьей Исаевной, и все внуки их и правнуки, кого сподобил Господь помереть на Тихом Дону, а не на чужой сторонке. И когда регулярно, каждое воскресенье, отправлялась бабушка Наталия Ивановна в церковь слободы Ольховки, населенной украинцами и лежавшей за девять верст в соседней Саратовской губернии, то подавала она с просвитками и два длинных списка. За здравие живущих и за упокой тех, кто лежал на Старом Хуторе, или, как один из дедов, Степан, — под Силистрией в Болгарии, другой, Ефим — где-то под никому не известным Браунау, а третий, Евграф, в Монпарнси под Парижем. Не вернулись они на Тихий Дон, но поминали их неизменно, и ставили, и ставили свечки перед святыми иконами, веря, что видят души их огоньки эти и легче им там просить Господа за живущих.
Великим любителем рыбной ловли был Алексей Михайлович. Заразил он своей любовью и сына своего Сергея Алексеевича, и перешла эта любовь на внука его Семёна. И зимой и летом хранили они в порядке свои рыбные снасти и снабжали они, трое, и собственный стол, и кухни сородичей сазанами, щуками, лещами, сомами, окунями, линями, налимами, уже не говоря о раках, красноперках, плотве.
Отец Семёна, Сергей Алексеевич, есаул в отставке, жил на хуторе после плохо залеченного ранения, полученного им на реке Ялу в Японской кампании, а с ним и неизлечимую тогда болезнь, для Семёна особенно мудрено звавшуюся «остомиэлитис».
В те немногие месяцы, когда позволяла ему болезнь, неустанно ходил он с двухстволкой на перепелов и куропаток. Пробовал, было, взять с собой и сына на зайцев, да когда услыхал тот страшный, детский, крик подстреленного зайца, зажал уши руками, плача, бросился домой, проплакал целый день и лишь к вечеру успокоился. Долго вечером просидели над ним мать и бабушка, наведывались и отец с дедом, крутили головами и, уйдя в столовую на рюмочку горькой, вынесли единодушное решение:
— Вряд из Семёна хороший казак будет.
Зато на рыбальство ходил он с отцом и дедушкой очень охотно. Плотно закутанный башлыком, в шубе и валенках, с перчатками и рукавицами, должен он был следить за камышинками, торчавшими из горок льда от вырубленных глубоких лун. Поперек каждой лунки лежала дощечка с намотанным на ней шнуром. Часть этого шнура разматывалась, перебрасывалась через расщеп в камышинке и опускалась в воду. А на конце этого шнурка, на большом в форме якоря крючке, насаживался живец — маленькая живая рыбешка. Заранее наловленные живцы хранились тут же, в ведерке, и задачей их было, крутясь на крючке, пронизывавшем их спину, приманить — к себе щуку и быть ею проглоченными.
Примостившись под крутым берегом в затишке, сидя на нарезанном камыше, курили отец и дед папиросы, набитые табаком «Султан-Флор», вился табачный дымок над глубоко промерзшей речкой, давил мороз и резал глаза яркий свет голубевшего под солнцем снега.
Когда щука «брала», то обламывал шнурок камышинку, и нужно было, быстро схватив дощечку, чтобы, упаси Бог, не утянула ее щука под лед или не порвала шнурка, «подсечь» попавшуюся рыбину, потом, то попуская, то притягивая к себе, «выводить» ее и уморить и, никак не торопясь, подвести ее, совершенно выбившуюся из сил, к отверстию лунки. Тут и брали ее, матушку, либо сачком, либо голыми руками под жабры. Здорово подсекал дедушка, хорошо вываживал отец, а за последнюю зиму и Семён здорово наловчился. Довольные, скрипя валенками по глубокому снегу, возвращались промерзшие рыбаки домой. Впереди шел отец, затем шагал в его следы дед, затем Семён, совершенно не замечавший, что под слезшим на бок малахаем давно побелело замерзшее левое ухо.
Рыбу приносили домой, с довольным видом выслушивали восторженные восклицания стряпухи и торжественные заверения Ваньки-Козла, работника, жившего у них с детских лет и ставшего на службе почти членом семьи, что таких громадных щук он на веку своем сроду не видывал, с трудом стягивались валенки и полушубки, дед и отец отправлялись в столовую, а уже у порога поджидавшая рыболовов бабушка хватала Семёна за руку, тащила его снова во двор и принималась растирать снегом замерзшее ухо. Вернувшись в кухню, попадал он в руки стряпухи и няньки Федосьи, не только немедленно же смазывавшей это ухо лампадным маслом, но и читавшей при этом молитву Пантелеймону-целителю, гарантировавшую, что всё теперь, как рукой снимет. Наконец-то, мог и он появиться в столовой. Там за большим круглым столом давно уже сидели отец и дедушка. До обеда было еще далеко. В таких случаях обращался обыкновенно дедушка к снохе:
— Гм, а что, Наташа, не сочинишь ли ты нам вот с сынком моим и внучком чего-нибудь душеспасительного?
Мать уходила в кухню. Было слышно, как начинали хлопать двери, и не больше как через две-три минуты, метя полы юбками, появлялись то Грунька, то Дунька, то Мотька, девки, находившиеся «в услужении», и заставлялся стол тарелками и подносами с балыком, колбасой, икрой паюсной и зернистой, маринованными грибками, холодной индюшатиной. Наконец, и мама снова появлялась с графинчиком водки в руках. Семёну же приносили рюмку вишневой наливки, разбавленной сиропом. Первый тост поднимал дедушка:
— Господи, благослови. С хорошим уловом вас!
Семён выпивает и закусывает вместе со взрослыми. Поморщившись после глотка вишневки совершенно так же, как делали это, выпив водки, взрослые, закусывал и он только после второго глотка. Так полагается. После первого не закусывают!
Широко улыбается дедушка:
— Так-так… правильно, внучек, мимо рта не проноси. А что опять ухо отморозил, не беда. До свадьбы заживет.
Смеется дедушка заливчатым, добрым старческим смехом, за который так он его любит. С ним и отцом сложились у него такие отношения, которые иначе как дружескими никак назвать нельзя. Ни крикнуть, ни, упаси Бог, ударить ребенка ни отец, ни дед никак себе не позволяли.
Семён бесконечно счастлив. Говорит с ним дедушка таким же совершенно тоном, каким разговаривает с отцом, обсуждая дела хозяйственные и семейные.
— Так, дедушка!
Дед щурится:
— Только гляди, чтобы не получилось опять какой оказии, вроде той, с тьмой египетской.
— Не буду, дедушка.
— Ну ладно. Только наперед: уговор дороже казаков, всё общим советом.
Семён сидит смущенный. Напомнил ему дедушка одно дельце, за которое страшно обиделась на него бабушка. Проплакала она тогда, почитай, три дня. А как всё получилось — и вспоминать неприятно. Есть у них конь Карий. Разрешали ему на нем брать первые уроки верховой езды. Десятки раз падал он с него, и в степи, и на дороге, и во дворе. И приводил тем дедушку в полный восторг:
— Пр-рав-вильно! Зарывай, брат, репку, пока по-настоящему верхи ездить не научишься. А навостришься охлюпкой — седло подарю.
Снова и снова залезал Семён, ухватившись за гриву, на спокойно стоявшего Карего и долбил его до тех пор пятками, пока, вздохнув, не выносил он его старческой рысью в луга или в степь. Находился Карий под присмотром кучера Матвея, был когда-то верховой лошадью, а теперь, за преклонным возрастом, возил бабушку в церковь, дрова из лесу, кизяки с базов. Бывали случаи, когда решительно отказывал ему Матвей в езде на Карем, если тот перед этим много работал и устал. И вообще, обращался с ним Матвей недостаточно почтительно, называл, его попросту «барчук» и никаких особенных знаков внимания не оказывал. Но страшно любил Матвей бабушку, был ей бесконечно предан, гордясь тем, что только он один имел право возить в церковь «старую барыню», как называли ее все в доме и округе. Любил Матвей и Карего и ни за что в жизни не позволил бы перегрузить воз или гнать его без нужды рысью, когда, слава Богу, нам всё одно — торопиться некуда. Не цыгане!
Одного лишь не одобрял Матвей в бабушкином поведении: пользуясь глубокой ее религиозностью, крепко подживались на ней разные монашки и странницы, и вообще какие-то калеки перехожие, дьяконы и священники из самых отдаленнейших приходов, наслышанные о ее готовности одарить, помочь, подать ради Христа. Дедушка же не терпел этих странников, что толкались в помольной хате. И не с пустыми руками приходили они к ней — одни приносили стружки из гроба Господня, другие гвозди от того же гроба, которыми крышку прибивали, третьи предлагали иконки особенно чтимых святых. В комнате у бабушки постоянно теплилась неугасимая лампада, одна из стен заставлена была целым иконостасом образов, икон и складней, и тут же, на полках, на этажерке и в комоде, в ларцах и иных, как дедушка говорил, «тайных ухоронах» хранились со всеми этими реликвиями и целебные травы. Вот от одной из таких странниц и приобрела бабушка за мешок крупчатки пузырек с «тьмой египетской». Объяснила бабушке посетительница, что беречь пузырек этот надо пуще глазу, что как раз в нем и собрана та самая тьма египетская, которую наслал Господь на фараонов нечестивых в наказание за грехи ихние. А когда фараоны те были за грехи ихние проучены, то собрали святые отцы ту «тьму египетскую» в пузырьки, и раздается теперь она на хранение либо в монастыри и церкви, либо таким людям, которые известны своим благочестием. Вот и хранила бабушка «тьму» эту под образами. Только раз показала она ее внуку, объяснив, что пузырек этот никак открывать нельзя, а не то снова распространится та тьма по всему свету и пропадет на земле всё живущее.
— И Карий пропадет?
— Пропадет и Карий!
И поверил Семён в эту «египетскую тьму» твердо.
После всего этого и случилось происшествие, столь позабавившее вначале отца с дедом и несказанно огорчившее бабушку. Как-то раз, в субботу, попросил Семён у Матвея взять Карего на прогулку. Отказал Матвей, заявив, что завтра с утра в церковь на нем поедут, что конь и без того мореный, и что барчук может и чем иным заняться. На замечание его, что хозяйский он сын и имеет право взять своего коня, когда ему только вздумается, ответил ему Матвей, что верно это, что он сын хозяйский, но дедушка-то поручил Карего на присмотр ему, Матвею, и уж так оно и будет, как он, Матвей, скажет, а когда хозяйский сын подрастет, да сам за своим конем глядеть станет, и прибирать за ним, и кормить, и чистить его будет, и будет тот конь только в его, сына хозяйского, распоряжении, вот тогда совсем другой табак-дело будет, пусть он тогда на том коне, своем собственном, и катается за милую душу, сколько влезет.
И созрел в голове Семёна план страшной мести. Ага, не даешь Карего — хорошо. Погоди же вот! Поедет завтра бабушка в Ольховку, в церковь, а хвалишься ты, что только с тобой она в полной сохранности обратно приезжает, вот гляну я как ты ее назад привезешь, ежели возьму я да и выпущу из пузырька ту «тьму египетскую»!
Не успела на следующий день бабушка и с версту отъехать, как забрался он в ее комнату, вытащил пузырек из-под образов и убежал в курятник. Спрятав его в пустом гнезде, прогулялся к пруду, прошелся на мельницу, а когда услыхал, что пробили часы двенадцать, значит, обедня в Ольховке кончилась, побежал в курятник снова и, лишь теперь хорошо к пузырьку приглядевшись, увидел, что пробка в нем сидит вовсе прочно. Нужно было заполучить штопор. Был он в ведении кухарки Федосьи. Сказал, что дедушке нужен штопор, и был тот сразу же в его руках. Но через минуту после того, как получил он нужное, пришел на кухню дедушка и тоже штопор спросил. Подивился дед ответу, но, не сказав Федосье ни слова, пошел искать внука. Поглядел в комнатах — нету, в катухах — нет его, заглянул на мельницу и в помолку — и там нету, поглядел в конюшне — и там пусто. И забрел дедушка в курятник. А тут как раз грех-то и случился: открывая пузырек, не рассчитал Семён свои силы и так потянул пробку, что жидкость в бутылочке, — позднее люди понимающие утверждали, что были это самые обыкновенные чернила, — выплеснулась из горлышка и облила ему брюки и подол белой, щегольской воскресной рубахи. Полетели брызги и на лицо из неловко схваченного пузырька, капали чернила на новые сандалии и чулки.
Никак не понять дедушке, да что же это за флакон в руках у внука и почему понадобилось ему открывать его в курятнике?
— Что ты тут натворил? Признавайся начистоту!
И дед, и отец, и бабушка, и мама постоянно говорили ему, что врать — самое распоследнее дело, что ни человек, ни казак тот, кто врет отцу с дедом. И признался преступник во всем откровенно. Позвал дедушка сына Сергея, пошептался с ним, вышли они из курятника, и услыхал вдруг Семён такой хохот, какого давно ему слушать не приходилось.
Через несколько минут вошли и дед, и отец в курятник снова, отобрали у него «тьму» и, только было отправились в дом, как услыхали на мосту стук тарантаса. Бабушка, не достояв обедни, выехала из Ольховки несколько раньше и увидела всю процессию, шествовавшую через двор: впереди дедушка, за ним отец, замыкал его внук, весь забрызганный чернилами. И сразу же, с первого взгляда, узнала бабушка в руках деда пузырек от «тьмы египетской». Был он особенной формы и каждую неделю вытирала она с него пыль, держа его особенно осторожно.
Глубоко раскаявшись, расплакался Семён, дедушка и отец, воспитатели его, чувствовали себя крайне сконфужено, а бабушка, узнав о всем подробно, так расстроилась, так расплакалась, что ушла в свою комнату и даже к обеду не вышла. С тех пор далеко не каждую странницу принимала она у себя. А когда с полгода спустя две какие-то монашки все же получили от нее мешок пуха и, заночевав в походной хате, стали его делить, заспорили, таская и вырывая из рук одна у другой, разорвали мешок и выпустили пух в Мельниковой горнице, появился на крики их и причитания дедушка с плетью в руках и, как сам потом говорил, замирил их враз, как черкесов, ограничила и вовсе бабушка свои приемы. После всех этих злоключений, съездив как-то на базар, привез дедушка внуку фунт «раковых шеек» — любимых его конфет.
— Держи-ка, брат. Это тебе мое и отцовское спасибо за «тьму египетскую». Отвадил ты бездельников от бабушки. Только в другой раз — гляди! В бабушкину горницу без спросу не лазь. А залезешь — не утерплю, выпорю, как Сидорову козу, так что и до новых веников не заживет.
Бабушка.
Казачка донская, Наталия Ивановна Попова, была дочкой урядника с хутора Писарева. Далеко вдоль по речке Ширяю при впадении ее в Иловлю и растянулся этот хутор и разбросал дворы свои вдоль невысоких ее берегов. Что ни двор, то и десятина, а то и две под садом. Превратили казаки весь хутор в сплошное море зелени, та — весной далеко в соседние хутора несла аромат стоявших в цвету деревьев.
Торопясь по делам в станицу Иловлинскую, как-то влетел на хутор Писарев на вороной доброй паре, запряженной в новый тарантас, сотник Алексей Иванович Пономарев. Думал было проскочить его, не задерживаясь, да увидал у колодца молодую казачку, вытянувшую ведро холодной воды, остановился и попросил напиться.
— Ты мне, господин сотник, ведро опоганишь.
— Как так — опоганю? Что я, скотина, что ли?
— Был бы ты бык ай верблюд, напоила бы, а вот тибе-то как раз и няльзя!
Взглянул сотник в лицо смело глядевшей ему в глаза казачки и понял, что она из тех староверов, которые никому из посторонних посуды своей не дают. А была она такой красавицей, каких встречать ему не приходилось. Вышел он из тарантаса, попросил слить ему воды на руки, испросил:
— А чья же ты будешь?
— Отец мой Попов Иван Ликсеич, урядник он.
— Это какой Попов? Не Грекова ли полку?
— Говорили батяня, што Грекова.
— Ага! Ну перекажи ему, што вот, как вернусь из Иловлинской, заеду погостевать. А звать меня Алексеем Ивановичем Пономаревым, поняла?
— Чего тут мудреного. Поняла!
Тронул сотник своих лошадей рысью, оглянулся: стоит казачка у колодца и вслед ему смотрит. И стало ему почему-то так весело, такая его радость какая-то охватила, что все время, которое провел он в станице, было для него днями счастливого ожидания. Через три дня снова остановил он свою пару у колодца перед воротами урядника Попова, постучал в них кнутом и крикнул:
— Эй, хозяин, не пустишь ли переночевать?!
На стук его вышел сам урядник Попов, пригляделся получше к приезжему и так и всплеснул руками:
— Господи Исусе Христе, дать никак это вы, господин сотник?
— Я! Ну, говори, примешь гостя али нет? Распахнулись ворота, тихо въехала запыленная пара во двор, и крепко засел сотник в гостях у бывшего своего урядника. Узнали соседи, что завернул к Попову его офицер, пришли познакомиться да потолковать, выставил хозяин угощение, выпили гости и поели всё, что на столе стояло, и всё, что в печи было, и тогда поднялся их сосед, вахмистр Смирнов, поклонившись всем, сказал:
— А таперь, милости прошу, ко мне пожаловать.
И началось то, что называют казаки «ходить по сабе». От одного хозяина к другому, пока не обошли весь хутор, а обойдя так, и не заметили, что, почитай, неделя прошла. И лишь под воскресенье, проснувшись, наконец, снова в курене урядника Попова, выпив с похмелья чуть ли не с полведра взвару, поблагодарил сотник радушного хозяина, сел да и укатил. А укатил с тем, чтобы сказать отцу с матерью, что нашел он себе невесту по сердцу.
Так выбрал себе подругу жизни дед Семёнов. Крепко любил он ее, сделал полной хозяйкой, управлявшей домом Пономаревых. И в домашнем распорядке, и в делах церковных, в семейных отношениях, забрала она всё в свои руки, а когда узнала, что первенец ее, Андрей, привезет из Санкт-Петербурга, где служил он в Лейб-Гвардии Атаманском полку, молодую жену, им самим там, без родительского благословения, облюбованную, улыбнулась кротко и сказала:
— Ну, и дай бог счастья. Ить и меня мой-то вот так же, без материнского глазу, искал.
Приехал Андрей, привез жену свою из столичного города, и ахнули все, увидав ее, высокую, стройную, с затейливой прической, открытое, веселое лицо, освещенное, голубыми глазами. Звали ее Мина, была она немкой. Развел дед руками:
— Вот и дожили! Начальство говорит нам, что германцев пуще огня опасаться надо, а глянь-ка какая немецкая раскрасавица в курень наш вошла! Ну, дай Бог счастья!
Во многих походах побывал дедушка. Лишь на короткое время возвращался домой на побывку. И лишь гораздо позднее родился у них второй сын, Сергей. Вырос, выучился и ушел на службу царскую. И вот получили письмо и от него, служившаго в 3-м Ермака Тимофеевича полку, в городе Вильно, в царстве Польском, что нашел он там себе девушку по сердцу, что белорусска она и звать ее, как и бабушку, Натальей. Послали им благословение, потужили, что не смог Сергей для венчанья на хутор приехать, а на весну — вот они! — прикатили, он и жена, решив обрадовать родителей неожиданным появлением.
И третий сын родился у бабушки с дедушкой. Валентином крестил. Окончил и он Донской кадетский корпус и пошел в Петербург, в Николаевское Каваллерийское училище. Вступил в нем в лихую казачью сотню, окончил науки и явился на хутор хорунжим 14-го Донского полка. Тут, неподалеку, нашел он себе подругу жизни, тетю Веру. Родня она им какая-то приходилась, для разрешения венчаться нужно было к самому архиерею обращаться. Послали тому архиерею прошеньице да из хуторских продуктов кое-чего, на пару телег наклали. Глядь — а и недели не прошло, вот тебе и нужное благословение отца духовного. И телеги порожние домой счастливо вернулись.
Пошло, побежало время, растила Минушка сыновей, Алексея, Гаврила и Аристарха, и порадовался дед, что и у Сергея сын появился, дали ему при крещении имя Симеона-Столпника.
Шумела вода в колёсах мельницы, приходили зимы с морозами и вьюгами, сменяли их дружные весны, дарили степь урожаем степные теплые лёта и томили душу длинные дождливые ночи осени. Собирались тогда все Пономаревы по вечерам, по очереди то у бабушки, то у дяди Андрея, то у тети Агнюши, единственной дочки дедушки и бабушки, то в доме Сергея и Наталии. Темнело осенью рано. Холодно и неприветливо на дворе. Стучится то дождь, то ветер в плотно закрытые ставни, будто и им охотка попасть в столовую, где за самоваром давно уже вся их семья собралась. Кто сидит за стаканом чая, кто с рюмочкой вина, водки или наливки, а Семён, как правило, с чашечкой чудесного меда, который так мастерски варит сама бабушка. После разговоров о делах домашних и служебных, первым всегда предлагавшим что-либо почитать был дядя Воля. Выбиралось что-нибудь самое новое и попеременно читали все присутствовавшие вслух либо роман, либо повесть, специально выписанные из Москвы или полученные как приложение к журналу «Нива». Заканчивала чтения эти бабушка замечанием, что завтра вставать рано надо, пироги печь будут и что керосин-то опять, гляди, какой дорогой стал.
Вот на одном из таких чтений и решилась судьба Семёна. Был тогда в доме у бабушки какой-то проезжий священник, который после доброго ужина поучал ребятишек тому, что все православные христиане должны довольствоваться теми крохами, что падают к ним со стола Господня. Поерзал Семен на стуле и спросил:
— А как же это так? Вот мои дедушка и бабушка, и папа с мамой любят меня не хуже, чем Бог, людей, а кормят не крошками, а всем, чем только захочу.
Крякнул дедушка от удовольствия, долго что-то туманное и нудное толковал в ответ Семёну заезжий, а на другой день, за утренним чаем, пристально глянул дед на внука и сказал сыну Сергею:
— Нет, Серега, с тех пор как Семён твой по зайцу плакал, стал я к нему получше приглядываться. Не быть ему такими, как мы были. Слыхал ты, что он вчера упорол? Он, брат, своей головой думать хочет. Из таких хороших офицеров не бывает. Ты как хочешь, а я так думаю, что в гимназию его отдавать придется. Довольно все мы мундиры потаскали. Пусть хоть он что другое делать научится.
Призвали на совет бабушку и маму, расспросили дядю Андрея о том, как там, в Питере, насчет университетов разных и порешили: пусть пока идет малец в церковно-приходское училище на хуторе Разуваеве, а потом повезут его в Камышин, на Волгу, да отдадут в реальное училище, или, как дедушка особенно хотел бы, — в гимназию.
Остался дедушка разговором доволен:
— Во, внучек, приедешь потом на хутор и начнешь с кобелем твоим с Буяном по-латыни объясняться. Того он учености твоей удивляться будет!
По нужному делу останавливается Карий, седоков не спрашивая. Окончит всё, от природы положенное, мотнет хвостом, оглянется, тряхнет головой и гривой, и снова, без понукания, потянет тарантас дальше. Луговая дорожка состоит из двух колей, глубоко проторенных колесами, с прибитой меж ними лошадиными копытами стежкой, по краям обросшей высокой щеткой зеленой травы. Густо, буйно заросли луга по бокам дороги, сочно зеленеют, уходя к речке, а за ней, оставив за собой прибрежные камыши и кугу, стелятся далеко-далеко, под самые бугры, искулиженные солонцами и супесками, полыни Польши, спокон веков непаханные.
— Эй ты, живей!
Только так, для порядка, прикрикивает дедушка на Карего, хлопает его по бокам вожжами и машет высоко над крупом длинным ременным кнутом. Карему ясно, что и дальше может он спокойно идти шагом, как явно и дедушке, что кучерские обязанности свои он исполнил и может говорить и дальше, вернее, вслух думать стариковскую свою думу.
— Так, так… значит, говоришь, в школу с тобой едем, а?
Дедушка замолкает, продолжая жевать давно сорванную травинку, совершенно не заботясь о том, что думает и почему молчит его внук. Семёну не нравится то, что будет он там жить «на хлебах» у дальней его тетки Анны Петровны, имеющей там небольшой домик с садом и огородом, что приезжать за ним будут только по субботам и домой забирать только на один день, на воскресенье, что целыми днями бегать с Жако, любимым фокстерьером, уже ему не придется, что мельников сын Мишка, с которым они так хорошо сдружились и открыли так много мест, где так здорово клюют плотва и красноперка, и даже сазаны, будет теперь без него рыбалить, что на всю зиму расстроились их встречи в лесу возле дуплистого вяза, где глубоко под листьями прячут они махорку, бумагу и спички, и где по два раза в день собирались они на общий перекур. Ясно ему теперь, что не будут они больше по разу в неделю обходить все места, где несутся куры, набирать два-три десятка яиц и, потаясь, нести их лесом в хутор Разуваев, к Новичку, единственному не казаку, недавно открывшему там свою лавочку и дававшему ребятам махорку за те яйца. Хорошо понимал Новичок, откуда у ребят меновой товар, понимали и ребята, что важен для него торговый оборот, а не какие-либо иные соображения, и свято хранили обе стороны ту тайну. А ведь тоже наука: обходить катухи, базы и курятники и брать яйца, с таким расчетом, чтобы не засомневалась бабушка, почему это куры в конце недели меньше нестись стали. Ясно, что прекратились теперь и игры в казаков-разбойников, в индейцев, что вечерние посещения помольной хаты будут возможны лишь по субботам. А там всегда так интересно, особенно когда приезжает на мельницу с хутора Гурова старый казак, дед-Долдон и рассказывает свои невероятные истории, нравящиеся не только Семёну, но помольцам. Не будет он теперь иной раз обедать у мельника Микиты, украинца, три года тому назад пришедшего к ним подряжаться, как говорил дедушка — только с кнутом, а теперь забогатевшего, и от работы, как мельник, и от доходов от взятой им в аренду от его отца земли. Мельничиха готовит такой вкусный борщ, жарит такие пирожки и печет пышки, что домашняя кухня кажется ему вовсе уже не такой хорошей. Не забираться уж теперь с Мишкой в помольную хату на мешок с пшеницей или рожью, или на столярный верстак, и слушать разговоры и рассказы помольцев, привезших зерно с казачьих хуторов или из хохлацкой слободы Ольховки, или из мужичьего села Клиновки. Многих из них знает он по именам, ко многим уже привык, со многими сдружился, но никто из них так ему не нравится как совершенно седой, всегда аккуратно подтянутый и быстрый в движениях и говоре дед-Долдон. Упаси Бог, назвать его дедом-Долдоном. Плохо бы это кончилось для того, кто бы на это отважился. Панкрат Степанович, — так надо к нему обращаться. Так его в глаза и называют, но за страшную говорливость, бесконечные рассказы, шутки и прибаутки за глаза называют Долдоном. Кончилось неоценимое счастье, учиться надо, к тетке Анне Петровне ехать должен, жить у нее, а тут еще, как сказал дядя Воля, и обязательно грызть гранит наук.
И лишиться тех чудесных минут, когда вечерами, улегшись, наконец, в кровать, ожидал он прихода мамы для того, чтобы перекрестить его на сон грядущий. Так хорошо шуршит тогда ее платье от движения благословляющей руки и так бесконечно дороги ему слова ее и улыбка, и близко, совсем близко, прямо в зрачки глядящие ее синие глаза. Как тепло тогда ему становилось, каким счастливым засыпал он после ее поцелуя. Ясно теперь — засыпать будет он не счастливо улыбаясь, а может статься — плача, ясно — что-то обрывается, кончается и, может быть, никогда больше не вернется. И никак, никакими силами не остановить Карего, положившего барьер своими опытами меж его райски счастливым, так быстро окончившимся детством, и жизнью новой, начинающейся, кажется, такой обыкновенной вещью, как учение в школе…
Семён не то вздыхает, не то стонет, и встречает внимательный взгляд деда:
— Что, внучек, а большой-то охотки, вижу я, нету у тебя в школу ехать. Только, чудак ты человек, пойми — рукой тут подать до дому, и горевать тебе никак не след. А учиться давно тебе пора пришла. И сам, поди, видишь, как время летит. Давно ли щук с тобой ловили, давно ли ты с тьмой твоей египетской отличился, ан, глядь, осень вот она, вот. Ничего теперь не попишешь, учиться тебе надо, как ни крути. А про эту самую «тьму египетскую» давно я тебе кое-что сказать собирался. Бабушку твою здорово ты тогда в сомнение ввел. Крепко верила она проходимцам этим, и на этой на ее вере и всю свою, и нашу жизнь строила. И не только жизнь земную, но и чаемую загробную, вечную. Ан, глядь — святые-то ее люди прохвостами, обманатами оказались, и всё то, об чём они ей мололи, теперь у нее под вопросом оказалось. И вот по этой причине, говорю я тебе — не дюже ты тянись за всяким, кто больно уж забористо что-нибудь показывает или за верой своей тебя потянуть захочет. Помни меня, попомни мое слово — сроду, пока живешь, семь раз мерь, а потом только режь. Вот оно бабушке-то нашей и тяжело стало — всю жизнь верила, а тут — неустойка у нее вышла. Сколько я ей раз говорил: «Да как же ты гвозди от гроба Господня покупала, когда у него и гроба-то вовсе не было, в плащанице его похоронили». Ну, а когда попались мне под руку те монашки, что пуховых подушек не поделили, отвел я тогда на них душу, ох, и перепорол же. А за что порол, за жадность, за то, что корыстью живут, обманом кормятся, добрые, прямые, чистые души в сомнение вводят. А таких, что душу человеческую убивают, вон как в Евангелии говорится, следует с жерновом на шее в воду кидать, да… — дедушка на минуту замолкает, машет кнутом над крупом Карего и снова обращается к внуку: — Служил я, понимаешь ли ты, в Питере. Пришлось мне там в Пулковской обсерватории побывать. И глянул я в энтот самый телескоп ихний. Вот как заглянул я в бездну эту, так и уробел. Как увидал я, сколько их, звезд этих, и какой он, мир наш, огромный, понял я одно — никаким умом нашим не дойти до того, что оно и как сотворилось и откуда всё взялось. А мы здесь сказки да выдумки слушаем, да еще за них пуховыми подушками платим. Пришлось мне в царстве Польском послужить, на Кавказе, на Балканах и в Турции побывать. И у всех у них, у тамошних, у каждого народишки, вот такие же, как и у нас, под их собственную стать «тьмы египетские» попридуманы. И там такие сидят, которые от выдумок этих пользу имеют. Вон у турок, так там хоть одна из выдумок народу на пользу идет — свинину им Коран ихний есть запрещает. Говорят, что пророк и Аллах делать им этого не свелел. Выходит так, что бог ихний против свиней пошел. А когда на проверку, что оказывается — да хворь у них там от свиного мяса получается, вот и придумали, что бог ихний свиней не взлюбил… Так-то, внучек. Норови и ты в жизни ко всему получше приглядываться, Богом дюже не раскидывайся, а понять старайся, что оно и к чему. Поимей ты то, что бабушка наша «искрой Божией» в душе человеческой называет. Чувство это такое, от неизвестного нам Бога данное. Учит оно нас, сдерживает, правильный путь указывает, как и что из того, что в мире этом есть, без ошибки понимать надо, никаких тебе выверток не позволяет, вкупе с совестью твоей действует и содержит тебя в человеческом виде во всех житейских случаях и искушениях… а там — кто он был, да каким он был, да как его звали — это слушать-то слушай, но не дюже старайся из-за каждой мелочи в огонь кидаться. Вон, как наши многие по сей день бороду свою чуть ли не святостью считают… Ну порядки наши народные казачьи, обряды все, как святыню блюди — их люди наши за сотни лет, кровавых лет, правилом своей жизни сделали, обвыклостью всего порядка нашего. И в церковь ходи, только воли попам над собой не давай, а то оглушат они тебя до невозможности. Бессовестных промеж ними много, за копейку на пузе лазят, а служат не Богу, а тем, кто их к нам на Дон посылает. Чужие они нам, для наблюдения за нами поставлены. В старое время у нас народ попов сам выбирал. Понял? Из тех казаков, что честно жизнь прожили, крепко за право свое и шашкой, и словом постоять умели, хорошими хозяевами и отцами семейств были, свет Божий в походах повидали, в войне и мире всё как есть, испытали и передумали. Вот таких, всё больше из изувеченных да израненных и выбирали казаки в попы. Ну, конечно же, грамоту знать был он должен. И не только церковные книги читать, но и иные, чтобы мог он из опыта житейского, мудрости, иными приобретенной, и сам добрый совет мирянам своим дать, добрым, разумным словом, как отец, наставить сумел бы. А у нас что делается — шлют нам из Москвы чиновников на кормление. Жадные они, а многие и справди изголодавшиеся. И все, как есть, только о нутре своем и думают, кадят, да ликом Божим, иконами — торгуют. А ты к иконам этим, Семён, тоже не дюже-то приглядывайся. Кто знает, как Он-то выглядел на самом деле. Не в картинках, нет, а в тебе самом должен Он жить и направлять тебя так, так оно всего лучше. Так-то, внучек… да, о вере, о попах, о народах разных много сказать можно. Еще одно упомни — сплела нас вера наша православная с народом русским еще от Азова. Большой народ, способный, а всю, как есть, жизнь свою, в отличие от нас казаков, в рабстве прожил. Освободили его, верно — освободили, еще лет сто надо, чтобы забыла она крепостное право. Вот и сидит у мужиков этих в душе незжитая злоба и обида, как та рана кровоточащая, и, помня всё это, сохранили они дух бунтарско-холуйский. И как дух этот теперь вытравить, тут здорово мозгами раскинуть нужно. И что будет, если попадет мужику нашему вожжа под хвост — куда он попрет? А было это в старые времена на Руси, крестьянин, мужик, как мы его, вроде трошки с презрением, называем, к земле был привязан, «крепок» ею был. Этим он и державе, государству своему служил, на той земле работая. Помещик же того времени — воевал. Вот они, вместе, и сохраняли сначала княжество, а потом царство Московское. Даже вон сам Петр-царь дубинкой своей не только мужичков, а и дворян одинаково потчевал. Со всех спрос был одинаковый, пока, при Петре Третьем, не вышел закон о вольности дворянской. Стал теперь дворянин паном без обязанностей, а мужик полной его собственностью, рабом безответным. Вон при матушке-то царице Екатерине мужиков иначе как рабами не называли. Это в христианской-то стране, почитай, в середине восемнадцатого столетия… Но всё еще верили мужики в Царя справедливого, ждали, что, коли освободил царь дворян от обязанностей их, то и им, мужикам, волю и землю даст. И верили что царь — за мужиков, что всё дело дворяне лишь ради пользы своей портят. Почему они так и поверили, что Пугачев-то и есть этот самый справедливый царь. И пошли за ним всем миром. Не с тех ли пор и песенка:
Эх, ты воля, моя воля, Золотая ты моя, Воля — сокол поднебесный, Воля — светлая заря.Дедушка надолго замолкает, жует травинку, следит за полетом ласточек, вздыхает и говорит дальше:
— И теперь вот, в школе, гляди ты с первых же шагов вокруг себя повнимательней, слушая всё, что тебе говорят, что учи, а что и из простого разговора запоминай, да потом о всём со мной али с отцом говори. Вот тогда и будешь правильно жизни учиться, как ее мастерить надо. А кроме школы, отведу я тебя к дружку моему, уряднику Гавриле Софронычу. Сад у него большой, что тебе груш, что яблок, что слив, не оберешься. Видимо-невидимо у него всякого добра родится. Служили мы с ним вместе когда-то давно, а мой отец с его отцом служил, вот она у нас, понимаешь ты, не только дружба, а казачий жизненный союз получился. И у него внучек есть, с ним вместе ты в школу ходить будешь. Сашей его звать. Тебе он, кто Божьи пути знает, али ты ему, еще как в жизни пригодиться можете. У нас, казаков, сроду это, спокон веков заведено, друг на дружку надеяться, один-одного выручать. Казак казаку завсегда брат. Понял, ай нет?
Слушает Семён дедушку, слушает внимательно уже потому, что крепко его любит, Слушает он, и легче ему становится, и оба они не замечают, что давно остановился Карий и спокойно пасется на особенно понравившейся ему кулижке.
— Во, видал? Глянь на него — Карий-то наш, ведь тот обманат и жулик. Мы с тобой заговорились, а он что? Дай, думает, воспользуюсь, да и закушу. А что же мы, спрашивается, для его, Карего, удовольствия едем, или по делам? Ах-х ты, нехристь!
Дед замахивается кнутом с таким видом, что должен он, от его удара в куски, Карий, разлететься. Но лишь скользит румень кнута по его боку, дергает он от неожиданности головой и хвостом, переступает с одной ноги на другую, укоризненно оглядывается на деда и, вздохнув, налегает снова на хомут, тянет тарантас дальше.
— Во! Так-то оно, дело, лучше будет! А то я с тебе, очень даже просто, шкуру спущу, бездельник ты, дармоед! — дедушка выплевывает перекушенную соломинку: — Видал? Вот и Карий твой, на что уже лучше любого человека, а и тот обдурить норовит… да, так-то, внучек, помни одно — носи Бога в сердце, Бога, в которого ты веруешь, не знаешь Его, но знаешь, что должен Он быть обязательно, и что явится Он тебе лишь тогда, когда покинешь ты земные ливады навечно, и лишь там, где-то далеко, поймешь и узнаешь Его окончательно.
Хоть и точно знала тетка Анна Петровна, что дедушка с Семёном приедут к ней сегодня, хоть и было это раз с двадцать переговорено, удивленный ее крик, восторженное хлопанье в ладоши и смех, веселый и звонкий, быстрое появление на крыльце, и немедленное же исчезновение в курене, всё было неподдельной радостью при виде, наконец-то, приехавших долгожданных гостей. Откуда-то выбежавшая крепкая девка ухватила, распрягла и увела Карего в конюшню, привезенные подарки были немедленно же перенесены в курень, самовар вынесен и поставлен у крыльца на землю, и та же расторопная девка уже раздувала его каким-то старым сапогом. Дедушка, тетка и Семён уселись на балконе в ожидании чая. Со времени отъезда с хутора едва ли прошел час, но уж такой обычай — угостить приехавших полагается по-настоящему. Поди, с дороги-то проголодались. На стол подается всё, чем теткино хозяйство богато, выносится и совершенно высохший, с невероятно твердой коркой лимон. Дедушка доволен, знает тетка, что любит он побаловаться лимончиком. Семёну тетка нравится, но первое, что хотелось бы ему — это сейчас же, с места, удрать от стола, перемахнуть через забори, помчаться во весь дух задами по-над речкой, пока не принесут его ноги в родительский дом.
Но ничего из этого желания не получается. После чаепития и осмотра будущей его комнаты заявляет дедушка тете, что отправится он теперь с внуком наведаться к односуму Гаврилу Софронычу.
Народа на улицах хутора не видно. День рабочий, заняты все делами хозяйственными. Только в самом конце хутора, уже у калитки последнего куреня, вон он, сам Гавриил Софроныч, старый, но всё еще прямо держащийся, слегка щурящий глаза румяный гигант. Дедушка весело протягивает ему руку:
— Здорово, односум!
— Здравия желаем! — расцветая улыбкой, отвечает хозяин. — Милости прошу пожаловать с внучком вашим. Заходитя.
Откуда-то из глубины сада выходит и хозяйка дома. В курень дедушка идти не хочет, больно уж в саду хорошо, соглашаются с ним и хозяева, что на вольном воздухе куда способней. За чаепитием, которое немедленно же начинается под высокими вишнями, хозяин орудует и полубутылочкой очищенной. К ней подаются куски тарани. Дедушка и хозяин пьют водку истово, закусывают рыбой, и постепенно завязывается такой душевный разговор, будто вовсе не сидят они где-то в гостях, а в собственном курене, и, того и гляди, выйдет из сада мама или бабушка и тоже подсядут к столу. Радушные хозяева подробно узнают от дедушки о здоровьи всех его чад и домочадцев, о том, что, наконец-то, отелилась та корова, которую купили они у Сидора Петровича, казака с хутора Киреева, знатного, что на левую ногу припадает. Что жеребца, которого так хорошо в прошлом году приторговал дедушка на ярмарке в Ольховке, продал он одному купцу в Камышин, и с пользой продал, что слыхали они вчера от одного помольца, хохла из Ольховки, что у дальнего их родственника, Александра Ивановича, того, что его Обер-Носом величают, свинья пороситься начала, да околела. Что у вдовы-майорши, Марьванны, две наседки пропадало и убивалась она за ними страсть как, всё думала, что хори подушили, когда позавчера глядь — идут они обе от речки из лесочка, того лесочка, возле которого в позапрошлом году телок в трясине завяз и чуть не утонул, спасибо, стряпуха купаться пошла, да увидала, да так вот из того лесочка идут они, наседки, и каждая, одна шесть, а другая восемь штук, цыплят за собой ведут. Ведь вот оказия-то какая, поди ж ты, животные, вроде, а тоже мысли свои имеют.
Дедушка подмигивает:
— Не иначе это как от майоршиного пения, не каждый выдержит.
— Никак не иначе! — Гаврил Софроныч прекрасно знает, что, хоть и старушка она Божья, майорша, но всем взяла: что походкой, что дородностью, что хозяйской ухваткой, что приветом и лаской, но есть у нее одна беда — иной раз петь любит, а ни голосу, ни слуху. Вот и неудивительно выходит, что и наседки от нее со двора бегут…
От хозяина куреня узнают дедушка и внук, что сад его в этом году, Богу слава, уродил хорошо — всего завались. Тут же получает Семён наливное яблоко, и сам, в который раз, с удивлением видит сквозь прозрачную кожицу глубоко внутри его легкие тени семечек.
— Такуя яблоко, — гордо говорит хозяин, — хучь к царскому столу… гм… кх-ха, — и вдруг обрывает сказанное.
— Что это ты, вроде поперхнулся? — дедушка хитро щурится, прекрасно знает, он, что дружок его и бывший сослуживец по атаманскому полку, с детства, от деда и прадеда, не только о царях, о самой России и знать не хочет…
— А вы, вашсокблагородие, Алексей Иваныч, не дюже вспрашивайтя. Тут не захочешь, да заикнесси. Сами не хуже мине знаитя, от отца вашего покойника, от деда вашего, царство яму небесная, сами слыхали, как они, цари ети, с нами, казаками, обходились. За что, спросю я вас, Платов-атаман, Наполеонов побядитель, в Петропавловскуя крепость посажен был? За что Грузинова полковника с братом в Черкасске кнутами до смерти забили? Как он, Стяпан Тимофеич, на Красной площади в Москве под палаческим топором Богу душу отдавал? И как вы яво не называйтя, а за народнуя он правду шел, Емельян Пугачев. А о Булавине уж и гутарить не станем — посля няво окончательно попал Дон наш в Московскую неволю. И што посля всего того началось — да придавили нас до отказу, штоб нас поделить, сословия у нас взяли, дворянев из казаков понаделали, да, кромя того, на генеральном размежевании, отхватили с миллион десятин земли казачьей да и прирезали ее к Расее. Вот теперь и сидим мы с вами на самой на границе Войска нашего, ить граничные-то столбы раньше тут, у нас, не стояли, а во-о-он иде, аж за Камышином… а войсковых атаманов, спросю я вас, могём мы теперь выбирать, ай нет? Не могём! И не только, што не могём, а даже наказных атаманов нам запрещено из казаков посылать. Все из каких-то российских дворянев, то Покотилы, то Граббе, черти кто. А ить вольный мы народ допреж того были, сами по сабе жили. Так ан нет — говори!
Гаврил Софроныч и не замечает, что, разгорячившись, перешел он «на ты», не замечает того и улыбающийся дедушка, только всполошившаяся хозяйка вдруг вскакивает со стула, схватывает со стола водку и, чуть не плача, причитает:
— И всё ето от её, от проклятой. Сроду он у мине такой — ни к кому ни почтения, ни уважения. Хучь бы посовестилси с господином полковником так говорить, рыла твоя неумытая!
— Стой, стой, — дедушка придерживает водку в руке казачки, — станови-ка ты ее назад. Хоть он, Гаврил твой, и перебрал чудок, я еще до точки не дошел. А с ним мы односумы, каждое лыко в строку не ставим.
Гаврил Софронович чувствует себя крайне неудобно. Действительно перебрал трошки:
— Так я чаво-ж, к слову ета, боле б истории, про жизню про нашу, — и вдруг снова разгорается, — а вот повяду я вас обоих на выгон, покажу старый столб граничный, што думаитя на ём написано, а?
Вскочив от стола и не глянув, идут ли за ним его гости, чуть не бежит через сад хозяин с едва поспевающими за ним дедушкой и Семёном. Далеко идти не приходиться. За базами, за канавой, вырытой меж садом и выгоном, в выемке, в которой берут теперь хуторцы глину для хозяйственных надобностей, лежит большой замшелый, длинный камень, служивший когда-то пограничным столбом. Все спускаются в яму и по указанию Гаврила Софроныча с трудом читает Семен глубоко высеченные в темном граните слова:
— «Земля Войска Донского».
— Ага! Понял? Так и упомни — была она, наша граница казачья державная. Да пришел ихний мужичий царь Петро, да перебил тыщи казаков, да пожег городки наши, да отнял и солеварни, и земли, да заставил нас, казаков, Рассее ихней служить. А ить были мы до ниво сами по сабе. Вот и приволок он аж ис-под Камышина суды, к нам, столбы эти. Вот он и дедушка твой, в больших он чинах, в дворянском звании, а нехай он тебе тоже правду расскажить, нехай скажить — бряшу я ай нет.
Семён вопросительно смотрит на деда, тот, нисколько не смутившись, спокойно выбирается из ямы:
— Знаешь, что, односум, пришлю я завтра работника с парой лошадей. Уложите вы столбок этот на телегу, да отвезите его в хутор Гуров, в церкву к отцу Савелию. Правильный он поп, наш, казачий. Ему я и письмецо напишу. Грех это — такая бесценная вещь у вас здесь по ямам валяется. Вот шумишь ты, а сам по ноне не догадался камень этот как след блюсти. И хуторскому атаману скажи, что я это свелел. А то, что ты внуку моему говоришь, за то тебе спасибо, придет время, подрастет он чудок, тогда я ему, без водочного духу, всё сам расскажу, думаю, не хуже твово. Понял ты ай нет?
Гаврил Софроныч понимает, что друг его, Алексей Михайлович, во всем прав и что вел он себя не совсем-то так, как полагается.
— Ну, спаси вас Христос, верно, перебрал я чудок… а ты, вашсокблагародия, хучь и дворянин, но сумел правильную слову сказать, с весом. Ты уж на мине не сярьчай.
— Нам с тобой друг на дружку серчать не приходится… Одни у нас думки, да силов нету.
Дедушка отряхивает чекмень и все отправляются к куреню. Под той же вишней сидят до позднего вечера, пьют домашнюю наливку, вспоминают Польшу и службу царскую, и нет в мире той силы, которая могла бы их сейчас разъединить.
— Ста-а-нов-ви-ись! Напр-раво р-равняйсь! Смирно!
И от дедушки, и от отца, и от своих двоюродных братьев давно знал Семён, как себя в строю держать надо; знал значение команд, и не раз, играя с казачатами в войну с турками, маршировали они, перестраивались, ходили в атаки, строили лавы, рассыпались в цепь, прятались от неприятельского огня, применяясь к местности. Старательно выравниваясь в строю, косит он правым глазом на грудь и носки чириков стоящего справа от него Митьки, которого знает он давно как лихого наездника, хорошого рыболова и пловца. Не раз приходил к нему Митька на хутор, и вместе с Мельниковым сыном Мишкой, с двоюродным братом Валей и двоюродными сестрами Мусей и Шурой, с присоединившимися к ним еще несколькими казачатами, убегали они в Рассыпную Балку, объедались там ежевикой, солодиком и купырями, и вооруженные луками и стрелами делились на два лагеря. Допоздна играли они тогда в войну, пока посланная за ними горничная-хохлушка Мотька не забирала всю их армию в плен и не загоняла ее домой, на ужин.
Старший урядник Африкан Гаврилович Алатырцев, Георгиевский кавалер, давно покончил со службой царь-отечеству. Но после того, как открылось в Разуваеве церковно-приходское училище, доверено ему было, по решению стариков, обучать казачат гимнастике и строю. Приходил он на занятия в полной форме, в мундире с погонами, при шашке и с плетью в руке. Через год после того как переступали казачата порог школы, можно было без страха показать их не только старикам хутора, но и кому повыше, на ученьи: «пеший — по-конному», на легкой джигитовке и на вольных движениях.
— Спра-ва по-три! Ш-шагом ма-марш!
Двадцать четыре казачонка, как один живой организм, ломают строй и в один момент перестраиваются по три в ряд и идут широким шагом мимо далеко в стороне стоящего урядника.
— Здо-рово, лих-хие Р-разуваевцы!
— Здр-равия ж-жалаем, господин урядник!
Дружно, воробьиными голосами, отвечают раскрасневшиеся от марша ребятишки, и чувствуют, что прошли они хорошо и что начальство ими довольно. Погоняв с полчаса свой взвод по лугу, задержавшись особенно на ружейных приемах, выстраивает их урядник в одну шеренгу и начинает обходить строй, зайдя с правого фланга:
— Т-та-так, Кумсков, всё у тибе вроде в порядке, тольки скажи ты отцу свому, штоб он табе получше чирики в школу давал. Ишь ты, кака они каши просють. В строю глядеть на тибе срамота. Понял?
— Так точно, господин урядник, в другой раз получше чирики вздеть!
Кумсков, он же Гришатка, курносый, белобрысый, с уже заботливо отрощенным чубом, краснеет, но держится храбро.
— То-то. Гляди у мине в другой раз. Урядник идет дальше:
— Ага! Казак Семён Пономарев. С прибытием в наш взвод проздравляю. Правильно дедушка твой с отцом поряшили суды тибе, к нам, прислать. Настоящий казак, всё одно офицерский он, аль простого казака сын, должон с из детства со своими хуторцами военную службу проходить. Пригодится это табе опосля, как деду твому и отцу пригодилось. В офицеры они вышли, могёть быть, будешь и ты в золотых погониках красоваться, одно крепко помни: нет у нас никакой разницы в людях, покель мы сапча орудуем. Што в полку, што в строю, да вопче на всяей службе военной, кажному из нас брат ты родный, а мы — твои браты. Понял, ай нет?
— Так точно, господин урядник, понял: все казаки браты меж собой.
— Ага! Ну хорошо. Только на перьвый раз скажу я тибе, што поворачиваисси ты в строю, как та тетка Аксинья, што с кухни в чугунке лапшу к столу несеть. Вострей делать надо.
Урядник идет дальше. Там, на левом фланге, стоит еще совсем малый ростом, сын бедного, многодетного казака Миша Ковалев, явившийся в школу с прорванным левым рукавом рубахи.
— Гля на яво! Ишо один такой орел, што думаить, бытто строй это всё одно, што бреднем рыбалить иттить. Гля — левый рукав пошти што во-взят оторвал. Ты ишо без штанов приди. Да знаешь ты ай нет, што строй есть святое место, што в строю должен ты сибе, как в церкве, понимать… Ежели завтрева в полном порядке не явисси, я и табе, и отцу твому на сборе штатинку вкрутю.
Урядник выходит на середину строя. Казачата, как это и полагается, едят глазами начальство, даже моргнуть не смея.
— Таперь стрялять будем. Вольно! Р-разойтись!
Строй мгновенно ломается. Два-три казачонка бегут в школу и через несколько минут приносят луки и стрелы. Деревянные ружья, точные копии кавалерийских казачьих винтовок, с которыми они маршировали, ставятся ими в козлы. В дальнем, нижнем, углу луга, на старой осине укрепляется хорошо нарисованная цель и переходят к упражнению в стрельбе.
— Это ничаво, што мы сычас с вами с луков стряляем. Подростётя, настояшшие винтовки получитя. Одно знайтя — глаз и руку набивать сыздетства надо. А ну-ка, Пономарев, спробуй.
Первая стрела летит мимо осины, вторая вовсе не долетает, третья остается торчать четверти две под целью, далеко ниже нарисованных на ней кругов.
— Та-а-ак! Так! Ты чаво-ж это, не в дьячки записаться думаишь? Ты суды не в лягушков камнями пулять пришел, а стрялять учиться. Х-ха! Из трех стрел — ни одной! Увидал бы тибе дед твой, срамоты б не обобрался. Ну, ничаво, слухай суды, рябяты, в цель стрялять с пониманием надо. Цель — вяликая вещь. На цель, — урядник поднимает голос, — на цель, на нее осярчать надо. Будто нет у тибе в жизни ничаво, окромя этой цели. Будто ненавидишь ты иё, как волка бешеного. Будто и домой ты ноне не вернесси, ежели в ету самуя цель не попадешь. Озлись ты на ниё до последняго — во, думай, вляплю я сычас в тибе, в самую, што ни на есть, середку, аж луг загудеть. Вот коли не взлюбишь ты ее, коли на свете забудешь, вот тогда и угодишь в самую сирцавину. Понял ты ай нет, што я табе гуторю?
Семён смотрит на урядника во все глаза. Видит его темное, загорелое, изборожденное морщинами лицо, выцветшие на полевых работах, пшеничного цвета, усы и чуб, слышит негромкий, но глубоко, в самую душу проникающий голос и снова берется за лук.
— А ну — дайтя-кась яму ишо три стрялы!
Первая стрела впивается в нижнюю кромку цели. Вторая летит мимо. Третья, вдруг резко свиснув, бьет в середину самого малого кружка и остается торчать в центре, покачиваясь сверху вниз.
Со всего размаха хлопает его по спине урядник:
— Во! Што я табе говорил? Примянилси трошки? Ну гляди, старайси, арбузную мядаль от мине получишь.
С трудом удерживается Семён на ногах от дружеского удара урядницкой ладони. Стрельба продолжается еще с полчаса, наконец, урядник ктирает пот с лица:
— Таперь, становитесь, рябяты, в круг. Вы ня думайтя, што лук поганая оружия. Помнитя одно: Платов-атаман, што Наполеона подолел, у няво половина казаков с луками на войну вышли. А што получилось, побядили они перьвого полководца в мире. Все яво маршалы опосля писали, што, каб не казаки, никогда сама Рассея не выкрутилась бы… Эй ты, Мишатка, заводи-кась «Вспомним, братцы…».
На середину круга выходит Мишатка, сын хуторского коваля, вахмистра Бородина, и заводит:
И-э-о-ой… вспомним, братцы, как стояли Мы на Шипке в облаках, Турки нас атаковали, И остались в дураках.Последнюю фразу Мишатка не поет — он выкрикивает ее далеко, в степь, на все Войско Донское. Закрыв глаза, вдруг выбросив вверх правый кулак с зажатой в нем плетью, вместе со всеми своими учениками, полной грудью подхватывает припев и сам урядник:
Грями, слава, трубой, По всей Области Донской, Казаки там турков били, Ни шшадя своих голов!После утренней гимнастики наступает перемена. Казачата бегут в школу, темную небольшую комнату, со стоящими в ней двенадцатью партами. Прямо — два окна, направо — доска, налево — стол со стулом и входная дверь. Меж окнами большой, в позолоченной раме, портрет наследника-цесаревича, августейшего атамана всех казачьих войск. В правом углу образ Спасителя с горящей под ним лампадкой. Дедушка Евлампий Прохорович, старый казак, заботится о чистоте и порядке в школе, и неизменно перед учением зажигает лампаду. Новый учитель, приехавший в этом году, хотя и сам казак по происхождению, носит штатский костюм, считает себя человеком передовых идей, бреет усы и бороду. Не понравился он старикам хутора, но смолчали они, решив выждать, как он себя покажет. И показал он себя, неожиданно запротестовав против лампадки. Мешала она ему во время преподавания, и не свелел он ее зажигать вовсе. На другой день вызвал его хуторской атаман урядник Фирсов, стоя принял в правлении, и сказал:
— Вы, Савель Стяпаныч, не свелели дедушке Явланпию ланпадку зажигать. Узнал я ноне об этом и приказал яму зажигать ее завсягда перед началом учения. У нас это от дядов-отцов повялось, не с нами и кончится. Да и ня с вами. А коли вам это не по карахтеру, то зараз прикажу я вам подводу подать и отвезёть она вас с сидельцем в Усть-Медведицу, а мы, от хуторского схода, окружному атаману в счет вас постановлению нашу напишем. Нам таких, што против ланпадок идуть, не тольки учитялями — в подпаски ня нада.
Вспыхнул Савелий Степанович, пытался, было, что-то сказать, да остановил его атаман сразу же:
— Не тарахти зазря. Хотишь оставаться в хуторе — ланпадки нашей не трожь.
И Савелий Степанович остался. Был он крайне нервен, слегка заикался, по классу не ходил, а бегал, и казачатам не нравился. Но дело свое знал неплохо, учились у него ребята хорошо, бить никого не бил, но так наседал на каждого отстающего, что и тот скоро подравнивался. Даже отец благочинный, посетивший школу как-то через полгода после ее открытия, отозвался о нем весьма похвально.
Сосед по парте, Петька, протягивает Семёну карандаш и бумагу:
— Слышь, гляди суды, ряши-кась задачкю. Могёшь?
— Какую задачку?
— А ты слухай суды — летела стая гусей, а ей навстречу один гусь. И говорить энтот гусь: «Здравствуйтя, сто гусей!». А они яму в ответ: «Нас не сто гусей, а стольки, да полстоль-ки, да четверть стольки, да ты с нами, гусь, вот тогда и будить нас сто гусей». А ну ряши, скольки гусей летело?
Лоб Семёна покрывается испариной. Ничего подобного он никогда не слыхал. Таблицу умножения знал он наизусть, сложение — вычитание, умножение и деление, но о задачах с гусями и понятия не имел.
— А сам-то ты знаешь?
— Ишо как! Гляди-кась суды…
В этот момент входит в класс Савелий Степанович. Ребята шумно встают, старший класса подходит к нему с рапортом:
— Савель Стяпаныч! В классе двадцать три налицо. А ишо один новый прибыл, Семён Пономарев.
— Ага, ага, ага! Хорошо, хорошо, хорошо. Садитесь, садитесь. А это вы Семён Пономарев? Ваш батюшка есаул Сергей Алексеевич Пономарев? Ага, ага, знаю, знаю. Будем друзьями. Садитесь.
— Кто вчера отвечал по арифметике?
— Я! — маленький Миша встает, придерживая разорванный рукав.
— Ах, да-да, ты, ты, хорошо. А где же это ты рубаху порвал?
— Да как через перелаз возле Шумилиных двора лез.
— Ага, ага, через перелаз. Вот пойди в угол, тогда научишься, как через перелазы лазить. А теперь Семён Пономарев, пойдите-ка к доске, так-так, скажите-ка мне, сколько это будет семью-девять, ига, так, правильно…
Степан возвращается на свою парту и отирает крупно выступивший на лбу пот. Сосед его шепчет:
— Ну и лотшить же, Господи прости. Не могёть, што ля, всё по-хорошему обсказать. А то строчить, как та бабушкина швейная машинка, и, того и гляди — нитку рветь. К нему тоже, не хуже, как при стрельбе, примяняться надо.
Вызванный к доске Петька идет писать задачу для всего класса.
Вечером, у тетушки Анны Петровны, ужинает Семён, объедаясь чуть не до потери сознания. Понаготовила она всего так много, потчует так усиленно, что едва поднимается он со стула.
— А ты ел бы, ел на доброе здоровье. Мальчонка ты молодой, тебе расти надо. И учиться. А на всё это силы требуются. Вот и ешь побольше. У нас, слава Тебе Господи, всего хватает.
В восемь часов вечера отправился он спать. Окно, чтобы, упаси Бог, не простудилось дитя, закрыто наглухо. В комнате духота невыносимая. Насидевшись в школе целый день, долго прокорпев над приготовлением уроков на завтра, наужинавшись до отвала, хотел было он по хутору прогуляться, но никуда его тетушка не пустила:
— И-и, што надумал! Еще хуторские кобели порвут. Вон пойди лучше в саду посиди, а я тебе кислого молочка али взаварцу налью. Похлебай.
Долго лежал в кровати Семён с открытыми глазами. Смотрел в темноту, туда, где должен быть потолок, думал о школе, о маме, об отце и дедушке, о Жако и Мишке, и, чем дальше лежал, тем больше ему невмоготу становилось. В доме давно уснула тетка, уснула Паранька, девка-работница, уснул весь хутор. Сидя в темноте в кровати, одеваться трудно, но приученный еще с малых лет, сложил он, раздеваясь, всё в таком строгом порядке, что теперь легко находил одно за другим без труда. Сапоги взял в руки. Из комнаты вышел на цыпочках в коридор, оттуда на балкон, натянул сапоги, оглянулся на спящий, с закрытыми ставнями, курень, пробежал кривым проулком мимо бесконечных покрытых терновыми ветками канав и очутился на берегу Ольховки. Тут уже знал он каждый кустик, каждую травинку. Не останавливаясь, не переводя духу, ничего не слыша и не видя, бежал дальше, пока не очутился на плотине. Еще немного лугом, мимо гумна и домашних построек, и вот он — в собственном дворе. И Полкан, и Жучок, и Буян, и Волчок, и Сибирлетка, все стараются прыгнуть ему на грудь, лизнуть его в нос… Но вот, наконец, распахивается дверь в столовую, и стоит он в ней вдруг, забрызганный и запылившийся, едва переводя дух, красный и весь в поту, ослепленный светом большой висячей лампы, задыхаясь от бега и страшного волнения. Вся семья еще в сборе после позднего ужина.
Дедушка хлопает ладонью по ручке кресла:
— Х-ха! Вот и служивый наш на побывку пришел. С прибытием тебя в родительские дома!
Но радости в голосе его не слышно.
Ничего больше Семён не слышит и не чувствует. Что-то мягко-пушистое, теплое, как облако, охватывает его, обволакивает всего со всех сторон, и знает он, что уж никто, никогда не вырвет его из этого облака. Мать быстро-быстро гладит его по голове, нежно целует, плачет от радости и неожиданности, и — повторяет одно и то же:
— Никому, никому, никому больше не отдам…
Лицо отца стало сердитым. Медленно встает бабушка от стола, подходит к беглецу и его матери и говорит тоном, не терпящим никаких возражений:
— Прибег, и хорошо. Нечего над малым измываться. А учитя лишку энтого, можем мы, слава Богу, и суды, на хутор, возить.
Дедушка захлопотался над своей чашкой с чаем, отец занялся перекладыванием папирос в портсигаре, мать подводит сына к столу:
— Садись. Чаю тебе налить?
Обсудив всё с мамой и бабушкой, порешили переговорить с Савелием Степановичем о том, сколько ему заплатить придется, а тогда и будут его возить пять раз в неделю на хутор, на два часа перед вечером. А до обеда будет Семён готовить уроки дома.
Дедушка вопросительно смотрит на сына:
— Всё одно Полкану-то делать нечего. Еще застоится, а жалко, рысак неплохой.
— Да вот, разве, чтобы Полкан не застоялся, — отец обрывает сказанное и вдруг улыбается, — я б его не на косаке, а на кобеле Полкане возил!
Все громко смеются, слава Богу, атмосфера разрядилась.
Давно уже Семён проснулся, но глаз не открыл — хочется ему узнать, как поведет себя Жако, снова спящий с ним в его комнате. Для этого постелен ему коврик в углу, возле печки. Но как только, перекрестив сына на сон грядущий, уходит из комнаты мать, прыгает собака сразу же в кровать хозяина, залезает под одеяло к ногам, долго крутится там и, улегшись, наконец, спит сном праведной души до шести утра. Сегодня долго не выдерживают оба. Первым вылезает из-под одеяла Жако, садится на коврик и занимается весьма беглым утренним туалетом, и, хорошенько встряхнувшись, ставит он передние ноги на край кровати, смотрит прямо в нос хозяину и начинает тихонько повизгивать. Ясное дело, спать дальше нет никакой возможности. Да и сам Семён не любит долго валяться в постели. Повелась, было, у него такая привычка, да как-то, договорившись с дедушкой и отцом пойти посидеть зорю с удочками, встал он ни свет ни заря, и с тех пор, особенно подбодряемый отцом, привык просыпаться в шесть утра, памятуя, что, ежели долго спать, то, как говорит дедушка, и царствие небесное очень даже просто проспать можно. Не выдерживает в кровати долго и на этот раз. К восторгу Жако быстро натягивает шаровары и рубашку, надевает чирики на босу ногу, и через окно, а то дверь-то скрипит, выскакивают они оба прямо в сад, под акации, где давно их ожидает Буян. Шерсть его, длинная и рыжая, свалялась какими-то комьями, и блох в ней видимо-невидимо. Теперь все трое, весело подпрыгивая, несутся к мельнице.
Мельник встал с восходом солнца, осмотрел камни, подтащил пятерики пшена к драчке, сложил мешки с пшеницей возле двух ковшей, а к третьему натаскал рожь и отправился открывать затворку. Бурно хлынула по каузу, к желобам, высоко за ночь поднявшаяся в канаве вода, скрипнув, завизжали и медленно закрутились замшелые валы, тысячами брызг покрылись плицы и спицы и без того вечно мокрых колёс. Ожила, задрожала мельница, поднялась из нижнего этажа легкая пыль, заклубилась из окошек и дверей навстречу радостному рабочему дню, светлому и солнечному, с грохотом камней и шестерен мельницы, разноголосьем кур, уток, индюшек, гусей, цесарок, с ржанием лошадей, мычанием коров, лаем собак.
И, уже тихо спускаясь на мост, подъезжает какой-то помолец. Видно по всему, что знает его мельник хорошо. Стоя возле входа, спокойно наблюдает Микита, как приближается тот к мельнице на доброй паре волов. И спрашивает помолец с воза:
— Га, здоров Мыкыта! А що мэлныця — мэлэ?
За стуком и грохотом работающей мельницы едва разбирает Микита вопрос помольца. Не спеша сплевывает в траву и лениво отвечает:
— Мэлэ.
Быки шагают, не останавливаясь. Хохол и дальше расспрашивает:
— А що, Мыкыта, драчка як, дэрэ?
— Дэрэ!
— Го-о-ой! Т-р-р! — кричит на быков хохол, и те останавливаются так, что как раз задок воза оказывается у самой лестницы, ведущей на второй этаж, куда и следует сносить мешки для помола. Семён тут как тут. Вместе с Жако и Буяном, путаясь под ногами хохла и мельника, таскающих тяжелые мешки, все трое с интересом следят за работой взрослых.
Из помольной хаты выходит дедушка Долдон. В стареньких, но чистых шароварах с лампасами, в вылинявшей, кое-где заплатанной гимнастерке, с короткой, седенькой, круглой бородкой и надетой набекрень совершенно выцветшей фуражке с заржавевшей кокардой.
— А-а! Здоров-ночевал, Юхим. — Рано-ж ты, браток, заявилси.
— Та на зори мухи нэ так донимають, для худобы гарнийш. А ну, покоштуй, казак, хохлацького сальця, — Юхим протягивает дедушке Долдону тут же отрезанный ломоть сала.
— И-и, спаси Христос, Юхим, я, браток, ноне сала не ем, пятница ноне, грех это, в пятницу сало исть.
— Га, та чого там — грих! Хиба мэнэ з тых свъятых хтой-сь тэпэр бачэ, колы я з дому видъихав. В чужий козацькой сторони для мэнэ ниякого гриха нэма, бо я в дорози.
Некогда Семёну дальше их разговор слушать, достаточно было узнать, что дед-Долдон на мельнице, а это значит, что сегодня вечером, после ужина, соберутся завозщики возле костра на лугу и уж непременно что-нибудь дед да расскажет. А рассказы его любят все, и дедушка с отцом слушать приходят. А теперь — домой, нужно вымыться, причесаться, и идти в столовую завтракать. Не забыть бы — после завтрака у них всех общий перекур. И вот, наконец, Мишка и Семён, пролезши сквозь заросли дикого малинника, ползя и на животе, и на четвереньках, добрались в лесочке до большого вяза. Здесь уже и Валя, двоюродный брат, и его сестры Муся и Шура. Можно и начинать. Мишка лезет рукой в дупло и вытаскивает большую коробку от папирос, вынимает из нее пачку махорки, газетную бумагу и спички. Крутятся самокрутки — козьи ножки. Все сразу раскуривают свои цыгарки и долго никто не говорит ни слова. Первым тяжело закашливается Валя. Шура бросает окурок в траву и растаптывает его, вытирая градом покатившиеся из глаз слезы. Недолго курит и Муся. Одно слово — бабы! Только Семён и Мишка, обжигая пальцы, досасывают свои цыгарки до конца и медленно, с важным видом, затирают каблуками в землю окурки, перекур закончен. Шура и Муся должны идти за рояль, Валя пойдет решать какие-то дурацкие задачки, Семёну велено далеко не уходить, сегодня кого-то ожидают, видимо, тех, кто сейчас лихо подъезжал к их хутору на тройке, запряженной в казанский тарантас. Кони, медленно переходя на шаг, сворачивают к ним во двор и останавливаются у парадного подъезда. Кто-то в запыленном легком пальто, толстый и краснолицый, в дворянской фуражке, выходит из тарантаса и падает в объятия дедушки:
— Немподист Григорьевич! Ну слава Тебе Господи. С благополучным прибытием. Проходи, проходи в горницы.
Дедушка уводит приезжего в дом, а Семён отправляется с кучером на конюшню и участвует в распряжке лошадей и закатке тарантаса под навес. От чужого кучера он уже знает, что это сосед ихний, живущий от них в сотне верст помещик, тот, к которому в позапрошлом году ездили они ловить в его пруду карасей и раков.
Не знает Семён, что плохи дела у Анемподиста Григорьевича, что должно его имение идти с молотка, что большой любитель он зашибать, что запустил он свое хозяйство, особенно после того, как неожиданно уехала от него супруга его, Софья Генриховна. Но зато отчетливо вспомнил имение и большой дом с колоннами, длинную аллею тополей, сад с малинником и клубникой и большой пруд, весь заросший дикими лилиями. Вспомнил и темные комнаты огромной библиотеки, куда забрался он с пребольшущей порцией мороженого, да так какими-то немецкими сказками зачитался, что едва отыскали его к ужину. Катался тогда хозяин дома по всем комнатам, как шар, угостил их на обед карасями в сметане, лихо выпивал рюмку за рюмкой и одно лишь приговаривал: «Дай Бог — не последнюю».
А теперь он у них в гостях. Обедали в большой столовой, в обычные дни закрытой. За закуской и легкой выпивкой последовал борщ с пирогами, с мясом и капустой, затем подали жаркое и паштет из дичи, а на третье принесли мороженое. Пить кофе отправились в гостиную. Мать и бабушка куда-то исчезли, Семён занялся перелистыванием «Задушевного слова», дедушка, отец и гость налили себе по рюмке наливки. Гость, заложив левую руку в карман широких шаровар, держа в правой длинный чубук турецкой трубки, в расстегнутой легкой поддевке, из-под которой виднелась опаясанная поясом с кистями чесучевая рубаха, шагал из угла в угол в своих сафьяновых сапожках и говорил без умолку:
— Да, вот вы и толкуйте! А я вам отвечу: а сколько, по-вашему, я с этих двух тысяч десятин доходу имею? Подсчитайте-ка сами, да пройдитесь-ка вы по ним, по десятинам этим, да гляньте на землицу повнимательней. Приглядитесь к ней получше, прошу вас. Супески! Да-с. Песочек. Сколько, по-вашему, пудов с такой десятины возьмешь? В неурожай, Господи прости, еще туда-сюда. А в урожайные годы нипочем у нас пшеничка. А везти ее на станцию сто верст надо. Казаков нанимать не приходится — не желают. А мужички наши? Ха-ха! У них такая снасть, что и десятка пудов на подводу не положишь. Одни хохлы остаются. А те тоже вовсе не дураки, понимают прекрасно, когда они нашего брата-дворянчика к стенке прижать могут. Ну и дерут! Вот так и везу я хлебец мой на станцию, на ссыпку. А цену мне там — диктуют. Да-с, а когда к расчету стройся мне, после всего, и по гривеннику, а то и того меньше, с пуда приходится. Вон в прошлом году и вовсе не возил. Лежит она, пшеничка, в амбарах — дороже стоит до станции ее довезти, чем я там за пудик получаю. А ведь я-то и сеял и косил, и молотил, рабочим-то за всё я наличными платил. Ну-с, вот вам и получается арифметика. А ко всему, супруга моя, фон Шлиппенбах, должна собственную тройку для выездов иметь. С кучером. И платья ей из Москвы да из Петербурга, да, извольте видеть, из Парижа, выписывать надо. И дочь на выданье. И сынок мой в гвардии, в гусарском полку, посрамить дворянского звания своего не должен, копейки считая. Вот на все это папа денежки и выкладывай. Н-да-с. Крутился я крутился, закладывал да перезакладывал, и докрутился теперь до того, что если в Царицыне дел моих под третью закладную не устрою, то м-о-л-о-т-о-ч-е-к. Да! А супруга моя, урожденная Шлиппенбах, всё сие прекрасно сообразила. В провинции заскучала. Села в свою троечку, да и уехала в гости. Как мне сказала, — к соседям. А на третий день приходит ее кучер домой пешочком. Сообщает мне, что супруга моя, урожденная фон Шлиппенбах, ту троечку на ярмарке в Арчаде продала, в поезд села, дала ему рубль на водку, да и укатила в неизвестном направлении. Хватился я, а в письменном столе, все наличные мои и акции, что имел, — тю-тю. Пошарил в будуаре, ан все драгоценности тоже с ней в отъезде оказались. Н-да-с. Вот и продаю наследнику вашему, надеюсь, не балбес из него получится, за две тысячи рублей библиотеку, которая, брат — брату, двадцать тысяч стоит. А на любителя и цены ей нет. От прадедов она у меня, от декабристов. Не вру-с, — Анемподист Григорьевич подходит к ломберному столику, наливает себе очередную рюмку коньяку: — Гм-м. А коньяк ваш вовсе не плох. Ага, Шустовский! Та-ак, так. Мастер он на коньячные дела, мастер. Н-да-с. Вот вам и «помещик средней полосы России». И родовитое дворянство, и в соответствующей книге занесен. И герб имею, только мне теперь за этот герб никто и ломанной полушки не даст. А домик-то с аллеей в сто пятьдесят сажень, да колонны, да погреб вин лучших марок, а? А в результате, как сказал поэт:
Давал два бала ежегодно И промотался наконец.Ах, да, Семушка, вот привезут тебе книжечки, так ты их читай, читай, может быть, до чего хорошего и дочитаешься. А сейчас — пойди ты, побегай на чистом воздухе, а мы тут еще кое о чем потолкуем.
Семён старается совсем неслышно закрыть за собою дверь. Последними долетают до него слова гостя:
— А супруга моя, Софья Генриховна, урожденная фон Шлиппенбах, еще один номерок отколола…
Уже совсем под вечер, по холодку, после доброго чаепития с коньяком, закусками и вареньем, отправляется гость дальше. С трудом усадили его, отяжелевшего от возлияний, в накренившийся набок тарантас. При прощание услыхал Семен, что книги с подводами придут на следующей неделе. Со двора тройка тронула дружно. Так же дружно кинулись ей вслед собаки. И хорошо проводили за мост. Только Буян остался во дворе. Присел на хвост, оглянулся на стоявших на балконе провожавших, брехнул раза два, больше для порядка, и занялся своими блохами.
Долго после ужина еще о чем-то говорят старшие, но мальчонка уже ничего о том не знает: спит.
На лугу, меж помольной хатой и амбарами, разложили помольцы костры и залегли вокруг огня в самых разнообразных позах. Последний котелок с галушками давно уже снят с таганка, опорожнен и вымыт, густо усеяли звезды всё небо, от пруда несется дружный лягушечий концерт, без устали шумит вода в колесах мельницы, тепло, спать никому не хочется. Дедушка, отец и Семён здороваются с завозщиками и присаживаются к костру.
Дед-Долдон, потеснившись, дает место Семёну:
— Эх, припоздал, Алексей Михалыч, припоздал. Как раз последние галушки доконали.
— Ить вот беда какая, а у меня как раз на галушки охотка была.
— А что ж бабам своим не свелишь, чтобы они тебе «с роду раз», настоящих галушек наварили. Да не в печке, а на вольном воздухе? А то едите вы только там ваши антрекоты с гвоздями, а правильной пишши и в заводе у вас нету.
— Известное дело — баре, — говорит из темноты какой-то клиновский мужик, раскуривая самокрутку, — едят помногу, а здоровья в них настоящаго нету.
— Ну цэ ты вже и брэшешь, — спокойно парирует хохол-завозщик, — ты гарнийш сам на сэбэ подывысь, якый з квасу твово гарный! Замисть пуза дюрька в тэбэ.
— Недостатки наши, бедность. У нашего брата-мужика жиру-то не сыщешь.
— Пили б водки поменьше, оно в мошне-то и позванивало бы. И жирок бы нагуляли. Так-то, браток. Уж нам-то ты дюже не рассказывай, што бедность вас замучила. Жизней, ей надо уметь распоряжаться. С умом. Вон, хучь на мельника, на хохла Микиту, погляди. Каким он третьяго года к Сергей Алексеевичу подряжаться пришел? А? Откуда-то «с пид Пилтавы», чарты яво к нам на Доншшину принясли. А таперь, поди-ка, спробуй яво голыми руками взять! И коровы две, и быки у яво, и коней купил и землю вон от Алексей Михалыча арендуить. В достаток вошел. А всё почаму — да потому, што человек он с понятием. А ить когда пришел, збруи у няво было, што кнут, от собак отбиваться. А ты мне — бе-е-дность. Вы только водку жрать да на чужое зариться мастера…
Дед-Долдон плюет в костер и, поглядев на молчащих помольцев, продолжает:
— Нет ответь ты мне — правду я говорю, ай нет. Думаишь ня знаем мы ее, всю энту Клиновку вашу? И хто у вас и на што гораздый. Тольки всяво и мастерства у вас, што пьяные драки у кабака затевать. Чисто замучили пристава станового. Што ни воскресенье, то и поножовшшина.
Клиновский мужик загорается:
— Это ты брось, брось, дедушка, так, абы чаво, невпопад говорить. Лучше скажи-ка ты мне, заради Бога, хто с нас землю-то имеет? А? Все мы, как есть, в арендателях ходим, вот хошя бы у ихнего сродственничка, у Обер-Носа. А знаешь ли ты, сколько он с нас за ту землицу дерет? Знаешь ай нет? И по сту потов мы на ней, на супеси, проливаем, целый год, как рыба об лед, бьемси, а когда к расчету подходить, так у иного пшенички-то и до Рожества не хватает. А он, Обер-Нос, тот не спрашивает, што и как, а отдай положенное и квит. А помешичьи земли его круг всей нашей Клиновки залегли. Окромя, как к нему, и податься нам некуда.
— А ты што ж думал, землю, ее как, на дурнака, получить можно?
— Да ты куды гнешь-то?
— А хучь и туды гну, што вам, казакам, за землю вашу никак никому платить не приходится. Не успел подрость — на, получай, вот он тебе паевой надел твой. И под пахоту, и под сенокос, и под постройку. Вот и пашете вы, сколько влезет, а мы?
— А вы? Ну? А посчитал ты ай нет, скольки она нам стоить, ета самая земля наша, которую, кстати я табе скажу, сами мы спокон вяков от турков да татар отбили. Ты пойди-ка-сь да с наше послужи, да заплати за всю справу за сынка на службе царской. Без пяти — шасти соток никак ты не обойдесси. А коль наградил тибе Бог двумя сыновьями, так хучь волком вой, а двух коней справь, да два одеяла, да всю, как есть, воинскую справу на все время служби яво новуя покупай. От дяржавы-то, от Российской, ить мы, казаки, тольки того и получаем, што винтовку. А знаешь ли ты, почаму месяц казачьим солнышком называется? Да потому, што и в ночь — в полночь мы работаем. А ишо — коль получил ты пай верст за двадцать от хутора, вот и гоняй туды быков изо дня в день «цоб-цабэ», пока доедешь, глаза вылупиш. А отслужили сынки наши три года — обратно кажный год на маёвки ходить должны, обратно всю сбрую свою в порядке содержи. На собственные свои средствия. На одни шаровары да на мундиры, да всю, как есть, сбрую боявуя, скольки их, копейкев наших трудовых, уходить, как ты полагаешь? А твой-то сынок, как вы там гуторитя, как «забреють» яво, што он с собой нисёть — пару портянок, да полштоф водки, да горсть вшей. Вот и вся справа яво. А ты мне тут гудёшь — зямли у казаков… Зависть вас распираить, на дурминку бы где чаво ухватить охотка, а сами сабе рахунку дать не могёте.
— Оно, конешно, што говорить, только неправильно это, у одних земли — завались, а у нас… — мужик кашляет и замолкает.
Вставляет свое слово и мельник:
— А щоб по правди сказаты, краще б воно було, якбы отым клиновцям якой-сь земли далы. А то гнэ вин шию, гнэ, тягнэ, а в зыми знов нэ знаэ — чи побыратысь йому йты, чи в долгы лизты.
Снова вступается дед-Долдон:
— Жизню ее уметь жить надо. Одним нытьем никуда не достигнешь. Вон ты, Микита, сам сибе возьми, побираться, как я вижу, ты не пойдешь. Так ай нет?
Микита не отвечает, мужик снова кашляет и вздыхает. Все молчат. Трещат сухие ветки в огне костра, поднимается дым высоко, норовит достать до самого неба. Тихо. Все глядят в огонь, и думается Семёну, что вот есть какая-то неправда на земле, которой он никак понять не может. Да доведись на него, да будь он царем, дал бы он клиновским мужикам земли сколько им надо. Пусть себе пашут…
Долгого молчания дед-Долдон не выдерживает:
— Ишь ты — зямля! И все на ниё, на нашу казачью землю, зарятся. А того ня знають, што была она сроду наша. От пра-пра-прадедов. А в последний раз закряпили мы ее за нами тогда, как Наполеона царя побили. На веки вечные за Войском Донским. Так-то, браточек.
Клиновский мужик придвигается поближе к костру:
— То ись, как это так — закрепили? Ты б обсказал, што ля.
— А очень даже просто. Хотишь знать — расскажу по порядку. Я это ишо от деда мово мальчонкой слыхал.
Кто-то бросает в огонь сноп сучьев, искры взмывают в небо, в синюю, засыпанную звездами ночь. Ждать себя Долдон не заставляет:
— А вот как она дела, случилась — поехал деда мово деда Явграф Евстигнеевич в Питер-город. По своим дялам. Дегтю, али гвоздей купить, а могёть быть, што и красного товару. Не упомню я таперь, зачем от туды ездил. Да. Поехал это он, набрал всяво, што яму нужно было, и к приятелю свому, царю русскому Ляксандри Павловичу на чаёк свярнул. А знакомство у них ишо с того времю повялась, как приижжал царь русский в нашу Березовскую станицу куропатей стрялять и бреднем рыбу ловить. Тогда ишо показал яму деда мово дед Явграф Евстигнеевич такие рыбные мяста на Медведице, што, бывалыча, не успявал он червяка насаживать, уж так дюже хорошо сазаны брались. Вот с тех пор и завялась у них дружба, да такая, што и водой не разлить. И свелел деду мово деда Явграфу Евстигнеевичу русский царь сроду к нему во дворец сворачивать, как тольки укажить яму дела в Питербурге-городе побывать. Вот и приехал он, значить, на Невский проспект, коней за железный фонарь привязал, сенца им кинул, через чугунный плетень глядь — ан сидить русский царь с царицей под вышнями и чай с сахаром пьёть. Ну, конешно — «Здорово днявали!», слава Богу, поручкались, говорить царь: «Явграф Евстигнеевич, с нами чай пить». И тут же женншщине одной, по фамилии госпожа Хрейлина, говорить, штоб сбегала она в лавочку, лимончика принясла. Знал он, што деда мово дед Явграф Евстигнеевич не хуже, как вот и Алексей Михайлович, чаек с сахаром и лимончиком дюже уважал. Да. Сидят это они, чай с сахаром пьють, об том о сём разговаривають, и зачал русский царь прадеду мому жалиться, што в Неве у них никак рыба не клюёть. А штоб с бреднем пойти, этого, говорит, у них в Питере и в заводе нету. Тут раз, и не взойди, гинярал Барклая-да-Штоли. Вошел это он и привел с собой какого-то человека, туды, к ним в сад. Из исибе человечек тот не так, штоб дюже видный, лицом, правда, чистый, росту коротенького, пузатый, шляпу свою поперек голове надел и весь, как есть, орденами обсыпанный. Вскочил Аляксандра Павлович, царь русский, вскочил, побег гостя встрявать. Подводить яво к столу, поручкалси тот с царицей и в ручку ей поцеловал, а опосля тово обертается царь русский к прадеду мому и говорить: «Ета, Явграф Евстигнеевич, царь францусский, Наполивоном звать, а к нам он трошки погостевать приехал». А Наполивону и говорить: «А ета есть Евграф Евстигнеевич, казак дю Дон!». По-француски яму объяснил. Тот вроде чудок будто испужалси, ну ничаво, виду не подал, с прадедом моим поручкалси, и обратно сели все чай пить. Об том, об сём потолковали и зашел у них разговор, как это сроду у царей ведется — про войну… И у кого какая войска и чия лучше, и кто кого подолеть могёть. Хвалится царь русский, хвалится Наполивон, и такая у них несусветная бряхня поднялась, што прадеду мому слухать их обрыдло. Набил он трубочку свою самосадом, дал яму гинярал Барклай-да-Штоля огонькю, затянулси он раза два-три, да и говорить: «А знаешь ты, вашьяличества, Наполевон-царь, што? Брось ты дуром хвалиться. Ить мы на Дону слыхали, как тибе арапы в Египетской земле морду набили, да и от гишпанцев едва ты ноги унес. Ну счастья твоя доси была, што не нарвалси ты на нас, на казаков донских, на козак дю Дон, — так яму прадед мой — по-француски — объясняить. — И не дай табе Бог на нас пойтить, потому што так мы тогда табе наклеим, што ужахаться будешь». Ух и осерчал же тут царь Наполивон! «Да я, шумить, не тольки вас, казак дю Дон, распотрошу, я вместе и русского царя расколошматю». Тут и Ляксандра не стерпел, скипятисси, руками махать зачал. Шумить, да так, аж на улице народ останавливаться стал. «Не случилось ли чаво?», — спрашивають. Спасибо царица вмяшалась: «Тю на вас, говорить, побясились вы, што ля? Нет того, штоб, как образованные люди, спокойно чай допить. Одно тольки и знаете, што спорить!».
Стихли цари чудок, по рюмочке водочки хватили и поряшили об заклад побиться. Поставил Наполивон царь золоты часы, хреномер называются, с золотым цапком, прадед мой донскую шубу, а царь русский шапку Мономаха. Завспорили они и гинярал Кутузов, который тут же приключилси, руки им разымал. Ну, допили они чай и поехал Наполивон царь в Париж, а деда мово дед Явграф Естигнеевич на Дон, домой рванул. И прямо в Черкасский городок. К Платову-атаману. Обсказал яму, как всё в Питере было. Осярьчал Платов-атаман здорово. «И какой, — шумить, — чёрт надоумил тибе с энтим чудаком, с задиралой энтим, спорить? Ить он и в самом деле таперь воевать полезить. Ну, однако, чудак утихомирилси и приказал, штоб осмотрели казаки оружию свою, штоб сёдла в порядок привяли. К походу, возможное дело, готовиться придется.
Не прошло тому много времени, сидить это деда мово дед и на балябу в Мишкиной протоке сазанов ловить. Когда глядь — скачить по бугру казак, а на пике у яво тряпка красная трепется. Враз понял прадед мой, што война это зачалась. Прибег домой, подсядлал гнядова и на сборный пункт поскакал. Как она вся война проистякала, тут рассказывать я ня буду, чай, и сами знаитя. Тольки зашел, значить, Наполивон в Москву, засел в Кремле и сидить. А Платов-атаман выступил, было, с дедом мово деда в поход, да выступить-то выступили, а вот на хуторе Сямимаячном и зацепились. А почяму зацапились, да потому што свярнули они на том хуторе к жалмерке одной переночевать, а была она мастерица мед варить. Вот не хуже Натальи Ивановны, Ликсей Михайловича супруги. Пьють это они у той у жалмерки мед — неделя проходить, зачинають яво обратно пить — второй недели как не бывало. И вот подлятаить к жалмеркиному куреню кульер от самого от царя Ляксандры Павловича. Атаману Платову пакет, а деду мово деда письмецо. И вот што там написано было:
«Дорогие мои, атаман Платов, гинярал, и дружок мой Явграф Евстигнеевич!
Сапчаю я вам, што неустойкя у мине вышла. Во-взят побил Наполивон воинству россйискуя. А ежели вы пьянствовать не броситя, то и до вас доберется. Помагайтя, ради Христа. И с тем — до свидания.
Аляксандр самодержец», и прочее.
Ну тут, конешно же, Платов атаман и деда мово дед царю русскому враз ответ строчуть:
«Вашвяличества!
Дяржись, не боись. Зараз выступаем!
Платов-атаман и Кумсков Явграф,
ст. урядник и кавалер.»
Как пошли тут наши, как двинулись, как зачали они тех французов бить, как зачали их волтузить, ужасти и обсказать. И месяца тому не прошло — осталась от Наполивона войска одна звания. И свелел тут Платов-атаман прадеду мому на Вислую речку иттить, Наполивону путь-отступлению отрязать. Зашел это деда мово дед вот так вот, вроде от лясочку, зашел с полком своим к самой переправе, вышел на берег, глядь — скачить тройка, а в ей сам царь францусский Наполивон сидить. Выскочил тут прадед мой на ту дорожку с казаками, выскочил и правую руку поднял:
— Стой, — шумить, — вашвяличества, погоди чудок! А ишо скажи ты мине — чия войска сильней и кто кого подолел?
Вынул тут Наполивон, молчака, золотые часы-хреномер, с цапком золотым, вынул и деда мово деду отдаёть:
— На, говорить, Явграф Евстигнеевич, признаюсь — проспорил.
А у самого — слёзы.
И стало туту деду мово деда того Наполивона жалко:
— Чаво ты, — спрашиваить, — кричишь?
— А как же мне не плакать, — отвячаить яму Наполивон, — как не убиваться, ить посадють таперь мине на Святуя на Елену, на остров тот, на отсидку, а жане моей с дятишками и исть нечего будить.
Доброго сердца деда мово дед был, возвярнул он Наполевону те часы-хреномер с золотым цапком вместе.
— Бяри, — говорить, — яжжай домой, в плен тибе не возьму. Да пока тибе англичани не посадили, отдай те часы жане. Нехай продасть, да в нуждишке за те деньги дятишкам своим чаво купить. — Да ишо из тороков фунта на чатыре кусок сала вынул — Наполивону отдал: — Во, — сказал, — бяри и ета, пожуй в дороге сальца донского. А то все твои союзники таперь табе и хлеба куска не дадуть. Это не мы — казаки. Культурные они дюже — у нищих торбы и те ворують.
И велел деда мово дед Явграф Евстигнеевич Наполивона-царя в плен ня брать, а отпусть яво домой с миром. Проспорил человек, и того яму хватить.
Насыпались посля тово на прадеда мово и Платов-атаман и царь Ляксандра Павлыч, да когда ответил деда мово дед царю русскому, што сидить на ём шапка яво Мономахова тольки потому твердо, што казаки французов побили, крыть яму нечем было, стих он, бросил ругаться, да и говорить:
— Ну, слухайтя суды ты, Платов-атаман, и ты, дружок мой, Явграф Евстигнеевич — за то, што побили вы, казаки донские, Наполивона-узунпантера, царскую мою слову вам даю в том, што остается вся ваша земля донская за казаками на веки вечные. И мы, цари русские, будем вперед вам — казакам, перьвые заступники.
Деда мово деда тут же в вахмистры произвел, а Платова-гинярала в графья пожаловал. Вот с тех пор стала она, Донщина, и вовсе наша, и никто ей владать, окромя нас, казаков, права не имеить.
Ольховский хохол тянется за головешкой, чтобы прикурить цыгарку и улыбается деду-Долдону:
— Оцэ гарно рассказав. Як бы сбрихав, так бы сроду нэ выйшло.
Клиновский мужик пристально глядит на Долдона:
— А что же это, мил человек, по-твоему выходит, что только казаков и благодарить надо за то, што французы побиты были. А наши-то, русские, спрошу я тебя, иде же они были?
— Иде были? — дед-Долдон, удивленный таким незнанием дела, крутит головой. — Х-ха, да в отступлении были, вот иде.
— Чудяса ты рассказываешь, вот што.
— Ага, обидно табе, браток, вот ты и егозисси. А чудяса, правильное твое слово, — мы, казаки, тогда произвяли. Да ты што, в чудяса не веришь, што ля?
Теперь уже не молчит и Микита:
— Так як же вин може нэ вириты, колы в ных же, в Клиновци, колы ще там тэж мэлныця була, ихний мэлнык таки чудиса творыв, що хоч куды. А ну, гарнийш сам нам про ных расскажи.
— Это што, про Прокопа-колдуна, што ли?
— А про кого ж, як нэ про його. Мужик усаживается поудобней:
— А ить верное твое слово, што Прокоп колдуном был, ну вся причина вовсе не в нем была, а в Фёкле, в жене его, она тоже колдовать умела.
Дед-Долдон недоверчиво смотрит на клиновца:
— То ись, как это так — в Фёкле? Это в бабе-то вся дела? Быть того не могёть!
Мужик хлопает себя ладонью по колену:
— Ну да, в Фёкле! В ей весь вопрос! Жил у них работник один, Силантьем звали. Да. Так вот, работник этот двух детей родил, а на третьем помер!
У слушателей захватывает дух. Все переглядываются. Дедушка крякает от удовольствия и подталкивает локтем сына:
— Работник? Мужчина? Да чтобы он двух родил, а на третьем помер? Да ты вперед окстись, чем такое говорить!
Клиновец только кивает головой:
— А вот и родил! А скажу я тебе сейчас, мил человек, што сама энта Фёкла так всё приспособить умела, такое она слово знала, что когда приходил ее чиред дитя родить, то могла она, потому-што с нечистой силой зналась, схватки энти, боли бабьи родильные, на другого человека перенесть.
Да! Вот, значит, нанялси к ним Силантий, а был он с Линовки мужичок, бобылем жил. И годками уж не дюже штоб молодой. Ну ничего он про мельника с мельничихой не слыхал до того и не знал. Вот и подрядился. А хорошо ему, мельник всево дал — и пшеницей, и мукой и деньгами, и просом, и половой. Всем ублаготворил. А подряжал он его от Николы зимняго до того же Николы на другой год. На год целый, выходит. Вот и работает Силантий на той мельнице. Только видит он — будто хозяйка вроде затежелела. Ну, дело его маленькое, он к этому без внимания. Дальше больше, пришло ей время рожать. И рази тут не скажи она то, свое тайное, слово? Да, сказала она то свое слово тайное, а Силантий как раз на гумне был. Как схватило его пониже живота. «Батюшки! — кричит — Помираю. Света бела не вижу!» Ухватили его мужики, в хату приволокли. Пропадает человек, и вся тут. Криком кричит. А хозяйка — та пироги печь зачала. Да, поставила их в печь, што-то там еще по мелочи перестирала, и вот тебе, мил человек, идет она в горницу, ложится на свою кровать, и только того и сказала: «Ох!», — и разродилась, а у Силантия боль в животе, как рукой, сняло. Полежал он еще с недельку, похворал, поднялся весь белый, как тот упокойник, поднялся, глядит на хозяйку и глазам своим не верит: она, как родила, взяла то дите свое, накормила, да и пошла кизеки месить. И ни в одном глазу! А мельник, вроде как от радости, што дите у него родилось, Силантию полбутылки водки купил. Ну, прошло всё то помаленьку, и слава Богу. Только проходит это год, али трошки побольше, примечает это Силантий, што у хозяйки пузо-то вроде как опять глаже стало. И што главное — зачал он замечать, бытто в животе у няво вроде што-то ворухается. Рассказал он обо всём одному мужичку нашему, а тот запряг — да в Ольховку, к попу съездил. Рассказал. Посмеялся поп, да и всё. И вот, мил-человек, опять пришло время той Фёкле рожать. Хлоп! — лежит Силантий на соломе, и — Богу душу! Криком кричит, стоном стонет. А хозяйка на гумно пошла, хлеб молотить. И так тут Силантия разобрало, што зачал он с душой расставаться. Когда — вон она, хозяйка, бежит с гумна, да в кровать. И в тот мент дитя родила. И Силантий враз отошел. Полегчало ему. А хозяйка встала, дите обмыла, и пошла свиньям корму давать. Пролежал Силантий две недели хворый, всё на живот жалилси. Купил ему мельник опять же водки бутылку, да тем дело и кончилось.
Работает Силантий и дальше, да всё с оглядкой. Обратно к попу знакомца своего спосылал. Помял поп бороденку свою в кулаке, да и говорит: «Суетное это духа томление, боле ничего. Суеверие, его же каждому христианину поборевать надо». Тем поп и кончил. Больше разговаривать не схотел.
Так. Прошло еще годика с полтора. Глядит Силантий — а хозяйка опять подобрела. Идет он к мельнику и говорит ему: «Добрый человек, Богом тебя прошу, отдай ты мне, што я у тебя заработал, да отпусти ты меня. Уйду я на Волгу». А тот — «Ни в жисть. Доработай, говорит, до Николы зимняго, как рядились, тогда и отпущу». А дело поздней осенью было. И показалось Силантию, што хозяйка-то ишо на первых месяцах ходит, што никак ей не раньше как в январе аль в феврале родить. И остался. Не ушел, как думал. Когда так, к концу ноября, еще в энтом году снегом страсть как всё позамело, пошел он, Силантий, с мешком, с пятериком, по лестнице, а его и схватило. Да как! Аж в глазах круги. Грохнулся он об пол, с лестницы сорвался, а мешок тот на него. Услыхали люди, принесли его, да в хату, а там уж и хозяйка на кровати лежит. Замучилси Силантий, замучилси, да к утру и помер. А хозяйка в одночась мертвое дитё выкинула…
А в селе-то промеж людьми давно уж говорок шел. Покликали враз пристава. Приехал пристав, люди ему всё, как есть, и рассказали. За доктором послали. Осмотрел тот Силантия, да, осмотрел, выходит из хаты, а я как раз возле стоял. И спрашивает его становой, что за причина смерти была. А доктор разводит руками и ему в ответ:
— Верьте или не верьте, дорогой мой Авдей Андреевич, а умер ваш Силантий от родильной горячки.
— Г-га-а-ах ах-са-ха… — из темноты выскакивает сидевший позади деда-Долдона молодой парень и, обегая костер, подсаживается к рассказчику. — Ох и уморил! Ну и брехло! Да нету ничего подобного на свете! Брешут всё люди, я вам говорю!
Ольховский хохол смотрит на него совсем серьезно:
— А шо, чи ты справди нэ вирыш? Хиба ты и в чёрта чи в домового нэ вирыш?
— В чёрта, в домового? Да я ни в сон, ни в чох, ни в вороний глаз не верю.
Мельник, до того молчавший, откашливается:
— А повирыш ты мэни, колы я тоби ось зараз скажу, що у оциеи мэлныци домовой е?
— Никогда!
— Ага! Николы? Да? А я тоби говорю, що прыйдэ вин и сьогодни, як и завжды вин цэ робыть — в пивнич. И промиж мишков заховаэться. Панэ, Сергий Ллексийовичу, скажить вы мини, скильки тэпэр часив?
— Три четверти двенадцатого.
Мельник смотрит в упор на молодого парня:
— Ага, ось ты мэни нэ вирыш, а скажи, чи пидэш ты по оцией лэсныци, що до ковшив вэдэ, а зийдэш по другой, що з горы до драчкы на долыну вэдэ?
На мгновение парень смущается, но быстро берет себя в руки и отвечает:
— Ну ясное дело — пойду.
Фомка-астраханец, собственно, уже далеко не парень, только выглядит он еще совсем молодо в длинной своей рубахе, подпоясанный каким-то обрывком веревки, в замазанных дегтем, но ловко сидящих сапогах с забранными в них посконными штанами. В движениях он быстр, говорит открыто и весело. С военной службы вернулся Фомка ефрейтором, работал в Царицыне грузчиком, подавался и в Астрахань на промыслы, да получился у него там скандал с тремя матросами каспийского флота. Крепко избитый, но со славой всё же подолевшего троих и с кличкой «Астраханец», вернулся он в свою Клиновку. Когда случилась та история с ихним мельником, был он в Астрахани, и лишь по возвращении узнал, что после того, как, пожав плечами, уехал пристав, вдруг услыхал истошный бабий крик: «Да бейтя их, окаянных!», — кинулась толпа мужиков на мельника. Был он тут же убит кольями, а бабу его прикончил кто-то подвернувшейся ему под руку пешнёй. Становой и версты отъехать не успел, как вернули его в Клиновку снова, к двум изуродованным трупам и горящей лихим огнем мельнице. Суд приехал. Трех сосласли в Сибирь. Сожженная дотла мельница долго еще дымила черными головешками, так ее больше и не отстроили. А весной прорвало плотину. И ездили теперь клиновцы молоть свое зерно к панам Пономаревым за семь верст. Сельчанам своим убийство мельника Фомка-астраханец не забыл, и глубоко затаил злобу на всё село за убийство дяди.
— Так пидэш, чи ни?
— Говорят — пойду!
— Ага, добрэ. Тикы пидожды трохы, я пиду мишки прыбэру, щоб ты та на гори нэ споткнувся.
Мельник тяжело поднимается и уходит. Долго ничего не видно и не слышно, но вот не спеша приближается Микита к сидящим у костра, тихо вздыхает:
— Ох, Боже ж мий, Боже. Боюся я за тэбэ, Фомо. А ты, як-що нэ пэрэдумав, з молытвою иды, — мельник тушит фонарь и ставит его на землю, — а ты мусыш бэз вогню — поняв?
— Понял, чаво тут много понимать!
Быстро поднимается Фомка и, подтянув одним движением своим штаны, <идет к мельнице>. Все напряженно следят за его едва видной тенью. Вон, сливается она с темной пастью двери и исчезает. Крякнув, садится мельник на землю, но не проходит и минуты, как нечеловеческий рев заглушает шум бегущей по застопоренным колёсам воды. Все вскакивают, Семён в страхе прижимается к отцу. Тот быстро вынимает спички:
— Что там еще за чертовщина, а ну-ка, Микита, подай сюда фонарь.
А из мельницы, снова заглушая все шумы, слышится какой-то грохот, видно, что-то тяжелое скатывается по внутренней лестнице. Помольцы мчатся за несущим фонарь мельником. Фомку находят лежащим под внутренней лестницей с разорванной рубахой и окровавленной головой, стонущего и в диком испуге озирающегося. Перенесен в помольную хату, обследованный на переломы и ушибы знакомым с этим делом дедушкой-Долдоном, который спешит успокоить:
— Тольки трошки обкарябалси, да голову зашиб. Засохнить, как на кобеле.
Понемногу приходит в себя Фомка. Всё еще тяжело дыша, с трясущейся нижней челюстью, рассказывает Фомка откровенно, что прошел он помаленьку вдоль всю мельницу и уже ухватился за перило второй, внутренней, лестницы, уже поставил было ногу на первую приступку — ан, держит его кто-то за рубаху…
— Остановился я, хочу это вторую ногу на ту же приступку постановить, а такой во мне страх, аж употел я. Вздумал я «Отче-наш…» прочесть, а язык и не поворачивается. Ну, всё-таки стал второй ногой на ту ступеньку. Хочу это левую ногу еще ниже, на вторую, подаюсь вроде всем телом трошки ниже, ан держит «он» меня слева за подол рубахи. Рванулся я всем корпусом, рванулся, а рубаха слышу — т-р-р-р, порвалась. Во, глядите, от подола аж до подмышки, почитай. И загудел я вниз, и вроде памороки мне отшибло.
Нижняя челюсть у Фомки все еще вздрагивает, на лицах стоящих кругом его помольцев и страх и растерянность. Только вот с дедушкой что-то неладно — подмигнул он отцу и показал глазами на мельника.
Дед-Долдон смотрит испытующе на Микиту:
— А почяму же тибе-то он не ворохнул?
— Николы вин мэнэ нэ ворухнэ. Знае вин, що його поважаю.
Фомка выпрямляется на кровати, в комнату вбегает мельничиха, протягивает ему полбутылку водки:
— Бога вы вси нэ боитэсь. А и домового займаты нэ трэба. А ну, потягны, Фомо!
Фомка пьет, как лошадь, огромными глотками, лязгает зубами по стеклу, капает водкой за ворот рубахи. С трудом спасает мельничиха остатки водки.
— Ну-ну, ты и бочку выпьешь. Хватэ! А вы вси йдить тэпэр спаты. Бильш тэатрив нэма. Выбачтэ, — обращается она к дедушке, — алэ ж цэ нэ е порядок.
Первым поворачивается и выходит из хаты дедушка:
— Верно баба говорит, пошли домой.
Весь следующий день гудит хутор от разговоров о ночном происшествии. Бабушка зажгла в комнате лампадку и серьезно предлагает завтра же привезти из Ольховки священника и отслужить молебен с водосвятием. Мотает дедушка головой и шепчется о чем-то с отцом. Вечером, по предложению отца, приглашают на ужин деда-Долдона. По-молодому входит тот в столовую, отыскивает глазами образа и истово на них крестится:
— Здорово дневали!
— Слава Богу, — хором отвечают ему все в комнате.
Гость садится возле бабушки. Ужин проходит без излишних разговоров — за едой не гуторят! Только когда уже всё со стола прибрано и приносятся наливка, чай и мед, начинается беседа. Как всегда, начинает бабушка:
— Ишь, дитя-то во-взят перепужали. Грех один с вами. И всё этот Никита. Ну, признавайтесь, што вы там понадумали.
Дедушка осторожно пригубливает из рюмки:
— А ты, Наташа, не сердись, мельник-то наш, сама знаешь — хохол, никак москалей терпеть не может, особенно же хвальбишек. Вот и сунул он вчера ночью в перило внутренней лестницы, в дырку от сучка, зубок от граблей. Фомка в темноте-то и зацепился…
Первым хохочет дедушка-Долдон, наконец-то, всё сообразив, вторит ему Семён, бабушка сердито смотрит на сына и мужа, на смеющуюся сноху и сама начинает улыбаться:
— Вот ведь греховодники. Всех вас, а особенно Никиту, Бог накажет. Разве ж можно с нечистой силой шутки шутить.
Дедушка смеется еще слаже:
— Да где же она, сила нечистая твоя, Микита, что ли? Только вот Сергею теперь убыток — нонче в самую рань Фомка-астраханец несмолонные мешки пшеницы на воз положил, да и был таков.
И дедушка-Долдон усмехается:
— Пройдёть таперь слава про вашу мельницу, найдутся такие, што и ездить к вам перестануть. Кому охота с нячистой силой возиться.
— Ить верное твое слово, — бабушка смотрит округлившимися глазами, — таперь на всю округу разговоров.
— Во-во! И я знавал один такой случай, што в нашей Березовской станице случилси, мальчонкой я ишо был, так об нём вся, как есть, войска наша Донская говорила.
Дедушка предчувствует удовольствие, но считает нужным подзадорить:
— Что-то не упомню я такого случая.
— Тю! Как так не упомнитя, — и дедушка-Долдон отпивает глоток, — што вы, Астаховых ня знали, што ля? Дед ихний ишо под Силестрию ходил. А внук яво, вон он, в чине войскового старшины в Усть-Медведице живёть. Так вон энтот, што под Силестрией был, Пятро Поликарпыч, был он с Иван Семёнычем Сянюткиным дружок, водой не разольешь. А было у них так — тольки што выдастся какой случай подходяшший, вот они и вместе. И по случаю тому водку глушуть. А были они ишо и в кумовьях. И рази не случись одного разу бяда — как-то подвыпили они чудок покрепше у жалмерки одной, што сама водку изготовляла. Иван Семёныч посля того до дому дополз, а Пятро Поликарпыч иде-сь посередь хутора в канаве заночевал. Силов яму до дому добраться не хватило. А время — осянью. Грязишша, слякоть, дошш мелкотить, словом, простыл к утру Пятро Поликарпыч в итой канаве. А когда проснулси утром, когда принясли яво хуторцы домой, понял он, што последний яво час приходить, и велел он поскорей Иван Семёныча позвать. Прибег тот:
— Штой-то, кум, а?
— Помираю!
— Тю на тибе! Брось, опохмялись, оно всё, как рукой, сымить.
— Не, не сымить. Чую — край мой подходить. И просю я тибе, дай ты мине, какую ни на есть, дружескуя наставлению, пока поп не пришел.
— Слухай суды, кум, — тут наклонился Иван Семёныч к помирающему и зачал штой-то ось яму на уху шаптать. Не успел как следует и обярнуться, глядь — а кум яво мертвый ляжить. За долголетнюю службу в упокойники произведен. Ну, сами знаете — сбеглись казаки со всяей станицы, бабы рев подняли, попа покликали. Всё по порядку справили. Проляжал Пятро Поликарпыч, как положено, три дни в курене и понясли яво на кладбишшу, а отец Илларион службу править. И как дошел он до «последняго целования», глядь, а Пятро Поликарпыч, упокойничек, сидить сабе в гробу и глаза протираить. Да как гаркнить:
— Стой, отец Виссарион! Отпуск мине с того свету вышел. Батюшки мои, чаво тут началось! Как сыпанули бабы и казаки с кладбишши. Только один поп осталси, будто к земле прирос. Стоить, побелел весь, а губы у яво синие. Ну, с поповского поста свово не сошел, хучь и трусилси от страху. Казак был он, поп-то наш хуторской, правильный поп. Однако, как-то в понятию пришел, махнул тем казакам, которые посмелей были и в ближней канаве в укрытию засели, махнул им, подошли они с опаской, вытянули Пятра Поликарпыча из гроба и домой предоставили. Выпили там с ним по одной и вспрашивають яво об том, да как же ето всё с ним приключиться могло.
— А так могло приключиться, што должон я таперь куму мому на всю жизню мою благодарность поиметь. Научил он мине, как на том свете орудовать надо.
— Ну?
— Вот те и ну! Помер это я — луп глазами, ляжу я вроде на ливаде аль на бакше. Тут же рячушка тикёть, а возле ей арбузы да огурцы произростають. А дух такой легкий, аж душа радуется. И захотелось мине пить. Подполз я на пузе к той речке, лег поспособней, глотнул разок-другой — Господи Иисусе Христе — она! Белая головка! Вот вам хрест святой — не бряшу. Та-ак! Выпил я ишо чудок, цоп за огурец, хряп — а он малосольный. Глянул туды-суды, куст какой-то стоить, поднялся я, подошел к няму, а на ём жареные пироженчики с капустой произрастають. На посном масле. И только я того пироженчика откусил, тольки разок всяво и жавнул, глядь — идёть архангел Гавриил, один он из всех архангелов казак, да, идеть это в полной форме, в есаульских погонах и при шашке.
Стал я, как полагается, и отрапортовал:
— Вашсокблагородия! Урядник Астахов, по случаю смерти, в вашу распоряжению прибыл.
Вынул это он из обшлага мундира списочек, поглядел да и вспрашиваить:
— А какой ты станицы?
— Трех-Островянской!
Ну, и осерьчал же он. Как зачал шуметь. Кабы, говорить, не был бы я на архангельской службе, я б, говорить, и ня так ишо покрыл. Вовсе не ты помереть должон, а вахмистр Астахов, станицы Березовской. Обратно они там всё, как есть, перепутали.
— А што ж мине делать прикажете?
— Воскрясай, — отвячаить, — и вся недолга!
Не поспел я круг сибе оглянуться — тю! — стоить отец Виссарион и молитвы свои гудеть. Вот она какая дела была. Научил он мине, в счет станицы, на том свете сбряхать. Вот и отпустили мине оттуда.
Опосля того не только кумовья, вся станица пьянствовала. Сам архиерей приехал на живого упокойничка поглядеть, никогда, говорил, в жизни моей не видал, штоб упокойнички водку так глушили. И так тот архиерей по тому случаю сам набралси, што с отцом Виссарионом, полькю-бабочку в садах танцевал. Из наших казаков был он, архиерей-то. И обо всём, как есть, Пятру Поликарповичу поверили, ну, штоб жареные пироженчики, да ишо на посном масле, да штоб на кусту они росли, никак никто в понятию взять не мог. И так и поряшили: сбрехал об тех пироженчиках.
Долго все смеются, только бабушка не на шутку рассердилась:
— И не грех ли тебе, старый ты человек, такие присказки про тот свет рассказывать? Погоди, вот сам туды попадешь, враз тебя там в ад предоставят, будешь за брехню сковородки раскаленные до скончания века лизать.
— Наталия Ивановна, да Боже упаси! Да кого хотишь в станице, кто постарше, вспроси, все табе подтвярдять, хто не забыл. Правду я вам истинную рассказал.
— Правильно ты это говоришь, ежели есть у человека какое-нибудь пристрастие, к вину или иному чему, тут, брат, и не такие чудеса случиться могут, — поддакнул дедушка.
— Ага! А я-то к чему же разговор вел? Да хотитя я вам ишо про одну пристрастию расскажу, а штоб хозяйкя ваша не сярчала, об том свете и словом не упомяну.
Бабушка сердиться долго не умеет:
— Говори-уж, Бог с тобой.
— Ну, так слухайтя — когда родилси он, сосед мой, да, когда он родилси, Африкан Гаврилыч, ничего такого особенного не случилось. Соседский кобель, верно, раза два-три брехнул, да у Марь-Матвевны, у кумы моей, телок, в кухне ночевавший, топленое молоко опрокинул и новый обливной горшок разбил. А так, штоб знаков каких особых или предзнаменований небесных, нет, такого мы, старики, не запомнили… Родилси он, как тогда говорили, в месяце генваре, стынь стояла страшная, морозы — во какие! — давили. Окрестили его, как по-закону надо, кум яму по дедушке имя дал, цымлянского на крестинах выпили, погуляли, как надо, словом, всё в порядке полном произвяли.
Зачал он расти, в понятию входить стал, и рази не поимей он пристрастию! И к чаму бы вы думали — да к каше! К пшенной али тыквенной. Бывало сварить бабушка Аграфена Тимофевна, энта Аграфена Тимофевна урядника Шумилина дочка, што с Чиру ее взяли, да, сварить она кашу, поставить ее где-нито простыть, глядь — а Африкашка уже и ложку облизал. Всё во-взят поел.
От той, от каши, стала у яво пуза расти, как у нашего отца протоиерея. Все хуторские рябяты над ним смяялись. Архипузнаком дражнили. До того, анчибел, дошел, по соседям стал ходить, под кашу подлабуниваться. Вот не стерпела одного дня бабушка Аграфена Тимофевна, не стерпела, убралась, полушалок персидский надела, энтот, што ишо дед ее из турецкой кампании принес, да, надела полушалок и вечером, задами, штоб люди не видали, к бабке-ворожке пошла. Куском холста ей поклонилась, сямитку денег дала.
— Погляди ты, просить, Христа ради, што Африкану нашему в роду написано. Ить на весь хутор страма нам через эту яво пристрастию.
Глянула ворожка в карты, покачала головой, да и отвячаить:
— Идитя вы, Аграфена Тимофевна, домой, няхай сердца ваша зазря не болить. Потому через ее, ту самуя кашу, быть яму в чести вяликой и станить он через ние не тольки на весь хутор, на всю станицу, да — на всю, как есть, войску Донскуя перьвым человеком.
Окстилась бабушка от удивления, однако ишо и в церковь сходила, отцу Панкратию пожалилась. Наложил он на нее эпитимию за мысли суетные, да, а яму велел пару утей принесть, какие пожирней, любител он на утей был во какой! Зато за здравие раба Божия Африкана просвирку вынул и на обедне яво помянул.
В семье всем будто лекше стало. Однако ж от каши так Африкана и не отвадили. И дале ел он ее, как и раньше — и с маслом, и с молоком, и так. И на дяйствительну службу пошел, и в Балканский поход яво снарядили, а обыклость свою не бросил.
Вот, пиряшли это, конешно, наши Дунай речкю, пиряшли ее, турков побили, Силестрию взяли, под Шипку пришли. Тут зима их и захватила. Да такая снежная и холодная, хучь воевать бросай. Сотня, в которой Африкан Гаврилыч служил, в болгарской дирявушке на квартиры стала. А за дирявушкой той — вроде как ливады, за ливадами — лес. А за лесом, в горах, турки позасели. Видимо и нявидимо. Свому Богу молятся, ночами костры жгуть и Болгарию казакам отдавать не соглашаются.
А когда сбиралси Африкан Гаврилыч в поход, когда снаряжали яво, купил ему отец коня. В Сальские степи к знакомому калмыку ездил. Конь, на глаз, не дюже, штоб вострый. Мохнатый, росту малого, не поймешь, масти какой был. Сказать, муругий, нет, не муругий, мышастый, так нет, не мышастый. Словом, одна сумления, прости Господи. А и сами вы знаитя как она, дела-то, с нами казаками в Российской империи была. Служи на всём на своём, покамисть тибе не пристукнуть. Слава табе казачья, а што жизня собачья, про то и не заикайси. Ну, однако, когда сотня рысью шла, дюже от ниё Африкан не отставал. Глядишь, ан, к вечеру и догнал своих. Вот на таком коне и ломал он службу царскую.
Тут вот, рази и не подойди то время, не свяршись те сроки, об которых бабка-ворожка говорила. Идёть это одного утра Африкан Гаврилыч, идёть к колодцу и песенку потанакиваить:
Вкруг огню турки сидели И на ём чавойсь-то грели, Трубки длинные курили, Про донцов, нас, говорили…Да, идеть это он, ведёть коня, потянул носом — ху, т-ты ж! — никак кашевар пшеннуя кашу варить? Аж вовсе повеселел. А кухня сотенная в соседнем дворе стояла. А дворы у болгар, да ишо в войну, ух, Господи, об загородке и ня думай. Всё, как есть, што и было, храбрая войска наша попалила. Тольки дошел это Африкан Гаврилыч к колодцу, коня напоить хотел, тольки это вядро потянул, хро — табе: трубач трявогу заиграл.
Казаки из мазанок, што тот горох, посыпались. Коней сядлають, оружию опоясывають, строиться зачали. А турок из лесу в конном строю выходить. Самыя янычиры, султановы головорезы отборные. Не поспел Африкан и глазом моргнуть, а кошевар ухватил котел, хлоп яво, да и вывернул в снег. Штоб, в каком там случае, казенное добро ниприятелю не досталось. Да и с порожней кухней от врага и супостата уходить-то куда способней! Да. Вот та пшано вся, как есть, и вывалилась. Снег таять под ним зачал. Пар от яво, как дым от гранатного разрыва, пошел.
Схватил сядло Африкан Гаврилыч, коня подсядлал, цоп сумы перемётные, подскочил к каше — не пропадать же добру даром — нагреб ее полные сумы, да за сядлом в мент и приторочил. Как сотня построилась, как в атаку на турков пошла, толком посля и рассказать он не мог. Тольки глядить это Письменсков Левонтий Платоныч, сотни Африкановой командер, глядить это он — вся сотня в атаку на турков, как по-шнуру, идёть, а Африкан саженей на пятьдесят вперед умчел.
Оглянулси Африкан назад, оглянулси — Господи Исусе Христе! — сотня сзади яво черти где по сугробам скачить, а турки — вот они.
А конь — как останел! Преть! Глаза кровью налились, храпить. Аж папаху ветер Африкану с голове сшиб. Прочитал он побелевшими губами «Живый в помощи…», прочитал молитву, луп глазами, а турки вот они — во! Саданул он перьвого пикой, так тот об землю и вдарилси. Выхватил, було-к, палаш, гля — а конь яво весь турецкий строй наскрозь проскочил. Повярнул он яво кое-как назад, повярнул коня-то, да за турками — ги-и-и-и!
Догнал какого-то худошшаваго, да палашом яво с коня и ссадил. Так тот и покатилси. Сам суды, а голова — вон куды. Тут на Африкана трое насело. Да рази конь его, Африканов, на дыбошки не встань! Встал конь на дыбошки, да как сиганеть, да и подмял под сибе турецкого командера. Смяшались турки. А етот мент сотня им в лоб вдарила. Доскакала-таки. Повярнули, було-к, турки уходить, а Африканов конь за ними. Скачить перед ним здоровенный турок, к луке припал, а в руке у яво знамя ихнее трепетёет. Догнал яво Африкан, стебанул палашом по башке, знамю энту тольки — цоп! И вырвал ее у турка из рук. Турок обземь, а Африканов конь турецкий строй ишо раз наскрозь прошил. Обярнул яво Африкан, поднял на дыбошки, да как зашумить:
— Стой, чярты, сдавайси!
Которые турки подальше были, те ускряблись, ну, а человек с пяток руки вверх подняли. Завярнул их Африкан и в тыл погнал. И конь яво будто трошки в сибе пришел. Посмирнел. Полнуя победу сотня одержала. Африкану Гаврилычу за бой тот урядницкие лычки нашили, за турецкуя знамю и за пленных. И к тому ишо и хрест святого Георгия дали.
Испрашивал яво потом Миколай Миколаич, армии главный командующий и самого царя брат, да, вспрашивал Африкана Гаврилыча, как это так случиться могло и как это он один со всяей турецкой сотней бой принять мог. Смолчал Африкан, о правильной причине ничаво не сказал, боле о царь-отечестви да об присяге, да об казачьей ухватке путлял. Отбрехивалси.
Ну, а кошевар, дело известное, рассказал взводному, взводный — вахмистру, а вахмистра — сотни командеру. А сотни командер — командеру полка доложил. И вызвал Африкана Гаврилыча полка командир, полковник Шумилин, энтот, што с Шумилиных хуторов рожак, мельница у отца яво ветряная была и быки рыжие-лысые, хорошие у отца яво быки были. Да — вызвал яво и вспрашиваить:
— Ну как, помогла каша?
— Так точно, вашсокблагородия! Уж дюже она горячая была. Конь мой тольки што не сбясилси.
Смеялись все. Господа офицеры «пшённым стратегом» яво окрестили. А в сотне, за глаза, «Кашиным» дражнили. Ну, да урядника и кавалера дюже не подражнишь. А дела-то вся даже очень просто понятная — каша ить страсть какая горячая была. Как зачала припекать, конь и осатанел. Тут не тольки знамю, тут самого турецкого султана в плен даже очень просто взять можно. И стать потом гяроем на всю, как есть, Войску Донскуя. Конь, она ведь животная натуральная!
Все слушатели смеются, довольный рассказом наливает дедушка еще по одной:
— Правильное твое слово, Панкрат Степанович, конь, что и говорить, животная натуральная!
Спокойно, с чувством и расстановкой, выпивает дедушка-Долдон свою рюмку. Все следуют его примеру, даже бабушка пригубила.
Правильно сделал Жако, что на следующее утро разбудил хозяина своего ни свет, ни заря. С Разуваева приехал Гаврил Софроныч, дедушкин дружок, привез рожь и пшеницу и высоко на мешках сидящего внука своего Ляксандру. Выбежав к мосту, увидели они идущий по бугру от тети Агнюши целый обоз пароконных подвод, явно направлявшихся к их хутору. Медленно двигались тяжело нагруженные возы, шагали рядом с ними подводчики, весь хутор собрался возле мельницы, никак не понимая, что же это за люди такие. Моргнул только отец Семёну:
— Ну вот он, книги твои едут.
До самого обеда, всеми силами спешно мобилизованного хутора, от дёрок до мельника и помольцев включительно, носили те книги в парадную, стоявшую всегда закрытой гостиную.
— А это вам в собственные руки велели мне барин мой, Анемподист Григорьевич, всё непременно вручить.
Управляющий имения, приехавший вместе с подводами, кланяется и передает Семёну небольшой сверток. Состоит он у барина своего еще с детства на службе, оставшись сиротой после отца, бывшего крепостного дворецкого. Тяжело переживает он бесславный конец поместья, которому верой и правдой служили все деды его и отцы.
Мелькая голыми пятками, проносится прямо на кухню Мишка, таща огромную корзину, полную бутылок с водкой. Спосылал его отец к Новичку за угощением для подводчиков. Раскрасневшаяся стряпуха, бывшая нянька Федосьи, подходит к бабушке:
— Иде ж мы, барыня, всю ораву ету кормить-то будем?
— Свелела я в помольной столы накрыть.
Все отправляются в помольную хату. Там, положив сосновые доски на деревянные козлы, устроил мельник длинющий стол и покрыли его полотняными скатертями. В больших обливных мисках дымится наваристый борщ из баранины. Стоят, мутного стекла, граненые стаканы. Все усаживаются — в переднем углу дедушка, справа от него управляющий и Семён, слева — отец с Гаврил Софронычем и мельником. Усаживаются и подводчики, и все помольцы — все таскать книжки помогали. Налив стаканы, раздают их девки алчущим. Правда, дедушка не задерживает:
— С прибытием вас, и на доброе здоровье!
— Здоровым вас видеть. В час добрый!
Семёну удается быстро исчезнуть — вместе с Сашей разворачивает он полученный особо пакетик. Первая книга ставит его в тупик. Напечатана она латинским шрифтом. Нужно к маме мчаться. Считается она всеми очень ученой, не хуже тети Агнюши, окончившей Донско-Мариинский Институт. В этот институт в будущем году повезут и Мусю. Три следующих книги тоже сильно его интригуют. Одна из них особенно толстая. Наугад открывает ее Семён и пробует читать:
Думы мои, думы мои, Лыхо мэни з вамы, Чому сталы на папэри Сумными рядами.Ах, да это же на языке Микиты-мельника, по-хохлачьи, ах, по-украински, это же Тарас Шевченко. На мельнице казаки называют украинцев хохлами, а дома отец малороссами…
Семён прекрасно помнит он частые споры отца с дедушкой. Утверждал тот, что живут казаки на Дону «спокон веку», что предки их пришли сюда из Персии, что в царстве персидского царя Кира была казачья автономная провинция. Вот оттуда, через Терек и Кавказские горы, разошлись они по Дону и Днепру. Что, несмотря на сотни завоевателей, удалось им сохраниться малым племенем, но — попали они под царей московских, и большой теперь вопрос — выкрутятся ли.
Отец его, окончивший Донской Кадетский Корпус и Юнкерское Училище, в которых готовили «слуг царю, отцов солдатам» и историю преподносили соответственно оскопленную, поддался казенному воспитанию, и к настроениям и рассказам дедушки относился равнодушно. Крепко перемололи его имперская мельница, интересы офицерского круга, дворянская гордость, огни больших городов, блеск погон и убежденность в том, что, во всяком случае, царь, самим Господом-Богом поставленный на земле властелин, сильнее и далеко приличнее всех этих штатских фигур, тараторящих о каких-то там особенных идеях и лишь подбивающих темный народ на бессмысленные бунты и напрасные кровопролития. Еще сотенку-две лет нужно учить русский народ жизни, ждать, когда потеряет он дикий свой облик, показанный им в 905 году. Все эти господа, революционеры и социалисты и прочая шваль, что ни прилично вести себя, ни прилично есть за столом не умеют, способны лишь на террор, на преступления, на убийства. Пожар Старого Хутора никак он не забыл, но верил в Столыпина и его реформы, мужиков не ненавидел, но сторонился, полагая, что только постепенными преобразованиями сверху, идя с большой оглядкой, держа народ крепко в подчинении, можно вывести Россию на путь благоденствия. Казачье же прошлое звенело в ушах его так же, как и рассказы несчетных странствующих монахов о житии святых, о святых местах и чудесах в Иудее. На вещи, говорил он, следует смотреть здорово, великой кровью создана империя Российская, и оборонять ее следует уже по одному тому, что риск слишком велик — кто его знает, что получиться может, видали мы хорошо 905 год. А что ушло, в веках потонуло, того не вернуть, и серьезно говорить о каких-то там царях Кирах попросту смешно. Деда злили привитые сыну его Сергею «холуйские мысли». Утешался он лишь в разговоре с простыми казаками из старшего поколения, подолгу служившими на всех границах империи, службу эту испытавшими на собственной шкуре и помнившими доныне Разина, Булавина и Пугачева. Отводил с ними дедушка душу, вспоминая разиновскую мечту о казачьей державе от Буга до Каспия… А мама торопится к дедушке:
— Вот, у Геродота, написано о казаках, о одежде их и оружии. Видишь, француский это перевод его истории, изданный в Париже в 1870 году, в издательстве «Хашетт».
— Ата! А что я легкодумам моим толковал? Сами себя мужиками поделали. Царская им службица понравилась. А и того не поняли, что царь этот самый собственных же мужиков до того довел, что осожгли они нас, верных его слуг. А почему — да только потому, что осточертело им в собственной же державе с голоду пухнуть.
Мать Семёна, родившаяся в старой литовской земле, белорусска, училась в Вильно и в Варшаве, вращалась в польских интеллигентных кругах, впитала в себя не только польские и белорусские мечты о воле, но и сама много работала, читая иностранных авторов. По культуре своей далеко превосходила она то общество, в которое попала. Но, приехав на Дон, близко узнав народ его, стала казачьей патриоткой и в спорах стояла на стороне деда. Много всё ж удалось изменить ей во взглядах мужа, перед доводами и аргументами ее умолкали казачьи офицеры, ничего, кроме заученных в кадетских корпусах или в полках шаблоновых истин, не знавшие.
— Ты нам потом, — дедушка сияет, — поподробнее всё переведи. А книжку эту я теперь в передний угол поставлю. Не всё же бабушкины Четь-Минеи листать. А ну-ка, что там еще есть? О-о-о! Вот она! Видал я ее когда-то у одного черкасского попа, который мне о царе Кире рассказывал, а ну-ка, что тут закладкой обозначено, дай-ка сюда, где очки мои, ага, стой:
— «Мы усматриваем, что сие Войско издревле называлось Донскими казаками, а земля их — Казакией».
— А что такое — Казакия?
Дед благосклонно улыбается внуку:
— Казакия то же для казаков, что для французов — Франция, для немцев — Германия, для англичан — Англия. Национальная страна каждого народа. Была наша Казакия свободная, независимая, самостоятельная. А мы — народом в ней вольным жили. А теперь — «чаво извольтя», стали. Видал, когда эта книжка отпечатана, еще в 1812 году. И кем написана — директором училищ в Войске Донском, коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым. Видал — в год войны с Наполеоном, когда, не будь нас с нашим Платовым-атаманом, завалилась бы вся ихняя империя, как воз кизеков.
Когда считались мы в России особым народом, когда большой русский поэт, гусар, пьяница Денис Давыдов на обеде у донцов тост свой знаменитый произнес:
Друг народа удалого, Я стакан с широким дном, Осушу одним глотком В славу воинства донского! Здравствуйте, братцы, атаманы-молодцы!Видал — НАРОДА удалого… А потом всполошились русачки, за головы ухватились. Как же это так в империи нашей произойти могло, что сказал кто-то правду о казаках донских. И преподнесли нам историйку Броневского, по специальному заказу написанную, о холопах московских, бежавших от бояр и воевод в степи. И вишь ты — образовали эти вчерашние холуи, пятистолетние холопы, ни с того ни с сего, вольные общины. И стали эти смерды вековечные вдруг, через ночь, лихими наездниками. Это те, кто только бояр да воевод на конях верхами видали, которым ихняя же церковь конские ристалища под страхом смерти возбраняла, с амвона их поучая, что смертный это грех. И выдумали эти михрютки слово «атаман» и имя «казак», и стали свободно выбирать всё свое вольное управление с войсковыми есаулами, с Кругом, с атаманами походными. Это вчерашние-то холупы! Дедушка листает, щурится, читает дальше: Ага-ага, видишь — народы, населяющие Российское государство, перечислены. И глядите, глядите, после русских вторыми кто стоит — вот, читайте — Казаки — кои суть Донские, Гребенские, или Терские, Волжские, Оренбургские, или Уральские, Сибирские, Малороссийские, Бугские, Черноморские. Видали, а потом иные народы: поляки, латыши, литовцы, немцы. Стой, стой, да это же другая, ага, «Всеобщая география Российской империи», издана в Москве в 1807 году. Дедушка широко крестится.
— Слава Тебе Господи, что сподобил ты меня на старости лет моих о казаках правду прочесть… Видал ты его, Анемподиста! Вот те и российский дворянин, вот те и царский слуга, а какие он книжечки внуку моему подсовывает. Слышь ты, Семён, еще раз тебе говорю: не лезь ты ни в какие офицеры. Собьют тебе там мозги набекрень. Скажи-ка сам, чем мы, казаки, в империи этой Российской стали — не хуже тех индусов, что в британской империи служат в армии и своих же сонародников из пушек расстреливают.
Осторожно подходит к дедушке дружок его Гаврил Софроныч, крепко держа за руку своего внука. Не замечает он, что катятся по лицу его крупные слёзы, не вытирает он их и смотрит на деда глазами, полными мольбы.
— Алексей Михайлович, односум… одно у тибе просю, мине, вот, для внука мово Ляксандры дай ты когда книжки ети прочесть, я сабе из них для разуваевских казачат кой-што перепишу, просю тибе…
Дедушка кладет обе свои руки на его плечи своему другу.
— И никаких боле разговоров, не только тебе, а особенно вот Савелию Степанычу, чтоб знал, чему казачат учить…
Легок на помине Савелий Степанович — вот он, подкатил запряженный Полканом тарантас. Господи, да ведь сегодня же первый день занятий. Едва войдя в гостиную, подбегает он к горам книг и полный недоумения спрашивает полушепотом:
— Э-т-то о-т-ткуда?
Усевшись прямо на пол, схватывает он первую же попавшуюся ему под руку книгу, вторую, третью и, бормоча: «Н-неверо-ятно, н-невоз-зможно!», — роется в них, как голодный зверь, так долго, пока не бьют часы в столовой пять раз. Урок — слава Богу! — прошел. Окончательно застеснявшись, краснея и заикаясь, задает он ученику своему на завтра — «от сих — до сих», отчеркивает в задачнике и учебнике по истории, и направляется к выходу. Тут и перехватывает его мама. Ведет обоих на чаепитие, где уже сидит дядя Ваня, приехавший из хутора Писарева близкий бабушкин родственник. С круглой, как арбуз, совершенно седой головой, никогда он не бреется, а стрижет всё, и лицо, и голову «одним загоном» машинкой под ноль. Лицо его неизменно покрыто густой щетиной, хром он с детства; и каждый раз при приезде привозит Семёну золотой пятирублевик и фунт любимых его конфет — «Раковые шейки». В приезд свой в прошлом году передал он Семёну тайно и фунт маленьких, удивительно красивых стальных гвоздиков. Взяв на мельнице молоток, обошел тогда Семён хуторские постройки, вбивая гвозди и в перила на мосту, и в оконные рамы в доме, и на мельнице, и в скамейки, и в стулья, пока не добрался до отцовского письменного стола. И никак после понять не мог, как мог отец его догадаться, что забитые в лакированную доску его стола гвозди были как раз Семёновы. Лишь интервенция бабушки и мамы спасла его тогда от тяжелых последствий. Влетело и дяде Ване. С тех пор привозит он только пятирублевки, всегда щиплет его за щеку и говорит:
— Думаю, за золотой этот хватит тебе, внучек, опохмелиться.
И приводит этим бабушку в ужас:
— Ну, как можешь ты такие слова дитю говорить.
— А што у вас — казак растет али красна девица? К водке, к ней сыздетства привыкать надо.
Получив и на этот раз пять рублей и отдав их маме, чтобы бросила она деньги в копилку, садится Семён за общий стол. Приезду дяди Вани все рады, любезно встречают церемонно, боком, кланяющегося Савелия Степановича, разговор закипает сразу же, и мама никак не успевает разливать чай, предварительно аккуратно споласкивая каждый стакан или чашку в стоящей рядом полоскательнице. Закуски исчезают быстро, так же быстро понижается уровень напитков в бутылках и графинах. Дедушка сегодня в ударе:
— За здоровье изучающих премудрости наук и за тех, кто науки и преподает!
Дедушка пьет с удовольствием, Савелий Степанович крайне польщен.
— За странствующих и путешествующих! — отец пьет здоровье дяди Вани.
Потянулся было дедушка снова к рюмке, да облила его сибирским, холодным взглядом бабушка:
— А ты, поди, за недугующих и страждуюших теперь? Море вы под прибаутки выпить можете.
— А ты, Наталья, страшные слова не говори, так, Боже упаси, и пролить можно. Ведь я за бабушки нашей здоровье выпить хотел!
— Ох и хитрющая ты лиса, — бабушка улыбается и не замечает, что и ей пододвинул дедушка полную рюмку.
— З-здор-ровье д-дам! — кричит вдруг по-петушиному, сорвавшимся голосом Савелий Степанович!
Бабушка чокается с ним и выпивает глоточек:
— Ишь ты, тоже с казаками норовишь?
С недоверием относится она ко всем, кто носит штатский костюм. Все, кто царю служит, все они мундиры носят, или иначе как, по форме, одеты. Сам царь им мундиры давал, и всех их знает, всё это люди порядочные. А эти вот, в пиджачках, штрюцкие эти, либо купцы-аршинники, либо бунтари, либо, Господи прости, мошенники или обманаты. Недаром им и званий настоящих не дано. Есть, верно, инженеры, ну они не так царем отмечены, есть и адвокаты, но то брехунцы, за деньги кого хочешь оправдают, последняго жулика оборонять берутся. Должно — и сами жулики. О Савелии Степановиче думает она несколько лучше, знает, что отец его природный казак, а мать хозяйка хорошая… Да вот сын-то, говорят, вроде как с социалистами снюхивается. По-настоящему, и брать-то его не следовало, да нужда, ну где тут, в степи, кого другого сыщешь? Общий разговор переходит на библиотеку, Савелий Степанович от нее в восторге:
— У-ддивительную б-библиотеку вы приобрели. Б-бездна знаний в ней. Я хотел вас попросить, Герцена… «Искру», хоть з-знаете, они з-запрещены…
Бабушка вспыхивает, как зажженная спичка:
— Это што ишо вы там понакупили. Што вы мне из внука мово царю врага сделать хотите? Вот свелю я Миките да Матвею, враз они все книжки энти в Рассыпную Балку повыкидают.
Но тон дедушки всё же не оставляет сомнений, что хозяин в курене — он:
— Стой-стой, погоди, не лотоши, Наталья. Всё я сам догляжу. А царю твому я служил, а не ты. А вы, Савелий Степанович, не беспокойтесь, что надо отберем, как полагается.
Отец поворачивается к учителю:
— Так-так. Герцена вам почитать приспичило.
— К-как же, ведь м-мировой это ум. Идеи его, его проповедь, всё, что он пишет, будут, безусловно, р-рано или поздно в России осущ…
Волосы на голове дяди Вани поднимаются дыбом:
— Это как же осуществлено будет, по примеру клиновских мужиков, что-ли?
— А ч-что же вы думаете — только поркой, а не реформами жить? Надоест мужику бесправие и голод, и вот, по п-примеру из Достоевского, «идут мужики, несут топоры»…
— Топоры несут? Вы что же, новую пугачевщину хотите?
— Н-ну, п-причем же тут п-пугачевщина…
Бабушка решительно перебивает учителя:
— Вот что я тебе скажу, хоть супруг мой бабьим умом моим и не доволен, ты в моем курене никаких твоих идеев не распространяй. Подрядили мы тебя внука нашего уму учить, а не разбойника из него делать. Понял ай нет? В порядочном дому находисси, а коль этого не понимаешь, то и делать тибе у нас нечего.
Учитель смотрит потерянно на деда, не зная, что же ему делать — сидеть и дальше или встать и уйти. И дедушка всё решает по-своему:
— Стой, стой, Наталья, не серчай. В нашем курене каждый думки свои сказать может. К этому мы, казаки, спокон веков привыкшие — вольными говорили, вольных слухали. А потому — понадеемся, что пронесет Господь беду, боюсь я — неминучую.
Мама вторит дедушке совершенно спокойно:
— Думаю, что заинтересуют вас и те книги, которые сын мой как особый подарок получил, Геродот, «География Российская» Попова…
— Да-да, слыхал, слыхал, читать не привелось…
Дядя Ваня нацеливается вилкой в тарелку с маринованными грибками, говорит, будто сам с собой:
— Ишь-ты, читать ему не привелось. Выходит, предки его для него без внимания…
Бабушка сердиться перестала, и торопится примирить спорящих.
— Лучше бы што вот внуку про старое да былое рассказал.
Дедушка будто ждал этого:
— Ишь ты, про старое. А вот ты мне сама лучше ответь — с каких пор казаки на свете живут?
— Как с каких пор? Да спокон веку.
— А доказать ты можешь?
— А чего-ж тут доказывать — как зачал Дон течь, так и живут на нем казаки.
— Ха, а по-настоящему доказать не можешь. А хочешь я тебе по Святому Писанию докажу? Вот ответь ты мне, кто при гробе Господнем на страже стоял, когда Его с креста в пещеру положили? Какая стража и кто ей командывал?
Мама улыбается:
— Сотник.
— Сотник? А теперь скажите вы мне, обе Наталии — в какой армии на всем свете чин сотника имеется, окромя казачьей? Только у казаков! Вот и выходит, что служили тогда казаки римским цезарям-августам не хуже, как вот теперь царю служат. Вот и поставили их, как самых надежных, к гробу Господню в охранение. Взвод целый.
Все за столом заливаются смехом, бабушка смотрит растерянно:
— Ты што, Алексей, всурьез?
— Ну, конешно! И коли уж ты первой заговорила, ответь мне на еще один вопрос — в какой иной армии всего света белого охраняемый из-под стражи незаметно уйти может?
— Да что ты такое городишь. Бога побойся, — бабушка крестится на иконы, — опять перебрал?
— И вовсе не перебрал. А ты опять ответить не можешь. Вот и скажу я тебе — только у нас, у казаков, такое случиться могло. А почему, да потому, что не иначе как целый тот взвод из римских тех виноградников вина перепился. И поснули они с сотником ихним. А Христос-то воскрес, увидал, што станишники спят, да и был таков. Вот оно тебе и еще одно доказательство, что никто иной гроба Господня охранять не мог, кроме казаков. А это значит, что еще тогда деды наши храбро воевали.
Тон бабушки полон отчаяния и укора:
— И как тебе не грех, старый ты человек, такие слова про Бога нашего говорить!
— Во, видали ее, да хоть одно слово сказал я про Бога. Всего-то и сказано было, что спокон веков любители были казаки винца выпить.
Опустив глаза, тихо разглаживает бабушка кромку скатерти.
— Да иной раз ум и пропивали. Вот и наказал Бог казаков, так, что не осталось у них и звания от того, чем они в старое время владели. Скоро и славу свою пропьете!
Савелий Степанович встает и откланивается. Мотька спешит в прихожую, приглядеть, как ей бабушка приказывала. Штатский. От таких всего дождешься.
Недолго гостил дядя Ваня, на другой день, ранним-рано, выехал в Камышин. К лесу на постройку прицениться хочет.
В этот день, вечером, попросила бабушка Семёна подержать ей шерсть. С удовольствием сидел он на табуретке, держа в широко раздвинутых руках серый моток. Бабушка в глубоком кресле и мотала один клубок за другим.
— Ить вот бяда-то какая! Осень заходит, чулки вязать надо, у всех во-взят поизносились, не наштопаешься на такую ораву. Ох, Господи Иисусе Христе, вот — уехал Ваня, дядя твой, и все думки мои в те времена перекинулись, когда он малым мальчонкой был. А и я тогда вовсе молодая была. Жил он у мачехи своей, в старом курене на хуторе. Не дюже любила она его, нет, прости ей Бог, не имела она к не свому дитю ласки. Вот как-то, а было ему этак годов семь-восемь, попросился он ночью до ветру сходить. А мачеха его с кровати встать не схотела. Иди, говорит, чай, и сам дорогу хорошо знаешь. Страшно ему было через весь курень, а большой он был, по коридору в темноте в самый дальний угол идти, туда, где у них зимний нужник пристроен был. Пошел это он, в одной рубашонке, справил дело свое, повернулся назад, доходит до самой двери, што в столовую вела, глядь — ан стоить в ней высокая женщина, вся в белом закутана, вон вроде, как у старинных греческих статуев туники были. Стоит она в дверях и дорогу ему заступила. Глянул он на нее и обмер — высокая она, почитай, до потолка, в темноте никак лица ее не разглядеть. И не успел он дыхнуть, слова молвить не поспел, нагнулась она и ему, будто иголкой аль шилом, в левую ступню сверху уколола. И так это заболело, такой страх на него напал, что закричал он не своим голосом и на пол упал. Выскочила мачеха к нему, подняла, на кровать поклала — кричит дитё, плачет и на ногу показывает. Глянула мачеха, а там будто от иголки, аль от булавки, пятнушко краснеет. Всю ночь дитё от крику не унималось…
Бабушка умолкает. В комнате полутемно. Горит возле бабушкиной кровати ночник, перемежаясь, бегут блики лампадного мигающаго света по ликам святых, блестят мгновенными горящими мазками на золоченых киотах. Возле лампадки и ночника ясно можно разглядеть иконы, а направо и влево, по углам комнаты, тонут они в полутьме и лишь тускло отсвечивают серебряные оправы складней.
Тут же, нанизанные на суровые нитки, висят от самого потолка почти до пола пучки каких-то сухих целебных трав. На подоконнике и на полу под окном выстроились бутылки и бутылочки, полные каких-то настоек. Никаких наклеек на них нет — одним взглядом сразу же узнаёт бабушка нужное ей лекарство. И каждое из них принимать следует по-разному. Есть такие, которые пьют лишь на заре, на берегу речки, на восходе солнца, предварительно три раза прочитав «Отче наш…», и лишь потом, выпив одним духом стакан, ни вправо, ни влево не глядя, и, упаси Бог — не оглядываясь назад, идти домой. Так несколько зорь. И тогда — как рукою, болезнь сымает. Есть и такие, когда «Отче наш…» следует читать от конца к началу. И такие есть, которые пьют, предварительно сказав специальное «слово», которое доверяется лишь больному и которое открыть он не смеет, иначе болезнь воротится.
В комнате тепло. Пахнет так, как пахнет на лугу со скошеным сеном. Тихо и уютно. Лишь вздрогнет вдруг огонек лампадки да моргнет лампа ночника. Быстро мелькают бабушкины руки, слегка наклонив грустно голову, продолжает она:
— Ох и намучилась тогда мачеха с дядей Ваней твоим. Покликала она утром одну бабку-шептуху, что не хуже вот меня травами лечила. Дала та ему чего-то выпить, листы какие-то зачала к ноге прикладывать, пошептала над ним с молитвой. По-перьвах вроде полегчало, ай прошло тому немного — обратно кричит дитё, ни днем ни ночью не спит, есть не ест, так извелся, што думали все — помрет он обязательно. И возгорелось у мачехи сердце к дитю невинному. Поехали они в Царицын. Хоть и была она, чего грех крыть, страсть как скупа, даром, что богатая. А тут иначе повернула, всех докторов в Царицыне обошла, золотыми червонцами, десятирублевками им платила. Качали они головами, слухали, что она им говорила, не дюже верили, давали капли и припарки, ну, по-настоящему помочь не могли, наука, говорили, против привидений никаких еще средствиев не нашла. И вовсе во-взят извелся дядя Ваня твой. Один шкилет от него остался. Только одного разу услыхала мачеха на базаре, людям она там торговым слезно на судьбу жалилась, што в Дубовке, на Волге, праведной жизни старец один есть, что в воду он глядит, всё, как есть, про каждого человека сказать может, и все, как есть, лихие болести молитвою исцеляет. Но никого, кто не по старой вере, к себе не допускает. А мы в Писареве, сам ты знаешь, сроду двухперстным крестом крестились. Вот и поехала к тому человеку мачеха. А деньгами за лечение никогда он не брал. Положили в задок тарантаса пятеричок крупчатки да пшена мешок, да масла постного бутыль постановили, сеном ее, штоб не разбилась, укутали, да пару сапог новых, козловых, да пару валенок хороших, да шапку меховую лисью, да сала, да птицы разной, живой и битой. Забрала мачеха все это добро, уложила Ваню в тарантас и повезла его в Дубовку. А дите, знай одно — кричит. Приехали в Дубовку, добрых верст с полтораста, поди, отмахали. В дороге в стипе ночевать им пришлось.
Расспросили в Дубовке добрых людей, как им к старцу тому проехать, разыскали у самой Волги, на круче, куренек его, постучали с молитвой.
— Во имя Отца и Сына! — громко так, как промеж староверов ведется.
А из куренька им:
— И Святаго Духа! — и дверь им отворилась. Обробела она трошки, а старец ей:
— Входи. Давно тебя дожидаюсь, раба Божия Степанида, што так зря время теряла?
А должна я тебе, внучек, сказать, сроду дяди Ванина мачеха старца того не знала и на веку своем не видывала. А он уже и имя ее знает. Открыто оно ему свыше было. Вошла в хату мачеха, дите на руках несет. Велел он ей Ваню на половичок покласть, а самой на стул сесть. Обсказала она ему всё, как и што случилось. А старец ей в ответ: «Знаю, знаю, от Бога это ему испытание, возрадуемся тому паче и паче. А сиею мерой страдания отведена от него мера великая». Вот какие слова старец сказал.
И вынимает он из-под стола чугунок, новый, чистый, велел ей тут же, недалеко, в балку сбегать, воды в него родниковой набрать, а сам свечи зажег, возле чугунка с двух сторон постановил. И зачал, молитву шепча, в чугунок тот, в воду энту, глядеть. Шаптал-шаптал, глядел-глядел, окстилси трижды, поклон положил и говорит:
— Слава Тебе Господи, што услыхал Ты стоны младенца невинного, и малый предел страданиям его определил, а мне, грешному, путь спасения его показал.
Обмыл он водой из того чугунка ногу Ванину, и только обмыл, а Ваня стонать перестал. Дал ему потом старец из чугунка того трошки водицы испить, испил он и улыбаться зачал. И дал он мачехе настойки одной и объяснил, как пить ее следует. И сказал:
— Яжжай домой, боле не беспокойси, не будить болеть нога у Вани твово, но останется он на всю жизню хромой. Так ему, — говорить, — на роду написано. А табе за то, што об дите старалась, за те заботы твои, многие прегрешенья твои Бог отпустил.
Благословил и с теми словами отпустил. Только всё скоромное, что она ему привезла, велел в Дубовке, в церкве на паперти, нищим да убогим раздать. Возрастила мачеха Ивана в любви, дала ему кое-какое, по-нашему, по-хуторскому, образование. Не был он в станице последним, много читал, мальчонкой был не глупым, делами разными занялся, в торговые казаки вышел, коней водил, овцами промышлял, в Москву скот гонял, пшеничкой приторговывал, да и стал самым богатым в округе, несмотря што хромой. А ты, внучек, вроде похож на него обличьем твоим. Ну точь-в-точь таким он был, когда привидение в ногу ему ширнуло. Вот и возит он каждый раз тебе по пяти рублей золотом, наклонность к тебе имеет. А деньги это не малые, за пятнадцать рублей у нас корову хорошую купить можно. Только уметь уторговать надо. А то и шестнадцать отдашь. А сестра его, Марья, помнишь, поди, приезжала она одного разу к нам шерсть торговать, штой-то нехватки у ней были. В прошлом аль в позапрошлом году. Сухонькая, маленькая, из сибе невидная. Два куреня у нее, в одном сама живет, в другом родительское добро блюдет и то, што от мужа от ее покойного осталось. Только раз в году окна в парадном курене отворяет, проветривает, пыль стирает, чистоту наводит, а потом — обратно на замок. А сама сухарями да родниковой водой питается. Одного разу, третьяго года это случилось, спит это она ночью в старом своем курене, а от дяди Вани жила она тогда отдельно, спит это она и показалось ей будто в другом, в парадном, курене двери заскрипели. А дело летнее, окна открытые были. Взяла она топор в руки и пошла через весь двор одна, ночью-то. Глядь — а дверь и справди чудок открытая стоит и замок сломанный на земле валяется. Стукнула она топором об порог, да как зашумить:
— А ну, выходи-кась, вор-мошенник!
А он как раз за дверью стоял. Да ее промеж двери и притолокой ломом в лоб ка-ак ширьнеть! А сам равновесию потерял, и на приступку на коленки упал. А тетка твоя Марья, хучь от того ломового удару сама падала, рази тем топором своим не замахнись. Да разбойника энтого обухом в висок!
Когда, уже на заре, сбеглись люди, глядять: ляжать они оба в луже крови, тетка ишо дышить, а разбойник тот Богу душу отдал. Отходили тетку знахари наши, и боятся с тех пор ее все в станице, как огня. Сурьезная женщина. А как посля всего уж от станового пристава узнали, што из Саратовской губернии в помощь атаману по тому делу на следствию приезжал, убила тетка твоя сбежавшаго из Сибири душегуба и разбойника, за которым вся полиция по всяей Рассее розыски вела, ну поймать его никак не могла. У ней и доси топор тот у притолоки стоить. От начальства ей даже вроде какая-то похвальная грамота вышла. А скупая, скупая, не приведи Бог. Деньги свои все, как есть, дома, в чулке держить, в сундуке. Серебро и золото. Бумажек не признаеть, говорить, будто мыши у ей три тыщи рублей за зиму погрызли. Вот она в казначейство, в Царицын, и ездить кажные два-три месяца. Бумажки на золото менять. И все, как есть, знают это, а к куреню ее никто не подходит, на што уж край наш, Господи прости и сохрани, прохожими разбойниками да беглыми из Сибири славится. Ты вон, поди, и доси не знаешь — почему мы возле колодца, на то колесо, на которое бабы для просушки чугунки и черепушки кладут, почему мы, окромя того, по-ночам сало, молоко и хлеб там оставляем. А утром тебе ни хлеба, ни сала нету. А посуда от молока вымыта и по-хозяйски на колесе для просушки вверх дном опрокинута. Всё это каторжники сибирские поедают. Сбежавши из-под каких-то там Нерчинска или с Байкала-озера. Тут они у нас проходят, тракт ихний по нашей речке, по Ольховке, лежит. Речек они держатся, где лес есть, укрываться им тут способней. Дале они по Иловле к Дону спущаются, да Доном на Ростов аль аж на Одессу поворачивают, а то и на Кавказ подаются. Одного разу дед твой косить их заставил. Поклал на то колесо хлеба, сала, кислого молока поболе, да и грабли и косы постановил. А всё у нас скошено было, только в Середнем Колке ливады оставались. Вот прошел денек, ночь прошла, утро наступило, идет дед в Середний Колок, в ливады, а трава вся, как есть, скошена. Сорвал он лопушок, поклал посередь лужка, камушком придавил и на тот лопушек денег положил, сколько надо. И пошел оттуда, не оглядываясь. А на другой день — стоят косы и грабли возле колодца, а косы, как новые, отточены. И знаем мы, што промеж разбойниками этими, несчастным людом тем, слава о нас хорошая идет, поэтому и спим спокойно, ни грабежа, ни разбоя, ни пожару от них не боимся. Ведь они, беглые, тоже у Бога люди. И не наше это дело их судить. Бог с них спросит, а не мы. Нет того, внучек мой, страшнее, как человека судить и кару ему отмеривать. И решать, будто сам ты и человек, и судья праведный. Никого на свете нет, кто праведен, все мы перед Богом грешны, учиться будешь, всем чем хочешь, иди, только в судьи никогда не подавайся. С них на том свете больше всех спросится. Как и со всех тех, кто здесь, на земле, свои собственные, ими выдуманные, законы устанавливает, а не Богом определенные. А сами они, спроси их — кто? Да такие ж, как мы с тобой, а може, еще и в сто разов хуже. И ишо постарайся, когда царю служить будешь, всех тех дел минать, где людей убивают… ох, подходит оно, время страшное, когда брат на брата восстанет, а сын на отца, и останется тогда от казаков, что славой своей военной сроду такие гордые, останется от нас, как от шубы рукав, того меньше — как от рукава нитка. Заходит время, подойдет тот час, когда над землей птицы железные летать зачнут. И станут они людей клевать до смерти. Вон казаки наши все геройством выхваляются, сам, поди, слыхал ты про Разина Степана, Стенькой его русские прозвали. Тоже всё воевал да геройствовал. И хоть крепкая нужда заставила его за бедный народ воевать и за право народное супротив самого царя идти, а не указал ему Господь кончины праведной за то, что не только кровь злых проливал, но и кровь безвинных. Казнил его московский палач на Красной площади в Москве, нашей казачьей кровью живущей. Видал он, Степан Тимофеевич, беду нашу, ну, захотелось ему узнать и то, как русский народ живет. И пошел он с Дону через всю Россию, будто странник одевшись, всю ее, до самых Соловков, прошел, а обратно другой дорогой повернул. Всё к жизни рабов московских приглядывался да прислухивался, што народ простой говорит. И порешил он после того за простой народ стать, за правду, за казачью и русскую-мужичью. И всем людям хорошо сделать. А што у нас-то тогда на Донах-то было? Старшина наша к Москве тянула, с боярами снюхалась. Вот и поднял Степан Тимофеевич казаков и повел их по-перьвам на Персию. Семью свою бросил. Кого только не бил, кого не подолел. И согрешил страшно — от живой жены, в другой раз, на персиянке, на ясырке, женился. Без попа, так, даже без бойцов своих совету и свидетельства, как у нас в старое время на Дону делали, когда попа под рукой не было. Ох, за ним, вроде как за правду, и мужики взбунтовались. А што же они делали — да резали всех, и бояр, и воевод, и жён, и детишков ихних. И палили всё, што попало. И хохлы многие в помощь Степану пошли. Ну от энтих всё, што хотишь, только не жди, штоб они воевать умели. Вот Степановы казаки бились-бились, гоняли-гоняли рати царские, ну силов ихних не хватило, полегли они трупом скрозь по России. Одна звания от них осталась, подолели их ратники царские да рейтары, сбег Разин домой и, забыв главную нашу обыклость, честь свою замарав, выдала его старшина казачья в Москву на казнь, в руки царя лютого. А ведь первая на Дону заповедь, с тех пор как стоит он — с Дону выдачи нет. Преступили мы тогда свой закон и грех тот доси на всех лежит. И кровью его искупать будем. Помни, внучек, одно — счастье людское никогда на крови не строится. За всякую кровь кровью и платить приходится. Ишо в Библии это сказано — будто велел Бог евреям зуб за зуб требовать. Вот и бьют с тех пор люди один одному зубы, пока до того добьются, што ни у кого зубов не останется. Живи, Сёмушка, без ружейного бою, тогда и тебя пуля минет. В Боге живи.
Бабушка зевает и крестит рот — чтобы, упаси Бог, чёрт тем не воспользовался и в нутро человеческое не проскочил.
О-о-ох, прости, Господи, и помилуй. Так вот и ходят теперь казаки, царю служа, Русь по всему свету от врагов ее оборонять. Сам ты, поди, помнишь майора нашего, что в третьем году помер. Майорша Марья Ивановна, вдова его, знаешь ты ее, сроду она тебя, когда ты к ней ходил, мочеными яблоками угощала. Ох, и хороша же она девкой была. Кто только на нее не заглядывался. Полюбила она тогда молодого подхорунжего Пантелея Рубцова, родственниками они нам по матери приходятся, полюбила, повенчались они, ушел он служить с шашечкой и ружьецом, служил-служил, майорский чин ему вышел, были тогда еще у казаков чины такие, позднее упразднил их царь, велел казакам только казачьи звания давать. И это нам, будто царская милость была, разрешили нам такие звания иметь, какие мы и сами сроду без них имели. И попал майор наш в войну с турками. В Болгарию его загнали. Там и получил он в бою лютом в ногу рану. Пока с поля бою привезли его, пока в лазарет попал, начался в ноге его антонов огонь. Болезнь это такая, крови отравление, лечить ее никаких силов не было, нужно было майору ногу резать. А в госпитале том никаких на то средствиев не было. Принес доктор бутылку рому, водка такая особая, заграничная, велел в обозе пилу получше наточить, ту пилу, которой дрова солдаты резали для кухни ихней, наточили ее, принесли доктору, а он майора ромом поит. И влил в него всю, как есть, бутылку. До того напоил, что он вперед песни играть хотел, а потом уж и языком повернуть не мог. Вот призвал доктор двух санитаров, да одного казака, што выздоровел, да фельдшера одного: «Держите, говорит, майора покрепче». Окстился сам на икону, несмотря што немец он какой-то был, шашку майорскую взял, той же водкой ее протер покрепше, да той шашкой под окопенкой майорской как черканёть. Надрез и сделал. Взвыл майор, хмель с него враз слетел. А доктор яму: «Тершись, касак, коли ошень шить охота есть». Да как схватил ту пилу, да по надрезу тому и зачал кость пилить. Санитары энти, да казак, да фершал, навалились, держуть, ишо кого-то кликнули и энтот ухватилси… Господи, Господи, страсти Твои, што тут дальше рассказывать — вернулся майор домой без ноги по колено, живым вернулся. А майорша его, Марья Ивановна, у окна сидючи, долгие годы его поджидала, только об нем и думала. Вот привезли его люди добрые. Глянуть на него — в мундире, с орденами, сам из сибе — герой-героем, ан полуумным он домой пришел. Так ничего, тихий был. Всё сидел да молчака трубку турецкую курил.
А была у него и гармошка. Играть на ней, нет, не играл он, а так, рыпел, прости Господи. И вот, бывало, рыпить-рыпить, да и зачнеть под этот под рып всю свою жизнь рассказывать, будто Богу жалится. А как доходил он до госпиталя в Рущуке, наливались у него глаза кровью, начинал он вдруг не своим голосом выкрикивать: «И-иэх! Пили, пили, пилка, р-раз так твою!..
— Ох, Господи Иисусе Христе, прости меня, грешную, — бабушка поспешно три раза крестится, — такие слова он тут говорил, что девки и бабы с хутора от страмы убегали. А и знали все мы: всё одно, когда он кончит быль свою, казачью свою судьбу рассказывать, когда, полоумный, все-то деньки страданий своих переберет, и на них Богу пожалится, то упадет он на пол, пролежит какое малое время, вроде без сознания, да так потом на полу и уснет…
Возили его по разным городам, всё вылечить старались, да ничего не получилось, возвернули его домой таким, каким он и был. Я тебе, внучек, еще раз говорю — проходит она, слава военная, прахом, а сколько страданий, сколько бед людям приносит, никто это в мире не сосчитал, ни в каких это книжках не написано, и знают о том горе людском, войнами причиненном, только бабы полностью. Вот и говорю я тебе — жесточь в людях сидит неуемная, все воюют, бьются — дерутся, один одного убивают и калечат, вдов-сирот на земле множат. А што получается — море горя человеческого, о котором никто после войны и слова не молвит, будто так это и нужно, все только одно знают — подвигами выхваляются. Только мы, казачки, знаем об этом горе доподлинно. Как гляну я на погоники, на ордена и на мундиры, так сердце мое болью и заходится.
Быстро домотав клубок, кладет его бабушка в корзинку, пробегает глазами по иконам, вздыхает и подает внуку новый моток.
— Вон, возьми хочь отца твоего к примеру. Как вспомню, когда родился он, сколько ж радости у нас было. Сразу же попа из Ольховки позвали. Крестить, сам знаешь, у нас не медлючи полагается, чтоб в случае, ежели помрет младенец не крещеным, не попало бы в ад дитё невинное. И рос он у нас с дедушкой твоим на радость нашу, и не хуже, как овот и ты — шустрый был. Да нет, куда шустрее, ты больше в счет книжков, а он, куды там, только на коня, да скакать. Пришло ему время, пошел он служить, до сотника дослужился, в японскую войну попал. Там его пуля на какой-то на Ялу-речке в коленку черканула. Залечили ему раны, а между тем до подъесаула он дослужился, и послали его в пятом году на энти, на усмирения. То студентов, то рабочих, то мужиков в царское послушание приводить. А на тех усмирениях кинул какой-то рабочий в него камнем и попал ему прямо в только што залеченную рану. И повредил. И прикинулась болячка, в еще горшую беду обратилась. Вот и вылеживается он по шести месяцев в году, господин есаул, нарывы у него какие-то открываются, сколько он за месяцы за эти намучается — сам знаешь. Ночи напролет не спит и нас всех до слёз доводит, и мы не спим. А как молодым был — что на скачках скакать, что на рубке, что на стрельбе, что на ихней, на парфорсной, на охоте, сроду первые призы брал.
Ан настигло наказание Божье, и теперь полгода человек он человеком, а полгода — мученик. И вовсе иным он стал — к животным душу поимел. Вон кота, Родика, што его собаки чуть не загрызли, в курень принес, выходил, да еще что сотворил — научил собак с тем Родиком из одной посудины вместе молоко хлебать. Вон и кочета Кикиреича от хоря спас. Несмотря что одного крыла у него, почитай, вовсе нет, кукарекает он по утрам громче всех и, как увидит отца твоего утром, так и шкандыбает к нему через весь двор, а отец, сам знаешь, берет его на руку и одно:
— Кикиреич, спой!
Глянет он на отца твоего одним глазом, как той пуговкой, глянет, да как заорет: «Ку-ка-ре-ку-у-у». И оба радуются! И Родику и Кикиреичу он же, отец твой, господин есаул, эти любезные имена попридумал. Вот подрастешь, придет время, и ты будешь любезные имена кой-кому придумывать…
Бабушка вдруг как-то воровски взглядывает на Семёна, и, будто смутившись, внимательно смотрит на клубок.
А что всего чудней — подружку себе верную завел, пошел как-то рыбалить, да какой-то лягушке, што поблизости на лопухе сидела, глисту кинул. А она — бултых в воду. Когда опять выплывает, обратно на лопух лезет. А отец ей опять червячка — не охотка ли закусить? Во второй раз проглотила она червяка. И такая у них с тех пор дружба пошла, что, как только приходил он на то место рыбалить, так она к нему через весь пруд сигала и на тот лопушок садилась, возле лилии белой место у нее было. Три года это у них велось. Под конец позволяла она ему по голове гладить, этак осторожно, только одним пальцем. Только что, глаза в середку втягивала, жмурилась вроде. А сама сидит и никакого больше страху у нее нет. Он про нее целыми зимами поминал, всё ждал, когда ее опять после половодья увидит. А вот в прошлом году пошел, ан подружки его — нету! Сом, поди, проглонул. Уж как он по ней убивался. Раза четыре на то место рыбалить ходил, а как удостоверился, что пропала она, — другие места стал выбирать, тяжело ему о покойнице-подружке вспоминать. Видишь ты — всякая животная к человеку доверие имеет, коли человек тот с ней по-хорошему. А што мы, люди, делаем? Понацепим на сибе висюльки всякие, да один перед одним, как индюки, и выхваляемся — глянь, я лучше тибе! И поэтому и доходит промежь нас до драк. Да еще каких драк. До таких, что кровь человеческая реки до берегов наливает. Дон-то наш, отец наш родный, сколько разов своей кровью казачьей омывал. А трупу казачьего сколько по нем проплыло! А за что, чего людям не хватает? Ох, прости ты нас, Господи, неразумных, прости и помилуй. И ишо раз говорю я тебе — страшное время заходит, знаки на небе и на земле, и на море людям даны будут, чтоб покаялись. Может статься, ежели покаются, отведет от них Господь карающую десницу свою. Вот и молюсь я, бесперечь по ночам, когда уляжетесь вы все спать, плачу, прошу Бога помиловать всех нас, грешных. Да разве достойна я, штоб молитвы мои к престолу Его дошли? Ага, ну слава Богу, — кончилась, кажись, шерсть наша. Глянь-ка, сколько мы с тобой клубков намотали. Засажу я теперь девок и баб, нехай вечерами чулки вяжуть, зима заходит, об ей думать надо. Ну, ступай, уморился, поди, меня слушая, спаси те Христос, что помог мне, старой. Бог тебе за послушание старших зачтет это, грехи твои отпустит. Всё Он видит, каждую былинку, что под ветром гнется, заметит, и об ей думает. Ну иди, иди, наши, поди, уж и столы, штоб вечерять, накрыли…
Сегодня в столовой шумно и весело. Дядя Андрюша с женой Миной Егоровной пришел. Сидит она, королева-королевой, и каждому улыбнется, что любят ее все в семье, как свою родную. А сыны какие у них? Гаврил в гвардии хорунжим. Аристарх тот в Атаманском полку сотником. А Алексей артиллерист! В какую-то академию идет на генерала учиться. Голова!
Где дядя Андрюша — там и весело. И он умеет истории не хуже деда-Долдона рассказывать. И животных любит не хуже отца. Две собаки у него — Полкан и Нортон, по его приказанию мертвыми прикидываться умеют. Скомандует им, и лежат они, как подохли, а глаза — закрытые. Положит им на нос по кусочку мяса, а они и ухом не ведут. И только крикнет — «Пиль!», враз они — гам! И исчезли куски в собачьих ртах. Есть у него и гусь — друг сердечный. Идет дядя рыбалить, а гусь за ним. Закинул он удочки, гусь голову под крыло и спит. Кончил дядя рыбалить, гусь за лодкой не отстает. А когда наляжет дядя на весло, так бывает, что гусь за ним влёт летит. А то, бывает, уйдет дядя, гуся потаясь, гусь у парадного крыльца ожидает, который тот всполошится, весь двор обежит, дядя вон он где, аж на бугре, и верьте — не верьте, прямо в драку лезет, дядю за шаровары клювом таскает и за свое: «Ка-га-ка-га-ка-га!». Ругается! Почему обманул, с собой не взял.
А Мина Егоровна в дядином доме такие обеды готовит, что когда приглашают они к себе родню, то поголовно все съезжаются. Всю, как есть, кухню европейскую она знает, какие-то баум-кухены готовить умеет. Это те, что на вертеле жарят, тесто льют, а оно капает, ох, и вкусно же!
Вот и явились они сегодня по случаю прибытия всех трех сыновей на побывку. Стол расставили, большой он стал, парадной белой скатертью накрыли, ужин подали богатый и многоблюдный, за едой много не говорили, только перешучивались, а когда, трапезу окончив, в гостиную перешли, то занялись там кофеем, наливкой и медами.
С нескрываемым удовольствием поглядывает дедушка на внуков. Портит ему настроение, что слишком рано отвоевался второй сын его — Сергей, что в отставке он по болезни, что дали ему пенсию нищенскую — из Войскового вспомогательного капитала Войска Донского и предельного бюджета Военного Министерства — всего в год 296 рублей 40 копеек, выходит это, инвалиду полному в месяц по двадцать четыре с полтиной и еще сорок копеек. Тоже в гоголевские капитаны копейкины произвели. Ну что же, как говорится, на войне не без урона. А урон сроду он на казаков переносился.
Дядя Воля, наездник лихой, рубака и службист, пришел с женою своей, тетей Верой, модницей и хохотушкой. И тут не всё в порядке — не дает им Бог детей. Служит он в Одессе-городе, при появлении своем привозит он младшему племяннику подарки, главным образом книжки или альбомы знаменитых рысаков.
Все расселись на мягких темно-красных креслах возле круглого стола с резными ножками. В пух и прах разодетая Мотька то и дело подносит чай, кофе, наливки с медом, шлепая по полу, несмотря на полный парад, босыми ногами. Одета она в народный украинский костюм и красива какой-то особой, как дядя Андрей говорит, скифской красотой, смугла и стройна. И сердится бабушка не на шутку, сразу же заметив как при входе Мотьки в гостиную и Аристарх, и Алексей, и Гаврил вдруг замолкают, широко открытыми глазами следя за каждым ее движением.
Лукаво щурится дедушка на свою подругу жизни:
— Слышь, Наталья, ты бы от греха отпустила Мотьку в Ольховку, пока наши господа офицеры не разъедутся. А то наживешь себе сноху из хохлачьего рода. Глянь на внуков-то, аж дух у них у всех захватывает. Долго ли до греха!
Не терпящим никаких возражений тоном отвечает бабушка:
— А ты, хучь и старый, а зряшные слова говоришь. Никчемушние. А внуки мои, а твои господа офицеры, коли позволят себе в моем курене что неподобное сотворить, нехай потом помнят, что порядок я враз наведу и без того, чтобы Мотьке отпуск давать. Сами понимать должны, как себя в родительских домах вести надо.
Наступает этакая холодная пауза. Выручает дядя Воля:
— Аристарх, что ж ты замолчал, продолжи, рассказывай.
— Что ж тут продолжать. О чем говорить? Пригляделся я довольно, да и сами вы, дядя, служите, не хуже моего знаете, как мы, казаки, четвертями полками в каваллерии российской себя чувствуем. Когда нужно — воины, когда нужно — имперские границы охраняем, недаром говорится, что граница империи Российской лежит на арчаке казачьего седла. А когда нужно — жандармов изображаем, порем плетьми «врагов внутренних» — студентов, рабочих и мужиков, даже приходилось и чрезмерный пыл Союза Русского Народа укрощать теми же плетюганами, когда погромщиков били. Чай, и сами знаете, какие номера они откалывают. Я-то видел. Пришлось на одну еврейку, с распоротым животом на мостовой лежащую, поглядеть, постоять возле, пока полиция не явилась. А в живот ей православные христиане и патриоты русские пух из рядом валявшейся перины набили.
Тогда взвод мой так тех погромщиков покалечил, что к самому губернатору меня вызвали. Тот на меня же и орать начал: «Аа-ачэ-му, с-сотник, вы кэ-азаками кэ-амандывать не мэ-ожете?
Вылупил глаза и пена у него изо рта, видно, всыпали мои гаврилычи какому-то привеллигированному патриоту-погромщику, а может быть, да и, наверное, всё старье теперь в Союзе этом состоит, и он там же. А как я казаками иначе командывать могу, когда видят они сами, что лишь за то этих разнесчастных мелких еврейских ремесленников бьют, что евреи они. И кто бьет — сволочь какая-то, с бору да сосенки собранная. Они, видите-ли, евреи, — враги царь-отечеству. Да коль это царь-отечество второразрядных подданных создало, коли боится их, с хлеба на квас перебивающихся нищих, то и цена этому царь-отечеству…
Бабушка сердится:
— Ты не дюже, не дюже, царь-то, поди, об делах энтих и знать не знает!
Весь сжимается Аристарх, будто прыгнуть хочет:
— Не знает? А вон царь Петро, тот всё знал. Постоянно дубинку свою таскал, как что не так, умел он ей виновного так долбануть, что и дух из него вон. А теперь что — нашлись, видите-ли, какие-то особые патриоты, и вся их забота евреев бить да из перин ихних перья на улицу выпускать. Ох, не тех бить нам надо.
Совсем серьезно взглядывает отец на бабушку:
— Верно он говорит, мама. Вот хоть Наталью мою спроси. Когда мы в Вильно стояли, кто у нас поставщиками был — да эти вот мелкие еврейские торговцы. И не было, скажу я вам, честней и верней их никого. С русским свяжись — тухлятинку подсунет, с поляком — облапошит и сто раз паном назовет, а придет, бывало, Мойша наш, котелок свой в руках крутит, еще во дворе снял он его: «Ну и, ваше благородие, не нужно ли вам чего или супруге?». И смотрит на тебя голодными глазами, а в них я и Ривку, чахоточную жену его, вижу, и всех его оборванных шестерых ребятишек. Нет им жизни в царь-отечестве, что и говорить.
А вот насчет казаков и я кое-что к Аристарховым словам прибавлю. Послали меня в пятом году на усмирение. Стояли мы в имении Галаховой, а у нее свой маленький конный заводик был. И велено мне было то имение от царских верноподданных охранять. Чтобы не сожгли они его и не разграбили. Казаки мои ни черта не делали, только целыми днями стояли, на жеребят молодых глазели. А их штук двенадцать, и все один одного лучше. Казаки в конях, сами знаете, толк понимают. Стоят они, вижу, никакие не воины и жандармы, а пахари-хлеборобы, с дедов-прадедов в коней влюбленные, с ними всю жизнь свою прожившие. Любуются на тварь Божью. А мужичков пороть не дюже-то они охочие были. По вечерам, вне службы, прямо меня спрашивали: «А за что же мы их пороть должны, коли жизню ихнюю наскрозь мы увидали? Тут, коли плетью помогать, може, кого повыше зацапить?». Прикрикивал я на них: таких, мол, разговорчиков не потерплю. А сам тоже мозгами раскидываю, мужичьи курные избы вспоминая. И казаки меня понимали, знали они, что одной я думки с ними, да вот офицер, должен сам службу сполнять и с них требовать. Одно слово — присяга! Никуда не денешься.
Вот в один прекрасный день скачет к нам какой-то чудак:
— Караул! Беда! Соседнее имение мужики грабят! Поднял я сотню по тревоге, в намет взяли, проскакали верст с пятнадцать, пока домчали, а там — чисто. Ни имения, ни мужиков, только дым от пожарища стелется да головешки догорают. Отдохнули мы от скачки, полиция пришла, нас сменила, и потрюхали мы помаленьку назад, к Галаховой. Не прошли и пяток верст, другой чудак скачет:
— Скореее! Грабят и жгут!
Прибавили мы на конях мореных. Прискакали туда — всё, как есть, разбито, сараи пожгли, в доме окна-двери повыбивали, мебель, что поломали, что утащили, перины-подушки уволокли. Вид дома такой, будто пьяные вандалы в нем хозяйничали. Подскакивает ко мне вахмистр:
— Ваше благородие, пойди-кась, глянь!
Вышел я к огородке, где жеребята были, верьте — не верьте, по нынешний день не забуду — валяются они на траве, мужики им на ногах жилы поперерезывали. И бросили невинную тварь Божью на земле кровью исходить. Пробует такой жеребенок встать, трясется весь, и снова бессильный падает. Выхватил я пистолет, пострелял их всех, чтоб не мучились, всё одно спасения им не было, обернулся, а сотни моей и след простыл. Сама наметом вслед мужикам ушла. А те, с добром потребленным, назад на подводах в свою деревню с песнями ехали. Тут их, на лужку, и накрыли мои гаврилычи. Кашу из них сделали. Подводы ихние все, как есть, поломали, в кучу свалили и подожгли. А награбленное добро заставили назад в имение на собственных горбах нести. Как только ставил принесенное добро мужик, так тут же клали его казаки мои на мать — сыру землю, и давали каждому по двадцать шомполов на память. Хотел я их утихомирить, а вахмистр мне и говорит:
— Не подходи, ваше благородие, не мешайси. Это они за жеребят метятся.
Закурил я, отошел в сторону. Поднялся тут один из поротых, глядит на казаков зверски и орет:
— Н-ну, нагаешники, мы вам того не забудем!
И как это случилось, сказать теперь не могу — молодой он вовсе был, с хутора Киреева казачок, отец его сам неплохих коней выращивал. Подскочил он к тому мужику:
— Не забудешь? Ну так помни и ты!
Только того и крикнул. И так его плетюганом по лысине огрел, что свалился тот мужик на землю, и — Богу душу отдал. Вызвали меня потом по начальству, куда только не тягали. И я к губернатору попадал. А у него адвокат какой-то, несчастную вдовицу представляет. Позднее в печати казачьи зверства описывал, но о грабеже и жеребятах ни слова не написал. Мне же иной губернатор, чем Аристарху, попался. Рассказал я ему всё, как было, а он мне в присутствии того адвоката:
— Э-э-хм. А жаль, знаете ли, что вот этот достойный представитель российской юриспруденции, так сказать розовый служитель Фемиды, вашим казачкам в руки не попался.
А потом и сами казаки говорили мне:
— Никаких силов у нас не было, штоб удержаться. Да как же могли они так со скотиной-то обойтись. Ну взяли добро, чёрт с ним — дело наживное. У Галаховой ее миллионов хватить. А штоб над тварью бессловесной так измываться, нет, тут мы пардону не дали.
Мать притрагивается к руке мужа:
— А помнишь, Сережа, что нам тот же Мойша по секрету рассказывал? Образовали евреи какой-то Бунд, что сидят в нем все видные революционеры и что задача его уничтожить всех, кто сейчас у власти стоит, а с ними и тех, кто власть эту защищает.
Голос Аристарха срывается:
— Туда им и дорога, коли управлять не способны. И пусть уничтожат. Но хорошо было бы, если бы все эти господа интеллигенты, революционеры и социалисты сначала у нас, на Дону, побывали, да поглядели на то, как у нас земельный вопрос решен, как сами вдов, сирот обеспечиваем, как сами школы строим…
Дедушка машет рукой:
— Да, строим! А вон в трех низовых станицах по распоряжению из Питера запретили открыть школы, которые казаки сами, за собственный счет построили. Петербургу грамотные казаки не нужны. А кто из вас помнит как казакам дамбу под Черкасском строить запретили, даже резолюцию из Питера прислали: переплывать и впредь ту протоку, как и раньше велось, на бурдюгах и конях, дабы воинского своего духу казаки не потеряли. Вон ведь в Новочеркасске, без разрешения из Питера, и фонарей на улицах ставить нельзя. А что этих твоих социалистов касается, лучше всего «Бесы» Достоевского почитай. Там эти будущие российские правители сто миллионов голов требуют. Дядя Андрей вздыхает:
— И отчекрыжат, за милую душу отчекрыжат… Взяв молочник, бабушка тихо уходит на кухню.
— Ишь, мать-то наша, — продолжает дядя Андрей, — слов наших слушать не хочет. А простой вещи не поймет она: все эти, сотнями лет рабства вынянченные, мужики ли, интеллигенты ли, ничего иного, кроме бойни, и придумать не могут. Это же тебе не английские парламентарии, а взбунтовавшаяся голь кабацкая. Ох, недаром Апокалипсис написан, недаром — времена эти, вот они, близко подходят. Пятый год лишь началом был. А как мы, казаки, выкручиваться будем — того не знаю, боюсь только, что по-бабушкиному выйдет — останется нас, как от рукава нитка.
Тетя Вера обнимает Семёна:
— Ох, Господи, да что вы всё это при ребенке говорите. Сёмушка, хочешь ватрушечки с творогом?
Дедушкино лицо почему-то светлеет:
— Нет, не ватрушки ему, а сбегай-ка ты, внучек, на мельницу да кликни тех двух казаков, что с Гурова пшеницу привезли, Трофима и Егора. А ну-ка — одна нога здесь, а другая там!
Приказ дедушки исполняет внук немедленно. Из закуренной помольной хаты приводит он обоих завозщиков за пять минут. Входят они в гостиную смело, истово крестятся на образа:
— Здорово днявали!
— Слава Богу! — дедушка указывает гостям два порожних кресла. — Садитесь-ка, да, Господи, благослови, по тому случаю, што никакого случая не случилось, выпьем по одной.
— Ить какую я думку поимел: а што ежели мы все, вот сколько нас тут есть, да ноне про Ермака вспомним?
— Дела подходяшшая. Праильная ваша слова, Ликсей Михалыч, — Трофим усаживается поудобней, — тольки вы мине и Егору, для разгону, ишо по одной подняситя.
Опорожняются всеми и вновь налитые рюмки. Трофим кашляет в руку:
— А хто ж дишкантить будить?
— У нас Гаврила мастер…
Казак Трофим поднимает глаза на лампадку, осторожно прокашливается и заводит:
Ревела буря, дождь шумел, Во мраке молния блистала….Негромкий голос певца заполняет всю залу сразу же, повышается, вылетает в открытые окна на двор, проносится до мельницы, и, что за чудо, — будто и вода в каузе шуметь перестала, будто с ней вместе весь хутор, вся степь, слушают трагическую эпопею казачьего героя:
И беспрерывно гром гремел, И в дебрях буря бушевала…Даже тетя Мина подхватывает второй куплет. Стараясь вместе с Гаврюшей вытянуть это страшное «бушевала», вливается в хор и Семён, молодым, еще детским, но чистым тенором.
Вы спите, милые герои, Во тьме, под бурею ревущей. На утро глас раздастся мой, Ко славе иль на смерть зовущий!Всё теперь для Семёна ясно: мало было их — казаков, покорителей Сибири. Но на подвиг шли они, врагов не считая, только одно зная твердо: каждому народу предначертана свыше судьба его. Испокон веков боролись они за право на жизнь, никакому насильнику не корясь. Широкое, безбрежное море угнетения окружало их, давило со всех сторон и тесно им стало на Тихом Дону. И пошли они в страшный поход, сами себя не жалеючи.
Ко славе, иль на смерть зовущий…Все умрут. Но как умрут они? После рабского существования или в бою за человеческое достоинство? Твердо помнит внук слова деда, крепко врезались они в его душу, и ясно ему, что лучше умереть от пули врага, чем перед ним склониться. Уйти из мира этого казаком вольным, а не стонущим рабом. Нет в мире той силы, которая сделала бы казаков своими безропотными слугами. И если попадали они в неволю, то восставали при первой возможности, и, если гибли поголовно, то гордо представали пред престолом Всевышнего.
А Трофим доводит песенное свое повествование до того места, где говорится о гибели казачьих землепроходцев.
И пала грозная в боях, Не обнажив мечей, дружина…Не обнажив мечей! Уснули усталые воины, тайной тропой прокрались враги и напали на спящих. Только Ермак, отбиваясь от нападавших, отступая, упал израненным в Иртыш. И увлек его на дно аж самим царем подаренный панцирь…
Замирает последний аккорд. Вечерние сумерки давно подкрались и незаметно заполнили комнаты. И кажется, что это далекие их предки, явились сюда поведать потомкам своим о давным-давно отзвеневшей казачьей славе.
Окончив песню, долго все молчат. Черкнув спичкой, зажигает отец большую керосиновую лампу. Вспыхнувший свет, смягченный широким абажуром, глаз не режет, и от него становится в комнате теплее и уютнее.
Входит Мотька, что-то вокруг стола хлопочет. И вдруг одним ловким ударом сапога отбрасывает ковер в сторону, бьет в ладоши и заводит:
И-эх, мне бы, младой, ворона коня, Я бы вольная казачка была…Егор и Алексей срываются с мест и «идут с носка» на середину комнаты. Гаврюша подходит к маме. Нисколько не смутясь, веселая, поднимается она, в правой ее руке уже вьется белый платочек, слегка склонившись, семенит она вдоль залы, убегая от идущего за ней, грохоча каблуками, сына. Тетя Вера, тетя Агнюша, мама, все они в самой середине танцующих.
Вбежавшая в гостиную Мотька быстро ставит на стол принесенный ею поднос и, почему-то так взвизгнув, будто режут ее, бросается танцевать, ловко мелькая босыми пятками. Дедушка обнял бабушку за талию, оба, сидя на диване, слегка покачиваются в такт плясовой песне и вторят:
Пошлю казака по воду, Пошлю казака по воду, Ни воды нет, ни казаченьки, Ни воды нет, ни казаченьки!Бабушка следит за каждым танцующим, не упустит ни одного коленца, ни одного выпада. Меж роялем и диваном пробует Семён пойти вприсядку, спотыкается на завернутом ковре и падает. Но вот уж садится за роялем мама и в подмогу поющим в танце уже гремят аккорды веселой песенки. Охнув, падает в кресло тетя Мина, изнеможенная валится на диван тетя Вера. Последний раз ударив в пол каблуком, так, будто хочет он его разнести вдребезги, останавливается посередине залы Алексей. Дедушка поднимает полный стакан:
— Ну вот это — да! Удружили! Спасибо всем!
Когда мама с тетей Верой привели, наконец, Семёна в комнату, чтобы уложить его спать, небо на востоке давно уже светлеть начало. Шум воды в колесах стал громче, вот оно и первые птицы засвистели.
— Пронеси, Господи, бури Твои мимо раба Твоего отрока Семёна, — шепчет мать и крестит его голову утонувшую в подушку. — Спаси нас всех и помилуй, — прошептала над сыном мама.
Дверь закрылась за ушедшими, наконец-то, может Жако залезть к хозяину под одеяло и заснуть сном доброй собачьей души.
— Ну што, нагулялись? — спрашивают спящие на соломе завозщики возвратившихся Трофима и Егора. — С барами казакам завсегда гулять способно.
— Погоди, погоди трошки, они догуляются! — какая-то тень поворачивается на другой бок и замолкает.
Ни Трофим, ни Семён ни слова и не отвечают.
Неустанно шумит мельница. На востоке всё светлей и светлей. Того и гляди, проснется всё пернатое население хутора и голосами тварей невинных, как бабушка говорит, — разбудит Господь всех нас, грешных. Чего же искать, какого еще счастья человеку надо?
А Семёну сон снится: будто оттуда, с севера, заволокло, затянуло тучами всё, как есть, небо. Замер хутор в страшном, мертвенном ожидании. Собрались жители его на широком дворе и, как завороженные, смотрят на надвигающуюся массу черных туч. Рванул, закружил, смял вербы и акации бешено налетевший ветер. Хлынул за ним проливной дождь. С крыш и базов полетели ошметки оторванной соломы и камыша. Гранатным разрывом ударил гром, ослепительно полыхнула молния. В страшном вихре летящей соломы и сена из развороченных бурей стогов исчез, как в дыму, стоявший впереди всех дедушка. Всё смешалось в адском гуле ветра, вдруг поднявшего крышу на их доме. Дрогнув, упала труба с крохоток, покатилась, разбивая окна и двери, кирпичи и балки. С криком проснулся Семён. На дворе ярко светит солнце, перекликаются в акациях пичуги. С чувством и расстоновкой побрехивает на мосту Буян.
«Пронеси, Господи, — звенит в ушах, — пронеси, Господи». Что это? Слова, сказанные вчера мамой и им теперь бессознательно повторяемые, или собственная, его, от непонятного страха сама сложившаяся просьба к далекому непонятному Богу?
Свелел дедушка внуку сходить в Разуваев, отнести дружку его Гаврил Софронычу две новых блёсенки, да, кстати, зайти к хуторскому атаману уряднику Фирсову, спросить, когда тот, как дедушка слыхал, в Усть-Медведицу поедет? Дело там у дедушки есть, хорошо бы было повидаться, потолковать перед отъездом.
Забрав Жако, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, бежит послушный внук к плотине. Жако носится по лугу, в радиусе добрых ста саженей обнюхивает каждый подозрительный кустик. Вот она и плотина, и лежащий на берегу старый, сухой, камыш. Стрелой вылетает на него Жако, как горох, сыпятся в пруд встревоженные лягушки, полный собачьего восторга и счастья разгребает его Жако лапами, прыгает, как оглашенный, и, ни с того ни с сего, заливается радостным лаем. Направо, из-за куста куги, поднимается отец, рвет изо рта окурок папиросы и сердито бросает в воду.
— Тише ты с твоим чертогоном! Всю мне рыбу распугали!
Ничего не остается, как схватить собаку за шиворот, отбежать в страхе добрых полверсты и лишь тогда оглянуться. Теперь рано домой возвращаться опасно. Влетит. Ну да Бог не без милости, казак не без счастья.
Дедушкин дружок принимает гостя в чисто прибранной горнице. Долго осматривает принесенные блёсенки, осторожно прощупывает разноцветное их оперение, крутит головой и, видимо, очень доволен:
— Ты глянь! Вот это — здорово! Теперь — дяржись, щуки. Это откель у деда твово добро такое?
— Из Москвы, магазин там такой, «Мюр и Мерилиз», всё, что ни напишешь, всё сразу высылает.
Ишь ты, из Москвы крючочки нам на Дон шлють. Старая это московская дела: к нам суды крючочки закидывать. А ну садись, видал, чего нам хозяйка настановила!
Закусив пышками с каймаком, получает он на дорогу груш и яблок, отправляется Семён с вторым поручением.
И тут, как и у Гаврил Софроныча, Жако остается снаружи.
— Взойди, — отвечает кто-то из Правления на осторожный стук в двери.
В большой чистой комнате сидит за столом хуторской атаман урядник Фирсов. Волосы и борода его густо протканы сединой. Чуб зачесан, как полагается, мундир Лейб-гвардии Атаманского полка заношен, но сидит, «как влитый». Со стены на входящих смотрит император и самодержец Николай Александрович. Окна открыты прямо в сад. Сквозь расставленные на них горшки с цветами ветер колышет занавески и перелистывает на столе бумаги.
— Здорово ночевали, господин атаман! — так велел сказать дедушка, и так он и говорит.
— Слава Богу! — атаман поднимает глаза и улыбается посетителю. — А-а, внучек Алексей Иванычев! Ну подойди, подойди поближе, поручкаимси! — протягивает атаман ему руку, и кажется, что не только ладонь его, но и весь он может уместиться в этой огромной, медвежьей лапе. — Докладай с чем хорошим пришел.
Поручение дедушки нужно передавать, стоя по-военному, на вытяжку.
— Ага-ага! Так перекажи дедушке твому, их благородию, что посля завтрева всё одно привязу я трошки пашаницы на мельницу вашу, тады о всём и договоримси.
В дверь кто-то стучит.
— Взойди!
Первым входит Евграф Степанович, казак известный за его прекрасные сады, а вслед за ним входит что-то такое, что в жизни своей Семён не видывал. Седые волосы аккуратно расчесаны и подвязаны веревочкой. Длинная рубаха, до колен, холстяная, подпоясана пояском, на одном конце которого висит деревянный гребешок. Белые же, тоже холстяные, штаны спускаются до пят, но от колен заплетены до самых ступней лыком, на котором держатся новые аккуратные лапти. Лицо у старичка благообразное, симпатичное. Войдя в горницу, быстро крестится он на образ, низко, совсем низко, кланяется атаману.
— А-а-а, Явграф Стяпаныч, с чем хорошим?
— Да вот, рассчитал я ноне этого человека, баню он мне в саду становил, с двумя сынами работал. Всё, как полагается, обделал и таперь ляжить яму путь в Рассею. Отметь, што отбыл он с Доншшины, а то у них-то пристава, сам знаешь, не милуют.
— А ну-ка, мил человек, подай-кась суда вид твой! — атаман протягивает руку в направлении стоящего у самых дверей мужика. Тот быстро семенит к столу, достает из-за пазухи серенькие книжечки и подает атаману. Быстро взглянув на них, кричит атаман: «Гаврилыч, приняси-кась пячать!».
Через минуту появляется хуторский писарь Иван Гаврилыч, в шароварах с лампасами, в белых чулках и чириках, в новой, подпоясанной кавказским ремешком, гимнастерке, в погонах приказного, и кладет на стол большую круглую печать.
— Ну-кась, испиши в паспорта: «Сего числа отбыл в Расею», и нонешнее число поставь.
Писарь исчезает за дверью и через минуту возвращается снова. Атаман проверяет написанное, ставит печать и подписывает паспорта:
— Вот табе, добрый человек, а таперь ты мне скажи, всё ль табе Явграф Стяпаныч, как уговорено, отдал?
— Всё, родимец, всё, как есть, сполна получил. По-божески рассчитал, обиды никакой не имеем.
— А харчилси как?
— И-и, отец ты наш, сам, поди, знаешь, што посля нашего кваску с тáком на казачьих наших харчах, как у Христа мы за пазухой были.
— То-то, иди же в Расею твою, да не говори про казаков плохо. Счастливо! — кивком головы показывает атаман, что разговор кончен.
— С Богом оставайтесь! — мужик пятится к дверям. — Премного благодарны, дай Бог… — дверь тихо закрывается рубахой.
— Вот ты и пойми таперь, какая у них жизня, — говорит атаман Евграфу Степановичу, — коль должон он пешки тыщу верст пройтить, штоб тут, у нас, сабе на зиму кусок хлеба заработать. Да ишо на кого нарвется, а то и обсчитають, да, бываить, и морду набьють. Народ посля пятого года стярвиться зачал. А ты бяги, бяги таперь домой, поди, скотину ишо, как след, не увледотворил.
Евграф Степаныч исчезает как-то незаметно.
Снова стук в дверь. Не успевает атаман и слова сказать, как широко она распахивается, и, к удивлению Семёна, переступают через порог один за другим все три его двоюродные брата, одетые в полную парадную форму. Все становятся «смирно» перед атаманом и первым рапортует Аристарх:
— Господин атаман! Сотник Атаманского полка Аристарх Пономарев явился по случаю прибытия в отпуск.
А за ним, по старшинству, Гаврил с Алексеем называют полк и чин свой. Слушая рапорт стоя, следит атаман за каждым движением четко щелкающих каблуками офицеров и в конце расплывается лицо его приветливой улыбкой:
— С прибытием в родительские дома проздравляю! Присядьте трошки, господа офицеры. Эй, Гаврилыч, ану ишо один стулик приныси для их благородия. А таперь — здравствуйтя!
Все трое жмут протянутую им руку. Часть официальная закончилась. Офицеры, как это по заведенному порядку положено, явились своему хуторскому атаману, ихнему теперешнему начальству, а теперь можно и попросту потолковать. Разговор заходит об урожае. Гаврил понимает, что младшего, его двоюродного, брата разговор этот никак не интересует.
— Вы как, господин атаман, с Семёном все дела покончили?
— Да-да, дяла мы с ним все покончили. Могёть быть свободным.
Гаврил обрадованно командует:
— Ну ты, суслик, исчезай!
Откланявшись, щелкнув каблуками и поклонившись только головой, так, как учил его дедушка, никак спины не сгибая, освободившись из огромной атаманской лапы, выходит Семён из Правления. Жако вскакивает, осточертело ему сидеть одному. Жако и хозяин вылетают на улицу. Опираясь на сучковатый байдик, пылит по ней старческими ногами дедушка Мирон. В старинном он чекмене, на голове — артиллерийская фуражка, шаровары с лампасами забраны в белые чулки. Чирики начищены были до блеску, да запылились во-взят.
— Здравствуйте, дедушка Мирон! — Семён останавливается и слегка кланяется.
Жако занялся поливкой плетня.
— Здоров, здоров, малец! А чей же ты будешь?
— Есаула Пономарева, Сергей Алексеевича, сын.
— А-а-а, Сергий Ликсевичев сынок. Ну, молодец, уважению к старикам имеешь. Правильно. Кланяйся отцу и деду твому. А таперь — иди, иди, а мине к атаману надо, — запылив чириками, поворачивает старик в Правление.
Домой надо, теперь там уже пообедали, отец спать пошел, а есть так хочется.
Дома спасает положение Мотька:
— А що, панычку, вы сьогодни и нэ обидалы? Погодить трохы, я вам интеллигентскый кусочок видрижу.
И вот он, свежий, в хорошее колесо величиной, хлеб. Через всю его длину отрезает Мотька добрую краюху, кладет на нее огромный кусок сала и смеется:
— Ану, пидзаймиться. Тики трохы прысолыть трэба.
Вечер подходит приятный, мельница шумит размеренно и спокойно. Вот-вот начнут лягушки свой ежедневный концерт. Но почему же это Сибирлетка явно начинает нервничать? Нюхает воздух, неуверенно озирается, скулит, поднимается и трусит легкой рысцой по дороге на Рассыпную Балку. Выбежав за деревья, заслоняющие хутор от степи, усаживается в далекий саратовский бугор. Вдруг вскакивает и громко и уверенно сообщает: «Г-гам!».
Как сумасшедшие, сорвавшись с моста, мчатся к ней остальные собаки. Зря лаять она не будет. Только Буян остался на мосту, предпочитая выждать события. С бугра спускается к хутору какая-то подвода. Всеми овладевает волнение. Догадки, вопросы, нетерпеливые возгласы сыпятся один за другим. Авторитетно и спокойно говорит бабушка:
— А ить это отец Тимофей едет. Ишо весной писал, что проведать нас хочет!
Отец взглядывается вдаль и сообщает, что подвода городская, сидят трое, из них одна вроде женщина. Ох, да, конечно же, отец Тимофей это! Какая-то он им по бабушкиной линии родня, окончил духовную семинарию, давным-давно посвящен в священники, да почему-то рассорился на Дону с духовным начальством своим и уехал священствовать куда-то на Урал, к яицким казакам. Там и приход у него свой. Не видались они лет пять, а то и больше.
А подвода вот она, совсем близко. Соскакивает с нее какой-то бородач в белой чесучевой рясе и бежит к хутору, спотыкаясь о прыгающих ему на грудь, узнавших его собак. Дождался своего времени и Буян, подскакивает к приехавшему вплотную и, лишь, как только он один это делать умеет, так морщит от радости свой нос, что ясно всем становится: смеется Буян от собачьего восторга. Схватывает его любящий всякую тварь Божью отец Тимофей за шиворот, поднимает к лицу и прижимается щекой к его скулящей морде:
— Здоров днявал, старый ты хрен, от старости и брехать разучился! Срамота одна с тобой.
Спущенный на землю теряет Буян полностью чувство меры — мчится прямо к бабушке, коротким брехом сообщает ей о радостном событии, не задерживаясь на крутом повороте, несется назад к подводе, лает в морды лошадям что-то совсем приятное, а потом летит к дедушке, чтобы и ему доложить о происходящем.
Но уже обнимается отец Тимофей со всеми по очереди, подвода въезжает во двор, кучер заворачивает к конюшне и лишь теперь выходит из тарантаса Марья Исаковна, супруга отца Тимофея. И снова объятия, поцелуи, даже слезы.
Новый день начинается новыми заботами, Матвея посылают к дяде Андрею сообщить о приезде отца Тимофея и просить пожаловать на ужин, а Семён отправляется к тете Агнюше с тем же известием. Вырезав хорошую хворостину, надрезает ножом верхнюю часть, сгибает ее, вставив в надрез сломанную палочку — уши у лошадиной головы, оставив на противоположном конце листья — это хвост, приладив из шнурка уздечку, вскакивает Семён на нового коня своего, свистит Жако и мчится аллюром три креста по-над речкой к недалекому теткиному хутору.
С тех пор как овдовела тетя Агнюша — муж ее служил где-то в Туркестане, вернулась она снова на Дон, стала хозяйничать, увеличивая и без того большой свой хутор. В доме никого нет, двоюродных сестер своих видит он копающихся под надзором гувернантки в саду. Валя у речки возится с лодкой. Из амбара появляется какая-то женщина, длинная юбка замазана в навозе, на ногах высокие мужские сапоги, выцветшая кофта вся в дегте, рукава ее высоко засучены, воротник широко расстегнут, легкий пестрый платок сдвинут на лоб. Она — тетя Агнюша, ведь ей за всем по-хозяйству самой приглядеть надо. Всюду поспевает она, работая с раннего утра до позднего вечера. Рабочие у нее держатся недолго, любого за месяц загоняет так, что уходит, не спрося денег. Хутор свой отстроила она еще при жизни мужа, работавшего на станции «Кизил-Арват» в Туркестане, и теперь, вернувшись, ночи не спит, превратившись из дамы общества в хуторскую хозяйку. Даже дедушка подивился, когда увидал ее сидящей на косилке. Не баба, а огонь, — вот у кого нашим господам помещикам поучиться бы следовало.
И откуда всё взялось? Окончив Мариинский Институт Благородных Девиц в Новочеркасске, где учили французскому языку, книксам, вальсу, немецким спряжениям и умению держать себя в обществе, где читались лишь рекомендованные директриссой книжки, выскочила она замуж за далекого их родственника, инженера, и уехала с ним в новое гнездо свое в Кизил-Арвате, поставив там всё на широкую ногу. Только вот жары да скорпионов выносить не могла. Женой была образцовой, хозяйкой стала примерной, оказалась и первой в тамошнем дамском обществе. Всё изменилось, когда внезапно умер муж. Привезли его хоронить на хутор, на семейном кладбище. Маленьким тогда был Семён, прятался в страхе от забивших весь дом чужих людей, от громкого пения каких-то странно разодетых в пестрые рясы дядей, от постоянно искавших, и постоянно всё же оставлявших его одного у мамы и бабушки, говоривших шопотом, испуганно, растерянно вытиравших слезы. Вся эта зима осталась в воспоминаниях его страшной и жуткой.
Прошли годы, постепенно успокоилась тетя Агнюша, взялась уже с первой весной за устройство новой своей жизни, с головой ушла в непривычную для нее работу, и считалась теперь и хорошей хозяйкой, и богатой помещицей. Многие заглядывались на еще молодую вдову, но уезжали все от нее не солоно хлебавши. Ни на кого она и глядеть не хотела, решив, что родного отца никем детям не заменить.
Доложив о новостях, на хуторе остается Семён на обед. Сидели все за столом, будто аршин проглотили, после каждого куска, стакана или тарелки дети обязательно говорили «мерси бъен», глазами удава глядела на них гувернантка и вырвавшись от стола, побежал он под гору, перебрел вместе с Жако здесь совсем мелкую речку и облегченно вздохнул, лишь появившись дома, на кухне.
— Що, панычку, побачилы ваших хранцузив — мирен сивупле? — Мотька щурит свои египетские глаза и закатывается смехом: — Идить, идить, вси вже в столовой сыдять.
Грохот копыт и лай собак оповещают о прибытии новых гостей. Алексей, Аристарх и Гаврил соскакивают с коней у парадного подъезда. Гаврил смотрит на него с таким видом, будто никак не может разглядеть какого-то карлика:
— Ты чего, суслик, вылупился? Поди, сроду не видал, как казаки верхом ездят? А не охотка ли тебе, комическая фигура, на моем коне прокатиться?
Сердце Семёна готово разорваться от радости. Не говоря ни слова в ответ, подбегает он к рыжему красавцу Соколу, хочет вставить ногу в стремя, да больно уж высоко, не достать.
— Эх ты, пыж укороченного образца, тебе бы на Буяне кататься! — Гаврила быстро подкорачивает стремена, хватает брата за шиворот и одним взмахом сажает в седло. — Учись, суслик, ты, поди, еще седла и в глаза не видел?
Сокол недовольно оглядывается, опустив голову крутит ею так, будто напало на него целое гнездо пчел. Фыркнув и слушаясь повода, идет к мостику через канаву, проходит его шагом и, уловив легкие удары пяток, сначала, будто сбившись с ноги, начинает идти спокойной рысью, туда, в степь, далеко, куда требует его седок. Не устал Сокол, несет нового всадника легко, проскакивает хутор тети Агнюши, широким галопом вылетает на бугор, видимо, и сам в восторге, что всадник легок, а, вволю порезвившись, гордо вносит Сокол своего седока во двор родительского дома. Там, на балконе, все еще в сборе, видно, говорят о наезднике, говорят неплохо. Ловко соскочив с коня, подводит он его к ступенькам крыльца.
— Молодчина, суслик! По какому-то недоразумению, у тебя, пехота ты несчастная, на этот раз получилось неплохо. А то все мы тут уже собирались за костями твоими Мотьку с корзинкой от кизеков посылать, — с серьезной миной хвалит Гаврил.
Оказывается, дядя Андрей уже приехал. Явился и Петр Иванович — дядя Петя, тоже их родственник. Его имение лежит вниз по речке, немного левей Старого Хутора, с левой стороны. У него все сто десятин земли, обрабатывает он ее сам и известен стал своим свиноводством, заведя первым «йоркширов», называя домашние сорта свиней «гончими» — ни виду у них, ни сала, ни мяса, только жрать здоровые. Росту дядя Петя короткого, толстый, оброс бородой и усами, шевелюра его похожа на копну соломы под ветром. И дедушка никак не велит ему показываться в Новочеркасске, а то там его враз за попа примут, и за нечесаные космы в архиереи произведут.
За столом, на почетном месте, сидит отец Тимофей, по правую его руку дедушка, по левую — бабушка, рядом с ней супруга гостя Марья Исаковна. Тетя Агнюша так приоделась, что и не узнать ее. Француженка-гувернантка не только детей учить мастерица, но и шить платья здорово умеет. От ее парижских фасонов у хуторских дам дух захватывает. Дедушка поговаривал, что, не иначе как портнихой она во Франции была, а вот тут, у нас, в степи, в профессорши себя призвела, ну, да Бог с ней, старается. С детьми не очень-то показная, мадемуазель Марго завела образцовый порядок, в обращении мила и все на хуторе вежливы с ней и обходительны.
Мотька, Грунька и Дунька одеты сегодня тоже празднично, на всех модные узкие юбки с кофтанами, отделанными на рукавах кружевами. Яства подают они гостям из-за спины, с левой стороны, и каждого сами уговаривают побольше себе накладывать. Выпивкой командует Аристарх, оказался он большим специалистом и получил общее признание после того как даже бабушку уговорил выпить лишнюю рюмочку на прошлое Рождество. Детям дали по чашечке меда, больше ни-ни. Строгость.
Отец Тимофей сегодня особенно в духе, считает он, что жизнь прекрасна, что делается всё с Божьего благословения и рассказывает после обеда о Уральских казаках, о ловле осетров, о знаменитой икре, которой, кстати, привез он добрых полпуда. Вечером, к ужину, попробуем. Дедушка внимательно слушает дорогого гостя:
— А я тебе что говорю? Думаешь, не знаю я мыслей твоих? Так вот слушай — не каждому я об этом толкую, про себя храню, такое пастырю духовному не подобает говорить, да куда денешься, сомнения одолевают и хочется с кем-нито поделиться. Религия, говоришь? У меня, что ни день, то и служба, то и треба, то и молитва. И всё в голове мысли разные крутятся, одна за другой, как комары на пруду. Там, где живу я, какого только народа нет — и православные, и мусульмане, и буддисты, и раскольники, и безпоповцы, и штундисты. И каждый свое хвалит, и каждый, как бык, уперся. А мое мнение такое: должен Он быть обязательно, только мы, люди, ничегосеньки о Нем не знаем. И поэтому сами мы всякие небылицы попридумывали. Одно мне ясно: бояться Его никак не следует, вовсе Он не такой, как все религии, вместе взятые, Его нам преподносят. И хоть говорят у нас, что Он один без греха, а я с этим не согласен. С творением людей ошибочка у Него вышла. Во всём ином преуспел, а вот в людях — неустойка. Браку много.
Дядя Андрей прислушался к словам гостя. Вступает и он в беседу:
— Браку, говоришь, много? Тут что-то такое, что особенно нам разжевать нужно. Вот, хотя бы сказать, попали мы, казаки, в Российскую империю. Понимаешь — Империю! А строится она по рецептам особенным, стирая с лица земли всех, кто ей мешает. Возьми пример — были мы под татарами, и была тогда у нас наша собственная автокефальная церковь, и татары, иноверцы, нам это дозволяли. Знамёна тогда у казаков с ликом Христа были. А попали мы к единоверцам, к русским, у ручки и уничтожили они автокефалию нашу. Москва ее у нас с кровью выдернула. Как тут Бога твоего понимать? Как допустил Он, что православный царь русский Петр Первый, империю свою строя, православных казаков тридцать тысяч перебил и перевешал и тридцать пять городков разорил и сжег вместе с православными церквами? Вот он брак и получился. Вон, когда у Сергея на мельнице брак получается, враз он мельника за шиворот, и оба они до тех пор бьются, пока опять у них мука первый сорт пойдет. Вот и Ему надо бы было всё как-то да уладить. И скажи ты мне, куда нам, казакам, теперь деваться — с православным царем в холуи и нагаечники или, как вычитал я в одной Семёновой книжечке у французского автора Луи Жаколио, где он борьбу Англии и Франции за Индию описывает. Обе они Индию своей колонией сделать хотели. И довел, в книжке этой, один англичанин индуса одного до точки. А были у того индуса две тигрицы. Нора и Сита. И при удобном случае натравил тех тигриц индус на англичанина: «Пиль, Нора! Пиль, Сита! Пиль, мои добрые животные!». И разорвали они англичанина в куски. Не думаешь ли ты, что и нам, казакам, тигрицы теперь нужны?
Семён решает немедленно же разыскать эту книжку. А интересно, но прежде решил послушать бабушку.
— …Вот и играете вы песни про Ермака и гордитесь им, а того сами не понимаете, что наказал его Господь праведный за грехи его. Вот он и потонул. Ну чего он там, в Сибири, искал? Кому тех людей покорял? В чье рабство привел? А ведь верил, что всё во имя Бога творил. Везде, где не ставил свой городок новый, всюду первым делом часовни да церкви строил. А нужны они энтим чукчам были? И сколько он там невинной крови пролил? Вот и спросит его Бог на том свете: «А чего ты в Сибирь поперся?..».
В другом углу отец с дядей Петей толкует:
— Видишь, родич мой дорогой, все вы одного понять не можете, что нет нам иного выхода. Ну сколько нас — не горсточка ли? Все наши Разины, Пугачевы, Булавины, что они сделали? Чем всё кончилось? Да нашей же кровью. Вот и сидим мы под белым царем, и внимание к нам как ни к какому иному народу. Сам наследник престола Российского еще при рождении Атаманом всех казачьих войск назначается. Не почет ли это? И высшее образование казакам теперь доступно. Одно скажу: служить нам да служить его Императорскому Величеству, чёрт с ним. Всё одно помощи нам ниоткуда ждать не приходится. Вон, хоть Польшу возьми. Не поднималась ли она три раза? А в результате — поделили ее россияне с немцами, а мы, казаки, еще к тому же и вождя польского восстания Костюшку в плен взяли. И еще одно — помог ли кто-нибудь Польше с Запада? Да никто! Только крокодиловы слезы проливали. Западу только торговать бы да наживаться, а принципов там, как и у Москвы, нет их. Вот, значит, и служи, подбирая кусочки, какие тебе со стола господ падают. Потому что в малом ты числе. Будь ты силен, все бы тебе поклонились, все бы к тебе в дружбу лезли. Еще раз, упомни — живем мы, казаки, пока царь на троне сидит! Не будет его, и нам канцур.
— Верное твое слово — канцур нам будет, — отец придвигается поближе к дяде, — я ведь ни с дедушкой, ни с Андреем не спорю. Они по-своему на вещи смотрят. А я на примере клиновских мужиков увидал то, что ожидает нас, ежели какая завируха начнется. Такая в мужике ненависть сидит, такая злоба раба-завистника, за сотни лет накопившаяся, что не нашими силенками с миллионами взбунтовавшихся холопов справиться. И поэтому одно нам кричать нужно: реформы! Прав Столыпин был, когда о земле для мужика заговорил. Из него хозяина сделать надо, тогда он никаких тебе социалистов к себе и на пушечный выстрел не подпустит!
И тут скучно Семёну, интересно, что там все с француженкой говорят? Образовалась возле нее теплая компания. Тетя Вера, мама, бабушка, тетя Агнюша, Марья Исаковна. На широком листе бумаги чертит она какие-то странные рисунки, издали на юбки похожие, быстро торочит что-то по-французски, а Муся переводит. Слышны возгласы восхищения и удивления. Больше всех увлеклась тетя Вера:
— Ну да, шёлк, шёлк, только шёлк. Для такой кофточки. Да переведи же ей, Муся, что в Царицыне сама я видала точно такой рисунок. И совсем недорого.
На другой день, после завтрака, ведут отец и дедушка гостя своего сначала на мельницу. Хозяйским глазом осматривает он новые камни, заглядывает в драчку и на самотаску, ощупывает еще теплую муку, в самом нижнем этаже бегущую из сита, пробует у мельничихи кваску, и выходят все в луга. Кизеки, лежащие у катухов, советует он перетаскать под навес, а то беда будет, когда дожди пойдут. У глубокой колдобины, заросшей вербами и лилиями, слышит о том, что подпасок Микишка рассказывал, как однажды ночью ночевал он тут, и сомы в колдобине так за лягушками гонялись, что страшно ему стало. Тут же решают отец и дед настрелять воробьев да нажарить, да насадить на крючки, возьмет сом обязательно, вот жареха-то будет! А вот он и пруд. Любуется отец Тимофей степью, лугами, небом безоблачным и смеется без всякой видимой причины:
— Господи, Боже мой! Вся премудростию сотворил еси. Всякое дыхание, всякая Тебя славит. Ох, хорошо-то как, в раю живете!
Отец Тимофей хочет наступить на доску через канаву, ставит ногу — в пустоту, обрывается и, взмахнув в воздухе широкими своими рукавами, падает в воду. Видна лишь шевелюра его да выплывшая зонтиком щегольская, только что выглаженная, белая ряса.
Моментально спрыгивает в воду Семён, вода ему по пояс, отец Тимофей, ухватившись за протянутые руки отца и дедушки, поддерживаемый сзади Семёном, осторожно выбирается по вязкому илистому дну туда, где берег более отлогий, кое-как вылезает и выскакивает вслед за ним второй его спаситель, никем не замеченный, прыгнувший вслед за хозяином, Жако. Отец Тимофей, выжимает из бороды воду и смеется, смеются и остальные:
— Искушение Твое, Господи! Ох, попадет мне теперь от попадьи моей, боязно и домой идти. Семён, лети-ка ты, сам переоденься да скажи, чтоб мне сухое белье приготовили, да рясу другую. Господи, красота-то какая, купель Твоя нечаянная…
Женское население хутора в ужасе. Бабушка сразу же приносит особой настойки. Девки бегут топить баню, Мотьку посылают за другой настойкой — для принятия вовнутрь, та, первая, для растирания. Ставится немедленно и самовар — горячего чайку с малиновым вареньем испить, вот что хорошо помогает. И когда переоделся и выкупался гость, сели все за стол, поднял тост дедушка:
— За спасителя утопавшаго раба Божия, иерея Тимофея, отрока Симеона!
— Спаси те Христос, — гость жмет руку своего нового друга, — уж я тебя отблагодарю. Эй, Марья, где ты есть, побеги, в саквояже поройся, тюбетейку ту татарскую найди, вот ему отдай.
Марья Исаковна приносит тюбетейку:
— И всегда он так. Хвалит Бога в небе, а под ноги не глядит. Однова с полугорка мы вывернулись, тоже он на леса и поля загляделся. Спасибо, конь смирный был, а то и костей бы не собрали. А он что, встал, отряхнулся, псалом запел. Да ты слышишь или нет? Поясница это как — не болит ли?
— А и заболит, так на то воля Божья!
У самой речки сварили два казака-помольца из только что наловленной рыбы хорошую щерьбу. Мельничиха принесла ложки. Дедушка и отец вместе с гостем своим принесли полбутылку водки, выпили истово, с понятием. Лишнего в присутствии священника никак не говорили. Похваливали щерьбу, толковали об урожае и ценах, и замолчали, глядя на высыпавшие звезды, на отражение месяца в речной глади. И все молча согласились с утверждением отца Тимофея, что вот, на глазах наших, свершается чудо Божие, зовущее нас к размышлению о путях жизненных. Выпив последнюю рюмку откашлялся один из помольцев, вроде бы вздохнул, но перешел тот вздох его в служивскую песню:
И-э-э-ой, е-ехали казаченъки Со службы домо-о-ой…Не поет он, а раздумчиво рассказывает о старой были, как, прослужив долгие годы, возвращались казаки на Дон.
На плечах погоники, На грудях хрясты-ы-ы.Поют все, и все они видят её, сотню казачью, как идет она шагом, как радостными поклонами встречают её степовые травы…
Едуть по дороженьке, Родитель стои-и-ить. «Здорово папаня! Здорова ль сямъя-а-а?». —в долгой отлучке пробыл сын. И первый его вопрос — о семье. И отвечает ему отец, примирившийся с горькой действительностью:
«Семья, слава Богу, Прибавилася, Жана молода-ая Сына-д р-родила-а-а!».И дальше поют они о страшной судьбе:
Сын отцу ня слова, Садилси на коня, Подъяжжаить к дому, Стоить мать — жана, Мать стоить с улыбочкой, Жана-д во сляза-а-ах! Мать сына проси-и-ила: «Прости ты, сын, жану-у-у!».«Жану-у» поющие особенно выделяют, как бы и сами присоединяясь к просьбе матери. Но:
Засьвярькала шашечка Во правой во руке-ее, Скатилась головушка С нивернай жине-е-е.Будто придавленные ужасом случившегося, не сразу прихватывают певцы следующий куплет. Знают они, что ошеломленный им самим содеянным, поймет убийца всю глубину страшного несчастья:
«Их, што я наде-е-лал, Што я да нароби-и-ил, Жану я заре-езал, Сибе я загуби-ил.И в полном отчаяньи:
Жану я заре-езал, Сибе я загуби-и-л, Малаю малютачку Навек асирати-и-ил!».Далеко, где-то за лесом, замирает в степи последний аккорд. Умолкли певшие у костра. Недвижно светится в потемневшей воде бледный месяц, дотлевая, гаснут огоньки углей.
Широко крестится отец Тимофей:
— Прости нас, Господи, и помилуй грешных. Упомним же, что рассказал нам народ наш в песне этой. Только Богу одному известно, сколько горя, сколько зла, сколько слёз принесли нам годы вынужденного служения… не уподобимся молодому ревнивцу, но и не осудим, как не осудим и несчастной жалмерки. Никого не осудим, да и сами не судимы будем, но вот, глядя на звёзды Божьи, слушая, как хвалит Его в степи всякая тварь земная, помолимся в душе за всех братьев наших, в боли и сомнениях жребий свой земной несущих… Гляньте, вон, плесканула рыба в камыше, а вон, высоко, глянь-глянь, всё небо перерезав, вспыхнула в раз последний, и вон — она, покатилась за вербы звезда падучая, что можем мы с вами сказать пред лицом сей тайны великой, нами, людьми, доселе неразгаданной?
Три недели прожил гость на хуторе. И подался опять через Камышин в степи заволжские, а оттуда в полюбившееся ему Войско Яицкое, ныне, приказом царя, переименованное за борьбу, за право своё, в Уральское. И там еще живут казаки, и там они в справедливость Господню верят и надеются, что за крепкую веру взыщет их Господь милостями и минует их чаша зла и ненависти.
Небо заволокло окончательно, дождь идет непрерывно и нудно, в доме давно уже топят, дороги так развезло, что стали они почти непроезжими. Кабы не мельница, то и заскучать бы на хуторе можно было. Но всё же везут и везут люди пшеницу и просо, неумолчно стучат жернова, неустанно крутится драчка, и доволен Микита-мельник — год будет прибыльным. Довольны и отец с дедом, доволен и Семён, целыми днями пропадающий в библиотеке. Закутанная с ног до головы приехала сегодня тетя Вера, покрыв ноги теплым платком, улеглась на диване, пододвинула к себе поближе столик с отобранными для чтения книгами, — дядя Воля вместе с племянниками давно уже пишут письма из своих полковых стоянок, — и есть неустанно шоколад, сушеные фрукты, грызть миндаль. И племянника угощает. Хорошо с ней, только почему забрала она одну из книжек, сказав, что не для детей это, и отдала отцу, а тот ее на самую высокую полку поставил? И трогать не велел. Ну и пусть, и название какое-то глупое — «Декамерон», эка невидаль, у него вон Марк Твен, Джек Лондон, чего только нету.
Сегодня за рекой подожгли выволочки. Припозднились немного, мокрые они, плохо горят, застелило теперь всё поле едким дымом и не видать больше ни дяди Волиного, ни тети Агнюшиного хуторов.
Сегодня перепугал он бабушку, войдя утром в столовую и напевая на самим им выдуманный мотив песенку пиратов, вычитанную им в книжке:
Двенадцать мертвецов на крышке гроба, Ио-хо-хо и бутылка рома!Перекрестилась она и пошла отцу жаловаться, в разговор вмешался дедушка, и кончилось всё тем, что велел ему дед никак перед бабушкой всё не рассказывать и не петь из этого, что он там вычитывает.
— А читать вали и дальше. Это тебе, как и еда разная, всё пригодится. Хорошему желудку всё на пользу.
Теперь попалась ему книжка под заглавием — «Во славу батюшке царю, на пользу матушке России», прочитав ее и, придя в восторг от подвигов матроса Кошки, рядового Иванова, и о солдатах, взорвавших собственную крепость после того, как ворвались в нее враги, быстро набросив полушубок, бежит он к Мишке на мельницу, залезает с ним по крутой лестнице на балкон двухэтажного амбара и там, облокотившись о перила, спрашивает своего дружка:
— Мишка, ты книжку про матроса Кошку читал?
— Ни.
— А скажи мне, — эта мысль вдруг поразила самого его, вспомнил вычитанную историю о Петре Великом и о споре его с королем прусским, — скажи, прыгнул бы ты по приказанию царя вниз вот с этого балкона.
— З якого балкону?
— Да вот этого, где стоим.
— Ни!
— Как так? — да ведь сам царь приказал!
— А хиба ж я дурный? Чи що?
Семён в полном недоумении: как это так, сам царь приказывает, а какой-то Мишка прыгать не намерен. Что за ерунда, надо дедушку спросить…
— Гм… отказался, говоришь Мишка твой с балкона прыгать? Ну, будем надееться, что не потребуют от нас таких прыжков. А ты, кстати, внучек, знай, что глупых приказов и выполнять не следует.
— Кто бы ни приказал?
— Кто бы ни приказал! Одно помни: на царской службе так всё уметь повернуть нужно, чтобы никакой тебе шкоды от глупого начальства не было. Заруби себе на носу старое наше правило: не тот казак, что поборол, а тот, что выкрутился. С балкона каждый дурак сигануть может. А пользы? И еще тебе скажу: они, цари, хоть и божьи помазанники, а было меж ними столько дураков стоеросовых, что беда да и только. Ты сам смекать привыкай, как всё для себя к лучшему повернуть. На эту на смекалку свою больше всего надейся. Вот и вся наука. Особенно теперь, когда, как думается мне, — вот-вот поднимется оно, хамское море, против нас. И вся загвоздка будет в том, как мы себя сами определим — попадем смекалкой своей в Давиды, хорошо, не попадем — побьют нас всех и жалиться нам некому будет.
Целый месяц проплакало небо. Становилось всё холодней и холодней, смеркалось рано. Дом топится с раннего утра, на дорогах и на дворе всюду огромные лужи, развезло окончательно. Ни души нигде не видно. Беспрестанно сеет мелкий, нудный, бесконечный дождь. Глаза бы ни на что не глядели…
И вот проснулись все как-то утром рано, глянули в окно, и радостно обомлели: широкими, мягкими, как бабочкины крылья, белыми хлопьями, тихо, бесшумно падал густой снег. Всю ночь, видно, шел он, пушистый и до боли слепящий глаза. Весь двор, сад, крыши, берега речки, черной и неприветной, все луга, вся степь покрылись ровным искрящимся покровом. Еще вчера с вечера, когда уже вместе с курами спать идти собирались, сказала бабушка, что на дворе будто легкий морозец придавил. Никто не обратил на ее слова внимания. Но сегодня, глянув в окно, пришел Семён в телячий восторг: «Снег! Снег! Ур-р-ра-а! На санках кататься, в снежки играть, на щук подо льдом рыбалить! Рождество заходит».
На дворе ждут его и Жако вся собачья компания. Вежливо улыбаясь, быстро и деловито обнюхивает Буян дрожащаго, как цыган, Жако. Но и Жако в долгу не остается и тоже спешно удостоверивается в наличии знакомых запахов. Всё в порядке лишь тогда, когда все они заканчивают свою китайскую церемонию. Кататься на салазках лучше всего у тети Агнюши. Там, где построила она свой хутор, вольно когда-то текла Ольховка, подмывая крутой правый берег. Но запрудили ее повыше того места при постройке мельницы высокой плотиной, прорыли канаву и остались теперь у тетиного хутора лишь отдельные озерца да плёса, густо заросшие камышем и кугой, еще гуще населенные всяческой рыбой и тьмой лягушек. С годами поосыпался крутой берег. В одном месте велела тетка прорыть в гребне его широкую канаву, а землю из выемки кидать под обрыв. Вот и получилась роскошная дорога для санок, а летом скотине к речке прямо из базов спускаться можно, а не кругом, чуть не версту, бежать — доброта-то какая! Слава об этой дорожке для санок дошла сразу же до разуваевских казачат и по воскресеньям появлялись они толпами, закутанные в платки и шали, одетые в шубы и полушубки, в кацавейки и бабьи кофты. И целый божий день гудел лес за речкой от звуков веселого детского смеха.
У Семёна, Мишки, Муси, Вали и Шуры, у всех, есть салазки. Самые щегольские, с высоким задком и ковриком, принадлежат Мусе и Шуре. Мишка, отправившись в катух, смастерил из навоза, смешав его с соломой, роскошную круглую ледянку, через два часа замерзла она на морозе, как камень. У тети Агнюши, увидев еще издали приближающихся с санками и ледянкой ребят, отменили уроки, и там побежали все в каретник за санями.
Высока гора и крута. Змейкой вьется хорошо запорошенная дорога. На крутом ее повороте, специально сделанном, легко можно вывалиться, но если салазки пролетели удачно, то несутся они в луг, пролетают его молнией, попадают на лед широкого речного старого плёса и останавливаются, лишь врезавшись в заросли камыша на противоположном берегу. Речка, кажись, не дюже-то сегодня замерзла, возле мельницы черная она. Придется и тут на этот раз править салазки, заворачивая в сторону от берега. А ну — кто первый? Все собаки — здесь, прыгают, лают, носятся по снегу, как оглашенные, только один Буян остался дома — должен же кто-то о собственном хуторе беспокоиться! Ага — вон вылезает из-под салазок вечно терпящий аварии Воля, вон, хохоча, выпрастывает из камыша свои салазки Муся, а вот, глянь-глянь, уже стоят тетя Агнюша и гувернантка на самом гребне, ах, и понеслись они под откос, визжа и смеясь, так же, как и дети. Раскрасневшееся лицо француженки, весело перекликающаяся с детьми тетя, лающие и прыгающие собаки, облака снежной пыли, подтянутые несущимися вниз санками и вдруг выглянувшее из-за серых туч светлое, слепящее, холодное солнце. И никто не желает слышать сердитый голос кухарки Агафьи, кричащей, что обед давно готов, что очень даже просто щи простыть могут. Часы-то давно двенадцать пробили!
Никакой тебе сегодня чинности за обедом, никаких там — мерси бьен — при всяком повороте. Сегодня и Мишка приглашен вместе с ними откушать. Никогда он еще в жизни своей у бар не обедал, из отдельной тарелки есть ему еще не приходилось, да и маленькая она такая, что выхлебывает он ее моментально. Опорожнив подряд три тарелки щей, на вопрос тетки не хочет ли он еще, отвечает быстро и решительно:
— Га! Чого ж пытаетэ, я ж тики разъився!
И уплетает еще две тарелки к бесконечному удивлению высоко поднявшей брови француженки.
Всю степь снегом завалило, ни проходу тебе, ни проезду. Раз в неделю посылают Матвея в Ольховку конным, почту привезти, узнать хочется, что в свете белом делается. Газету получить, журналы перелистать, ох, как хорошо, у теплой печки, сидя у заузоренного морозом окна.
В доме давно уже поговаривают о том, что пора бы Матвея на станцию «Арчаду» за елкой посылать, там, на хуторе Фролове, в Войсковом лесу, елки есть, там их у лесничего достать можно, у того, что вместе с дядей Андреем в одном с ним полку служил. Он уважит. Да ведь езды-то туда и обратно поболе двухсот верст! Но что же это за Рождество без елки?
Долго советывались, призывали и Микиту, и Матвея, и решили — ехать Матвею. Написал дядя Андрей односуму своему письмецо, «барашка в бумажке» приложил, расспросили в Ольховке и в Разуваеве, не едет ли кто на Арчаду, чтобы не одному Матвею в такую страсть отправляться. Еще метель запуржит, да собьется он с дороги, а ведь там — степь моздокская, вешки-то стоят али нет, кто их знает, не дай Бог, замерзнет Матвей в степи, нет, такого греха на душу никто брать не хочет. Всё хорошо прикинуть надо, о всём по-хозяйски умом раскинуть, по-людски всё решить, а не так, с кондачка, скотину и человека мучить.
Хорошо, что заранее подумали. Оказалось, что поедут из Ольховки на Арчаду хохлы целым обозом за товарами какими-то. Ну, слава Богу, а то бабушка не соглашалась, чтобы Матвей один в такую дорогу ехал. Теперь всё в порядке. А хохлы пятнадцатого декабря выедут, к двадцатому назад поспеть должны. Вот с ними Матвей и потрюхает. Шуба у него есть, дедушка ему зипун даст, валенки у него, слава Богу, хорошие, варежки и рукавицы припасены новые, ватолы ему в сани новые положат, сенца побольше кинут, а о санях и говорить не приходится, с месяц тому смастерил Роман, с подрезами, раскатываться не будут, не вывернется, такие, что в них и до самой Москвы доехать можно. Запряжет он их парой энтих, что их из калмыцких степей купили-привели. С ними и на Северный полюс ехать можно. Грузу большого класть он все равно не будет, только харчи да лошадям овсеца мешочек возьмет. А в дороге, где у добрых людей ночевать будет, там свелит он хозяевам чайку ему спроворить и коней получше, потеплей где, постановить. За всё сполна расплатится, слава Богу, деньгами мы не обижены. Да чтоб не забыл топорик в сани положить, елку-то, поди, самому рубить придется. Да чтоб в Арчаде, когда к Морковкиным заедет, там и ночевать бы, и, чтобы никак не позабыл бабушке ихней, ревматизм у нее страшнейший, так вот ей настоечку передать. Четверть. Выпьет она ту четверть, и всё, как рукой, сымет. Ведь давно обещались, да беда-то какая — оказии не было. И чтоб сала, сала Матвею положили, две буханки хлеба, да бутылки две водки. Пьет Матвей с пониманием, одному ему это даже вроде и многовато, да подводчики хохлачьи, ить и их угостить надо, но дело-то и получше пойдет. С водкой, с ней способней. Веселей с водкой на морозе, да еще при хорошей компании.
И вот подъехали сани к черному входу, измерил Матвей аршином в гостиной высоту нужной елки. На Матвея положиться можно. Дали ему последние наставления, еще раз сказала бабушка, кому поклоны передавать и кого о здоровьи спросить, сел в сани, подоткнул получше тулуп и уехал сначала к тете Агнюше.
А уж вовсе поздно вечером решили, что мало Матвею на дорогу денег дали. Позвали Ваньку-Козла, велели на Карем к тете живо смотаться, еще одну трешницу Матвею передать. На всякий случай, дальняя же дорога, да и погреться ему надо будет, двумя бутылками тут никак не обойтись. И сами мы мимо рта не проносим. А Матвею не жалко, он, как свой.
Так, должно быть, через час, а то и меньше, вернулся Ванька-Козел, поручение выполнил, привет от тети Агнюши принес, всё у нее в порядке, да вот забота одна есть, к Рождеству свинью резать ей придется, а из рабочих на хуторе ни одного нет, кто бы дело это понимал, не иначе как Филиппа Ситкина из Разуваева кликать надо. Он у всех Пономаревых каждый год свиней режет. В прошлом году пришел он к нам для молотников свинью зарезать, в свинушник зашел, повалил ее, а она стала вырываться, а Филипп ей на горб сел, и за шерсть руками уцепился. Вынесла его свинья в степь, а он одно — как врос, и ни-ни. Таскала она его таскала, верст, поди, с пять он на ней проскакал, пока аж в конце балки Рассыпной упала: уморилась во-взят. Тут он ее и прирезал. Сразу же ему туда воз соломы отвезли, свинью ту опалить и девки поехали, воду в бочке повезли. А так и не сбила казака чёртова скотиняка. С того времени в станице его «кабаньим джигитом» прозвали. Только не дюже с него посмеешься: без него, как без рук — фершал он, заместо доктора орудует. Пьявки, скажем, постановить, банки али припарки какие. И водкой лечит. Народ ничего, не жалится. А кому время помирать подошло, того не только Филипп, того и черкасские доктора всё одно не отходят. На всё воля Божья. Так вот — придется к Филиппу Ваньку-Козла посылать, нехай к нам за недельку перед Рождеством придет, а потом и к тете Агнее. Никуда не денешься, без него — как без рук.
— Господи Иисусе Христе, — при каждом порыве ветра бабушка крестится и смотрит на иконы, — спаси нас, грешных, и помилуй. Шутка сказать, послали человека за елкой, три дня об нем ни слуху, ни духу, уж не сбился ли с дороги? В такую погоду, да в степи, очень даже просто и замерзнуть можно! Ох, грехи наши, пречистая Мать Богородица…
Дедушка откладывает газету, которую, не читая, листает он добрых полчаса.
— Ты, Наталья, не дюже. Все под Богом ходим. А Матвей твой вовсе не такой дурак, чтоб замерзнуть. Поди, сидит где в теплой хате, твою водку пьет. Што ему, в первый раз, што ли, в мятель по степи ездить? Д-д-а-а, метет, что и говорить, этак и до Рождества не уляжется. Коли завтра дуть не перестанет, будет еще три дня нести, а за шесть дней не уляжется, все двенадцать продует. Такой уж порядок Илья-пророк завел, никуда не денешься. А теперь, от пустых мыслей — на насест, утро вечера мудренее.
Утром, день это Семёновых именин, остается он в кровати немного подольше. Метель пуржит с такой же силой, как и вчера, Жако и не думает вылезать из-под одеяла, пригрелся и зорюет, видя прекрасные собачьи сны. Слышно, как открыли в коридоре дверцы «голландки» и накладывают туда дров. Видно, нынче все проспали. Погружается Семён в чтение. Но вот проснулся и Жако, вылез наружу, сладко зевнул, показав розовый язык, и спрыгнул на одеяло. Теперь ничего не поделаешь, вставать надо.
В столовой давно уже все сидят за утренним чаем. Бабушка и мама одеты по-праздничному, отец и дедушка в синих щегольских чекменях. Господи Ты, Боже мой, да ведь это же такой парад по случаю дня рождения внука! У его тарелки горка пакетиков, перевязанных цветными лентами, в углу столовой почему-то лежит большой, затянутый крепкой веревкой, рогожный тюк. Доброго утра желает внук сначала бабушке, потом дедушке и, наконец, отцу, все крестят его и целуют, а мама долго не выпускает его головы из своих рук, целует и вдруг весело смеется:
— Будь же здоров на десятом году жизни! Последний это твой вольный год. Отвезем тебя на будущую зиму в Камышин, пора за науку браться, а теперь — закуси-ка, да глянем, что тебе ангел твой за ночь припас.
Дедушка наливает всем наливки:
— А как вы думаете, не выпить ли нам по сему, столь выдающемуся, случаю?
Бабушка сегодня не сердится:
— Ну, дай Бог, внучек, счастья, здоровья и многолетия, а нам от тебя радости и утешения!
Дедушка пьет, морщится для порядку и мотает головой:
— Что ж, не будет томить долгим ожиданием, эй, Мотька, тяни-ка вон ту штуку сюда поближе!
Наклоняется дед к большому свертку в рогоже, быстро его развязывает, и ахает Семён от восторга: новенькое казачье седло лежит перед ним, тускло светя перекинутыми через подушки стременами. Не успевает он перевести дух, как видит: из длинной связки появляются прекрасные, длинные, точно такие, как у отца, бамбуковые удилища. Бабушка дарит ему теплую шапку с наушниками, мама новые, по мерке сваленные валенки, подшитые черной блестящей кожей, чтобы не промокали. Мотька связала варежки, кухарка две пары чулок, шерстяных, толстых, теплых, как голландская печь. Теперь без страху можно на щук ходить и ушей не отморозить, и ноги зябнуть не будут. Мельник искусно вырезал деревянный кораблик-парусник, служил он когда-то во флоте, дело это понимает, не кораблик, а загляденье. От тети Агнюши привезли вот и новые шаровары с лампасами, гимнастерку, пояс с набором и хромовые сапожки, дядя Петя послал казачью фуражку с кокардой. Тетя Мина приготовила огромный баум-кухен, дядя Андрей набор блёсенок и крючков. Совершенно растерявшись от множества подарков, узнаёт задыхающийся от счастья именинник, что велено ему после завтрака немедленно пройти в конюшню. Переодевшись в полный казачий костюм, спешно окончив завтрак, отправляется он в сопровождении отца и деда на конюшню и с удивлением смотрит в стойло направо, — стоит там молодая рыжая кобылица, жует сено, косится на вошедших карим глазом. И тут же сообщают ему, что звать кобылу Маруськой и что подарок это ему от дяди Воли с тетей Верой и двоюродных братьев, пусть по-настоящему верхом ездить учится. Казак он аль нет?
Дед сует ему куски сахара, кладет он их на свою ладонь и протягивает Маруське. Быстро теплыми мягкими губами аккуратно забирает она сахар, хрумкнув, жует, кивая головой, и немного повернувшись поближе, переступив, снова глядит на ладонь с новой порцией. Тут же, на столбе, висит новая щегольская уздечка — только зануздать да вести. Да когда же эта проклятая метель кончится? Чуть ли не до обеда остается он в конюшне. Скормил Маруське весь сахар, под присмотром Ваньки-Козла, когда-то в гусарах служившего, почистил Маруську и стойло так, как это на военной службе полагается, и озлился на Мотьку, пришедшую тащить его на обед.
— Ну ось, панычку, тэпэр вы справжний козак. В цьому роци коня здобулы, а у наступному женыться вам трэба!
Мотька хохочет и бежит к дому. Гонится он за ней и не на шутку злится — да никогда в жизни не станет он жениться. Вон и дедушка всегда говорит, что с бабами только колгота одна. Бестолковый народ. Дура и Мотька, вот что.
Шум ветра и гул метели продолжались неизменно, жалобно скрипнули ставни, гоняли вьюшки, завывает ветер в трубах. А так около шести вечера взбунтовались на дворе собаки. Бабушка закрестилась:
— Никак нам Бог кого-то в непогодь посылает! Хлопнула наружная дверь, в кухне кто-то глухо забубнил, послышались радостные восклицания, распахнулась дверь в столовой и с еще обмерзшими усами и бровями предстал перед сидевшими за столом, в одних белых чулках, красный от мороза Матвей.
— Добрый вечер! Во, притрюхал я помаленьку.
Молча наливает дедушка чайный стакан водки и подает приехавшему:
— С прибытием тебя, приложись-ка со страхом Божиим.
Обломав лед с усов, истово крестится Матвей на иконы, медленно берет стакан и спокойно, как воду, глоток за глотком, пьет водку.
Дедушка садится поближе к Матвею, как только тот наелся.
— Теперь докладывай, поди, не хуже было, как отцу твоему на Шипке?
Семён срывается с места, удостоверяется на дворе, что в санях лежат елки, а Мотька тащит его в дом, вспоминает он, что пообещала бабушка рассказать ему сказку, идет в свою комнату раньше обычного. Укладывается в кровати один — Жако на половичке, мама в ногах сына, а бабушка в кресле. Можно и слушать.
— А когда сотворил Бог небо и землю, и всё, что на ней произростало, и отделил воду от суши и указал рекам путь ихний, вот и потек тогда Дон наш батюшка от Иван-озера к морю Азовскому. И расселились тогда же казаки по Полю Дикому, по степи казачьей, по Дону по реке. И послал тогда Бог Оленя, зверя доброго, казакам в степи, в знак того, что добро он казакам хочет и что быть тому Оленю у казаков знаком Божьяго к ним благоволения. И не свелел Бог казакам на Оленя охотиться, а Оленю у казаков пшеницу топтать. Зимой же, когда занесет всё снегом, и нечего Оленю есть будет, нехай он в первый же курень заходит, всего ему детишки натащат. Вот так и жили они, казаки и олени, в дружбе доброй. И много лет над землей пролетело, и много снежных зим прошло, и была в степи жизнь счастливая, да случилась беда страшная. Там, на севере лютом, далеко-далеко, где люди промеж кочек да болот, да в лесах дремучих жили, злым царям своим покоряючись, судьям неправедным дань принося…
Ох! — бабушка прерывает рассказ, смотрит на икону, висящую над изголовьем кровати и медленно крестится. — Господи, Господи, да вразуми же Ты нас, грешных, втолкуй нам мысли правильные, укажи пути истины, ох, ну, слухай дале…
В царстве людей тех, Темным оно прозывалось, не вытерпел народ поругания над собой царско-боярского, и снялись многие с мест своих и пошли, в страхе и горе, через те болота, через те трясины, через те леса темные вольной, правильной жизни искать. А слыхали они, прошла земля слухом, будто есть она только в Поле Диком. Шли они шли, шли-шли, вышли из лесу — и дух у них захватило: легла перед ними степь необъятная, куда ни глянешь, ни конца ни краю ей не видно. Огляделись получше, а во-он, у балки, не только жилье человеческое видать, но и церковь Божия стоит и горит на колокольне крест православный. И пошли они, оборванные, голодные, босые, бездорожьем, прямо по степи, к тому жилью человеческому, путь свой на тот крест сияющий держа. А был то хутор казачий и звался он — Порубежный.
Увидали казаки, что прет какая-то толпа людей незнаемых, вышли на зады, диву даются: кто бы это быть мог, што за люди чудные такие? А вышли, как казакам полагается — при оружии, луки-стрелы у них, ружья-самопалы, сабли вострые. Как разглядели те пришельцы казаков вооруженных, пали на землю, земно кланяться зачали, бабы ихние истошными голосами завыли, детишки ихние заплакали. И такой они все шум и гам несусветный подняли, што схватились птицы небесные с попасу степного, высоко в небо залетели, тучами над землей закружились, закагакали, засвистели, закурлыкали. Стоят казаки порубежинские и ничего понять не могут: света это преставление или ишо беда какая? Тут и вышел вперед атаман хуторской. Махнул он своей насекой:
— Гей, — шумить, — а ну бросьтя вы кувыркаться, голосить бросьтя, а расскажитя вы нам, што вы за люди и чего вам от нас, казаков, надо?
Вышел тут из толпы новоприходной один из них, тот, што трошки побойчей был, пал обратно на колени и говорит:
— Не прикажи, атаман, казнить, прикажи слово молвить.
— Да говори, шут с тобой, того тольки я и добиваюсь.
И обсказал итот пришелец, Микишкой звать его было, што рабы они, холопы бояр и царей царства Темного, што попухли они с голодухи, на господ своих работая, что мучат их и безвинно казнят судьи неправедные, што пытают их и бьют в башнях пытошных, в железа кидают, продают, как скотину, жену от мужа, детей от родителей, а то и на собак меняют. И вот порешили они из царства того убечь, куда глаза глядят, может быть, найдут они пристанище тихое. Сказал он те слова и снова толпа пришельцев тех заголосила, бабы взвыли, детишки заплакали, старухи запричитали. А мужики, те шапки поскидали, стали все, а как есть, в траву на колени, поклонились ишо раз казакам земно и еще раз сказали:
— Примите нас, казаки, Бога для!
Переглянулись меж собой казаки, подивились тому рассказу, получше к пришедшим попригляделись: тю, а ить тоже вроде люди! Похожи на людей! И Господа Бога нашего поминают. Почесали затылки и порешили:
— Оставайтесь промеж нас, люди добрые. Расселяйтесь в городках и хуторах наших. Мастяруйтя и трудитесь, земли и степи, и рыбы, и живности для всех нас хватит. И ничего не бойтесь, никаких царей лютых, с Дону нашего нету выдачи. Так вот и остались пришельцы те промеж казаками жить. И много тому времени прошло, и жили они, как у Христа за пазухой, да так, одново разу, прибегает тот Микишка к атаману и слезно просит его вдарить в колокол церковный, скликать казаков на сход, потому — хочет он, Микишка, весть какую-то сапчить. Свелел атаман в колокол вдарить, созвал казаков на сход, вышел тот Микишка на середку, шапку скинул, поясно во все четыре стороны поклонился и враз же зачал, плача, рассказывать:
— Браты вы наши, казачьи. И с тех самых пор, как пришедчи мы к вам в земли ваши, никак не потеряли мы вестей притоку с царства Темного. И дале всё, как есть, знали про жизнь про тамошнюю, обратно иттить никак не собирались, рабство-то кому сносить охота! Да довелось нам таперь дознатца, што ударили на царство Темное турки и татары, побили тыщи народу православного, мужиков и баб молодых в полон угнали, а детей и стариков со старухами лютой смерти предали. Храмы же Божии жгли они, поганцы, из икон костры складали. И потекла рекой кровь народа нашего. Братья казаки, християне православные! Пособитя! Прогонитя вы тех ханов, и салтанов, и князей, и пребудет слава ваша во век и век, пока солнце над землей светит.
Долго промеж себя казаки советовались. Долго туды и суды прикидывали и порешили:
— За веру и Бога Единого, за свободу и правду, против рабства и неволи, на коней, братцы!
Эх, как взыграли коники на дыбошки! Эх, как вострубили трубы ратные, Эх, как взмыли к самому небу казачьи песни походные!
И пошли казаки против врагов и супостатов. Бьются они в чужих землях, кладут свои головы, множат сирот и вдов по Дону, пашней не пашут, в житницы сбирать некому, одно знают — за Веру и Правду бьются.
И до того у них дошло на Дону, што тем, кто еще остался там, есть нечего стало, страшным мором, повальной смертью захозяйничал в Степи — голод. Повертались воевавшие в странах далеких, собрались все до одного, оглянулись — мало их, вовсе мало осталось, а и тем, кто остался из них, тоже есть нечего.
И забывши свое слово крепкое, Богу данное, побили они в степи друзей своих — оленей, посвежевали, сели на траву и только что трапезовать хотели, той жареной оленины отведать, как вдарил гром в небе чистом. Полохнула молонья в небе безоблачном и раздался над Степью голос Самого Господа и Бога нашего:
— Мир сей сотворивши, отвел Я детям моим, казакам донским, Дон-реку и Степи для жизни вольной. И послал Я к вам, казакам Донским, Оленя, зверя доброго, залогом любви моей и вашего в степи благоденствия. Вы же, славою земною прельстившись, пошли на брань за дело вам чужое и ненужное и тем преступили мои законы. Рабскому царству покорили вы полсвета, славу себе суетную стяжали, словом же Божьим пренебрегли. И запустел Дон казачьими головами, заросли сорняками пашни ваши, и пошел гулять по степи вашей черный голод. И, его убоясь, перебили вы Оленей моих, Мною вам посланных. Теперь же знайте — упокою всех в боях павших, но нет живущим моего прощения.
И когда стих голос Господен — померкло солнце, и не дал месяц света своего, пал, затих степной ветер, заволокло тучей небо и потухли в нем звезды ясные, непроглядной ночью окуталась земля и покрылась немым молчанием.
В ужасе и в тоске, в слезах безнадежных пали казаки ниц, не смея и головы поднять и глянуть в тьму непроглядную.
И вовосплакал какой-то младенец писком птичьим. Один. За ним — другой, за другим — третий. И понесся тот плач детский всё выше и выше, проник сквозь облака и тучи и пал у престола Божия.
В гневе был Господь, болело сердце Его от непослушания казачьяго и не думал Он прощать ослушников. Но всё громче, всё сильней, всё явственней звенел плач младенцев невинных, и не смог Бог стерпеть горя несмышленышей. Отлегло сердце Его и уронил и Он сам слезу горькую на землю. И где пала она, там и брызнули от нее искры и зажгли и звезду, и луну, и солнце. Стали казаки на колени, устремили взоря свои туда, где далеко-далеко, за толпой планет, солнц и созвездий, в неизмерном пространстве стоял трон Господен.
И смиловался Бог. И снова на Дону услыхали голос Его: «Много, много крови прольете вы, казаки, в сраженьях, вам ненужных, по-пустому. И пойдет на вас сила сатанинская и смутит, и соблазнит, и переведет, и побьет пошти што во-взят племя ваше. Но — упомните: придет он, день и час, и исполнится мера грехов ваших, с лихвой выплатится цена крови Оленей невинных, цена напрасного искания славы суетной. И придет тогда с Востока лавой новый табун добрых Оленей в степи ваши. И заживете вы тогда снова в мире вольным народом. А в память всего этого даю вам отныне в герб ваш Оленя, стрелой пронзенного, помните, в знаке этом — ваши грехи и ваше спасение.
На месте же том, где побили вы зверей моих любимых, выступят там воды черные и нальется там озеро, без рыбы, без ничего в нем живущаго. Следите за ним — слушайте, как кричат над ним бакланы, птицы вещие. Когда же не станет того озера, когда вдруг поднимутся в лёт и исчезнут оттуда бакланы, знайте — близок будет час избавления вашего…
Тихо говорит бабушка. Склонилась седая маленькая головка на правое плечо. В полутемной комнате, освещенной лишь лампадкой, чистым серебром звенит ее голос. Свернувшись клубком, спит на коврике верный друг — Жако. Широко открытыми глазами смотрит мама в темное ночное небо и кажется, будто горят на ресницах ее давно набежавшие слёзы. Страшно.
— Бабушка… а, бабушка… значит, простил Бог казаков?
— Простил, внучек, простил, только далеко еще день нашего искупления, далеко еще до счастливой на Дону жизни. А теперь спи, спи, да прости, што невеселую я тебе сказку рассказала, а для того, чтобы знал ты, что в жизни твоей должен ты все испытания твердо принять, веруя в дни счастья и каждый час их ожидая. Спи, внучек.
Шепча молитву, крестит его бабушка, крестит и мама. Оглянувшись на лампадку, уходят обе, осторожно закрывая дверь.
Дедушка, забив гвоздик в подоконник, примостился у окна вязать сетку. Нанизывая очки на гладко отполированную дощечку, неустанно мелькает полный ниток челнок. Мотька подкинула в печь антрацита, и холода бояться не приходится. Освободив стол от скатерти, навалил на него Семён разноцветной бумаги, картона, фольги и лент, и клеит для елки цепи и бомбоньерки. Дедушка сегодня особенно в ударе, хочется ему как можно больше сказать внуку:
— Ведь обломный урожай в этом году был. Сидим мы вот у горячей печки, да жалимся, что хлеб наш нипочем продавать приходится, а клиновские мужики, поди, уже его и поприели, а то и пропили, и вот, помяни мое слово, на Маслену половина их к нам притопает, ржицы или пшеницы до нового урожая просить. Ох, Господи, неустойка у Тебя с сотворением мира получилась. И в общем порядке, и в людей создании. Одним сроду никогда ничего не хватает, а другие с жиру бесятся, одни получились вроде и всправди по подобию и образу Твоему, но таких раз-два, да и обчелся, а другие — оторви кобелю хвост, мразь, сволота. А к чему я это говорю? Помнишь, побывали мы с тобой у дружка моего Гаврил Софроныча в Разуваеве… принадлежит он к категории людей твердокаменных, крепко убежденных. С такими спорить никак нельзя, потому, что за веру свою на рожон они лезут. Таким не возражают, а либо за ними следуют, либо отвергают их, потому что неспособны они человека понять и выслушать. Вот и проклинает он Русь. А никому еще проклятия никогда не помогли. Доказательство они бессилия. Так раненный смертельно боец один в поле лежит и врага своего клянет, а ни подняться, ни сразиться, ни поспорить за жизнь свою больше не может. Жалкий, бессильный, беспомощный. Тут нам, казакам, иное нужно. Не вылупились мы еще на торную дорожку. Необразованность и малочисленность наша, вот она беда. Вон еще в конце позапрошлого столетия был такой казак Сухоруков, историю он казачью писать начал, с русскими декабристами дружил. Хотели декабристы эти новую, хорошую Россию построить, переловили их, в Сибирь посылали, а кого и прикончили. Так вот, Сухоруков наш собрал материал, правду-матушку написать о нас хотел. И наскочили на него жандармы, всё, как есть, позабирали, на Кавказ служить его послали и плохо он кончил. А от рукописей его и след простыл. А потом вышла в России иная наша казачья историйка, по ней теперь наших господ офицеров обучают. И выходит по ней, что повелись казаки от беглых холопов. Понимаешь ты это или нет? Полячишка какой-то, по фамилии Броневский, эту царскому трону историйку особо нужную сам выдумал. Ее даже русский поэт Пушкин, уж нашто патриот дальше некуда, и тот высмеял. Да толку што? Вот и выходит: холоп русский, который, окромя болот да лесов, да конных бояр — сам лошадей иначе в глаза не видал, да так вот сбежал он вдруг в степь. И сразу же народоправство с выборами атаманов выдумал, сразу же к степной жизни применился, стал в челнах по морям ходить и лучшим в мире наездником сделался. А того не говорят, что жизнь народа, все умения его, сотнями лет развиваются, обыклостями от отцов и дедов на внуков переходят, а с неба никак не сваливаются". Вон Америку возьми — понабежал туда самый разный народ, и доси твердого порядка в новой державе установить не мог, а всё пистолетами дела свои решает. А потому, что жизнь народа с ноне на завтра не строится, а веками каждым народом на свой лад создается. Вот и говорю я тебе: наша, казаков, задача, коли выжить мы хотим, числом прибывать да учиться, до правды настоящей докапываться. Вон в пятом году взбунтовались многие, полки наши не хотели идти усмирять, а что получилось — поосудили и в Сибирь. И сидят там наши вместе с теми, кого пороли. А мы молчим да царю-батюшке «ура» кричим. А народ русский — вон он, на мельнице нашей, приглядывайся ты там к клиновцам получше, да сравнивай с казаками. Помнишь, как эти христиане православные всех вас живьем пожечь хотели? За сотни лет рабства образовался он, тупой, злобный, кровожадный душегуб. Испокон веков это. А на суде клиновцы: «Не виноваты мы, чёрт нас попутал». Вот и напирает теперь отец твой на образование и реформы, всё надеется, что сверху для всех нас спасение придет, ну, а как я наблюдаю, у тех, что в России на верхах сидят, у них с народом разрыв получился. Либо чувствуют себя самим Богом на стулья ихние посаженными, либо боятся его, а всё на него сверху вниз глядят. Это не мы, что на мельнице каждому Микишке все его пульсы прощупали. А те и боятся народ свой собственный и ненавидят его, а он им злобой платит. Вместо того, чтобы всё взвесить и устроить по-божески. Тогда и наверху сидящие усидят. Есть и такие, вроде твоего Савелия Степановича, что социалистами увлекается. Ох, и тут ухо востро держи. Там многие только хотят, что до власти дорваться, да в свою веру верят, для которой им чужой крови никак не жалко. У них теория ихняя — это главное, а как начнут ее на косточках людских применять, то и придется им косточки эти под теорию так гнуть, как один из героев Достоевского требовал: сто миллионов голов для нового ихняго порядка. И это из старых времен ведется, вспомни, как Москва княжество, а потом царство свое, строила, третий свой Рим. Православный царь Иван Грозный в православном Нижнем Новгороде столько народа переказнил, что юродивый один ему кусок сырого мяса на мосту преподнес: жри, царь великий. Вот так, вместе с княжествами и трупами, проглотили они и нас. И служим мы им теперь верой и правдой, хоть Бакланова нашего, покорителя Кавказа, возьми, хоть Платова-Атамана, что Наполеону укорот дал. Эх, сиди мы не в степи, а, скажем, на Кавказе, иной бы у нас коленкор получился. Никогда бы нас Россия не одолела. Не горцы мы, воевал я, знаю, галдеть они мастера, умирать умеют, да ведь не вся штука в том, што по-дурному на нож лезешь! Довелось мне раз в Питере на собрании одного тайного общества побывать — кудлатые, грязные, вонючие, страсть и сказать, а авторитеты такие, что и профессора для них ништо. И у них, кроме злобы и ненависти и книжных идей, ни черта в головах нету. А того не знают, что за две тысячи лет перебрали люди все рецепты и ничего теперь нового ни придумать, и тебе говорю, если бы все на свете сумели нашу казачью науку в общей жизни применить, иная бы музыка пошла…
Но — пойдем, пойдем, вон, в столовой уж тарелками звенят, а то влетит нам от бабушки за опоздание по первое число.
Мотька разодета сегодня в пух и прах:
— А ну, йдить, панычку, в столову!
Отец исчез в гостиной, это он свечи зажигать пошел. А какой дедушка сегодня нарядный — в синем старинном чекмене, подпоясан кавказским поясом, сапоги хромовые, мягкие, шаровары синие гвардейские, напускные. На груди тускло поблескивают ордена из трех кампаний, борода и бакенбарды расчесаны аккуратно, вьется лихой чуб из серебряно-седых волос. Хоть картину с него пиши. В женских платьях, в них разобраться куда тяжелей, но шуршат они у всех. Все дамы сегодня в талиях тонки, как осы, даже тетя Агнюша. Бабушка одета строго, в темном, с наброшенной на плечи персидской шалью. Мама совсем красавица, у нее, как у тети Веры, какая-то особенно высокая прическа, платье с кружевами, рукава длинные и тоже оторочены кружевами, как и у тети Веры. Только и цвет, и фасон иной. Смотрит сын на мать восторженными глазами и не замечает появившагося в гостиной отца, в шароварах с лампасами, в мундире и эполетах.
— Милости прошу, да тише, вы, дети, в дверях не передушитесь.
Влетают они в гостиную и останавливаются, как вкопанные. В середине комнаты высокая, до самого потолка, со звездой на верхушке, стоит она, пушистая, такая зеленая и нарядная, елка. Цепи, что всеми ими целую неделю клеились, обвивают ее сверху донизу. Бонбоньерки, яблоки, апельсины, орехи, хлопушки, разноцветные стеклянные шары, ярко горящие свечи. А под елкой гора пакетов, свертков, узелков. Подарки это для всех домашних.
Первой получает подарки бабушка, потом все тёти и вся женская прислуга, все, кто вообще у них работает, а для Семена вытянули из картонки маленькую паровую машину. Мина Егоровна подарила ему «Лесного царя», протягивает его племяннику и декламирует:
Вер райтет зо шпет дурх нахт унд винд, Дас ист дер фатер мит зайнем кинд…И читает всю поэму до конца.
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, Ездок запоздалый, с ним сын молодой, К отцу, весь иззябнув, малютка приник, Обняв его, держит и греет старик.Её дослушав, бабушка обратила лицо к образам, на восток, и запела:
Рождество Твое, Христе Боже наш, Воссия мирови свет разума… Воссия мирови свет разума. В нем бо звездам служащий И звездою учахуся. Тебе кланяемся, солнце правды, И Тебе видети с высоты востока, Господи, слава Тебе.Поют и «Дева днесь…», поют все тихо и истово, голос бабушки перекрывается басом деда, то Мотькиным сопрано.
Мама садится к роялю, кивает Мине Егоровне, и та начинает петь:
Штилле нахт, хайлиге нахт, Аллее шлэфт, айнзам вахт…И всем кажется, что доносится это пение оттуда, из далека, из ее туманной родины.
Не успели закончить певцы, как появилась Мотька с подносом, заставленным бокалами для шампанского. Отец вытаскивает ведерко с замороженной в нем бутылкой, и вот уж пробка летит в воздух:
— С праздником, с Рождеством Христовым!
В пять часов утра зимой вставать никто бы и ни подумал, если бы не знатьё, что придут сегодня из Разуваева христославы. Поэтому никто и не удивился, услыхав ни свет, ни заря собачий лай во дворе. Поднявшись до петухов, отмахали первые христославы расстояние от Разуваева до хутора Пономаревых в рекордное время. Совершенно перемерзшими стоят они перед темным еще домом, с плотно закрытыми ставнями:
— Во имя Отца и Сына!
— И Святого Духа!
С десяток мальчишек сразу, всей толпой, врываются в кухню и, напустив в нее целое облако холодного воздуха, замирают у порога. Огонь в печи уже горит, тепло, можно немного и отогреться. Схватив веник, обметает Федосья валенки ребятишек, те раскручивают шали и башлыки, суют по углам шапки, демонстрируя свой парадный вид.
— А ну — заскакивайте!
Мотька уже зажгла свечи на елке. Гости выстраиваются у стены против еще с вечера стоящего боком открытого рояля. Во все глаза глядят они на собравшихся в зале хозяев, на своего предводителя, и лишь по его знаку, сразу, одним духом, не спуская глаз с лампады под иконами, начинают:
— Рождество Твое, Христе Боже наш…
Истово крестится бабушка и, неслышно шевеля губами, повторяет слова молитвы. Пропев первое песнопение, шумно передохнув, ребятишки продолжают:
Дева днесь Присущественного рождает, И земля вертеп неприступному приносит, Ангелы с пастыри славословят, Волхвы же со звездою путешествуют. Нас бо ради родися Отроча младо, предвечный Бог!Едва выговорив последнее слово тропаря, весь хор дружно приветствует хозяев:
— С праздником, с Рождеством Христовым!
Ответ хозяев звенит непосредственно за детскими голосами. Мотька быстро вытирает снежную лужу из-под ног ребятишек, осторожно отступающих к стене. Первой подходит к их старшему бабушка:
— Спаси те Христос, что потрудился для Бога и для нашей радости. А чей же ты есть?
— Ляксандра я, урядника Самсонова, сын, энтого, што новый курень становил, вы нам ишо трошки камышу на крышу дали.
Казачонок отвечает бойко, сразу видно, что прошел он дома у отца хорошую выучку прежде чем разрешили ему отправиться христославить.
— А-а, знаю, знаю, как не знать, молодец, молодец, а вот тебе и на всю честную компанию!
Бабушка дает казачонку серебряный рубль, по гривеннику на нос. Это единственный день в году, когда она не экономит. Ведь только раз в году узнаём мы о радости великой — родился Он, Спаситель наш. И узнаём это от детишек малых.
Мама оделяет их пряниками, конфетами и кусками сахара. Кухарка кладет в припасенный на то мешок пирогов, колбасы и сала. Совсем оттаяли ребятишки, смотрят весело и непринужденно, на вопросы отвечают, не стесняясь. Все обходят вокруг елки, получают от Семёна яблоки, орехи и засахаренные фрукты. Дедушка подводит к подносу, полному сладостей:
— А ну — дувань, ребята!..
Не успели уйти малыши, как являются подростки. Всё происходит так же, как и у первых христославов. Тут и Гришатка, Петька и Саша. С ними договаривается Семён о Новом годе, когда пойдет и он колядовать, петь «Овсень». Сначала не очень-то ему верят, но, сказав — вот те крест — и перекрестившись при этом на образа, отстраняет он все их сомнения. Уходят и подростки, едва таща мешок с полученными подарками. А так часу в девятом извещает собачий лай о прибытии третьей группы, казаков — служивых.
Одетые в полную парадную форму своих полков, зачесав чубы и чисто выбрившись, еще дома хватив по рюмочке по случаю праздника, ведут они себя сдержанно и с достоинством, говорят тихо и почтительно. И эти выстраиваются возле елки и поют всё положенное, так, как и детишки, только вместо слова «волхвы» серьезно выговаривают: «Волки же со звездою патишествують!». Никто их не поправляет: «волхвы». Всем кажется, будто сами они видят: как, высоко задрав к небу морды, смотрели дикие волки на звезду Вифлеема и потрусили потом за всеми шедшими к яслям, чтобы поклониться лежащему в них Христу, Спасителю мира.
Но угощение взрослых христославов имеет вовсе иной характер. Большой стол раздвигается на всю длину, все садятся вокруг него, теперь заставленного бутылками и закусками. Разговоры ведутся об урожае, о делах по хозяйству, о неустанно растущих ценах, о всём, что происходит в станице и округе… Беседа продолжается добрый час, гости раскраснелись, говорят всё веселей и непринужденней, но вот старший благодарит хозяев за угощение и беседу, и на не совсем твердых ногах покидают они столовую, унося данную им в конверте десятку. Дверь тихо закрывается, крестится бабушка:
— Слава Тебе, Господи, встрели праздники, как полагается!
Но долго еще все вспоминали, как христославы заменили волхвов «волками».
Дедушка кладет руку на голову внука:
— Так-то у нас, казаков, глянь — и волки Христа славят. Сказано же — всякое дыхание да славит Господа!
— Значит, и я?
— Конечно же, и ты!
— Значит, можно мне будет на Новый год с казачатами в Разуваеве колядовать. Ведь и я — дыхание! «Овсень» петь будем.
Все переглядываются, ясное дело, поймал внук на слове. Мать целует его, дедушка качает головой:
— И хитрющий же из тебя жук получается! Так и быть — отвезу тебя сам под Новый год к тетке Анне, ее поздравим и твое дело сделаем. Только допоздна не задерживаться, Новый год все у дяди Андрюши встречать будем, везде нам поспеть надо.
Вечером под Новый год садятся бабушка с дедом в широкие сани, покрытые ковром. В них запряжена тройка с бубенцами и колокольчиком под дугой коренника. Сбрую надели новую, щегольскую. Укутанный так, что и дышать ему трудно, усаживается Семён спиною к Матвею и, перебежав рысью мостики, берут кони в карьер. Восторженно лающие собаки стараются проводить их как можно дальше. Лежит теперь перед ними белый пушистый ковер, широко выбрасывая стройные ноги, слегка покачивается коренник, да, согнув в разные стороны головы, рвут постромки пристяжные. На высокой дуге захлебывается колокольчик, рассыпали тоненько бубенцы голоса свои по всей долине замерзшей речки, и, оглянуться они не успели, как остановились кони перед воротами тетки Анны. Едва с ней поздоровавшись, выскакивает Семён на улицу, бежит по сугробам к куреню Гаврилы Софроныча и находит там всех своих сотоварищей в полном сборе. Быстро выбрав атамана и обозного, идут они по темным улицам к первому куреню, у которого будут они петь «Овсень». Атаман выходит на середину и дает сигнал:
Ов-се-ень, Ов-се-ень! Мы ходили, мы ходили, Во святые вечера, Ов-се-ень, Ов-се-ень, Мы искали, мы искали, Атаманов курень, Атаманов курень На краю стоял.Окно куреня распахиваются, в нем появляются головы хозяев.
Ох, пошли же мы гулять, За татарами гонять, За татарами гонять, Да «языки» доставать, К атаману слать, Штоб спокойно спать. Ов-се-ень, Ов-се-ень! Мы прогнали всех татар, Атаман, давай нам дар!Дверь куреня скрыпит, на пороге появляются хозяева. Старик дает атаману деньги, жена его кладет в мешок обозного пироги, сучуг, куски сала. Ребятишки благодарят и бегут к следующему куреню. Холода никто не чувствует. Добрых два часа продолжается обход хутора, последний курень — к тетке. Спев всё положенное и получив и здесь деньги и всё иное, быстро делят ребяты свое добро, и, как Семён не отказывается, должен и он забрать свою часть — двенадцать копеек, полтора пирога, один сучуг и несколько кусков сала с двумя полными горстями конфет. Вот здорово — сучуг, приготовленный казачками, любит бабушка, а на двенадцать копеек купит он в Ольховке любимое монпансье Ландрина. Быстрое прощание с теткой, тройка несется снова по хорошо наезженной дороге… Звёзды сегодня горят так, будто их Мотька кирпичем натерла. Эх, скакать бы так без конца, да ворчит что-то бабушка о том, что коней пожалеть надо, ну куда он, Матвей, гонит? Животные никак не виноваты, что мы, с дуром, в скачке, празднуем. Всё ближе и ближе дом дяди Андрюши. Радостный встречный лай собак, угадавших в приезжих своих, яркий на снегу свет широко распахнувшейся двери и сердитый голос дяди Андрея:
— А ну, поскорей, поскорей вылезайте, весь курень выхолодили.
В доме натоплено жарко. Стол давно накрыт. Мама с отцом приехали раньше их. Приехали и майорша, и батюшка из Ольховской церкви. Бабушка этому особенно рада, есть теперь ей с кем о божественном поговорить, не все же о мирском пещись и о душе подумать надо.
Отец Ириней толст, с одышкой, волосы редки и падают на плечи жирными рыжими косичками. Лицо красное, глазки маленькие, бегают мимо лиц, шарят по всему тому, что на столе понаставлено, лишь на мгновение останавливаются на собеседнике и снова заглядывают в углы, на потолок, на ковер.
— Истинно говорю вам, Наталия Ивановна, как на духу, не те времена настали, шаткость в вере великая, к святой церкви невнимание, а дары ей приносимые — скудны. Сами подумайте, как же теперь лицу, саном священническим облаченному, себя на высоте подобающей содержать прикажете, коли матушка моя, к примеру сказать, только тем и занимается, что на рясах да на стихарях, извините, латки ставит. Не будь таких, как вы или родственники ваши, в запустение, в нищету бы пришла церковь наша. Уж не раз я Марфе Марковне моей говорил: не убивайся, и тем паче не ропщи, но моли со мною купно Господа за всех, иже в благих деяниях и щедротах своих не оскудевают, но паче и паче ко алтарю дары свои приносят.
Слышит Семён слова батюшки, видит умиленное и смущенное лицо бабушки, переводит глаза на деда, и слышит, что тот отцу его шепчет:
— Слыхал, Сергей, о дарах к алтарю? Да гуси и утки наши дальше поповской кухни сроду не залетали. Ох, уж мне эти побирушки в рясах. Терпеть не могу!
Полицейский пристав из Ольховки, тоже сегодня приглашенный, в мундире и эполетах, подтянутый, с лихо закрученными усами, уже раскрасневшийся от принятого вовнутрь, наклоняется через стол:
— Помилуйте, господин полковник, отпустите душу на покаяние, но честному слову верьте, нет никаких моих сил больше. Ну, отслужился я в гусарах, ну, разорился мой отец на своих ста десятинах, ну, вынужден был я пойти в полицию, ну, и сижу теперь вот в этой ольховской дыре, и сам не знаю, куда бы мне исчезнуть, раствориться, хоть к чёрту на кулички уйти, но только в полиции не служить. Возьмите хохлов моих — с теми я кое-как управляюсь. Понабежали сюда откуда-то, как большинство из них говорит — с Полтавы, осели, землю арендовать начали, налегли на плуги и бороны, дни-ночи не спят, хаты ставят, скотину покупают, при случае приворовывают, чужое сено косят, но потихоньку письни свои спивают, а когда такой с горя и напьется, то мне и делать с ним нечего — тáк его дома Гапка скалкой обработает, что за мое почтение. Смирный народ, что и говорить, если и жульничают, то по мелочам хитрят, а насквозь их видать. И всё чего-то ждут, приглядываются ко всему и помалкивают. Иные Шевченко ихняго читают, москалей он проклинает и нравится им это, несмотря на то, что как раз к этим москалям они с Украины своей и убежали. Но, откровенно говоря, неплохие, нет, неплохие хохлы мои. Но — совсем иной коленкор, вот, например, Клиновка. Пятый год, напоминать вам не буду, без меня знаете, какие они номера выкидывали. Круглый год они с хлеба на квас перебиваются, землишки своей нет, арендовать да работать, как хохлы, — не мастера, а коли и заарендует, норовит надуть, недоплатить, выкрутиться. Помещики им и земли в аренду давать не хотят. Жулик — народ. А что ни праздник, то и скачи к ним на пьяную драку с поножовщиной. Приведут ко мне такого героя, оборванный, грязный, сопливый, волосы на нем торчат, как на утопленнике, мычит что-то, как скотиняка, а спросишь его, как же это мог он соседа своего ножом пырнуть, всегда, ну всегда, одно и то же, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, не иначе как чёрт попутал! И норовит на колени упасть, а глядит на вас такими глазами, что думаешь, вот и тебя сейчас ножом пырнет. А тут им в помощь разная молодая интеллигенция развелась, учителя, студенты, курсистки. Приезжают, пешком приходят, книжечки разные раздают, всякую запрещенную литературу по целому уезду распихивают. Ты его за шиворот, а он в крик: жандармы, насильники. Мы, говорят, передовая интеллигенция, образованные, Лев, говорят, Толстой, Маркс, Энгельс. И кого ни возьми из них — за душой ни гроша. Деньги им партия их экспроприациями добывает. То есть грабежом и разбоем. И только с жуликами да арестантами водятся, материнское молоко на губах у них не обсохло, а они норовят каждого поучить, наставить, как государство перестроить надо. А как — да поджогами, кровью, убийствами министров, губернаторов, самих царей. Вот интеллигенция. Нет, увольте, еще раз заверяю: забежал бы куда-нибудь, куда глаза глядят, от этого народа-богоносца, да деваться некуда. А кто-кто — я-то уж знаю их распрекрасно…
Дядя Андрюша сегодня в прекрасном настроении:
— Милые вы мои гостёчки, милостливые государи и государыни, коли уж попались вы мне с Минушкой моей в лапы, то уж извольте без лишних разговорчиков и прений приналечь на всё, на столе поставленное, все рассуждения отставя. Действуют они на пищеварение и миропонимание разрушительно, и дух человеческий приводят в уныние. А уныние, вот хоть отца Иринея спросите, ничто иное как диавольское наваждение. Посему — опрокинем же, благословясь, по единой, с единственным намерением перейти потом к следующей. Благословите, отец Ириней!
Батюшка первым опрокидывает свою рюмку, все тянутся к стопкам и стаканам, разговоры замолкают, лишь звенит посуда да хлопают пробки. Дядя Андрей передышки не дает:
— И всё-то есть суета и всяческая суета, как в Писании сказано. Спросите отца Иринея, и он подтвердит, что, коли уж попал к столу, то суетиться нечего, а лишь следить, чтобы рюмочки, как в конном строю, перестраивались. Минушка, положи ты мне осетринки, мне нынче что-то рыбки в охотку.
«Бом-бом-бом!», — удары стенных часов звенят по всему дому. Быстро откупоривает дядя Андрей бутылку шампанского, играя и искрясь, льется вино в подставленные бокалы. С последним ударом часов все встают и весело чокаются:
— С Новым годом, с новым счастьем!
Высокий бокал в руках дедушки вдруг как-то жалобно звенит, раскалывается, и вино льется на чекмень. В руке деда остается лишь ножка от бокала. Бабушка, наклоняясь к нему, трет платком залитое вином место:
— Спаси, Господи, и помилуй. А ты, когда чокаешься, знать должен, что не горшок это и не черепушка, а стекло тонкое.
Дедушка смущен, но высоко поднимает новый, полный, стакан:
— Ну-ну-ну! Дай Бог всем счастья и долголетия!
Все пьют, пьет и бабушка, не сводя глаз с мужа, тетя Мина и тетя Агнюша чему-то смеются, тетя Вера тащит за рояль маму, Семён отправляется на кухню. Кухарка Авдотья почему-то трет фартуком глаза:
— Ох, Господи, не к добру это, не к добру. И стакан весь, как есть, на мелкие кусочки, и вино всё вылилось! Силы небесные… святые заступники наши…
Семён круто поворачивает: дура баба, — идет в дальнюю комнату, садится на диван. «Ну и вино, чёрт бы его побрал, вот ошеломило, но, впрочем, неплохое, пить можно…». И засыпает, как убитый.
Масленица подходит. Блины бабушка печет сама, особенные, «царские» называются, во всей округе никто такие печь не умеет, хоть рецепт этот знают.
— А я, внучек, с молитвой пеку. У меня каждый блин под святым крестом спеет. Одно ты запомни: без Бога никакое дело человеческое добром не кончается.
Дедушка сегодня заявил, что охота ему еще разок, пока лед не оттаял, щуки по-польски попробовать. Никто, конечно, не возражал. Только у отца что-то нога опять разболелась, а Семёну с дедом никак идти нельзя, — Савелий Степанович приезжает, урок терять невозможно.
Морозец вчера был вовсе легкий, в полдень даже с катухов капать начало, снег вроде посерел. Забрав рано утром все свои причандалы, захватив легкую пешню и ведро, в валенках, в дубленом полушубке, но не в папахе, а в старой своей атаманской фуражке, пошел дед на щук один.
Немного погодя, сегодня приехал Савелий Степанович, как исключение, рано с утра, после обеда у него что-то важное в школе. Началось то, что называется: повторение — мать учения. Несчетные вопросы из давным-давно пройденного и порядком уже забытого. И снова: «в бассейн проведены две трубы». Но — что это, почему прискакал кто-то охлюпкой на рыжем жеребце Петра Ивановича? Что же это случиться могло, что сразу ускакал вместе с ним на Маруське отец? Почему вслед за ними, бешено стегая кнутом лошадей, укатил куда-то на санях, без шапки и шубы, Матвей?
— П-подождите минутку, пойду спрошу, видно, с-случи-лось что-то.
Савелий Степанович выбегает из комнаты и возвращается бледный, с явно трясущимся подбородком. Вслед за ним вбегает мама, вся заплаканная с таким отчаянием на лице, какого никогда он у нее не видел.
— Сёмушка, сыночек, пойдем, пойдем скорее, — она хватает его за руку вытаскивает в коридор, быстро-быстро идет в спальню, бросается там перед образами на колени, и страшные, конвульсивные рыдания поражают Семёна своим, каким-то почти нечеловеческим, стоном:
— Мама, мама, да что с тобой, да мама же!
— Стань, стань на колени, дедушка, дедушка утонул… Господи…
Ничего не понимая, не отдавая себе ни в чём отчета, становится Семён на колени, смотрит на образа, на Христа, на Матерь Божью, на тихий, как всегда, горящий огонек лампады, и кажется ему всё это каким-то чужим, нездешним, холодным и страшным…
Только на другой день узнал Семён все подробности.
В тот же день, когда отправился дедушка на щук, решил и дядя Петр Иванович попытать счастья на том же самом плёсе. Вышел он немного позже дедушки, совершенно и не подозревая, что и тот приедет рыбалить. И уже совсем близко подошел к реке, когда услыхал крик:
— По-да-айтя по-о-мочь!
Узнал он голос дедушки. Бросился по еще совсем глубоким сугробам к берегу и, добежав до кручи, увидел полынью с провалившимся льдом и плавающую посередине меж льдинами дедовскую атаманскую фуражку. Кинулся дядя домой, послал работника на мельницу, схватил багор, кликнул двух своих пастухов, прибежали они к промоине и, когда прискакал на Маруське отец, лежал уже дедушка на берегу, широко раскинув на притоптанном снегу руки. В правой ладони твердо была зажата дощечка со шнуром. На конце его серебряным лучиком блестел на солнце замерзший живец.
Три дня дом был полон чужих людей. Три дня из большой гостиной, в которой праздновали они Рождество, доносилось пение священников, там шла беспрерывная заупокойная служба. Только раз привели внука поклониться дедушке и проститься с ним. Лежал он в гробу, сделанном Микитой-мельником, со скрещенными на груди руками, с аккуратно расчесанной бородкой, и — спал. Спокойно и тихо, будто отдыхал от долгой-долгой дороги. Только совсем бледным было лицо, вот такое же доброе и милое, как и всегда.
Вся округа съехалась на похороны. Хоронили на Старом Хуторе, на семейном кладбище. Из Разуваева пришел взвод казаков, с ружьями и при шашках. Когда опускали гроб в могилу, дрогнул воздух от разнесшегося по степи залпа. Молча, у самой могилы стояла ставшая совсем маленькой бабушка. Никак не реагировала она на всё происходящее, ничего не видела, не чувствовала и не замечала. И подошел к ней отец разуваевского атамана, глубокий старик Гавриил Гавриилович Фирсов, и сказал ей:
— Не предавайся горю. Сама знаешь — все там будем. Одно помни: хорошей смертью помер полчок мой, а твой муженек Алексей Иваныч. На рыбальстве. Все Христовы ученики рыбилили, святое это дело. Сама мать Его рыбу сроду вкушала. А казаку помирать либо от пули, аль на рыбальстве — правильная это смерть. Тярьпи, Наталья. И Бог терпел…
После этих слов будто проснулась она, в себя будто пришла, оглянула всех и поклонилась в пояс:
— Спаси вас Христос, што пришли вы к мому Алеше последнюю ему честь отдать. И прошу вас в курень наш, на хутор, помянуть ево, как полагается.
Только поздно ночью показалось Семёну что-то странным — шорохи ли, звуки ли какие-то непонятные, поднялся он и подошел к бабушкиной двери. И услыхал тихий, безнадежный плач человека, потерявшего лучшего своего друга и с потерей этой примириться никак не могущего. Долго не мог внук заснуть, гладил лежавшего рядом Жако, дрожал тот мелкой дрожью, был необыкновенно смирен и тоже не спал. Обнял его Семён за шею, прижал к щеке его мордочку и горько, в первый раз за все это время, заплакал…
Как-то раз, уже в конце лета, вечером, взяла его бабушка за руку и повела во двор. Высыпало туда всё население их хутора и в страхе смотрели на темное небо, глядя, как завороженные, на страшное чудо Господне — высоко над лесом, огромная и яркая, стояла на небе звезда с горящим тысячью искр широким, далеко, до самого Разуваева, протянувшимся хвостом. В смущении, онемев, стояли все, сбившись в кучу, молча затаив дыхание, глядя на невиданное светило. Лишь бросив короткий взгляд на небо, повернула бабушка назад:
— Пойдемте лучше Богу помолимся, вон, написано, в Евангелии, что укажет нам Господь через знаки небесные, когда придет время покаянию, и придут страшные времена, о них уже узнаем через всадника белого, и позавидуют тогда умершим все, еще живущие…
Оставшийся на ужин Савелий Степанович задерживает своего ученика за руку:
— П-подождите. О-дну минутку, ничего страшного тут нет. Это комета Галлея, писали о ней астрономы давно, точно указали и день, и час ее появления. В-вот и весь секрет… Мир еще полон неоткрытых планет и тайн, наука их нам легко теперь толкует. Будьте же прежде всего мужчиной, как ваш дедушка.
* * *
Несколько раз говорила мама о том, что приедут к ним из Москвы гости. Особенно нетерпеливо ждал их отец: войсковой старшина Кононов, бывший его сослуживец, служил теперь в Первом Донском казачьем полку в Москве, там женился, имел две дочки, Катю и Валю. Екатерина Васильевна, его супруга, была дочерью богатого купца, имела на Бахметьевской улице собственный особняк и вела себя, как знатная барыня. Давно уже собиралась она побывать на родине ее мужа, желая поближе познакомиться с тем Доном, в который так влюблен был ее супруг. Переписка велась долго, всегда что-нибудь да мешало их приезду, но вот прискакал из Ольховки нарочный и привез телеграмму с точно указанным днем приезда гостей в Камышин. Лишь до этого города доходила железная дорога, нужно было за восемьдесят верст посылать лошадей на станцию. Для гостей выкатили парадную бричку, тщательно осмотрели колёса и оси, смазали и проверили рессоры, начистили до блеска збрую и застоявшуюся тройку добрых киргизских лошадок. Сел отец с Матвеем и укатил. А через дня два, так часов в пять вечера, первый о возвращении отца возвестил Буян. Со дня отъезда отца каждое утро усаживался на мосту через канаву, глядел на бугор, туда, где начиналась Рассыпная балка, почесывался и ждал. Наконец потянул Буян носом, встал, отряхнулся и стал лаять. Громко, с расстановкой, уверенно, предупреждая, что они это едут. И на самом деле — вон он, Матвей, сидящий на облучке, вон и отцовская дворянская фуражка видна, а вон и какие-то пестрые платки. Собаки давно уже окружили перешедших на шаг лошадей, пасущиеся на лугу коровы с любопытством подняли морды навстречу едущим: «М-м-му-у!», — приветствовала их сименталка Машка.
— Мама, мама, смотри, живая корова!
Этого Семён вынести не смог. Вот они, москвичи, горожане несчастные, даже живых коров не видывали. Свистнув Жако, повернулся он и исчез за деревьями. С такими дурами разговаривать он не будет.
За ужином показалась ему Екатерина Васильевна страшно чванливой и важничающей барыней. Старшая ее дочь Катя, как все говорили, должна быть раскрасавицей. Ему же никак она не понравилась. Было ей шестнадцать лет и вела она себя, как совсем взрослая молодая дама из большого света. Вот московских барынь им как раз на хуторе и не доставало. Ишь ты, как зазнаётся! Младшая, Валя, была живая, разбитная хохотушка, не в пример.
Как ни старались взрослые наладить меж детьми дружбу, так ничего из этого и не вышло. Семён вел себя дикарем, с девчонками знаться не хотел и страшно огорчал своим поведением маму. Только Муся и Шура подружились с москвичками, Муся играла с Катей в четыре руки на рояле, а, сидя вечерами на балконе, шептались они о чем-то и так хохотали, что иначе как дурами стоеросовыми он их не называл. Не понравились приехавшие и Мотьке:
— Ну що, панычу, в их — фу-ты, ну-ты, ножкы гнуты! Дуры они!
Лишь тогда вздохнул он свободно, когда гостьи распрощались. Но пригласили маму и его в Москву, на Рождество. Вот еще не было печали, в Москву ехать! Что скажет тогда Гаврил Софроныч, дедушкин дружок? В Москву, скажет, ездил, царю кланяться! Это туда, где срубили голову и Разину, и Пугачеву? Да ни за что! Еще и ему там башку оттяпают. Очень даже просто. Нет, в Москву он не ездок.
Отгудела стоявшая на гумне молотилка, хлеб свезли в амбары, там, за мостом через Ольховку, за базами для скотины, сложили солому в огромные длинные скирды. Кончилось лето, пришло время ехать в Камышин. Покинуть хутор на всю зиму, оставить в нем бабушку одну. Только когда учебный год кончится, приедут они назад, лишь тогда увидит он снова Маруську, Буяна, Мишку, пруд, мельницу, разуваевских казачат. Господи, а разве нельзя так, чтобы никогда-никогда не уезжать с хутора!
Накануне отъезда сходили все на могилу дедушки и побывали в Разуваеве у тетки Анны. А на другой день, ранним рано, позавтракав, уложив и проверив в сотый раз всё ли забрали и не забыли ли чего, присели отъезжающие, согласно обычаю, все вместе на минутку в гостиной, перекрестились на образа и, попрощавшись со всеми, захватив с собой Мотьку и Жако, выехали все в Камышин, когда солнце еще и в дерево не стояло.
— Ну дай же тебе Бог счастья в новой жизни, сынок! — отец жмет его руку и поворачивается к лошадям: — Э-э-геэй! Веселей трюхай!
Мама сидит молча, покрыв голову платком, спрятала лицо от спутников и не говорит ни слова. Да что она — плачет, что ли?..
Нудная, долгая, пыльная дорога. Медленно, тяжело шагают лошади по глубокому песку широкой, сотнями колеей разъежженной, грунтовой дороги. Всё ближе и ближе подъезжает тарантас к уже недалекому Камышину.
Бричка неожиданно катится легче, немилосердно подпрыгивая на булыжной мостовой. Залюбовавшись Волгой, и не заметили они, что въехали в город. Встретил он их отблесками окон низких деревянных домиков. И веселее пошли уставшие кони, чуя и корм, и отдых.
Верхний этаж большого купеческого дома снял отец на широкой Песчаной улице, одним концом начинавшейся прямо в степи, а другим упиравшейся в городской парк с тенистыми аллеями и ротондой летнего театра…
Дни экзаменов прошли быстро, в непривычном многолюдьи и возбуждении. Старое здание реального училища, построенное еще в незапамятные времена, было темным, заплесневелым и неприветливым. Маленькие подслеповатые окна в невероятно толстых кирпичных стенах едва пропускали дневной свет в сводчатые, даже среди бела дня полутемные, классы. Бледные лица экзаменовавшихся малышей, блестящие мундиры директора и преподавателей, торжественная тишина, испуганный шепот детей и родителей, и, наконец, зачитали список выдержавших экзамен и отслужили торжественный молебен.
Новое здание реального училища, только что построенное на самом берегу Волги. Длинное, красивое, с широкими коридорами и мраморными лестницами, открывало оно через большие окна в просторных классах вид и вверх, и вниз по Волге, а на левом ее берегу, через прибрежный лесок, — в далекие заволжские степи.
Снова торжественное молебствие перед началом учения, короткая речь директора со смешной фамилией Тютькин, развод по классам, и вот — сидит уже он на одной из первых парт рядом с каким-то местным мальчиком. Первое знакомство с преподавателями, с надзирателем Иваном Ивановичем, узнав о котором почему-то улыбается отец в усы и, обращаясь к матери, говорит:
— А-а! Знаменитость! Да это же наш «Дягтярь».
Почему надзиратель носит кличку «Дягтярь» узнает Семён гораздо позже. Сейчас ему не до того. И у мамы много забот — нужно немедленно шить форменный костюм, с фуражкой и гербом с буквами КРУ — Камышинское реальное училище, нужно покупать учебники, ранец, пенал, пояс с тем же гербом.
Песчаная улица, оказывается называется так вовсе не понапрасну — в любую погоду и рот, и уши, и глаза забиваются песком, так, что ни смотреть, ни дышать, ни говорить невозможно.
В училище надо ходить через старое кладбище возле Николаевской церкви. Кирпичная ограда давно наполовину развалилась, провалились и старые склепы, видны в страшной их темноте полуизгнившие гробы, но дальше — за кладбищем, широкое поле.
Семён, хотя и не очень боится, но неизменно радуется, когда попадает в двустворчатые дубовые двери парадного входа училища. Ученики перед занятиями поют гимн и молитву, и разбегаются по классам.
Математик, кажется, слишком строг, преподаватель русского языка, по кличке «Чехов», диктуя, бегает по классу и нещадно ставит в угол за малейшее прегрешение. Закон Божий преподает отец Василий, добрейший, старенький, полуслепой священник. Иосиф Филиппович Мунц, сын немца-колониста, преподает немецкий язык, носит выглаженный мундир во всем городе и, если ответить на его вопрос — «Вас зеен вир ауф дем бильд — ауф дем бильд зеен вир айн хаус?», — он доволен и ставит тройку с плюсом. Он как-то сразу с родителями познакомился ближе, стал приходить на преферанс и привел к ним брата своего Карлушку, чем-то торговавшего и морящего рассказывать о Германии. Уверен он был, что Германия непременно перегонит в Московском деле Англию, и чуть ли ни при каждом посещении говорил о встрече русского царя Николая с немецким кайзером Вильгельмом, перечисляя поименно все корабли, количество салютных выстрелов и описывая немецкий адмиральский мундир на царе русском и русский — на кайзере.
— И вот кохта двинулся в обратный путь яхт «Хохенцоллерн», то русский яхт «Штандарт» пошел провожать гостей. Унд данн, ох, тохда на мачта «Хохенцоллерн» взвивался сигнал: «Атмирал атлантический океан приветствует атмирал Тихого океан!». О! Што это знашит? А то, што Дойчланд унд Руссланд хочет наш кайзер вовек друзья сделайт!
В первый раз возразил отец Карлушке:
— Эк, толкуете! Это после поражения в Японской войне, после сдачи Порт-Артура, после гибели двух эскадр, после Цусимы и революции пятого года, ох, не хочет ли он нас вообще из Европы вытиснуть? Но Карлушка не сдавался:
— Ох, совсем нет, но ви не забивайт, што наш Бисмарк это всё хорошо протумал, дурхгедахт хат, и он так хотел: Ойропа — наш, немецкий, а Тальни Восток — руссиш!
— Во-во — Европа ваша, а, кстати, и китайский порт Циндао кайзер ваш захватил…
Споры, собственно, на этом прекращались, больше увлекал всех преферанс и ужин с прекрасной волжской паюсной икрой. Нипочем она здесь, а если еще и под хорошую рюмочку, да во благовремении, что тут о Циндао зря толковать!
Где-то под Рождество уложили Семёна спать уже в семь вечера, не успел он и первый сон как следует разглядеть, подняли его, суета поднялась страшная, и вот, как во сне — сидят они в зале ожидания первого класса и пьют чай. Поезд на Москву уходит в двенадцать часов ночи. Бесшумно скользят половые, в зале светло и весело, носильщик унес багаж, отец явился с купленными билетами, пора и в вагон, в большое купе с откидными спинками кресел, сразу превращенных в кровати со свежими простынями и теплыми одеялами. И вот звенит уже третий звонок. Отец остается в Камышине, прощается и уходит, обещая особенно позаботиться о Жако. Кровать медленно начинает плыть, в замерзшем окне появляется вдруг круглый, мутно светящийся шар, быстро исчезает, и ничего уже не разобрать, кроме снопами пролетающих искр: «та-так-та-так-так», — мама уснула, вагон ритмично качается, тепло и уютно в синеватом свете задернутой на потолке лампы. «Теп-ло, теп-ло, те…», — сон, глубокий, крепкий, без сновидений.
Просыпается Семён от стука в дверь, входит какой-то высокий, в штатском костюме, господин, рассыпается в извинениях и просит у, видно, давно уже вставшей и сидящей у окна мамы наперсток, жена не захватила, а теперь он страшно нужен. Мама, оказывается, наперсток имеет. Господин обещает немедленно вернуть, он с женой в соседнем купе, рядом, раскланивается, еще раз просит извинения и исчезает. Проводник приносит кипятку, мама заваривает чай, пьют они его так же, как и на хуторе, с вареньями, печеньями и всем прочим, взятым из дома. А вот снова появляется тот господин, в сопровождении тоже высокой, одетой в показавшийся Семёну роскошный дорожный костюм жены, приносят они огромную коробку конфет, от чая не отказываются, усаживаются все вместе, первым долгом возвращается наперсток, и через десяток минут уже знают они всё друг о друге. И они едут в Москву. На следующей станции, где у всех пересадка, могут они на вокзале съесть борща, да такой, какого не получить нигде больше.
Поезд действительно скоро останавливается, появляются носильщики, проводник, сняв фуражку, благодарит за что-то, все пробегают через замерзший перрон, занимают столик в зале первого класса, и их спутник, отрекомендовавшийся адвокатом из Москвы, уже подзывает какого-то одетого в белую куртку малого:
— Ну-ка, милый человек, четыре порции борща, да водочки, да икорки, да бутылочку «Шабли», да на лету, на лету!
Милый человек исчезает так быстро, будто его и не было. Стол моментально заставляется тарелками, чашками, стаканами, рюмками, блюдами, мисками и бутылками, так, что не простой кажется его белая скатерть, а самобранной. Борщ, действительно горяч и страшно вкусен, адвокат пьет водку, мама и чужая дама отпивают по глотку вина, какой-то огромный дядя в мундире железнодорожника объявляет о приходе поезда на Москву. И снова носильщики, мама пытается платить, но адвокат протестует, виданное ли это дело, чтобы дамы платили, поддерживает ее за руку, ведет всех к поезду, открывает им двери, крайне он любезен и мил, видно, не все адвокаты такие, какими их бабушка считает. Есть и хорошие. Поезд уже двинулся, прикурнули они с мамой снова, и не понимают сразу, что нужно от них стоящему в дверях кондуктору.
— Извините, барыня, через часик в Москве-с. Багажик приготовьте, носильщика я вам кликну.
Когда останавливается поезд под какой-то ярко освещенной крышей, уже совсем поздно.
— Мама, смотри, генерал!
Прямо на них сквозь толпу, высоко подняв голову и никого в величии своем не замечая, движется станционный жандарм. Сердито дергает его мама за руку: «Вот глупышка ты, да это же жандарм, не срамись!», — а кругом в ярком свете фонарей шумная толпа, гул голосов, крики носильщиков, смех, возгласы, поцелуи, всё так его ошеломляет, что вздрагивает он от прикосновения чьей-то руки, схватившей его повыше локтя.
— Здравствуй, Семён, как доехал?
Стоит перед ним Катя. Она гораздо выше его, почти такая же большая, как тетя Вера, на голове кокетливо надета серая меховая шапочка. Шубка сшита в талию, оторочена мехом, а на ногах высокие сапожки. Рядом с ней Екатерина Васильевна и Валя. Мама с ними целуется. Семён жмет руки и расшаркивается. Его куда-то тянут, выводят на огромную площадь и подкатывает к ним на расписных санях высоко сидящий толстенный кучер. Глаз нельзя оторвать от щегольской упряжки, от дуги с колокольцем, от серебряных начищенных бубенцов. Вот это встретили!
Сани бегут быстро, сворачивают на широкую, по-ночному пустую улицу, и вот, несутся они так, что дух захватывает! А вот уж и огромная площадь. Да ведь это же Кремль, это же здесь, на Красной площади, отрубили голову Степану Разину. Но запорошенные снегом высокие башни, ворота и стены с зубцами так красивы и величественны, и так огромна эта церковь с луковками, что вспоминать грустное не хочется.
Катя быстро к нему наклоняется:
— Василий Блаженный. Мы туда обязательно сходим. Еще долго кружат они по вечерней Москве, но, завернув в какую-то узенькую уличку, останавливаются сани перед воротами, с калиткой, врезанной в высокую белую каменную стену. Это, видно, и есть особняк Кононовых на Бахметьевской улице. В прихожей, никак не меньшей, чем их малая гостиная, у входа — ох, чёрт побери! — медведь стоит и держит в лапах серебряный поднос. Уф-ф-ф, так это же чучело! Выскочившая горничная помогает им раздеться, а из больших двустворчатых дверей появляется кто-то высокий, слава Тебе Господи, в казачьем чекмене, в шароварах с лампасами. Это полковник Кононов, муж Екатерины Васильевны. Ну, бояться теперь нечего, и тут казаки есть, в обиду не дадут! Кононов помогает маме, целует ей руку, и ведут их по широкой винтовой лестнице на второй этаж, в их комнату с двумя кроватями, со шкафом, диваном, двумя креслами, большим зеркалом и круглым столиком. Вещи их немедленно приносятся и мама раскладывает всё в шкаф или расставляет по комнате. Хозяева исчезают, мама приводит себя в порядок, осматривает и переодевает сына, и сходят они вниз, в столовую. Стол и тут заставлен так же, как у них на хуторе, Семён оттаивает, полковник похож и на дедушку, и на отца, и на дядю Андрюшу, и говорит так же, как они — по-нашему. Валя и Катя тоже начинают ему нравиться. Катя первая с ним заговаривает, он отвечает ей быстро и охотно, разговор становится общим и засиживаются они за полночь.
Вот только в кровати что-то холодновато. Не то, что на хуторе, да ничего не поделаешь, на то она и чужая сторона!
Целыми днями ездили или ходили они по городу. Посещали церкви, музеи, картинные галереи, театры. Церковь Василия Блаженного темная-темная, с толстенными стенами, такая пестрая снаружи и слабеньким, едва мерцающим светом из узких щелей окон, с жутко отсвечивающими желтый свет восковых свечек мощами, к которым обязательно надо прикладываться, с темной росписью стен, несчетными ликами святых, теряющихся в полусвете, как-то придавила, смяла его, легла на душу тяжелым гнетом, и рад он был выбраться из нее на свет Божий. Спасские ворота, Царь-колокол, который никогда не звонил, знаменитая Царь-пушка, не сделавшая ни одного выстрела, колокольня Ивана Великого, чудесная Грановитая палата и этот сказочный старинный царский дворец, Георгиевский зал, огромный, как добрая площадь, с высеченными на мраморных досках именами георгиевских кавалеров, Румянцевский музей и Третьяковская галерея, на всё это великолепие хуторской мальчишка смотрел с восторгом и удивлением.
Как-то отправились все в особенно чтимую кононовской семьей маленькую церковку. Лишь кое-где мелькали здесь огоньки свечек. Всё тонуло в мистическом мраке невысоких сводов. Негромко, проникновенно, будто глубоко сам задумавшись, склонив седую голову на тускло поблескивающее золото темной ризы, служил старый священник. Народу в церкви немного. И глядел на всех оттуда, сверху, суровый, мудрый старец, написанный на простой, деревянной, без риз, иконе. Казалось, думает он какую-то, только ему известную думу — не о том ли, что всё проходит, что всё в мире этом суета, сует и что все мы, как говорила бабушка — намытарившись — придем, наконец, туда, к Нему, и поймем не только все тайны мироздания, но и то, что прах мы и в прах обратимся, и, прахом став, узнаем мысли Создавшего нас. Долго, очень долго продолжалась служба, до самого конца отстояли они в церкви и, неслышно ступая, вышли из церкви, будто поняв частицу сокровенного, будто тайне какой-то причастившись.
Побывали и в храме Христа-Спасителя, поставили свечи перед иконами всех трех алтарей, осмотрели роскошь литого серебра, подаренного донскими казаками. Добыли казаки огромный наполеоновский обоз и послали оказавшееся в нем серебро на построение Божьего храма в память 30000 братьев своих, в той страшной войне на дорогах от Москвы до Елисейских полей в Париже живот свой положивших. Было хорошо на душе этих жертвователей, когда помогали они созданию церкви тому Богу, в которого твердо веровали павшие на полях брани в ожидании радостной встречи с великим Отцом их. Воздастся ли им по вере их, Господи?
На Бахметьевской сегодня елка в семейном кругу. Христославов в Москве нет, но так же чудесны подарки — коньки «снегурочки» и красивые, в коробочке, визитные карточки с напечатанным на них именем и фамилией гостя, с камышинским его адресом. Дом заполнился кадетами, молодыми офицерами, студентами и гимназистами. Возле Кати постоянно вертелся какой-то длинный. Смеялась она и веселилась, и Семёна совсем не замечала, а он почти неотрывно смотрел на нее. Все играли в фанты, слушали пение какой-то дамы, аккомпанировавшей себе на рояле, танцевали, гадали, лили воск и сжигали на подносах смятую бумагу, определяя по теням на стене то, что ожидает гадающего в будущем. Наконец, решили играть в прятки. Вот тут и посоветовал тот длинный Семёну спрятаться так, чтобы никак его не отыскали. И он честно спрятался в своей комнате, в платяной шкаф, да и просидел в нем добрый час, а то и больше. Усталый и сомлевший побежал было объявить о своей победе, и увидал, что сидит Катя с тем длинным на кушетке в маленькой боковой комнатушке, смеется тому, что говорит ей тот длинный, и держит он ее за руку. Круто повернулся Семён, ушел в свою комнату и остался там до тех пор, пока не пришла мама. На вопрос ее ответил, что пропадает здесь только из-за страшной головной боли. Раздеваясь и ложась спать, рассказывала мама что-то о вечере, о гостях, смеялась и шутила, дала ему какой-то порошок, улеглась, потушила свечку и сразу же услыхал он ровное ее дыхание. А сам заснуть никак не мог. Закрывал глаза и чудилась ему Катя, как сидит она с тем длинным и весело, заливчато смеется…
После того праздника побывали они во многих местах, в ресторанах и кофейнях, особенно одной с невероятно вкусными пирожками, сходили к «Мюру и Мерилизу», тому самому от которого выписывает его отец рыболовные принадлежности. И все по-прежнему были с Семёном любезны и милы, но стал он снова дичиться, молчать, избегать их общества. Собрались и в театр. Спеша к маме, столкнулся он совершенно неожиданно с Катей, стоявшей в дверях в темном длинном платье без рукавов, с глубоким вырезом на груди, всей блиставшай красотой молодости и огоньками драгоценностей. Остановился перед ней, как вкопанный, и не мог отвести от нее взора, и не мог сказать ни слова.
— Что, нравлюсь я тебе?..
Крутнулся он на каблуках и убежал. Переоделся и ехал на извозчике молча, и сидел в ложе в Большом театре, ничего и не видя и не слыша. Катя сидела с ним рядом. Духи ее не давали ему покоя, и не смел он глянуть ни на нее, ни на ее руку, лежавшую на бархатном барьере ложи. В большом перерыве вышли все погулять в коридор. Была их ложа в том же ярусе, где и царская. Но стояли перед ней часовые, как два изваяния, и, улыбаясь глядела публика на молодые лица замерших без движения верных слуг царевых. Загляделся на них Семён, и только в конце перерыва, спеша назад в ложу, увидел Катю, весело разговаривавшую с тем, с длинным. И снова сидит он в ложе, и вот она, несколько опоздав, Катя, усаживается рядом с ним, а на сцене бегают какие-то чудаки и поджигают дома, и горит уже весь квартал. Это почему-то сжигают дома каких-то гугенотов. Меняется сцена, а на ней, на огромной кровати, лежит какая-то женщина и поёт, и умирает, и снова умирает, и снова дальше поёт. Ох, чёрт, да когда же она подохнет!..
Ночной воздух морозен и чист. Высоко в темноту уходят стройные колонны театра. Ярко горят фонари, быстро подкатывают сани. Вот теперь бы того рысака, да сесть бы на него только с Катей…
И поет он про себя ту песенку, что слыхал ее на вечеринке у Кононовых:
Колокольчики-бубенчики звенят, Простодушную рассказывая быль, Сани мчатся, комья снежные летят, Обдает лицо серебряная пыль…Извозчик лошадей не торопит, сами бегут они по морозцу весело и бойко, мелькают фонари, сторонятся к стенам укутанные прохожие.
Ручка нежная прижалась в рукаве — Не пришлось бы мне лелеять той руки. Да от снежной пыли мутно в голове, Да баюкают бубенчика звонки.Из театра поехала Катя на другом извозчике. Нет ее рядом с ним.
Эй, вы — шире, сторонитесь, раздавлю, Бесконечно, жадно хочется мне жить. Я дороги никоми не уступлю, Я умею ненавидеть и любить…Что-то застревает в его горле комом, не видит он ни улицы, ни фонарей, ни чувствует бега саней, и чуть не падает, когда круто останавливаются они перед кононовским домом.
— Эй, барчинок, заснули, что ли? — в лицо ему смотрит бородатый извозчик, и смеется: — Очень даже просто, время-то за полночь!
Мама и Екатерина Васильевна решают, что мальчик слишком переутомился. Он почти ни с кем не говорит, ведет себя странно, смотрит волком, уходит в свою комнату, сидит там один, что с ним, не заболел ли? Ах, Боже мой — давным-давно домой им пора!
На станцию едут все в ставшем модой таксомоторе. В первый раз в жизни едет он в автомобиле. Все залезают в него, усаживаются плотно-плотно, и снова сидит Катя рядом с ним. Только раз взглянул он на нее. Только один раз. Как попрощались они, как уселись в поезд, как двинулся тот в темноту ночи, всё это было, как в каком-то тумане, как во сне. И приснилась ему стоящая в двери Катя в том платье, в котором была она в театре.
Тетя Вера приехала погостить. Много рассказывала ей мама о Москве, слушала та ее внимательно и часто взглядывала на племянника. А был он и дальше рассеян, нахватал в школе двоек, на вопросы отвечал односложно, сам не понимал, что с ним творится и обыкновенно сразу же после ужина уходил в свою комнату читать или готовить уроки.
Как-то, придя из училища, попал он в объятия тети Веры. Закружила она его по комнате, расцеловала в обе щеки и смеялась, смеялась, как сумасшедшая. Стала с ним каждый день подолгу <говорить> обо всем, ходила с ним в кинематограф «Аполло» на берег Волги, читала вместе с ним книжки, толковала о прочитанном и была так мила и внимательна, как никогда до этого. Постепенно оттаял он, стал веселей от разговоров ее, от смеха и шуток. Не знал, что как-то, когда был он в школе, зашла тетя в его комнату, села за стол, ища какую-то книжку и случайно натолкнулась на его тетрадь для рисования. Там, на первой странице, нарисовано было сердце, пронзенное стрелой, а на нем, в середине, красным карандашом, написано: Катя.
Отнесла тогда тетя эту тетрадь его маме, шептались они и смеялись долго, потом стали обе серьезны, не сказали ему ни о чем ни слова, но и мама вместе с тетей стала теперь тоже ходить с ним на каток и в кинематограф, и чаще заговаривать о том, что вот учебный год скоро кончится и поедут они снова на хутор ловить рыбу и купаться в речке. О Москве никто в доме не говорил больше ни слова…
Как-то, под утро, будто из пушки на весь город выстрелило. Это сломала лед Волга, рванула страшный груз свой в небо, нагромоздила его горами, плеснула волнами по берегам и понеслась, помчалась к далекому Каспию, унося с собой толстые, лезущие одна на другую льдины — крыги. Как завороженный, стоял Семён на высоком берегу, глядя на быстро мчавшиеся льдины, на горы бревен, унесенных половодьем, на солому и доски, на оторванные от причалов лодки, на изуродованные шалаши, на сорванные и подхваченные порывом весеннего освобождения прибрежные хибарки.
Весь город высыпал смотреть на половодье. Народ громко шутил, пел и смеялся, солнце светило совсем по-весеннему и домой идти никак не хотелось. Будто очумевшие, кружились в воздухе грачи и галки, какие-то пичуги, и веселей всех были воробьи, дорвавшиеся, наконец, до растаявшего навоза. Стоящий рядом с ним уже немолодой рыбак говорит:
— Вясна, чёрт подери, ничего теперь не попишешь, таперича нам, рыбалкам, лафа заходит, эх, подсмолим лодочку, выскочим на нее, на Волгу-матушку, и, эх, подсмолим таперя!
А в голове настырно, заслоняя и Волгу и ледоход, и говор заглушая и шум, поет и звенит, никак не замолкает: «Я дорогу никому не уступлю, Я умею ненавидеть и любить…».
А вот и уступил! Круто поворачивается и идет в пустой, тихий городской парк. Тут спокойно, никого нет, скамейки обсохли, на них можно сидеть, сидеть долго, глядя в одну точку и слушая непрерывно звучащую внутри его песню, выворачивающую всю душу его наизнанку. Слова ее переделал он по-своему: «А дорогу-то другому уступил, хоть умел ты ненавидеть и любить…».
И хочется ему заплакать. Смотрит он в синее небо, слушает воробьиную трескотню и вздрагивает от гулкого удара колокола.
Звонят к вечерне, пора домой. Ну что же, Монтигомо Ястребиный коготь, вождь непобедимых, дрянь твое дело! Недаром говаривал дедушка, что Москва слезам не верит. Недаром!
Эти лошади сегодня вообще везти не желают. Утром, в начале дороги, там где эти пески проклятые, правда, там тяжело было, ну а теперь? Дорога здесь твердая, набита хорошо, в обед в Зензевке целый час отдыхали, можно бы, кажется, и рысью, а то солнце-то, глянь-ка, вовсе низко, так никогда мы и не доедем! Хоть бы отец их кнутиком немножко подвеселил.
Широко, до самого горизонта, видно ее, саратовскую степь. Ярким светом светит солнце прямо в глаза, земли тут неважные, мел, песок, солонцы… ни леска, ни кусточка, лишь ковыль с чертополохом, да изредка пучки донника. Скучно. И когда она, дорога эта, кончится?
Неожиданно машет отец кнутом. Коренник дергает головой, пристяжные мелко семенят ногами, будто растерялись и не знают, что им надо делать, но, слегка потанцевав, рысят и, качнув дугой, звякнув колокольцем, вдруг выбросив далеко вперед одно копыто, будто отмерив длину всего шага, решает коренник еще раз показать на что он способен. Тройка с места шибко берет. Затарахтели, захлебнулись в пустом разговоре колёса, рванулась и стала столбом над дорогой густая пыль. А ну-ка, вон на тот бугорок, перевалить его, а там и рукой подать. Выскочив на изволок, тройка сама переходит в шаг. Коренник, вроде как задумался, а пристяжные беспечно мотают головами, будто сказать хотят: ага, что видали, как мы прокатить умеем? То-то! Экипаж поднимается еще на один, последний, перевал, и — вон он, хутор наш!
Широкий, неровный, бесконечно длинный бугор босиком своим плавно спустился к долине речки Ольховки. По всей длине ее, насколько хватает глаз, позапрятав крыши в зарослях верб, осин и караичей, стоят, опоясавшись лугами и левадами, казачьи хутора, раскинув на задах своих бесчисленные сады. Свежезеленеет трава, стеной стали камыши и куга, петляя, блестит серебром покрытая водяными лилиями речка. А во-он, там, за верхушками акаций, зеленая крыша их дома. Вон и мельница, вон и амбары, и длинный фронт насаженных отцом на плотине верб. Середний Колок — леса, луга, тонущие в легком мареве степного, начинающего под вечер холодеть, воздуха, широкие поля пшеницы и ржи.
Легко сказать, но ведь три четверти года не был он на хуторе. Неужели же сейчас увидит он бабушку, Мишку, собак, Маруську, мельника Микиту… А коренник, видно, что-то сам надумал, мотнул головой, налег в хомут, звякнул снова колокольчиком, и зачастили ногами пристяжные, выбивая глухую мягкую дробь по крепко наезженной дороге.
Вот она — граница священной Казачьей Земли. Отсюда, стелясь неоглядно далеко, залегло оно, Дикое Поле, и нет ничего для казака во всем Божьем мире, что было бы ему милей или дороже славного Войска Донского.
Но глянь-ка, глянь — да что это там такое? Шар — нет, не шар, ком — нет, не ком, что это — желто-рыжее катится, ныряя в колдобины и выскакивая снова на ровную дорогу? Всё ближе и ближе, ах, Буян это!
«В-ваф!».
Буян не тормозит, но, сделав вид, будто хочет обязательно укусить коренника за морду, лишь, коротко взбрехнув оборвавшимся голосом, уворачивается от копыт левой пристяжной, облетает коляску, мчится ей вслед, пробует брехнуть еще раз, теряет дыхание окончательно и смущенно садится на собственный хвост. Отец останавливает лошадей, Семён и Жако вылетают из экипажа, и все трое валятся на землю, кувыркаются в траве и пыли, и никто не говорит им ни слова, только как-то растерянно улыбается мама, влажными глазами глядя на эту сумасшедшую компанию. Отец и мама тоже сходят на землю, подхватывают Буяна на руки и наперебой сообщают ему, что постригут они его, что привезли ему из камышинской аптеки порошков против блох, и что теперь горевать ему никак больше не придется.
Семён давно заметил вышедшую встречать их на опушку леса бабушку. И помчался ей навстречу.
Плачет бабушка, плачет мама. Семён не может оторваться от бабушкиной руки, крепко сжавшей его ладонь. Отец обнимает свою мать и кажется она ему такой маленькой и беззащитной. Мишка старается показаться степенным, а Грунька, Дунька, хохоча и путаясь в юбках, несутся босиком. Колёса гремят по мосту, гуси, утки, куры, индюшки, цысарки, подняв невероятный галдеж, разлетаются и разбегаются во все стороны. Огромная стая воробьев взмывает в небо, проносится над домом и мельницей, и вдруг, в одно мгновение, исчезает в куче сложенного возле ледника хвороста. Из базов слышно мычание коров. Но — что это, Боже ж мой, да ведь это Маруська заржала! Семён исчезает в конюшне.
«Гу-гу-гу», — несется ему навстречу приветствие из мягких ноздрей косящейся на него карим глазом кобылицы. В стойле напротив тяжело топает, переступая с ноги на ногу Карий, поворачивает морду и тянется к Семёну. Крепкие запахи конюшни бьют в нос, захватывают дыхание и, лаская то Маруську, то Карего, раздавая им заранее припасенный сахар, смеется, смеется Семён, считая все эти запахи куда более приятными, чем какие-то там одеколоны, непонятно кому нужные.
Двери дома широко открыты. Быстро переодевшись, вытирая на ходу влажные глаза, стараясь покрасивей, бантом, завязать фартух, бежит Мотька в столовую, и становится ей сразу же ясно, что там, где бабушка с Дунькой, Грунькой и Федосьей постарались, делать ей никак нечего. Стряпуха исчезает в кухне, девки тащат что-то на стол, Семён должен идти мыть руки. Ну, и надоело же ему это: как что, так обязательно руки мыть надо. Исцелованный собаками долго приводит он себя в порядок и за стол садится всё же страшно перепачканный и измятый. Никто ему сегодня замечаний не делает. Буянова радость ценится всеми так высоко, что признана извинением даже разорванным брюкам. Боже мой — штаны дело наживное, а животное бессловесное, коль так радоваться умеет, разве же оно чем виновато?
Поужинав, долго засиживаются в малой гостиной. Бабушка подробно рассказывает о всех накопившихся за зиму новостях. И сколько коров отелилось, и сколько еще сала в бочках осталось, сколько свиней опоросилось, сколько еще льда на леднике, и как одолевали ее, почитай, каждую неделю после нового года клиновцы и ольховцы, прося занять ржицы до нового урожая…
Сказав последнее опускает она глаза, долго скребет ногтем по колену, будто и действительно пристало там что-то к юбке, и, так и не решившись взглянуть на сына, сообщает, что пришлось раздать два закрома ржи да один пшеницы.
— Ну куда денешься, когда они просят. Ить и они люди, отдадут, Бог даст. Да и нам добро наше помянут.
Сказав это и потянувшись к чашке, только тогда решается она взглянуть на сына — хозяина в доме.
— Правильно, правильно, мама, только о том, чтоб добром помянули, не к ночи будь сказано, иного я мнения. Был у меня случай из практики. В Польше, мне там в имении одном побывать, в котором мужики старушку-помещицу, вдову одинокую, на груше повесили. Пришли к ней и говорят: «Пришло, барыня, время, перевод вам, дворянам. Земля должна нашей стать, а вас всех побить надо. Ты уж на нас не серчай, лучше тебя, должно быть, во всей Расее нет, а деваться нам некуда. И школу построила, и хворям больницу, за аренду по-божески брала, всё это мы даже очень хорошо понимаем, одначе должны мы тебя убить, потому иначе никак невозможно».
Бабушка смотрит испуганными глазами, мама, видно, совсем рассказом мужа недовольна, но продолжает отец, нисколько не смущаясь:
— Попрощались они с барыней своей, бабы ихние рёвом ревели, жалко им старушку было, ведь у многих из них чад она ихних крестила, однако порешили ее на любимой ее груше повесить. И повесили… так-то, мама. Судили их потом. На суде они все, как есть, плакали, хором твердили, что во всем свете другой такой барыни поискать — не найдешь. Ну куда им деваться, коли такое время подошло. Вот, по-христиански простившись, и повесили.
Отец прихлебывает чай, наступает длинная пауза, мама полощет посуду и наклоняется к бабушке:
— А что там с отцом Савелием произошло? Слыхали мы в городе одним ухом, да точно ничего не знаем.
Бабушка оживляется, и разводит руками:
— Ох, грех один с вашим отцом Савелием, уж как вам и обсказать, толком не знаю. Не видала я его и чем дело кончилось, хорошо не дозналась. Слыхать, будто архиерей доси ему еще ответа не дал.
Бабушка медленно ставит чашку на стол, придвигается поближе и смущенно улыбается:
— Ить вот греховодник, а еще в сане священника. А поди ж ты, от привычек своих казачьих не отказывается. Знаете вы сами — на маслену сроду у них в хуторе кулачки. Сходятся на льду одна сторона на другую, кто кого кулаками подолеет. От дедов-прадедов это у них ведется, бьются по всем правилам, без того, чтобы друг дружку калечить, но до тех пор, пока одна сторона себя побитой не признает или покотом по льду ляжет. А лежачих, знамое дело, не бьют. Ну, вот и сошлись и на этот раз, несмотря, что в хуторе у них старик один помер. А отцу Савелию хоронить его надо было. А жил тот старик на берегу речки, везти его через мост, как раз мимо того места, где кулашники бились. Справил отец Савелий на дому службу короткую, постановили гроб на сани, только на мост въехали, глянул отец Савелий на лед, а там левая сторона правую, ту, в которой он сам живет, побивает. Вроде уже половина ихних на льду с ног сбитая лежит. Ох, Господи, грех-то какой, искушение какое — штоб вы думали — скинул он ризу и епитрахиль, камилавку с головы долой, да как кинется сам в самую середку дерущихся. А кулачиш-ши у него крепкие, силушки ему никак не занимать. Он ведь с попадьей пай свой пашет, всё хозяйство свое крестьянское без работников ведет. И косит, и сеет, и пашет, и копнит, и возит, и катками молотит. Да и годами он не старый, што ему, лет тридцать пять, што ли, никак не более. Ну вот, кинулся он в самую середку, огрел атаманца Матвея, а тот только брык с ног, повалился. Второго батарейца, Сёмушкина, на лед уложил. Увидали энти, с правой стороны, што поп ихний с ними, как пошли тоже кулаками работать, а энти, што на льду, отлеживались, тоже поняли, что теперь иное дело поворачивается — и они в бой. И во-взят левобережных побили, аж дым от них пошел.
Видит отец Савелий, что его сторона одолела, отсучил рукава рясы:
— Ага, говорит, причастили мы вас ноне!
И побег обратно к свому упокойничку, епитрахиль натянул, камилавку на голову, крест в руки и повез его в церкву отпевать. А энти, што на кулачках дрались, носы поутирали, да и сами в церкву пошли, за душу новопреставленного раба Божия Ивана помолиться…
Голос бабушки всё печальней, рассказывает она сама, и сама сомневается в вере отца Савелия.
— Ить грех же это, соблазн священнику, да еще в рясе, да от упокойничка убечь, да в кулачки ввязаться, ох, и ума я не приложу!
Глаза отца разгорелись, Семён слушает, затаив дыхание, мама не сводит глаз с бабушки.
— Ну, а дальше, дальше-то, что было?
— А што ж дальше-то? Спервоначалу всё вроде в порядке определилось. Казаки с обоих сторон попом своим во как гордились, наш, говорили, настоящий казачий поп, не мог стерпеть, когда увидал, што его сторону побивают, тут и сам арихистратиг Гавриил не устоял бы. Да рази, на беду, не расскажи кто-то из них в Усть-Медведице об этом, не похвались попом своим. И пошла та история кружить, пока до арихиерейских ушей не дошла. Вызвал тот раба Божия иерея Савелия, и ворочается тот в хутор, как в воду опущенный, кинулись к нему казаки с расспросами, а он — молчит. Молчал-молчал да и признался, что такое дело выйти может, что лишат иерейского звания…
— Сана лишат? О, Господи! А дальше что?
— Вот те и что! Сынок мой Андрей распалился. Запрег пару, да и поскакал к архиерею. А с ним он в свое время в одном полку служил. Он к архиерею, а тот и слушать не хочет. «Я, говорит, дело это дальше направлю, соблазн это для христиан православных…». А мой сынок Андрюша ему: «А как ты, Мишатка, — по старой дружбе так он его называет, — не забыл ли, а я хорошо помню, как в рясе ты к жалмерке, к Аксинье, в окошко ла…».
Бабушка бледнеет, сразу же обрывает рассказ, смотрит совсем растерянно и хватает внука за руку:
— Ох, Господи, грехи мои тяжкие, Семён, да ты всё тут сидишь? Иди, иди спать, за дорогу-то уморился. Пойдем, Наталья, уложим его в кровать, а то он и не того наслухается.
Долго заснуть Семён не может. Видит он отца Савелия, как живого: стоит он на льду, волосы по ветру развиваются, ряса распахнулась, кто ему не подвернется, так и летит на лед кубарем. Вот это батюшка! Нашего, камышинского, того бы первый казачишка на обе лопатки уложил!
Маруська шагает ровно и спокойно, лишь время от времени потягивает узду, будто узнать хочет, не заснул ли хозяин? Звонко и неустанно трещат жаворонки. А что же это такое, что за точка там, в небе? Растет всё быстрей и быстрей. Ах, да ведь это орел! Широко распластав крылья, плывет он над степью, и тоже исчезает в прозрачной синеве.
Ветер легким, едва ощутимым мановением обтекает щеки и убегает, обдав наездника смесью пьяных запахов увядающих трав, а потом поднимает первую тяжелую ковыльную волну, вторую, третью, гонит их Маруське под ноги, дальше, за горизонт. Заколыхалось, ожило, вспенилось степное море, засветилось матово-серебряными гребешками, зашептало, заговорило, зашуршало, будто взялось рассказывать старые были о давным-давно отгоревших зорях, о рыскавших здесь печенегах, о набегах татар, о ходивших станицами бродниках, о старой, седой, как и этот ковыль, казачьей славе…
Легким, едва заметным движением стремян подбадривает седок свою кобылицу. До Куричей Балки еще далеко, поспеть туда надо еще до захода солнца, хуторские ребята, поди, давно уже его поджидают. Сговорился он с разуваевскими казачатами собраться у Степанова родника, куда выгонят они хуторской табун на выпас. Проведет с ними он всю субботу и воскресенье, и лишь ранней зорькой в понедельник поедет домой.
Маруська зарысила. Надо повернуть вон туда, к бугру, перевалить через него, а за ним, рукой подать, Куричья Балка, где на дне ее собралась кучка деревьев возле бьющего прямо из земли родника. У шалаша уже расселись казачата. Натаскали они веток, сухого помета, привезли кизяков, захватили и сухого камыша. На две ночи для костра вполне им добра этого хватит. Большинство сидит у шалаша, только трое из них выбрались из балки и приглядывают за табуном. Недалеко от дежурных пасутся их стреноженные кони.
Быстро расседлав и скинув уздечку, пускает Семён Маруську в табун и присаживается возле родника. Темная яма обросла густой травой, подступившей к самой воде. Глубоко-глубоко, со дна ямы, неустанно бьет, пузырясь и выбрасывая прозрачные клубни, холодная, как лед, вода. Солнце идет к закату. Ребята приладили над разгоревшимся костром таганок, поставили на него чугун и уже кашеварит Гриша — мастер своего дела, всё у него идет по порядку и никто в работу не вмешивается, уж он-то знает, что для польской каши сочинить надо.
А звезды так рассыпались по небу, что кажется, будто и там бродят Божьи табуны и разожгли ангелы несчетные костры свои. И раскидали костры эти снопы искр по всему, как иссиня-черный бархат, по небу. Тихо. Восемь ребятишек, босиком, в одних рубашках, с расстегнутыми воротниками, с подсученными для удобства забродскими шароварами, терпеливо ожидают каши. Дав ей дойти на затухающих углях, снимает кашевар чугунок, вынимает круглый, огромный, с порепавшейся коркой, хлеб, быстро режет большие ломти друзьям, каждый из них лезет в карман за ложкой, пододвигается поближе, и медленно, и степенно, основательно разжевывая кусочки сала, молча ест. Теперь можно и прилечь на солому, передохнуть и лениво покалякать, лакомясь яблоками, грушами, алычой. Миша Ковалев бросает в Семёна камушком:
— Слышь, а как оно, дело, там, в Камышине?
Рассказав товарищам о жизни своей в Камышине, об экзаменах, о всём, что видал и слыхал он на чужой сторонке, упоминает он мимоходом и о Иване Ивановиче, «Дегтяре». И сразу же всеобщий оживленней смех сбивает его спанталыку:
— Да вы что, знаете его, что-ли?
— А как же не знать. Он же за год до того, как ты из школы убег, в Усть-Медведицу от нас подалси.
— Подашси, когда деготь с носу тикёть!
— Обобрал перышки с шаровар, да и умчал!
— Да расскажите же в чем дело!
Сосед толкает его в бок локтем:
— Ну, коли ня знаешь, то слухай, расскажу, а рябяты мне сбряхать не дадуть. Был он, Иван Иваныч, учителем у нас поперёд Савель Стяпаныча. А была в хуторе, и доси она есть, знать ты ее должон, Палашка, жалмеркой она тогда ходила, с отцом с матирий в курене своем жила. Баба из сибе видная, крепкая баба. Вот и повадилси к ней Иван Иваныч. Што ни вечер, а он — вот он, во. Возля плетня стоить и разговоры с ней рассказываить. Ишо тогда слыхал я, што старики в хуторе сярчать зачали, какой это порядок учитель завел, на длинные беседы к жалмерке повадился. И зачали за ним молодые казаки приглядывать. А был промеж них сговор, знали они, што вся дела эта одним плетнем не кончится. И припасли они корыту, вядро дегтю и мешок куриных перьев промеж сибе насбирали. Вот одного разу схоронились они за вербами насупротив жалмеркиного куреню, а уж вовсе темно было — тольки, глядь, вон он, крадется Иван Иваныч, да как сиганёть через тот плетень, да к окну, да в то окошко — стук-стук-стук. А Палашка окошко яму и отворила. Через дверь-то в курень итить яму неспособно было, потому там через колидор проходить надо, половицы скрыпять, отец с матирий, што в другой половине куреню спять, очень даже просто услыхать могуть. Вот и полез он в окошко. А рябяты на цыпочках, да тоже через тот плетень, да к окну, да под то окно — корыту, да в то корыто — деготь, да в окошко — стук-стук-стук. Да — д-р-р-р в яво кулаками.
А Иван Иваныч испужалси, робкий он был, да в ту окошку — прыг, да в корыту, а один из рябят яго чудок и подтолкни. Осклизнулси он в корыте и растянулси в ей. А рябяты, долго ня думая, тот мешок с перьями — хвать, да на Иван Иваныча их и высыпали. Толкнули яво ишо раз в той корыте, обярнули раза два, выскочили на улицу и ну шуметь:
— Выхади, часная станица, дягтярь идеть!
А у Иван Иваныча нервов затмения вышла. Высигнул он из корыта, да наутек. В куренях огни зажигать зачали, народ на крыльцы выбег, што там, спрашивають, трявога какая аль турок на наш хутор войной идеть?
Тут, конешно, и такие нашлись, што враз к атаману, атаман собрал свидетелев, да к Иван Иванычу на квартеру, а он стоить посередь хаты, весь, как есть, в дегтю, и с голове перышки вышшипываить. Глянули на няво, ничаво яму не сказали, повярнулись и с тем вышли. А на другой день подъехала к яво куреню подвода, поклал он на ниё свои лохмоты и в Усть-Медведицу подалси. А когда муж Палашкин со службы пришел, то уж сам с ней расчелси. С год вся синяя ходила.
— А почему-ж он к Палашке лазил?
Грохнул такой хохот, что сел Семён на соломе, ничего не понимая. Сосед его, повернувшись на живот, лупил кулаком в землю и, надрываясь от смеху, повторял:
— И з-зачем он к Палашке лазил, и з-зач-чем он к Палашке лазил?
И зарывался хохочущей рожей в траву. Лишь когда немного поуспокоились, подмигнул одним глазом Гришатка и доверительно прошептал:
— Чудок оскоромиться захотел.
Сидевший с другой стороны Петька, жалостливо поглядел на Семёна и отрезал:
— Эх ты, дитё!
Роясь веткой в углях, совершенно серьезно выговорил Гришатка:
— Вот што, рябяты, дружка нашего в Камышине, видно, на святые угодники учуть. Давайтя замнем ету делу. Придеть время, подростеть дитё наша, иной азбуке научится.
Кто-то подбрасывает в костер камышу. Огонь разгорается ярко и четко освещает веселые лица казачат. Семён обижен вконец. Не могут они, что-ли, по-хорошему всё объяснить? И смеются, как помешанные. Ну ладно, завтра у отца спрошу.
Саша, по прозвищу Чикомас, долго тащит что-то из головы, ага, репей это, осматривает его внимательно, бросает в огонь и обращается к соседу:
— Слышь, Мишка, рассказал бы, как коня брата твово браковали?
Миша Ковалев самый младший в семье. Старшему его брату пришла очередь на службу идти. Купил он коня, на предварительном осмотре признал генерал Греков того коня годным, а на главном забраковал.
Миша усаживается поудобней и смущенно трет нос:
— А так браковали: когда пришла время брательнику мому на службу иттить, поехала с ним и маманя моя в округ. И яво проводить, и дела там свои обделать. Ну, выстроили молодых на плошшади, расклали они шильце-мыльце на попонах, сами стоять, коней под уздечки держуть, вот он, обратно тот же гинярал Греков, весь казачий хабур-чабур и коней проверять идеть, и по малому времю до брательника мово доходить. А за мать мою знаить он, што вдовая она. Подходить это он, поперевернул всё, как есть, на попоне, вроде в порядке нашел, подошел к коню, оттель-отцель зашел, а штоб не сбряхать, признаться надо — работали мы на том коне много. Вот пригляделси он получше, да и говорить:
— Казак Ковалев, конь твой к строю негодный. Должон ты другого купить.
А у нас, сами знаитя, батяня помер, нас, детишков, семеро, а паев-то всяво три. Вот тут маманя моя и распалилась. Как выскочить перёд гинярала:
— А ты, — шумить, — господин гинярал, ваша привасхадительства, чаво ж в перьвый-то раз глядел? Глаза тогда у тибе иде, в заднице, што ля, были?
У всяво народу, што на плошшади стоял, аж дух перехватило. А Греков гинярал, говорила моя маманя, знал он всю нашу сямью хорошо, Семикаракорской он станицы, ишо по бабке нашей рожак нам приходится. Да, вылупил гинярал глаза на маманю, и сам как засмеется. Ну, и все смехом грохнули. А посля того подходить он к мамане и говорить:
— А ить правильнуя слову ты мне, Митревна, сказала. Ежели тогда я не тем местом глядел, таперь перетакивать не будем. Ну, промеж нас говоря, пахать на нем табе не следовало, поняла ай нет? — трошки вроде помолчал, обярнулси к адъютанту, да и говорит яму: — Пишитя: конь казака Ковалева годен.
Сашка хлопает себя по колену:
— Вот это здорово! Правильный гинярал.
— А ты как думал, што ж он, хучь и гинярал, а не так же, как и мы, на казачьем паю произрастал, ай нет?
Костер совсем затухает. И не нужно его больше, ночь теплая. Казачата укладываются поудобней, укрываются ватолами и попонами, и разговор окончательно утихает. Притихла и ночь, отзудели кузнечики и комары. Где-то будто гукнуло? Нет, спокойно всё, можно и спать.
Проснулся Семён поздно, весь табун давно уже пасется в степи, там же маячат фигуры казачат, мотающихся охлюпкой на отдохнувших за ночь конях. Но вон, отделяется от всех один из них, ведет с собой заводную, скачет сюда, к балке, ага, да это же Мишатка, а недоуздок накинул он Маруське.
— Залезь, рванем обратно, рябяты наперегонки скакать будуть.
А у ребят дело поставлено вовсе серьезно. На кургане стройно стали воткнутые в землю целым пучком длинные камышинки. Это значит, что от загородки надо доскакать до них, облететь курган, повернуть обратно и нестись назад к загородке, у которой уже стоят будущие судьи Митька и Петька. В первый заезд, кроме еще трех его сверстников, попадает и Семён. Ребята умело сдерживают начинающих нервничать лошадей, точно, как по шнуру, выстраиваются все четверо, и на оглушительный свист Митьки, сунувшего в рот два пальца, пригнувшись к гривам, с громким гиком пускают своих скакунов. Непривычная к этому Маруська сначала сбивается с ноги, но, увидав впереди себя круп уходящей все дальше и дальше лошади, вытягивается, как стрела, несет неудержимо и мчит своего седока на маячащий в утреннем воздухе курган. Всё ближе он и ближе, вот они, хохочущие и прыгающие, как очумелые, казачата, у снопа камыша, Маруська обскакивает и их, и курган, чуть не сшибается с конями только теперь доходящих до цели соперников.
— Не подгадь, Маруся!
Загородка всё ближе и ближе, но кто это там, высокий, в чекмене и папахе, на рыжем коне, оседланном с новеньким щегольским седлом? Ух, да это же Африкан Гаврилович, урядник, обучавший его в разуваевской школе строю и стрельбе. Когда же это он явился, что никто его и не видел? Сдерживая Маруську и лишь перед самой загородкой повернув ее снова на курган, останавливается Семён, ясно, что победитель гонки он, Семён…
— Здорово же это вы отцовских коней блюдётя. Так я и знал, што ни одного промеж вас не найдется, хто б подумал, што скотинку суды родители ваши на попас да на отдых пригнали, а вовсе не для того, штоб поморить.
Говорит урядник вначале совсем тихо, но постепенно, с каждым словом, голос его растет и слово «поморить» выкрикивает он так, что срываются сидевшие на загородке галки и, галдя, взымают в небо.
— А ну слазь к чёртовому батьку!
Виновато улыбаясь, спрыгивает вся компания на землю и замирает, держа коней в поводу.
— Та-ак. А ну — скидывай недоуздки и пущай лошадей в табун!
И это приказание исполняется беспрекословно. Весело мотнув головой, бежит Маруська вслед остальным лошадям.
— Ну-ка ты, Пономарев, садись на мово коня да пригони мне энтих с кургана.
Дыхание стрелой несущейся лошади спокон веков знакомо и этой степи, и этому небу, и травам этим. Симфония конского бега. Вот и курган. Быстро придержав коня, осаживает его Семён, и лишь теперь замечает, что сорвал ветер его фуражку и лежит она в татарниках посерёд дороги.
— Живей, ребята, урядник Алатырцев вас кличет! Повернув коня, пойдя рысью, направляет бег его на свою фуражку, пускает вскачь, склоняется с седла назад, тянется правой рукой к земле, оседает всё ниже и ниже, и — черпает полную горсть травы, промахнувшись на какой-нибудь вершок. Быстро выпрямившись в седле, усаживается покрепче и смущенно подъезжает к смеющимся зрителям, но урядник смотрит на него серьезно:
— Ничаво, што промазал. Ты, видать, и не могешь, штоб по первому разу не оскандалиться. А ну, рябяты, кто смогеть?
Первым выскакивает Петька, мигом сидит он в седле урядницкого коня, правит на едва синеющую в траве фуражку, умело ведет несущегося, как стрела, рыжего, падает, как подстреленный вправо, и вон она, поднял, нечистый дух! Плавно сделав круг на скакуне, рысит Петька назад, бросает фуражку его хозяину и соскакивает на землю. Урядник доволен:
— Во, видал! Хочь Маруська твоя и всех скорей скачить, хучь и ты вроде как и научилси верьхи ездить, но до Петьки табе далеко.
Совершенно выбившись из сил, едва дыша, не посмев сесть на коней, прибежали, наконец, и ребята с кургана. Вытирая рукавами катящийся по лицу пот, останавливаются они на почтительном расстоянии и во все глаза смотрят на урядника.
— Здррово, рябяты!
— Здр-равия ж-жалаем, господин урядник!
— А ну, подойдитя поближе!
После долгой паузы урядник произносит:
— Черти вы! Так я и думал, што поморитя вы тут коней во-взят. Потому и прокралси суды балкой, штоб никто мине не заприметил. Ну, а ежели по правде сказать, никакие бы вы не казаки были, коли б не спробовали на перегоник поскакать. Побядил вас Пономарев в скачке, а вот в джигитовке Петькя лучше яво оказалси. А почаму? До потому, што по положению свому не могёть он с вами равняться. Иде яму по-настояшшему джигитовать, когда он три четверти года плитуары городские стругаить. Тут одних каникулов не хватить. На коню, на нем день-в-день, ночь-в-ночь, с месяца на месяц, с году на год скакать надо…
Глаза урядника становятся веселыми, разгораются, лицо решительным и напряженным:
— Эх, спробую-ка я с вами по-настошшему. А ну-ка ты, Пятро, бяри-ка мово коня да пригони суды Маруську, а ты, Пономарев, мотай за сядлом.
И остальные все, штоб в мент коней своих половили.
Как стайка воробьев, бросаются казачата к табуну. Помчавшись, как угорелый, к шалашу за седлом и вернувшись снова к загородке, тяжело дыша, находит Семён и Петра, и Маруську, ожидающими его возле урядника. Под внимательным его наблюдением седлает Семён вздрагивающую кобылицу.
— Так, так, хорошо, а таперь поводи ты ее чудок, нехай она бабьи свои нервы в порядок приведеть.
Пока выгуливал он Маруську, то похлопывая ее ладонью по шее, то гладя по слегка запотевшей спине, ребята прискакали и спрыгнули с коней возле урядника. А тот уже послал одного из казачат кинуть белый платок в траву, проверил у всех седловку, смерил на глаз расстояние, оглядел лошадей, заразил азартом своим всех ребятишек. И вдруг, после кипучей деятельности, отходит в сторону и говорит так спокойно, как их учитель математики в Камышине:
— Вся тут скуства — это глазомер. Штоб враз ты понять мог, когда табе, по тому, как твой конь идеть, время подошла с сядла спущаться. И никак тут ни торопиться, ни лотошить няльзи. Иди ты к той утирке так, будто в своем курене с полу платок поднять хотишь, нос свой утереть. Вот табе и всё. И всё ты на свете позабудь, когда скачешь, коню не мешая, сам он правильную направлению знаить, с утирки той глаз не спущай, как орудовать, сам знаешь.
А таперь, ты, Митькя, пробяги до утирки и назад, коням для примеру, штоб видали они, куды им бечь надо. А вы — слухайтя, — первым поскачить Пятро, подымить утирку, махнеть ей, утирку наземь, а сам — назад. Так кажный. Вот и вся правила. Ну, Пятро, дай Бог!
Одним прыжком влетает Петро в седло. Несется, всё больше и больше клонясь назад, рвет вдруг всем корпусом вправо, вниз, висит мгновение рядом с конем, болтается почти у него под ногами, одним рывком вырастает в седле, машет поднятым платком над головой и, бросив его в траву, завернув коня, едет назад спокойным шагом.
По кивку урядника выезжает Семён вперед и останавливает Маруську в трех шагах от него.
— Жж-гг-ги!
Карьером понеслась Маруська, туда, прямо на белую точку, едва видную из-за куста татарника. Ближе, ближе, ближе. Спокойно, ни о чем ином не думая, будто всё это проделывал он уже тысячу раз, клонится наездник назад, спускается с седла вправо, уже висит вниз головой, широко растопыривает пальцы, и — о-ох! Крепко держит в руке платок, чтоб ему пусто было! Не оглядываясь, машет им три раза над головой, а Маруська, успокоившись, слушая повода, поворачивает назад уже шагом — дело, мол, сделано, теперь нам торопиться некуда. Бросает он платок в траву и подъезжает к своим приятелям таким счастливым, каким еще никогда в жизни не бывал. Видно, что и урядник доволен.
— Ну, и молодец. Так, брат, никогда не забывай казачью науку. Хучь бы отец твой не тольки есаул, а гинярал аль архирей был. А ну — кто следушший?
Поскакавший на урядниковом коне Гришатка промазал, и возвращается назад смущенным и грустным, готовым заплакать. Молча спрыгивает с коня и отходит в сторону, прячась за лошадьми. Но и на него смотрит урядник одобрительно:
— А ты, Гришатка, не горюй. Вот и дружек твой с перьвого разу обмишулилси. Всё в жизни, брат, наука. В другой раз и у тибе выйдить. Не боись!
Скачки продолжаются с таким же напряжением, как и в начале, урядник следит за каждой мелочью, особенно за седловкой, дает советы и указания. Из восьми казачат пятеро подняли платок, тех, кому это не удалось, берет урядник под руки, подводит к остальным и спрашивает совсем серьезно:
— А скажитя вы мине, што идеть посля перьвого номеру?
— Второй!
— А посля второго?
— Третий.
— Ну то-то. Сроду они в жизни так — ктой-тось перьвый, ктой-тось второй, аль третий. А и так ишо — ктой-то в одном деле перьвый, а в другом — второй. Вот и норовитя вы кажный в той деле, которая табе боле всяво в душе ляжить, перьвым быть. А какая эта дела, стряльба, джигитовка, словесные какие там занятия, или там астрялябии разные, аль ишо какие науки, всё это одно. Главное — должон каждый с вас к тому стрямить, за то душу класть, што яму в жизни яво самоважнейшим кажется. Тогда и жизня табе лекше, когда ты к чаму-нито всяей твоей сирцавиной преданный…
И на этот раз разговоры начинаются лишь после того, как котелок опорожнен, а ложки облизаны. Петька лезет к роднику на животе, выбрасывает нападавшие в воду сухие листья, разгоняет каких-то пауков и долго пьет студеную воду.
— Эх, хороша водица, недаром ее Стяпан Разин пил.
— А ты это откуда знаешь?
— А дед наш мине рассказывал. Проходил он, Разин, тут с войском своим, в Березовской станице иконы в церкву подаровал, они там и доси стоять, темные! Страсть какая темные, говорил дед, што они ишо при каком-то царе Иване писанные. Он, Степан Тимофеевич, к церкви дюже привержен был, ну, московских попов никак не любил, на осинах их вешал. Говорил, што шпиёны они московские, а не попы. А своих, казачьих, попов в обиду не давал, казачьим церквам золото, земчуг и камни самоцветные дарил. Настоящий он, правильный казак был, да свои же и его продали.
— Как-так, свои?
— А так — когда подолели полки московские яво, проходил он тут вот, в Куричей Балке ночевал, из этого родника воду пил, а был он весь, как есть, изранетый, вот с тех пор и зовется этот родник Степанов колодец. А потом на Низ он подалси, там свой особый городок постановил, жил в нем, а Москва всё подбивалась, штоб казаки яво ей на суд отдали.
— Как ей на суд? У нас с Дону сроду выдачи не было!
— Вот те и не было! А на этот раз, Москвы забоявшись, от Москвы купленные отдали. По пьяному делу яво взяли, в чепи заковали, в железной клетке везли, там яму палач и голову срубил топором. А когда проходил он тут с войском своим, зарыл он где-то здесь клад, золото с Персии, с камнями драгоценными.
— А иде ж клад энтот?
— Искал яво кто?
— Искать-то искали, только в руки он никому не дается, нужно слово такое знать, яво, а то уходить он в земь ишо глубже.
— А какое ж это слово?
— А хто ж яво знаить, должно, заколдованный он, клад. Вот и получилось, што и Стяпана Москва убила, и клад нам казачий в руки не дается, и Русь вонючая нас под сибе подмяла.
— Вонючая?
— А то какая? Вон становили у нас баню с пяток мужиков ихних. Дал им отец старый курень для жилья, месяца с три они в нем прожили, а как ушли… такое там порасплодили, и тебе тараканы, и клопы, и вши. Весь курень раскидать пришлось, на дрова порезать. Дюже тогда папаня сярьчали. Им, говорили, в свинушниках кватеры давать надо. Сам я видал, как они шши ихние ели — хлебнёть ложку, а в ее таракан заполз, а он яво тольки выплюнить и дале хлябаить, а как глянешь на них, когда они ядять, не поймешь, то ли в рот бяруть, то ли на пол плюють. И ништо им, а мине чуть не сорвало. Ну вот бяда — ихняя сила…
— Слышь, Пятро, а штой-то папаня мой говорил, будто когда в последний раз паи дялили, будто атаман няправильно ваш надел опридялил?
— Чаво там — няправильно! Сроду это у нас так — поделють, а потом посля драки кулаками машуть. Всё было, как и сроду бываить: собрались на сход всем хутором, сапча всё обсудили, об кажной семье разговор был, и скольки у кого сынов, и скольки ртов, и кому на службу иттить, и кому коня справлять, кому вдовью, а кому иную какую долю прирезать. Ну, не показалси папане мому тот пай, што яму прирезали, дюже вроде солонцеватый. Заспорил папаня, и дедушка наш вцапилси, а тут Пантелей-батареец какую-то слову папане мому сказал, вроде дюже яво обидел. А папаня Пантелея за грудки. Это на сходе-то! Тут атаман и осерьчал. «Ты, — шумить он папане мому, — на сходи находисси, а не в царевом кабаке. Тут весь народ ряшаить, и весть себя надо, как в церкве, к людям уважению иметь. А коли хватаишь ты за грудки, то и бери без лишняго разговору то, што табе припаяли». Папаня мой вроде ишо трошки егозилси, да весь сход зашумел на нево. Тем дело и кончилась. А когда постановил Новичок сходу вядро водки, прося штоб продолжили яму праву торговать в хуторе, вот тогда выпили все по ланпадочке, один к одному вроде поближе сели, песни заиграли, присел Пантелей к папане мому поближе, помирились они, тем всё и обошлось.
— Без драки?
— Ну да — бяз драки. А задрались бы, так и в тюгулевке бы насиделись, наш атаман он не милуить.
* * *
Снова они в Камышине, снова занятия в реальном училище, по субботам и воскресеньям церковные службы, приготовления уроков, кино «Аполло», городская библиотека, катания на лодке с бабайками и парусом.
Пригляделся Семён к хромому лодочнику и решил с ним поближе познакомиться. Жила Волга своей особой, трудовой, многоязычной, с песней и стоном, жизнью. Бежали по ней пароходы общества «Кавказ и Меркурий», «Русь» или «Самолет», красиво гудели, ловко приставали к баржам на берегу, толпой выходил из них пестрый, галдящий <народ>, громыхали извозчики по булыжной мостовой, бегали по качающимся доскам с огромными тюками на спине грузчики, шли по стремени плоты-беляны со стоявшими на них готовыми для продажи домиками, тревожно свистели буксиры, тянулись за ними тяжело нагруженные баржи, сновали меж ними парусные и вёсельные лодки, и спокойно сидел хромой лодочник, глядя на висевшие вокруг его шалаша рыболовные сети. Подружился Семён с лодочником и научил тот его, как парус ставить, как против ветра идти надо, как должен он себя вести, если захватит его посередь речки внезапно налетевшая «моряна» — сильный, как буря, с Каспия налетающий ветер.
— Гляди тогда в оба! А то перевернет она твою лодку и пойдешь ты на дно раков считать.
Узнал он от лодочника, что служил тот в японскую войну на крейсере «Изумруд» в чине баталера, что со знаменитой Второй эскадрой вышел в 1904 году из Кронштадта в Японию, обошли они тогда полсвета, пока в лапы японцам не попали. И вот тут-то, поблизости от острова Цусимы, сразились они. Почти все русские корабли перетопили японцы, а пять штук сами в плен сдались. Сдался и адмирал Рождественский, гроза матросов, мокрая курица перед японцами,
— Такой срамоты, — говорил баталер, — с тех пор, как Россия стоит, во флоте нашем не было. Подняли потом японцы затопленные наши корабли, привели их в порядок, присоединили к ним те, что сами сдались, и плавали они под японским флагом. А как это нам понимать надо? Вон «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», «Полтава» — броненосцы, да «Паллада», «Варяг», «Баян» — крейсера, да второй эскадры «Николай», «Орел», «Апраксин», «Сенявин», да истребитель «Бедовый», да из Первой эскадры крейсера «Сильный» и «Решительный», — понастроили, ухлопали милиёны, да и сдали японцам с рук на руки, стрелять не умеючи. А што народу перевели, што матросов потонуло…
— А как же вы спаслись?
— А я на «Изумруде» плавал. Наш командир второго ранга капитан Ферзен вначале вроде здорово себя показал, сумел пробиться на Владивосток, но все боялись, что япошки нас настигнут. Капитан наш голову и потерял, вошли мы в бухту Святого Владимира, да оттуда враз на бухту Святой Ольги задымили. Только подошли — назад повернули, стали в бухту Святого Владимира входить, и на мель сели. Взорвали мы «Изумруд» наш и пешки домой потопали. Спасибо, что хоть в плен не попали, сидели там наши в Кумамото, ели кáки, а пили сáки, да ты не думай, это по-японски: кáки — еда ихняя, а сáки — вроде водки.
— И что же?
— Вот те — и что же! Побили народ, народное добро на дно моря отправили, сколько горя по всей Расее пустили, а того Рождественского, ну, что ты скажешь, не только не осудили, а ничего ему не сталось. Вот она какая у нас правда — с заковыкой. Иная у меня после этого думка, не та, что в Кронштадте была, когда мы, в поход уходя, «ура» кричали.
— Какая-ж думка у вас?
— Рано тебе, господин реалист, такие думки знать. Вот поживем, да повернем всё вовсе по-иному. И припомним тогда всем, кому надо, Цусиму. И выпьем тогда с радости, знаешь, как студенты поют: «Выпьем мы за того, кто «Что делать» писал, пощекочем тех, кто во дворцах, народа не жилеючи, на пуховиках спит…». Знаю я: офицерский ты сын, и папаша твой, как и я, с той войны на ногу припадает, только должно разные у нас с ним думки. А ты — ты приходи, мы с тобой дружки, нам делить нечего, а с энтими, кое-с-кем, посчитаемся мы, когда время придет. А придет то время, я тебе говорю.
О хромом баталере рассказал Семён отцу, и отправился тот вместе с сыном к лодочнику на Волгу. Подсел к матросу, разговорился о рыбной ловле, о японской кампании, засиделся с ним до тех пор, пока не вернулся сын с катанья на лодке. Удивился бесконечно Семён, увидя, что сидит отец его рядом с баталером и ведут они совсем дружескую беседу, курит, как и тот, какую-то, страшно пахнущую, «цыгарку».
— Вот этому я и дивуюсь! У нас, во флоте, наши господа офицеры, одно у них — в морду да скулы своротить, да сапогом по зубам, одно слово — дантисты. А как наслухался я теперь от многих наших ребят, совсем у вас, у казаков, другая статья. А ить и наши офицеры, как и ваши, одна с народом кровь. А у вас битья этого и в помине нет. Как же это так получается? А с другого боку, были у нас такие, вон вроде декабристов, против самого царя шли и поперевешали их, и в Сибирь загнали. А у вас, казаков, таких офицеров не было, все царю слуги верные… Опять же, взять народные восстания, кто водил: Степан Разин — казак, Емельян Пугачев — казак, Кондрат Булавин — казак… — Отец улыбается, но при сыне говорить ему не хочется. — В Петропавловской крепости кто сидел? — граф Платов, победитель Наполеона, казак, братьев Грузиновых, полковников, в Черкасске кнутами засекли, кто они были?
— Казаки…
Отец поднимается:
— Я еще зайду к тебе, баталер, потолкуем…
На дворе — глубокая осень, дождь изо дня в день льет, не переставая, холод на дворе собачий, чем же заняться прикажете? Сегодня у отца, потому и «пульку» составить. В зале поставили ломберный столик, пришли Карлушка, аптекарь Моисей Абрамыч и Тарас Терентьевич Мукомолов, купец-ссыпщик, пароходчик. Рядушком приспособили столик с напитками и легкой закуской, на карточном столе в ярко начищенных медных подсвечниках горят высокие белые свечи, лежит мел, на зеленом сукне пестреют еще нераспечатанные карты.
При одном взгляде на эти приготовления Семёну тошно, и уходит он в свою комнату. Горит там любимая его настольная лампа — под зеленым абажуром. Взять Жако на кровать, открыть любимую книжку, чего же лучше надо?
А там, в зале, тихо шелестят карты по зеленому сукну, Тарас Терентьевич, только что приехавший из Америки, что-то бурчит себе под нос, аптекарь вполголоса, едва слышно, напевает какой-то еврейский мотив, разочарованно посвистывает Карлушка, отец хранит олимпийское спокойствие.
— Вот-вот, так-так. Посиживаем да в картишки перекидываемся. И дождичек нас не мочит, и ветерок нам в нос не дует, и в хоромах тепленько, и водочкой балуемся, — не выдерживает Тарас Терентьевич.
Но Карлушка занят пивом и весь сияет от удовольствия:
— Ах, нишево нет в мир хороший немецкий пиво.
— А ты не дюже хвались. Я в Лондоне такой английский эль пивал, что сто очков твоему немецкому биру даст. Вот, мотаюсь по белу свету, а папаша мой, царство ему небесное, как родился в Камышине, так всю жизнь и просидел в лабазе своем, на щётах барыши выщелкивая. И овцами занимался, и скотинкой приторговывал, и ссыпка у него была, за всё брался. И меня вот к науке той приобщил, да так на стуле своем и помер.
Аптекарь снова вытирает глаза и вздыхает:
— Н-да-а. Все там будем!
— Особливо, милый ты мой, ежели кто в аптеку твою зачастит. Тому на свете долго не жить!
— Вы не особенно, не особенно, наука пошла далеко вперед, есть много нового средства!
— Не знаю, не знаю, вон в старое время, хоть для примеру папашу моего возьмем, на девятом десятке Богу душу отдал, без аптек жил, ни зубы ни прочее что, никогда у него не болело. А вот нагляделся я теперь, особливо в Америке, там, как и у нас, так народ дохнет, беда одна. Правда, жизнь у них там иная — все, как угорелые, мотаются, и растет она Америка эта так быстро, что и обсказать невозможно. Как глянул я — дух у меня захватило. Побывал и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и по Миссисипи и Миссури плавал, и бойни ихние поглядел, на страсть эту кровавую. И никто там о тех, кто под заборами помирают, о тех, кто бесчеловечно скотину бьют, или об тех, кто в прериях револьверами суды наводят, никто ни о чем не печалуется. Нынче одним меньше, а завтра семеро новых. Со всего свету народ туда прет, такое там столпотворение вавилонское идет, какого ни у вас в Москве, ни в Питере, ни в Гамбурге, ни на Нижегородской ярмарке нет. И, главное, что я из всего понял, что нашему брату, купцу, фабриканту, никак теперь на одном месте сидеть нельзя. И вот, кроме всех моих дел, буду еще лесопилку ставить, потом новые пароходики по Волге пущу, на Каспий мотнуться думаю, вниз по Дону смотаться хочу, вот только к тебе, в аптеку твою, не угодить бы, враз ты до смерти залечишь. Ох, одна беда, народ наш здорово балует. Оно, правду сказать, волгари спокон веков бунтовщики были, а либо разбойники и грабители. Вон Кузьму Шелопута аль Ерему Косолапа, или Ваську Чалого возьми, не к ночи о них будь сказано, а о вашем казачьем атамане Степане Разине и говорить здесь не будем. Или о Ермаке, ведь вот парень был — с восемьюстами добрых молодцев целое Сибирское царство покорил… И тут он, на Волге, работал, прежде чем в Сибирь пошел. Да, наш народец совсем иную школу проходил, чем энти, на Руси кондовой. Сидели они там, свечки у образов жгли, да ждали, когда царь пороть или вешать их будет. А вот у вас, у казаков, в счет торговли, в счет предпринимательства слабо дело стоит, хоть и есть у вас особые, торговые, казаки, как вы их называете, даже в военную службу они не несут, а делами своими ворочают, да мало их у вас, калибрик жидковат. Правда, есть, хотя бы этот ваш Ханжёнков, ведь тоже господин офицер был, то есть, сказать, уж вы, Сергей Алексеевич, не обижайтесь, никчемушний человек, а глянь на него — в миллионах теперь ходит, какие-то там кинематографы крутит, самого царя снимает, как тот купается, не дурак парень, погоники скинул и начал тысячами ворочать, сам богат и толпу народа возле себя кормит… Да рази его накормишь? Боюсь я, как бы пугачевские времена не вернулись. Опасаюсь. Строю парходы, баржи на воду спущаю, красным товаром в шести городах торгую, ренсковы погреба у меня в семи городах, две лесопилки, шерсть, скот, арбузы, черти што скупаю-продаю, а всё у меня думка: положи-ка ты, Тарас Терентьевич, для спокойствия душевного, какую тысячонку в швейцарский банк, не придется ли тебе со святой Руси лыжи навастривать?..
Аптекарь сердито смотрит на разоткровенничавшегося купца:
— Ну, и почему вы такой пессимист?
— Почему я, как говоришь ты — такой пессимист? Никакой я не пессимист, только давно глаза разул и всё вокруг себя даже очень прекрасно вижу. И скажу тебе, авраамова ты душа, что вот, пока они, казаки, Русь нашу вшивую плетюганами порют, до тех пор ей и стоять. Я тебе, Тарас Терентьевич Мукомолов, купец первой гильдии, фабрикант и делец, миллионщик, говорю, это на носу себе заруби, племя ты ханаанское. А голов, настоящих голов, промеж теми, что там, на верху сидят и Русью этой управляют, нет у нас. Окромя немца Витте да русачка Столыпина. Хоть шаром покати. Нам торговлю побойчей повести, фабрики-заводы с законами для рабочих становить, а што самое главное, банк тот мужичий так расширить, как только могёть есть. Потому что, — он тыкает пальцем в отца, — нет числа их вот, господ помещиков, да дворян, что в трубу летят. Вот от них земелюшки ихние и скупать, и оделять мужичков, хозяевами их такими делать, как это казаки у себя устроили. Нехай черти пашут поболе, нехай холку наедают. Вот вам один вопрос, а второй, как говорил уже, — рабочий. Аль неизвестно вам в каких они условиях живут, как они горб свой гнут? А у вас что — на верхах парады в Царском селе. А ниже? Интеллигенция с книжками в народ пошла, идеи разные развела, а народ книжки те на цыгарки рвет, а сам топор на них же, на интеллигентов этих, припасает. Направления разные повыдумали, немца Карла Маркса, да, кажись, еврей он, с идеями его на нашу почву пересадить хотят… нигилисты, народники, социалисты, ста одного колеру дураки, ох, чует мое сердце, такое у нас начаться может, что волжские разбойники ангелами нам покажутся. Я вам говорю. Вот поэтому, грешным делом, не одну я тысячонку в банке, в Базеле, в золотце положил. Не протухнут, Бог даст.
Живет Иван Прокофьевич далеко, на окраине города, в маленьком деревянном домике. Трое у него детей, самый младший не имеет и года, а старшему пять лет. В комнатах всегда страшный беспорядок, жена его ходит стриженой, она из каких-то курсисток, курсы свои не окончила, в Камышине проживает после возвращения из «мест не столь отдаленных», в городе называют ее революционеркой и социалисткой, готовить она почти не умеет, курит папиросы, одевается неряшливо и обыкновенно сидит на диване с газетой или книжкой в руках, ребятишки возятся тут же, на полу, везде валяются подушки, полотенца, книги, журналы, лежит вперемежку белье с немытой посудой.
У Ивана Прокофьевича отдельная комната. И тут лежат книги на стульях, табуретах, на полу, стол завален ученическими тетрадями, но чисто прибрано и светло. Хозяин всегда аккуратно выбрит, ходит дома в длинной русской рубахе, подпоясанной ременным пояскам, тоже много курит, постоянно ерошит курчавые волосы, худ, бледен, подвижен, с внимательными синими глазами.
— А-а-а! Друг сердечный! Заходи, заходи, моя Марья Моревна стиркой сегодня занялась, надеюсь, в корыто не наступил, ведро не опрокинул? Ну, повезло тебе, вот сюда, сюда, садись поближе к столу. А потом и чайку получим. Книжки можешь вот тут, на пол, положить, это не беда, да ты не любопытствуй, я как раз ваше классное сочинение читаю, твою тетрадку первой просмотрел, потом о всём в классе потолкуем. На этот раз, извини, друг, больше четверки ты не вытянул, не туда у тебя мысли пошли. Шильонский узник — это тебе штука не простая, тут шире брать надо, ну, с чем явился?
Как на духу, рассказывает Семён своему другу-преподавателю всё, что слыхал от матроса и от камышинского миллионщика. Да что же это такое готовится, что же и отцу его в швейцарский банк деньги переводить? А как потом в Швейцарию эту добираться?
Иван Прокофьевич крутит свои папиросы сам. Есть у него такая машинка — насыпает он в желобок табак, подсовывает сбоку листик бумажки, быстро щелкает, и вот она, папироска, только лизнуть ее по краям, а она уже и склеилась. Можно и закуривать.
— Так-так. Наслушался, надумался, насомневался, и ко мне пришел. И правильно сделал. Итак — первое: читал ли ты Тургенева «Отцы и дети»? Нет еще? Ну стыдись. А когда стыдиться кончишь, возьми и прочти, потом поговорим мы с тобой о том, что это за штука «нигилизм». От латинского это слова: нихиль — ничего. А это значит, что нет ничего, что не отрицается, не критикуется, безусловно признается. Нет ни законов, ни правил, ни традиций, а то, что нам надо, сами мы себе понапридумываем. Потом дам я тебе Писарева, кое-что Чернышевского, Лескова, Писемского, Мордовцева, Помяловского, Горького, Толстого, а кончим «Бесами» Достоевского. Всё это должен ты перечитать, чтобы немного в курс дела войти. Прежде всего, как вот эти самые нигилисты говорят, ничего на свете нет, кроме материи. В центре же всего стоит человек, который может о всём критически мыслить, всё переоценить и поставить на свое место. Помни: ничего нет. Начинать нам надо сначала, от сотворения нового мира, как сказал Писарев, нужно всё разбить: «бей влево, бей вправо, от этого вреда не будет». Авторитетов нет, нет и долга, нет принципов, жизнь это только химический процесс. Основное, что всеми нами руководит и движет, это эгоизм. Эгоизм мыслящий, разумный, мы должны заниматься лишь полезным, производительным трудом, быть лишь там, где мы нужны для общества, ум и сердце наши должны действовать и бить в унисон. Никаких там ни романтизмов, ни лирик, ни вздохов, нужны лишь точные науки, эстетика нам ни к чему. Лишь то нужно, что полезно. Музыка, скульптура, живопись — насмарку. «Жизнь есть драка», — сказал Горький. Все мы осуждены на смерть, стало быть, имеем право жить так, как нам нравится. Долой все предрассудки, их надо жечь, ломать, рвать. Все эти мысли, понимаешь ты, нам, русским, очень близки, мы, изгнав Бога, устроим сами собственный рай на земле, по собственному нашему плану. Без мистерий и обеден, без аминей и аллилуйя. Рафаэль гроша медного не стоит, природа — это огромная мастерская, а человек — рабочий в ней. Всё теперешнее нужно отрицать, нужно, как говорит один из тургеневских героев, «место расчистить». А потом, совсем по-новому организовать труд, это единственное, настоящее счастье для всех людей. Вот как. А последним читай «Бесы» Достоевского. Обрати внимание на Шигалева, Липутина, Виргинского, Шатова, Кириллова. Он, Достоевский, нарочно так нам революционеров рисует, всё преувеличивая, хочет в публике аппетит к революции испортить. Я сам, признаюсь тебе, окончательно к совсем ясным выводам еще не пришел, особенно в той части, которая касается будущей постройки нашего человеческого общества. Что же касается всего остального, я, пожалуй, согласен. Нужно крушить влево и вправо, всё уничтожить, что только вокруг нас есть, и лишь тогда, «расчистив место», начать строить жизнь новую. И хоть нигилисты поэзию и отрицают, но для меня, например, горьковская «Песня о Соколе», «Буревестник» его — вещи великие. Поэзия борьбы, поэзия разрушения, нападения, уничтожения. Уничтожения всего, что только ни есть…
— Значит, всё, что мы сейчас имеем, всё насмарку? Это не слишком? Не слишком ли много это на первый раз? — с этими словами в комнату входит хозяйка, держа в руках два стакана чая, ставит их на книги, лежащие на столе, оглядывается, где бы и она могла сесть, и устраивается на табурете с тетрадями. Юбка ее от стирки забрызгана, голова повязана платком, из-под узких длинных бровей смотрят смелые, красивые, карие глаза. Тонкие, резко очерченные губы улыбаются мило и дружески.
— Ничего не слишком! Нужно понять, что разрушать — необходимо. А когда же думать начинать, как в его годы. Ты не забудь, что это казачонок, у них одни их традиции чего стоят. Чуть ли не тысячу лет строили они свое особое общество, совсем по-иному, чем мы наше русское. Это особый, нам, в сущности, совершенно чужой мир. И он, народец этот, среди нас живущий, полностью в руках тех, кто сейчас у власти. Это же огромный плацдарм для работы. Мы больше отвлеченными идеями увлекаемся, а настоящей работы в народе не ведем. А попробуй-ка с казаком поговорить, он тебя к себе и на пушечный выстрел не подпустит.
Хозяйка внимательно смотрит на гостя, обворожительно улыбается и говорит совершенно откровенно:
— Что ж попробуй начать с этого.
Я тебя понимаю — он своей головой думает, не так, как все эти мещане и купчишки: «папа-сказал-мама-велела». Дураки. А что, Семён, вам налить еще чая?
Поплавки не двигаются. Солнце уже почти в дерево, уже жарко становится. Но раз решил наловить карасей, терпи, казак, хоть целый день сиди, а с пустыми руками домой приходить и не думай. Три взятые сегодня удочки закинуты по-разному и для разного: одна, с червяком, донная, на сазанов, вторая, тоже с червяком, много мельче, ждет карася, а третья, на балябу, средней глубины, на линя. В колдобину эту пришел он сегодня ни свет ни заря, притащив с собой и Жако, провианта чуть не на целый день. Подходя к заранее облюбованному месту чуть не на цыпочках, без малейшего шума уселся там, где еще вчера с вечера запривадил вареным пшеном. Жако, видно, надоело глядеть на дурацкие поплавки и отправился он в лес, под деревья, спать. Стеной стоит камыш, забрела куга далеко в плёсо, до самых водяных лилий. Вода светлая и прозрачная, нужно лишь спокойно сидеть, чтобы рыба тебя не почувствовала. Рано, с утра, взял хороший сазан, медленно, как это у него полагается, раз за разом, до трех проб, потянул он вниз стоявший, как свечечка, поплавок, и потом потащил его в сторону, медленно погружая в воду, так, как уходит опускающийся в глубину перископ подводной лодки. С забившимся сердцем подсек Семен сразу же и почувствовал, что крючок сидит крепко и что рыбина должна быть большая. Долго боролся сазан, стараясь утянуть рыбака на дно колдобины. Каждый раз поворачивал он его, не давая ему добраться до камыша или куги, или уйти в шамару. Наконец, подвел его к берегу. Темная широкая спина, серые, будто тиной закрашенные, бока, плавники слегка розовые, стоял он тихо, видно, набирая силы для новой борьбы. И действительно, сделал отчаянную попытку освободиться, но скоро окончательно выбился из сил и уткнулся в берег носом. Осторожно подведённый сачок полностью решил судьбу схватки в пользу рыбака. Быстро отбежав, схватив заранее приготовленный кукан, продев его через жабры сазана, поднял его Семён в воздух, критическим взглядом измерил и определил: «Ого! Фунтов на пять потянет!».
Больше сазаны не брали, наскакивали красноперки, плотва, склевывали насадку какие-то иные хулиганы, но приличного клева не было. Надо сидеть и терпеливо ждать, пора им уже со дна подниматься, карасям, тина уже довольно отогрелась. Ишь ты, как позаснули! — Семён и сам почти засыпал, даже мысли его были какие-то сонные.
И этот год кончился благополучно, в среднем имеет он «четыре». Иван Прокофьевич с ним больше о нигилистах не разговаривал, но часто спрашивал, что прочитал он из данного ему списка авторов. Прочитано было почти всё, не хватило пороху на Достоевского, пришлось пообещать прочитать на каникулах. Но летом тянуло его больше к Конан Дойлю. Вот и приехали они опять из Камышина на хутор, пока туда-сюда оглянулся, а уже идут каникулы к концу.
«Ох, тш-ш-ш, да ведь это карась берет!». Нырнул два раза, будто раскланявшись, пошел поплавок под камыш.
Начался клев, и он едва успевал снимать с трех удочек неосторожных рыб.
Сзади Семёна раздался лошадиный топот. «Ого — дядя Андрюша и Гаврил галопом жарят. Стряслось что-нибудь?».
Быстро смотав удочки, отсучив мокрые штаны, чтобы на ходу просохли, перекладывает рыбу в сачок, прикрывает мокрыми лопушками лилий и, свистнув Жако, чуть не рысью бежит по дороге. До хутора хороших версты полторы будет. А солнце жжет, будто подрядилось, Жако носится то вправо, то влево, лает на ворон и разную птичью мелкоту, поднимая ее из лугов в воздух, и чувствует себя прекрасно.
Дома все в смятении. Все собрались на балконе. У бабушки заплаканы глаза, бледная, и тоже плачущая, мама обнимает его и целует.
— Пришел, наконец, слава Богу, что ты маленький.
Чему же тут радоваться? Ему так хочется быть взрослым, таким, как Гаврюша или Аристарх. И лишь тут узнает он, что Австрия объявила войну Сербии, что русский царь никогда не даст славян в обиду и что в России объявлена мобилизация. Вот это здорово! Ах, но это еще значит, что Алексей, Гаврюша и Аристарх уйдут на войну!
На балкон вбегает Мотька и обращается к отцу:
— Сергий Алексийовичу, там до вас разуваевськи козаки прыйшлы.
— Веди их сюда.
Отец идет к ступенькам балкона и встречает уже поднимающихся по ним Гаврила Софроныча и еще двух казаков помоложе, отцов Петьки и Мишки.
Мотька успевает крикнуть Семёну:
— Завтри розуваевськи козаки на вийну йдуть, вас усих на проводы приглашають.
Семён бежит к маме, она у бабушки, обе молятся в спальне на коленях перед образом Богоматери, и, тихо прикрыв двери, несется он на мельницу — пусто. В помольной хате сидят какой-то клиновский мужик, один казак и Микита-мельник. Все трое молча курят «козьи ножки». Гудят мухи, жарко, душно, окна закрыты.
— Вот, значить, и дождались, зачинается обратно чёртова мельница, — казак бросает на пол недокуренную цыгарку и выходит, поднимается и Микита, и, не сказав ни слова, уходит. Мужик смотрит на хозяйского сына, пробует улыбнуться и хрипло говорит:
— Так, барчонок, как говорится — кому-кому, а куцему влетит.
Надев потрепанный малахай, исчезает и он из хаты.
Дома у всех страшное настроение, в полк немедленно вызывают Гаврюшу. Прискакал он лишь для того, чтобы со всеми попрощаться. Бабушка крестит его три раза, целует тоже три раза и вешает ему на шею ладанку, мама плачет вместе с ней и тоже обнимает и крестит своего племянника. Простились с ним и отец, и Мотька, и Федосья, и кухонные девки, и давно дожидавшийся в кухне Микита.
Подходит очередь Семёну:
— А ты, суслик, расти скорей, оседлай Маруську, и ко мне в полк, вместе австрийцев бить будем.
Гаврюша вскакивает в седло, делает по двору круг, машет в воздухе фуражкой, и уносится в луга. Взбирается на своего рыжего и дядя Андрей, козыряет, и рысит вслед за сыном. Бабушка не замечает катящихся по ее щекам слёз и тихо шепчет:
— Господи, сохрани его и помилуй, дай нам с ним свидеться. Мама забирает Семёна, плача, шепчет:
— И что же это такое, и за что нас Бог наказывает?
Невмоготу ему становится. Казаки мы или нет? Ишь ты, как все перепугались! Один Гаврюша молодец. А эти раскудахтались — война! Война! А что он такую хорошую рыбу принес, так никто и не заметил.
* * *
У хуторского атамана урядника Фирсова уходят на войну оба его сына. Приехавших на проводы Пономаревых вводят в просторную горницу с тюлевыми занавесками на окнах, цветами на подоконниках, иконами в переднем углу и выцветшими фотографиями служивых, держащих в руках обнаженные шашки, с лубочными портретами царствующаго дома и двух архиереев. Всех приехавших сразу же усаживают за стол, надо поспеть закусить, а то сбор назначен в двенадцать часов у правления, времени остается мало.
Оба атамановы сына, Николай и Петро, уже давно оделись по-походному, всё у них готово, только кони еще в конюшне стоят, а сёдла лежат на крыльце. Обойдя весь двор, глянув на коней, мешаясь всем под ногами, возвращается Семён в курень. Там уже давно приступили к делу: хозяин налил в толстые граненые стаканы водки, всем остальным дали вина.
— Ну, погладим служивым дорожку!
— В час добрый, дай Бог поскорея возвярнуться.
— Врага одолеть, славы добыть, невредимым в родительские дома приттить!
Пьют все, пьет и Семён, и снова выскакивает на двор. Что там, в катухе, за странные какие-то звуки? Тихо, на цыпочках, подкрадывается к приоткрытой двери. Внутри катуха полутемно, опав на сложенные в углу мешки, обняв брошенную на них шинель, ничего не слыша и не видя, зашлась в плаче старшая сноха атамана. Видно, как вздрагивают ее плечи и конвульсивно сжались пальцы, схватившие свесившийся рукав в синей каемкой…
А не сбегать ли к Мишатке? Недалеко это, никто не заметит. Мимо куреня с распахнутыми воротами и дверьми, мимо плетней и канав к дому хуторского коваля, заросшему высокими старыми вербами. Кузня его работала сегодня всю ночь. Ковали наспех коней, поправляли брички и тачанки, дела было столько, что лишь под утро потушил огонь Исак Григорьевич и пошел наблюдать за сборами старшего сына Ивана. Найдя дружка своего, неотлучно торчавшаго в конюшне, увидал Семен, что глаза его заплаканы, что суетится он бестолково и от помощи его толку вовсе немного. Хозяйка куреня села на приступки, спрятала лицо в длинный подол фартука и, ничего не видя и не слыша, тихо, будто повизгивая, надрывно плачет.
Голос коваля срывается и, лишь громко откашлявшись, приводит он его в порядок:
— Да вы, што, поугорели все, што ли? Будя дуреть. Эк, скажи на милость, будто в перьвый раз казакам на войну иттить! А-а, Семён Сергеичу наша почтения! Спасибо, што и к нам забег. Эй, Аксютка, Ксюшка, да тю на тибе, оглохла, што ля, а ну, повяди-ка гостечка нашево в курень, налей чаво покрепше, нехай Ване нашему дорожку погладить.
Поднимается с порожек хозяйка, пробует улыбнуться, растерянно, беспомощно оглядывается и идет в курень, сопровождаемая мужем и уже совсем готовым к походу сыном. Иван, красивый, высокий, кареглазый, чернявый казачок, обнимает гостя за плечи, садится с ним рядом, подсовывает ему тарелку с куском жареной рыбы, наливает всем водки, а гостю и Мишатке квасу.
— Спасибо, што к нам заглянул — на доброе здоровье! Кузнец чокается со всеми, пьет одним махом до дна и глядит на сына:
— А што ж ты воробьям нашим водки не налил? Нехай и они по одной пропустють, а ты, мать, дай-кась им по куску пирога, штоб в порядке проводы исделать.
Мишатка подсаживается к гостю:
— Страсть мине с братéней чижало расставаться. Поди, и ты своих жилеешь?
— А то как!
— А правда это, будто немцы дюже сильную антилерию имеють?
— Нашей не сильней.
— А кавалерию?
— Против казаков не устоит.
— Вон и папаня говорили, што ни турок, ни француз, ни австриец, ни немец, ни швед, ни венгерец, ну нихто, с казаками не сравняется.
— Ну конешно! — голос коваля, услыхавшаго слова сына гудит, как труба. — А я и вот ишо што скажу: проводим Ивана, обярнусь я трошки по хозяйству, да так мячтаю, што и без мине там не обойдется. А как сбиремси мы все, как есть, казаки на фронт, так враз того австрийца и взналыгаем.
В курень входит толпа соседей, все вскакивают с мест. Семён пробирается к выходу и бежит назад.
— Эй, куды стрямишь? А ну завярни к нам!
Гришатка стоит у своих ворот в новой гимнастерке, в шароварах с лампасами и лихо надетой набекрень фуражке. От низко опущенных складок щегольских шаровар ярко начищенные сапоги видны лишь до половины.
— Эк ты разоделся, будто и сам на войну идешь.
— И пойду. Тольки зараз погожу трошки. А как папаня сбираться начнуть, а говорять они, што с полгода подождать яму придется, я тоже дома не останусь. Тут мине с бабами делать нечего. А ты далеко ль рысишь?
— К атаману, там наши все.
— Ну сыпь, а я к соседям, за сюзьмой маманя послала.
А там, два двора дальше, вынесли столы прямо на улицу и, уставив их всем, что только в печи было, уселись человек шесть казаков да с десяток баб на скамейки, стулья, табуретки, оставленные на-попа бочки. Ярко блестит на солнце ополовиненная четверть водки, сидящие за столами поют. Явграф Степаныч, отец Петьки, бывшаго Семёнова соседа по парте, дирижирует надкусанным куском пирога:
Моря Чёрная шумить, В кораблях огонь горить, А мы тушим, турок душим, Слава донским казакам!Дед Авдей, быть, стоит посередине двора, бороденка сбилась набок, фуражка едва держится на затылке, рубаха вся взмокла, шаровары старые, заношенные, забраны в белые паглинки. Чирики в пыли и навозе. Кричит дед Авдей куда-то вверх, в воздух:
— Терпеть я этого не жалаю! У мине, штоб порядок был. Ишь ты, как полоумные, суды-туды мечутся, а толку с них ни хрена! Матьвей, Матьвей, да куды тибе черти занясли?
Увидев стоящаго мальчика, быстро семенит дед к плетню и кричит тем же визгливым голосом:
— И сроду это у нас так: хорохоримси всю жизнь, а как призовут нас царю-батюшке служить, так за бабьи подолы цапляимси!
Стремительно повернувшись, дед Авдей семенит к конюшне. Семён бежит дальше. Вот и атаманов курень. Навстречу льется старинная казачья песня:
Конь боевой с походным вьюком, У церкви ржет, кого-то ждет…Сам атаман запевает. Все, сидящие в комнате, немедля подхватывают:
В ограде бабка плачет с внуком, Молодка горьки слёзы льёт.Особенно выделяются молодые, звонкие, тенора обоих сыновей атамана:
А из дверей святого храма Казак в доспехах боевых Идет к коню из церкви прямо, С отцом, в кругу своих родных.В курень идти не хочется, отсюда песня звучит красивее:
Жена коня подводит мужу, Плимянник пику подаёт. «Вон, говорит отец, послушай, Мои слова ты наперёд…Сквозь открытые двери видно, как поворачивается атаман к сыновьям, и поет дальше так, будто словами песни говорит он то, что и сам думает:
Мы послужили Дону верно, Таперь и ваш черед служить. Служитя ж вы яму примерно, И вас Господь благословить.Одна из снох выбегает из куреня, пряча лицо в переднике, исчезает в конюшне. Семён понимает, что она там плачет, и не пошел за ней. А из куреня и дальше слышно:
Даю табе коня лихого, Он добровит был у меня. Он твоего отца седого Носил в огонь и из огня.Замер последний аккорд. Положил атаман руку на плечо старшего сына:
— А таперь, рябыты, идитя. Время подошло. А вы, бабочки, не сумлявайтесь ни в чём. Всё по Божьему соизволению, по царскому повелению. А наша дела маленькая, нам…
Вдруг, будто разорвав воздух, резанул по хутору медный голос трубы. Всем сигнал этот знаком: «Всадники, други, в поход собирайтесь, // Радостный звук нас ко славе зовет!».
Оба брата вылетают во двор. За ними вслед мать, сестра их Грунятка, обе снохи и еще какие-то две казачки. Степенно и медленно выходит во двор атаман, Все столпились на широком крыльце. Только бабушка осталась на своем месте. Подняв глаза на иконы, шепчет она что-то и мелко-мелко крестится.
А служивые уже заседлали коней, держа их под узцы, стоят оба у настежь открытых ворот. Из-за катуха выезжает и останавливается у крыльца подвода со сложенными на ней вещами уходящих на войну. Поедет на ней атаман в Арчаду, на сборный пункт, проводить сыновей и своих хуторцов. Бабы останутся дома — как говорится, дальние проводы, лишние слезы. Нечего им там делать.
Улица полна народа, все идут к правлению семьями, Песковатсков Михаил, склонив голову на шею коня, идет сам. Отца у него нет — помер, мать лежит разбитая параличем, примерли и деды с бабками, жениться он не поспел, нет у него родни в хуторе. Вот и идет он один и, завидя его, еще пуще плачут бабы, пряча лица в расшитых узорами платках.
— Г-гги-и! Дай дор-рогу! — это Николай с Петром, вскочив на коней, полным карьером вынеслись со двора и умчались к площади.
Атаман довольно улыбается:
— Молодцы мои рябяты, нечего тут рассусоливать.
Весь хутор собрался на небольшой площади между правлением и школой. И уже построились под командой урядника Алатырцева восемнадцать молодых разуваевцев: Все уходящие молодец к молодцу, только вот Никишка чудок подгадил, трошки ростом невысок, даже стоя на левом фланге, и то дюже малым кажется. «Ну да не беда это, — как старики смеются, — ему же лучше: немец в такого сроду не попадет».
Ярко краснеют лампасы синих шаровар, сапоги начищены до слепящего блеска, гимнастерки пригнаны ладно, лебяжьим изгибом желтеют рукоятки шашек. Тихо покачиваются темляки, чубы зачесаны, как полагается, фуражки надеты набекрень, с фасоном. Кони нервничают, неспокойны, толпа гудит, замерев, не спуская глаз, глядят матери и жёны на стоящих в строю. И никак ничего не понимая, галдя и треща, носятся воробьи, пугая коней неожиданным шумом крыльев. Вбежав на крыльцо правления, атаман обернулся лицом к строю. Говор оборвался. Как в церкви, тихо. Снял атаман с головы фуражку прежде чем речь свою начать:
— Рябяты! Обратно всколыхнулси наш батюшка Тихий Дон. И взволновалси. Обратно сыграла труба поход, как играла она и дедам, и отцам вашим. И уходитя вы, таперь вы, как и со всяво Дону казаки, в далекие земли бусурьменские. Помнитя присягу, помнитя данную вам науку, и ничаво не боитесь. Всё в Божьей воле, а у хорошаво казака и в руках яво собственных. Зорьче круг сибе глядитя, да об конях и никак не забывайтя. Помнитя — не на то казаку хороший конь нужон, штоб врага догнать, а штоб в нужде врагу в руки не дасться, уйтить от нипрятелю. Вот трошки непорядок у нас в том, што нету в хуторе своего попа, штоб вам церковную напутствию исделать, ну, в Арчаде там всё одно молебен служить будуть…
Атаман переводит дух, оглядывает хутор, площадь, напряженно слушающую его толпу.
— А ишо скажу я вам, тот пропал на войне, хто забоялси. Одно помни: увидал ты нипрятеля, лятишь ты на няво с шашкой аль пикой, и должон он тольки от виду твово понять, што всё одно, либо срубишь ты яво, либо на пику наденешь, либо конем стопчишь. Такой в ём страх заняться должон, што ополоумить он, повернется и от тибе побягить. А того только табе и надо. Знай, думай — ага! Садану я зараз так, аж шерсть из яво клочьями полятить. Вот об чём мячтайтя, вот об чём думайтя, тогда и правильного путю достигнитя. А ишо скажу я вам: штоб ни за кем из вас замечаний не было. Хутор наш, семью свою, в полку не срамитя, никчамушнее это дело. Лучше перетерпи, не доевши аль не допивши, чем потом сам моргать будешь, когда девки с тибе смяяться учнуть. Ну, а впрочем, дай вам Бог победы и одоления, и скорейшаго возвороту в родныя куряни. А таперь няхай вас зараз матери ваши благословять. Помнитя — материнская молитва со дна моря спасаить. Час вам добрый!
Толпа в одно мгновение заливает строй. От бабьих платков, от стариковских папах и фуражек, от старушечьих шалей служивых и не разглядеть. Высоко задрав головы, удивленно оглядываются кони, ничего не понимая. И кони и атаман начинают нервничать. Лицо атамана вдруг заливается краской:
— Трубач, труби поход!
Будто ножом по сердцу, прорезал медный голос. Отхлынула толпа от служивых.
— С-сади-ись!
Как один, вросли в сёдла казаки. Звенят кольца уздечек, фыркают кони, гремят шашки, ударяясь о стремена.
— Справ-ва по три, ма-арш!
Как на параде, перестроились конники. Оглядываться на остающихся больше некогда. Уже скачет перед колонной урядник Алатырцев на рыжем, на лысом, коне своем:
— Заводи песню!
Первым песенником считается на хуторе Николай, атаманов сын. Лихо, громко и весело заводит он свою любимую:
Мы к Балканам подходили, Нам казались высоки, А когда их перешли мы, То сказали: пустяки!За уходящей шагом колонной бросились казачки. Цепляются за стремена, хватаются за сапоги, за подпруги.
Грями, слава, трубой, По всей Области Донской, Казаки там турков били, Ни шшадя своих голов.Кони шарахаются от путающихся меж рядами женщин. Строй нарушен. Да что же это за безобразие! Лицо атамана заливается краской. Команда его слышна ясно и далеко:
— Р-рысью, м-марш!
Оторвавшись от стремян, отскочив от набегающих коней, шарахаются казачки в сторону, машут платками, ничего не видя от слёзного тумана. Взмыла в воздух едкая пыль, скрыла ушедшую на рысях колонну. А там, у далекого, стоящего совсем на горизонте кургана, вновь пошли служивые шагом и снова заиграли песню. И взмыл в небо высокий подголосок, кружа по степи, долетел на свой хутор, попрощался с ним и потонул в захмурившихся облаках. Всё слабей и слабей его слышно. Затих. Кончился.
Тихо и на хуторской площади. Солнце еще ярко светит, но всё ближе и ближе надвигается с запада темная туча. Молча стоит толпа, глядя на далекий курган, за которым уже давным-давно исчезли их хуторцы.
Но вот, окутавшись облаком пыли, вырвалась чья-то тачанка из проулка и понеслась через выгон, напрямик, к большаку. Да это же Марьюшка, жена Феди Астахова. Рванула за ушедшими казаками на Арчаду. А вон, проскочив площадь рысью, круто повернув вслед за Марьюшкой, протарахтела еще одна подвода на доброй паре рыжих. Никак Семилетовых это кони? Так и есть. Это сноха ихняя, глянь, вместе с тещей нашпаривает.
Не прошло и пяти минут, как затопили площадь подводы, выбиравшиеся на Арчадинский шлях. Исчезли и они за курганом. Стоящий рядом с Семёном пожилой рыжий казак снимает фуражку, чешет затылок, снова покрывает голову и, сплюнув в траву, бурчит:
— Ишь ты, чёртовы присухи. И повоевать мужьям не дадут!
Обернувшись к соседу, говорит голосом, не терпящим возражений:
— Так я считаю: при таперешнем оружии война эта более трех месяцев не протянется.
Сосед на него и не смотрит:
— Дай Бог, дай Бог, поглядим. Толкач муку покажет.
Пылят стоптанными чириками по улице дедушка Мирон и дедушка Евлампий. Дедушка Мирон сегодня страшно взволнован, не тем, что казаки в поход ушли, нет, дело это привышное, так же, как сенокос, как молотьба, как крестины или родины. На то и казак, чтобы воевал. Ясно. Но иное возмущает его, кажется недостойным казака, смешным и постыдным. Он отчаянно жестикулирует, забегает вперед и останавливает своего собеседника посередине улицы;
— И ишо раз говорю табе: никакая это не война! Видал я на маневрах в окружной станице, как там, спешившись, казаки орудовали. Ляжить это он в кусту, вроде как на бугорок вылез, а сам всё в укрытие норовить. Глядить перед собой в степь, а супротивника нигде и звания нету. Ну, скажи ты мине, заради Бога, да рази ж это война? Вон как мы с турькястантами воевали, вон то страсть была. Стоять они в двадцати шагах от нас во весь рост и ружья у них на рогулькях покладены. И целить он табе прямо в лоб. Во! Смерти прямо в глаза мы глидели. А как вдарить он с того ружья, как пальнёть, аж сам посля того от отдачи на землю садится. А как гохнить та ружье, так кони наши аж на дыбошки становились. Одного разу как пальнул один такой турькястант, как пальнул, так куму мому Стяпану, ну, прямо пулей энтой своей в лоб угодил. Сшибла яму та пуля папаху с голове, а на лобу, веришь, аль не веришь, вот такуя, — дед Мирон прикладывает ко лбу свой высохший кулачок, — вот такуя во шишку, правду табе гуторю, набило! Страсть и глядеть было. Кум мой посля того три дни, как круженая овца, круг сибе крутилси, пока яму фершал полковой примочков каких-то не приклал. Лишь посля того очунелси. Вот то — война была! А ты мне говоришь, оружия таперь ня та. Да што же ета за оружия такая, што ни ее не видать, ни того, хто с ней бъеть. Вот мы, да, — воявали, смерти в глаза, можно сказать, глидели, а ноне…
Деды скрылись в проулке. Площадь совсем опустела. Лишь на самой ее середине стоит какой-то казак, тоже годами постарше, держит своего собеседника за поясок и говорит, ни на минутку не умолкая:
— Ну, а как ты думаешь, ить, поди, иде-нибудь там, во Франции, какая-нибудь ихняя Марго тоже, поди, слёзы льет, сына в поход собираючи. Так, ай нет? Али, скажем, в каком-то там Гайдильберги, стоить там посередь свово куреню ихняя фрау Гретхен, стоить, и никак понять не могёть, почаму же должен Фриц ее таперь на фронт иттить и яму, ну, никак неизвестных казаков из ружья бить? И почаму энти самые казаки во Фрица ее тоже стрялять учнуть? Али, скажем, в энтом самом Сараеве-городе, сербка какая, Дара аль Мара, ломоть кукурузного хлеба сыну свому в торбу пхаить и плачить-убивается, и никак ей в голову не лезить: да за што же Милош ейный, за того убитого герцога, на смерть иттить должон? И уложить яво пулей какой-нибудь австрияк, Франц аль Иосиф, который сам тольки с пашни приехал, быков распрег, а яво и забрали. А? Нет, стой, объясни ты мине, растолкуй, просю я тибя, за што же это простой народ муки примать должон? Ну, што ты воззрилси на мине, как тот баран на новые ворота, отвячай!
Из-за школы выворачивает Гаврил Софроныч, дедушкин дружок.
— А-а, здравствуй, здравствуй, господин реалист. Давно, брат, тибе не видал. Никак к тетке твоей торописси? Ну, поспяши, поспяши, там, должно, родитель твой с устатку давно сидить закусываить…
На минутку замолчав, помутнев лицом, отчеканивает:
— Не, не тот человек отец твой, што дед был. Вон то — казак, был, да! Дюже я, от всяво сердца, жалкую, што не дожил он до нонешняго дня. Он в кажный бы курень наведался, с кажным казаком поручкалси, кажной, самой распоследней бабенке ласковуя слову сказал. А отец твой, иде он был? Тольки и всяво, што у атамана за угошшению засел.
Гаврил Софроныч смолкает, но, вдруг схватив собеседника за плечо, крепко сжав его худыми, цепкими пальцами, наклоняется и говорит прямо в ухо звенящим шопотом:
— Почашше об дедовой науке думай. Забудь об дворянстве об твоем, настояшшим казаком стань, таким, как покойный Алексей Михалыч был… Ну, бяги, бяги, поклон всем перекажи.
Уже совсем недалеко от теткиного куреня окликает его Савелий Степанович. Стоит он за плетнем в саду казака Меркулова и, приветливо улыбаясь, протягивает ему руку:
— Н-ну, н-наконец-то, свиделись. Х-хорошо, что и вы все пришли на п-проводы. А я насмотрелся за годы эти на жизнь казачью, нагляделся, сегодня особенно, на проводы, в д-душу, д-думаю, народца моего вник. Ведь они на с-смерть, как на молотьбу, идут. И вот реш-шил и я, что место мое с ними, там, на ф-фронте, на фронте. П-пойду д-добровольцем. Т-там всё п-проверю, все ид-деи, в-все готовящиеся э-эксперимен-ты, так сказать, снизу разглядеть п-постараюсь. З-знаю, батюшке в-вашему обидно, обидно, инвалид он, не может со всеми, ну, да вам стыдиться не п-приходится, три ваших двоюродных б-брата да два дяди, Валентин Алексеевич и Петр Иванович, д-да, ну, до свидания, до свидания. Привет всем, особенно же маме и бабушке…
Отец сидит у окна, за газетой его и не видно. Тетка сидит с бабушкой и мамой на диване, и то, и нет-нет, взглядывая на отца, говорит возмущенно и решительно:
— Да што же это такое? Никто, ни атаман, ни Алатырцев, ни вот наш господин есаул, никто подходящего слова казакам не сказал. Царствующий дом, Государя Императора нашего даже и не помянули. Ить за веру, за царь-отечеству воевать они пошли. Так или нет? А ты, Сергей, за газету не хоронись, прямо говори, хоть сейчас думки свои скажи.
И, вдруг — грр-рах!
Из давно уже нависшей над хутором тучи неожиданно, после долгой неприятной тишины, сначала прогнав дозором-смерчем закрутившийся ветер, блеснув потом молнией, грохнув картечным разрывом, полил, как из ведра, теплый, летний дождь. Выскочив на балкон, с завистью смотрел Семён на толпу казачат, выбежавших на улицу. Засучив до колен штанишки, плясали они в лужах, шлепая босыми ногами по пузырившейся воде, и пели веселыми голосами:
Дождик-дождик, припусти, Мы поедем во кусты, Богу молиться, Христу поклониться. Есть у Бога сирота, Отворяет ворота Ключиком-замочком, Шелковым платочком.И, увидав его на балконе:
— Эй ты, офицерский сын, покажи-кась, казак ты ай нет!
Дома, после ужина, остались родители еще сидеть в столовой, ушла бабушка в свой флигель, вышел Семён на балкон, обошел и рощу за домом, и огород, лесок из молодых акаций и мельницу, прошел к амбарам и, повернув по канаве, подошел к бабушкиному флигелю, остановившись под единственным, слабо освещенным окном. Ночь была вовсе тихая, только неумолчно шепелявила по желобам вода, неустанно шепча нескончаемые свои побасенки, да повизгивало одно из старых мельничных колёс.
И с удивлением, во второй раз в своей жизни, услыхал он, как тихо, но еще молодым голосом, пела бабушка у себя в комнате:
Снежки белые, пушистые, Призакрыли все поля…В первый раз услыхал он ее, как пела она эту песню, уже давно. Было это недели две после похорон дедушки. Как-то после обеда, солнце уже шло за бугор, набродившись по Середнему Колку, решил он отнести пучок подснежников на еще свежую могилку деда. И вот тут услыхал тогда, крайне изумившись, бабушкино тихое пение. Присела она возле могильного холмика, поправляла что-то на обочине рукой в старой, изношенной рукавичке и тихо пела:
Одно поле не покрытое, Поле батюшки мово…Стараясь остаться незамеченным, спустился он тогда назад к речке, обошел ливадами Старый Хутор и, придя домой, сразу же побежал к маме и рассказал ей всё, что видел и слышал. Заплакала она, обнимая его:
— Любимая это дедушкина песня была. Певал он ее часто, когда вспоминал хутор Писарев и свое первое знакомство с молодой казачкой Натальей, ставшей потом его женой, а твоей бабушкой. Певали они песню эту и оба, вместе, и особенно любит ее теперь бабушка твоя, а поет лишь тогда, когда душа ее в смятение приходит, когда гнетет ее что-нибудь страшное, что не в состоянии она сама себе уяснить, когда ищет, растерявшись, у Бога своего совета и помощи. Вот тогда и заводит вполголоса тот мотив, вспоминает, как была она когда-то счастлива. Понял ли ты это, сыночек, или нет? А если и не понял сейчас, то запомни, что я тебе говорила. А когда поживешь, да хлебнешь горя житейского, вот тогда и станет самому тебе ясно, как это петь песню можно, когда сердце твое от тоски разрывается…
Долго, допоздна, простоял он в этот вечер у бабушки под окном. Горели звезды в темном небе, спали и хутор, и степь, и томилась бабушка, не будучи в силах понять ничего из всего того, что в мире Божьем происходит.
Середь поля есть кусточек, Одинешенек стоит. Нет ни стежки, ни дорожки И листочков на нем нет…Часть II
После полдня, когда освещает солнце подающую в бункера угольную бесконечную ленту, тогда, как в кинематографе, падает ее тень на противоположную стену и бежит по ней причудливыми отражениями бесконечных угольных горок. Да не горки это — города. Где стояли эти города, что это за страна была и когда всё это было? И вместе с лентой наплывают невеселые думы подневольного.
Ах, давно, очень давно, еще задолго до постройки Китайской стены и египетских пирамид. Много-много раньше. Да и не всё ли равно — когда?
Вот когда-то, на каком-то континенте, которого давным-давно и в помине нет, был в стране этой Великий Правитель, правивший, конечно же, не лучше и не хуже, чем и иные правители в тысячах иных государств, существовавших и до, и после него.
Религия в той стране была… да, конечно же, была там и религия, и в те времена боялись люди смерти, искали всему объяснения, стремились к идеалам, докапывались до смысла жизни и верили во что-то, потому что несовершенство ихнего мира было им более чем ясно.
Впрочем, не все ли равно, как и во что они верили? Дело лишь в том, что и в этом государстве была организация, весьма похожая на то, что в наше время называется Церковь. Во главе ее стоял Арх. Ему подчинялись суб-архи, этим суб-суб-архи, и так далее. И этот Арх, и его суб-архи очень умело выколачивали из верующих и золотые, и серебряные монеты, и жили они, Арх и суб-архи, вовсе неплохо. Для верующих строили они храмы, совершали в них служения, обедни и взимали за это соответствующую мзду. А что же еще они делали? Ах, да — ладили они очень хорошо с Великим Правителем, который, конечно же, был справедлив, но строг, и недремным оком присматривал и за своими архами, и за трудившимся в поте лица народом.
Но, несмотря на зоркие глаза Правителя и чуткие уши Арха, постепенно появились в той стране люди из числа Много Думавших Одиночек, из тех, кто не пресмыкался перед Правителем и вовсе не благоговел перед Архом.
После нескончаемых размышлений стали эти Одиночки писать книги и написали их очень много. А потом выпустили брошюры и отпечатали воззвания.
И в них позвали они братьев своих, открыв им глаза на всю ложь и неправду их окружающую, к тому, что миллионы лет спустя, в совсем иных странах, на совершенно иных языках, люди жившие гораздо позднее, назвали: Революция.
И начали они строить, да-да, это они первые изобрели то, что сотню миллионов лет спустя было названо: Баррикады.
А после этого пошли Много Думавшие Одиночки на построенные ими баррикады. И многие из них, очень многие, пали смертью храбрых. Но уцелевшие сумели привлечь на свою сторону рабов, и победили. И первое, что сделали они после победы — убили Великого Правителя и Арха, объяснив, что были те нехорошие.
И сразу же после победы начали строить совсем новую жизнь, по совершенно новым рецептам, и что-то, как будто, стало у них получаться. А тут, надо заметить, что, строя эту совсем новую, счастливую жизнь, следили они друг за другом очень строго, боясь, что не будут соблюдаться Новые Правила. И кто этих Новых Правил не соблюдал, тех они тоже убивали. И так перебили почти треть уцелевших от революции.
Тогда многие из уцелевших снова очень задумались и, боясь отклонения от Новых Правил, а следовательно, и смерти, испугались. И потихоньку стали подыскивать единомышленников, договариваться с ними, чтобы спастись. И все они еще крепче задумались. А бывшие рабы, так рабами и оставшиеся, не получив, в конце концов, ничего, кроме еще более черствой корки хлеба, стали вспоминать старого Великого Правителя и его Арха, и ходить в прежние храмы, но не внимали тому, о чем толковали им там новый, теперь называвшийся Великим, Управитель и его помощник по делам душ человеческих, теперь называвшийся Орх, а искали глазами замазанные на стенах старые изображения. Нового они, рабы, совсем нового, сами, конечно же, выдумать не могли.
И вот окончательно испугались сделанного Много Думавшие Одиночки, но, набравшись храбрости, собрались на площади и вышел один из них к народу и сказал:
— Братья, раньше мы ошибались. Наши Новые Правила надо исправить! И еще — надо убить и Великого Управителя, и Орха, и избрать Великого Управляющего и Еарха! Вот как мы всё хорошо придумали!
Но как раз в этот день и час, как раз в это мгновение, пролетала над Землей какая-то огромная, в миллион раз больше, чем Земля, Планета. Страшной силой той бури, того урагана, который был вызван ее полетом, перевернула Планета Землю и стала та крутиться вокруг совсем новой оси. И переместились полюса, и в мгновение ока исчезли континенты и моря, и океаны, и погибло, пропало всё, что до тех пор на Земле жило…
Но постепенно, медленно, миллионами лет, образовалась новая суша, и вода отделилась от нее, и создались климатические условия, в которых…
А впрочем — к чёрту, всё к чёрту!
Ах, да, если снести Маттергорн и прокопать под ним шахту глубиной в десять километров, то на дне ее можно будет найти камень-слиток с впаявшимся в него обломком того железа, которым благословлял своих верующих сначала Арх, а потом, слегка его переделав, Орх. А от книг и брошюр, от баррикад и революционеров, от Задумавшихся в первый и во второй раз, ничего нигде не осталось.
Но обломок этого железа можно будет хорошо употребить, впаяв его в те кресты, полумесяцы или звёзды, серпы или молотки, которыми в наше время благословляют всех нас несчетные современные Архи, Орхи, Правители и Управители. Так сказать, для традиционной последовательности.
***
Смотрит Семён на ленту, на тень ее на стене, на призрачные города, и знает, знает твердо, что ни Архов, ни Орхов, ни Правителей, ни Управителей, ни рабов, ни дважды Задумавшихся, никого ничему не научить. Твердо знает, что не надо ни баррикад, ни Революций, ни Старых, ни Новых правил… и что был рецепт у казаков. Но казаков этих — убили.
И поет снова одну из старых казачьих песен:
Поехал казак на чужбину далёко, На добром и верном коне вороном. Свою он Крайну навеки спокинул, Ему не вернуться в отеческий дом.Да, казаков — убили. Уже по одному тому, что самое их существование, свободных и независимых, базировавшееся на воле и народоправстве, среди мира рабства, единодержавия, империалистического завоевания, грозило всем этим рабовладельцам разложением их стран изнутри и гибелью. И объединились они, и, как когда-то говорила его бабушка: «Придет время, и станут на небе две пятиконечных звезды, одна на Востоке — Красная, а другая на Западе — Белая. И сдружатся они, и пойдут войной на Паучиную Гадину и уничтожат ее. Но вдарятся они межь собой, добычи не поделивши, и обе погибнут. И останется тогда от казаков — как от шубы рукав, того меньше — как от рукава нитка».
* * *
Дом предводителя дворянства Михаила Михайловича Мельникова с высоким, в колоннах, подъездом, как площадь, большим круглым двором, стоит посередине огромного сада на берегу мелкой речки Ольховки, медленно текущей через хохлачью слободу того же названия. Во времена Степана Тимофеевича Разина пустынно здесь было. Буйно и густо росли тогда леса по берегам Иловли и веселым шумом приветствовали они челны грозного атамана, выгребавшего Иловлей к Переволоке. Там, где Иловля и Волга сходились всего ближе, и была эта самая Переволока, или Волочь, место, где выходили казаки из челнов и, подкладывая под них тут же срубленные кругляки, волокли их в речку Камышенку, а по ней уже плыли дальше в Волгу. И ютился на этой Волочи-Переволоке работный люд, сбежавшийся сюда от крепостного ярма. Помогали они казакам волочить их челны, пока ходили их лихие атаманы на Волгу в набеги или ворочались потом с победой и добычей. Скрывались беглые в шалашах и землянках, и жили там, пока не отгремела слава казачьих атаманов. И когда стали их позднее ловить московские сыскные люди и расспрашивать откуда они тут взялись, то отвечали они простосердечно:
— С Волочи мы.
Вот от этой-то «сволочи» и осели здесь первые жители слободы Ольховки, ставшей хохлачьей, и села Клиновки, заселившегося русскими. Выросла с годами Ольховка, набежали сюда из Украины хохлы и развелось их здесь до девяти тысяч.
В те дни, когда Мельников дома, вьется высоко над крышей трехцветный русский флаг. А это значит: заезжай к нему, экипаж твой будет сразу же распряжен, закатят его в каретник, лошадей поставят в конюшню, а гостя проведут в предназначенную ему комнату, и к полудню будет он принят хозяином, который осведомится о здоровье гостя и самочувствии, пригласит его к столу, а после обеда отпустит соснуть часок-другой и потом попросит к послеобеденному чаю, и лишь вечером, меж чаем и ужином, поговорит с ним о делах, коли тот по нужде какой явился, или об охоте, рыбной ловле, урожае, ценах, литературе или политике, коли никакой он особой оказии к нему не имеет.
Отец с Семёном приехали в десятом часу утра. Как здесь заведено, должны они прогостить три дня. Дворецкий просит их за ним следовать, барин нонче почивали до девятого часу, сейчас разговаривают они с управляющим и, как только дела свои покончат, так и обеду время подойдет.
На дворецком белая полотняная рубаха, мягкие сапоги с забранными в них холщевыми хохлацкими шароварами, подстрижен по старинке под горшок, носит длинные хохлацкие усы. Совсем еще мальчишкой поступил он к отцу теперешнего барина, подавал ему трубку и стоял за его стулом при трапезах, провел добрых сорок лет в имении, и сначала был Сидорка-куда-пошлют, а стал Сидор Иванович, дворецкий. Давно уже поседел, но держится еще совсем бодро, говорит вежливо и с достоинством. Гости поднимаются в первый этаж.
— Ось просю сюды!
Дворецкий открывает дверь, пропускает отца, Семёна ведет в небольшую, с открытым окном в густой, тенистый сад комнату. Кровать, диван, ночной столик, полка с книгами и у дивана круглый столик, заваленный журналами. Выбрав несколько номеров «Нивы», решает он заняться чтением.
Без четверти двенадцать раздается стук в дверь. Высокая румяная хохлушка-горничная приглашает в малую гостиную и просит здесь подождать прихода хозяина. Но — вот и он, мягкие сафьяновые сапоги, широкие синие шаровары, длинный, старого покроя, мундир, застегнутый на все пуговицы, круглая лысая голова, до глянца выбритые щеки, гусарские пушистые усы, нос с горбинкой, хоть ростом мал, да дородностью взял.
— А-а-а! Сергей Алексеевич! Наконец-то пожаловать изволили. Рад вас видеть. А это сынок? Вырос, вырос, здравствуй, здравствуй. Тебе-то, боюсь, скучновато у меня будет, не девица гулять по саду, в беседках сидеть… Но на конюшне вели себе верховую лошадь оседлать, а нет — на речку пойди, удочки есть, попробуй с лодки, рыбы тут видимо-невидимо! Библиотека в твоем распоряжении, если читать любитель…
Хозяин крепко жмет руки гостей и говорит неумолчно, непринужденным тоном:
— Да-да-да! Три денька. Так у нас от дедов-прадедов заведено, и обычай этот и я соблюдаю. Ага! Вот он и батюшка. Рад, рад, отец святый…
Священник робок, смущен, смотрит крайне неуверенно, быстро всех благословляет, хочет что-то сказать, но, заметив, что никто, собственно, с ним разговаривать не собирается, отходит в сторону, к стенке, и принимается рассматривать, наверное, уже сотню раз виденные им картины. Входят еще какие-то люди. Хозяин приветствует и их, представляет — оказывается, тоже соседи-помещики. Последними пришли становой пристав и Александр Иванович Пономарев — Обер-Нос. Где-то в холле слышно три удара в гонг, хозяин легким поклоном приглашает гостей к столу.
Стол большой, на двадцать персон, но сегодня накрыт он только для восьмерых. Хозяин дома садится в самом дальнем его конце, на стуле с высокой спинкой, налево от него садится батюшка, направо отец, рядом с батюшкой Семён, напротив него — становой пристав. Нет ни одной женщины — Мельников вдов. За стулом его стоит молодой веснущатый паренек, следящий за каждым движением своего хозяина. Стол накрыт богато, скатерть белоснежна, подают на серебре, меж ваз с цветами множество бутылок. Серебро, фарфор, хрусталь. Всё торжественно и чинно. Хозяин разговоров за столом не терпит — есть надо, а не разглагольствовать. Болтая, и вкуса настоящего не почувствуешь. Гости пьют умеренно, поскольку сам Мельников дела этого не любитель.
После обеда отправляются все в библиотеку. Хозяину приносят длинную турецкую трубку, отец выбирает сигару, батюшка, от греха, диавольского зелья не приемлючи, никем не задерживаемый, исчезает. Гости рассаживаются в креслах, на диване, пьют кофе и курят.
— Да, Михаил Михайлович! — отец затягивается покрепче. — Как не позавидовать: повара имеете отличного.
— А что же мне делать прикажете? О чём, как не о благоутробии заботиться? Именьице, тьфу — не сглазить! — кой-какие доходишки дает, в банке про черный день кое-что сберегаю, один я, как пень, управляющий мой обворовывает меня по-божески, вот и позволяю себе на старости лет, хоть за столом, побаловаться.
Толстый помещик хохочет:
— Ха-аха-ха! Видали его — на старости лет! Хотел бы я таким стариком быть…
— Конечно же, старик. Вот сижу дома, тогда, когда вся матушка Россия снова, как в двенадцатом году, на врага и супостата поднялась. Сижу и стыжусь. Вон, хоть на Сергея Алексеевича поглядите, из его дома пятеро на фронте, и сам он, не будь болен, пошел бы. Нет, не везет мне. Вот и катаюсь теперь по всей губернии по делам дворянства…
Рыжий помещик затягивается, сигарой и хрипит:
— Н-дас! Дворянство российское! Зажирело. Вовсе это не плохо, что немцы на нас ударили, пусть столбовые жирок свой порастрясут. Лучше от пули вражеской пусть смерть примут, чем дома от апоплексии.
Становой пристав скептичен:
— Ну, как сказать, только вовсе еще неизвестно, как мы себя на войне-то покажем. Шутки в сторону, а к ней мы вовсе не готовы!
Хозяин удивленно поднимает брови:
— То есть, как это так — не готовы? Пустые это разговорчики! Сегодня же, после чая вечернего, позволю я себе вам кое-какие цифры привести, а сейчас, дорогие гости, разрешите мне, по обычаю русскому, часок-иной отдохнуть. И вам советую.
Отдав общий поклон, Мельников уходит. Допив кофе, расходятся и остальные. Семён отправляется в сад, долго его осматривает, густой, тенистый, с посыпанными песком дорожками. В дальнем конце аллеи большая круглая, с колоннами, деревянная беседка. Усевшись в ней, смотрит он на дом и с удивлением видит, что совсем высоко, под крышей, на мезонине, как-то безалаберно и грубо забито одно окно старыми, почерневшими от непогоды досками. Весь дом светел и аккуратен, и грязное пятно это портит всю картину довольства и благополучия.
— А що, панычу, спочиваты нэ хочетэ? — неслышно появился у беседки дворецкий.
— Нет, я после обеда не сплю. Папа, тот всегда отдыхает. А почему вон то окно забито? Как это некрасиво: дом такой чистый, а тут какие-то полусгнившие доски…
Дворецкий только мельком взглядывает на дом и садится с ним рядом:
— А скажить мини, панычу, вы Пушкина читалы чи ни?
— Конечно же, читал!
— А скажить мини, як цэ в його писля оцих слив: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали?».
— «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали!».
Дворецкий в восторге:
— Знаетэ, я нэ дуже много вчився. Алэ ж читав богато. Ось, например, Шевченко, або Пушкина… дэщо дуже люблю. Так ось, расскажу я вам, що тут в нас сталось и чому тэ викно забытэ. Було цэ дэсь дэвятьсот второго, чи трэтьего року, а була в пана нашего жинка, Валерия Григорьевна, гарна пани була. И подарувала вона пану нашему донэчку Женю, дэсь висемьдэсят шостого року. Ой та й щаслывэ врэмья тоди в нас було. Пан писля того, як донэчка в його народылась, з Санкт-Питэрсьбургу в имение свое прыихав, в отставку пишов, нэ схотив бильш в гусарах служиты. Та на що воно йому й було? Шесть тысяч дэсятын зэмли, що того скота, що тиеи пшеныци, що того иншого добра, найбогатший пан був вин тут в нас. И зробыв вин тут рай соби и з молодою жинкою. А й дытына, цэ вже, мушу я вам сказаты, без брехни, така гарна була, така красыва, що вси мы, скилькы нас в його на служби було, полюбылы ии, як свою. А и пан наш, цэ тэж мушу вам сказаты, добрый був, нэ тэ що той Обер-Нос, або щэ деяки тут, що шкуру з нашого брата дэрлы и дэруть. Ни, нэ такый вин був. Добрый, спокийный, справэдлывый. Николы рукам воли нэ давав. И любылысь воны с панэю, як ти два голуба. Алэ ж як прийшов той час, та подросла донька, як побачилы вси, яка з нэи красавыця выйшла, то й скинчилося спокийнэ життя наше. Що ни дэнь — ось тоби гости йдуть, та нэ яки-нэбудь, з тутэшних, дэ там, аж з самого Питэрсьбургу чи з Москвы. Та хто? Той — граф, а той — князь, а той — барон, та вси паны-офицеры, та вси в такых мундирах, та в такий гарний форми, що дывысся на його, а и сам нэ знаешь — чи то людына, чи яке-сь боженя з шаблюкою. А вчилась наша молода панночка вдома. Взялы до нэи яку-сь францужинку та якого-сь прохвесоря. Десь на шестнадцятом роци така красавыця зробылась, що, мабуть, по цилой империи вси паны за нэи почулы. Ось и став панськый дим, як тот постоялый двир: зразу повна хата людей и вси найкращи, найбогатийши, найзнамэныти. А вона, Женя, що ни дэнь, то й в степ, а лыбо на човни, а лыбо на пьяныни граэ, та як грае! А як заспивае, так нибы-то янгол Божий голоса подае. А я — пидийду пид окошко, стану слухаты, та дэколы й плачу — чому-сь вона зроду таки писни спивала, таки штукы грала, що воны за сэрцэ трывогою бралы.
И ось пишлы тут чуткы, пишлы таки разговоры, що сватаються до нэи два офицеры, одын з уланьського полку, а другый — с гусарьського. И обыдва ий наравляться, и обыдва гарни хлопци, в эполетах та в доломанах, чи як там всэ да в ных называется, та й з шаблюкамы, та з вусамы, та з такых симэй, що про ных вся Россия зна. Нэ абыщо, а славнийше дворьянство российськэ, найбогатийше лыцарство, що тикы на свити е. И ось в тому проклятому роци приихалы воны обыдва из батькамы и з матэрямы и зисталысь в нас на Риздво жыты. И такэ тут пишло, як ото говориться — дым коромыслом. На тройках в ночи катаються, на охоту на волков та на лысыць, на коньках на ричци, на санках из горы. А балы таки закатувалы, що, мабуть, и в самого царя такых нэ було.
И ось пишлы таки чутки та разговоры, що нэ знае наша бидолашка Женя, за якого з ных йты. Обыдва таки, що люба дивчина з закрытыми очамы за кожным побижить. А пишов тоди Жени наший симнадцятый годочок, вже й замиж можно.
Ось в такому дыму й Хрэщення пидошло. А знаетэ вы й сами, як дивчата гадають. Що тилькы нэ роблять! И папер мнуть та жгуть, та на стинку, на тинь дывляться, що вона там за фигура выйшла. Та воск в воду ллють и тэж на тинь глядять. Та за ворота туфли кыдають, а лыбо выбижить на вулыцю серед ночи та й першого, кого встринэ, за имья пытае. Якэ вин имья скаже, так и нарэченный зватыся будэ. И ось в отой самый вечир поришила Женя, що пидэ вона в отой мэльзэлин, ось туды, дэ тэпэр с того дню викно дошкамы забытэ, поставэ там зэрькало, по боках дви свичкы запалыть, й сядэ сама, водна напроты того зерькала, а, як вирылы люды, побачить вона в йому свого суженого як раз тоди, колы часы дванадцять о пивнич быты зачнуть. Як раз тоди, колы нэчиста сыла на зэмли свою волю мае. Поришила Женя цэ зробыты, та никому в доми, крим своей горничной, ни сливця нэ сказала.
В той вэчир пожалилась вона нибыто голова в нэи разболилась, та й пишла дэсь писля десятого часу в свою кимнату. А гости трохы посыдилы, та й спаты пишлы. А мы вси возрадувалыся, слава Тоби, Господы, хоч сьогодни трошкы выспаться можна будэ. Тыхо-тыхо в паньскому доми стало. Тикы я та Оксана, горничная, в столовой серебро збыралы та порядок робылы.
А тут ти часы вдарылы. И тикы зачалы воны одзванюваты, зачулы мы такый крык з той мэльзэлыны, такый страшный дивочий голос, нибыто хтой-сь живу людську душу на адськы мукы кынув. Окамэнилы мы двое посэрэд столовой, як ти соляны стовпы, и слова вид страху сказаты нэ можем. И в той мэнт вскочив наш пан, як був у ныжнёму бильи, а за ным пани, тикы в тому, як його, в пеньюари, а блэдна, як та стинка, и оба нас пытаються:
— Кто это кричал? Откуда?
А показалось мэни, що голос той з мэльзэлыны був. И побиглы мы вси туды, як раз мымо тиеи кимнаты, у який вы зараз спытэ. А як раз до вашои двери и дверь та, що на мэльзэлыну вэдэ. Прибиглы мы, глянув я, й обмэр — стоить посэрэд той кимнаткы столык малэнькый, на йому зэрькало вэлыкэ, кныжкамы пидпэрто, справа и злива вид зэрькала свички горять, а панночка наша тут же, биля столыка, як той билый голуб, що його громом вдарыло, на полу в одний рубашци лэжить, тилькы на плечах шаль тэплый накынутый. Лэжить и нэ дышить, а блидна, як смэрть. Схопыв ии пан на руки, пидняв и понис додому. Мэнэ видразу за ликарэм послалы, аж вин в Ольховци, всього с пивверсты вид нас. Заприг я Ласточку в лэгки сани, та за дохтуром, за двадцять мынут його прывиз. Побиг той до пана, а я — у кухню. А Оксана там на табурэти сыдыть и тикы однэ шепче:
— Мэртва… мэртва… мэртва.
А сльозы в нэи, як той дощик, тэчуть…
Мабуть, в тому зэрькали молода панночка щось побачыла, що впала вид страху мэртва. Ось тоди й приказав мэни пан тэ окно дошкамы забыты. А й рик нэ пройшов, як пани-маты Женина, мабуть, з тоскы померлы. Видтоди пан кожного дню, кожну нич кого-нэбудь з гостэй в хати задэржуе. Боиться пан, я вам говорю, страх йому одному оставатысь.
* * *
Вечерний чай подали в небольшой комнате напротив библиотеки. Не столько пили, сколько о политике спорили.
— Как вы Столыпинскую реформу понимаете? — спросил сосед-помещик у хозяина.
— Столыпинский аграрный закон? Пожалуйста! Вкратце — с 1897 года по сей день два с половиной миллиона дворов вышло из общины и получило свою собственную землю, всего более 16-ти миллионов десятин. Крестьянский банк, особенно с 905-го года занявшийся скупкой помещичьих земель и потом продающий ее крестьянам в рассрочку или сдающий в аренду, с 1889 года по нынешний день скупил 18 миллионов десятин земли. Как видите — крестьянское безземелье медленно, но верно идет к концу.
— Баловство это одно. Слишком уж мы мужикам кланяться начали. Нет того, чтобы помещика поддержать, кредиты ему открыть, за мужиками ухаживают, — Обер-Нос затягивается папиросой и замолкает.
Хозяин дома, бросив короткий взгляд на него, продолжает:
— А вот как продаются у нас сельскохозяйственные машины — в 1900 году было их продано на сумму в 28 миллионов рублей, в 1908 — на 61 миллион, а в прошлом, в 1913-м, на 109 миллионов.
Пристав и тут возражает:
— Ах, не одни тут мужички покупали. И помещики, и немцы-колонисты.
— Хорошо, прекрасно, пусть и те, и другие, пусть на одну треть помещики и немцы, а две-то трети, безусловно, мужики. Да — и сеют они пшеничку и вывозим мы ее в год на 750 миллионов рубликов. Вон в прошлом, правда, очень урожайном году, собрали мы ее пять с половиной миллиардов пудиков-с. Жиреет мужичок наш, жиреет.
Обер-Нос ворчит:
— И прибавьте — продавали мы ее ни почем…
— Зато теперь сдерете вы за нее сколько захотите, да, а вот, например, картошечка — уродилось ее у нас один миллиард четыреста тридцать три миллиона пудов, сахарную свеклу сеем мы на семистах тысячах десятин, на четырехстах тысячах десятин разводим хлопок и имеем его тридцать четыре миллиона пудов в год. Нефти добываем 560 миллионов пудов, чугуна 283 миллиона, а железа 247 миллионов пудиков. Хватит и на пушки, и на снаряды, да с количеством рабочих в пять миллионов человек.
— А куда рабочие эти повернут, вовсе это еще не ясно.
— Никуда особенно они не повернут, кроме как в армию или к станку. Как сами вы из газет знаете, единение власти с народом полное, студенты, рабочие, курсистки, улица, на коленях перед Государем на Дворцовой площади стоят и «Боже-царя» поют! И вообще, бросьте вы каркать. Возьмите банки наши акционерные. В 1899 году имели они баланс в один миллиард триста восемьдесят миллионов, а теперь — шесть миллиардов, да, а сахарку мы 80 миллионов пудов в год делаем, по восемнадцать фунтов на душу населения. В начале этого столетия в сберегательных кассах имели мы триста миллионов вложений, а теперь один миллиард семьсот миллионов. Это ли не доверие народа к власти? Эх вы, а еще полицейский пристав!
— Вот в том-то и дело, что пристав я, немного побольше вижу и знаю, чем другие. На одной статистике патриотизм не развожу.
— Ах, оставьте! Разнервничался, гоняясь за пьяными клиновцами. Крепнет, крепнет наша матушка Русь, правда, с трудом, но прочно. И поэтому не боюсь я никак этой войны. Резервы имеем мы колоссальные, армию в десять миллионов солдат выставить можем и прокормить, и вооружить. А вот что через годик немцы с австрийцами запоют…
Рыжий помещик потягивается на стуле и тоже возражает:
— А как вы думаете, Вильгельм-то всего этого не учел? Как вы полагаете, немецкий генеральный штаб из дураков состоит, что ли?
Хозяин хохочет:
— Да Бог с вами, этак вы мне докажете, что немецкий генеральный штаб собственноручно австрийского эрц-герцога укокошил, лишь бы нас потом побить. Да для немцев вся эта история в Сараево, вся эта австрийская истерика, полная неожиданность. Еще раз говорю вам: долго немец не устоит…
Ужин окончился часу в одиннадцатом. У себя в комнате Семён читал Жюль Верна. За чтением не заметил, как прошло время, и вдруг, будто кто-то невидимый толкнул его: огонь свечи вытянулся так, что, того и гляди, от фитиля оторвется. Странно, окно закрыто, закрыта и дверь! Положив книгу, прислушался он к полной, звенящей в ушах тишине. Весь дом спит мертвым сном. Непонятное беспокойство охватывает его и становится ему жутко. Низко скользнув с подушки, натягивает одеяло до самых глаз. Свеча по-прежнему горит каким-то неестественным, недвижимым, мертвым светом. Но вот внизу, в далекой столовой, медленно раздаваясь по всему дому, начинают отзванивать часы: раз… два… три… одиннадцать, двенадцать… Г-гомм — прозвенело в последний раз, и, будто умерло всё в доме. И лишь тут вспоминает он, что вход на мезонин рядом с его дверью. И в тот же момент совсем явственно слышит, как там, за стеной, в левом углу потолка, видимо, в начале лестницы, ведущей с мезонина вниз, ставит кто-то ногу на верхнюю, первую, ступеньку. Тупо, но совсем ясно слышно:
Топ!
И через секунду снова, ниже:
Топ!
Семён не дышит больше, замер, лежит мокрый от страха:
Топ!
Гораздо ниже, уже на середине лестницы:
Топ!
Это она, умершая Женя, она это:
Топ!
Шаги вдруг прекратились, она стоит у выхода, страшное, жуткое, бесконечное ожидание… а что если она сейчас откроет дверь?
И вдруг — топ! — один шаг назад. Наверх! Второй… медленно, с усилием, тяжело и глухо. Всё выше и выше, дальше и дальше.
Топ! Едва слышно, совсем наверху, скорей, прошуршало, чем прозвучало в последний раз, заглохло, кончилось.
Не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, лежит он, парализованный, лихорадочно прислушиваясь и следя за вдруг ожившим, прыгающим по стене, трепетно и неровно горящим огнем свечи.
Бум-бум-бум-бум. Четыре раза бьют часы внизу, в столовой, это четыре четверти, и вот он, совсем низкий тон:
Бамм!
Час ночи! Время, когда нечистая сила прекращает свои хождения по земле. Неприятный, странный вкус во рту, мокрая рубашка, взмокшая простыня. За стеной, там, где спит отец, явственно слышен его кашель. «У-хх, слава Тебе, Господи! Пронесло!».
* * *
Часов в одиннадцать отправляются все по кривым и пыльным улицам Ольховки в другой ее конец, где, тоже в саду с длинной аллеей тополей, ведущей к дому с четырьмя облезлыми колоннами, встречает их на покосившемся деревянном крыльце Александра Ивановна, как всегда, бледная и томная, одетая в темное, очень идущее ей платье. Невысокая и томная, встречает она гостей, ни на минуту не спуская глаз с сына своего Алешеньки, мальчика восьми лет. И он бледен и нежен, и он одет в темный бархатный костюм. Оба они являются полным контрастом к отцу этого семейства — Александру Ивановичу, высокому, неладно скроенному да крепко сшитому, с огромным красным, прославившим его на всю губернию, носом.
Александр Иванович, Обер-Нос, всем вечно недоволен, состоит в Союзе Русского Народа, по его мнению, император Николай Второй правит слабо, распустил народ, на дворянство российское не опирается. России, кроме ежовых рукавиц, ничего не надо. А они партии понавыдумали, Думы, парламенты. Казаков тоже притянуть покрепче, а то и они балуются, но держать их наготове, чтобы могли они при надобности хоть пол-России перепороть, чтобы не увлекались там разными социализмами.
Скуп он невероятно, одевается неряшливо, бурчит на чрезмерные расходы на кухне. Здоровому человеку, считает он, кроме хорошего борща да каши, ничего не надо, а не баловаться разной ерундой, за которую купцы наши три шкуры дерут.
После обеда, состоявшего из постных щей и жаркого из говядины, идет Семён на половину хозяйки. Здесь так светло, чисто и уютно.
Был отец хозяйки крупным помещиком, но разорился, и умер от удара. Осталась сиротой еще совсем молодая Саша, и взял ее Обер-Нос из-за необычайной ее красоты, привез в Ольховку и похоронил в двух комнатах большого деревянного дома, зимой отапливавшегося лишь наполовину.
Получив на тарелочке каких-то очень вкусных домашних печений, усаживается Семён рядом с Алешей, и оба они начинают рассматривать прекрасно иллюстрированное издание пушкинских сказок. Семён не утерпел и шепотом рассказал о своих ночных страхах.
— Александра Ивановна, я и сейчас ее боюсь, я туда больше не пойду, я домой пешком убегу, можно мне тут у вас остаться? А то папа там снова ночевать будет…
— Ну, конечно же, скажу я, что тебе здесь, у нас с Алёшей интереснее, чем со взрослыми.
Поужинав рано, отправились в детскую, зажгли лампу, ели орехи и пастилу, пили чай с вареньем и слушали сказки Андерсена, пока под чтение тети Саши не уснули крепко и спокойно.
* * *
Проведя еще одну ночь у Мельникова, отпросился у него отец на день раньше и поехал домой, захватив сына от Обер-Носа. Вот она и Клиновка. Хаты здесь стоят так, как кому понравилось их ставить — и вдоль, и поперек улицы. Вчера прошел дождь, а после того крепко припекло солнце, середина улицы, нещадно взрытая колесами телег, будто вспахана огромным плугом, вся в кочках, колдобинах. Плетней, заборов почти нигде нет, хаты кривые, крыши покосились, солома на домах и катухах раздергана ветром, ворота, где они есть, стоят открытыми, жерди на них либо поломаны, либо оторваны. Вот она — голь-матушка. Здесь не видно ни души, лишь с другого конца села доносится нестройное пение:
Последний нонешний денечек Гуляю с вами я, друзья, А завтра рано, чуть светочек, Заплачет вся моя семья…Отец встрепенулся:
— Ага, гляди, да ведь это у них проводы новобранцев.
— А что такое новобранцы?
— Эх ты! Да это же по-русски то, что у нас называется — служивые. И говорят они, что не на службу они идут, а что забрили их.
— Как так — забрили?
— А это у них еще из старины, когда таким вот новобранцам в первый раз в жизни космы в порядок приводили, стригли и брили, принимая в армию.
Вывернувшись из проулка, попадают они прямо в густую толпу перед кабаком. Площадь гудит от пьяных голосов, криков и смеха, бабьих причитаний, пиликанья гармошки и треньканья балалаек. Разноцветные платки и юбки баб, мужичьи рубахи, кафтаны, посконные штаны, почти все они либо на взводе, либо вовсе пьяны.
Заплачуть братья мои, сестры, Заплачить мать моя, отец. Еще заплачить дорогая С которой шел я под венец.Гульба, видно, достигла высшей точки, лица красны и исступлёны, глаза мутные, блуждают бессмысленно и тупо. Вдруг возле самого кабака, взорвав и без того бурлящую, как котел, площадь, хватив сразу в две гармошки, охнула и ворвалась в народ «барыня».
Эй, барыня-барыня, Сударыня-барыня. А барыня угорела, Много сахара поела…Два мужика, один в красной, другой в белой рубахе, и с ними три волчками крутящиеся бабы, расчистили себе место для танца. Подскакивают еще молодые парни, толпа наседает поближе, сбивается к кабаку, проезжим неожиданно открывается возможность проскочить дальше, да не тут-то было!
— Сто-ой! Трр. Кто ты есть, добрый человек? Тпр-ру-у-у! Лошади останавливаются, к ним подбегают три мужика, один из них сразу же хватает правого коня под уздцы, второй, заскочив слева, хватает узду другой лошади, а третий, подбежав к отцу, глядит ему прямо в лицо, и выражение глаз его из сосредоточенно-злобного постепенно становится улыбчивым и веселым.
— Гл-ля-аа! Бр-ратцы! Сам Сергий Ликсевич к нам на проводы новобранцев прибыл. Э-эй, нар-ро-од! Господин капитан Пономарев в гости пожаловал!
Державшие лошадей подскакивают к отцу и тоже широко улыбаются. Кланяются чуть не в пояс:
— Премного вас за честь благодарим. Откушайте с нами водочки, с ребятами нашими, што за царь-отечество погибать идут, — и обернувшись к толпе: — Ти-и-шшаа! Нар-род православный, сам барин Пономарев к нам препожаловал.
Отец шепчет что-то ему на ухо, и тот орет снова:
— Брр-раты-ы! Их благородия нам, по случаю войны, три ведра водки становит!
Бабьи и мужичьи голоса сливаются в оглушительном крике:
— Ур-ра-а!
На крыльце кабака появляется какая-то фигура, в красной рубахе, посконных штанах и сапогах бутылками. Это кабатчик. Пробившись сквозь толпу, подбегает он к экипажу, останавливается у передка, быстро кланяется в пояс и моментально выпрямляется. Отец вынимает пачку ассигнаций из портмоне:
— А ну-ка, Матвей, вот тебе на всю честную компанию. Матвей поворачивается и хочет идти, но стоящие возле экипажа три мужика моментально хватают его за руки, сразу же вырывают деньги и, подняв их высоко над головами, машут ими в воздухе:
— Нна-р-ро-од! Вид-да-али! В-о-о! Для наш-шего бр-рата! Ишо раз «ура» его благородию!
— У-ра-а-а!
Один из мужиков подхватывает кабатчика под руку.
— А таперь пошли мы все вместях, штоб без обману. Знаем мы тибе. Выноси народу водку под нашим глазом.
Едва протиснувшись через толпу, исчезают все в дверях кабака.
— Премного вам, батюшка-барин, благодарны. Вовек мы этого не забудем, што удостоили вы нас, необразованных… — и он тоже молниеносно кланяется в пояс, чуть не ударив лбом о колесо: — Народ, сами видите, гуляет нонче. Ить с Клиновки нашей, поди, десятка два завтри на Царицын повезем. На станцию «Лог» поедем, во какое дело. И Ванюша, сынок мой, знаитя вы яво, он к вам на мельницу сроду пшеничку молоть возит, идет. Забрили. — Мужик всхлипывает и вытирает нос рукавом рубахи, поднимая синие, тусклые от старости, замутненные слезами глаза: — Слышь, барин, а скажи ты мине, ну чего энтому германцу надоть? Што, у нас свово горя мало, што ли?
А с крыльца кабака уже раздают поблескивающие на солнце бутылки «белой головки». Народ жмет к входу в кабак, начинается давка, поднимается такой крик и гам, что лошади испуганно прядут ушами, нервничают.
— Ишь, чёрт лысай, два раза норовит!
— Тю, гля, вострая какая, и она, мокрохвостка, туды же лезет!
— Стой не разбей, туды твою в гриву!
— Да куды-ж ты прешь, в гроб, в спасение…
— Тащи, пока пристав с запретом не прискакал. Ить от дню набилизации пить боле не приказано!
Кабатчик подбегает снова и протягивает отцу бутылку водки:
— Вашсокларродия! Выпейте и вы с народом!
Страшно понравился тут отец Семёну. Схватив из рук кабатчика водку, повернул он бутылку в левой руке, ударил в ее донышко ладонью правой, быстро и ловко, так как это и мужики делают, пробка летит высоко в воздух, а отец, став во весь рост в экипаже, кричит в толпу:
— За здоровье ваших новобранцев. Чтоб всем им живыми домой вернуться!
И, приложившись прямо к горлышку, пьет водку, как воду.
Мужчины приходят в восторг:
— Ну, вот это булькотить!
— Правильный барин!
— Видать, выпить не дурак!
Говор, смех и шутки, снова навизгивает гармошка:
И-э-эх, рассукин сын, камаринский мужик, З-загалил… иё, по улице бежит…Отдав недопитую бутылку кабатчику, садится отец на сиденье и смотрит на сына:
— К «Камаринской» не прислушивайся особенно… выраженьица есть неудобоваримые для возраста твоего, впрочем, в самой распатриотической русской опере «Камаринская» эта ведущим мотивом…
Взмахнув кнутом, трогает отец лошадей.
— Ур-ра-а барину? У-р-ра-а!
Отец машет снятой с головы фуражкой, тарахтя и прыгая по ухабам, катится экипаж всё дальше и дальше. Вот и последняя изба. На заваленке сидит какая-то древняя старушка, быстро-быстро перебирает она пальцами оборку кофты, смотрит перед собой, ничего не видя и не замечая текущих по щекам слёз. Не замечает она и экипажа. А вслед ему несется пение сотни голосов, визг баб, звон балалаек, пиликанье гармошки.
З-заплачуть братья мои, сестры, Заплачить мать моя, отец, Иш-шо заплачитъ дорогая, С которой шел я под венец…Но всех перебивает разухабистая и звонкая:
И-эх, барыня угорела, Много сахару поела. Барыня, ты мая, Сударыня, ты мая!— Папа, а почему тот мужик тебя капитаном назвал, разве ты во флоте служил?
— Так это же по-русски, а по-казачьи это есаул. Всё, что у нас своего осталось, у казаков — чины. Понял?
* * *
Сегодня первый взявшийся сазан чуть не утащил с собой удочку, лишь в последний момент, схватив ее, подсек сазана и выводил и, подхватив сачком, вытащил на берег.
Бралась и плотва и, увлекшись поплавками, не заметил он как, поднимаясь все выше и выше, стало солнце в дерево. Клев кончился, пора сматывать удочки, звать гоняющегося по камышам за лягушками Жако и отправляться домой. Быстро взбежав на крутой склон, видит он своих разуваевских друзей, тоже возвращающихся с рыбалки. Они ловили в пруду, повыше плотины. Все казаки прекрасно знают, что кому принадлежит, и собственность чужую уважают крепко, никогда не запашут чужого пая, не угонят скотину, не увезут стога сена или копны люцерны, не пустят коней на чужой луг. Но вот насчет рыбальства дело совсем иное — по воскресеньям всем хутором, без всякого спроса, отправляются они на пруд господина есаула и ловят рыбу, совершенно не заботясь о правопорядке, по их мнению, рыба-то, она — известное дело — Божья! Ну так какие же могут быть разговоры! А к тому же, признаться надо, что в пруде ее столько, что хоть и целое Войско Донское на этот пруд рыбалить явится, и тогда всем хватит.
— Ге-эй, Семка, здорово ночевал?
Гришатка, по-прежнему чубатый, курносый и белобрысый, первым видит Семёна и бежит к нему навстречу. Ого! — да они, почитай, все тут: Саша, внук Гаврила Семёныча, Мишка Ковалев, Мишатка и Петька, а последним прибегает Паша. У каждого в руке либо ведерко, либо кукан с уловом. Все тут же усаживаются в холодок под вербами — солнце начинает здорово припекать, а здесь, опустив ноги в воду, можно еще и поразговаривать. Первым выпаливает новость Петька:
— А мой братеня письмо с войны прислал.
— Да ну? А что пишет?
— Прописал он нам, што в Пруссии энтой вместе с конем чуть не утоп, спасибо, соскочить успел, а конь, как был с седлом, с сумами переметными, со всем, как есть, в один мент в той болоте на дно пошел. Тольки забулькатело да хлюпнуло, и враз сравнялось так, будто коня там и не было. Кинулись, было, казаки того коня вытаскивать, да чудок сами не потопли. И пишить он нам, што страсть одна война эта. А коня яму так жалко, ну так жалко, ху! Знаешь, ты коня яво, помнишь, как скакали мы летось. Ишо тогда платка я не поднял. На нем я скакал, помнишь, — рыжий, здоровый, правда, трошки вроде чижолый был. Ну, брату мому и мине вроде как третий брат он у нас считался. Как прочел то письмо папаня, так и заплакал, и маманя тоже, ну, и я закричал…
Петькин голос обрывается, сам он глядит в сторону и всем ясно видно, как, скатясь по щеке, медленно сбежала в траву светлая слезинка. Все ребята молчат, смотрят под ноги, тихо. Мишатка кладет руку на плечо Петьки и старается повернуть его к себе:
— А ты не кричи. Другого коня брательнику твому купитя, ишо получше энтого, слава Богу, што брательник твой выкрутилси.
— Да-ть так и папаня гуторють, тольки страсть как коня нам того жалко. Говорю вам, он у нас в семье как третье дите был. А другого покупать нам ня надо, из лизерьва там брату мому коня дали, пишить, што неплохой, тольки нашего Чертогона никаким другим не заменить.
— А што ишо пишить?
— А што он писать могёть — вон и Кумсков писал, вон и Сулин пишить, все они об одном: конец бы ей, войне, да домой. Тольки нельзи этого исделать, покель царя Вильгельма не побьють. Так начальство говорить. А брательник просить, штоб маманя яму две пары новых пагленок послала. Ить зима идёть. Всем кланяться велел и табе, Сёма, с отцом-матирей.
— Вот спасибо, ты ответь ему, что и мы все ему кланяемся.
Горя глазами, как двумя раздутыми угольками, рассказывает Гришатка:
— В хуторе Гурове один ранетый казак домой пришел, нам всем от брательника, от Ивана, поклоны привез, а мине каску немецкую. Кто хотить, можеть поглядеть прийтить. Ох, и красивая, черная, наверху вроде пики у ей прилажено, поди, из чистого золота, должно, тыщи каска такая стоить. Папаня ее в переднем углу на гвоздик пониже икон повесил. Нехай народ глядить. А твои браты пишуть ай нет?
— Нет, мы еще ничего не получали.
— И очень даже просто. Ить офицерья они, им делов поболе, чем нашим ребятам. Папаня мой говорил, што на войне там времени для писанины много нет… эх, домой пора, маманя пораньше приттить велела.
Все поднимаются, как по команде, вытаскивают из воды куканы и по очереди протягивают Семёну руки:
— Покамисть! А ты когда в Камышин?
— Послезавтра едем.
— Когда вёрнисси, и войне конец будить. Обратно в Куричью Балку поедем.
Забросив голову назад, ударив ногой по траве так, как это норовистые кони делают, Паша сначала пятится боком, бьет еще раз в теплую землю голой пяткой, и с места берет наметом:
— А ну — хто перьвым в хуторе!
Гремя ведрами, мотая в воздухе длинными таловыми удилищами, мелькая черными пятками, понеслась вся компания по широкому лугу. Тяжело поднявшись, то и дело оглядываясь, идет Семён домой. Вон, далеко, совсем уже возле первых дворов, мелькнула Гришаткина фуражка и исчезла за стогами на алферовском гумне.
* * *
Под вечер на хутор приехали братья Задокины, крепкие хозяйственные мужики из села Липовки, которых отец давно знает. Старик Задокин, их отец, уже совсем седой, но еще живой и расторопный мужик, вырастил двух сыновей, хотел их к крестьянству приспособить, да как-то так вышло, что получили они интерес к торговле, стали прасольничать, сбили деньжата и, говорят люди, что ездят они теперь в Москву, возят туда скот, скупая его за Волгой. Что побывали они за два года до войны в Лондоне и в Гамбурге, и планы имеют большие.
Старый Задокин ругаться пробовал, по-хорошему отговаривал, да как показали ему сыновья толстый пакетик перевязанных суровой ниткой сторублевок, так и замолчал. А в помощь по хозяйству нанимал двух работников. Братьев же Задокиных встречали все с уважением, и ни на что народ так не дивился, как на их одежду. Носили они серые, английского сукна, костюмы, брились аккуратно, усы подстригали коротко, зачесывались по-городскому, и прозвали их Липовскими лордами. Говорили, не торопясь, умели выслушать собеседника, не перебивая, вели себя с достоинством, чёрт побери, и откуда у них всё это взялось? Не мотались ли они ребятишками без штанов по Липовке, как и все остальные? А теперь, поди-ка ты, иной и барин таких пальто не имеет!
Разговорчики эти братьев нисколько не смущали. Посмеивались они в усы и говорили без улыбки:
— А нехай брешут, кому охотка. Ить и брехунам как-то себя оправдать надо.
Вот эти братья Задокины и приехали.
Солнце уже к западу клонилось, когда подкатил казанский тарантасик с парой бойких сибирских лошадок к черному крыльцу пономаревского дома. И мать, и отец приняли гостей радушно, велено было ставить самовар, стол для чаепития вынесли в сад, под вишни, погодка-то уж больно хорошая, на вольном воздухе оно сподручней. И расселись все вокруг стола, заставленного всем тем, что послал Господь на казачьи хутора для христиан православных. Стоящие на столе разносолы исчезают быстро, не раз приходится посылать Мотьку, как по-новому выражается отец, за подкреплениями. Поставлен уже третий самовар, солнце припекает, гости разомлели, чай — кипяток, пот льет градом, и лежащие на коленях полотенца мокрыми стали, чаёвники не успевают вытирать выступающий на лицах пот. Ух, благодать — о какая! Слава Тебе, Господи!
Наконец выпита последняя чашка, перевернута на блюдце вверх дном и недогрызенный кусочек сахара положен сверху — знак, что гости чая напились. Всё со стола убирается, братья закуривают трубки, а отец достает папиросы, набитые любимым его табаком «Султан-Флор». Все предаются отдыхновению от трудов праведных, а в курятнике поднимается страшный переполох — кухарка гоняется там за какими-то петухами, никак не желающими понять, что по такому случаю решено их принести в жертву.
Лишь выбив свою трубку о каблук, окончательно придя в себя и отдышавшись, прерывает молчание старший брат Петр Задокин:
— А мы, господин есаул, Сергей Алексеевич, к вам по делу.
— Ну, и признавайтесь в чем оно, дело ваше.
— А как известно вам, занимаемся мы с братцем торговлишкой. По части скотинки. Всё больше ездим в Камышин, оттуда через Волгу в слободу Николаевку, а там у одного нашего человечка троечка лошадок припасена. На ней и прошныриваем мы степи заволжские. А там, в степях, тоже люди живут и им пить-есть надо, и они обороты кое-какие делают, но пока еще всё больше по старинке, дальше носу свово не видят. У того народца, наших и иных разных вер, вот у них, скотинку мы, когда зима заходит, и кормить ее не всякому сподручно, и покупаем. И сгоняем ее поближе к той Николаевке, да, пока Волга замёрзша, на этот бок скотинку перегоняем, ну а потом по чугунке в Москву. Дело это прибыльное. И вот порешили мы с братцем, особенно теперь, когда война началась, расширить его. Потому думаем мы с братом Михайлой так: коли уж что-нибудь делать, так уж без того, чтобы зазря кишки свои по бездорожью растрясать, а чтобы настоящий антирес получался. Камышинский воинский начальник, господин полковник Кушелев, дай ему Бог здоровья, присоветовал нам куда и к кому в губернии сходить надо, и с чем сходить сказал. Вот воинской службы нести мы и не будем, а по снабжению армии работать станем. Спроворили мы это дельце, да и господина полковника не забыли. И вышло у нас так, что и мы армии нужны, и что господин полковник нам нужен. И от нас ему польза. Вот оно, слава Богу, всё по-хорошему и устроилось. Одно только теперь у нас: делами-то заняться мы решили, а когда копеечки наши подсчитали — ан, глядь, нехватка у нас получается. И большая. Посоветовались мы с отцом, туды-сюды поприкинули, и вот порешили к вашей милости обратиться, не ссудите ли вы нас деньжатами? В заём, под предбудущий антирес. А мы значит, как зимнюю кампанию нашу проведем и скотинку ту в Москве продадим, когда ей настоящая цена будет, так сразу же тогда и к вам, должок назад предоставим, и тот антирес, который сами поимели, и вам уплатим. Скажем, вышел у нас заработак рупь на рупь, столько же и вы получаете, вышло на рупь по полтине — и вы полтину вашу так же, как и мы, имеете. Вот и просим мы у вас тысячонок с двадцать, более нам не надо, а с меньшим связываться расчету нам нет… — старший Задокин говорит с достоинством, медленно, глядя то на отца, то на брата, и, окончив, вытирает с лица вновь проступивший пот: — Ух, благодать-то какая, душе радость!
Уже по выражению отцовских глаз видно, что просьбу Задокиных он исполнит. Так оно и есть. Расспросив братьев подробнее об их планах, пожалев, что сам он инвалид и ни в какие дела вступать не может, тут же обещает дать нужные им деньги, скажем, в среду на следующей неделе, так как выезжают они в Камышин в понедельник утром, там у него деньги в Казначействе на текущем счету лежат.
За ужином сидят долго. Братья Задокины в шутливом настроении, рассказывают о своих приключениях в Москве и за Волгой, и, совсем разболтавшись, не щадят и собственного папашу:
— Старик он у нас с норовом, свой, отцовский, аторитет блюдет, одно ругается да выговаривает, да учит, как поступать, что делать, как и куда повернуться надо. И порешили мы папашу нашего проучить, штоб дюже не задавался. Для этого однажды пригласили папашу с нами в Москву-матушку поехать, в церквах Богу помолиться, на царя поглядеть, в Кремль сходить, в Царь-колокол позвонить, с Царь-пушки пальнуть. Словом, столько ему наговорили, что дал он нам свое согласие. А должны мы вас упредить, с тех пор, как родился он, дальше Липовки нигде не был. Шестой десяток пошел, а он по железной дороге не ездил. Как стерег мальчишкой скотину по нашим буграм, так и дожил до седых волос, кроме тех бугров ничего не видавши. Вот и повезли мы его сначала в Камышин. Приодели там, как полагается, штаны ему черные, жилетку, рубаху, спинжак купили, новые сапоги справили, никак он в ботинках ходить научиться не мог, всё осклизался. Часы ему с цапком купили, марки «Павел Буре», стальные, топором их бей — не разобьешь. Погрузили его во второй класс и везем в Москву, как цацу. И, поди ж ты, сразу он во вкус вошел: шумнём мы в вагоне проводнику, чтобы он нам со станции кипяточку принес, ан, глядь, не прошло тому много времени, и папаша наш покрикивать начинает. Денег от нас потребовал, в жилетный карман пятерку сунул, форсить зачал. Ну, думаем, погоди. В Москве, в хорошей гостинице, сняли номер на троих, для экономии, это папаше понравилось. Наутро переморгнулись с братом и действовать начали. А должон я вам сказать, что с большим он недоверием к нам был, боялся впросак попасть, что мы над серостью его мужичьей номер какой выкинем. И что бы мы не делали, за всем он в оба глаза глядит и лишь после того, как хорошо приглядится, лишь тогда действовать начинает. Да, вот утром встал я, подошел к рукомойнику, руки под кран подставил горстью, да так, не дюже громко, и говорю:
— Ваня, пусти-ка водицы!
А умывальники там, в Москве, в номерах энтих, такие, что под ним педаль приделана, когда надо вам воды, то только ногой на нее наступить, а вода и текет. Да, сказал я это, протянул ладошки под крант, а воды нету. Вот я второй раз, погромче:
— Ива-ан, чёрт глухой, водицы пусти!
И на педаль ту надавил. Вода и потекла. Умылся я, побрился, всё, как есть, в порядке сделал, вот и брат подходит к тому умывальнику с тем же:
— Ванюша! Плескани-ка и мне!
Надавил незаметно на педаль, умылся, как полагается, и отошел в сторонку, в чемодане роется, а я вроде что-то в записной книжке пишу. Вот встает родитель наш, а надо сказать, что лежать-то в кровати лежал он, вроде и глаза не раскрыл, а хитрющий старик за всем следил, что мы делали, подвоху боясь. Ну, через стол ног наших не видал. Вот и подходит он к умывальнику, да этак фельдфебельским своим голосом:
— Иван! Воды дай!
Крикнул это он, стоит у рукомойника, а вода не льется. Ждал он, ждал, вспомнил, как у меня было, да снова:
— Иван, оглох, скотина! Воды давай!
Не выдержали мы с братом, попадали в кровати, смеемся, как полоумные. А он, волосы растрепаны, в одних портках, рубаха из штанов сзади вылезла, стал посередь номера, как тот петух, которому ветер в зад дунул, и ничего понять не может. Тут, со смеху лопаясь, подошел я к рукомойнику и говорю папаше:
— А вы вперед вот эту педальку ножкой надавите, а то Иван-то, чёрт, без того не слышит.
Батюшки мои, как он взбеленился — всё понял. В драку кинулся. Ей-богу. «Нехристи, — шумит, — над собственным отцом издеваться хотите. В аду вам таким за непочтение к родителям место уготовано». Ухватил свои узлы, хотел враз же из Москвы домой в Липовку ехать, насилу мы его ублажили. Ох и серчал! Только когда нам в номер самовар принесли, да свелели мы полбутылочки «белой головки» для аппетиту прихватить, да полфунтика икорки, да французских булок, да маслеца коровьяго, да хватили по единой, да по другой, отошел он трошки.
А после всего, уж в Липовке, попробовал, было, мой брательник пошутковать, вышли мы на базы, а отец мой как раз навоз из конюшни выгребал, вышли мы это, а братень мой глядит на него, глядит, да как зашумит:
— Иван! Плесни-ка водицы!
Эх, как кинулся он, как замахнул вилами, едва мы от него убегли, на што старый, а догони он нас, беспременно теми вилами попереполол бы. Ей-богу!
* * *
Город захватил всех непривычной суетой, шумом, гамом на улицах, грохотом и криками на пристанях. Очень изменился он после начала войны. Чаще забегали пароходы, надсадней гудели буксиры, таща целые караваны барж; глушили грохотом окованных колес тяжелые фуры, целыми рядами катившиеся по булыжной мостовой; быстрее забегали по хлюпким доскам сходней потные, полуголые грузчики с огромными тюками. В городе появился воинский начальник. На широком лугу меж кладбищем и реальным училищем с самого раннего утра обучали бравые унтеры неумелых новобранцев штыковому бою, бежал такой вчерашний пахарь, держа наперевес винтовку, а трое других накатывали соломенные чучела на него со всех сторон так, что должен был он отразить одно из них ударом приклада, второе проколоть штыком, третье снова отбить прикладом же. А после занятий, когда возвращалась пехота в город, вызывают командиры рот песенников наперед. Громко заводят они боевую песню, и пляшут перед марширующими солдатами обвешанные лопатками, котелками и флягами ротные плясуны. Бегут за пехотой мальчишки, стараясь попасть в ногу идущим широким шагом солдатам, и подпевают с восторгом.
Звонко дрожа в воздухе, ведут мелодию молодые тенора и, размашисто шагая, вторит им огромная, бесконечно текущая по улицам колонна: «Ага-ага-ага-ага!».
В классе тоже новость: старый, сухонький, страшно нервный, зорко следивший за реалистами отец Михаил ушел на покой. Годы и болезни сделали свое и, отслужив последнюю обедню, передал он свою паству новому священнику отцу Николаю. Никто не пожалел об отце Михаиле, особенно Семён. Слишком уж требователен был он, слишком строг и наказывал учеников своих за малейшие прегрешения. Стоя во время службы в алтаре, осторожно приоткрыв завесу, наблюдал он за стоящими в церкви реалистами, и горе было тому, кто шепнул слово соседу, или, упаси Бог, засмеялся. Быстро манил он Семёна пальцем, шепча ему зло и громко:
— Приведи-ка мне Курсекова.
Было страшно неприятно выходить из алтаря, шумя широким блестящим стихарем под взглядами всех молящихся, протискиваться меж рядами реалистов и, забрав грешную душу, тянуть ее в алтарь на расправу. Даже не глянув на приведенного, громко, чуть ли ни на всю церковь, шипел отец Михаил:
— Сорок один поклон!
Отведя грешника в угол, ставил его Семён на колени, и бил тот лбом в пол поклоны, каждый раз поднимаясь снова во весь рост. И так до сорок одного раза. Совершенно выбившийся из сил реалист отпускался после этой процедуры из алтаря с миром и должен был снова идти на свое место, стоять и дальше всю службу до конца, не шевелясь, не проронив ни слова.
Новый священник, отец Николай, сначала, под горячую руку, прозванный Николаем Вторым, оказался совсем иным. Был он тих, никогда не повышал голоса, служил так, что весь город стал ходить в школьную церковь, особенно же великим постом к вечерне, ставил отметки хорошие, и Закон Божий преподавал очень интересно.
— Слушайте всё, что говорится, поется и читается в церкви. Наблюдайте людей, животных, рыб, весь мир Божий и всякую тварь Его и размышляйте, будя душу свою. А ежели окажетесь в рядах тех, кого маловерами называют, не особенно яро собственную свою правду доказывайте. И я верить вас не заставляю, только предлагаю вам веру мою. Размышляйте паче и паче, и поймете, сколь огромно, сколь велико всё, нами видимое, и не нам объяснить или понять, или изменить течение вещей. Будьте счастливы, ежели пошлет вам Господь Бог веру. Не отчаивайтесь, коли нападет на вас сомнение. Придет время, и каждый из вас обрежет место свое в мире этом.
А когда узнали в городе о поражении в Восточной Пруссии, на уроке своем опустился на колени отец Николай перед иконой, велел всем оставаться сидеть на своих местах и молиться с ним вместе, склонив головы на положенные перед собой руки.
Весь урок молился он, не вставая с пола, и никто понять не мог, что же это такое? Не только молитва была это, но что-то совсем новое, когда в отчаянии обращается кто-то, совсем малый, к Кому-то недосягаемому, далекому и сильному и говорит с ним всей своей смятенной душой. И всем сердцем своим искренне высказывает обуревающие его сомнения и страх, и просит простить неразумие и дерзание его, но не благостно услышать. Услышать обязательно, потому-то малым умом своим, прося за тех, кто гибнет в огне, и тех, кто, видя их бессмысленную гибель, впадает в ересь и сомнение, зрит и сам наближающуюся страшную, кровавую бурю…
* * *
Шинель на Гаврюше только накинута. Ее осторожно снимают, рука у него на перевязи, снимают и шапку, ведут его в столовую, сажают за стол, говорят все сразу. Мотька выносит извозчику вместе с деньгами и рюмку водки, носится то в кухню, то в столовую, Жако лает, как сумасшедший, стряпуха стоит в дверях столовой и плачет в фартух. Гаврюша морщится от боли — рана дает себя чувствовать.
— Где это тебя скобленуло?
— А в Мазурских болотах, куда нас еще в японскую войну обанкротившиеся генералы не в бой, а на убой погнали.
— Ну, успокойся, ты закуси, закуси, Гаврюша…
— А ты как, братеня двоюродный, достаточно колов домой натаскал, хватит Мотьке на зиму печки топить?
Семён нисколько не сердится, приносит тетрадь с вписанными в нее отметками. Одна другой лучше, только всего одна тройка, а остальные четверки и пятерки. Молча возвращает Гаврюша тетрадку ее владельцу:
— Молодец, что и говорить, зубрила из тебя вышел порядочный. С такими отметками, да со стихарем твоим, сразу же тебя в ольховские дьячки возьмут, с руками оторвут. А ну-ка по сему случаю плескани мне еще одну рюмочку.
Дрожащей от возбуждения и радости рукой наливает Семен Гаврюше. Тот высоко поднимает рюмку и нараспев, по-дьяконски, цедит:
— Бла-а-гослови, Вла-адыко-о!
Семён не теряется:
— Пр-и-мите-е!
Но отцу никак не терпится:
— Да расскажи же, как это ты там на убой ходил, ведомый обанкротившимися, а?
— Да рассказать есть что — пошли мы на фронт в полной уверенности, что вся эта чертовщина больше трех месяцев не продлится. Что с первого же удара расшибем Вильгельма, Австрия сама пардону запросит, и — славься, славься, наш русский царь! А на поверку-то и оказалось, что воевать-то как раз мы и не умеем, не горазды.
Разведка, должен тебе сказать, никудышняя у нас была. Это раз. А второе это то, что верхи наши, начальство высшее, несостоятельно, большими массами войск оперативно руководить не умеет, не может, неспособны, неподготовлены. Ренненкампф, старый пьяница, бросается на Пруссию, как паровой валёк, и, имея действительно отборные войска, не солдат а львов, вначале гонит немцев. А должен сказать, что задачей нашей было вторгнуться в Пруссию, Первой и Второй армиям идти до нижнего течения Вислы и потом двигаться в направлении Познань — Берлин. Стоявшая же возле Варшавы Девятая армия должна была дополнительно ударить в том же направлении. И вот, никакой связи с Ренненкампфом не имея, попер вперед Самсонов, а Ренненкампф, сидя в штабе, о собственных войсках знал лишь то, что соприкасаются они с неприятельской конницей. И это всё. Гинденбург, оставив против Ренненкампфа лишь жиденькие кавалерийские цепочки — заслон, заманивавший его всё глубже и глубже, сам со всеми силами бросается на Самсонова. А командующий всем Северо-Западным фронтом генерал Жилинский и не подумал принять мер для того, чтобы действия Ренненкампфа и Самсонова велись объединенно. И поэтому воевал каждый из них так, как ему нравилось, ничегошеньки о соседе своем не зная. Вот и получилось: в штабе Ренненкампфа полный хаос, войска ушли, а где они, никто не знает. Связь утеряна, все сидят в немецком ресторане, а за стойкой торчит какая-то фигура, немец-кабатчик. Тут же сидит сам Ренненкампф и громогласно отдает распоряжения, а кабатчик на ус мотает, он, конечно же, офицером немецкого генерального штаба был, шпион.
Итак — связи никакой. Самсонов же прет веером, не имея никаких сведений о противнике. Сам уходит в передовые части, а в штабе оставляет за себя начальника своего штаба, который и должен был принимать все оперативные решения. А он, кстати сказать, у командиров корпусов никаким авторитетом не пользовался. Вот и поперли эти командиры корпусов врозь, веером, никакой взаимной меж собой связи не имея… Растерялись, и растерялись по болотам, и стали друг друга по беспроволочному телеграфу разыскивать, без всякой шифровки, давая точные данные о собственном местонахождении. Понимаешь ли ты, что это значит? Вот послушали Гинденбург с Людендорфом, как наши по болотам друг дружку разыскивают, и моментально всё сообразили. А тут подвернулся им еще богомол этот, ему бы вместо Семёна стихарь носить, любитель церковных служб и икон в казармах, дворцовый лизоблюд генерал Артамонов, ему бы бородой дворцовые паркет подметать, а не армиями командовать. Так вот, очутился он на нашем левом фланге, наскочил на немцев и, хоть те гораздо слабее его были, сразу же отступил на целый переход. И никому на правом своем фланге — ни слова, что отошел. И тем обнажил весь левый фланг Самсоновской армии. Вот тут немцы и ударили. Да как! И вышли моментально в тыл всем корпусам Самсонова. И пошел тот в лес и застрелился. А остальные, потеряв разбитыми в пух и прах две армии, орут теперь во все глотки, обвиняя один другого перед царем.
— Значит, говоришь — в дым!
— В дым! И еще одно — у немцев прекрасная тяжелая артиллерия, а наши, думая на Берлин идти, мелочью такой не обзавелись. Не додули. Вот и гибли наши пехотинцы тысячами только от огня немецкой артиллерии. А мы больше полевыми пушечками промышляли, да, кстати, и побросали их в Мазурских болотах…
А хочешь, расскажу что-то повеселее. Вот, только слушай — попали мы как-то дня на два в Вильно и разыскал меня там какой-то жидок Мойша, представился и спрашивает:
— Не родственник ли вы нашего господина есаула, их благородия Сергея Алексеевича?
— Ах, чёртов сын, гляди, не забыл!
— Конечно же, не забыл. И спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь, война-войной, а ежели что надо… гм, сам понимаешь.
Гаврюша передразнивает Мойшу, все смеются, засмеялась, было, и мама, но вдруг расплакалась. Отец крайне удивлен:
— Что с тобой? Уж не по Мойше ли ты плачешь?
— Ах, Господи, Сережа, просто так… вспомнилось… Вильно, полк твой… Мойша… ведь хороший он человек был…
— Да чёрт с ним, с Мойшей, ну, Гаврюша, что же дальше-то было?
— А дело было серьезное: позвал меня командир полка — у него с дивизионным командиром какая-то большая неприятность вышла, и всё устроить только в Ставке можно было, знакомый у него там генерал был. А где Ставка наша — никому неизвестно: тайна военная. Вот и говорит мне командир: в землю заройся, а передай в Ставке вот этот пакет.
Прихожу я домой, хочу неизвестно куда собираться, а тут как раз Мойша твой — спрашивает, надо ли мне чего или нет. А я ему в шутку:
— Ставку мне, Мойша, надо Верховного Главнокомандующего, понял?
— И-и, господин сотник, ви же знаете сами, что все нас, евреев, теперь шпионами считают. Всех нас со всеми нашими бебёхами отсюда высылают… но могу я сказать одно: никакого Ставка я не знаю, а могу лишь посоветовать вам для хорошаго удовольствия в город Барановичи проехать.
Сунул я Мойше золотой, исчез он, рванул я на станцию, приехал в Барановичи, и к извозчику, а тот тоже ничего не знает. Только говорит:
— Ежели охотка вам, господин офицер, пятерочку бедному человеку дать, то садитесь в салазки, а я вас и предоставлю. А Ставки нет, никаких мы Ставок не знаем.
Сунул я и ему пятерик, хлестнул он свою лошаденку, потрюхала та, и минут через десять был я у нужного мне генерала. Вот как дела у нас делаются.
Гаврюша надолго замолкает. Восторженно смотрит на него Семён, и точно знает, что, махая шашкой в одной руке, а в другой держа карабин, мчался Гаврюша впереди своей сотни, и… и не выдерживает:
— Гаврюша, а как тебя ранили?
— Лучше и не спрашивай. Выбирались мы лесом по болотам, стараясь от плена уйти. И наткнулись под вечер, уже темнеть стало, а на кого — не разобрать. И открыли те огонь. И сразу же меня в левую руку повыше локтя стукнуло. Рана пустяшная, только мякоть задело. Потом оказалось: наши же, гусары, так-то, суслик, всякое на войне бывает, свои же и подстрелили.
Отец только отмахивается:
— Что и толковать! На войне не так, как на банальных картинах. Слышь, Гаврюша, а как там Гаврилычи наши?
— А знаешь — вовсе не плохо! С понятием воюют, только…
— Что — только?
— А то, что война эта им никак не нравится, не популярна. Всем казакам так. Почему, спрашивают, насыпались мы на немцев за какую-то Францию? Что она за родня нам? В то, что мы за братушек в драку полезли не очень-то они верят. Вон, говорят, и в японскую войну одно нам говорили, а на поверку вышло, что лезли мы в Манджурию сами, длинные рубли великим князьям добывать. Вот как они толкуют. Нас, офицеров, слушают внимательно, а что думают — не знаю.
— Ну, а пехота как?
— Пехота? Видал я, как ее в бой посылают, как гибнет она тысячами. Не забудь — кадровая это армия, действует, как заводные куклы, ну, а если их и дальше так уничтожать будут, ненадолго нас хватит. Ведь не в бой, а на убой их шлют. В одном полку, возле нас он стоял, за две недели наступления сто пятьдесят процентов потерь было.
Глаза мамы становятся большими-большими, полными ужаса:
— Как это так? Ведь это же полтора раза…
— Ну да, правильно, полтора раза. Весь полк полностью был немецким огнем уничтожен, пришли пополнения, и снова в нем половину выбили. Солдат и офицеров. Одно еще — до командиров полков офицеры у нас прекрасные. А чем выше, тем беда больше — водительству крупных соединений не выучены. Теряются, маневрировать не умеют. И еще одно, самое главное не забыть — всё воспитание русского офицера, один чёрт, в пехоте ли или в кавалерии, на одном базируется: «Ум-м-р-рем за царь-отечество!».
У них до сих пор пуля дура, а штык молодец. Вот и уничтожают нас немцы целыми дивизиями. Если так продолжится, лишимся мы кадрового офицерства в скорейшем времени. А потом начнем офицеров из аптекарей делать. Одна там у нас надежда, на Николая Николаевича, да сказать о нем ничего не могу, знаю, что из Ставки носа никуда не показывает.
Отец и Гаврюша уходят в город, поручив Мотьке багаж. В нем для меня серая немецкая каска с огромным орлом, а за ней вторая, черная, тоже с золотым орлом и шишаком. А вот и каваллерийская шашка, с большим красивым эфесом и желтыми ремнями.
Схватив каску, надевает ее Мотька, вытягивается в струнку и козыряет:
— От так той Вильгельм пэрэд нашим царэм звынятысь будэ!
* * *
В этот вечер дом набивается до отказа. Пришел и сам полковник Кушелев, воинский начальник города Камышина. Маленького роста, седой, с фигурой лихого корнета, форма сидит на нем, как на картинке, с длинными запорожскими усами и бакенбардами, ходит неслышно, легко скользя в своих мягких шевровых сапожках. Ведет себя с удивительным тактом, даже и в таком обществе, которое, пожалуй, только в казачьем доме и найдешь — еврей-аптекарь, купец-аршинник, немец-колонист, мужики-прасолы братья Задокины. Полковник и вида не подает, что всё это общество ему никак не подходит. Впрочем — о немцах: разве не такие же они русские люди, как и все мы? Возьмем адмирала фон Ессена. Кто после Цусимы воссоздал флот русский? Фон Ессен. И если почитать «Историю государства Российского», то увидим мы много имен тех, кто преданно служил престолу отечества нашего. Пожалуй, и окажутся на первом месте вот эти самые немцы.
Гаврюша — в центре внимания. Много и охотно рассказывает, все слушают его крайне внимательно, ведь от начала войны первый он раненый офицер, приехавший в Камышин прямо с фронта. Никто его не перебивает, все с его мнениями соглашаются, бесчисленные вопросы сыпятся на него со всех сторон и едва успевает он на них отвечать. Полковник Кушелев хотел бы знать, что представляет теперь из себя немецкая кавалерия, Карлушка расспрашивает о Восточной Пруссии, братья Задокины интересовались, сколько солдаты мяса в день получают, Тарас Терентьевич расспросил про артиллерию, и рассказал сам, что патронов у нас недостача и, ежели мы теперь снарядов и патронов не наделаем, дрянь наше дело будет. Думает он сам заняться этим делом и искал он путей в Питере к военному министру Сухомлинову, но попасть к тому можно только через одного, то ли монашка, то ли раскольника, то ли попросту шарлатана, никто еще всего толком не знает. Только кто к Сухомлинову дело сделать хочет, тот должен по-перьвах тому поклониться. Распутин звать его, одна фамилия чего стоит. Говорят, что силой он какой-то неестественной обладает, наследника престола, великого князя Алексея Николаевича, от болезни его немецкой, от гемофилии, лучше всех докторов лечит, а потому и в царскую семью вхож. И сам государь-император его другом называет. Вот теперь и прикидывай, что оно и к чему. Да и еще кое-что есть, идут разговорчики, ползут слушки по городу, что пьет он, Распутин этот самый, что с бабами такие там афинские ночи закатывает! Что барыни петербургские, из самого, что ни на есть, высшего общества, мужика того сиволапого собственноручно в бане парили. И всё будто потому, что, как учит он, тот лишь истинно покаяться может, кто здорово согрешит. И начали теперь там все грешить почём зря, чтобы потом каяться им можно было. Конечно, может быть, что брешет народ, да где же это бывает, чтобы дым без огня шел?
Полковник Кушелев закашлялся, заговорил о том, что человек творение несовершенное, и тут же прибавил, что нам, слугам царским, особенно лишнего говорить не следует, и особенно носов своих далеко не совать, памятуя, что носы эти и прищемить могут.
* * *
Перехватив наскоро немного супа, отказавшись от второго, выслушав материнское наставление о том, как следует вести себя в лодке, чтобы, упаси Бог, не перевернуться с ней посередине Волги, забрав удочки в объемистый мешок, с тремя луковицами, хлебом, картошкой, укропом, морковью, тряпицей с завязанной в ней солью, связкой бубликов, десятком жареных котлет, а для хромого баталера и подарком отца — полбутылкой водки, помчался Семён на Волгу.
Солнце только что повернуло с полдня, под почти отвесными его лучами блестит река и искрится, и грохочет пристань лебедками и колесами подвод по булыжной мостовой; воет гудками буксиров и пассажирских пароходов, и стоят на ней стоном разноголосые крики грузчиков, матросов, солдат, баб-торговок.
— Май-на-а!
— Вир-ра-а!
— Да куды-ж ты прешь, чёрт глухой, осатанел, што ли?
Быстро пробежав меж гор арбузов и дынь, пирамид из тюков, бочек и ящиков, бесконечных лабиринтов строевого леса и листового железа, добирается он к лодочнику и усаживается отдохнуть под натянутой у входа в его балаганчик рогожиной.
Баталер сегодня в духе — давно он на рыбальстве не был, всё как-то дело не указывало, а вот теперь, когда подобралась хорошая компания, рад и он отправиться на ту сторону и отдохнуть там денек-два. Всё, что им нужно, давно уже лежит в большой, с двумя парами бабаек, новой, щегольской, лодке с выведенным на ней красной краской названием: «Ласточка». А вот и Иван Прокофьевич, босиком, в простых забродских брюках, в белой русской рубашке, подпоясанной длинным пояском, с расстегнутым воротом и сидящей на затылке широкой соломенной шляпой. И он, кроме удочек, захватил какой-то объемистый оклунок.
Матрос и учитель садятся на вёсла. Семён берет в руки руль и по указанию матроса правит против течения, наискосок, в направлении на едва видную колокольню села Николаевки.
Тяжело хлопая колесами, тащит буксир целую связку барж, быстро лопоча бежит вода вдоль грязно-серых бортов. И баталер, и учитель, старые волжане, работают веслами уверенно и ловко, не уронив ни капли, легко врезываются они в воду, мелькают под ней, как быстрые рыбины, одним взмахом вылетают снова на свет Божий, текут по ним веселые струйки в сжатые кулаки гребцов, и снова, без всплеска, уходят под дружно набегающую рябь серебрящихся на солнце волн.
Лодка идет гонко, шумящая пристань уходит все дальше и дальше, становится все менее слышной, и умолкает совсем, а навстречу им всё выше и выше поднимаются деревья левого, низкого, берега.
— Суши вёсла!
Взмыв над поверхностью, повисли они недвижно. Пот с гребцов катится градом, солнце греет прямо в макушки, слепит отблесками расплавившегося на воде серебра. В последний раз вспенив килем волны, бесшумно выбегает лодка под тенистые вербы.
— Вот тут и рыбалить будем!
Матрос встает первым, поднимается и учитель, вёсла аккуратно укладываются вдоль бортов, всё содержимое лодки переносится на берег, и, захватив топор, исчезает куда-то матрос, а пока возятся они с раскладкой багажа, вот он уже назад с вырубленными для постройки шалаша жердями. Работают быстро и дружно, и вот он — благоухает травяным ковром, просторный, тенистый, прохладный внутри камышевый замок.
— А в головах оклунки и обувку покладем, сверху травкой притрусим, полсти постелим, и не спать будем, а в раю отдыхать.
Показав Семёну подходящее место, уезжают матрос и учитель на лодке, захватив сетку, вентери, самоловку и удочки. Осторожно примостившись на торчащем возле самой воды пне, закидывает он свои удочки и забывает о всем на свете. Рыба берет хорошо. Уже запрыгали по траве два подлещика, есть штук пять крупной плотвы, хорошо берут красноперки…
Ага — а лодка уже вернулась. Солнце опустилось совсем низко, жара спала, от реки потянуло холодцем, реже стали гудки пароходов, значит, и рыбальству конец подходит. Неслышно появляется из зарослей тальника матрос:
— Бросай удить, пошли уху варить.
Смотав удочки, вытащив из воды два тяжелых кукана, отправляются они к шалашу, где Иван Прокофьевич священнодействует над ухой…
Нарезав хлеба, разлив уху по деревянным обливным чашкам, усаживаются рыбаки в траве поудобнее и вытаскивают из карманов ложки. Молча протягивает Семён баталеру отцовский подарок — водку. От огня ярко тлеющего костра, от искорок его в живительной влаге веселеют глаза баталера, лишь крякнув, не сказав ни слова, ловким ударом в дно бутылки выбивает он пробку и протягивает водку учителю:
— Иван Проковьич, со страхом и верою!
Сделав хороший глоток, возвращает он водку баталеру:
— На доброе здоровье!
Быстро вытерев горлышко ладонью, пьет и матрос, пьет ровно столько, сколько выпил и учитель, и вопросительно смотрит на Семёна:
— Хватишь разок?
— Нет, я не пью.
— Ну, и то дело хорошее!
Матрос осторожно устанавливает бутылку в траве и все принимаются за уху. Да, действительно, первый сорт!
— Мир на стану!
Голос подошедшего хрипл и басист. Это крепкий, лет сорока пяти, высокий малый, в армяке, со сбитой на затылок бараньей шапкой. Почти полностью закрывает его лицо окладистая, всклокоченная борода. Сапоги стоптаны, за спиной, на опоясывающих грудь крест-на-крест ремнях, висит завязанный мочалкой мешок. Посетитель снимает шапку и кланяется сидящим у костра в пояс. Матрос внимательно оглядывает пришельца и невозмутимо отвечает:
— Доброго здоровья. Будь и ты с миром. А ну-ка, скидывай мешок да садись с нами, ухи всем хватит.
Быстро сбросив на землю свою ношу, привычным жестом вытаскивает из-за голенища ложку, тянется за куском хлеба и молча принимается за уху. Бутылка снова обходит круг, незнакомый тоже получает свою порцию, пьет охотно, но не жадно.
Уху выхлебали до дна. Далеко в траву выплюнули косточки, съели всю, до последней, рыбу. Котелок выполоскан и вместе с мисками перевернут на траве сушиться, в костер подкинули сучьев, теперь и поговорить можно. Вытерев губы ладонью, облизав аккуратно ложку и засунув ее за голенище, откидывается прохожий на свой мешок и оглядывает всех веселым взглядом молодых карих глаз.
— Спасибо за хлеб за соль. А за водочку — особо.
— И тебе за компанию спасибо. Откуда Бог несет?
— И-их, родимый ты мой. Откуда иду — запамятовал, куда пойду, посля видать буду, наперед ничего не загадываю.
— И то дело. Што ж, ночуй с нами, завтри мы всё одно целый день тут рыбалить будем.
— И на том спасибо. Заночую. Подбился я трошки.
Матрос вытаскивает кисет и бумагу, быстро отрывает треугольничек, крутит цыгарку, насыпает в нее махорки и молча протягивает табак гостю. И тот, так же быстро и умело, крутит из газеты козью ножку и прикуривает ее от головешки. Учитель вынимает из портсигара папиросу. Прохожий следит за каждым его движением и, ни к кому не обращаясь, говорит:
— Папироски дело барское.
— Какой у кого вкус.
— И то правильное ваше слово.
Баталер засучил рукава и при свете костра можно ясно различить ниже локтя татуировку — большой якорь и надпись: «Изумруд». Лицо гостя расплывается в улыбке:
— Говоришь — на «Изумруде» плавал?
— Привел Бог. А ты што, тоже дела эти знаешь?
— Кой-что знаю. Думается мне, пятнадцатого мая следующего года будем мы с тобой десятилетие праздновать от того дня, как «Изумруд» твой на скотинку променяли, а я на «Сенявине» япошкам низко поклонился, и отсидел потом положенное мне на Кумамото.
Учитель бросает недокуренную папиросу в огонь.
— Вот это здорово! Да вы что, оба, што ли, под Цусимой были?
Лодочник не отрывает глаз от прохожего:
— Вроде так выходит. А скажи-ка ты мне, братец ты мой, коли уж ты так всё хорошо знаешь — а кто «Изумрудом» командывал?
— Капитан второго ранга Ферзен. Из остзейских баронов. А старшим офицером был у вас «Ватай-ватай», Патон де Верайн, дурак толстый. И кочегара вашего Гермакина знал, того, что аварию в кочегарке исправлял, когда вы от япошек удирали… А вот чего не знаю, кто же сосед-то мой нонешний?
За учителя отвечает баталер:
— Учитель он у нас в Камышине. Вот таким, как этот малец, в реальном училище науки разные преподает.
— Ага! Вижу я, хочь и простецки одетый, а не нашего поля ягода. Ну, да с добрым человеком завсегда водку пить можно.
Бутылка снова обходит свой круг. Семён угощает бубликами. Гость крайне доволен:
— Правильно, малец, придумал! А ты чей же будешь? Лодочник начинает нервничать. Отвечает вместо спрошенного:
— Отцов он будет, вот что. Ты, милый человек, об себе не дюже много говоришь, а про каждого из нас всю подноготную узнать хочешь. Лучше сказал бы, как тебя-то звать.
— Зовут зовуткой, величают уткой. Служил царю правдой да верой, да пошел бродить по России целой, по лесам блукал, по байракам скрывался, а вот теперь на Волгу подался. Потому что в пятом году трошки мы бунтовали, а за то в Сибирь попали, отсидел я там срок малый за мокрое дело, да сидеть мне там надоело, взвился я, как перелетная птица, потому что гнездо мне мое снится, ну, в то гнездо итти боюсь, как бы опять не взяли, потому как наши опять завоевали, бегают да свищут, да меня грешного ищут… Ты, изумрудец, на меня не серчай и дюже меня не расспрашивай, ушел я от закона, ширнул одного казачишку ножичком за то, что уж дюже он плеточкой своей помахивал, да вот и брожу после того, почитай, десять лет, как Ванька-непомнящий, а вам всё, как на духу, говорю в надее, што никто из вас с полицией не товарищ.
— Таких дел за нами не водится.
— А скажите мне, господин учитель, правда это, что Расея наша пошла за славян воевать, будто австрийцы их там дюже притесняют, а мы, русские, ну, никак того терпеть больше не можем, гоним свой народ в огонь, штоб поболе их побить, чужим денег добыть. Так, что ли? Или просто это капиталистическая лавочка, и как это до притеснения славян дошло, дюже мне это знать охота.
— Видите, дело со всеславянскими идеями давненько началось. И как раз в Австрии. Добрых сто лет тому назад меж чехами и словаками идеи эти объявились. Гертель такой назвал их «панславизмом», словак он сам был.
— Ага — «пан» слово известное!
— Стой, стой, не говори чего не понимаешь. Это от латинского корня, с польским «пан» ничего общего не имеет, а означает — всеобщее, понял?
— Ну, спасибо.
— То-то! Гертель под панславизмом своим понимал освобождение всех славян и их объединение с Россией. Пока суть да дело, подошел 1848 год, и, теперь уже под предводительством Франтишека Плацкого, открылся в Праге панславянский конгресс. Сам Плацкий был попросту левый либерал, славян освободить он хотел, но никаким монархиям не доверял, ни той, что помягче, австрийской, ни нашей, что немного потверже. Боялся он, кроме того, что если захватит Россия всех этих славян, то проглотит она их с косточками, и все особенности, все их культурные ценности, всё ярко-национальное задушит. Поэтому Плацкий дальше «братских связей» с Россией не шел. А у нас в России к этому здорово прислушиваться стали, и в 1867 году собрали в Петербурге уже не «панславянский», а «всеславянский» конгресс, и сразу же на нем расхождения начались. Русские хотели, чтобы все славяне в православие перешли и кириллицей писали бы, а чехи и словаки…
— Стой, стой, а што это за штука — кириллица? Да рази не все славяне православные? Какие же они тогда, к чёртовому батьке, славяне?
— Не все славяне в одинаковых условиях жили. Вон чехи и словаки, хорваты и словенцы, те все латинским алфавитом пишут, и многие из них папу римского признают. И поляки тоже. А сербы и болгары православные, и пишут они, как и мы, кириллицей. Так по-ученому азбука наша называется. Вот и получился в Петербурге разнобой — наши всех их под одну гребенку остричь захотели.
— А што, не правильно, што ли?
— Ты что же, хочешь всех твоему Богу молиться заставить?
— Ну Богу нехай они молятся какому хотят. Его всё одно нету. А вот в счет азбуки так это само-собой понятно. Одну для всех, и крышка. Чего тут рассусоливать. Всем один колер наводить надо. Да вы не серчайте, а расскажите, как оно дальше дело шло?
— Дальше западные славяне русским в глаза ширять стали, что Польшу в крови затопили.
— А чего они бунтовали?
Иван Прокофьевич чуть не вскакивает с места, но ответил спокойно и серьезно:
— То есть, как так — бунтовали? Да разве не была Польша самостоятельной, пока мы ее с немцами и австрийцами не поделили?
— Ишь куда зашел, то дело давнее.
— Вот те и давнее! Сроду поляки за волю свою бились. «Еще Польска не сгинела…» пели, свою собственную державу иметь хотели! Знаешь ты, как полякам под нами жилось?
— А чего им не хватало?
— Многого! Слышал ты о польском поэте Мицкевиче?
— Не приходилось. Про Пушкина, про того знаю.
— Ишь ты — Пушкина он знает. О нем мог бы я тебе много кое-чего, не официально-кадильного, рассказать, да не в нем сейчас дело. Так вот, в пьесе своей «Дзяды» так Мицкевич говорит: «Я знаю, что значит получить свободу из рук москалей. Подлецы! Они мне снимут кандалы с ног и рук, но наденут на душу». Понял ты или нет? А в другом месте той же пьесы говорит один русский: «Не удивляйся, что нас здесь проклинают, ведь уже целое столетие, как шлют из Москвы в Польшу только прохвостов».
— Так это же так при царях было. Мы же по-иному повернем. Об этом наша партия тоже разговоры имела.
— Это какая же партия? Прохожий оглядывается вокруг себя:
— Социал-революционеров, большевиков.
— А-а, вон ты какой, у вас — там Ленин верховодит.
— Он самый.
— И как же вы славянский вопрос решаете?
— У нас всем свобода. Живи каждый, как хочешь.
Глаза у учителя тухнут, всё ему ясно, но мысль свою доводит до конца:
— И после всего этого начали славянофилов в Австрии преследовать и арестовывать. С того времени стали австрийцы своим украинцам помогать, тем, что за независимую Украину.
Прохожий не выдерживает:
— Это хохлам, что ли?
— Если хочешь — то хохлам.
— Энтим мы тоже порядок наведем. Ишь ты — жили с нами тыщу лет, а теперь в кусты норовят.
— Как гляну я на тебя, плохой ты социалист-революционер, да еще — большевик. Сам же говоришь, что у вас каждый, как хочет, самоопределение вплоть до отделения…
— Х-ха! Так они всю нашу Расею растянут.
— Так твоя же партия, Ленин твой за это!
— Ленина ты не трожь, он, брат, голова! Знает, что к чему и когда, и куда поворотить надо.
— Вон как? Стало быть, нонче отделение, а завтра…
— А завтра — по обстановке. Понял?
— Ну, тогда обманщики вы все там!
— Да что вы на меня насыпались?
— Никто на тебя не накидывается. Гляди только, чтобы ты с партией твоей в душители славян не попал. Впрочем, доскажу я вам про славян: в 1877 году, после второго Всеславянского конгресса, началась у нас война с Турцией. Идеи всеславянства в гору пошли. Болгарию мы тогда от турок освободили, «Гей, славяне…» — гимн всеславянский — стал у нас наряду с «Боже царя…» распеваться. Славянофилы наши вовсе окрепли… и на этих идеях и вырос в Боснии студент Принцип, застреливший австрийского эрцгерцога. Вот и пришлось нам теперь за Сербию заступаться. И пошла писать губерния. Всё понятно?
— Уж куда понятней! Только не равняться с нами всем этим сербам и чехам, и какие там еще есть. Россия — вот сила! Всему свету голова! На все мы руки, хучь стих какой написать, хучь «Камаринскую» сплясать али «русскую»…
— Что касается «Камаринской», прав ты, а вот «русская» — то как раз и не наша, от вотяков мы ее переняли, только те ее медленней и размеренней танцуют.
Гость крайне удивлен:
— Коли б вы учителем не были, сроду бы вам не поверил, что наша «русская» от вотяков. Ну, а вотяки-то, кто они — да всё одно русские же. Главное, как говорится, норови в общий котелок.
— А ежели кто в котелок тот лезть не хочет, тогда что?
Прохожий молчит. Баталер поднимает голову и кивает на него:
— А по-ихнему, по-партейному — всех дави, и точка.
Костер затух. Учитель поднимается.
— Полночь уж, поди. Не пора ли и на боковую?
— И то дело, — баталер бежит с чугунком к протоке, приносит воду и аккуратно заливает костер. — А ты, добрый человек, где спать будешь?
— Я на вольном воздухе привышный. Вот тут, возле вербы, приспособлюсь.
Лодочник приносит ему полсть и рогожу:
— На-ка вот, так оно способней будет.
— Спасибо, друг, сроду я тебе того не забуду…
Внутри шалаша тепло, пахнет привядшей травой. Семён укладывается меж баталером и учителем. Сквозь открытый вход шалаша светят раскаленные добела звезды. Эк их разбирает! Закрывает глаза, хочет что-то сказать, и не успевает — в сон его кинуло!
Когда открывает их снова, видит в слабой предрассветней мгле стоящего у входа в шалаш баталера, красного, растрепанного и злого. И кроет он так, как ругаются плотовщики, пьяные матросы, до исступления доведенные капитаны буксиров:
— И топор, и полсть, и рогожу упер, бабушке его сто чертей! А ишо социалист, подлец, ворюга, в гроб тебе раков, матери твоей щуку в заднее отопление…
Гребли назад молча. Расставаясь с учителем у городского сада, замялся Семён:
— Простите, Иван Прокофьевич! Не расскажете ли вы как-нибудь о социалистах-революционерах-большевиках? Я о них пока что, кроме этого вот украденного топора, ничего не знаю.
Иван Прокофьевич хохочет на весь сад:
— Вот это — здорово! Кроме украденного топора — ничего! Эх, задам я вам сочинение на тему: топор, как средство и надежда русских прогрессистов. Впрочем, погоди-ка, соберется кое-кто у меня на днях. И один твой хороший знакомый будет. Нет, не спрашивай, это тебе сюрприз, все равно не скажу. Вот тогда и потолкуем!
* * *
В передней на вешалке висит казачья шинель с погонами урядника, стоят в углу шашка и винтовка, рядом с аккуратно завязанным мешком лежат набитые до отказу переметные сумы. Кто бы это мог быть?
Моська задыхается от волнения:
— Панычу, панычу, одын козак з хронту прыихав. Вид отця Тимофея пысьмо прывиз. Идить скорийш у столову!
Отец и мама уже за столом, рядом сидит высокий чернявый, до синевы выбритый, казак. Видно, что успел он себя привести в порядок — и чуб, и усы зачесаны аккуратно, гимнастерка свежая, сидит ловко, пояс затянут туго, с фасоном загнана в него рубашка. При его входе урядник вежливо поднимается, и отец знакомит их:
Это сын наш, звать Семёном, а это с хутора Киреева урядник Прохор Иванович Кумшацков, едет в отпуск, нам от отца Тимофея письмо привез… подводу мы ему на завтра нашли, а нонче заночует у нас.
— Премного вам, господин есаул, благодарен, а то срок отпуска больно уж у мине короткий, а дома дела такие: жена у мине померла, двое детишков осталось, а бабушка ихняя, мать моя, хворая лежит, почитай, уж год, нутрём жалится. А отец мой, летось, как пары пахали, простыл, да, как полагается, не отлежалси, и не выкрутилси. Царство небесное, никуды не денешься. Вот и пустили мине из полка на две недели, порядок в дому навести, дюже уж хуторской атаман командиру полка всё хорошо прописал, дай ему Бог здоровья. Дятишкам ладу дать надо. Должно, в хутор Рогачёв, в родню, отдавать придется… А жизня наша на фронте так проистякаить, как у тех пескарей, когда их в котле варють, знаете, как в песне играют:
Нам на службе ничаво, Мяжду прочим — чижало!Науку мы за ету за времю прошли добрую, кое-кто крясты пополучил, я вот урядника заработал, и, должен вам сказать, што здорово промежь нас такой теперь разговор идёть, што, ежели бы людей наших по-настоящему в дело пустить, да дать им всё, што положено, то побьем мы немца, а про австрийца, про того и говорить не приходится. Больно уж пестрая у няво братия в солдатах. Правда, мадьяры, те, што пяхота, што конница — хорошие вояки, а на остальных и глядеть тошно, как чудок круто подошло, враз руки поднимают. Немец — вон тот вояка! Солдат явно номерных полков наших гвардейских не хуже. И дистяплинка у них сурьезная. А у нас тольки и знають, што пяхоту с пустыми руками на немецкую проволоку гонють. Вот и осталось у нас таперь старых, хорошо обученных солдат на кнут, да махнуть. Должно, вскорости придется и нам, казакам, в окопы садиться. Тогда и от нас мало чаво останется. Недаром говорить таперь, што кабы русскому солдату да немецких генералов, то всю бы Явропу мы наскрозь прошли. А в щёт письма — заскакиваю я в штаб дивизии и шумит писарь, урядник Кумсков: «Приходи вечером, отпуск твой ишо не подписанный». Вертнулся я уходить, а один священник — цоп мине за шинель: «Далеко-ль, спрашиваеть, едете?». — «В Островскую станицу, говорю, в хутор Киреев». Ох, и возрадовалси же он, про вас мине рассказал, а я яму: «Как, говорю, ня знать, энто нашего мукомола-то…».
Урядник краснеется, и теряется до того, что проливает с блюдечка чай. Отец хохочет. Мы прекрасно знаем, что нас казаки «мукомолами» прозвали.
Ободренный общим смехом, урядник оправляется от смущения и тоже начинает смеяться:
— Уж вы не сярьчайтя, ваше благородие. Тут никуды не денешься. Вон родственничка вашего Обер-Носа взять, энтого ни чина, ни имя никто ня знаить, одно яму — Обер-Нос, и вся недолга.
Отдышавшись от смеха, смотрит отец на урядника и, улыбаясь, подмигивает:
— А ну-ка, говори, как на духу — а как тебя по-улишному?
— «Налыгач жевал».
Снова все хохочут, отец вытирает выступившие слезы и допытывается дальше:
— А как же это случилось?
— И оченно даже просто. Завспорил я с хуторцами, а ишо молодой был, до присяги, што всех их на коне моем обскачу. И порешили, што будет тот налыгач обкусывать, кто проиграить… Вот мине обкусывать и пришлось. С тех пор и пошел: «Налыгач жевал».
Отец обращается к маме:
— Наташа, что же нам там отец Тимофей изобразил?
Вынув письмо из карманчика платья, читает мама медленно и четко выговаривая каждое слово:
«Дорогие Сережа, Наталия и Семён!
Когда потянет меня на молитву Тому, кто дал нам жизнь и радость зреть творения Его, тогда включаю я и всех вас в просьбы мои к Всевышнему. Ибо смущается душа моя паки и паки, и всё больше вкрадываются в нее сомнения. А с колен поднимаюсь я облегченным и радостным, но сугубо оробевшим. Нет мне ответа на непонимание мое того, что творится, как это допустить можно, и что же мне делать и предпринять, чтобы уразуметь смысл всего, чему стал я свидетелем.
Знаешь ты, еще в юности моей послал мне Господь искушение в лице архиерея моего, вступив в препирательства с которым должен был я с Дона уехать… А ведь началось-то всё по-хорошему. Благоволил архиерей мой ко мне и, может быть, я это согрешил, когда в разговоре с ним, мудрствуя, помянул то, что святый Кирилл и Мефодий, веру Христову проповедуя, пришли к нам на Дон, и там, на Гремячем Ключе, получили тогда казаки первыми веру православную. А был он, архиерей мой, хоть и постник, и молитвенник, а в вере строг и крепок, прежде всего русским человеком, слугой царским, исполнителем всего того, что с высоты трона утверждается. Вскипел он после слов моих, особенно же о том, что о Москве тогда еще и помину не было, когда казаки веру свою христианскую непосредственно от учителей славянских приняли. И начал он сердито и сдавлением торочить мне старые розказни и сказки о бежавших на Дон крепостных, превратившихся вдруг в лихих наездников, о холопах и рабах, ставших радетелями организованной народной мысли и управления. Тут напомнил я ему, что казаки на степи жили гораздо раньше введения крепостного права, сиречь мужику и бежать-то незачем было, а второе, процитировал я ему места из «Домостроя», в которых прямо говорится, что смертным грехом считались на Руси не только танец и музыка, и охота с собаками, зверями нечистыми, но особенно лошадиные бега и скачки. И вопросил я его тогда: да как же мог тот, кто адских мук вечных боится, кто к лошади, как греху первейшему, и подойти не смел, вдруг, убежав из Московии, стать лучшим в мире наездником?.. Ах, кончилось всё удалением моим от службы. И ушел я на древний Яик, и вот отправился на войну, дабы с казаками моими разделить все тяготы их, несмотря на слезы матушки моей, думая, верою укрепиться. Проболтавшись же по Восточной Пруссии, исколесив Царство Польское, за все эти месяцы совершенно непонятного мне уничтожения людей, бессмысленных несчетных убийств, преступных распоряжений, ведущих лишь к новому уничтожению тварей Господних, предался я размышлениям, ища в прошлом объяснения всему тому, что здесь творится. А кроме того, узрил я и ложь страшную, Именем Того спекулирующую, Кто для нас превыше всего быть должен. Знаешь ты, что, потерпев страшное поражение в Пруссии, отступили мы из опустошенной нами земли, придумав после этого ничто более, как святотатство. Вожди наши и командующие, полагая, что вера крепко еще сидит в солдате, решили обратить взоры солдат туда, в небеса, ища помощи Божьей. И состряпали они для солдат иконку, а сделали ее по примеру нашей Донской Покрова, и изобразили на ней Матерь Господа и Бога нашего, в облаках восседающую и десницей своею воинству российскому путь на Запад указующую. А воинство наше, конечно же, изображено тут же в полном вооружении, которого тоже в действительности у солдат нет. Как и явления Божьей Матери солдатам, теперь на иконе той изображенного, конечно же, в действительности не было. Но легенду эту придумал кто-то в каком-то штабе, будто являлась она в лесах Восточной Пруссии солдатам Первого кирасирского полка, лейб-гвардейского, конечно же, табель о рангах и тут соблюдена. И только нам в полк иконку эту для казаков раздавать привезли, стали они меня спрашивать: «Батюшка, а почему немцы, те своим солдатам пулеметы и пушки, и тяжелую артиллерию дают, а нам иконки печатают? Это, говорят, не хуже, как в японскую войну было, японцы нас шимозами крыли, а мы молебнами отбивались». Смеются теперь казаки, говорят, что полки теперь называться будут так, например: лейб-гвардии Господа нашего Иисуса Христа, или — артиллерийская бригада во святых отца нашего Варсонофия.
И, всё это наблюдая, стал я в прошлом государства нашего копаться. Вспомнил наших духоборцев, молились они по-своему, жили по своим обрядам и не нравилось это начальству. И вот что писал о них екатеринославский губернатор Обер-прокурору Святейшего Синода: «Эти еретики ненавидят пьянство, и безделие, и ересь их, благодаря их примерному поведению, весьма опасна».
Вспомнил я нашего Донского казака Зимина, с его сектой немоляков. Учили они, что весна мира — от сотворения его до Моисея; лето — от Моисея до Христа; осень от Христа до 1666-го года, начала схизмы. А зима — от схизмы до конца мира. Их Сибирью переучивали. Как и других сектантов — молчальников, или бессловесных. Тех губернатор Пестель на раскаленные угли ставил босыми, горящую смолу на тело капал, говорить заставить хотел. Даже не промычал ни один. А иные, те, что не знали, когда, сколько раз, «аллилуя» петь надо, или как писать, Иисус или Исус, и те, что не тремя, а двумя пальцами крестились, ведь и их всех в Сибирь ссылали. Или молокане, от Екатерины их сейчас сотни тысяч расплодилось. Или секта псковского беглого монаха Серафима, или 26 московских лжепророков? А Серафим проповедывал: «в грехе святость», всё это я перечисляю для того, чтобы яснее тебе стало, почему появился у нас в Питере еще один, «в грехе святость» проповедующий. Силу забрал большую, разговоры о нем и у нас на фронте пошли, Распутиным его звать. Что-то вроде изувера Прокопа Лушкина, образовавшего секту евнухов и калечившего и мужчин, и женщин. А этот секту духовных евнухов состряпал. Вот они российские богоискатели, творящие своих божков по собственному подобию и хамскому пониманию. А ведь идет-то всё еще от Руси Киевской! А какова же наша официальная церковь была: уж на что царь Петр Первый крутенек был, а митрополита Московского в патриархи так провести и не смог, попы не допустили. По трем причинам: первая — говорит на варварских языках, он по-французски и по латыни говорил; кучеру разрешает сидеть на облучке, а не как положено — на передней лошади. И третье — борода недостаточно длинна. Борода! Та самая, которую Ломоносов высмеял, назвав ее «некрещённой» — отросла-то она только после крещения! Борода, которую прятали при Петре для того, чтобы положили ее после смерти в гроб и явился бы умерший на тот свет с бородой. А каковы же попы, были? В начале 18-го века в одной Москве было их четыре тысячи, приходов не имевших, а монахов без монастырей и того больше. Одним духом умели они пятьдесят раз «Господи, помилуй» сказать, и это всё. Бродили по улицам, хватали прохожих за полы, предлагая тут же, за мзду малую, молебен отпеть. Ловили их, пороли тут же, на площадях. Жадные были, завистливые, жалкие, нищие. При Петре и Николае Первом посылали их в армию, и гибли они сотнями в огне. Или отправляли к Остякам или Бурятам в Сибирь, где они, сами дикари, дикарям имя Божие проповедывали, и кормились. Скажи: могли такие попы воспитателями народа стать? А если и воспитывали, то по-своему: митрополит Иосиф перепорол 18 монахинь, Платон государственного чиновника Харитонова плетями угощал, двести шестьдесят монахинь им по монастырям кнутами бито, Нектарий, епископ Тобольский, за два года порол 1430 раз и палкой поучал, и не только деревянной, но и железной. И так спасал души. Епископ Варлаам Вятский избивал людей до бессознания, епископ Архангельский Варсонофий заставлял подчиненных босыми на снегу стоять, кнутом их избивал, в цепи заковывал, смягчался лишь тогда, когда ему «подносили». При царице Елисавете в монастырях оргии устраивали, а один архимандрит на улице женщину изнасиловал. Избила его толпа до бессознания, и избивавших в Сибирь сослали. Восемнадцать смоленских жителей перешли в католичество — били их кнутом так долго, пока не заявили, что возвращаются в лоно святой православной церкви. Император Павел резал носы и уши полякам-католикам, выселенным в Сибирь. При Николае Первом переводили в Белоруссии всех в православие, не желавших — в Сибирь, даже расстреливали.
Патриарх Филарет говорил, что многие берут себе в жёны сестёр и тёток, матерей и дочерей. Тут не забудь — кроме церковного брака, иного у нас не было. И женили их — попы. Владимир Святой убил брата своего, а жену его себе взял, родила она ему Святополка. Вторая жена, чешка, родила ему Вышеслава, третья — Святослава и Мстислава, а четвертая, болгарка, Бориса и Глеба. А кроме этих жён, имел он в Выжгороде гарем с тремястами жён, триста же содержал в Белгороде и двести в селе Веретове. Вот так святой, на Руси просиявший! Царь великий Петр открыто над религией издевался, Зотова произвел сначала из архиепископа Прессбургского в патриархи, затем в князь-папы и короновал митрой, изображавшей голого Бахуса. А когда папу этого женили, то кончилась свадьба такой оргией, что писать нельзя. И благословлял тот князь-папа народ крестом, сделанным в форме, ох, писать того нельзя. Царица Елисавета устраивала свидания с любовниками в монастырях, и сжигала живьем отрекшихся от православия. Иван Грозный взорвал в воздух, привязав к бочке с порохом, боярина Голохвастова, и еще пошутил: «Монахи — они всё равно ангелы, пусть же в небо летит!». Отстояв от четырех часов до семи раннюю обедню, приглашал одетых в рясы и скуфьи опричников на завтрак, прислуживал там им сам, а день кончал в застенках, народ мучая и на дыбы поднимая. А спать ложился, велел сказочников к себе посылать. А святой наш Александр Невский вместе с монголами взял Новгород и перебил всех его жителей. Иван Грозный четвертовал епископа Псковского, одел епископа Новгородского в медвежью шкуру и собак на него натравил, а епископа Теодорита в реке утопил. До того доходил, что избивал всех молившихся в церкви, ворвавшись в нее с опричниками. «Стоглав» писал, что купаются монахи вместе с монахинями, а еще с 1500 года указал великий князь Василий Иванович осуждать священников на кнут и виселицу. Вот и пороли нашу матушку Русь до девятнадцатого века… Ах, а опять же Петр Великий, взяв Полоцк, собственноручно убивает в униатской церкви патера Кусиковского, а свита перебила всех монахов. Монастырь ограбили, церковь осквернили, а видевшим это и заплакавшим женщинам отрезали груди. В униатской церкви убил пять молившихся, и был при этом совершенно пьян. Вот и говорили раскольники, что сатана он и антихрист, рожденный Никоном от ведьмы…
Ох, довольно — это я тебе фундаментик наш показываю, на котором мы стоим, и подумать тебя прошу, что произойти может, если… Впрочем, вот он, новый такой образчик — Гришка Распутин… Признаюсь, смутился я душой, и письмо моё — крик отчаяния. Знаешь — когда лежишь ты в окопе или канаве и гвоздит тебя немец «чемоданами», крестишься ты мелко-мелко и одно лишь шепчешь: «Пронеси, Господи.». Вот гляжу я вокруг, вспоминаю в народ заложенное, подытоживаю, содрогаюсь от страха непонятного и шепчу неустанно: «Пронеси, Господи!».
Но — будем надеяться, что минет нас чаша страдания, ибо приемлют ее главным образом ни в чём неповинные, как малые деревца, бурей с корнем исторгаемые и гибнущие в тьме непроглядной.
Будьте же здоровы, и да хранит вас всех Покров Пресвятой нашей Донской Богородицы. И да минет нас гроза, не нами вызванная…
Ваш во Христе -
Тимофей.»
Чай давно остыл, никто не перебивал чтения, никто не прикоснулся к закускам, все долго молчали под впечатлением услышанного. Первым проговорил урядник:
— Засумливалси ваш сродственник. Оно и понятно, кто трошки в голове мысли поимеить, да круг сибе с понятием глядить, тому в сто разов хуже, чем нашему брату, думаю, што чёрт сроду не такой страшный, как яво малюють. Мы там, казаки, покаместь никаких отчаяниев не имеем. Бьёмси с врагом, справляем службу, слухаимси командиров наших, как оно от отцов-дядов повялось, и одно знаем: война — она сроду штука серьезная была. Хто духом послабше, тому и чижельше. А я из таких, што не всё слухают. А што было — то быльем поросло. А што в счет Расеи, ведь верно это, ее ежели не пороть, такое она учудить, што весь свет ужахаться будить.
Отец хлопает в ладоши:
— Мотя! Принеси-ка ты нам ту бутылочку, что у меня в шкафу налево, возле стопки книг, стоит. Гостя нашего за хорошее слово и хорошей английской горькой угостить. С благодарностью.
* * *
Рождественские праздники подошли как-то так быстро, что и оглянуться не успели. В реальном училище давно шли приготовления к большому вечеру в пользу раненых. Составлена большая программа, а Семён в первом отделении будет рассказывать старинную русскую сказку, а во втором прочтет стихотворение «Три письма». Такое грустное, что расплакалась мама, когда он его прочитал дома. Мама специально для этого вечера сшила себе новое синее платье, отец отправится в шароварах с лампасами и в мундире. Пойдет и Мотька. Только будет сидеть она вовсе не с ними.
Мама объяснила, что это ему не на хуторе, где в праздники все они вместе за стол садились, здесь город, впереди начальство сидит, чиновники, офицеры, доктора, купцы, преподаватели, и вообще все, кто чины имеет и звания. А домашняя прислуга берет билеты на галерею. Семён долго возмущался, но пришлось покориться.
***
Огромный парадный зал реального училища горит бесчисленными огнями. Оставшись в школе сразу же после обедни, вместе с десятком своих одноклассников устанавливает Семён стулья, бегает за сцену, выполняет тысячу поручений и просьб, участвует в генеральной репетиции. Наконец, отзывает его Иван Прокофьевич в сторону и спрашивает:
— А не лучше бы было вместо этих твоих «Трех писем» прочитать «Сакья Муни»? Всё равно во втором действии выступает один с его «Подпрапорщиком». Слишком уж перебор в патриотической стрельбе получится?
Конечно же, он согласен, и эти стихи знает он наизусть.
Но пора и в залу. Темно-синий занавес плотно задернут. Всё сделано прекрасно. Особенно от занавеса до потолка. На большом панно, через всю залу, нарисованы лишь верхушки елей и сосен с цепью далеких, утопающих в полуночной синеве, гор. На усеянном звездами небе повис серебряный серп месяца и летит мимо него в ступе с метлой в руке страшная, растрепанная, с горящими, как угли глазами, ведьма.
Публика уже начинает сходиться. Первые ряды почти уже все заняты, реалисты-распорядители с повязками-бантами на руках рассаживают гостей, с хоров доносятся звуки то тромбона, то валторны, видно, оркестр уже на местах, а вон, в переднем ряду, вместе с супругой и сыном-кадетом, сидит полковник Кушелев, мама рядом с ним, возле нее отец, а дальше кто же? Ах, да это же Мюллер, немец, собственник ряда магазинов, большой ссыпки и лучшей мясной и колбасной, в Камышине, на Пушкинской улице. С ним и жена его, знают ее все, она сидит в их магазине за кассой. А кто же барышня эта рядом с ней? Две косы, одна перекинута за спину, другая свисает через грудь и падает на колени. Глаза у нее синие, совсем синие, брови, как стрелки, цвет волос такой же, как у ржи, когда на нее солнце светит. Ну, Катя, дура московская, далеко тебе до нее!
Со сцены слышен голос директора, звонко разносящийся по притихшей зале:
— Ваше преосвященство, милостивые государыни и милостивые государи!
Здорово он это умеет — торжественной официальности напустить. Мастер, что и говорить!
А за сценой растеряли актеры листочки пьесы для суфлера. Мотаются, как угорелые, что-то собирают, суют кому-то, какая-то барышня плачет в углу. Ох, уж бабы эти! Нервы у них! И Иван Прокофьевич проверяет костюмы и гримм, одергивает рубашки, выстраивает в порядке выхода волнующихся актеров. Ух! — гром рукоплесканий. Так, кажется, говорится? Это директор окончил речь.
Но вот — и звонок.
Коротенькая пьеска проходит быстро, плакавшая барышня сияет, получив букет цветов. Снова аплодисменты и крики «браво».
Одним взмахом руки высаживают Семёна на сцену. Освещена она ярко, в зале — темно, только поблескивают в первом ряду полковничьи погоны Кушелева, отцовские есаульские и белеет шаль той барышни, с косами. Одетый в боярский охабень, с огромной высокой шапкой и в красных сапогах, выходит он на сцену, воспалившимися глазами смотрит в зияющую перед ним темному, и — забывает начало сказки. Холодный пот обливает его с головы до ног. Чувствует, что с бровей потекла черная краска, ему жарко, ужас охватывает его, панический ужас. Господи, вот скандал-то! Да как же начинать, начинать-то как? И вдруг, уже в третий раз переступив с ноги на ногу, слышит собственный голос:
— Начинается сказка от Сивки, от Бурки, от вещей каурки. На море, на океане, на острове на Буяне, стоит бык печеный, возле него лук толченый. И шли два молодца, шли, да позавтракали…
Сама собой сказка полилась. Кланяясь, такие слышит аплодисменты, что хочется ему прыгнуть козлом тут же, на сцене. Сбежав со сцены, падает в объятия Ивана Прокофьевича:
— Признавайся, что с тобой случилось?
— Забыл, как начинать!
— Так очень же просто: «Начинается сказка…».
— Вот это «начинается» и выручило!
В антракте бежит Семён к родителям. Подходят Мюллеры и та барышня. Смотрит на барышню Семён, и зала куда-то пропадает. Только светят ему, как васильки, синие глаза. И слышит он слова мадам Мюллер:
— Это Семён Пономарёф, ученик второй класс, а это наш точка Урсула, или, как мы все ее насыфал айнфах — Уши!
Уши почему-то смущается, делает книксен. Семён расшаркивается, и слышит голос полковника Кушелева:
— Жаль, жаль, молодого казака, в кадетский корпус бы надо.
В буфете велели ему ухаживать за молодой дамой. Когда Уши смеется, на левой щеке у нее появляется ямочка. Косы закинула она за спину и передразнивает своего кавалера:
— «И шли два молодца, шли, да позавтракали…». Надеюсь пирожными и ситро?
Уши смеется, будто сотни серебряных колокольчиков звонят.
Черт побери, да ведь это же и звонок на сцене! Бежать надо! Теперь, слава Богу, переодеваться не надо. Жаль, что не разглядеть лица Уши, но это и не важно: Семён все равно только для нее читает.
— «Сакья Муни». Стихотворение Мережковского.
Не видел он, но сразу же почувствовал движение в задних рядах, там, где сидит молодежь. Не видел, но знал, что нахмурил брови полковник Кушелев, что удивленно вскинул глазами директор, не подозревавший о замене в программе.
Будто бросившись с головой в омут, читает он первые строфы, и видит одним глазом скользящую по-над стеной тень директора.
Ну и пусть, теперь уж поздно.
Изваянье Будды преклонилось Головой венчанной до земли, На коленях, кроткий и смиренный Пред толпою нищих царь вселенной, Бог, великий бог, лежал в пыли!Словно бомба разорвалась на галерее. Крики: «Браво!», «Бис!», «Павтаар-рить!». Стук и грохот ногами и стульями оглушили и его, и перепугавшуюся публику. Семёна стягивает кто-то за рубаху со сцены и тащит вниз. Иван Прокофьевич успевает ему лишь подмигнуть, и исчезает. Директор поманил к себе пальцем виновника бури:
— Почему вы вместо «Трех писем» читали Мережковского?
— Мы с Иван Прок…
— В-вы с Иван Прокофьевичем! Конечно! Впрочем, сейчас об этом говорить не стану, а решение педагогического совета сообщится вам своевременно. Передайте это вашим родителям. Можете идти.
На сцену выходит бледный и тощий семиклассник, сын священника церкви Святого Николая, и сразу же трагическим тоном начинает:
Подпрапорщик юный, со взводом пехоты, Старается знамя полка отстоять, Один он остался от всей полуроты, О нет, он не будет назад отступать…Прислонившись к стене, скрестив на груди руки, стоит у входа в раздевалку Иван Прокофьевич и презрительно улыбается:
— Слыхал? Всем толстым купчихам, фельдшерам и лабазникам на полное патриотическое удовольствие. Верноподданнический фейерверк со слезинкой. Рассказ о герое в штанах и без оных. Сто раз молодец ты, что «Сакья Муни» прочитал! Аг-га — слушай, слушай!
Декламировавший окончил чтение и, видимо, раскланивается. Аплодируют только первые ряды, остальная публика молча переглядывается, только с галерки, протяжно:
— Пш-ш-ш-ш!
Глаза Ивана Прокофьевича сияют:
— Ишь-ты, разводят нам казенный патриотизм. Лучше бы они подпрапорщикам этим винтовки дали! В пыль всех великих Сакья Муни, к чёрту с ними!
Но надо же и о своих подумать — вон они, еще не ушли из залы. Полковник Кушелев, вертя программу вечера, хочет узнать от него, кем именно и на каком основании были в ней сделаны изменения, отец тянет его в сторону и, улыбаясь, спрашивает:
— Ты что же, тоже в народ пошел?
— Но ведь Иван Прокофьевич…
— Твой Иван Прокофьевич может тебе сказать вот сейчас в Волгу прыгнуть. Своей головой думать должен. Ох, будет дело твое кривоносое, впрочем, беги, беги, вижу, не до меня тебе.
А Уши, увидя его, вспыхивает, глаза ее загораются, и слышит он не слова, а райскую музыку:
— Ах, как хорошо! Прекрасно вы читали!
Улыбаясь так, как только одна она делать это может, подходит к нему и мама, гладит по голове и шепчет на ухо:
— Поведи Уши в буфет. Вот, держи, пригодится.
И незаметно кладет ему в ладонь серебряный рубль.
В буфете съедают они с Уши по три пирожных, выпивают по нескольку стаканов ситро, выходят в коридор, никого и ничего не видя, и почему-то попадают в одну из раздевалок. У окна, глядящего на замерзшую Волгу, останавливаются, не говоря ни слова. На дворе глухая ночь. Луна забралась совсем высоко и залила всю речку ярким, потусторонним светом. Небо засыпано мутно горящими звездами, будто темным шелком покрылась заснеженная гладь Волги. Далеко, на противоположном берегу, будто конница с пиками, стоит недвижимый лес. И все это кажется волшебными кулисами сказочной сцены, на которую вот сейчас выбегут гномы с Золушкой, принцы и принцессы с Бабой Ягой, Василиса Прекрасная, Царь Берендей и Кощей Бессмертный и начнут так танцевать, как это лишь в сказках и возможно.
Семён и не замечает, что давно уже держит он руку Уши в своей. Стоят они, смотрят на мигающие звезды, глядят в бездонное небо и ничего оба не чувствуют, кроме этого прикосновения встретившихся в легком пожатии рук.
И — вдруг:
— Панычку! Идить, пани-маты вас шукае!
Мотька стоим перед ним в хохлачьем своем наряде, вся в монистах, вся пестрая, с заплетенными в длинные косы лентами, стройная и румяная, такая, что и глаз от нее не отвести. Быстро выпалив сказанное, поворачивается она круто, лишь бросив короткий взгляд на Уши. Как пойманные на месте преступления, отдергивают они руки. Дверь хлопнула. Уши быстро поворачивается, и бежит к выходу. Едва он за ней поспевает. А зала уже освобождена от стульев для танцев.
— Где же это вы пропали? Сейчас вальс играть будут.
Мама улыбается, поправляет рубаху и пояс, и отворачивается к соседке. На середину залы выскакивает преподаватель гимнастики, сегодня он распорядитель танцев, хлопает в ладоши и объявляет:
— Мадам-месье! Вальс для молодежи, — и обернувшись к оркестру: — Пра-ашшу!
Дирижер только коротко кивает головой, взмахивает палочкой, и льются в залу мелодичные звуки «Дунайских волн». Раскланявшись перед Уши, ведет ее Семён на середину, делают они первые шаги, и вот — нет ни залы, ни публики, ничего нет. Есть лишь глаза Уши, музыка, свет, есть то, что люди называют — счастье…
Совсем в конце вечера, когда объединенными усилиями полковника Кушелева, четы Мюллеров и самого Тараса Терентьевича удалось смягчить сердце директора и обещал он не предавать Семёна казни лютой, вышли они к трем добрым, запряженным в розвальни, тройкам. Первая подхватила Семёна, Уши и кадета Кушелева, на остальных разместились взрослые, и понеслись они сначала к пристаням, потом на лед Волги, по мутно темнеющей, прекрасно накатанной дороге, далеко, на ту сторону, к слободе Николаевке, в загородный домишко, как называет Тарас Терентьевич свою девятикомнатную дачу, жарко натопленную, с накрытым для дорогих гостей столом с таким количеством яств и питья, что прибывшая компания управляется со всем этим лишь к четырем часам утра.
И снова скачут они в ночи, в мороз, через матушку-Волгу навстречу редко мерцающим огонькам города. Уши, закутавшись в шубу, сидит молча рядом. Тройка несется, как оголтелая. Кучер пронзительно свистит, сани неслышно летят. Ощущение бесконечного счастья обволакивает Семёна.
А неделю спустя из телеграммы узнали они, что как раз в эту полночь, когда ужинали они у Тараса Терентьевича, был убит очередью из пулемета сотник Войска Донского Аристарх Андреевич Пономарев…
* * *
Снег лежит еще такой высокий, что добираться до пригорода не так-то и просто. И потому обрадовался Семён, что нашел квартиру учителя к назначенному сроку. В комнате Ивана Прокофьевича за большим столом с кипящим на нем самоваром компания совершенно незнакомых людей — два реалиста из старших классов, какой-то студент. У самовара Марья Моревна, детишек отнесла она к соседям, нарезала хлеб ломтями, поставила четыре тарелки с ломтями чайной колбасы, мед в банке и сахарницу с колотым сахаром, собрала самые разнокалиберные чашки и стаканы, придвинула к самовару полоскательницу, и стол был накрыт. По бокам ее сидят две молоденькие барышни-курсистки, а налево, рядом с каким-то простецки одетым человеком, небритым, лет сорока, он сам, Савелий Степанович, в гимнастерке, с погонами хорунжего, возмужавший, аккуратный, с короткой бородкой и подстриженными усиками.
Чудесные глаза хозяйки улыбаются гостю:
— Товарищи! Представляю вам молодого Пономарева, теперешнего ученика моего мужа и бывшего ученика нашего храброго казака Савелия Степановича. Знаменит тем, что собирается собственной головой думать.
Лишь теперь, заметив забившегося в угол лодочника, здоровается с ним Семён, и шепчет ему Иван Прокофьевич:
— Как раз вовремя поспел. Наш московский друг, студент-медик Федя, напомнил нам одно стихотворение, а ну-ка, повтори.
Кудрявый студент просить себя долго не заставляет:
Пусть он ударит! Мы вместе пойдем Правду святую добыть топором! Час восстанья пусть ударит!Соседка Марьи Моревны, светлокосая курсистка, быстро пробормотав: «А вот это слыхали?», — тоже декламирует:
Приходите ко мне, голоштанники, Побирушки, бродяги, карманники, Потаскушки базарные, грязные, В синяках, в лишаях, безобразные, Рвань базарная, вошью богатая, Всё отродье, в утробе проклятое, Встань, проснися, отребье народное, Ополчимся мы в войско свободное!Пробует перевести дух, и этим воспользовалась вторая курсистка. Уставившись в потолок, говорит тихо, мечтательно:
Пускай тогда меж вами, братья, Не будет нищих, богачей, Ни вечно загнанных страдальцев, Ни палачей.Не выдерживает и один из реалистов. Вскочив с места, быстро проведя пятерней по волосам, говорит так, будто боится, что его остановят:
У министров буржуазных Много планов, мыслей разных, Много есть затей. У простых людей — Только баррикады! Рады иль не рады, Да пришла пора: Са ира!И шлепается на место так, будто ясно ему, что этим выстрелом своим уничтожил он всех врагов.
— Н-но, товарищи, не слишком ли напористо. Этак молодого человека и перепугать можно.
Савелий Степанович кладет ему руку на плечо, притягивает к себе, а сидящий с ним рядом незнакомец, которого Семён мысленно окрестил Голодающим Индейцем, больно уж худ он, костляв и несуразен, обращается к Ивану Прокофьевичу:
— Почему, собственно, у вас тут с топора началось?
— А были мы, вот с Зиновий Сидорычем и Семёном, на рыбальстве. И там в жизнь нашу один дядя вошел. Впрочем, дружок, расскажи-ка лучше сам.
Баталер, это оказывается его Зиновий Сидорычем зовут, просить себя не заставляет. Передав все подробности их приключения за Волгой, заканчивает раздумчиво:
— И вот у меня, рабочего человека, инвалида, такого же матроса, как и сам он, спер тот не только рогожу, полсть, а и топор уволок. И спрашиваю теперь я сам себя и вас всех, как же это понимать надо? Ить он — социалист-революционер. А я еще от Цусимы понял, что скоро конец тому режиму идет, который неправдой живет, и что новые люди без сучка, задоринки быть должны.
Темнокосая курсистка кричит на всю комнату:
— Как вам не стыдно клеветать на партию! По одному, может быть, бродяге, судить о всех!
— А вам, барышня, самой бы его послухать… нет-нет, энтих, партейных, мы тоже за версту нюхом различаем. Не хуже шпиков.
Вспыхивает и белокурая барышня:
— Простите мне, товарищ матрос, но я считаю, что прав был он.
— Вот это здорово, да ведь ограбил он меня!
— Что ж из этого? Вы работаете и имеете возможность через некоторое время снова приобрести новый топор. А он вынужден скрываться. Деваться ему некуда. Да вы об экспроприациях слыхали?
— Как не слыхать, известное дело, слыхал.
— О какой, например? О так называемом «ограблении банка», как это наша буржуазная пресса назвала, о том, как Иосиф Джугашвили деньги из банка для партии взял? Как вы на это смотрите?
— Вы, барышня, простите меня за простоту мою. Банк ли грабить, у простого ли матроса полсть спереть, одна это музыка.
У них, у экспроприаторов, и кровь человеческая не дюже в цене.
Белокурая не дает ему кончить:
— А у царей — в цене? А как партии без денег жить прикажете? Где денег взять, как не у буржуазии? А на что они пойдут, как не на святую цель, цель, которая всё оправдывает!
Голодающий Индеец придвигается к столу и говорит тихо и спокойно:
— Кто я — все вы знаете. Всего неделя, как из Сибири вернулся. Добровольно на фронт иду. Там нам теперь дело делать надо. Так вот, заявляю я вам: ограбления, кражи, убийства — позор для партии. Чистое дело надо и чистыми руками делать.
Один из реалистов не выдерживает:
— Это уж вы извините. Разве можно назвать и сравнить борьбу угнетенных с угнетателями угнетенных…
Иван Прокофьевич поднимает руку:
— Н-дас, стиль у нас несколько сучковатый. Повторяетесь.
А всё дело в том — есть ли какая-нибудь изначальная принципиальность, мораль или нет их? Можно ли святое дело грязными руками делать или нет? Вон как весталки, храмы строившие. А на какие деньги, а? Вопрос это коренной. Вон и Раскольников, взял да и убил…
Возмущается белокурая курсистка:
— Что вы нам этого ретрограда Достоевского подсовываете!
— Не в Достоевском, не в ретроградстве тут дело, а в принципе. Позволим мы насилие или нет, вот вопрос.
Баталер разводит руками:
— Это как-то мне вроде даже чудно слухать. Да как же я тогда к народу пойду? Што же я им скажу? Братишки, досель нас грабили, а теперь мы грабим и убиваем, так, што ли?
Савелий Степанович качает головой:
— Ос-сновная пос-становка вопроса совсем не верна! То, о чём мы здесь толкуем, это лишь неизбежные эксцессы. Ч-чело-век н-не-совершенен. Нельзя с-сразу обвин-нять…
Только покосившись на него, говорит куда-то в потолок Голодающий Индеец:
— Ага, эксцессы! Здорово! А кто же нам гарантирует, что они у нас во главу угла не станут? Что в правило их введут? А мы потом всему соучастниками окажемся.
Вскакивает второй реалист:
— Общая, коренная, страшная ломка произойти должна. Всех под нож! Помните, как Рылеев сказал:
Уж вы вейте веревки на барские головки. Вы готовьте ножей на сиятельных князей. И на место фонарей поразвешаем царей!Голодающий Индеец сокрушенно качает головой:
— Кипятитесь вы все, и это и есть самое страшное. В деле революции, в деле освобождения народа от тирании нужны чистые руки. Ведь мы не в пугачевскую эпоху живем! А у нас, к сожалению, большинство к этому идет. Недаром же в 1903 году на съезде в Брюсселе, и потом в Лондоне, представители социал-демократов раскололись на коренном вопросе — какой должна быть партийная организация. Мартов хотел действовать по типу немецкой социал-демократической партии, а не создавать какую-то бунтарскую, заговорщицкую мафию, где марксизм и социал-демократия лишь фиговые листочки, скрывающие потуги отдельных лиц к диктатуре. И как бы мы ни бились, удалось Ленину создать большинство, потребовавшее нелегальной организации, профессионально-революционной, с железной дисциплиной внутри, где каждый слепо выполняет все директивы и приказания Центрального Комитета. О участии демократически настроенных масс теперь в партии и слушать не хотят. Знаете ли вы, куда это завести может? Ведь если этот самый ЦК, по примеру господина реалиста, начнет с ножей и топоров, то мы, действительно, как Достоевский говорил, меньше как во сто миллионов голов и не обойдемся.
Белокурая барышня презрительно улыбается:
— Ленин был прав! Только с железной дисциплиной, только с лозунгом: «Старое на свалку!». И не мямлить, как это вы, меньшевики, делаете.
Голодающий Индеец смотрит совсем печально, и обращается к хозяйке дома:
— Марья Моревна, Евангелие у вас есть?
— Что-о? Нет, таких книжек я не читаю.
Баталер почему-то начинает возиться и вытаскивает из кармана старое, замусоленное Евангелие:
— Я, понимаете, иной раз, так, для антиресу, старое с нонешним сравниваю…
Голодающий Индеец схватывает Евангелие и начинает его листать:
— Вот и я, в Сибири сидя, нашел кое-что… вот:
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее… не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного… и полагали к ногам апостолов и каждому давалось в чем кто имел нужду…».
— Ну-с, скажите, не социализм ли это, не коммунизм?
Баталер тянется за Евангелием:
— А теперь я из Деяний Апостолов кое-что прочту. Тут и вопросик мой с топором есть. Вот:
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сафирою, продав имение, утаил из цены с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное от продажи, не в твоей ли власти находилось? Для чего положил ты это в сердце своем? Ты солгал не человекам, а Богу.
Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял слышавших это… часа через три пришла жена его, не зная о случившимся. Петр спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?». Она сказала: «Да, да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в дверь погребавшие мужа твоего. И тебя вынесут».
Вдруг она упала у ног его и испустила дух… и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это».
— Видал? — матрос говорит громко и уверенно. — Тут вам и ЦК и беспрекословное послушание, и цель, оправдывающая средства. У них цель была: христианство. На тогдашних своих партийцев действовали они просто: цены были им известны, а коли сбрехал им кто, брали они его на арапа: зачем, мол, брешешь? А тот — и Богу душу. Тут и до топора недалеко: надо его партии, возьмет она, не стесняясь. А кто надуть вздумает, она, организованная на безусловном послушании, сумеет его придавить. Вот и выходит, что партия, как тот паук: высосет из каждого всю его середку. А кто главным пауком будет, дело само покажет, дорожку ему вот такие, как господа реалисты да курсистки, проложат. Будут потом в затылках чесать, конечно, в том случае, если у них затылки целыми останутся. На это у них и специальные погребатели были, и теперь будут, дайте срок. А вы мне тут: мы таких книжек не читаем! Хвалитесь незнанием, и того не понимаете, что нового вы не выдумали. И еще скажу: вот две тысячи лет христианство строилось, а как — слыхали вы? А теперь спрошу я: вот вы, барышни, верите в Бога?
Обе курсистки кисло улыбаются:
— Конечно же, нет!
— А вы, господа?
Студент так презрительно поводит плечами, что ответ ясен и без слов. Смеется один из реалистов, а второй иронизирует:
— Вы еще спросите меня, верю ли я в аиста!
— Ага! Вот и выходит, что бедный Анания и Сафира его так зазря померли! Партия деньжатками попользовалась, а их — погребателям отдала. Вот и вы теперь партию вашу строите и верите в нее, а что получится, никто не знает, а я боюсь, что то же самое, только не через две тысячи лет окажется молодежь в это дело не верующая, а много-много скорей! И получится и у вас, что людей вы убивать будете, только бестолку. Понапрасну. Ради пустой выдумки оголтелых фанатиков.
Голодающий Индеец кладет руку на плечо баталера:
— Скептицизм дело неплохое! Вот и нужно решить: всякая ли цель каждое средство оправдывает. Но принципы общей морали…
Крутит головой Савелий Степанович, будто шмели на него напали:
— А уверены вы, что принципы вашей морали будут соблюдаться?
— Должны быть приняты, обязательно, иначе… — чернявая курсистка оттопыривает губы:
— Что же вы вашу мораль силой введете, что ли?
Студент, справившись, наконец, с куском колбасы, басит:
— Вот и выходит, что из дела Нечаева, по которому Достоевский «Бесов» своих писал, Деяний апостолов всё, как есть, должно нам послужить для выработки нашей тактики, нашего поведения вообще и нашего отношения к массам. Люди есть люди, какую идею им не преподнеси, под каким флагом не заставь их маршировать. Тут вам и поэты, и идеалисты, и мясники, и прохвосты, и трусы, и просто, извините — сволочь. А не забудьте, что как раз сволочь охотно липнет к идеям, которые идеалисты выдумывают. Вот и нужно во всех идеях, во всех программах, в планах и манифестах на нее, на сволочь эту, поправку делать. С одной стороны, чтобы парализовать ее, а с другой, ох, циником вы меня назовете, чтобы сохранить ее на необходимую нам грязную работу.
Обе барышни кричат хором:
— На какую необходимую работу?
— А вот на такую: скажите вы мне обе, можете вы любого из нас расстрелять, глазом не моргнув?
Поднимается всеобщий гам, слышно слова: «террор», «идеалисты», «шедшие на смерть», «твердые решения», «убийство из-за угла», «решения партии — закон…», «этак вы и Веру Фигнер в сволочь запишете!».
Всех перекрикивает тот же Голодающий Индеец:
— Но поймите же — для выкорчевывания старого понадобятся огромные кадры таких, которые, не моргнув глазом, смогут укокошить любого, кого угодно, до собственного папаши!
Савелий Степанович зябко жмется:
— Но ведь это же уже разговорчики о терроре. Вы же знаете, думаю, что под горячую руку народ сделать может?
Путаясь, вспыхнув, как кумач, рассказывает Семён о том, как перерезали мужики жеребятам жили в имении Галаховой.
Большинство презрительно усмехается. Марья Моревна щурит глаза:
— Ну, тут дело совсем иное! Ведь нужно же дать себе отчет в том, что из себя царская власть представляет. Знаете ли вы стихи Ольхина:
Стонут Польша, казáки, забитый еврей, Стонет пахарь наш многострадальный. Истомился в далекой якутской тайге Яркий светоч науки опальной!Ведь власть эта сотни лет держала мужика рабом, холопом, бесправным, обиженным, обойденным… вот отсюда и жеребята ваши…
Поднимает голову Голодающий Индеец:
— Значит, любое преступление простим и разрешим, только потому, что у нас царская власть была?
Матрос чешет затылок:
— Да, тяжелое дельце начинается, тут сам чёрт ногу сломит. Студент обшаривает взглядом тарелки:
— Никаких чертей с поломанными ногами! Нужен продуманный, как в генеральном штабе, план. С учетом абсолютно всего. И главное не забывать: на войне не без урона, лес рубят — щепки летят.
Один из реалистов поддакивает:
— Вот-вот. Возьмите хотя бы французскую революцию. Там никак не миндальничали!
Иван Прокофьевич улыбается:
— А скажите мне, кто и как теперь Францией этой управляет и что от революции этой осталось?
Обе курсистки снова хором:
— Эгалите, фратерните, либерте!
И снова, сбиваясь и краснея, быстро говорит Семён, что во внутренних отношениях имели казаки эти эгалите, либерте и фратерните на сотни лет раньше французской революции, и друг другу голов по этому случаю не оттяпывали, а все дела всенародной душой на кругах решали.
Матрос смотрит на курсисток:
— И все эти либырты и эгалиты у французов теперь кобелю под хвост пошли!
Марья Моревна грозит ему пальцем:
— Ну-ну-ну, вы не на флоте…
— Извините! Одно ясно: толку с нашего разговора не дюже много!
— Как не много, самое главное мы установил: без жертв не обойдется!
— Да, стричь придется!
— Ага! Стричь! И кто от такой стрижки останется? А?
Матрос берется за шапку. Встает и Голодающий Индеец:
— И я вам, на прощание, одно стихотвореньице прочту. Без злобы его примите, а для размышления. «Торжествующую свинью» Баркова:
— Да, я — свинья! И песнь моя В хлеву победная слышна. Я гордо, смело говорю В глаза хоть самому царю: — Хрю-хрю!Бросив короткий взгляд на растерявшихся собеседников, быстро поклонившись, Голодающий Индеец исчезает в прихожей. Попрощавшись, уходят и баталер с Семёном.
С севера дует противный, пронизывающий до костей ветер. Схватив быстро бегущие струйки снега, несет их с собой, раскидывает по улицам, задувает в ворота и на заборы, перегораживает дорожки и тропки, громоздит сугробы и, гремя в домах вьюшками, поет притихшим жильцам свои далекие, принесенные из Сибири, песни.
Запрятав нос в тощий воротник, молча вышагивает матрос. Когда же поровнялись они с домом Семёна, протягивая ему руку, тихо повторил:
— В глаза хоть самому царю: «— Хрю-хрю». А ить и цари, они не все одинаковые. Вон, Петра Великого возьми. А? Вот тут и пойми! Пойди разбери, что к чему…
Ветер толкает его в спину, хлещет полами шинели по деревянной его культяпке, рвет с головы шапку. И исчезает он в метели, будто его и не было.
* * *
Вернулся с хутора отец, ездивший туда после извещения о смерти Аристарха. Привез от бабушки гостинцы, всё больше по гастрономической части, а внуку и две пары шерстяных чулок. Сама она их связала. И новенькие валенки, которые знакомый полстовал специально свалял, по мерке. Тонкие, легкие, но такие теплые, что в них при любом морозе можно целый день на Волге на коньках кататься. А коньки деревянные, самодельные, смастерил ему по дружбе баталер.
Рассказал отец, что всё по-старому на хуторе, только вот бабушка уж слишком убивается. В Разуваеве, в семье Гуровых, тоже молодого казака убили. Митрия, того, что в прошлом году у него на нашей мельнице чирики украли, так вот этого самого Митрия где-то под Карпатами пуля вражеская нашла. Там его и закопали. Командир полка письмо отцу написал, с этим письмом и пришла бабка его, Аксиньей звать, к нашей бабушке, прочитать попросила. В семье у них грамоте не дюже того. Прочли они это письмо вместе, лампадку зажгли, вместе за покой души рабов Божиих, Аристарха и Митрия, помолились, посидели, помолчали, вот с тех пор и приходит по воскресеньям, чуть свет, бабка Аксинья к нашей бабушке, запрягает тогда Матвей Карего, и едут они в Ольховку к обедне, а возвращаются вместе, и лишь к вечеру уходит Аксинья в Разуваев. И от этого вроде легче нашей бабушке стало.
А Маруська вовсе гладкая стала, тетя Вера на ней ездит, чтобы не застоялась. Буян так шерстью оброс, что и морду сразу не сыскать. Мельник Микита во всем бабушке подмога. А тетка Агнюша говорила, что на весну трех австрийцев пленных брать придется, а то полная неуправка в хозяйстве получается. Да и нам об этом же подумать надо, человек пяток пленных взять, а то ни посеять, ни скосить некому, рабочий народ весь, как есть, на войну ушел.
Из разуваевских еще один убит. Помните того казачка на проводах, что один, как есть, с конем к Правлению шел, Песковатсков Михаил. Так того в первый же день убило. Пуля попала прямо в лоб. И не копнулся, бедняга.
Филиппа Ситкина, свиней резака и фельдшера, того осколком гранаты скобленуло, два месяца в лазарете пролежал и теперь домой на отдых пришел. Герой героем, собирается опять на фронт, теперь, говорит, я стрялкам энтим должон должок мой с антиресом вярнуть. Как тольки в полк приду, враз в разведческую команду пойду, я им покажу, как в Донских казаков гранатами шибать!
На хуторе все ждут, когда мы на лето приедем. Тетка наша, Мина Егоровна, будто дуб крепкий, стоит. И она с бабушкой в церковь ездит. Как увидит ее тарантас на Ольховском шляху, так и она со своего хутора выезжает на паре рыжих, тех, что дядя Андрей в прошлом году на ярмарке купил. И прямо в нашу православную церковь, несмотря что сама лютеранка. Ставит и она свечки и поминания подает: страх неуемный в ней за двух других сыновей сидит. Писали они оба, что надеются после Пасхи на побывку прийти. А дядя Андрей тот вообще почти не говорит, одно знает, что ни день, выходит с гусем своим на щук. Целыми днями дома его нет, а как вернулся, так нет во всем свете человека, который бы так ласков к жене своей был, как он. Все малейшие желания ее выполняет, в глаза ей заглядывает. Только постарел здорово, сгорбился и согнулся. И пьют они с Минушкой водку вечерами по-старому, под соленый арбуз. Кобели ихние живы еще, только так потолстели, что глядеть на них противно. А гусь, тот подбиваться стал, ходить ему тяжело, летать разучился, в сугробах вязнет, вытаскивать его надо, на льду скользит и падает, а начнет Андрей его выручать, ругается, норовит клювом долбануть.
У тетки Веры всё будто в порядке, только смеяться разучилась. Что ни день, в Ольховку на почту на Маруське скачет. Дождь, ветер, снег, мороз — ничто ее не держит. А как получит от Воли своего письмо, так по родне — читать вместе. Она к нам на Пасху приедет, немного развлечься.
А ты, Семён, говоришь, что Савелий Степанович завтра нагрянет? Дело хорошее, пропустим по единой и к второй присмотримся, а?
* * *
Годами, весной и летом ловил баталер доски, брёвна, жерди, обаполки, целые деревья, всё, что река ни несла, и в половодье, и так, после сильных дождей или бурь, и насобирал столько добра, что хватило ему добрую хату поставить, печь в ней смазал из кирпичей, подобранных на пристани, дворик огородил, окна, двери приладил, занавески повесил, стол сделал хороший, крепкий, не качается, лавки струганые по стенкам прибил, кровать в углу поставил, сам и русскую печь сложил — хочешь флотский борщ в ней вари, хочешь — пироги пеки. Насобирал угля на пристани, того, что с баржей в город возят, теряют, всякого запасу на зиму сделал. И мясцо у него есть, и рыбка, и бутылочка в заветном уголку бессменную вахту несет. В переднем углу висит у него икона Николая-Угодника — по морскому делу этот Угодник тоже неплохо понимал, его уважать можно. Генералиссимуса Суворова портрет на стенке и Медный Всадник — Петро Великий, русского флота первый строитель.
Гостю радуется матрос искренне, и, получив подарки — колбасу и варежки, очень растерялся:
— Скажи ты мне заради Бога, как всё это ты мне понимать прикажешь? Вот скобленули папашу твоего, нашего усмирителя, по коленке, инвалида из него сделали. И должен он всех нас смертельной ненавистью ненавидеть. Так или нет? А он, глядь, всегда норовит мне уважение сделать. А я — враг ваш с пятого года. Что это — задняя мысль какая или хорошими вас людьми почитать я должен? Или казачий это ваш обычай — лежачего не бьют? Вон из наших, из русаков, на что все в моих понятиях, а никто ко мне, наши — как жестянки: блуп-блуп — ко дну шли? Эх, будь тогда моя сила, я бы этого царя нашего вместе с его министрами и адмиралами на первой же рее повесил. И вот сейчас прислушиваюсь, приглядываюсь ко всем, и одного не понимаю: а где же их, настоящих людей-то, брать? А? Где? Рази есть такая идея, изм такой особый, самоновейший, найсоциалистический, чтобы можно было прохвостов и дураков от порядочных людей отсеивать? Вон и Анания энтот с жинкой своей Сафирой, ведь тоже верующий был, к апостолам-то он по вере своей пошел, а все-таки затаил пятак какой-то, запрятал. А что апостолы за штуку с ним удрали, да за тот пятак, за грош ломаный, на тот свет его отправили. Это почему, не ради ли полной послушности, а не ради, по-нонешнему, скажем, партийной дисциплины? И вот скажи ты мне, новые апостолы наши, не зачнут и они тоже так же на тот свет отправлять таких малых, как Анания? Видал ты студента энтого: пока мы говорили, он должно быть два пирога хлеба да фунта два колбасы умял. И кто нам гарантирует, что таких, на чужой счет нажирающихся, в новом мире социалистическом, ну никак-никак не будет? Вон — посылали цари на смерть, а наши-то, террористы, из тех, что о рае на земле проповеди нам говорят, кого они только не били: царя одного ухлопали, одного великого князя, министров, губернаторов без числа побили. Что же это, по Библии, што ли: зуб за зуб! Сколько же этих зубов нам дергать придется, чтобы остатками, как вон хохлы говорят — «Цэ дило трэба разжуваты», — да чтобы разжевали мы окончательно, в чем же секрет-то кроется? И еще ты мне скажи, ежели из царей, ученых, попов, министров, генералов, адмиралов нет ни одного у нас в России с головой, почему тогда я, простой матрос, баталер, поверить должен, что вот эти голоштанники и рвань базарная, все — как есть, ума палата и ангелы небесные? И еще скажи ты мне: из кого вышел наш Гришка Распутин? Что он — генеральский сын, а? Министер был? Да нет! Мужик сиволапый, прохвост, подлец из тех, што в старой Руси голью кабацкой звали. Так или нет? Вот те и народа крестьянского представитель, а!
Матрос почти отпрыгивает в сторону, быстро, дрожащей рукой, наливает еще одну рюмку водки, плещет всюду по столу и снова пьет ее одним духом. Хлопнув рюмкой об стол так, что откалывается ножка и летит на пол, не поёт, а кричит:
Не думали мы еще с вами вчера, Что нынче умрем под волнами…Дверь тихо открывается и, напустив в хату облако пара, входит какая-то бабья фигура, вся закутанная в платки и шали. Баталер удивленно поднимает голову и, по мере того, как та фигура раскутывается, веселеет он, радостная улыбка озаряет его лицо и вскакивает он так, как когда-то на корабле по команде свистать всех наверх:
— Х-хо-о! Анне Матвеевне наше нижающее. Мы вот тут с господином реалистом песенки поем. Скидайтя одежу, кладитя на сундучек, подходитя поближе, у нас и закуски, и водки полный камбуз припасен.
Смотрит Семён на гостью, и нравится она ему очень: этакая круглая, румяная, глаза карие, брови, как два крылышка, волосы темные, в пробор зачесаны, косы на спину закинуты, статная, красивая баба… гм… а не лучше ли уйти?
Баталер сразу же согласен, что уже поздно, что одному ему ночью по берегу никак ходить не способно, того и гляди, на пьяного, а то, чего хуже — на надзирателя, нарвешься. И поэтому гостя своего не задерживает.
* * *
В сотый раз оглядела мама накрытый стол, справилась, не подгорели ли утки, а вот он и — Савелий Степанович!
Сразу же, за первой рюмкой, вспоминают воина Аристарха, пьют в его память, и, придя в себя от вечного смущения, единственное, что еще сохранилось от прежнего учителя, начинает он рассказывать о войне, но не то, что в газетах пишут, а то, что делают там казаки, пригнанные на страшную работу, на которой зевать никак не положено, а лишь одно помнить: не убьешь ты человека, так он тебя с коня ссадит.
— Вот это — убивать людей, понимаете, людей убивать, так, как дома мы кур и поросят резали, должны мы теперь постоянно, зная, что и для неприятеля такая же мы цель, как и он для нас… один раз, вырвавшись после атаки из этого ада, услыхав отбой, слез я с коня и, ведя его в поводу, завернул за угол стодолы и наткнулся на двух казаков, сопровождавших трех военнопленных. В грязном, изорванном обмундировании, два из них с окровавленными лицами, шли пленные, растерянно оглядываясь на своих конвойных, все три без фуражек, не зная, куда им девать руки, то и дело спотыкаясь и скользя по мокрому снегу. Остановил я их и спросил, какой они части. Сразу ж они ответили, а передний улыбнулся совсем по-детски и стал, путаясь, объяснять, что вовсе они не виноваты: да будь с ними весь полк, никогда бы такого конфуза не получилось. Один из конвойных закинул винтовку за спину и полез в карман за кисетом:
— Чавой-то он гуторить?
Перевел я, оба казака улыбнулись:
— Во-во! Сроду оно так! И у нас одного разу случилось, намяли нам немцы холку, а мы одно: «Эх, кабы весь полк, тогда бы мы им шшатинку вкрутили во как!».
Засмеялись казаки, видя что враги их веселы, немного отошли и пленные. Вынул я портсигар, протянул его австрийцам, недоверчиво взяли, оглядываясь на конвоиров, смущенно крутили в руках, не смея закурить.
— Данке шен, их бин зо фрай… Ох, филен, филен данк…
Глянул я снова на австрийцев, на казаков, и в первый раз показалось мне всё таким идиотски диким, преступным наваждением. Вот стоят они — люди эти, смотрят растерянно и неуверенно, благодарят за папиросы и огонек, кланяясь уж слишком низко, курят жадно, улыбаются робко и жалко, а все мы — христиане, люди думающие, хомо сапинс, чёрт его побери. И вот я, такой человек, думающий, размышляющий, против воли моей должен учиться делу организованного убийства. И постигаю дело это всё лучше и лучше, стал нисколько не хуже моих казаков и в бою, и в разведке, и психика моя настроилась теперь так, что одного сам бояться стал: как бы посеред Камышина, на улице, не выхватить мне шашку и не рубить направо и налево…
Большими, ставшими от страха темными, глазами смотрит мама на своего гостя:
— Бог с вами, да разве же это выход?
Катая хлебный шарик, отвечает он не сразу, глядя на нее в упор немигающим взглядом:
— Иногда хочется всё сломать, всё уничтожить, чтобы преступной бойне этой конец положить. То мы за Марну сотни тысяч голов кладем, то за Верден, то у итальянцев дела кривоносые, гоним на проволоку тысячи пахарей наших и гибнут они там, как куропатки, в снегу. И отдуваются гаврилычи наши, никогда в жизни про Марну эту и не слыхавшие. А что верхи наши делают? О Распутине, наверно, вы достаточно наслышаны. Что это, бабий сумасшедший мистицизм, идиотство муженька, сидящего под пантофелем, что это такое? А ведь Гришка до того дошел, что теперь министров сменяет. И весь Петербург полон самых грязных слухов. И доходят они к нам на фронт. И как вы думаете, чем все это кончится? Ведь так, если мы еще без патронов и снарядов выдержим, Гришка у нас в министры попадет.
Отец смотрит в одну точку на скатерти:
— А что же мы, мáлые, делать можем?
— Вы, мáлые, ничего, а мы — кое-что делаем.
— Много?
— Откровенно говоря — не особенно. Казачишки народец упорный. Воевать, так воевать. Ничем ты его не проймешь. В толки, слухи и разговорчики не верят. Ну да придет время, зальют им сала за шкуру побольше, вот тогда…
— И что тогда?
— Са ира!
— Ох, опять пятый год!
— Ну, теперь похлеще получится…
Перед уходом приносит Савелий Степанович из коридора что-то, завернутое в бумагу и передает Семёну, снова заикаясь:
— Это вам, п-подарок с ф-фронта…
Быстро развернув, видит он совершенно новую, блестящую, с красивым эфесом, австрийскую шашку. Вот роскошь-то! Какой все-таки он, Савелий Степанович, хороший!
Войдя в свою комнату, смотрит на ковер на стене, примериваясь куда бы повесить подарок. Сквозь щель приоткрытой двери заглядывает Мотька:
— А вы, панночку, забэрить ии на хутир. Будэтэ там з нэю цыплят ризаты!
И, исчезает, чертовка.
* * *
Подошел и Великий Пост. На столе только рыбные блюда, даже кислого молока нельзя есть, грех. Бублики можно, чай с вареньем, постную фасоль, взвар можно, рыбу, на постном масле жаренную. Церковные службы стали длиннее, вся их семья ходит говеть в училищную церковь.
На Великий Четверг удается ему донести свечу до дома горящей и сделать ею крест на притолоке. Подходит время к исповеди. Отец Николай сразу же накрыл голову его епитрахилью, наклонился к нему низко и тихо сказал:
— Поди, раздумывал ты над тем, что слышал в церкви, что говорилось, читалось и пелось. Должен ты и сам хорошо знать цель поста и значение исповеди. Ни о чем допрашивать тебя я не буду. Стоишь ты теперь перед Создателем твоим с сердцем отверзтым, и видит Он тебя всего, со всеми делами твоими и помышлениями. Вот и скажи ты Ему всё о себе сам, нелицемерно. А аз, недостойный иерей, властью мне данной, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих.
Отходя от священника, чувствуя в душе приближение глубокой, великой, радостной тайны, мысленно, про себя, читает он слова молитвы: «Днесь, Сыне Божий, причастника, мя, приими, да не врагам Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда…».
И чувствует непонятную, теплую, светлую, всю душу пронизывающую радость…
* * *
По глубокому снегу пришел он сегодня в церковь. Дела много — нужно всё приготовить к Заутрени. Раздуть угли для кадила, помочь отцу Николаю при облачении, привести в порядок всё, что ему для службы нужно. Отец дьякон, молодой, здоровый, краснолицый, с таким басом, что звенят окна церкви, когда взревет он многолетие директору, уже давно на месте. Не любит его Семён за легкий, животный его хохоток, когда он, отойдя после причастия в уголок алтаря, подмигнув одним глазом обоим прислужникам, крутнув в правой руке дароносицей с оставшимся в ней вином, выпивает всё из нее одним духом, гладя при этом себя по животу и урча: «Ох-хо-ххо! Во здравие и спасение!». Но проделывает это всегда с оглядкой: «Не дай Бог, увидит отец Николай». Тогда не поздоровилось бы ему. И поэтому сторонится его Семён.
Церковь наполняется медленно, нелегко это — идти зимой за город по сугробам темной ночью, в холод и ветер, держа путь меж далеко друг от друга стоящими, едва мерцающими фонарями. Сегодня улегся ветер к полуночи, высыпали звезды, и будто даже потеплело. Службу, как всегда, начал батюшка минута в минуту. Для крестного хода открыли и боковые двери. Входят в алтарь все те, кто понесет иконы, хоругви и кресты. Выстраиваются в строго заведенном порядке.
Быстро пройдя из алтаря в коридор за углями для кадила, путаясь в длинном стихаре, увидал Семён, что вся семья Мюллеров, протестантов, тоже пришла в их церковь. Удивился он этому, смутился, и несказанно обрадовался. Но поклонился с полным достоинством, как это служителю церкви и полагается. Тысячами огоньков ответили ему глаза Уши. Ох, и хороша же она сегодня!
Едва успел он вернуться, как открыл двери отец Николай, и дьякон, второй реалист-прислужник, за ними все несущие церковные регалии, хором молящиеся, двинулись к выходу.
Погода улучшилась, небо глубокое, синее до черноты, звезды горят и моргают, и переливаются, ну совсем так, как тогда, когда мчались они на тройке через Волгу. Ох, Господи, а не грех это сейчас такое вспоминать? Христос-то еще в гробу лежит. А где она? На повороте, когда крестный ход огибает здание церкви, оглядывается он украдкой и видит ее, такую серьезную, такую румяную, красивую, как ангел.
Перед закрытыми дверями церкви крестный ход останавливается. Но распахнулись двери храма, и радостное, торжествующее, бьющее восторгом от счастливой вести, что воскрес Христос из мертвых, несется пение к небу и хвалит Господа и Создателя, исполнившего надежды наши, давшего нам по нашей вере.
А в коридоре реального училища уже стоят рядами завернутые в белые салфетки куличи и пасхи. Скоро пойдут они их святить, и, может статься, увидит он снова Уши.
Кончилось, наконец, и освящение пасх. Быстро переодевшись, вылетает он в коридор, и видит своих родителей вместе с Мюллерами, ожидающих его у выхода. Первыми христосуются с ним мама и отец, а за ними и все остальные. Когда же подошла Уши, Семён теряется, скользит и целует не в щеки, как это полагается, а три раза прямо в губы. Нисколько не смутившись, будто это так и у них, у лютеран, полагается, отходит Уши в сторону. Лишь теперь узнаёт он, что Мюллеры идут к ним на разговенье.
Уши сидит за столом рядом с ним. Обязанность его угощать ее, ухаживать за ней, занимать ее, как даму. И всё он забывает, ничего вокруг себя и никого не видит, ничьих взглядов и улыбок на свой счет не замечает, и счастлив он снова, счастлив бесконечно. Уже совсем рассвело, когда, проводив гостей, остался он стоять у подъезда, глядя вслед Мюллерам.
* * *
И снова ехали от Камышина до хутора целый день. Устав с дороги, засидевшись за ужином, уснул Семён так крепко, что совсем поздно проснулся. Вставать надо, а то и царствие небесное проспать можно. Быстро схватившись, бежит в ванную, оттуда еще в столовую, и останавливается, как соляной столб: за круглым столом сидит дядя Воля. В легкой чесучевой рубахе с косым воротом, веселый и краснощекий, ставший еще крупнее и солиднее, чем раньше, с знаменитым своим чубом, как у какого-то лихого урядника. Широкоплечий, дышащий здоровьем и силой, сидит он рядом с тетей Верой, от счастья очень похорошевшей.
И у них есть для племянника подарки. Во-первых — совершенно новое венгерское седло, во-вторых — венгерский же кивер, в третьих — доломан, потом — патронташ, тускло поблескивающая сабля, и, наконец, чистенький, новенький австрийский кавалерийский карабин.
А дядя становится вдруг совсем серьезным:
— Вот, племяш, видишь, как всё в мире этом по-дурному идет? Шел он на войну, лейтенант венгерский, красовался на улицах Будапешта в полной своей форме вот на этом самом седельце, с этой вот шашечкой, кричал ему народ «ура» и махала Илонка белым своим платочком, слезами смоченным, и плясал под ним лихой его коник, и ни он сам, ни конь ничего плохого не предчувствовали, когда выгрузились они из вагонов, и тут же, сразу, должны были от казаков отбиваться. И скобленул его дончихой какой-то чубатый казачишка, да счастье его было, что коня его в этот момент убило, и полетел он на землю, падающему коню под ноги. Поэтому и промазал тот казачишка, удар пришелся лишь по киверу, наискосок, только ошеломил, а не срубил. Здорово, видно, Илонка та за своего лейтенанта молилась. И упал лейтенант на сыру землю и сознание потерял. А тут и насело на того чубатого казачишку двое — один улан, солдат, а другой офицер уланский. Улан всё пикой казачишку ковырнуть хотел, а офицер шашкой срубить норовил. Улан парень был здоровенный, конь под ним крепкий, вьются они с офицером вокруг того казачишки, жизни ему от них никакой нету. Порвал тот солдат пикой своей тому казачишке шинель пониже левого плеча, под мышкой, а офицер под правый погон шашкой попал, и рвет его прямо-таки дуром, того и гляди оторвет. А получил тот казачишка чин есаульский два дня тому назад и пришил ему вестовой новые погоны по-хозяйски, суровыми нитками, и никак тот новоиспеченный есаул вестовому своему на глаза явиться не может, ежели ему враги и супостаты погон попортят. Разве же это порядок? Ох и озлился же тот новоиспеченный есаул. Да что же вы, чёртовы венгерцы, не понимаете, что ли, что собственное казачье обмундирование никак рвать нельзя! Разве же вам не ясно, что империя Российская не имеет достаточно денег, чтобы казаков своих обуть-одеть могла? Рази же вы не знаете, что всё казачье шильце-мыльце в копеечку нам стало? Разве же вам не жалко бедных казачишек раздевать-разувать? И эх, так тогда не серчайте же, коли что вам не по нраву придется. Кинул тот казачишка шашку в левую руку, хватил наган из кобуры, да тому солдату с пикой промеж бровей пулю — н-на! Носи на здоровье! Так тот с коня своего и жмякнулся. А офицер никак не отстает. Ах, думает тот казачишка, бросим мы шутки шутить. Да как кинул он шашку свою обратно в руку правую, да, привстав на стремянах, саданул того толстого по правому плечу, да так и развернул его, как свиную тушу, на две части. Ух и повеселела же после того его шашечка. А тот молодой лейтенант, слава Богу, большой беды с ним не случилось, очнулся, сидит на земле, глядит вокруг себя и головой кружит, видно, зашиб его казачишка тот здорово. Подобрали его санитары, и пошел он в плен пешака, а всё снаряжение казачишке тому досталось. И решил он: повезу-ка я всё это на тихий Дон-батюшку, да отдам племяннику своему, нехай он вражеское оружие оглядит и обнюхает, нехай поймет и войну, и жизнь человеческую…
А бабушка — ничего она толком не слышит из того, что самый младший сын ее рассказывает. Привыкла она к этим рассказам, пускает их мимо ушей, а лишь смотрит, не отрываясь от милого лица, слышит лишь музыку голоса, да вспоминает тот день, когда голос этот в первый раз она из колыски услыхала. И алмазами горят сияющие радостью и счастьем, полные слёз, старые глаза ее.
— Волюшка, Воля, да ты, может быть, курятинки жареной? А? Тебе чайку али кофею налить, что боле в охотку? Да што ты, Сергей, нюни распустил, может быть, служивый наш чего другого выпить хочет. Не грех это для радости свидания.
И следит довольным взором за тем, как, съев три яйца всмятку, тянется дядя Воля к четвертому. Ну, слава Богу, значит, в добром он здоровье.
* * *
Скинув ботинки, засучив штаны, свистнув Жако, ежась от непривычки бегать босиком, вместе с неразлучным фокстерьером несется Семён в Разуваев…
Первым в Разуваеве повстречался Саша, внук дедушкиного друга Гаврил Софроныча. Вдвоем они быстро отыскали Мишатку, Пашу, Митьку и Петьку. Теперь можно отправиться на излюбленное место, там, в конце хутора, под вербами. Опустив ноги в канаву, рассаживаются все друг возле дружки и первым начинает Митька:
— Ты, Семён, не серчай, я долго оставаться не могу, видал ты: ось я в траву кинул, мне ее деду Явланпию отнесть надо. Им завтрева в луга ехать.
— А ты что, за коваля, что-ли?
— Да сколько от отца научилси — делаю. Ну не всё!
Петька смотрит на дружка своего с гордостью и прибавляет:
— Не всё, а пошти што. Гярой он у нас! Кабы не он — пропал бы хутор без коваля. Есть тут два-три старика, которые, вроде, чавойсь-то смыслють, да поки они раз повернутся, а Минька уж готовый. Здорово он насобачился. Отец яму с фронту писал, што гостинцев за это привезеть, когда на побывку приедить. Тольки вот вопрос — когда?
Соглашается и Саша:
— И ишо какой вопрос! На фронте, там не балуются. Бьють наших немцы с антилерии, аж земля гудеть.
— А наши?
— А наши тольки по одному снаряду в день пушшають, говорясь, што все, как есть, снаряды царица с Распутиным в кабаке пропила.
Семён злится:
— Ну что ты за ерунду говоришь, какие глупости…
Казачата набрасываются на него всей компанией:
— А ты зря не заступайси. Нам наши всё, как есть, с фронту пишуть.
— Ты думаешь дурные мы, ничаво не знаем?
— И ишо как попропивала! Вон винтовок, и тех, не хватаить. Пяхота наша с палками в атаку ходить.
— И побили их, пяхотних, видимо-невидимо. Немец, энтот всё гранатами норовить. Вон папаня мой отписывал, што немецкая интиллерия по нашим одиночкам гранаты и шрапнели пушшаить. А наши, когда пяхота на «ура» подымаится, пальнуть раз-два, и закусывать садятся, всё одно — стрелять нечем.
— А почему же это так?
— А што ж ня знаишь ты, што ля, што все, как есть, министры наши немецкие шпиены? Вон полковника Мясоедина возьми, так энтот все, как есть, планты наши военные немцу за деньги продал. Пымали яво в кабаке как раз в тот момент, как он от немецких гиняралов золотые получал. И тут же яво на перьвой осине повесили. Тольки поздно было: немцы, как тольки те наши планты поглядели, враз сто тыщ наших побили.
— Ну это уж слишком!
— Вот те и слишком! Кто тольки с фронту не пишись, все в один голос: патронов, и тех, нету. Военный министр Сухомлин сам ночью ходить, станки по заводам портить, энти, што патроны льють. Вот наши казаки и думають: загонять передпоследний патрон в ствол, ай лучше спробовать того немца шашкой достать? А как ты яво достанешь, когда он за проволокой сидить, а проволока энта в семь разов толшше нашей.
— А вон дядя мой вчера с фронту пришел, иначе он рассказывает.
Захлебываясь и торопясь, передает Семён всё, что слыхал утром от дяди Воли.
Глаза казачат разгораются:
— Тю, да ты не бряши!
— И всправди? Айда, рябяты, трахвеи глядеть!
Дядя Воля, соснувший после обеда на полсти под вишней, вдруг окружен гурьбой казачат. Первым осмеливается Мишатка:
— А правда ето, што вы трех австрияков зарубали?
Дядя трет глаза, просит принести ему кваску и смеется:
— Ежели правду говорить, то вовсе не трех, а с начала войны шестерых я зарубил. Скольких пулей ссадил, не знаю, думаю, что побольше будет. А что?
— Расскажитя нам всё, как есть, тольки чур — без бряхни!
Усевшись поудобнее на полсти и охватив руками колени, стесненный прилипшими к нему казачатами, не спускающими с него горящих от нетерпения глаз и слушающих его затаив дыхание, рассказывает дядя о том, как надо рубить баклановским ударом, с потягом, обещает прийти в Разуваев, там, в Правлении, есть штук пяток старых пик, покажет он им все приемы. Объясняет им, как это могло случиться, что казак Крючков один шестнадцать немецких улан поколол, перерубил и переранил, несмотря на то, что сам весь, как есть, исколот был, а и конь его двенадцать ран получил. Долго бы дядя Воля рассказывал, да испортила всё тетя Вера — молча увела в дом. Мишатка нахмурился и коротко резюмировал:
— А хто с бабами свяжется, плохой с того казак будить!
Размявшись от долгого сидения, отправляются все снова в Разуваев, и решает Семён зайти к тетке Анне Петровне, надо же ему ей показаться. Калитка широко открыта, собак тетка не держит, войти лучше всего через то самое крыльцо, через которое сбежал он когда-то, а сейчас, прокравшись в бывшую его комнату, испугать тетку внезапным появлением. Вот смеху-то будет!
Пробравшись в комнату, видит он сквозь неплотно прикрытую дверь слабый свет керосиновой лампы и слышит теткин голос:
— Говорю табе, и трех дней не пройдеть, как заявится этот трефовый король к тебе в курень. А до этого получишь ты письмо из казенного дома, а в нем — денежный антирес. А перед трефовым королем твоим дальняя дорога ляжить и радость яму большая стоить. Вот, хучь сама в карты глянь.
Всё услышанное донельзя озадачивает Семёна, да с каких же это пор тетка его бабкой-ворожкой стала?
Встает теткина собеседница, что-то они обе негромко говорят, видно, прощаются, тетка за что-то благодарит, дверь хлопает, но немного спустя снова скрипит, и какой-то мужчина, судя по голосу, совсем в летах, входит, здоровается и садится.
И снова слышен голос тетки:
— Вот табе, гляди: завтри же, на заре, ланпадку зажги, перед ней «Отчу» сзаду наперед три раза прочти, и посля того, тоже задом наперед, из куреня твово выйди. Иди на баз и там стакан вот этого настою, на восток обернувшись, натошшак выпей. А как выпьешь яво, три раза на левую сторону плюнь, да никак при том круг сибе не оглядывайся, а то никакого действия настой тот не поимеить. Да гляди — на водке он, крепкий, ну да ты-то привышный…
«Ну и тетка, не только ворожея, а и бабкой-шептухой стала. Ох, Бог с ней, пойду-ка я лучше, от греха, тоже задом наперед из куреня, а то и мне она какого-нибудь зелья даст или письмо из казенного дома…».
* * *
Кухарка протащила беснующийся самовар, Мотька носился, заставляя стол чайной посудой, банками, блюдами и блюдцами, тарелками и тарелочками, стаканами и рюмками. Пришла и бабушка. Мама села разливать чай и споласкивать чашки и стаканы, а отцу и гостям сразу же дали по полотенцу, время-то летнее, тепло, чай горячий, распаривает, солнце печет, без полотенца тут никак не обойтись.
Мельница шумит тихо, миллионы брызг, летящих из желобов и колес, приятно холодят. Какие-то насекомые непрестанно проносятся под самыми носами, пытаются засесть в блюдца с вареньем, улетают недовольные или кончают веселым самоубийством, жмякнувшись в банку с медом. Живность во дворе не кудахтает, не кукарекает, не гомонит, а либо лежит в песке и пыли, либо плавает в канаве, либо роется молча в навозе.
Мир на хуторе. Тепло, хорошо. Солнце под вишней не так одолевает, да и заходит оно уже за крышу дома, вот тогда и вовсе приятно станет.
Старший Задокин просит дать ему нюхнуть из чайника, приподнимает на мгновение крышку и от удовольствия закрывает глаза:
— А вы, Сергей Алексеевич, по старой привычке, китайским балуетесь?
— Да, цейлонский не очень я люблю. Китайский, как сами вы знаете, по сей день караванами к нам идет. Дух у него совсем иной, сами чувствуете.
— Что и говорить, такой чай за семь верст слыхать.
Чайник и чашки фарфоровые, других знатокам чаепития и подавать нельзя. Внутри они белые должны быть, чтобы не только чая вкус чувствовать, но и цвету его радоваться. Лишь по ободку таких чашек дозволяется тонкая золотая кромка. Отец пьет из стакана с подстаканником, модно это стало, тяжелый он, серебряный, обжигает здорово. Но и это — на любителя. Братья Задокины наливают чай из чашек в блюдца и тянут его истово, с понятием. Сахар колотый, от верхушки сахарной головы, откусишь от него кусочек, чайку потянешь, Господи, благодать-то какая! Тут если уж о чем и побеседовать, то только разве об архиереях или удивительных изобретениях, чтобы пустым разглагольствованием душевного равновесия не нарушить. Лимон — не уважают. Кислоту, верно, это дает он, но цвет чая во-взят портит. Разве же такое может человек понимающий допустить? Вот вареньица взять, это можно. Наталья Ивановна — сроду она мастерица, об ее вареньях вся губерния хорошо наслышана.
После трех самоваров и шести смененных полотенец, когда со стола давно все убрано было, а солнце уже вовсе низко к горизонту спустилось, долго еще сидели гости молча, слушали шум мельницы, замирающее чириканье воробьев и прочей летающей твари Божией. Господь-то жизнь эту на радость нам устроил или нет? Ну, то-то!
О мирских делах разговор заводится лишь после ужина, в гостиной, под лампой с зеленым абажуром, с открытыми настежь окнами с вставленными в них сетками от настырной мошкары.
— И вот, Сергей Алексеевич, приехали мы к вам по тому же самому дельцу, по которому в прошлом году заявлялись. А ты, браток, вынь-кас портфель, да на стол положь, зараз мы с господином есаулом полный расчет произведем.
Старший Задокин лезет глубоко в карман, вынимает маленький ключик на цепочке, тянет к себе запертый круглым навесным замком портфель, отпирает его, почему-то дует в ключик, кладет его снова в карман и начинает вынимать из портфеля толстые пачки кредитных билетов, крепко перевязанные шпагатом. Загрузив весь стол деньгами, старший Задокин обращается к отцу.
— Дали вы нам в прошлом годе двадцать тыщ рублей, вот они, перечтите.
Быстро отсчитав двадцать пачек, придвигает их Задокин к отцу. Отец тоже считает все пачки, берет наугад одну из середины и пересчитывает сотенные билеты. Правильно, десять штук. Оба брата внимательно следят за его действиями и, когда отец складывает все пачки в кучу, наклоняются, как по команде:
— А мы вас дюже просим, ежели не все, то хучь ишо разок какую пачечку проверить. Денежки счет любят.
— А скажите вы мне, — отец говорит совершенно серьезно, — много на вас весу прибавится, ежели вы меня обсчитаете?
И так же серьезно отвечают братья Задокины:
— Премного вас за доверие благодарим, ну, не того мы сорту люди, штоб жиру набирать, а совесть терять. А теперь-ка, был у нас уговор, обещались мы заработок наш наравне с вами, по совести, считать, он у нас не полтину на рупь, а рупь на рупь вышел. Вот, тетрадка у нас, возьмите, гляньтя, в ней всё, как есть, позаписано: и сколько голов скота куплено, и почем, и сколько довезли и сдали, и сколько подохло, и почем мы живой вес продавали, и кому и каких барашков в бумажке давать приходилось, всё, как есть, там позаписано.
Отец взглядывает сначала на тетрадку, потом на обоих братьев поочередно и так же серьезно спрашивает:
— А был у нас такой уговор, что должен я все ваши счета проверять?
— Не было такого уговору.
— Так о чем же разговор?
Младший Задокин прячет тетрадку в портфель, а старший придвигает деньги отцу.
— Вот они, Сергей Алексеевич, десять тысяч сорок шесть рублёв, тридцать копеек, ваша часть. Заработки, как сами видите, дуром нам в карманы лезли. Время военное, наш товар люди с руками отрывают. А особенно ежели человек с интендантсвом в согласии хорошем. Золотое дно… только вот, в народе, ох, беда…
— Что, недовольны?
Братья переглядываются, старший аккуратно приглаживает усы специальной щеточкой, прячет ее в боковой карман, вскидывает глаза на отца:
— Всё, как есть, как на духу, рассказать?
— Конечно же!
— Так вот слухайте, как дела идут: перьвое, и самое главное — пошел наш народ на войну не потому, что ему сербов тех дюже жалко было, а в привычке у него исполнять всё то, што начальство ему велит. Да, признаться, и поверили мы во всё, что нам толковали. Зайдут сперьва наши в Берлин, потом, рукой там до Вены подать — и ее заберут. А как Вена сдастся, так и замирение выйдет. И сроку тому от силы шесть месяцев. Ан, когда на поверку дело: совсем всё по-иному повернулось. Куда наши не кинутся — скрозь им морду бьют. В кровь. А ежели где и подфартит, погонят наши немца, ан опять назад уходить надо, держать нечем, оружия нет. Вот и переводят на фронте народ наш дуром. А тут еще, хошь не хошь, всех кормить надо. Вот и требуется нашему интенданству в год примером пять миллионов голов скота. А и остальное население тоже веселей мясцо жрать зачало: несмотря што солдаты на войну ушли, требуется для тылу девять миллионов голов. А прирост скотиний никак у нас не увеличивается, и, выходит, как ни прикидывай, недостача у нас в скоте не меньше восьми миллионов голов в год. А што со скотинкой этой при транспорте творится, страсть и рассказывать. И куда не сунься, все какие-то растерянные, безголовые, ни тебе организации, ни порядка. Скот в вагонах с голоду дохнет, мороженое мясо только зимой везти можем, а как потеплело, так и зарывают его в землю — попортилось. И учета всему добру этому никакого нет, и каждый на собственный страх и риск действует. И с консервными фабриками у нас беда. Решили, было, солониной заняться, да грузят ее в вагоны в бочках рядами, одна на одну, как этажи, складають. А бочки, те течь дают, и пропала тогда солонина либо во-взят, либо на три четверти. А с консервами оттого ничего не вышло, что по всей России-матушке нигде жести для консервных банок нету. Вот, как сами понимаете, и полезли цены на скотину в гору, да так, што то, што вчера рупь стоило, ноне и за трешницу не возьмешь. А дороги железные до того забиты, што лекше на транвайный билет миллион выиграть, чем состав под груз получить. А добра у нас в Сибири скольки хотишь, да пойди, вывези его из-за Урала! Да ни в жисть! Сибирский великий путь с перевозками не справляется, и точка. И куда ни кинься, скрозь, как в сумасшедшем доме. Хозяина у нас нету. Глаза настоящаго. Порядка нигде не жди. Вон и железа теперь нигде не взять, а мужику от этого — што хочь караул кричи. Ни тебе борон, ни тебе плугов, ни косилок, ни молотилок. Фабрики на войну работают, некогда им о крестьянской нужде думать. А ить надо бы было — так мы, мужики, думаем, коли уж воевать взялись, о всём наперед подумать. Как тот хороший хозяин перед севом задумывается, чего и сколько ему для дела его надо будеть. Вот и подставляют теперь у нас один другому ножку, один у другого суму из рук рвёть. И уж теперича до того дошли, што посеву по России на двадцать процентов мене против прежняго, а у нас, у казаков, и вовсе, аж на половину упало. Бабы с мальчатами да старики остались, столетные старики и те понаучились теперь за быками вприпрыжку бегать! Признаться сказать, душа боле не лежит, руки опускаются, а всё боле оттого, его в народе, што ни день, то и разговору больше. А тут еще письма солдатские. Эх, зазря народ там наш гибнет. Поди, и сами слыхали, как у нас с вооружением дело проворонили? Срамота и говорить. А пойдешь где в городе на праздник в церкву, глянешь на начальство да на полицейских, стоять все, морды понаели, как деревянные истуканы, медалями поувешаны, будто и не касается их, што ихний же народ пропадает… Знаете вы, Сергей Алексеевич, што люди мы из простого звания, из крестьянства вышли, папаша наш в Липовке, почитай, последним мужичонкой был, ну, вырастил нас, взялись мы за дело дружно, работали не хуже казаков: казак на быка, а бык на казака, — и вышли в люди. Деньжата у нас теперь такие, што, почитай, любого помещика в уезде вместе с потрохами его купим, а вот, как нагляделись всего, не лежит больше сердце наше ни к чему, и готово. Руки опускаются. И задаем мы себе вопросик: а што, да как не справится власть наша с немцем, што, ежели какая заковыка выйдет? Ить тогда не только вы — помещики-дворяне, а и мы пропадем. И нас с вами в землю затолокуть. А за что? Да за то, что те, кто у нас на верхах сидит, двум свиньям корму дать не умеют…
Да, а помните мы, дураки, просили вас тогда золотцем нас не отягчать?
— Конечно, помню, сам всё государству отдал.
— То-то вот и оно! Теперь золотца того рад бы получить, да как раз по нас отрезало. Папаша наш, знаем мы, кубышку одну на гумне зарыл. Думает, мы не знаем… хитрый он у нас старик, далеко вперед глядит. Мы бы и вам советовали, на всякий пожарный случай што-ништо закопать. А пришла нуждишка — ан вот оно, золотце, оно не протухнет, Сергей Алексеевич!
* * *
Послезавтра уезжает дядя опять на фронт. Никто его много не видал, всё он дома с тетей Верой отсиживался. Только раза два, захватив тетю Агнюшу с Мусей, Валей и Шурой, все вместе, заезжали за Семёном, седлал он Маруську и отправлялись они через Середний Колок к дяде Андрею, потом к Петру, спускались речкой почти до Клиновки, перебредали ее, выбивались на бугор, держали далеко выше Разуваева, делали привал в степи, под вечер сворачивали к тетке Анне, чай у нее пили, вот и всё. И сегодня — последний ужин вместе. Прошел он весело, будто никакого расставания и не предстоит, потому что мужчины объявили, что распускание нюней указом императора всероссийского строжайше запрещено. Ни вздохов, ни охов — ничего никому не разрешается подобного. Сегодня и пить будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем. И кончено, баста! Хоть и цыганской это песни слова, да мудрость в них большая. И спать расходились лишь после того, как кочета прокукарекали.
А после обеда собрались опять все в столовой, еще раз обо всем потолковать. Окна в доме широко раскрыты, видно приехавших на мельницу казачек, пшеницу молоть привезли, а вон и хохлачья подвода, тоже баба правит, а вчера из Клиновки один старый дед пшено привез, что, хочь плачь с ним, хоть смейся, не только Миките пришлось самому мешки его таскать, а и того деда едва с подводы сняли. Свело ему ноги ревматизмом, выкрутило в разные стороны, едва его в помольную хату тот же Микита на руках принес. И на лавке сидеть приспособил. Стоял над ним, чесал затылок и дивовался:
— Скажи ж ты мини, возывся я з тобою з пивчаса, як я тэбэ з пидводы сымав. А як же ты на той виз твий зализ? Хиба ж тэбэ усэ сэло туды тягнуло, чи що?
Мельница шумит спокойно, тихо плывут по небу совсем легкие облака, день безветреный, тепло. Кагакают гуси и утки, постоянно страшно чему-то удивляются и возмущаются индюки, беззаботно распевают несложные песенки свои копающиеся в навозе куры…
Долго молчавший дядя Воля взглядывает на отца:
— Видишь, Сережа, одно дело, когда идешь ты на рыбальство со всей, как есть, снастью в полном порядке, а вовсе другое, когда крючки твои из булавок, настоящей насадки нет, удилища поломаны, шнурки рвутся, штаны и сапоги драные. Вот так и на фронте у нас. Понимают всё казачишки мои, не малые детишки. Приеду я в сотню, приду в конюшни, поздороваюсь, скомандуют мне и ответят и лихо, и весело, а что они думают, как себя чувствуют, ни я их спросить не могу, ни они мне правдой не ответят. Давно уже приметил я, сдержанней они стали, вроде о всем передумали, и, к каким-то выводам прийдя, в себя замкнулись. Раньше, как только свободней немного, вот и идет кто-нибудь из сотни, то ему про кайзера расскажи, то присоветуй, продать ли ему телку, о которой жена ему пишет, то еще что-нибудь. Был я у них старший брат, в офицерских погонах, лишь для того, чтобы знать, кто в бою командует и вообще в сотне за порядком следить. Вот и всё. А теперь — иначе пошло. Службу они и дальше без сучка-задоринки выполняют, что ни прикажу, всё отчетливо сделано, только какая-то невидимая стена меж нами выросла. Нет тех веселых шуточек, нет того и совместного пения, как раньше. Постепенно пропадает то, что нас от русской кавалерии отличало. Раньше были мы, офицер и рядовой казак, братья родные, офицер старший, а казак — младший. А у русских — начальство и нижний чин. Вот это теперь и у нас вырастает, не потому, что мы, офицеры, зазнались, нет, а потому, что все неудачи, все недостатки сверху идут. От тех, чьи мы, в глазах казаков, представители. И что бы не случилось, всегда должны мы казакам пилюли золотить. Не робей, мол, погоди, вот подвезут, пришлют, выдадут, а ты одно знай — подставляй лоб свой и молчи. Вот и стали казаки наши тоже отмалчиваться, а, боюсь я, что если заговорят они, вовсе всё по-новому будет. Началось всё, как сами знаете, неудачей нашей в Восточной Пруссии. Правда, выровняли мы всё немного, взяв Перемышль, а в нем сто тридцать пять тысяч пленных. И на Кавказе, у Сарыкамыша, здорово туркам наклали, вроде как компенсировали поражение Десятой армии во втором сражении в Мазурских болотах и окружение Двадцатого корпуса в Августовских лесах. А за это время израсходовали все запасы наши и нечем стрелять нам стало. И знали это немцы прекрасно, как знали они и то, что никогда не кинутся союзнички наши спасать нас так, как мы их в четырнадцатом году выручали. Вначале было восемьдесят процентов немецких сил боевых на Западе, а теперь сорок процентов их дивизий стоит против нас. Правда, выступила Италия, да на нее одной Австрии хватает. А как у нас дело идет, вот вам примерчик: ударил Макензен на десятый корпус Третьей армии, имея более двухсот тяжелых орудий, не считая легкой артиллерии, а у нас во всей Третьей армии на двухсотверстном фронте всего четыре пушки, причем, одна из них в самом начале от изношенности лопнула. А идут немцы так: подводят войска свои к нашим окопам безнаказанно, нашим артиллеристам всё одно стрелять нечем, да и пушек у них нет. И начинают тогда немцы из тяжелой артиллерии так гвоздить, что смешают у нас всё живущее. Потом пехота ихняя занимает наши, разбитые вдребезги, окопы, хоронит тысячи наших убитых, укрепляет наши линии для себя, а в это время ихняя артиллерия бьет по нашим тылам, не давая нам возможности и носа высунуть. А когда окончательно закрепилась пехота немецкая на бывших наших позициях, снова тогда ихняя тяжелая артиллерия подходит поближе, и опять ураганный огонь по нашей пехоте. А наши в день максимум по пятьдесять выстрелов делают. Снарядов нету. Так вот и прошел Макензен всю Галицию, до самого Перемышля дошел, да еще на Люблин-Холм повернул. И в это же самое время перешли немцы в наступление и в Восточной Пруссии. И пошли мы отступать. Да как! Сдали крепость Новогеоргиевск, сдали Ковно, очистили Иван-город, Гродно, Брест-Литовск. И потеряли за это время, не больше и не меньше, как один миллион четыреста тысяч убитыми и ранеными, то есть в месяц по двести тридцать тысяч человек. Сколько это в день-то приходится, а ну-ка, Семён, раздели:
— Семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть.
— Что? В самом деле? Постой-постой, ага, здорово, апокалиптическое число получилось! Чёрт побери. Да, действительно, кажется, подходит время, когда примчится всадник бледный, или как там в Апокалипсисе написано. Только, как я думаю, всадник-то красный появится, вот чего нам бояться надо. Ах да, а пленных за это время потеряли мы один миллион. По сто шестьдесят тысяч в месяц сдавалось пехоты нашей. Вот и задумались наши гениальные стратеги, что же им делать: оборонять Польшу, и потерять всю армию, или отдать Польшу немцам, а армию сохранить? И решили идти в отступление. И кинулись драпать, всё бросая, сдавая, оставляя. И поползли слухи об измене. И растерялось наше начальство, и, найдя козла отпущения, повесило полковника Мясоедова, якобы, за шпионаж в пользу немцев. А был он таким немецким шпионом, как ваша стряпуха Агафья. А солдатики наши прямо заявлять стали, что нет никакого смысла драться, и домой панические письма писать стали. Фронт отступает, сдается, драпает, а в тылу — паника. В армии к офицерам недоверие, слухи один другого хлеще, подходящие подкрепления ни о чём ином не думают, лишь как бы сдаться, а немцы и дальше всё орудийным огнем перепахивают. И в войсках чуть ли не до массовых галлюцинаций доходит. Многие у нас клялись и божились, что самолично видели японскую пехоту, пришедшую нам в помощь. Бред, отчаяние, паника. А чтобы делу помочь, что ты думаешь, какой вопросик рассматривает Дума наша на заседаниях своих: военного министра повесить или как? Да ничего подобного — рассуждают о том, как сообщить солдатам, чтобы никак они злым немцам в плен не сдавались, а нето здорово им попадет, когда они из плена вернутся. А новый министр на весь мир заявил, что отечество наше в опасности. Сухомлинова, знаешь сам, слава Богу, убрали. А почему же драгоценное отечество наше в опасности? Да потому, что прут немцы в трех направлениях сразу: на Петербург, на Москву и на Киев. Да слушки у нас пошли, что Николая Николаевича уберут.
— Этого еще не хватало!
Дядя Воля как-то странно взглядывает на собеседников и пожимает плечами:
— И опять легенда! Правда, в армии его боготворят, что только о нем не рассказывают. И как он в Варшаве чуть не тысячу пьянствовавших офицеров из кабаков разогнал, и как на каком-то мосту панику прекратил, и на письмо Распутина ответил, будто бы просил тот разрешения на фронт приехать, — «Приезжай, повешу». И чего только не говорят. А одно точно: из Ставки шагу он никуда не делает, ни на каких фронтах не бывал, сидит и супружнице своей в Киев письма строчит. Правда — против Гришки он, но слова об этом царю сказать — не смеет. За все время только один единственный раз покинул Ставку. Какая-то Сибирская дивизия на фронт пришла, приободрить он ее отправился, чтобы веселей сдавались. И там у него казус вышел: поцеловал он в восторге какого-то лихого барабанщика, а барабанщик тот евреем оказался. Вот теперь у царя и вовсе против него, особенно царица: гляди-ка, Ники своему скажет, великий князь, главнокомандующий, с жидами целуется! Скандал! И уверен я теперь, что уберут его обязательно. Впрочем, на деле всё равно это не отразится, суть ни в нем, а в начальнике штаба. И если лихой наш Николаша, государь наш и император, сам в главнокомандующие полезет, и снабжения, и тыла не наладит, да будут нас немцы так же колотить, как и раньше, пропал тогда и он, и мы все с ним. Разговорчики пошли, что диктатор нам нужен, сказали это царю, а он после долгого молчания пожелание выразил, чтобы все проявили напряжение всех своих сил. И те, кто дезертирует, и те, кто сдается немцам, и Гришка Распутин в банях с дамами, фу, чёрт, противно и рассказывать. Словом, коротко говоря, хаос у нас полный.
Дядя Андрюша смотрит перед собой, будто думает совсем о чем-то постороннем:
— Что же они, мерзавцы, думают?
— Думают? Не в привычку им это. Знаешь, как говорится, попробовал один индюк думать, да сдох от непривычки. Тут людей дела надо.
— А есть такие?
Дядя Андрюша вдруг выпаливает:
— Прохвосты! Дождемся мы, что они нам Гришку в министры посадят!
* * *
На мельницу пришла тёти Агнюшина подвода, два пленных австрийца сносят мешки и тащат их наверх к ковшам. Гарцев с тетки не берут, такой уж у них родственный уговор. Один из австрийцев, длинный, с жидкими рыжими усами, в потертой, во многих местах залатанной форме пехотинца, но с лихо заброшенной на затылок кепи, худ и жилист, ни на кого не смотрит и хмурится. Видно, сердитый. Говорят, что он из какого-то Тироля, это где-то там, где Альпы начинаются, на краю света. Другой же, звать его Эммануил, или, как его все на хуторе называют Мануил, среднего роста, краснощекий, тщательно выбритый, военной формы не носит, на нем новые брюки и русская рубаха-косоворотка, подпоясанная кажаным ремешком, волосы зачесаны аккуратно, с пробором посередине, обувка на нем ладная, тоже вовсе не австрийская, откуда он всё это подоставал? Говорит, что чех он, из города Ихлавы, и что всем славянам надо держаться вместе. Вспоминая рассказы Ивана Прокофьевича о панславизме, присматриваемся Семён к Эммануилу получше, и, несмотря на братскую славянскую кровь, особых симпатий к нему не чувствует. Уж какой-то слишком юркий и прилизанный, впрочем, нехорошо так думать, чем он виноват, что забрал его Франц-Иосиф и погнал против казаков воевать. Пусть радуется, что не убило его, а в плен попал и цел-невредим работает у тети Агнюши. Рассказывал он, что служил в Праге, в каком-то страховом обществе, чиновником. Бог его знает, все они рассказывают, что были там, в Австрии, то графами, то баронами, а глянешь на руки и сразу всё видно. У всех почти, как хорошие грабли. Вон Франц — тот другое дело, сразу сказал, что крестьянствовал, и показал, что мастер он со скотиной обходиться, тетя Агнюша ему и соответствующую работу дала. Только больно уж он сердитый, всё ему фердаммт, одно знает — ругается, зато к скотине совсем по-хорошему, в этом деле зажмуркой ему доверять можно. Так и на мельнице о нем говорят. А как окончит свою работу, так и вытаскивает свою трубку, длинную, разрисованную, с вишневым мундштуком, набивает ее махоркой, выругается, что в этой фер-флюхте Русслянд приличного табаку достать нельзя, засядет после ужина где-нибудь от людей подальше, пускает, как паровоз, дым клубами, и одно знает — молчит. Пригляделись к нему на хуторе, и порешили: чего его трогать, ну и пускай. Работу свою делает чисто, по-хозяйски, а что мы ему не нравимся, ну и шут с ним, то-то он нам нравится!
Вот Мануил, тот совсем другое дело. Только и знает, что песенки свои поет. По-русски уже совсем хорошо насобачился, и вообще парень смышленый, на все руки мастер, куда его не пошли, всё спроворит, тетка Агнюша не нарадуется, что такого работника получила. И что самое главное: в лошадях он хорошо разбирается, Валя рассказывал, что он с ним каждое воскресенье верхом кататься ездит.
После обеда отправляется Семён в Разуваев, под вербами у выгона снова собирается вся его компания и ведут, не хуже дедов, разговор о войне, о конях, об урожае.
— Слышь, Семён, а скольки времени у тетки твоей австриец энтот, Мануил, работает? — неожиданно спрашивает Петька.
— Толком я не знаю, с весны, а что?
— Да то, что за пять-шесть месяцев большая яму повышения вышла.
— Какое повышение?
Ребятишки переглядываются, никто ничего не говорит, только тот же Петька заканчивает разговор решительно и безапеляционно:
— А такая повышения, што выйдет он табе в дядья.
— Что за ерунда, в какие дядья?
— А ты приглядись получшей, вот и сам поймешь. У нас в хуторе народ по-разному говорить зачал.
— Как это — по-разному говорить? Ничего я не понимаю!
— А ты и не понимай, Мануил, энтот понял, што тетке твоей надо.
Петька поднимаемся, домой ему пора, в хозяйстве у них неуправка. Семён решает сходить к Мусе, может быть, она ему что объяснит.
На другой день, когда в полдень все отдыхают, отправляется он на хутор тети Агнюши и находит Мусю в беседке. Сидит она с книжкой в руках и смотрит, не сводя глаз, на амбары. Смотрит туда же и Семён, ничего особенного не видит, но вот открываются вдруг двери одного из них и, поправляя на ходу прическу, выходит на порог тетя Агнюша, она чему-то улыбается, и вдруг, подпрыгнув, бежит через двор к дому и исчезает на кухне. Муся по-прежнему не сводит глаз с амбара, смотрит и он туда же, и видит Эммануила, как, одергивая рубашку и стряхивая пыль с брюк, появляется тот в дверях. Что они, когда весь хутор отдыхает, вздумали в амбаре делать? Быстро и неслышно подкравшись к Мусе, трогает он ее за плечо поднятой с земли хворостинкой:
— Фу, как напугал! Что ты тут шляешься? — сердится она.
— Вовсе я не шляюсь, я так, к тебе зашел, посмотреть…
— Что посмотреть?
— Да всех вас, где Валя и Шура?
— А я почем знаю.
— Ты что такая сердитая? — Семён нерешительно садится рядом с Мусей.
— И вовсе я не сердитая, это так…
— Только так? Ну хорошо. Слышь, Муся, я в Разуваев ходил…
— Ты туда чуть не каждый день мотаешься.
— Однако у тебя и разговор, то шляешься, то мотаешься. Где это ты научилась?
— Тут всему научишься.
Опустив голову, вертит она в руках книгу.
— Что у тебя за книга?
— Хорошая.
Семён встает. Что с этой злюкой зря время терять.
— Я пошел, а ты сиди и злись дальше.
Лицо Муси меняемся. Ясно видно, что вот-вот она заплачет. Знает что-то, да сказать не хочет, не решается. Положив ей руку на плечо, спрашивает он ее совсем тихо:
— В чем дело, Муся, что с тобой?
Опустив совсем низко голову, отвечает она еще тише:
— Я из дома убегу.
— Почему? Куда убежишь?
— Куда глаза глядят.
— Да скажи же мне, что тут творится?
Муся долго молчит, тяжело дышит:
— Видел маму и этого…
— Ну видел, так что же?
— Господи, какой ты глупый! Да ведь вся наша прислуга, все рабочие об этом говорят.
— О чем говорят?
Слова Муси можно, скорее, угадать, чем разобрать:
— Что поженятся они, и еще всякие гадости рассказывают!
— Не надо, не надо, не плачь…
— Как ей не стыдно! Уйду я отсюда, такой мне мамы не надо. И Шура, и Валя уйдут, мы уже договорились, — опустив голову на руки, Муся судорожно плачет.
— Да куда же вы уйдете?
— А вон, в Середний Колок. Построим там землянку и будем в ней жить, вот! Поможешь нам землянку строить?
— Конечно же, помогу!
— Подожди-ка меня одну минутку.
Муся исчезает. Боже мой, не сошла ли тетя с ума? Зачем ей этот австриец? Они там в наших стреляют, они брата Аристарха убили, а она с ним в амбар ходит…
В беседку вбегают Муся, Шура и Валя. Быстро о всём переговорив, решают они строить землянку завтра. Семён приведет в помощь Мишку. Лопатки у них есть. И топор захватят. Когда собирается Семён уходить, Муся шепчет ему:
— Я ее ненавижу, видеть ее не могу!
Только Валя все время молчал, кивал лишь головой, когда его о чем-либо спрашивали, но, судя по выражению его лица, покинет он родительский дом свой без тени сожаления.
Место для землянки выбрали на другой день очень быстро. В самом дальнем уголку леса, почти у речки, под высокими осинами.
Дома сказали, что идут ловить рыбу. Гувернантка летом детей не мучит, лежит целыми днями где-нибудь под деревьями, ест конфеты и читает свои романы французские. Вот и чудесно.
Вечером, страшно усталые, возвращаются все по домам, а наутро собираются снова. Основная тяжесть работы падает на Мишку, он так умело орудует лопатой, что никто с ним сравняться не может. А Муся и Шура натерли такие мозоли, что сидят в траве и плачут. К вечеру второго дня землянка вырыта. Завтра — крышу делать.
На третий день рубят и таскают талы, режут камыш. Мишка притащил две деревяки для сох и начал их прилаживать. И так, лишь к обеду, заметили исчезновение Вали. Поискали его, покликали, и собрались в землянке на военный совет.
— Эй, вы, робинзоны, а ну-ка, вылезай!
Это определенно голос отца. Как он узнал?
Отец не один — с ним Никита-мельник. Тут же пасется запряженный в дрожки Карий. Отец оглядывает землянку хозяйским глазом, обходит ее вокруг, смотрит на Микиту и кивает головой:
— Что ж, работа неплохая. А ну-ка, собирай хабур-чабур, айда домой.
Собрав лопатки и топоры, крайне смущенные, рассаживаются заговорщики на дрожках. Муся, быстро склонившись к Семёну, шепчет едва слышно:
— Это Валька всех нас выдал!
На балконе стоит тетя Агнюша с красными от слёз глазами. Рядом с ней смотрящий в землю Валька-предатель. Взяв Мусю и Шуру за руки, молча уводит она их в дом. Валя на мгновение останавливается возле Семёна и говорит в сторону:
— И вовсе Мануил не плохой. Я с ним всегда верхом езжу. Мне его жалко… вот…
И бежит за матерью.
Вернувшись домой, уходит Семён с Жако на речку, садится в лодку и быстро гребет. Жако, скользя лапами по мокрым доскам, стоит по привычке на носу, норовя поймать выскакивающие под килем водяные пузыри. Быстро скользнув по сиденью, Семён так накреняет лодку, что летит фокстерьер в воду, вынырнув, плывет к берегу, но догоняет его хозяин и вытаскивает за шиворот в лодку.
— Пожалуйста, назад, господин утопленник.
Нисколько Жако не обижен, отряхнувшись так, что обдает он брызгами своего хозяина, и снова становится на свою вахту. Да, всё это прекрасно, но что же с Мусей и Шурой будет?
За ужином говорят все о чём угодно, только не о землянке. С утра бежит Семён снова к тете Агнюше, и появляется меж катухами как раз в тот момент, когда прискакавший верхом дядя Андрюша вызывает из сарая Эммануила. Дядя сидит в седле крепко, в правой руке плеть, в левой зажал поводья.
— Ты Эммануил Шлемер? Собирайся, сейчас со мной в Ольховку отправишься, а там — в Царицын, понял?
Тут же стоит запряженная телега, правит ею старый клиновец, работающий у тетки несколько лет. Эммануил хочет что-то сказать, да дядя начинает поигрывать плеткой:
— Без разговорчиков, а то мне ноне некогда.
Сборы пленного недолги, забежав в хату для рабочих, выходит он с узлом и привязанным к нему котелком, усаживается в телегу, тупо глядя перед собой.
— Трогай, ты!
Дядя хлопает плетью по голенищу, мужик дергает вожжи, подвода выкатывается за ворота, дядя рысит вслед. Двор как вымер, ни души не видно. Семён спускается под гору и бежит на мельницу. В столярке полно народу, слышны громкий смех и обрывки фраз:
— А чаво тут толковать по-пустому. Терпела баба, терпела, сколько годов зря у ней прошло.
— Што ж он ей замок теперь навесит, што ля?
* * *
Пока суть да дело, неплохо бы было еще разок порыбачить на сазанов. Встав до восхода солнца, забрав удочки и Жако, идет Семён к еще вчера выбранному местечку. Запривадил он еще с вечера, расчистил шамару, авось, сегодня что хорошее попадется. Тут, в этой колдобине, сроду он еще не рыбалил. Вчера в Разуваеве договорился он с казачатами, обещали и они прийти, зорю посидеть, должна тут рыба быть обязательно.
Усевшись поудобней, насадив червей, закидывает он удочки и выстраиваются слева и справа четыре его поплавка, как парные его часовые. Еще совсем тихо, солнце не выглянуло еще из-за бугра над Рассыпной Балкой, утро свежое, роса такая, что сапоги совсем промокли. Забравшись на камыш, совершенно промочив лапы, дрожит несчастный Жако и ежится от холода. Петька с Мишаткой, оба босиком, идут неслышно, только молча кивают ему и усаживаются от него в саженях десяти, на том же, еще вчера с вечера облюбованном, месте. Слышно как шлепнули их поплавки по воде, легкая рябь пробежала по зеркальной поверхности и всё снова затихло. Теперь лишь сиди да жди, когда клев начнется. Поплавки стоят, как по команде «смирно». У Петьки с Мишаткой другое дело: уже показывают они ему хороших красноперок. Вдруг, круто опустившись в воду, пошел один из поплавков в сторону и исчез в глубине, как перископ подводной лодки. Што за наваждение? Что это за рыбина? Сазаны так не берут, плотва клюет по-иному, это что за чудак нарвался? Осторожно, не дыша, берет Семён удилище и одним рывком засекает. Ого — что-то страшно сильное тянет так, что едва удерживается он на берегу, стараясь повернуть рыбину вдоль колдобины. Удается это ему с огромным трудом. Круто повернув где-то там, на глубине, потянула она налево, в камыш. Стараясь никак не пустить ее в заросли, тянет Семён вправо и чувствует, что сила там, на другом конце шнура, огромная. Петька и Мишатка, увидав, что взяло у него что-то доброе, уже стоят позади Семёна, не дыша, следя разгоревшимися глазами за каждым его движением и за бороздящим поверхность воды, натянутым, как струна, шнуром. Только бы не сорвалась! Только бы шнур выдержал! А рыбина, чувствуется уже это, приморилась, хоть и давит по-прежнему крепко. Мотнувшись еще несколько раз вправо и влево, идет теперь она, подтягиваемая к берегу, и все рыбаки столбенеют: огромной усатой мордой упирается сом, да-да, сом, прямо в песок берега. Страшный широкий рот судорожно хватает воду, медленно, устало движутся передние перья-плавники, а темное длинное туловище исчезает в глубине речки. Мишатка хватает сачок, заводит его поглубже, туда, где должен кончаться сомячий хвост, но спокойно стоящий, отдышавшийся и набравшийся силы сом рвет вдруг круто в глубину. Семён оступается и летит в воду, выронив из рук удочку. Как был, в рубахе и штанах, ни минуту не раздумывая, бросается Петька в воду, хватает удилище и, огребаясь лишь одной рукой, плывет назад к берегу. Вытащив Семёна из воды, протягивает Мишатка руку Петьке, помогает и ему выбраться на песок и передает удилище Семёну. Быстро сбегав к своему месту, возвращается он с топором, опускается на колени у самого берега и глядит на шнурок:
— Подводи, подводи, я яво угошшу!
С головы его и рубашки текут струйки воды, посинел он и вздрагивает от холода, но ничего, кроме шнура, не видит и не чувствует. И вот он снова, теперь уже окончательно выбившийся из сил, огромный сомина. С разгона чуть не выскакивает на берег, и губит этим свою жизнь. Петька реагирует моментально. Как молния, взлетает топор и, разбросав сноп брызг, падает обухом на темный лоб широко открывшей рот рыбины. Будто электрический ток проходит по всему ее телу, вздрогнув, обвисает она на удочке, и, задрожав всем телом, медленно переворачивается в воде серо-белым пузом вверх.
— Ох ты, какой здоровый! Да он фунтов с пятнадцать потянет! — рыбаки вне себя от восторга.
Семён не может верить своему счастью. Никогда ничего подобного не брал на удочку не только он, но и отец, и дедушка. На крючок, на жареного воробья, то другое дело, ловили они и куда побольше, а вот, чтобы на удочку — Семён гордо оглядывается на своих друзей, а Петька уже вырезал крепкий кукан, лезет к рыбине, для верности хлопает ее еще раз обухом по черепу и сажает ее на кукан.
— Вот это — да! У нас в Разуваеве таких сомов на удочку ишшо никто не брал!
Петро и Семён раздеваются, лезут в речку застирывать рубахи и брюки от песка и ила, и ложатся на солнце греться. Брюки и рубахи развешены на кустах, удочки смотаны, рыбалить дальше нет никакого смысла, рыбу они вознёй с сомом все равно распугали. А пока сохнет их одеженка, и позубоскалить можно.
Петька жует травинку, глядит в небо, щурится на солнце и потягивается:
— Слышь, Мишатка, расскажи-кась ишо раз присказку твою, а то ее Семён ня знаить!
— А коль ня знаить, няхай слухаить, тольки присказку ету, окромя казаков, никому я не рассказываю, потому казаком быть честь это большая, так мине и отец, и дед говорили, так и атаман наш гуторить. Ну, слухай мою прибаутку…
Было ето всё тогда, когда мой отец ишо не родилси, а мы с дедом на охоту ходили. Були у нас ружья лубяные, а замки полстяные. Идем это мы, подходим к озеру, уток на нем сидить — глазом не окинешь. Вот табе дед мой — громых-громых, да семерых, а я — бух, да двух. Четыре улетели, пять мы не нашли, собрали остальных да и пошли. А жили мы с дедом богато: из рогатого — вилы да грабли, а из поездки — тачка с одним колесом. Был у нас и кот без ушей, ловил он здорово мышей. А и хлеба у нас много было, на брусу два стога пшаницы сложено. Вот однова мышь в пшенице заворошилась, как кинулси кот наш на тот брус, так оба стога в лохань с водой и повалял. Ну што ж, надо хлеб сушись, а посушив — молотить…
Мишка поднимается на одном локте и смотрит на шлях, ведущий из Ольховки в Разуваев.
— Штой-то, вроде хтой-то, намётом бягить.
И действительно из-за деревьев несется на хутор какой-то всадник. Ребята следят, как, миновав школу, подскакивает он к Правлению. Мишатка ложится на спину:
— Обратно приказы какие-нибудь привез. Мало им тех, што по перьвой набилизации ушли, ишо они тридцать тысяч наших казаков забрали. Сам атаман сказывал. И когда они ету волынку коньчут, нашим казакам вроде и надоедать она стала.
Мишатка замолкает. Рубахи и брюхи высохли, можно и одеваться, и присказку до конца дослушать.
— Ну, а как же дальше дело-то было? Посушили, говоришь…
— Да, посушили, молотить! Молотили мы ту пшаницу промежь ногтей, страсть как много намолотили, ссыпали зерно на печь, ишо чудок подсушили, надо молоть, а мельницы-то близко и нету. Дед мне и говорить: «Бяры лопату, лезь на печь». Залез я на печь, а он положил бороду на задоргу, открыл рот: «Сыпь, говорить, ту пшаницу мне в рот лопатой…». Сыплю я яму пшаницу в рот, дед жует, мельница идет, мука лятить: в одну парчину — первый сорт, в другую — второй сорт, а в прорешку — отруби так и выскакивають…
Петька поднялся, сел, смотрит на Разуваева и показывает пальцем в поле:
— А ить никак Сашка это к нам сыпить! Э-эй, суды заворачивай!
Полный и красный от бега, задышавшийся, не в силах выговорить ни слова, валится Саша на траву и хватает себя за горло:
— О-ох, Гос-споди, ти-л-ляграм пришел. Гришатку на фронте убило. Гришатку, Астаховой сына, энтой, што у нее бабушка ваша корову купила…
* * *
Будто своего оплакивала бабушка Гришатку. Целыми днями никуда не показывалась и сидела одна в своей комнате, жгла лампадки и свечи, читала Евангелие и молилась. И только уже перед самым отъездом в Камышин зазвала внука к себе, посадила на ту же низенькую табуреточку, на которой мотал он с ней раньше шерсть, достала откуда-то особенно вкусных сухих слив, протянула ему и спросила:
— А што, Семушка, слыхал ты казачью легенду про Матерь Божью?
— Нет, не приходилось.
— Так вот слухай: давно это случилось, когда, как и сейчас, бились казаки и в степях, и в море синем, а души ихние, тех, што в боях пали, реяли в туманах над речными мелями, над лиманами и поймами, а причитания плачущих казачек неслись с каждого хутора, как шум воды на перекатах.
И сошла однова дня на землю Мать Пречистая Богородица, а вместе с ней и Николай-Угодник. А одела Она самую лучшую свою жемчужную корону. И так обходила Она Казачий Край, плачь казачек слухала. А когда наступил знойный день, пересохли уста Ее от жалости, и не было чем Ей их освежить. Никто в хуторах на стук не откликался, никто к дверям не подходил и не отворял их, а только еще громче раздавались за ними горькие рыдания. И подошла Она к глубокой реке. И только наклонилась к ее струям, чтобы водицы испить, как упала та Её корона с головы и скрылась глубоко под водой. «Ах, — сказала Она, — пропали мои жемчуга. Никогда больше не будет у меня таких красивых».
Но когда возвернулись Она в Дом свой небесный, то увидала Она на золотом троне своем такие же сияющие зёрна драгоценного жемчуга.
— Как это попали они сюда? Ить Я их потеряла. Это, должно быть, нашли их казачки и передали для меня.
— Нет, Матушка, сказал Ей Сын Её, не жемчуга это, а слезы казачьих матерей. Собрали их ангелы и принесли к Твоему Престолу…
Замолкла бабушка, глядит на огонек лампадки и плачет, сама слёз своих не замечая. Семён сидит и шелохнуться не смеет. Будто от внутреннего толчка, ее разбудившего, вздрагивает она и пробует улыбнуться:
— Ну иди, иди, глупая я, только тоску на тебя навожу. Казак ты, тебе сам Бог горевать не велел. А уж мы, казачки, другое это дело, бабье… ступай, ступай, с Жако твоим в луга пробеги, миру Божьему еще трошки порадуйся… а жемчуга, нет, не любят казачки, слёзы и горе они приносят.
* * *
Взрослые были заняты разговором с мичманом, а Семён предавался горестным размышлениям: «Господи, да разве же это возможно? Как же это и произойти-то могло? Почему? Неужели же это так всегда в жизни бывает, что вот та, которую так страшно видеть хотелось, не только не пришла, но и надежды никакой нет вообще ее когда-нибудь увидеть. За что?».
В полутемном своем углу, в гостиной, глубоко усевшись в широкое кресло, смотрит он остановившимся взором в одну и ту же точку на ковре, в мозгу молотками бьются услышанные им слова: «Уши наш уехала в Аскания Нова. К Фальцфейну. Там и учиться она будет, там и останется в его имении возле Крыма, там ее счастье. И ми воопше толшен Пога плаходарил, што такой польшой шеловек наша Уши к сопе взял…». Весело рассказывает фрау Мюллер о том, что получит Уши у Фальцфейна самое лучшее образование, и сможет там, на месте, заняться как раз тем, что она особенно любит — животными. У него ведь в колоссальном имении собственный зверинец, в степи искусственное орошение, огромный парк, такие деревья растут и такие фрукты вызревают, каких даже у Батума на Кавказе нет. И пальмы, и чай, и тростник-бамбук, и мандарины. Рай да и только…
А ведь все летние каникулы, изо дня в день, с утра до вечера, только и думал Семён о том, как, вернувшись в Камышин, первым делом отправится он к Мюллерам.
А Мюллерша рассказывает, как выехали они на пароходе «Самолет», как доехали до Царицына, а оттуда поездом на Ростов, потом в Севастополь, а там, на балу у моряков, познакомились с Фальцфейном, понравилась ему Уши огромным интересом ее к зверям и растениям, после вальсов и ужина пригласил он ее к себе. И отправились потом в Мариуполь, а оттуда, ох, можете себе представить — автомобилем, его собственным, огромным, с шофером в имение поехали… Уши в восторге была…
Уши была в восторге… да-да, за автомобиль с шофером и за бамбук с мандаринами кого угодно променять можно… — глубоко съехав в своем кресле, превратился Семён в комочек горя. Сидит и не движется, смотрит, не моргая, всё на тот же противный квадратик на том же дурацком ковре… Уши была в восторге… А тут еще и сын Мюллеров, мичман Черноморского флота, служит на миноносце «Боевой», ростом высок, строен, красив, с такими же синими, как у матери и Уши, глазами. И все: и мама, и отец, и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, смотрят на него так, будто он уж что-то совсем особенное. Свалился с неба профессор флотских кислых щей! Скажите, пожалуйста, такой же немец, как и те, кто Аристарха убили. А они и глаз с него не сводят!
А ничего не подозревающий мичман, даже ни разу не глянув в угол с креслом, продолжает беседу:
— …Простите, господин есаул, великолепно я ваши мысли понимаю, всё мне, как божий день, ясно, но тут мы главное учитывать должны, то, о чем казаки никогда не подумали. О самой простой вещи: что территорией вашей стоите вы на пути развития Российской Империи. И что терпеть вас будет она только до тех пор, пока вы ей нужны или ей не мешаете. А если помешаете, о, тогда всё будет очень просто. И первый вам урок дал царь Петр Великий. Понял он еще тогда всё значение для России не только Черного моря, но и Босфора и Дарданелл. Пусть говорят, что хотят, но знаменитое завещание его — должно быть, лучшее подтверждение этому, находим мы в письмах Вольтера царице Екатерине. Там об этом завещании прямо говорится, как и о том, что будущее России на Проливах, в Константинополе, а это значит, и — в Средиземном море! Вы же сами прекрасно понимаете, что Балтийское море для России не достаточно и злыми соседями опасно. Захотят немцы, захотят шведы, захотят англичане, и заперли они нас в этом море, как в мешке. Об Архангельске и говорить не приходится, шесть месяцев в году подо льдом порт заморожен. Особенно не расплаваешься. О Владивостоке, о Великом Сибирском Пути лучше и не упоминайте. Триста шестьдесят пар паровозов нам надо, чтобы одну пару встречных поездов через весь этот путь протолкнуть… И вот эта война показала нам, что единственный для нас выход — Константинополь. Поэтому-то и перебил так зверски Петр Великий казаков в Булавинском восстании — могли они ему жизненно важнейшую для империи его дорогу перегородить. Поэтому при помощи тех же самых казаков, им покоренных, взял он у турок Азов, поэтому-то и царица Екатерина, говорите о ней как о женщине, что хотите, а царица она была, безусловно, великая, да еще дочь чья — самого Фридриха Великого, а это, что ни толкуйте, тоже что-нибудь да значит, кровь и раса! Вот поэтому-то и она, согласно завещанию Петра, провидца путей имперских, ту же самую цель, как и он, преследовала. И ее взоры постоянно были на Константинополь устремлены. У императора Павла родилось два сына, один Александр, позднее царствовавший в России Александр Благословенный, и Константин, чье имя было заранее с особенным значением выбрано. Его Екатерина иначе как «Звезда Востока» не величала. И вот этого-то Константина, внука Петра, и крестили по восточно-греческому обряду, няньчили его няньки-гречанки и в три года говорил он по-гречески лучше, чем по-русски.
Тарас Терентьевич громко смеется:
— Вот это — здорово! Тут тебе и щит на вратах Цареграда, тут тебе и крест на Айя-Софии… Батюшки, и во сне мне этого не снилось!
— И не только вам, но и очень, очень многим. Вот поэтому и собираем мы теперь десант против Константинополя, хотим его русским городом сделать. И давно уже приготовления ведутся. И всё потому, что с первых же месяцев войны стало нам ясно, что без открытого прохода в Средиземное море лезем мы в драку со связанными руками. Еще и Петр вел переговоры через Шереметьева с Иоаннитами, а с Мальтийским орденом о Мальте, хотел Мальту русским опорным пунктом в Средиземном море сделать. Да Венеция тогда всему помешала. А царица Екатерина, еще в первую войну с Турцией, в переговорах с Гроссмейстером Мальтийского Ордена Эммануэлем Пинто тоже пробовала из Мальты русскую территорию сделать, жителям Мальты давала русское подданство, предлагала им признать русское господство, а орден изгнать. Год спустя послала она маркиза Кавалькабо с заданием, кого нужно купить, кого добром добыть, а при случае и военной силой действовать. Пытался он Мальту захватить, но в последнюю минуту были мы отбиты. Пробовал и Павел действовать, объявил себя защитником Мальтийского ордена, было это в 1797 году, начал тайные переговоры, но узнала о них Франция, и под самым нашим носом удалось Наполеону Первому Мальту попросту купить. И отошла она 12 июня 1798 года, согласно заключенному трактату, к Франции.
— Значит — сорвалось?
— Да, неудача!
— Но ведь флотоводцы наши били турок, как хотели, возьмите хотя Алексея Орлова!
— Орлова! Да Бог с вами! Когда он, будучи в Венеции, узнал, что назначили его командовать русским флотом, в ужас пришел, за голову хватался: «Там, — кричал, — в Петербурге, все с ума посходили!». А в битвах при Чесме и в Неаполитанском заливе разбит был турецкий флот вовсе не Орловым, а стоявшими на российской службе английскими адмиралами Эльфингстоном, Грейгом и Дугдалем. Орлов же в морском деле вообще ничего не смыслил.
Отец задумчиво качает головой:
— Да-да, Дугдаль, Грейг, Эльфингстон, а вон теперь — фон Ессен. Здорово это — сами же западные народы Российскую Империю против себя строят!
Мичман подбирает губы:
— Западные народы тут не причем! Все мы, Россию полюбившие, ей служащие, строим ее как верные ее подданные, без того, чтобы думать, откуда корни наши. Разве Екатерина не немка была? А что она из России сделала… да и вообще теперешний Дом Романовых, как вы думаете, сколько в нем русской крови? А все мы, государству Российскому служащие, должны с малых чинов понимать те задачи, которые стоят перед нашей новой великой родиной, помня хотя бы то, как приехав в 1787 году в Херсон, повелела она соорудить триумфальную арку, с надписью: «Отсюда ведет дорога в Константинополь!».
— Что ж, значит, остались мы на этой дорожке!
— И еще как! Только, к глубокому сожалению, не все в России понимают ее значение. Нужно отдать справедливость его императорскому величеству, ныне царствующему государю-императору Николаю Второму, идет он стопами Петра Великого. — Отец как-то подозрительно кашляет, но мичмана это не смущает: — И еще как идет! Во флоте у нас дела совсем иные, чем в армии. У нас всё есть! И новые корабли постоянно мы строим, запасов у нас в изобилии, дух моряков прекрасен, урок Цусимы не только даром не прошел, но послужил к полному оздоровлению флота. Несмотря на то, что в Балтийском море против наших двух броненосцев двадцать штук. И в Черном море неплохо мы держались, пока Гебен и Бресау не пришли. Тут хотели мы сразу же в Босфор прорваться, да союзнички наши согласия на это не дали. И не только союзники нам мешают, но и в ставке Главнокомандующего есть влиятельные лица, которые утверждают, что ключ к Проливам лежит в Берлине. Чепуха это.
Тарас Терентьевич зашевелился:
— Послушайте, мичман, а как же вообще получиться могло, что Гебен и Бреслау в Турцию попали?
— О-о! Это весьма интересно. Английский флот открыл их сразу же, как только они Гибралтар прошли. И всё время, в несколько раз превосходя их силами, висели у них на хвосте, сопровождал их через все Средиземное море, но не нападал. А когда адмирал английский, удостоверившись, что идут они в Константинополь, послал об этом телеграмму в Лондон, то получил приказ преследование прекратить.
— То есть, как это так — преследование прекратить? Почему?
— А, значит, так англичанам нужно было.
— Ни черта не понимаю, да как же это так, не уничтожить вражеских кораблей, когда они против их же союзника идут?
— А разве забыли вы роль Англии, уже не говоря о Венском конгрессе, но в 1854-56 году, и в 1877-78 годах. Всё она делала, чтобы мы в Средиземное море не попали. И вот перед ней и теперь та же проблема стоит. Союзники мы, это верно, поэтому позволяет она нам пехоту нашу сотнями тысяч гнать на немецкую артиллерию и проволоку для спасения Вердена, для устройства чуда на Марне, чтобы Италию спасти. Это, пожалуйста, с нашим удовольствием, но перспектива видеть нас в Средиземном море никак ей не нравится, не по шерсти.
Отец и Тарас Терентьевич переглядываются.
— Да неужели же способна она на такую подлость?
— Простите, что значит ваше «подлость» в высокой государственной политике? Есть одно — государственные интересы. А сколько казачьих городков пожег Петр Великий, сколько казаков перевешал и казнил? И с кем потом, позднее, вместе Азов брал? Как могли тогда казаки ваши вместе с ним идти, ведь раны их тогда еще не зажили!
Отец будто о казаках и не слышит.
— Значит, сознательно англичане и Гебена и Бреслау пропустили. Зато получили же они по морде в Дарданельской операции. Поделом вору и мука!
— Да, оборвалось это у них здорово. И вся ведь цель их была попасть в Константинополь раньше нас, своих союзников.
— Так им и надо!
— Конечно же, так и надо! Вот когда узнали наши о всём, то и приказано было приготовить десантный отряд из трех отборных дивизий Кавказской армии, опять же, думаю, казаков-кубанцев, ан, когда хватились, а десантных средств у нас и нет. Одну бы только бригаду посадить могли! А пока мы считали да прикидывали, немцы на Западном фронте в наступление перешли, видно, о всём унюхали, и потопали дивизии наши константинопольские посуху на Румынию.
Тарас Терентьевич трет ладонью затылок.
— Значит, слишком большого-то чуда во флоте вашем тоже вы не сделали…
Семён встает, осторожно обходя сидящих, выходит в коридор, одевается и незаметно выходит на улицу. На дворе давным-давно стемнело. Моросит холодный мелкий дождь. Облака идут так низко, что, того и гляди, зацепят за колокольню церкви св. Николая. Засунув руки в карманы, сгорбившись, пересекает он городской парк, идет вдруг быстрыми шагами к кино «Аполло», там есть лестница, уступчато спускающаяся к Волге. Вчера видел он — стоит там старая баржа. Забраться на нее, по правому борту ее течение должно быть совсем быстрым, вода коловертью крутит. Нырнуть только — и готово. Ишь ты — в восторг пришла от бамбука с мандаринами и шофера с автомобилем!
По узкой качающейся доске быстро пробирается наверх, и оказывается перед дверью в кубрик. От удара этой двери прямо ему в лоб чуть не падает навзничь — нужно же было как раз в этот момент выйти никому иному, как баталеру, приглашенному собственником баржи, старым его приятелем, на рюмочку к разговору.
— Семён, это ты? Здорово я тебя долбанул? Ничего, пока жениться — всё загорится. Да как же это ты узнал, што я тут? Вот это здорово, настоящий ты дружок, ану, залазь, залазь вниз, я зараз!
Обалдело потирая лоб, ничего не соображая, совершенно сбитый спанталыку, спускается Семён в темноту кубрика и пробирается к тусклому свету из полуоткрытой двери. Под иллюминатором стоит маленький столик, на нем несколько бутылок, полных и порожних, нарезанная кусками тарань, яйца и солонина. Только теперь замечает Семён, что выпил баталер здорово, того и гляди, повалится.
— Эт-то х-хор-рошо, што старого друга разыскал. Эх, моя-то серчать будет, очень даже просто, крен у меня шестьдесят градусов. А ну-ка хватим по единой, задля радостной встречи!
Налив две высоких грязных рюмки до краев, чокается баталер с гостем, и тот, ни слова не говоря, тоже выпивает свою порцию залпом.
— З-здор-рово! Подрос, малец, правильно, по-нашему, по-матросски, водку глушишь. А ну, еще по одной, во имя Отца и Сына!..
…Сквозь настеж открытую дверь кубрика пробивается тусклый свет дождливого утра. Косые капли дождя пролетают вниз, падают на нос, на лоб, на щеки. Совершенно смущенный баталер, подняв гостя своего на ноги, старается стрясти с его форменного пальто соломинки, шелуху от яиц и воблы.
— Их ты, как всё по-дурному получилось. Знаешь ли ты, какой теперь аврал у тебя дома? А? И в моей хате не лучше! Нам с тобой теперь хоть и домой не ходи. У них там, всех, паника теперь, как от минной атаки. Я тебе говорю. А ну-ка, брат, полезем наверх, до городского сада я тебя доведу, а там бери курс на святого Николая. Сам. Я к твоим зараз и на сто кабельтовых не подойду. Сам отбрехивайся. Объясни им, што в хорошей компании никому никогда выпить не грех. Пошли тихим ходом, свистни марш «На сопках Манджурии», курс норд-ост!
* * *
Что за болезнь у него была, толком никто, ни доктора, сказать не могли. Пролежал он добрых три месяца, как все говорили — в горячке. Чуть Богу душу не отдал. Жако, когда окончательно спала температура у Семёна, поднялся вдруг сам с кровати хозяина и убежал во двор. А до этого, не смыкая глаз, три дня и три ночи ничего не ел и не пил, лежал у его ног и дрожал мелкой дрожью, глядя на метавшегося в горячке хозяина.
И лишь к Рождеству выздоровел Семён окончательно. Где пил он и сколько, узнали от баталера, приходившего проведать больного и неизменно справлявшегося о его здоровьи.
Теперь, медленно поправляясь, обнимая крепко спавшего с ним Жако, отлеживался Семён, читая «Мир приключений», и твердо решил: глупостей больше не делать, учиться и учиться.
Захаживал баталер навестить своего собутыльника, вел себя ангелом Божьим, рассказывал новости с пристаней, вспоминал японскую кампанию, и утверждал, что Микадо соглашался царю войны не объявлять в том случае, если найдут во всей России одного еврея небитого, одного мужика сытого, двух чинов, никаких взяток не берущих, и двух попов, водку не пьющих. И как ни искал царь русский по всей России, так и не нашел таких людей. Вот и пришлось нам с Японией драться.
И, уходил домой после чая с возлияниями. Но — не любила его мама.
* * *
Давно прошла Масленица, третья неделя Великого поста зашла, совсем потеплело в воздухе, пока то да сё, глядь, а вот она и Пасха.
И снова гости у них собрались. Тут и еврей-аптекарь, тут и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, всё еще в Камышине гостящая. Снова собрались все они в гостиной, и особенно почему-то приятно было Семёну увидеть у них в костюме сестры милосердия ту самую курсистку, которая у Ивана Прокофьевича так здорово о французских либертэ и эгалитэ кричала. Возмужала она, но выглядела бледной и нездоровой, странно пополневшей. Это она привезла вчера новое письмо от отца Тимофея, осталась у них на ужин, ночевать будет, а завтра ее Тарас Терентьевич, пока на Волге лед еще крепкий, на ту сторону отвезет, а там она на какие-то хутора к родителям своим поедет. Слыхал Семён, как шептались мама с тетей Верой, как договаривались завтра же, рано с утра, по магазинам побежать, пеленок накупить, чепчиков, распашонок, еще какой-то ерунды.
Тарас Терентьевич, с видом человека, дело свое досконально понимающего, внимательно оглядывает стол, горестно вздыхает, выбирает закуску, накладывает ее себе в тарелочку с крайне сокрушенным видом, сам наливает себе рюмку водки, медленно подносит ее к губам, осторожно, не дай Бог, чтобы разлить драгоценную влагу, пробегает глазами по лицам сидящих за столом, и вдруг, одним рывком запрокинув голову, опоражнивает рюмку, крякает, вынув из кармана брюк огромный красный платок, вытирает мгновенно заслезившиеся глаза, покаянно крутит головой, но постепенно озаряется ясной улыбкой.
— Ну вот то, истинный Бог, настоящая закуска! Вы, Наталья Петровна, вижу я, хоть из Белоруссии, к казакам перекинулась, хоть и к нам на Волгу вроде как дорогой гостьей пожаловали, а жизнь нашу, нутро наше, волжан настоящих, досконально уразумели. Под вашу закусочку и помирать не страшно.
Мама вспыхивает от удовольствия, что такому знатоку угодила.
— А вы вот еще этих грибков попробуйте. Сама, по бабушкиному рецепту, мариновала.
— Попробую, обязательно попробую, только вот ко второй приложиться разрешите. Да что же это вы, Сергей Алексеевич, мучить нас вздумали. А где ж оно, письмецо обещанное? А ну-ка! После второй рюмки слушать куда способней.
Отец берет с ломберного столика большой серый конверт со следами сломанных сургучных печатей, вынимает несколько мелко исписанных листов, усаживается удобнее к свету и начинает:
«Дорогие мои, Наташа, Сережа и Сёмушка!
И снова, Божьим благоволением, дается мне возможность послать тебе письмо, которое, страха ради иудейска, почтою отослать никогда бы не решился. Причину же сего, думаю, объяснять тебе не нужно, слишком уж неохотно пропускает военная цензура письма такого, как у меня, содержания, да и берут потом власть предержащие отправителей таких писем на заметку, а чем это кончится — может, лучше и не говорить. Время военное, и обвинить человека в антигосударственной деятельности вещь самая простая. В особенности же в распространении слухов панических, что пастырю духовному никак делать не положено. А ежели еще к тому и пастырь сей никакая не важная персона, то тем легче в беду попасть можно».
Еврей-аптекарь значительно кивает головой:
— И я вам говорю, что, ай-вай, и как еще в беду попасть можно!
— А ты, Соломон непризнанный, не перебивай!
Не глянув даже на аптекаря, Тарас Терентьевич снова занялся закусками.
— Дальше, дальше, Сергей Алексеевич, не слушайте племени Авраамова.
Закурив папиросу, отец продолжает:
— «Но вот — снова повезло мне. Приобщая в госпитале тяжелораненных воинов, познакомился я случайно с сестрой милосердия, сего письма подательницей, разговорился с ней и узнал, что родом она из-под Камышина, что живут родители ея там, за Волгой, а на вопрос мой, знает ли она случайно проживающего там казачьего есаула Пономарева, ответила она мне, что хоть есаула и не знает, но с сыном его познакомилась на каком-то вечернем собрании у тамошнего преподавателя русского языка, где и дискутировала с ним на темы политические. Разговорились мы с ней поближе, и решился я через нее послать тебе еще одно письмецо, дабы был ты в курсе тех дел, которые тут творятся, и глядел бы на всё глазами открытыми.
С чего начинать, откровенно говоря, не знаю — так душа моя смутилась, в такое пришла колебание, что нет у меня в жизни верного причала. Как и раньше, служу я в том же самом полку добрых моих уральцев, тянем все мы лямку военную, переносим и беды, и горести, и чем дальше, тем страшнее мне за всех нас и вас становится. В прошлом письме не писал я тебе о первом испытании, посланном мне Всевышним, когда, совершенно случайно, попав на Варшаво-Венский вокзал в ноябре позапрошлого года, наткнулся я на такую картину, что поднялись волосы мои дыбом, прекратилось сердца биение, и в первые минуты стоял я, как окаменелый, не в силах прийти в себя от лицезрения того, что пред глазами моими предстало. Прямо на перроне, в лужах воды от обложного дождя, продолжавшегося несколько дней подряд, в грязи, слякоти и на стуже под открытым небом, на земле, без подстилок, без соломы, покотом лежало там, не менее и не более, как семнадцать тысяч раненных наших воинов, пятый день безнадежно ожидавших перевязки. Как кричали они, как стонали, как хрипели умиравшие, как страшно, мерзко ругались, понося всех и вся, даже Имя самого Господа и Бога нашего, описывать тебе не стану, да, думаю, что и нет в мире такого пера, которое бы картину сию, всех кругов дантовского ада достойную, описать могло бы.
Семнадцать тысяч человек! Как скот, как преступники, как каторжники, ах, не знаю как и назвать, с чем и сравнить, умирали они сотнями под непрерывно сеявшим дождем, измокшие до костей, в крови, в грязи измазанные, занавоженные, те, кого называем мы героями нашими, Христолюбивым воинством, братьями.
И вот с тех пор вижу я картины эти, одна другой хуже, слушаю вести, одна другой страшнее и неприятнее. И жалкий, и бессильный, мотаюсь в этом аду, человеками устроенном, и пытаюсь сам себе всё это как-то объяснить, растолковать, сделать понятным, простительным и — нужным.
Смотрю я на всё это, и первое, что мне вспоминается, это история добрых моих уральцев, которые в далекие времена поднимались против этой вот самой Руси, неизменно остающейся страшной, желая преобразить ее, привести в порядок, сделать государством не только официально-христианским, но и на самом деле человечным.
А как же жили они в те отдаленные времена, когда Москва еще далека от них была, и управлялись они по старым своим казачьим обычаям? Да так же, как делалось это и у нас, на нашем Дону-батюшке: когда приходило у них время к решению дел общих, то сходились они на сборное место к войсковой избе, и после того, как собиралось народу достаточно, выходил атаман из избы на крыльцо с серебряною, позолоченною, булавою, за ним, с жезлами в руках, есаулы, которые тотчас же шли на середину собрания, клали жезлы и шапки свои на землю, читали молитву и кланялись сначала атаману, а потом на все стороны окружающим их казакам. После того брали они жезлы и шапки в руки, подходили к атаману и, приняв от него приказания, возвращались к народу, громко приветствуя его сиими словами:
— Помилуйте, атаманы-молодцы и всё Великое Войско Яицкое!
И, наконец, объявив дело, для которого собрание созвано, вопрошали:
— Любо ли, атаманы-молодцы?
Тогда со всех сторон кричали им «Любо!», или поднимали ропот и крики: «Не любо!».
В последнем случае атаман сам начинал увещевать несогласных, объясняя дело или исчисляя пользы оного. Если казаки были тем довольны, то убеждения его действовали, в противном случае никто не внимал ему, и воля народа исполнялась.
Понимаешь ли ты, Сергей, что всё сие значит. Вот она, полная народная демократия, нигде в Московии не виданная и москвичам ненавистная. Так жили у нас на Дону, на Тереке, на Яике и позднее на Кубани. И стали мы поэтому костью поперек московской глотке.»
— Ого! — Тарас Терентьевич отвернулся от стола с закусками. — Ого! А попик-то ваш здорово закручивает. Ишь ты, во всём ему Москва наша, матушка, виновата. Недаром же говорят, что, как ни приручай казака, а все равно бунтарь в нем сидеть будет. Глянь, как он обычаи свои старые славит! Аж слушать смешно. Что ж, по его, царь наш должен весь русский народ перед крыльцом Грановитой палаты собрать, министров с жезлами выводить народу кланяться, а потом вопросы государственного управления с ними вместе разрешать? Аж слушать противно. Не те времена, батюшка мой, не те!
— Вы ретроград, не понимаете сути дела. Конечно же, никто не собирается народ у Грановитой палаты собирать. Но парламент, современный парламент! Вот что нужно! — гневно вспыхнула сестра милосердия.
— Ага, это, что же, Думу, что ли?
— Конечно! Думу, настоящую Думу, а не такую, которую разгоняют, когда захотят. Думу — хозяина Земли Русской.
Нашлось что сказать и аптекарю:
— Ну, вы же знаете, говоря откровенно, не верю я в русский парламентаризм. Вон и в Думе вашей, да, конечно же, правильно — критика должна быть, но не так, как это делают. Они же там не только весь народ против лично царя и царицы, но и вообще против законной власти поднимают.
— Хо-о! Глянь-ка ты, глянь на него, племя Исааково! Глянь — на страже устоев стоит.
— И стою! Уж кто-кто, а мы, евреи, ох, как хорошо русский народ знаем. Я только вам одно скажу: не дай Бог народ этот без власти оставить.
— Ну-ну-ну! Не детишки!
— А вот вам и не детишки! И опять натравят его на нас, так, как царская власть натравляла.
— Вот те на! И за власть он, и против. А когда же это царская власть народ русский против вас натравляла?
— А погромы забыли? Союз Русского Народа не помните? А нет, так я вам напомню! Не по злобе, а для размышления. Всего в разговоре не вспомнить, не перечтешь. Царь Иван Васильевич выгнал всех евреев из тогдашней Московии. А Петр Великий, — предлагали ему миллион гульденов за право открыть в России торговую контору, а что ж он им ответил: «Хоть евреи и мастера торговать, но с русскими им не тягаться!». И не разрешил, и денег не взял. А почему, что же мы не люди, что ли? Царица Елизавета в 1742 году всех евреев, мол, они враги Христа, из России выгнала. Только тех оставила, которые православие приняли. Ну, и почему же мы такие враги Христа? Это и мусульмане его враги! И почему должны теперь мы отвечать за то, что две тысячи лет тому назад случилось. Мы-то уж никак не виноваты!
— А чьи священники, какой народ орал на улицах: «Распни, распни Его!»?
— Ну, вы же, Тарас Терентьевич, человек совсем не глупый, ведь с тех пор сколько лет прошло!
— Ишь ты, дались ему эти годики. А не живете ли вы по вашим законам двухтысячелетним и по сей денек?
— Ах, вы меня только от темы отвлекаете. А я вас еще спрошу, а как при Петре Третьем было? И евреев гоняли. Только царь Николай Первый разрешил им жить, и то только в определенных семи губерниях. Черту оседлости провел. А вот спросите вы Сергея Алексеевича, казака, может ли еврей на Дону жить? Да никогда. Властью царской запрещено. Даже если проездом поезда на станции дожидается, права не имеет пойти в гостиницу переспать, на станции сидеть должен. А что ваш царь Александр Третий сделал? Запретил христианам у евреев работать. А вот вы, Сергей Алексеевич, скажите, как наши евреи в черте оседлости живут?
— Да что и говорить, и заклятому врагу не пожелал бы! Бедность, грязь, теснота, болезни. А что главное — постоянное чувство гонимого, бесправного, боящегося, что его так, за здорово живешь…
Тарас Терентьевич высоко поднимает брови:
— Это уж слишком! Что значит — за здорово живешь! А знаете ли вы, кто теперь для немцев шпионит — вот такие, как этот аптекарь наш, да!
И мама, и сестра милосердия возмущаются:
— Да постыдитесь же вы, Тарас Терентьевич! Разве же можно так огульно!
Мама умолкает, но сестра милосердия только теперь приходит в раж:
— Сама я с фронта, видала, знаю, кто в чем виноват! А вам бы самому в Союз Русского Народа записаться. Немцы нас бьют только потому, что сами мы виноваты. Нечего меж евреями козлов отпущения искать. Развели Распутиных, дураков и прохвостов министрами посадили, негодяев вроде Штюрмера или Протопопова. А на евреев бросаются только потому, что бесправные они! Стыдно!
Аптекарь поднимает обе руки в воздух:
— Ну, и Боже мой, Боже мой! И зачем же так сердиться. Мы же о всём по-хорошему поговорить хотели. А что бесправные виноваты — права военная барышня. Ну, вспомните погромы. Началось-то всё давно, а Балту и вы помнить должны. В восемьдесят первом году…
— Эк куда заехал. Ты еще Авраама с Иаковом прихвати.
— И вовсе их мне цеплять нечего. Только делалось это постоянно. Почти из года в год. А в Балте той из тысячи еврейских домов после погрома только сорок осталось. А знаете ли вы, чем погромщики свитки Торы мазали? И сказать в дамском обществе нельзя. А ведь это святыня наша! И зверски убивали людей и на улицах, и в домах. И это в целом ряде городов, несколько лет подряд, и в пятом году, и в шестом, и в седьмом. И в Киеве, и в Белостоке, и в Одессе, и в Седлеце. Аптекарь почему-то оглядывается, испуганно замолкает, будто испугался, что и его сейчас из окна выбросят. Тарас Терентьевич снова вынимает свой красный платок, вытирает им лицо и обращается к сестре милосердия:
— А вы, барышня, очень горячитесь. Так не спорят.
Мама, смущенная своей невоздержанностью, берет за руку Тараса Терентьевича и пробует улыбнуться:
— Вы же слыхали, какие они ужасы пережили и переживают. К этому вопросу надо подходить…
Спокойным, твердым голосом перебивает ее Тарас Терентьевич:
— Еще в прошлом году говорил я вам, что лучше всего из России нашей куда подальше податься. Ну вот, хоть барышню эту возьмите — новых она идей, и пойдет за ними до последнего, никак не иначе. А как вы думаете — вот эти, из Кишинева и Одессы, которых там били, да не добили, или дети ихние, как вы полагаете, как они поступят, если им что-то вроде пятого годика, то есть, сказать хочу, вроде новой революции под руку подвернется? Не думаете ли вы, что пойдут они все вот по ихнему закону, — не глядя на аптекаря, тычет он в его сторону пальцем, — вот по закону ихнему: око за око и зуб за зуб выбивать? Глянь ты только на него, как помнит он всё, какому еврею и куда, тому тридцать лет назад, гвозди забивали. И какой еврейке и куда пуха напхали. Всё чёртов сын Сиона помнит. И вот такие же, как он, такие самые, во всех революционных шайках и бандах понасобирались. И все под ложными фамилиями, и все радикальной ломки требуют, полного разрушения, полного уничтожения всего, что сейчас живет и дышит. И такой меня, признаться, страх разбирает, что кинул бы всё, да и забежал бы куда от России-матушки, и от племени этого, которому всегда все иные виноваты, а они — ангелы Божьи, агнцы невинные! Эх, да что там, скажи-ка ты мне, чадо израильское, а почему же это вас вообще, ну, во всем свете, испокон веков, с фараонов начиная, во всех странах мира, скажи ты мне, почему вас гнали. А?
Аптекарь тоже вынимает платок, трет им лицо и голову.
— Ну Боже ж мой, ну…
— И вовсе — не Боже ж мой, а Егову твоего поминая, понял? А потому вас гнали, отвечу я за тебя, что во всех этих странах, взяв капитал в свои руки, начинали вы землями этими с черного хода управлять. Вот и выпирали вас.
Аптекарь не сдается:
— А возьмите Германию! Как там наши живут? Какие имена дали они в науке и искусстве. И в литературе!
— Х-ха! Имена они дали! Погоди, погоди, не начнется и у немцев завируха, тогда увидим, как вас и там с этажей скидывать будут!..
Снова вздымает аптекарь руки к небу:
— Ну, и скажите же ви мне, скажите, в какой стране мы дома? Куда не придем — везде мы чужие. И недоверие, и зависть, и конкуренция. Вот поэтому, в конечном счете, становимся мы то мучениками, то гонимыми. А жить-то нам надо же. Хочется ведь тоже, как и другим. Имеем мы право жить или нет? И чем же заниматься мы можем, как не торговлей? И виноваты ли мы, что делать это лучше других можем? Нам какое дело не поручи…
Тарас Терентьевич вдруг смеется, звонко и от души:
— А ведь прав ты, сын Иакова, ей-ей, прав. Знаешь ты, кто был вице-канцлер Шафиров?
— Никогда не слыхал.
— Эх ты, а еще за евреев своих здесь адвокатствуешь. А был он внук Хаюшки Шафира и работал у Головкина секретарем. А после победы под Полтавой стал Головкин канцлером, а Шафир — вице-канцлером. А за что — да за отличие свое в Прутской афере. Окружили там, на Пруте, турки царя Петра Великого армией своей, в семь раз сильнейшей, чем русская. И был бы там Петру нашему, Великому, конец бесславный, не возьмись за дело вот этот самый Шафир. Подкупил он Балтаджи-пашу, и спас не только царя и армию его, но и всё тогдашнее государство Российское от гибели неминучей. Да возьми тогда турки царя нашего в плен, да посади его, как это у них положено, и, когда ударь дальше на Россию, не осталось бы от нее камня на камне. Всё бы, что турки, что соседушки, разнесли. Да и казачки бы попользовались. Вот кому бы памятник в Москве, против Минина и Пожарского поставить, Шафиру. Да. И стал он потом бароном и отдал дочерей своих одну за Гагарина, одну за Головина, одну за Салтыкова, а одну за Долгорукова. А? Имена-то какие! Высшее в империи нашей дворянство, а ты мне тут торочишь: евреи бесправные! Уметь, братец мой, надо. А сумеешь — в вице-канцлеры из аптекарей попадешь! Я тебе говорю.
Аптекарь крутит головой:
— Еще Олеариус писал, что не любят московиты евреев, ни видеть, ни слышать, и что нет для русского большей обиды, если обзовет его кто-нибудь евреем.
— Ну, то Олеариус. Опять ты из допотопных времен что-то выкапываешь, эх, батюшка мой, Сергей Алексеевич, а что же дальше-то ваш Олеариус в рясе пишет?
Молча слушавший спор, вздрагивает отец и перебирает спутанные листки письма.
— Ах, да-да, вот:
«И стали мы, казаки, поэтому костью в московской глотке. Вот поэтому-то и перебил и перекалечил Петр донцов, и поэтому же яицкие казаки, управлявшиеся до того самостоятельно, стали теперь опекаться Военной Коллегией из Санкт-Петербурга. Возмутились они, но были жестоко наказаны и усмирены войсками под командою полковника Захарова. Столица Яика была сожжена, казаки переписаны, а атамана им сам Петр назначил. И началось управление казаками по образцам российским. Жаловались они, особенно при Екатерине, на незаконные действия присланных к ним чиновников, а по жалобам этим посылавшиеся ревизоры неизменно становились на сторону государственных чиновников. Неоднократно восставали казаки. Особенно кровавым было восстание, подавленное генерал-майором Потаповым в 1766-м, и Череповым в 1767 годах. После этого назначили комиссию, в составе которой, как в насмешку, были те же душители, Потапов и Черепов. Послали тогда казаки тайно в Петербург ходоков своих с жалобой, но, по приказанию Президента Военной Коллегии графа Чернышева, были ходоки эти арестованы, закованы в кандалы, и поступили с ними, как с бунтовщиками — казнили их. А казаков с Яика стали посылать в драгунские полки, стали им насильно бороды брить и, по приказанию присланного на Яик генерала Траубенберга, всячески над ними издеваться стали. В это же самое время, не будучи более в состоянии переносить издевательства русских властей, калмыки, бежавшие в начале восемнадцатого столетия из Китая, решили снова туда вернуться. Жалобы калмыков этих на притеснения имели, как и у казаков, только обратное действие — их еще сильнее наказывали, если они протестовать пробовали. И вот, сто шестьдесят девять тысяч калмыков на тридцати трех тысячах кибитках, сговорившись, двинулись в Китай. Яицким казакам велено было калмыков этих вернуть, но отказались казаки приказ этот выполнить. Последовавшие репрессии вызвали всеобщее возмущение. Тридцатого января 1771 года казаки собрались на площади, взяли из церкви хоругви и иконы, и под предводительством казака Кирпичникова отправились к дому, в котором проживал капитан гвардии Друнов, состоявший в следственной Петербургской комиссии. А навстречу им двинулся с русскими войсками и артиллерией генерал Траубенберг. В сражении Траубенберг был убит, Друнов изранен, Тамбовцев, тоже член комиссии, — повешен. Остальные члены комиссии были арестованы. И тут же избрали казаки собственное Войсковое Правление, а в Петербург послали выбранных для объяснения всего случившегося. Но одновременно выступил из Москвы на Яик генерал Фрейман. Произошло сражение, и казаки были разбиты…».
Тарас Терентьевич, совершенно не смущаясь, перебивает чтение:
— И вот, скажите же на милость — немцы эти, немцы, а ну куда только не залазили и чего только не делали, нашу Россию нам строя. Никто в мире столько не сделал для этого, как они. Взять хотя бы дочку Фридриха Великого, царицу нашу Екатерину…
Мама смотрит на говорящего с крайним удивлением:
— Никогда я ничего подобного не слышала. Откуда вы это взяли?
— А из истории, матушка Наталия Петровна, из истории. Есть такая книжечка, вышла она в 1840 году в Берлине, некий господин Пойс ее написал. Называется — «Фридрих Великий, юность и восшествие на престол». Так вот, в книжечке этой прямо говорится, что, по восшествии своем на престол российский, документально удостоверилась царица Екатерина, что вовсе она не дочь князя Христиана — Августа Анхальт-Цербского, а самого Фридриха Великого. Жил он с ее матерью, принцессой Иоганной Елизаветой Гольштейн-Готторпской, и родилась она в замке Дорнбург второго мая 1729 года. Вот поэтому, узнав всё сие, и прекратила она Семилетнюю войну и ушли мы из Пруссии. Как же можно против собственного фатерхен воевать-то! Да не в этом дело, не в этом, а в том, как уже сказал я, не было в мире больших русаков, чем немцы. Вот вам Траубенберг и Фрейман, вот теперешние Эверт, Штюрмер, прости Господи, да вон и мичмана Миллера возьмите, того же Фальцфейна, как подумаю, мне, русаку коренному, с ними и не равняться, да, то немцы, то Хаюшка Шафир, вот кто Русь нашу на ноги ставили, ох, простите, простите, читайте дальше, Сергей Алексеевич.
Откашлявшись, читает отец:
«Казаки были разбиты, казачье Правление было уничтожено, а комендантом Яицкого городка был назначен русский полковник Симонов. Начались аресты. Сто сорок человек сослали в Сибирь, сотни казаков наказаны кнутом и отданы в солдаты. Все позднее бежали. Наступило внешнее спокойствие, только по стопным умётам съезжались казаки на тайные совещания. «То ли еще будет, — говорили они, — еще не так тряхнем Москвой». Вот тогда, Сережа, и появился на Яике Емельян Пугачев. Историю его знаешь ты прекрасно, напоминать тебе ее не буду, хочу лишь процитировать кое-что для твоего размышления из «Сентенции о наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников», вот, слушай:
«…Сей злодей, бунтовщик и губитель, в присутствии тайной московской экспедиции допрашиван, и сам показал, что он подлинно есть донской казак, Зимовейской станицы, Емелька, Иванов сын, Пугачёв, что дед и отец его были той же станицы казаки, и первая жена его — дочь донского казака Димитрия Никифоровича — София, с которою прижил он трех детей, будучи в Яицком городке прошлого 1772 года, начал он дерзкое и пагубное намерение свое к возмущению, уговорить Яицкое Войско к побегу на Кубань. Хищное сердце злодея Пугачева возбудило сего мерзкого предателя возжечь и распалить пламена бунта, поелику расположение сердец казаков сходственно было злым намерениям бунтовщика и злодея Пугачева… Предуспев собрать содейственных богоненавистному предприятию своему, дерзнул обще с ними поднять оружие против отечества, презрев присягу монаршей власти, сделался не только изменником, возмутителем народа, но и врагом всему человеческому роду. Сего ради единодушно приговорили и определили за все учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву учинить смертную казнь, а именно — четвертовать, голову взоткнутъ на кол, части тела разнести по четырем сторонам города и положить на колёса, а после в тех же местах сжечь».
Тут вот, кстати, напомню, что правительство русское, после побега калмыков, обратилось к китайцам с требованием вернуть их в Россию, но китайцы калмыков не вернули. Значит, не мы одни, донцы, бездольным право убежища давали. Не только на Дону, но и в Китае, выдачи не было, ах, да, писал тогда Бибиков Фонвизину: «Пугачев ничто иное, как чучело, которым играли яицкие казаки, не Пугачев важен, важно общее негодование, не неприятель опасен, а общее народное колебание, дух бунта и смятения…».
А мать Степана Разина, жившая тогда в Озёрной крепости, когда были пугачевцы разбиты, выходила каждый день к Яику, пригребала к берегу клюкой плывшие по реке трупы и приговаривала: «Ох, не ты ли, мой Стёпушка, не твои ли черные кудри свежа вода моет?».
Знаешь ты его, новое, модное словечко — империализм. При случае, время у тебя, надеюсь, есть, подумай ты над этим понятием и вспомни казачью нашу историю. Жили мы, казаки, Диким Полем от Московии отделенные, по собственным нашим казачьим обыкновениям, которые теперь весь мир своим мощным демократизмом достичь пытается. В начале этого письма писал я тебе, как деды наши дела свои — и у нас на Дону, и на Яике, — решали. Недаром же есаулы жезлы и шапки свои перед народом на землю клали, чтобы подчеркнуть, что власть их им народом этим, дана, и они, прежде чем о делах говорить, кланяются народу и шапки свои и знаки достоинства своего на землю кладут. А что тогда кругом нас было? Вспомни Средневековье на Западе, Московскую Русь, Иванов Грозных, Инквизицию, Петров Великих, Азию всю? Какие там обычаи были? Вот и держались казаки по старой казачьей поговорке: «Жив казак, пока Москва не узнала». Да и быть иначе там не могло: рядом с их холопством и рабством — очаги подлинного народоправства, демократии. Вот и терпела нас Москва. И сделала всё, чтобы демократии эти уничтожить, под себя подмять, ввести в них обычаи свои и порядки, и всё то, что теперь империализмом называется. И пусть толкуют мне, что хотят, но утверждаю я, что первая по захватничеству, по империализму держава в мире это она, Русь наша, матушка.». Опять не выдерживает Тарас Терентьевич:
— Ну и попал же я в компанию! Разделывают мою матушку Русь, честят, хоть святых выноси!
И снова мгновенная реакция сестры милосердия:
— А что? Скажете не правильно пишет? Против этого русского империализма еще декабристы поднялись, против него говорили, ведь это они еще тогда всю Россию на тринадцать держав и две области разделили… применяясь к местным обычаям населения, к народностям…
Смущенно, тихо открывает двери Карлушка и сразу же садится на первый попавшийся ему стул. Мама хлопочет с угощением, пододвигая тарелку гостю, а Тарас Терентьевич ворчит:
— Этак мы «Библию эту» нонче и не дочитаем. А ну-ка, Сергей Алексеевич, что там дальше-то.
— А вот вам и дальше, слушайте:
«Москва, первопрестольная столица наша, ей мы теперь служим, кладем за нее головы наши, и видим всю страшную неспособность, косность, преступность ее представителей, бросающих собственных солдат своих на убой лишь только потому, что ни на что не способен больше угодный царю-батюшке министр. Что нуль он и ничтожество. Вон господин Сухомлинов, прекрасно, конечно же, знавший о нашем с Францией союзе и о том, что теперешний наш главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, еще за два года до войны ездил в Париж на совещание с французским Генеральным штабом для координации действий в предстоящей войне, которая этим французам и англичанам позарез нужна была, он, наш министр, на трехмиллионную русскую армию имея всего 883 пулемета, предполагал делать их, новых, в год по 454 штуки. Ну не полный ли идиот?».
Карлушка кашляет и смотрит на отца так просительно, что прерывает он чтение:
— В чем дело, Карлушка?
— Ох, Поше мой, разве я не всегда говорил, что еще Писмарк…
Тарас Терентьевич зеленеет:
— А пойди ты к лысому чёрту с твоим Бисмарком. Что ты с ним путаешься, когда с того времени добрая сотня лет прошла. Для всех нас теперь ясно, что в войну эти союзнички наши нас толкнули ради только их собственных интересов, да куда же теперь денешься…
— Ага! Кута тенешься? Не нато пыло с Дойчланд рвать, а нато пыло…
— Пыло-пыло, да уплыло! Снявши голову, по волосам не плачут! Теперь нам думать надо, как мы из каши этой выкрутимся. Вот и всё. А ну, ради Бога, Сергей Алексеевич, дальше.
Отец невозмутимо читает:
«…Вот сейчас вступил новый министр военный, и знаете ли вы сколько он пулеметов потребовал? Тридцать одну тысячу! Сравни и пойми всю преступность прежнего министра. Хоть и священник я, а, попадись он мне в руки, повесил бы я его на первой осине, мерзавца. А как мы теперь воюем, расскажу я тебе получше всех тех газет, что ты там читаешь. Девятая наша армия на Серете за пять дней наступления взяла тридцать тысяч пленных, сделав прорыв шириной в шестьдесят километров. Две пехотных и две кавалерийских дивизии должны быть развить дальнейшее наступление, но не только снарядов у них, даже ружейных патронов, не оказалось. Командующий армией генерал Лечицкий просит патронов, и получает — отказ. Вот и «отошел он на исходные позиции». А ведь мог и дальше гнать да гнать. А как ты думаешь, какие это настроения в армии создает? Да вот те, о которых когда-то Бибиков писал: «Общее негодование, народное колебание, дух бунта и смятение». Понял? И вижу я здесь, как негодование это и дух бунта нарастают и крепнут, и куда мы приедем, если Господь Бог нам чуда не пошлет, сам я не знаю. Боюсь и думать. А теперь еще немного о старом знакомце нашем Распутине — всё больше и больше забирает он силу, и, что мне особенно страшно, высокие деятели церковные тоже в сетях его. Тут напомню я тебе, что вовсе не первый он знахарь при дворе нашем. До него подвизался какой-то французский прохвост Филипп, за услуги получил он от Военной Медицинской Академии звание доктора медицины, а от Правительства нашего звание статского советника, и щеголял в военной форме, а на родине его, во Франции, звание лекаря ему не признали. Еще один был, захватил его при дворе Гришка Распутин, косноязычный блаженный Митя, издававший только какие-то нечленораздельные звуки, но звуки эти считались при дворе за духовные вещания с того света. Этого Митю выжил Распутин из дворца сразу же. Особенным почитанием пользовалась у царя с царицей и какая-то Паша из Дивеевской обители. Она тоже выкрикивала непонятные слова, а монашки царице слова эти, как божьи указания, переводили. Императрица Мария Федоровна Пашу эту иначе как злой, грязной, сумасшедшей бабой не величала. Вот всех этих докторов, блаженных и юродивых и разогнал Гришка, и сам во дворце крепко засел. Идти против него, значит, идти против самой царицы, против ее веры, против ее доминации в царской семье. А ведь царица-то философию штудировала! Командует он всем и вся, доверяет только Вырубовой, дурище, влюбленной в Гришку. Никаких при дворе развлечений, ни удовольствий, ни балов, ни выездов, только семейные интересы, мистика и молебны, обедни, стояния, посты, исповеди, бдения. Господи прости — сам я священник, а этого никак не пойму. И еще — экономия! Сведение семейных расходов на минимум, донашивание старых платьев и мундиров. Наследника престола видели, как он на прогулках старые платья сестер своих носил. Жалко — добро пропадет! Плюшкины на престоле всероссийском. А царь — добрый, сердечный, совершенно безвольный, в жену свою влюбленный, как молодой корнет, фаталист, раб этой невозможной женщины. Пробовал, было, дворцовый комендант царю что-то против Распутина сказать, да так ему царь ответил, что старика удар хватил. Позволил себе против «старца» епископ Феофан выступить, так сразу же его в провинцию выгнали. Небезызвестный Илиодор на квартире епископа Гермогена вместе с блаженным Митей повалили пришедшего туда с визитом Распутина на пол и хотели его оскопить, да одолел он трех и убежал. Гермогена сразу же в какой-то монастырь, к чёрту на кулички, сослали. И теперь устраивает у себя приемы царский «собинный» друг Гришка. Тут у него весь высший свет и духовенство в глазки ему заглядывают, милости ищут и царских милостей через него добиваются. Во дворце ведет себя Распутин, как хочет, в спальни великих княгинь входит тогда, когда лежат они еще в кроватях раздетые, обращается с ними вульгарно, по-хамски, двусмысленницы им говорит. А когда спросили его, правда ли это, что мылся он в бане вместе с двенадцатью великосветскими дамами, ответил он: «Это им для ихнего смирения нужно, это я, чтобы их унизить, ишь ты, графини да княгини, а меня, грязного мужика, сами голые моют». При случае сказали это царице, а она, будто только того и ожидала, сразу же из столика книжку достала: «Юродивые, святые Русской Церкви». И показала ею же подчеркнутое место, а там написано: «У некоторых святых юродство проявлялось в форме половой распущенности». Значит, может тот Гришка, с царицына благословения, делать пакости, какие только захочет. И смещает этот мерзавец, и назначает на должности и архиереев, и министров, и епископов. И ползут об этом слухи в армию и гуляют в тылу, и разлагают солдатскую массу и приводят в отчаяние офицеров. И должны они — и дальше гибнуть на неприятельской проволоке или от удушливых газов, или в страшном артиллерийском огне пропадать, сами ни патронов, ни снарядов не имея. Не удивись, Сергей, ежели всё кувырком полетит. Так, кажется, в одной шансонетке поется. И еще одно дополнительно сказать я тебе хочу: недаром я здесь о Пугачеве вспомнил, было тогда всеобщее негодование, народное колебание, дух бунта и смятение. Сейчас они есть, но для нас в тысячу раз страшнее, потому, что если начнется что-нибудь, то не простой Пугачев придет, а ученый, умелый, с идеями, которыми интеллигенция наша, троном совершенно игнорируемая, давным-давно заражена. С идеями, которые поднимут наши массы, а тогда… Снова пришли времена, когда, того и гляди, новая, страшнейшая, пугачевщина начнется. Вот и боюсь я, что опять наши казачки, как мать Разина, к Дону выходить будут и, пригребая трупы, плывущие по реке, говорить: «Ох, не ты ли, Стёпушка мой, не твои ли черные кудри свежа вода моет?». Ну прости меня, Сергей, но страшно мне, чует сердце мое беду неминучую, смотрите там в оба, берегитесь, и да спасет вас всех Господь Бог наш небесный.
Отец Тимофей.»
После долгого молчания первым приходит в себя Тарас Терентьевич. Потянулся он к графину, налил себе и Карлушке, вопросительно взглянул на остальных и, не заметя ни у кого протеста, налил всем остальным.
— И еще по одной приводит Бог выпить. Используем же случай сей немедленно, пожелав друг другу здоровья и благополучия. Да и разойдемся по домам. Кто его знает, что нас ждет и какую кончину принимать придется.
Карлушка ерзает на стуле:
— А я фам каварю: фот если пы всё Писмарк слюшаль… Тарас Терентьевич вдруг изо всей силы бьет кулаком по столу:
— А чтоб ты сдох с Бисмарком твоим!
Выскакивает в прихожую, быстро надевает шубу, нахлобучивает шапку и вылетает на улицу.
* * *
Вечерами, возвращаясь из училища, переходит Семён широкое поле, доходит до кладбища, перелезает через развалившуюся кирпичную ограду, идет по виляющей меж провалившимися склепами дорожке и выходит через всегда настежь открытые ворота на улицу. Почти каждый раз он должен остановиться и ждать, пока не пройдут с занятий роты камышинского Запасного батальона. Солдаты одеты хорошо, шинели пригнаны ладно, винтовки, да-да — винтовки, взяты на плечо, выровнены, как по шнуру, солдаты идут весело и браво, как один, поднимая и опуская руки в такт широкому пехотному шагу. Подтянутые фельдфебели и унтер-офицеры, стройные офицеры, выровненные ряды крепко отбивающих шаг, строго соблюдающих интервалы взводов, ах, да пусть отец Тимофей пишет, что хочет, вот она наша армия, еще покажет она немцам, где раки зимуют. А что он там страхов насобирал да понаписал, вон и отец говорит, что надо бы ему отдохнуть, в отпуск уехать, отдышаться да отоспаться, вон страхи его и прошли бы. Значит, коли есть даже в Камышине у солдат винтовки, коли маршируют они четко и красиво, коли поют так хорошо… Значит, нечего зря панику разводить!
* * *
В субботний вечерок, а темнеть стало гораздо позже, — весна в полном разгаре, можно будет, несмотря на запрещение реалистам оставаться допоздна в городе, можно будет снова прогуляться по пристани, поглядеть на пароходы «Кавказ» и «Меркурий», «Русь» или «Самолет», послушать, как они, все по-разному, гудят. И чего только нет на Волге! Всё завалено, запружено бесконечными грузами, целый день гудят буксиры, грохочут тяжело перегруженные подводы и фуры по турецкой мостовой, стоит стон от песен, выкриков, ругани и бабьих визгливых завываний, предлагающих бублики, квас, тарань, кислые щи. А что если заглянуть к баталеру? Давно не видались!
Сквозь неплотно закрытую дверь слышен теперь спор нескольких голосов сразу. Толкнув дверь, входит Семён в прихожую и останавливается на пороге. Налево, сложив на груди руки, прислонившись к печи, стоит баталерова жена, высокая, стройная, видная баба, у стола сидят два солдата, только в гимнастерках, распоясанные, раскрасневшиеся, с растрепанными шевелюрами. Их шинели и фуражки лежат рядом, на лавке. Матрос сидит к входу спиной, и гостя видеть не может, не замечает его и хозяйка, глядящая на пехотинцев. Один из них, чернобровый, еще сравнительно молодой, другой постарше, белобрысый, веснушчатый, смотрит на хозяев и говорит громко, почти кричит:
— А я тебе што толкую? Щи да щи, борщ да борщ, каша да каша! А они, офицерья, только повернулси, вот и тащит ему денщик разные шнитцеля с каклетами. А наш брат, говорю я тебе, што ни день…
Не меняя позы, презрительно отвечает солдату хозяйка так, будто ей с ним и говорить противно:
— Только зря брешешь. Будто сами мы ничего не знаем. Дома-то за такие щи ты бы три раза «Камаринскую» отхватал. А попал в армию, и зачал претензии выражать. Хучь и жрешь там, как ни в себя, а вишь ты, всё тебе не так.
Чернявый заступается за товарища:
— А какое же есть такое право, што должон наш брат один квасок хлебать, а они, офицерья, только и знают, што каклеты жрут.
Матрос подставляет налитые рюмки поближе, видно, хочет успокоить:
— Да вы не дюже, эк дались вам энти каклеты, вон у нас, во флоте…
Хозяйка и не ждет, когда муж ее кончит говорить.
— Ишь ты, какие главные командующие здесь понасобирались! И сами не знаете, чего вам надо. Шницеля им давай! А вы, вон, на мово поглядите: одна нога калеченная, тоже целыми годами один квасок хлебал, а, гляди, и хату постановил, и лодок у него штук пятнадцать, и хозяином стал. Своим горбом заработал, и у самого есть, и людей угостить может.
Но снова встревает в разговор белобрысый:
— Во — шесть недель нас тут обучали, а вскорости на фронт погонют, а на кой оно нам нужно. Што он, немец, до Дубовки нашей дойдет, што ли? Да ни в жисть! Матрос начинает сердиться:
— Эк, городишь, до Дубовки. Тут об всей нашей Расее разговор.
— А пошла она, Расея твоя, знаешь куды?
Матрос супит брови:
— Ты не дюже шуми, при бабе моей не дюже…
— Г-га! При бабе его не дюже! Тоже в паны лезет. За офицерьёв стоит! — и обратившись к товарищу: — Пошли отцель. Нам у офицерских потатчиков делать нечего.
Оба вскакивают, сгребают шинели и фуражки, и выскакивают на улицу. И матрос, и хозяйка выходят вслед за ними на порог.
Прижавшись за дверью, затаив дыхание, слушает Семён и дальше:
— И ступайтя, ступайтя по-добру, по-здорову. Ишь ты, какого духу набрались, к женатому человеку в хату пустить невозможно.
Отойдя на приличное расстояние, солдаты вдруг оборачиваются и, как по команде, начинают так ругаться, что даже Семён, достаточно по пристаням поболтавшийся, ничего подобного в жизни своей не слышал. Подняв высоко кулаки, грозят они матросу:
— Погоди трохи, пустим мы тебе красного петуха, гярой цусимскай!
— А ну, спробуй, только подойди, пехота чёртова, я вам рёбра перечту!
И лишь теперь замечают хозяева прижавшегося за дверью нового гостя.
— Тю, дружок сердечный! Как раз в самую баталию влип. Заходи, заходи.
Обняв Семёна за плечи, ведет его хозяйка в хату, бросая сердитые взгляды на мужа:
— И сроду у него так, насобирает голытвы, а потом чухается.
— Антирес у меня есть, бабья ты душа, што и как они говорят, послухать. Ить их от ихнего крестьянского дела оторвали, поди, детишки у них голодные сидят, а ты мне толкуешь…
— Получают бабы ихние от казны вдосталь. Сроду в жизни столько они не имели, как теперь, зря ты только мелешь.
Хозяйка тащит из печки горячий чугунок, ставит его еще кипящим на стол и раскладывает деревянные ложки, предлагая гостю отдельно расписную миску.
— Ты, знаю я, сам хлебать привык, ну и действуй, я не неволю.
Молча хлебают они горячее, как огонь, варево. Облизав ложку и положив ее на стол, — знак, что сыт он и больше предлагать ему не надо, смотрит баталер на гостя, на жену и разводит руками:
— Вот слухаю я, слухаю и одного понять не могу: ить у них ни об чём ином разговору нет, как об земле. А у нас, бывало, сколько идеев разных было. И што и как для всех, как есть, получше подогнать, што и как исделать, штоб и рабочий, и мужик, и чиновник, ну и вапче там, еще какие люди, от жизни пользоваться могли. Эти одно: давай им землю, и всё тут! До Дубовки ихней немец не дойдет! А што, окромя Дубовки энтой, еще тыщу миллионов разных людей есть, того им никак не понять!
Кладет на стол ложку и хозяйка:
— Вот и нараспускали вы этих идеев ваших, а теперь кто с ними сладит? Ноне они у меня в хате мой разные бессовестные слова говорят, а завтря?
— А ты не дюже, чёрт он никогда так не страшен, как его малюют…
Давным-давно стемнело, начался и окончился дождь, пора домой. Поблагодарив хозяев, выходит он на порог, матрос накидывает себе на плечи какую-то одежину и идет его провожать.
— До парка я тебя предоставлю, а там давай полный ход, потому следят надзиратели за вашим братом.
Не успевает Семён сделать и десятка шагов, как слышит из соседней аллеи шум, возню и крики. Две темные фигуры склонились над лежащим на земле человеком в форме надзирателя. В тусклом свете фонаря с ужасом узнает Семён Ивана Ивановича Дегтяря. Да ведь это же наши реалисты старших классов, хоть и переоделись они, но узнаёт он их сразу же. Слышал он, давно собирались они избить Ивана Ивановича за чрезмерную его рьяность в ловле запоздавших на вечерних гуляниях учеников. А напротив, под фонарем, историк, старенький Пифагоров. Видно, и ему досталось, стоит он, схватившись за фонарь, фуражка его лежит рядом с ним на земле, шинель вся забрызгана грязью. Совершенно растерявшись, глядя на бесформенный клубок людей посередине аллеи, кричит вдруг он громко и отчаянно:
— Иван Иванович! Когда кончится это ужасное побоище, захватите, пожалуйста, и мои калоши!
И, схватив фуражку, бежит к центру парка. Бившие надзерателя бросаются врассыпную, и один из них наталкивается на Семёна — это Костя из шестого класса. И все в мгновение ока исчезают в темноте.
— Кар-р-раул! — кричит Иван Иванович и, с трудом поднявшись, усаживается в грязь посередине аллеи. Подбежав к избитому, наклоняется над ним Семён и пытается помочь ему подняться на ноги. Смотрит тот на него, еще ничего не соображая, и вдруг, узнав его, кричит:
— И т-ты, С-Семён?
Из кустов возвращается преподаватель истории.
— Н-неправильно! Следовало бы сказать, согласно свидетельству летописцев: «И ты, Брут?», но, как я это утверждаю, в данном случае было бы сие неуместно. Участия ваш Семён в побоище этом не принимал, но движимый чувством любви к ближнему, даже поверженному на землю надзирателю, поведением своим доказал…
Поддерживаемый Семёном, надзиратель с трудом поднимается с земли, смотрит на историка с перекошенным от боли лицом и шепчет свистящим голосом:
— А вы, чёрт бы вас побрал, хоть бы теперь забыли, что вы не на кафедре.
— Решительно протестую против неуместного тона, но, приняв во внимание…
Схватив Семёна за руку, тянет его Иван Иванович в сторону.
— П-пойдем, пойдем от этого ч-чудака.
Пифагоров разводит руками:
— История неоднократно нас поучает: это ошеломленные неожиданным нападением народы…
Конца его фразы они не слышат, да и некогда ему: вспомнил он о своих калошах и ищет их теперь в грязи размокшей от дождя аллеи.
А в реальном училище, когда потребовали от Семёна назвать имена нападавших, — на месте преступления найден был форменный поясной ремень и фуражка, — сказал он, что разглядеть их не успел. И поставили ему за поведение четверку. За пребывание в парке после восьми часов вечера. Идя домой совершенно разочарованным в людской правде, был он нагнан в парке одним из нападавших. Проходя мимо него, не останавливаясь, проронил тот на ходу:
— Что не выдал — спасибо. А что попался — дурак. Свои собаки дерутся — чужая не приставай!
* * *
В этот день весь город был на ногах. Еще вчера, с вечера, пронеслись слухи, что пригонят пленных австрийцев и поместят в старых казармах. И вот, этак часам к десяти, собравшаяся на Пушкинской улице толпа стала нервничать, люди вдруг заговорили, затараторили, заволновались, всё пришло в движение. Собственно — почитай, одни бабы собрались со всего Камышина к входу в казармы. Лишь там и тут можно было видеть то купца, то ремесленника, то мещанина, то мальчишек, то полицейских, ну, а баб, тех — тьма-тьмущая насобиралась. И у каждой в руках узелок со снедью, зная, что никому на чужой сторонке не легко, и что собственные ихние сыны, племянники, внуки и мужья тоже, поди, где-нибудь там, на фронте, холодные-голодные и некому их ни накормить, ни приветить. Вот и подадут они теперь чужому, нуждающемуся, а Бог-то, всё ведь Он видит, всё заметит, и, глядишь, — там, то ли в Пруссии, то ли в Галиции, то ли в Царстве Польском, приютит и обогреет кто-нибудь и нашего. Материнские и женины сердца, все они, во всём, как есть, свете, одинаковые. Отзовутся и там люди так, как мы здесь делаем.
Первым вывернулся из-за угла улицы высокий, еще стройный, но совсем уже пожилой, офицер, бородатый, запыленный, порядком, видно, уставший. За ним — добрый десяток таких же, как он, пехотинцев, подбившихся, сумрачных, с ружьями на ремне. И вдруг вытекла и запрудила всю улицу толпа пленных в шинелях голубоватого цвета, в чудных, вовсе не по-нашему скроенных шапчонках. Лишь там да тут видно штыки беспомощно озирающихся конвойных, затертых толпой кинувшихся к австрийцам баб. Сердито оглянувшись, не сказав ни слова, тем же размеренным шагом идет офицер и дальше, к настежь открытым воротам казармы. И так же, по инерции, катится за ним беспорядочная толпа, видно, совершенно растерявшихся пленных. Суют им бабы в руки и за пазухи принесенную снедь, берут они всё это неуверенно, удивленно озираясь. Весь шедший до того строем транспорт превращается в какую-то копию камышинского базара, в котором чувствуют себя несчастными только офицер и солдаты конвоя, оттертые бабами к стенам домов. Но и такой один австриец нашелся, который сразу же смикитил, в чем тут дело. Подхватив обеими руками полу шинели, отбросив на затылок кепи, маленький и кривоногий, прыгал он от одной бабы к другой и, весело щерясь, кричал:
— Тавай клеп! Спасипа!
В толпе весело рассмеялись. Кинулся народ получше рассмотреть развеселого австрийца, улыбнулся скупой улыбкой и офицер. Один из конвоиров не выдержал:
— Налетай, бабочки, облюбовывай какого покрепше!
— У, чёрт непутевый, совести в тебе нет!
— Ему, поди, завидно!
— А то нет — а мы, што ж, не голодные?
— А ты к своей поди, она тебе не только хлебца…
— Эк, вяжешь впоперёк! Да она у меня в Пензе!
Разбитного австрийца втолкнули в строй, обернувшись к пленным и шагая задом наперед, крикнул, крикнул что-то офицер громко и сердито, оттеснили конвоиры баб на тротуар, и, сузившись, сбившись у ворот в кучу, стала втягиваться во двор казармы бесконечная колонна. А бабы и дальше молниями подскакивали к австрийцам, совали им в руки то хлеб, то сало, то бублики и отскакивали назад от сердитых окриков охрипших конвойных. И бабы, и многие пленные плакали. Стало их и Семёну жалко. А ведь правильно бабы делают. Кто теперь Гаврюше или Алексею, или дяде Воле, там, в Галиции, яичницу сжарит? А офицер симпатичный, только вид делает, что сердитый. А бабы, глянь, глянь, и конвоиров не забыли. И им в карманы шинелей и махорки, и деньжат, и иное что, подходящее, суют…
Крепко задумавшись, пришел он домой и тут же узнал, что дамы благотворительного общества устраивают лотерею аллегри в пользу раненых воинов, и наших, и австрийцев, и что мама принимает в ней деятельное участие. И решил он пожертвовать на лотерею свой пенал, а кроме того, возьмет из копилки полтинник и тоже в дамский комитет отдаст. Пусть какой-нибудь Макс, или Франц, сальца посолонцует. Отвоевался он, и, конечно, лежачих не бьют.
А через неделю, на устроенной в парке лотерее и народном гуляньи с военной музыкой, больше всех продал билетов Семён. Бегая от одной группы собравшихся горожан к другой, подставлял он кружку для пожертвований чуть ли не под нос каждому, совал им в руки беспроигрышные билеты и, смеясь, кричал:
— Тафай на клеп! Танке шён, спасипа!
Какой-то толстый купец, зайдясь от смеха, полез, вытянул новую десятку и засунул ее в кружку.
— Молодца, парень! Выростешь — приходи в мои анбары, сидельцем возьму. Вижу ухорез из тебя выйдет.
Плача и сморкаясь, шепчет объемистая его супруга:
— Ить и они, хучь и австрийцы, а тоже, поди, чувствуют.
* * *
Никаких особенных перемен за зиму эту на хуторе не произошло. Так же шумела мельница, так же, сидя на мосту, выгрызал Буян из хвоста блох и репьи, такой же быстрой была Маруська и, как всегда, полная хлопот и забот, встретила их бабушка. Мишка подрос, возмужал, да и был он на два года старше своего друга, выглядел уже совсем взрослым, и с тревогой посматривала на него мать: не дай Бог война продлится, придется тогда и ему воевать идти. Этого еще недоставало!
На мельнице увидал Семён и старого своего знакомого деда-Долдона. В мастерской человек пять хохлов-ольховцев, да два, тоже пожилых, клиновца, да две казачки из Разуваева. Давно уже вечер опустился, кончив струганье доски, зажег мельник лампу, повесил ее высоко над верстаком на стену, залез рукой в шкаф со «струментом», вытащил полный махорки кисет и курительную бумажку, пустил всё это по рукам, закрутили помольцы козьи ножки, дружно их распалили и посмеивались, наблюдая за кашлявшими от табачного дыма казачками. Один из мужиков, сплюнув на пол, улыбается:
— Н-да. Бабьему нутрю табак дело не подходящее.
Разуваевский старик, только что вошедший, подхватывает:
— А ты не говори. Я вон в Москве побывал, сам видал, как там барыни разные очень даже просто папиросы курють.
Одна из казачек кашляет:
— Быть того не могёть!
— А чего же — не могёть. Был я там, сын мой у есаула Плотникова вестовым, а жана есаульская московская баба, пришел сын мой туда на побывку, а мине — письмяцо, вот и мотнул я туды — Москву поглядеть и сибе москвичам показать. Курють там бабы, как те трубы фабришные, страсть и глядеть.
Не молчит и другая казачка:
— Видать, правильно старые люди говорили, што конец свету подходить. И перьвый тому знак — это когда люди один одному огню давать зачнуть, значить, прикуривать. А второй тому знак — бабы штаны носить зачнуть.
Один из мужиков тоже вставляет свое слово:
— До этого вроде еще не дошло.
— Ты тольки трошки погоди, оно дойдеть.
Микита садится на верстак.
— А чего ж — не дийшло? Дийшло! Сам я бачив, як у пана Мельникова одна якась пани, що з Питерьбургу приихала, штанцы носэ. Бона кожного дню вэрьхи издыть. Так в нэи таки вузьки штаньци, так колино обтяглы, аж дывытыся срамота. Завжды, як на коню скаче, ти штанци одягае.
Все ольховцы кивают головами:
— Эгэ ж! И мы бачилы. Завжды вона в тих штанцях издыть.
Разговор прерывается, дед-Долдон обращается к отцу:
— А што оно там, вашесокблародия, на военном тиатри действиев? Какия новостя?
Отец коротко рассказывает, что прочитал в газетах, и быстро умолкает. Сразу видно, что слушатели либо ни одному слову не верят, либо вести эти вовсе их не интересуют. Долдон только сплевывает на пол:
— Н-да… пишуть… тольки всё оно как-то вроде не туды получается.
— Брешут.
— Писать можно, бумага — она всё терпит.
— Дал бы Бог, да вскорости наши одолели.
— Жди!
— То ись, как так — жди! И должны ждать, и Бога молить, штоб наши побядили. А то ежели мы таперь немцу холку не намнем, то такая у нас чихарьда выйдить, што знать не будем, куда поворачиваться.
— И очень даже просто!
— Во, об чём я и толкую. Как послушаешь таперь, што промеж народом говорить, да как ко всему приглядисси, то и приходится Бога молить об скорейшей победе и одолении, штоб поторопил войска свои наш вярьховный командующий, яво царское вяличество, да всыпал бы тому немцу по перьвое число.
— А ты гляди, штоб тот немец да нашему верьховному главному командующему, яво царскому величеству, сам поперёд по первое число не всыпал.
— И даже очень просто, што всыпать могуть. Польшу-то вон отдали. Скоро немец и на Петербург, и на Москву пойдеть. Вон, говорят, возле Киева зачали наши окопы рыть.
— Ну ты зря не бряши. Употееть немец, покель до Москвы дойдеть. А царю и государю нашему должны мы, казаки, полную победу завсегда жалать.
— Мельник поднимает голову:
— А чему ж цэ тилькы вы, козакы?
— А потому, што, ежели царя не будить, то и нам решка.
— Тю!
— Вот те и тю! А ты сам круг сибе оглянись — вон, хучь хохлов своих возьми, когда я мальцом был, Ольховки энтой, почитай, што и звания ее было. А таперь скольки их набегло? Девять тыщ. И все без зямли, и все сидять и на нашу казачью землю зубы точуть. Вот таперь и прикинь: ежели царь руку свою над нами дяржать не станить, хто ж нас оборонить?
Все молчат. Умолк и дед-Долдон. Отец толкает Семёна в плечо:
— Кажись, ужину время. Ну — дай Бог здоровья.
Гул голосов провожает уходящих. Все дружно желают им всего хорошего.
Снова подталкивает его отец:
— Понял ты, почему они молчали?
— Понял. Правду дедушка-Долдон сказал.
— Так вот и запомни ее, правду, эту.
Было это так часов в девять утра. Договорившись с Матвеем, чтобы подседлал он ему Маруську, побежал Семён в свою комнату захватить ножик, нужно ему хвороста нарезать для куриных гнезд, старые поизносились и давно уже жаловалась бабушка, што ей штук десяток новых надо, только вот настоящего хвороста, кроме как в Середнем Колке, нет, а то ведь беда-то какая, куры в лесу начивають. Вот и подседлал Матвей Маруську, возьмет он с собой и Жако…
Чист летний воздух, солнце уже хорошо припекает, нет на небе ни облачка, трещат воробьи, раскагакались, раскудахтались, распелись куры, гуси, утки, цыцарки, индюшки. Носятся в небе ласточки, бодро шумит мельница, и никого, ни души не видать по буграм, по степи, по лугам…
Не успел Семён отъехать, как почувствовал беспокойство Маруськи, видно, что-то учуяла. И действительно, мельтешат в раскаленном воздухе какие-то всадники. Сколько их? Один, два, три, четыре, и тарантас за ним катит. Да кто же это такие? Приложив руку ко лбу козырьком, всматривается повнимательней: «Эх, бинокль бы мой сюда… стой, стой, ну, конечно же, впереди это дядя Андрей на рыжем. А кто же с ним, погоди, погоди…».
Семён, прогрохотав по мостскам, выносится навстречу идущей галопом кавалькаде.
— А ну-ка, Маруська, нажми!
Далеко сзади остался стелящийся по земле Жако. Несчастный — да с ним кондрашка приключиться может. Ближе, ближе, и уже нет сомнений! Дядя Андрюша, Гаврюша, дядя Воля, Алексей, и в тарантасе тетя Мина и тетя Вера. Семён едва удерживается в седле — налетевшие с двух сторон Гаврила и Алексей подхватывают его под мышки и чуть не сбрасывают с седла.
— А ну — кто первый!
Пригнувшись к луке, гикнув, как скиф, выносится вперед Гаврюша, за ним — Алексей, потом Семён, и с серьезным и деловитым видом жмет за ними дядя Андрей. Совсем на Маруськином хвосте, что-то крича и смеясь, скачет дядя Воля на своем Карем. Чуть не разнесли они вдребезги старый мост, сгрудились на втором, через канаву, и всё же первой стала перед бабушкой, как вкопанная, Маруська. Матвей занялся лошадьми, час от часу приговаривая: «Вот те и животная! Всё, как есть, понимает».
Только за столом наступает относительное спокойствие. Отец смотрит на всех сияющими глазами и удивляется:
— Да вы что, фронт бросили, что ли?
— Вроде этого…
Но прибежавшая бабушка помешала объяснению:
— Господи Иисусе Христе! Опять подсвинок вертушку отворил. Мотька, Грунька, Дунька! Да куды они все поразбегались? Сергей, пойди хоть ты на огород, глянь, не там ли он, а то враз все грядки разроет. Ить сколько разов говорила я, проволоку ему в нос вкрутить надо. Ить вот анчибил, нечистый дух! Наташа, а Наташа, а доглядела ли ты за тестом, ить чуть свет поставила, да дрожжи не те, грех один, а не дрожжи. Ух, а тёлка, тёлка-то…
— Какая тёлка, бабушка?
— Ох, вроде и не знаешь, да та, што с подпалиной. Марфуткой девки ее прозвали. Раз, ноне утром, и отвяжись. И пошла по всяму хутору шаплять. Полушалок мой старинный с веревки упал, в грязь его она затоптала. Теперь, поди, и не отмыть. Ведь вот беда-то какая. Сергей, а Сергей, да ты што, глухой, што ли? Ты у меня правая рука, всё одно девок не докличешься, пойди-ка ты лучше сам, заради Бога, на ледник, каймак там свежий, ноне рано утром я насбирала да на лёд отнесла. Направо он, в чугунке, дощечкой дубовой прикрыт, камушек я положила, чтоб, не дай Бог, беды какой не приключилось. Ох, Господи, грех-то какой, ить яйца всмятку варить и не подумала, ох, Наташа, Наташа, да где ты запропастилась? Ага, Мотька, беги ты в курятник да собери ты там всё, што есть, так штук с двадцать, боле не надо. — Вдруг, быстро взглянув на дядю Волю: — Стой, стой, и куды ты, как угорелая, летишь, ишо с пяток захвати, двадцать пять, да, двадцать пять штук насчитай, да погоди, постой, сама я варить буду, а то вы, как полагается, и яиц сварить не умеете.
Бабушка убегает в кухню, отец возвращается с чугунком, и приносит совсем не тот, мама смеется, и уходит за каймаком сама, от мельницы слышен оглушительный визг подсвинка, это его, наверно, мельник в катухе заштопал. Мотька приносит первую порцию пышек, смущается под взглядами Гаврюши и Алексея, и, закрасневшись, сверкнув в воздухе голыми пятками, исчезает.
Дядя Андрюша сияет, он сегодня совсем помолодел:
— Слава тебе, Господи. Не мешайте вы ей хлопотать. Ведь всё ее бабье счастье теперь в том, чтобы угостить. Ах ты, бабушка, солнце наше вечернее.
Отцу по-прежнему не терпится:
— Как же это все вы собрались? Сговорились, что ли?
Дядя Воля отвечает за всех:
— И вовсе мы не сговаривались, а приказал нам Верховный Главнокомандующий немедленно на хутора податься, насчет телки Марфутки и подсвинка разведку глубокую произвести и ему о том через месяц рапорт подать. А, впрочем, если уж серьезно говорить, то само как-то оно вышло: вон Алексей контужен был, а в строю остался, а за это дал ему командир полка отпуск на целый месяц. Гаврил, после второго Георгия, тоже командира своего упросил, потому как, если герой он, то должен же он доподлинно дознаться, все ли грядки подсвинок наш в огороде разрыл. А мое дело вовсе маленькое было: черканул меня немец палашом, да так, что три недели в лазарете рана заростала. Вот и послал меня командир корпуса домой, велел половинки проволоку в нос вкрутить, и четыре недели сроку мне на это дал.
Смеются все, особенно тетя Мина, Боже мой, какая она сегодня красивая.
— А что же это, Алексей, только один крест у тебя?
— Да ждет он оказии, хочет все три остальные за раз забрать.
Наконец, удается и Семёну вставить свое словцо:
— Дядя Воля, а дядя Воля, да дядя Воля же-е-е! А как тебя тот немец рубил?
Дядя высоко засучивает правый рукав. Немного повыше локтя виден уродливый, еще совсем свежий, синий, глубокий шрам.
— Здорово! А как же…
— Здорово, да не дюже. Не будь у меня нагана в левой руке, думаю, без меня бы вы пышки ели. Наскочил он на меня и одним ударом шашку мне из руки выбил. Видать, тоже кое-чему учился.
Потом по погонам определили мы, что ротмистром он был.
— А почему — был?
— А очень даже просто. Вылетела шашка моя из руки, а он мне голову срубить захотел, и получилось бы это у него, не подними я коня на дыбошки. Достал он меня по руке, а я в тот момент из нагана…
Входит бабушка, дядя умолкает. Не велела она при ней о войне говорить.
* * *
Мама и бабушка уехали сегодня на Разуваев, к тетке Анне Петровне, теперь можно и новости с фронта послушать. А то вчера завел кто-то разговор за ужином про войну, а бабушка перебила его и стала рассказывать, как весной кони у них петуха стоптали, а ведь такой хороший кочет был, пел как!.. Так ничего из военных разговоров и не вышло. Теперь же на балконе можно чувствовать себя свободно, и отец снова обращается к брату:
— Што же, Воля, расскажи хоть теперь, как там у вас, на фронте, дела?
Дядя затягивается папироской, и как-то нехотя начинает рассказ.
— В этом году началось у нас всё из-за французов. Опять у них под Верденом неустойка вышла. Вот и полезли мы, еще в марте месяце, возле озера Нарочь и у Якобштадта, и у Двинска, и добились того, что оставили немцы французов в покое и перебросили несколько дивизий оттуда на нас. А тот еще итальянцы сплоховали. Тоже и их выручать надо. Поэтому в начале мая и погнал Брусилов восьмую, седьмую, одиннадцатую и девятую армии на Юго-Западном фронте в наступление. Началась так называемая Галицийская битва. Тут мы австрийцам здорово наклеили, одних пленных тысяч четыреста взяли, офицеров девять тысяч, пятьсот восемьдесят орудий, почти две тысячи пулеметов, занятая нами территория что-то около двадцати пяти тысяч квадратных верст величиной оказалась. Вот и оттянули мы этим на нас с французского фронта восемнадцать немецких дивизий.
— А французы что?
— Французы что? Известное дело — аплодируют нам. Пришлось немцам и с Салоникского фронта три своих и две лучших турецких дивизии против нас послать. Горами из трупов казачьих было добыто облегчение союзничкам. А между тем на Северном и Западном фронтах полное у нас фиаско. Остановили немцы и Брусиловское наступление. А в тылу у нас полный маразм и развал. И ко всему — сотни тысяч беженцев, как саранча, на восток прут, железные дороги загружают, мрут, голодают, болеют, панику наводят. Наш председатель Государственной Думы Родзянко всё критикует и всех обвиняет, и во всеуслышанье такое говорит, что у публики волосы дыбом становятся. Сам же что-либо положительно сделать не может, помочь ничему не в состоянии, и всё дело его — разлагательство тыла и армии. «Наше, говорит он, начальство, больших операций вести не умеет, с жертвами не считается, на командные должности у нас назначают кого попало, по протекции или по приказам Гришки Распутина». И вот всё это узнаём мы там, на фронте, и можете себе представить, что теперь солдаты и казаки думают. Вся наша интеллигенция, политики, ученые, общественные деятели, все они с правительством на ножах. Само оно их от себя отвадило. В тылу же у нас всё на корню гниет. Достаточно того, что теперешним председателем правительства Штюрмер сидит. О нем говорят, что если он сегодня еще не предал, то завтра непременно это сделает. Никаких авторитетов больше никто не признает, неудовольствие всюду полное, и предчувствие у нас такое, что катастрофа неминуема. А слухи один другого хуже, страна окончательно деморализована, тыл на армию действует только разлагающе. Тот же Родзянко говорит, что высшее наше командывание либо вообще никаких планов наступления не имеет, либо выполнять их неспособно. Крупных операций проводить не может, не умеет, единообразных методов в обороне и в наступлении вообще нет и впомине. О солдатах у нас не беспокоятся, заботы о них никакой, с потерями не считаются, на фронте всё завяло, инициативы никто проявлять и думать не хочет, храбрецы перевелись, каждый, шкуру свою спасая, в кугу норовит. В союзниках у нас разочарование полнейшее. Позалазили они там, на Западе, в норы, как зайцы, и сидят в окопах, только для близиру постреливая. Навязали они нам эту войну для того, чтобы мы горами трупов наших солдат немцев ослабили, объявили французы и англичане немцам войну до последнего русского солдата. А мы теперь Николая Николаевича сменили, последнего, в кого в армии еще как-то верили. И тут Гришка Распутин победу одержал. И теперь на фронте у нас такое чувство, что вот-вот начнется всё валиться, стихийно, бурно, неотвратимо. Уже теперь солдаты наши на какие-то дикие орды похожи. А в Ставке нашей всё давным-давно голову потеряли. Отступления наши в паническое бегство переходят, дезертирство такое, что половина наших казачьих полков иного ничего не делают, как дезертиров ловят. Меж солдатами зарабатывают себе репутацийку такую, что, не дай Бог, что случиться может. Попомнят нам, казакам, всё это солдаты, я тебе говорю. Начальником штаба у Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, да одному ему не вытянуть. В тылу у нас, по большим городам, массы рабочих полуголодных сидят, и что они думают, того еще никто не знает. Скажу тебе прямо: власть наша жалкая, слякотная, дрянная, бессильная хоть что-нибудь положительно сделать. Еще раз говорю: катастрофа — лишь вопрос времени. Потеряли мы до сих пор уже четыре миллиона убитыми, ранеными и пленными. Один миллион двести тысяч в плену сидят. Все крепости посдавали, а комендант Ковенской крепости попросту сбежал. Больше миллиона беженцев по дорогам болтается. Дохнут, как мухи. В армии меж солдатами говорок такой, что задача нашего командывания всех солдат перевести. Вот маленький примерчик: в конце Лодзинской операции пришло на фронт четырнадцать тысяч солдат пополнения, и все, как один — без винтовок. А артиллеристы наши не имеют права в день больше пяти снарядов выпустить.
Отец сидит за столом, опустив голову на руки:
— Стой, стой, Валентин, погоди…
— И годить мне нечего, одно тебе говорю…
Чувствует Семён, что годить действительно больше нечего, свистнув Жако, идет он на гумно, забирается на старый стог соломы, укладывается поудобней на спину и смотрит в небо. Высоко-высоко плывут облака, нет, не облако это, а бежит по морю его бригантина «Эсмеральда». Восемьдесят восемь орудий смотрят из ее люков. На фок-мачте — черный флаг с черепом и костями. Этой ночью подойдет он к берегам Франции, и тогда — держитесь, союзнички! Покажет им гроза морей, одноглазый капитан Дьявол Востока, как под Верденом воевать надо…
Шумит мельница, вздохнув, пересчитал соломинки ветер и убежал в луга траву растрепывать. Жако пригрелся на солнце, положил нос на вытянутые передние лапы и только глазами, не поворачивая головы, следит за воробьями…
* * *
Чуть ли не полхутора Разуваева идет к ним через луга. Иные и на подводах, и верхом. Еще с раннего утра взялись за работу стряпуха, мельничиха, Дунька, Грунятка и Мотька. И подсвинка закололи, никак без этого обойтись невозможно было. Цыплят и кур с петухами несчетно. А приехавшая со Старого Хутора подвода трех баранов привезла, настойку, квас и бутылки водки. Вот тебе и запрещение продажи спиртных напитков!
Оказывается, решили дядя Андрей с отцом выставить угощение всем разуваевцам, пришедшим с фронта на побывку. И когда расселись все они за наскоро сколоченными из досок столами в саду под деревьями, насчитали хозяева одних служивых одиннадцать человек. А деды, а отцы, а бабы? И атаман хуторский пришел. В полной форме. И насеку захватил. Прежде чем приступить к трапезе, прочитала бабушка «Отчу». Молитву выслушали стоя. Окстилась она, и первая уселась, как это и положено. И Паша, и Митька, и Мишатка, и Петька с родителями вместе явились. Первую рюмку поднял дядя Андрей:
— Дорогие гостёчки! Мамаша наша родная, браты и сыны, жёнушки наши, и ты, племяш! Всё, что с нами случается, всё по воле Бога деется. Вот и привел Он нас еще разок собраться и дорогих гостей наших приветствовать. Наше дело вершим мы, казаки, как спокон веков повелось у нас — честно. Охулки на руку не кладем, и верим, что выведет нас Господь на путь истинный. Кушайте же на доброе здоровье!
Бабушке тост понравился. Лишнего зря не говорил. Зря лясы не тачал, а сказал по-божественному, так, как истинному христианину положено. Зазвенели рюмки, чокнулись и, осушив по первой, вопреки правилу, сразу же налегли на маринованую рыбу, грибки, потроха в масле, чудок, под водку, крепче посоленные. Ну и пошло: ели борщ и лапшевник, свинину и баранину, курятину и солонину отварную, ели в охотку, похваливали и о добавке беспокоились.
Сказал слово и хуторской атаман:
— Дорогая наша Наталия Ивановна! Как есть, ты промеж нас старейшая хозяйка трапезы. Премного тебя благодарим, што ты сынов и внуков выростила во славу Дону Тихому. И за то, што соблюла ты обычаи наши так, как от дедов-прадедов нам завещано было. Дай же Бог хозявам и хозяйкам, и с ними и всем нам, доброго здравия, и ишо много разов вот так, сапча, поугошшаться и порадоваться.
И этот тост бабушке понравился. А дальше больше никто и не говорил, чего тут зря болтать, когда и так всё понятно, лучше гляди, где хороший кусок, может, зазря пропадает.
Постепенно разговоры громче стали, стаканчики из-за стола поднимаются, к друг-дружке подходят чокаться, пытаются рассказать о самом сокровенном. Затянулось застолье. Повернуло солнце на бугры, но тут вынес дядя Воля патефон, приладил его на краю стола, пластинку положил, что-то покрутил, и услышали все вальс «На сопках Манджурии». Много пластинок ставил дядя, а когда дошла очередь до «Тоски по Родине», замолчали все, даже мельник Микита жевать перестал. Попросила бабушка еще раз пластинку поставить. Известные всем мелодия и слова брали слушателей за душу, сначала неуверенно, но потом смелее начали подпевать:
Поехал, поехал казак, он, братцы… …на чужбину далёко, На добром и верном коне он вороном… Свою он краину навеки спокинул, Яму, ох, не вярнуться в отеческий дом.Сев под яблоней прямо на землю, охватив колени руками, положив на них голову и зажмурив глаза, слушал Семён, как пели отцы, деды, бабки, матери и дети, все вместе, как шумом воды вторила их хору мельница.
Напрасно казачка, жана яво молодая, Всё утро, весь вечер на север смотрить… Всё ждеть она, поджидаить с далекого края, Когда ее милый казак, душа, прилятить…Долго тянется песня, поют, точно в Храме Степном, самим Господом и Богом нашим построенном, собрались они, верные Его дети, и служат обедню в ожидании Великой Тайны. Её же им, малым, не понять, не миновать и не изменить.
Кончили песню, задумались казаки-бойцы, и казачки, подозрительно вздыхая, глаза заслезившиеся прячут.
И не утерпел дедушкин дружок Гаврил Софронович, вдарил папахой об землю:
— Всю, как есть, душу вы мне, бабочки, наизнанку вывернули. Будя слюньтявить, а то столько воды в пруду набежить, што и плотину прорветь. А ну-ка ты, молодой, Гришатка, а ну, просю я тибе, вдарь ты нам какую подходящую…
Проскочив пальцами по клавишам гармошки, пустив переливы ее высоко-высоко, аж под самое небо, расстелив вихрь звуков по широким лугам вокруг хутора, хватил Гришатка-гармонист: «Посею лебеду на берегу…».
Первым схватился от стола Гаврюша, а теперь уже есаул он, и два креста имеет, подхватил соседку свою за столом, казачку чернобровую, жену бравого боевого урядника. Не стерпел и урядник, тот вывел в круг Анютку, односумову жену, ах, да что тут говорить — остались за столом только бабушка, дядя Андрей да дружок дедушкин…
Два клиновских мужичка и три хохла из Ольховки, тоже всё больше старики, сидели и они вперемежку с казаками, и рассказывал отцу один, сразу же захмелевший клиновец о Ляояне и Порт-Артуре, о генерале Куропаткине, и о том, што макака японская, солдат дело свое понимающий, ну против морозу никак не могущий устоять. Вот и надо было тогда, в Японскую кампанию, заманить их в Сибирь, да вспрыснуть снежочком так, как когда-то наши Наполеона потчевали, ни шута бы от банзаев от ихних не осталось…
И пошли тут кругом мужские разговоры. А казачки, те, што помоложе, перешли на балкон. Села мама за рояль и вальс заиграла. Подскочил Гаврюша, женский пол в беде выручать мастер известный, оглянулся, ан, вот она, всех ближе стоит к нему, как лазоревый цветок, раскрасневшаяся Мотька. И пошел он с ней в первой паре, стараясь не наступить на пальцы босых ее ног. Подскочили два разуваевца, подхватили тетю Агнюшу и тетю Веру, и не вытерпел всего этого дядя Воля, и так ударил о доски балкона сапожком своим номер сорок пятый, што весь дом вздрогнул, зазвенела жалобно посуда в шкафах и закудахтали во дворе до смерти перепугавшиеся куры. Вот Алексей вышел козырем на самую на середину и так пошел откалывать, что должна была кинуться ему на помощь тетя Мина.
Танцующих стало так много, что перешли они в сад…
Лишь где-то заполночь первым собрался уходить дедушкин дружок Гаврил Софронович, да не пустили его, отвел его отец на сеновал, дух там легкий, ночку проспать — всё одно что в раю переночевать. Но лиха беда — начало! Вон поднялись еще две пары, пошли запрягать те, што на тачанках приехали. Отделившись от компании, взяли направление на плотину пришедшие пешки четверо с бабами своими. А ночь-то, ночь какая, иголки собирать можно!
* * *
Беда не пришла неожиданно. Дня два тому назад говорил отцу мельник, что вроде из-под кауза вода просачивается. Значило ли это, что нашла она себе тайные пути, и теперь, того и гляди, подмоет всю загородку из свай, а тогда, ох, тогда хоть караул кричи?
Было это под вечер, когда отправился отец глянуть на то место. Слазил под обрыв, под самые колёса, подошел к замшелой стене свай, вместе с мельником всё кругом внимательно осмотрели. Да, в одном месте здорово земля намокла, вроде даже болотце образовалось. Велел он мельнику пойти к пруду и закрыть там затворку, чтобы в канаву вода больше не шла. Мельницу остановили, завтра — утро вечера мудренее — спустят из канавы всю воду через боковой канал, вот тогда и можно будет разглядеть, как оно там дело, у кауза.
Повечеряли в этот день рано, стояла на хуторе какая-то необычная тишина: мельница не молола — и самочувствие у всех было такое, будто что-то страшное случиться должно. Спать пошли рано, а часу так в пятом утра прибежал мельник и весь дом забулгачил:
— Пане осавул! Сергий Ликсевич! Прорвала проклята вода, всэ, як е, посносыла!
С ужасом смотрели сбежавшиеся к мельнице хуторяне на содеянное за ночь водой. Схватился, было, отец за голову, да некогда тут горевать — немедленно укатил посланный им куда-то Матвей, сам отец поскакал в Ольховку телеграфировать начальнику в Камышин с просьбой прислать с пяток пленных. А Микита, как залез с утра в промоину, так и не вылезал оттуда до вечера. Да толку-то что от этого?
Вот тут и рассказала бабушка, что мельник Микита, конешно, слова сказать нельзя, мастер хороший, дело свое понимает, но далеко ему до Егора, того, что в седьмом году от антонова огня помер. Разладилось у него что-то в самотаске, и хотел он поскорей через вал сигануть, да осклизнулся в валенке и попал ногой промеж шестерен. Ступню ему и отдавило. Пока разыскали фельдшера, антонов огонь у него в ноге начался. Перевязал его тот фельдшер и велел назад домой везти, всё одно помирать человеку, так нехай хоть по-христиански, под образами в переднем углу, в кругу родных своих смерть примет. Вот так и помер тогда Егор. А уж мастер был — что муку молоть, что столярить, что плотничать, что корзины плести, что сети или бредни вязать. Только был он всегда какой-то уж дюже серьезный. С женой, и с той, в день слово-два скажет, и тем делу конец. А главное, чем знаменит он был — слово он такое знал, знал такое слово, что за все время, пока он мельником был, вода ни разу плотину не прорвала. Сколько раз весной, бывало, — нальет вода пруд всклянь, выйдет в луга, пойдет по ливадам, все катухи, сараи, амбары, всё, как есть, позатопит, под самое крыльцо к дому подойдет и поднимается все выше. Только, бывало, воткнешь камышинку в землю, там, где воды кромка, обернулся, глядь, а камышинка твоя уж вон она где — до половины в воде стоит, будто сама поглубже забрела. Вот в таких случаях и уходил Егор на плотину. Один. Никому за ним идти не велел. Выходил он, шел по самой по обочине, сапогами наступал твердо, как раз на ту линию, куда вода пошла, а она уж там и тут, змейками, начинала через плотину виться, того и гляди, нажмет и прорвет ее, да и самого мельника с собой унесет. А он — ни в одном глазу! Идет по плотине, шепчет что-то такое, что от отца своего знал, а был и отец его тоже мельником. Да, идет это он таким порядком, шепчет, нето молитвы, нето заклинания, иное ли что, не в этом дело, а в том, что в тот самый момент, как шептать он зачал, ну прямо у всех на глазах, переставала вода весенняя прибывать. Будто завороженная, останавливалась, а поставленная на берегу камышинка, та, что вода ее затопила, вон она, опять на сухом стоит. Пошла, значит, вода на убыль, устояла плотина, никакой беды не случилось. Вот какое слово Егор тот знал. И ставил ему тогда отец магарыч, да еще какой!
А когда помер Егор и подрядил отец Никиту, так в первую же весну прорвала вода плотину и пришлось хохлов с Ольховки рядить. Эх, и содрали же они тогда с нас за кубик, попользовались случаем. Будто и креста на них не было. Страсть и сказать. Правда, рассердился тогда отец, надоело ему каждой весной ночи не спать, на плотину бегать, глядеть, стоит она или нет? И, несмотря на то, что попользовались тогда хохлы здорово, велел он им такую плотину насыпать, чтобы против старой была она в два раза и выше, и шире. И тут же кольев вербовых нарубил и побил их по обеим сторонам плотины, один от одного шагов на двадцать. И глянь — пустили они побеги, потянулись с них к небу веточки, и пяти лет не прошло, такая там аллея вербовая выросла, что то любо-дорого. Да, будь Егор жив, никогда бы вода кауза у нас не подмыла. Ни в жисть! Отец его тоже мельником был, научил его, а сам он от своего отца, от Егорова дедушки, слово то узнал. Тот Егоров дед тоже весь свой век мельником проработал. Настоящие мельники они, Господи прости, с нечистой силой знаются. А Микита, нет, не то. Не тот народ нынче пошел, мелкота, настоящего понятия в них нету, что оно и к чему…
Мишка и Семён, с набежавшими тучей из Разуваева казачатами, таскали корзинами горбылей и завалил ими Семён всю кухню. Со всех хуторов прискакали, прибежали, приехали на тачанках их обитатели, охали и ахали, глядели в страшный прорыв, ели жареную и вареную рыбу, накладывали ее себе в мешки и отправлялись по домам, горестно крутя головами. И весь следующий день прошел в ахах и охах, бабушка дак даже всплакнула, а на третий день привез Матвей четырех рабочих, сваливших у сольницы огромную бабку, которой с завтрашнего дня начнут они сваи бить.
Сразу же отправились они с отцом в Середний Колок, отметил он им подходящие деревья, плюнули они в ладони и стали валить те деревяки, обрубая сучья и обдирая с них кору, и сокрушаясь, что всё оно, конешно, хорошо, только вот лес-то сырой, дело известное…
Но вот стояла, наконец, первая свая с помостом для рабочих. Втащив туда бабку и поставив ее на-попа, приловчились рабочие поспособней, и:
— Р-раз, — крикнул старшой, и взлетела бабка высоко в воздух. — Сама пойдет, сама пойдет, сама пойдет! Р-раз, р-раз!
Под каждый возглас: «Р-раз!», — взмывала снова бабка, обрушивалась на сваю, и после каждого удара ясно видно было, как садилась она всё глубже в землю. Отмахав бабкой разов с десяток, уморившись от тяжести и собственного крика, останавливались рабочие отереть с лица пот, перевести дух.
И снова: «Эх, дубинушка, ухнем!». И снова: «Сама пойдет», и — р-раз, р-раз, р-раз! А на радостях, что свая забивается споро, запевали:
Как у нашей у Матрёны, Промеж ног кусты паслёны…Это еще туда-сюда, а вот дальше:
А мы барина уважим, По губам х… помажем.Чем они барина мазать хотели, понял отец сразу же. Спокойно взяв со стены плеть, подошел он к помосту сидевшей уже совсем низко сваи, поиграв плеткой в руке, потребовал прекратить неприличие.
Приморившись, спали рабочие после обеда часика с два в холодке, а потом снова за дело взялись, да, почитай, до самого захода солнца. Вечером послал им отец бутылку водки. Выпили они ее, похлебали, благо, рыбы невпроворот было, и поснули на сеновале. Да так храпели, что всю ночь собаки пробрехали.
Три дня били они сваи, три дня пел старшой, и чем дальше, тем озорней были его прибаутки, и всё сердитее ставал отец.
Пришла к вечеру телеграмма из Камышина, и, поужинав, отправился отец на мельницу рассчитать охальников.
А на другой день приехало пять австрийцев со старшим, отрекомендовавшимся как «баумайстер». Подкрепились они на кухне борщом, внимательно осмотрели всё, изредка лишь перекидывались скупыми словами, и без шума, и песен, неторопливо и аккуратно принялись за работу. Спорилась она у них так, что отец руки потирал:
— Видал! Что ни говори, а культура сказывается.
А ездивший в эту субботу в Ольховку за гвоздями мельник встретил там того рыжего рабочего, и велел он «перезвонить» отцу, что попомнят они ему то, как он их в ночь с хутора выгнал.
* * *
Дядя Воля, перед прощальным завтраком, отвел племянника в сторону, дал ему, чтобы бабушка не видала, большой сверток в руки и почти шепотом сказал:
— Стенка у тебя в комнате вся, как есть, оружием завешана. Бабушка на нее и смотреть боится. Выбери время, повесь и этот вот маузер. Немецкий он, офицерский, автоматический. А вот и патронов к нему сто штук. Попомни одно: может он здорово нам пригодиться.
Перед отъездом, как это и положено, все, и уезжающие, и остающиеся, присели на минутку. Снова уходят они на фронт — дядя Воля, Гаврюша и Алексей. Господи, да когда же все это кончится?
Первым поднялся дядя Андрей, за ним бабушка и все остальные. Обернувшись в передний угол, перекрестились три раза, обнял уезжающих Семён и убежал в лес, за хутор. Упал в траву и заплакал. Домой вернулся лишь к вечеру. И хорошо сделал: по всему дому пахло лекарствами, а тетя Мина лежала в гостиной на диване. Стало ей плохо после того, как проводила она обоих сынов своих и вспомнила Аристарха. Зашлась в плаче, и, как уже потом объяснил специально привезенный из Ольховки фельдшер, был у нее сильный сердечный припадок.
Замер в ночной тишине хутор. Лежал Семён на спине и никак понять не мог, зачем Гаврюша забрал Маруську? Что, у него в полку другого коня нету, что ли? Ведь убило уже под ним двух коней, очень даже просто и Маруську убить могут!.. Упал лицом в подушку, снова заплакал он, и не видел, как вылез из-под одеяла Жако, глядел в темноту, туда, где на влажной от слёз, смятой подушке лежала голова хозяина, и дрожал, дрожал всем телом. Но не один Семён в эту ночь плакал. Плакала мама, плакала стоявшая на коленях перед иконами бабушка, плакала и Мотька, убежав на сеновал. Вспоминала она танцы на балконе, всхлипывала и падала лицом прямо в пахучую степную привядшую траву и лишь под утро заснула.
А неделю спустя пропал куда-то Жако. Думали все, что прибежит он к обеду, надеялся Семён, что появится он к ужину, но и после ужина нигде его не было. Микита видел, как увязался Жако за бешеной собакой.
— Ясное дело. Бешеная она была. Почуял Жако, что и его дело дрянь, и сам из дома сбежал. Вряд он теперь вернется.
Обняла мама Семёна, прижала к себе крепко-крепко, вытирала глаза и себе, и ему, и ничего, кроме: «Сёмушка, мальчик мой милый!», — сказать не могла…
Целыми днями бродил он по степи, по буграм, по лесу, по Середнему Колку и по балкам, осматривал кусты и заросли тернов, звал напрасно своего любимца. Так и не вернулся больше Жако на хутор…
Как-то раз забрел Семён к тете Агнюше на хутор и увидел Мусю, сидевшую в любимой ее беседке. Поговорили они обо всём долго. И благодарен он был ей, сумевшей отвлечь его от постоянных дум о Жако и Маруське. Но страшно удивился, вдруг услыхав бурные звуки рояля и голос тети Агнюши:
Все говорят, что я ветрена бываю, Все говорят, что я многих люблю!Глянул он вопросительно на Мусю, обдав его быстрым взглядом, опустила она голову и прошептала:
— И так каждую неделю с тех пор, как опять наши на войну уехали. Собираются они: тетя Вера, мама, Анна Петровна, француженка, папиросы курят, пьют вино и наливку, заводят патефон, танцуют, на рояле играют, потом рассказывает им что-то такое француженка, что хохочут они, как сумасшедшие. Жду я, и не дождусь, когда снова в Новочеркасск уеду. Стыдно мне перед всеми.
А сквозь открытое окно снова слышно пение.
Закрыв лицо руками, выбегает Муся из беседки. Семён отправляется домой и натыкается на старого теткиного работника Панаса Дулю.
— Ось, чув, паныч? Бачив, яка в нас мерехлюдия йдэ? Що ни дэнь, то и пьють. А всэ через ту вийну прокляту. Воны ж вси, паны наши таки, що життя за них покласты можно, аж ось, бачте, слаба баба, слаба, ось воно, що. Ривновагу посгубылы.
* * *
Последние перед отъездом в Камышин дни ходил Семён по хутору, как потерянный, вспоминая Жако и Маруську. Всё ему опротивило, ни на что бы глаза не глядели. Часто уходил на гумно, забирался на большой стог соломы, усаживался там, наверху или в другом его конце, на земле у канавы, и, прижавшись к соломе спиной, жуя травинку, смотрел перед собой, ничего не слыша и не видя. И каждый раз, когда оставался он так совершенно один, подходил к нему несмело Буян, вежливо улыбался, ложился неподалеку от него на живот и раз за разом рывками подползал к нему так близко, что мог ткнуться носом в его сапог. Вечером поднимался Семён и, не сказав Буяну ни слова, шел за собакой, сразу же в диком восторге опережавшей его и несшейся к дому… Предан был ему Буян по-рабьи, но Жако заменить не мог.
* * *
В это воскресенье неожиданно съехались гости. Даже сам предводитель дворянства Мельников пожаловал. Приехал дядя Андрюша с тетей Миной, пришел Петр Иванович, и страшно все обрадовались, увидев Савелия Степановича. Прихрамывал он, несмотря на то, что вот уже три недели как вышел из лазарета, в котором провалялся три месяца. Совсем недалеко разорвалась от него австрийская граната, коня под ним убила, правую ногу его здорово изорвала, но, слава Богу, никаких тяжелых увечий не нанесла. Вот и получил он отпуск и отправился домой на побывку. Ходит он, опираясь на толстый чекнарь, который вырезали и подарили ему бывшие его ученики, смотрит вокруг себя весело и радостно, точно привел его Бог во второй раз на свет родиться. Да и, коли по правде сказать, не так ведь всё и просто было: смерти в глаза глянуть, и всё же уйти от нее в последнюю минуту.
К столу, специально для него, подносят мягкое кресло, подкладывают подушки, и, совершенно смущенный оказанным ему вниманием, теряется он. Выручает отец, предложивший сразу же выпить за всех наших воинов, за веру, царя и отечество кровь свою проливающих. Вот эти — царь и отечество — сразу же и приводят его в себя, и, выпив рюмку, чувствует он, что от прежнего смущения и следа не осталось. А лишь нервирует его присутствие Мельникова, заядлого монархиста, ему, и всем вообще, правду-матку в глаза сказать собирается.
После обеда, как и положено, переходят все в гостиную. Кто пьет наливку, кто потягивает вино, отец попросил стаканчик чайку, бабушка ничего не пьет, чулок вяжет, мама и тети занялись турецким кофе.
Аккуратно отхлебнув наливки, оглядывает всех сидящих в гостиной Мельников и говорит голосом сытого и довольного человека:
— Вот-вот. И всегда это у меня так бывает, когда я на Донщину приезжаю, отборная компания, гм, я хочу сказать — и общество прекрасное, и угощение великолепное, и питье первого сорта. Разрешите здоровье дам выпить?
Все пьют здоровье дам. Бабушка поджимает губы: никак тон этот ей не нравится, иначе, проще у нас говорят, да деваться некуда, большой он, Мельников, человек, всё в столичном обществе вращается, разве же такому скажешь, как и что по-человечески делать надо. «Здоровье дам!», — эк выдумал! За хозяйку в доме выпить надо, а не за каких-то там «дам». Попридумали там, у себя в Питере, и тут нам указывать норовят. Вон служивые наши, как начнут о том же Питере вспоминать, так, на шепот перейдя, чтобы никто их не расслышал, тоже каких-то, нето дам, нето дамочек, вспоминают. И смеются так, что слушать противно… Слава Богу, у нас никаких таких дам нету, а хозяйки в доме, вон, Господи прости, у Андрея сука была, Дамкой звали… грех один.
Мельников ничего не замечает, слишком обед был хорош, даже мороженое подавали. Вино тоже совсем приличное, наливка первосортная, нет-нет, живут казаки, слава тебе Господи! Нужно им что-нибудь приятное сказать:
— А теперь должен я отметить, особенно вот в присутствии нашего храброго воина, если не ошибаюсь, Савелия Степановича, что служба Войска Донского, жертвы его на алтарь отечества столь велики и значительны, что стоит и нам с вами еще раз вспомнить высочайший манифест самим Государем и Императором нашим собственной рукой подписанный, в котором вновь и вновь исчислены и подтверждены все права и преимущества, коими Войско Донское неизменно пользуется.
Дядя Андрей кашляет и переглядывается с Петром Ивановичем, отец смотрит куда-то под фикус, Савелий Степанович ерзает в своем кресле, и басит в ответ Мельникову мрачный дядя Петя:
— Это о каких же правах и преимуществах говорить вы изволите? Уж не о тех ли, что повелись у нас еще со времени царя Александра Третьего, а никак они ни что иное, как самая обыкновенная милитаризация школ наших. Или, лучше, иначе сказать, борьба властей предержащих против просвещения на Дону? Не писали ли еще тогда нам из Питера, что стремление казаков к учреждению стипендий в университетах превышает потребность в лицах с высшим образованием? Ведь тогда еще решили там, в Питере, что нужны казакам школы лишь профессиональные, для военной службы или для занятий практических, по отраслям сельского хозяйства или же ремесленные. Не сократили ли еще тогда число наших стипендий наполовину, предоставив казачьей молодежи учиться только в военно-учебных заведениях? Не закрыли ли еще тогда в Усть-Медведице, в Каменской, в Нижне-Чирской все гимназии и по всему Дону все женские учебные заведения? А что вместе этого открыли? Да кадетский корпус. Вместо докторов, инженеров, профессоров, должны мы, казаки, обязательно только на офицеров учиться. Но и этого мало показалось — ввели в ремесленных школах военную дисциплину, военные упражнения, соответствующую гимнастику, обучение фронту, отдание чести. До того пошли, что в уцелевших гимназиях, и в них, всё это ввели. Это ли ваши права и преимущества?
Мельников краснеет:
— Простите, я вас совершенно не понимаю! Тон ваш, Петр Иванович, кажется мне более чем странным. Почему вам, казакам, какое-то особенное образование нужно? А разве это плохо: два гвардейских полка в самом Санкт-Петербурге — воины ваши постоянно на глазах самого Государя-Императора! Уже не говоря о Конвое Его Величества! Исключительно казачьем. Уже не говоря о том, что августейшим Атаманом всех казачьих войск является его императорское высочество наследник и цесаревич Алексей Николаевич! А тут прибавлю я, между нами, разве не помните вы, что сказала матушка-царица Екатерина Великая, услышав просьбу министра просвещения позаботиться об увеличении числа школ для народа? «Смотри, сказала она, ежели мужики наши грамоте научатся, не будет тогда нам с тобой здесь места». Понятна ли вам мысль эта? Х-ха! Школы, гимназии, университеты! Казаку нужно быть пахарем и воином, вот роль его в государстве Российском!
Дядя Андрюша прищуривается и говорит совершенно спокойно:
— Да-да, воином и земледельцем. Здорово, что и говорить. А знаете ли вы, что как раз земледельцы эти от малоземелья страдают? От возмутительной системы коневодства, от разорительной справы на службу? От того, что прикреплены они к этой земле и воинской службе совершенно так же, как когда-то, при Аракчееве, солдаты военных поселений? Из войсковых земель, казакам принадлежащих, отдано два миллиона коннозаводчикам за смешную арендную плату, в три копейки за десятину. Говорите, пожаловал нам царь грамоту, да, а что же в ней написано? В первом месте подчеркнута служебная роль казачества и дано звание «преданных слуг и охранителей престола». Вот и всё. А казак жить хочет как человек, и есть хочет досыта, голодать ему больше никак неохота. Вместо ему еще в 1835 году определенных тридцати десятин имеет он теперь от восьми до тринадцати, и никак не больше. Всё коннозаводчикам да господам дворянам и помещикам роздано.
Дядя Андрей замолкает, но уж давно хочется выговориться Савелию Степановичу.
— А есть и такие станицы, где паевой надел всего семь десятин, да вон разуваевцев спросите, паевой надел у них как раз таков, да еще либо на солонце, либо на супесках. А как иллюстрацию еще вам о земле прибавлю: земли коннозаводчиков разделяет река Егорлык. Так вот, с той стороны Егорлыка коннозаводчики платят за нее по три копейки за десятину, а с этой, коли казаку землю арендовать нужно, дают они под попас три рубля, а под запашку — шесть рубликов чистоганом. Вот вам и царь-отечество, вот вам и высочайшая грамота. И недаром в ней царь, наш батюшка, казаков хвалит: военная повинность у казаков по статистике в три раза с половиной тяжелее, чем у русских. У вас призывного возраста берут на службу 21 %, а у нас семьдесят четыре с половиной. А материально, по той же самой статистике, эта воинская повинность в 153 раза тяжелей, чем у мужика. Всего земли у Войска Донского пятнадцать миллионов десятин, и из них в станичных наделах всего девять, остальная то городская, то монастырская, то чиновничья, то офицерская. Вот и крутится казачок, не зная, что же делать ему. Читали ли вы, знаете ли список вещей, кроме собственного коня и седла, которые должен он на службу принести? Ведь служит он на собственный счет полностью, и обходится ему всё в год, опять же по той же самой статистике, больше чем в тысячу пятьсот рубликов. А если пропадет у него его собственное что-нибудь, отвечает он дисциплинарно и подвергается взысканию, ах, да знаете ли вы, что, благодаря закрытию школ, было у нас по статистике 901-го года только 37 % грамотных?
— Ну, за последнее время грамотность у вас возросла!
— Да, возросла, и еще как возросла! Но лишь потому, что казаки по собственному своему почину сами школы себе явочным порядком строят. Без разрешения, никого не спрашиваясь. Ах, да, вот еще станичное обязательное коневодство не забыть. Каждая наша станица должна племенных жеребцов иметь. Даже специальную должность заведующего коневодством учредили. И делается всё это только за казачьи же средства. Расходы же казака по снаряжению на службу еще со времени Александра Второго почти вдвое увеличены, казаки с того времени были окончательно закрепощены на службу государству, в управлении Войском проведена полная милитаризация, введена была и круговая порука: за каждого уходящего на службу казака отвечала станица и введены были дисциплинарные взыскания, в станицах же. На просвещение пошли гонения, казак одичал, в правовом отношении был совершенно обезличен, о культуре у нас и говорить не приходилось. И дошло до бунтов, да еще до каких. Вон в станицу Кривянскую для подавления такого бунта даже регулярные войска вызывали. А что, шутка это была, что ли, что казаки против царя при Разине и Булавине поднимались? А что из наших хуторских и станичных сборов сделали? Насмешка, срамота одна — всё теперь окружному атаману подчинено или на усмотрение Войскового отдано. А Войсковой Атаман, как сами вы знать должны, назначается из Петербурга, и может быть немец, латыш, белорус, чёрт в ступе, только не казак. Атаманом Войска Донского казаку, по законам российским, быть запрещено. Куда же дальше идти? Не издевательство ли это вашего царь-отечества? На хуторские выборы допускаются лишь десятидворные, то есть по одному представителю от десяти семей и никак не моложе 27 лет. И должна быть обязательно повестка сбора, и атаман имеет право сбор этот не разрешить. Или запретить разбирать тот или иной вопрос. А на станичных и хуторских сборах избирают трех кандидатов в атаманы, и кого окружной атаман утвердит, тот и атаман. Вот что от казачьих свободных выборов осталось. За исправный выход на службу отвечает за каждого казака вся станица, за отбывание земских и станичных повинностей отвечает она же, станица, за каждого своего жителя, как и за все недоимки, числящиеся на каждом казаке. Знаете ли вы, что не имеет права казак надолго из станицы отлучиться, и, что если он в долгах по налогам, то могут послать его на работы, а заработком его распоряжается Войсковой Наказный Атаман, то есть забирает его в казну. То же самое с доходом казака по хозяйству и с имущества. Скажите — не полное ли это закрепощение казака государству? Кроме всего этого, должен Атаман неусыпно соблюдать за чинопочитанием и уважением к лицам заслуженным. В противном случае может быть наложен штраф в размере трех рублей или посажен казак под арест на четыре дня, или послан на общественные работы на шесть дней. Это ли не Аракчеевские военные поселения? Но зато имеет право Атаман Войсковой особенно рьяных хуторских и станичных атаманов награждать деньгами, чинами, орденами и дарить им почетные насеки. Не «разделяй это и властвуй»?
Мельников, видно это, совершенно огорошен. Оглянувшись, как затравленный волк, но тоном, полным насмешки, цедит едва слышно:
— В-вижу, что дух у вас совсем, так сказать, д-демократи-ческий, в-вам бы в эту, как ее называют, в Думу, оратором выступать…
— Ого! И еще как выступали наши в этой самой Думе. Что же вы, газет не читаете, что ли? Да только толку от этих выступлений никакого не было. Донцы, астраханцы и оренбуржцы, все вместе, запрос в ней делали, еще в Первой Думе. Требовали децентрализации, широкой, на демократических основах, автономии, установления окончательных границ казачьих войск на основании волеизъявления населения. Еще тогда же протестовали против мобилизации второй и третьей очередей для несения внутренней службы, сиречь для порки мужиков, рабочих и студентов в пятом и шестом годах. Еще тогда во всеуслышание заявляли в Думе, что полицейская служба в сознании казаков несовместима с честью казака-воина. Еще тогда депутат наш Харламов говорил, что среди казаков вновь пробуждается дух свободы, который казачество создал, но в течении веков нашим самодержавием и бюрократизмом правительства был планомерно уничтожаем.
— Ого, этак вы и до Пугачева договоритесь!
— А кто виноват? Да только те, кто одной рукой всемилостивейшивые манифесты пишут, а другой казака, как холопа, к земле прикрепляют. Еще тогда цитировал Харламов приговор станицы Усть-Медведицкой, в котором прямо говорилось, что крестьяне и рабочие, требующие от правительства земли и воли — наши друзья и братья! Что правительство служит лишь интересам богатых и имущих классов. А что же эта самая Дума сделала? Да попросту отбросила срочность этого запроса, другими словами, похоронила его. И тогда же другой наш депутат, Араканцев, говорил в той же Думе, что Российское правительство отменило на Дону его выборное Войсковое управление, древний сбор казачьих общин. Отменило и право казаков выбирать не только Войсковое управление, но и Войскового Атамана, введя военное управление, то есть полный произвол и беззаконие. Вот и распоряжается теперь у нас на Дону российский военный министр, и власть его, карающая и милующая, имеет лишь одну тенденцию: убить в казаках всё, что с этими централистическими оковами не мирится. Обнищавший, запертый в клетку военного управления, задавленный совершенным бесправием, сделан казак слепым орудием в руках правительства. А что в той же самой государственной Думе наш депутат Крюков говорил? Казаки, — сказал он, — из простых и открытых людей труда превращены в живые машины, часто бессмысленно жестокие. Солдат русский переживает этот процесс только в казарме, за время службы в армии, казак же — всю жизнь. Даже в домашней обстановке, в мирной жизни, вне армии, никак не должен он забывать, что он только нижний чин. Всякое пребывание вне станицы, вне атмосферы начальственной опеки, всякая частная служба или работа, всякие посторонние заработки для него закрыты, потому что имеет право он из станицы отлучаться лишь на короткое время. Ему даже закрывают доступ к образованию, ибо невежество было признано лучшим средством для сохранения воинского казачьего духа. А казак дорожит своим именем, своим званием, ибо в прошлом была у него полная свобода, та совокупность прав личности, которых теперь добивается русский народ.
Мельников кисло улыбается:
— Н-дас! Кстати, вот как раз вы, Пономаревы, лучше других на собственной шкуре на вашем Старом Хуторе испытали и удостоверились, чего в девятьсот пятом году этот ваш народ добивался!
И, не глянув на Мельникова, обращается дядя Андрюша к Савелию Степановичу:
— А вы и тот случай вспомните, когда одна наша южная станица добивалась разрешения построить через реку дамбу, а ей из Петербурга ответили, что казаки, дабы не потеряли они воинского духа своего, и дальше должны через ту речку на бурдюках переправляться.
Лишь, кивнув головой, продолжает Савелий Степанович:
— Вот тогда еще писали своим депутатам в Думу казаки 7-го Уральского, Кубанского Хоперского, 17-го Оренбургского и 14-го Донского, что полицейская служба для них несмываемое пятно. Наши деды и прадеды, — писали они, — все были равные, откуда же взялись эти помещики, которых мы теперь от мужиков охранять должны? Казаки, подчеркивали они, покорно пойдут против врага внешнего, но бороться против народа своего отечества не желают. И если от службы этой уволены не будут, то разойдутся по домам своевольно. Того же требовал и тем же грозил и 41-й полк. А что же правительство сделало? Лишь прекратило дальнейшую мобилизацию второочередных полков, да тем дело и кончилось. А демобилизацию полков провело гораздо позже.
Никому не глядя в глаза, разводит Мельников руками:
— Откровенно говоря, я перестаю понимать, где же я нахожусь. В доме российских дворян, помещиков, или…
Савелий Степанович будто слов этих и не слышит:
— Ну-с, а теперь о Второй Думе. Внесли наши депутаты на обсуждение проект о сокращении сроков службы и общем облегчении тягот, и остались проекты эти без рассмотрения. Требовали они и полного переустройства Войскового управления, требовали избранного вольными голосами Войскового Атамана, казачьего собственного Парламента-Круга, и с ним Войскового Правительства. Еще тогда говорили наши депутаты в Думе, что на Дону безграничный произвол, что усмотрение военного министра в Петербурге является для казаков законом, который уродует всю их жизнь. Да что толку было говорить в такой Думе, в которой заявлял Пуришкевич, что крестьяне не потому голодны, что у них земли мало, а потому что они с ней справляться не умеют. На это ответил ему наш казачий депутат Афанасьев, что не потому голодают крестьяне, что у них мало земли, а потому, что у них вовсе ее нет. И казаки голодают, да нет их в станице вообще, там лишь казачата да казачки остались.
— Ну вот вам и ваша хваленая Дума, всякая левая шпана, привыкшая к разговорчикам…
— Э-э, не так-то это просто — шпана! Тут мы, казаки, в первый раз с русским народом через головы и царя, и правительства в разговор вступили, тут пытались мы ему открыто сказать о своем положении и о том, что реакционная роль навязана казакам российским правительством, что под тяжестью поголовной пожизненной службы казаки изнемогают, что несут они ее на собственный счет и что задыхаются от военно-бюрократического управления. В таком виде нужны казаки нашим правым и нашему правительству как нагаечники, как хранители реакционных сил. Левые в Думе стояли за казачье раскрепощение, а крайне левые — Ср и Сд, за полное казаков уничтожение, за уравнение их с остальными гражданами России, за омужичивание. Но, как бытовая группа, или точнее, как народ, умирать казаки никак не собирались, даже при помощи Думы. Да, не забыть бы и это — у вас, у правых, и их депутатов, еще в Первой Думе проект был отдать все казачьи земли мужикам и тем сохранить помещичьи в руках помещиков. Эсеры тоже кричали о «переделе». Правда, знаменитая Аграрная комиссия высказалась за сохранение казачьих земель за казаками, но дворянских и помещичьих земель казакам так и не дали. А тут еще один у нас вопросик: это коренные крестьяне, у нас на Дону живущие и, конечно же, собственной земли не имеющие, да плюс к ним новопришельцы, так называемые иногородние.
— Ах, этот-то вопрос легко решить — пусть отправляются туда, откуда и пришли.
И снова дядя Андрюша:
— А я считаю, что не только вопрос иногородних важен, важно и то, что вот уже добрых семьдесят лет, как на Дон атаманами назначаются исключительно не казаки. Едут они к нам как губернаторы в совершенно незнакомые им губернии. И управляют нами лишь для приобретения служебного стажа. С высокого дерева им на казаков, на народ наш, наплевать. И не замечают эти петербургские атаманы, что народ наш так обнищал, что говорить об этом страшно. Одних продовольственных долгов на станицах больше, чем на три с половиной миллиона рублей. Да всяких иных больше, чем на полтора, а где их брать прикажете, этих пять миллионов рубликов? Вот и ходим мы в долгу, как в шелку. А начальство лишь о казачьей лихости да верности престолу заботится. Ведь то время, когда у нас целые округа голодали, вовсе еще не изжито. Когда в десятках казачьих станиц ни скота, ни хлеба не было. Вон и сегодня, возьмите Федосеевскую станицу, в ней пятьдесят пять процентов скота недохватка. В Тишанской — сорок шесть, в нашей, в Березовской, целых шестьдесят два. В Нагавской же девяносто один процентик. Во всех наших станицах от пятнадцати до двадцати двух процентов казаков вообще скота не имеют. А вот удаль от них, хорошую службу, готовность за царь-отечество за свой счет помереть, это требуют. И живет казак на собственной земле, им от турок и татар завоеванной, полуголодным, постоянно теснясь то от русаков, к нему из Московии бегущих, то хохлов, из Украины драпающих. И вышло у нас на Дону теперь положеньице, что живет на Дону всего сорок восемь процентов казаков, а пятьдесят два — пришельцы. И это большинство, к нам откуда-то набежавшее, зарится теперь на исконные наши, дедовские земли, и делает всё, чтобы как-то земли эти у нас оттяпать. Возьмем теперь наш казачий Войсковой капитал. Из него для себя казаки ничего не имеют, но содержат за свой счет суды и тюрьмы, все учреждения гражданского управления, платят жалованье офицерам, находящимся на льготе, содержат военно-учебные заведения, платят пенсии офицерам и чиновникам, да еще Войсковому Атаману 18000 рубликов доплачивают каждый год, тому атаману, который о них, как о людях, о нужде их и знать не хочет, а послан к ним лишь на кормление да для наблюдения за ними. Вон, явился к нам атаман фон Таубе, и первое, что он о казаках сказал, клевета была, ложь, подлое вранье. Причина казачьего оскудения, изрек дурак этот, казачья леность. Но восемнадцать тысяч целковых от лентяев этих спокойно клал он ежегодно в собственный карман, и с превеликим удовольствием это делал.
Мельников морщится. Савелий Степанович, видя, что дядя Андрюша замолчал, подхватывает:
— Простите, но тут ежели кому и морщиться, то только нам, казакам. Двенадцать миллионов рублей питейного налога нашего берет себе государство полностью. До 1835 года все наши налоги принадлежали нам полностью, а с тех пор постоянно стали у нас их так забирать, что казакам ни копейки не остается. А к тому, что вам Андрей Алексеевич сказал, прибавлю я еще и то, что и Войсковой штаб наш содержим мы на собственные средства, всю нашу артиллерию, и жалование, и довольствие казаков оплачиваем сами, на собственные средства содержим арсеналы и склады оружия, оружейные мастерские, местные команды-гарнизоны, фельдшерские школы и школы военно-ремесленные, как и всё военное и гражданское управление. Где это видано, где это во всём мире слыхано, чтобы одна единственная область в государстве сама себя содержала, сама свою армию оплачивала со школами и больницами вместе? Ведь этим мы — государство в государстве, но только до тех пор, пока с нас спрашивают или от нас требуют, а никак не в правовом отношении. Здесь сделали из нас, из когда-то вольных казачьих общин, Аракчеевские военные поселения, огромную, в три миллиона душ, казарму. Поднять культурный уровень казаков, помочь им опериться материально — боятся. Тогда, говорят нам, обмещанится казак, дух его боевой пропадет. Для государства Российского нужен казак-неуч, казак-дикарь, без всяких признаков самоуправления. Поэтому фактически управляет нами Военное Министерство из Петербурга, и, боясь оказачивания, занимается нашим околпачиванием. Вот, кстати, и о здравоохранении неплохо здесь вам сказать — у нас, на Дону, один медицинский участок приходится на 76000 населения, или 4500 квадратных верст. Знахарями да бабками-шептухами должны казаки обходиться, а не докторами. А в соседней Харьковской губернии такой же участок приходится на 22000 человек, или 410 квадратных верст, Идя на службу, теряет казак в среднем на голову 1308 рублей 50 копеек. Сколько же должен он работать, чтобы сумму эту сколотить?! И всю службу свою государству Российскому несет он даром для этого государства. Имели мы на Дону Земство — уничтожили его. И как мы ни добивались заполучить его снова — не вышло. На народное образование в России тратит государство на душу населения 43,5 копейки, а на Дону — 18! Самим нам школы открывать запрещено. Вот как живем мы, казаки, милостивые царские грамоты читая. А что же заслужили мы от народа русского? Вон еще в девяностых годах вышла в Женеве брошюра некоего Надеждина, принадлежавшего к революционно-социалистической группе «Свобода», в ней писал о нас автор: «По всей Европе слово казак употребляется, как пугало. Давно уже миновали времена, когда с этим словом соединялось представление о буйных головушках, не покорявшихся ни царям, ни боярам, ни прочим рабовладельцам России. Царская власть не только покорила казаков, сломив их вольную жизнь, но и успела выработать из них то, что ей нужно было — слепых, тупых, озверелых нагаечников». А эсеровский «Народный Вестник» писал в шестом году: «Когда наши народные представители получат власть, то казачий вопрос будет одним из первых, которым они займутся. И разрешат его в смысле уничтожения этой касты, являющейся покорным оружием в руках правящего класса…»
Савелий Степанович явно устал, откинувшись на спинку кресла, виновато улыбается и, получив от мамы стакан чая, смотрит на нее с благодарностью.
Но Петр Иванович, похоже, только и ждал своей очереди:
— Вот теперь и получается, что от этого — нагаечники — никогда больше мы не отделаемся. Помните вы, наверно, как казаки еще при Александре Втором в Варшаве и Одессе в тамошних погромах народ пороли? Кого попало, кто только не попался под руку. Начальство велело, значит, и бей его, у него брат — студент! Вот это нам всем осточертело. И всем иным тоже. Говорите вы нам — клиновцы вас жгли. Да, жгли. И людей живьем сжечь хотели. И опять жечь будут, попомните мое слово. А кто виноват, откуда всё зло идет?
Мельников взглядом выпрашивает у мамы поддержки, но та усиленно хлопочет у самовара, а Петр Иванович продолжает дальше:
— Вон еще Александр Третий велел три отдельных сотни для полицейской службы сформировать. И должны были служить, жандарскую славу завоевывая. А ныне царствующий, манифесты пишущий император, что он в пятом году сделал? Не только все наши первоочередные полки на усмирения послал, но и казаков второй и третьей очереди для этой же цели мобилизовал. Недаром писали тогда газеты, что царская власть из казаков опричников сделала.
Наконец, и мама свое слово вставляет:
— А что я особенно постыдным нахожу, это то, что казаки о себе сами ничего писать не могли. Всё, что не издавалось на Дону, всё конфисковалось. Первой попала в жандармские подвалы брошюрка «Донское казачество прежде и теперь». Книжечка Воробьева «Казаки» тоже там же. А что с казачьей печатью сделали? Ростовские «Известия», «Донской Голос», «Казачий Вестник», «Донская Речь», Донская Пчела», «Донское Поле» — все эти газеты запретили. А «Приазовскому Краю» запретили розничную продажу. Это не позор?
Мама волнуется, краснеет, передвигает по столу стаканы и чашки, совершенно не отдавая себе отчета в том, что она делает, и смущенно замолкает.
На выручку ей спешит дядя Андрей:
— А ты, Наташа, договаривай. Вспомни и то, что казакам российские правые говорили: укрощайте буянов и грабителей. Сегодня они помещичьи земли заберут, а завтра ваши, казачьи. Мужики помещичьими землями пообедают, а казачьими поужинают. И это говорили те самые, которые предлагали отдать мужикам казачьи земли, чтобы этим сберечь свои, помещичьи. И вот, вспоминая теперь пятый год, который, боюсь я, еще так нам отрыгнется, что чесаться будем, неплохо перечесть и то, как простые наши казаки, земледельцы, пахари наши, на эту, навязанную им, роль нагаечников реагировали. Ушли из Воронежской губернии Третий Сводный, Лабинский и Урупский полки. В Новороссийске пластуны казармы бросили, домой самовольно пошли. У нас, в Ростове, шесть казаков в полной форме в декабре на митинге участие принимают. Народ им «ура», как оголтелый, орал. А знаменитый Первый полк в Москве? Первая его и третья сотня наотрез отказались полицейскую службу нести. Пятый полк целиком взбунтовался. Третью сотню этого полка поголовно под суд отдали, за неповиновение начальству. В Одессе отказались казаки стрелять в демонстрантов, а в селе Ползино Орловской губернии арестовывать мужиков не пожелали. Целая Отдельная сотня из Ростова снята была за невыполнение приказов. Семеро казаков Тридцать третьего полка пошли под суд за отказы выполнить приказ начальства, Третья отдельная сотня, вместе с офицерами, отказалась стрелять в рабочих-демонстрантов. Двадцать третий полк потребовал немедленного возвращения домой, и для верности дела собственные казармы сжег. В Юзовке казаки отказались стрелять по демонстрантам и на учебную стрельбу не пошли. А вон, в Старицком уезде, стреляли казаки, да не в демонстрантов, а в полицейских. Восьмерых казаков в полку арестовали, и толпа в три тысячи рабочих пошла к тюрьме тех казаков освобождать. В Бахмуте казаки в атаку пошли на драгун, открывших огонь по демонстрантам…
Дядя Андрей с трудом переводит дух, но упрямо сыплет доказательствами:
— Вот, молчите вы, и вижу я: никак вам не нравится то, что я говорю. Вон регалии наши, исторические наши святыни, так те велено в музей отнести. Славу нашу, свидетелей свободной, независимой жизни казачества, моли на съедение отдали. Назначили комиссии Маслаковца и Грекова для изучения прогрессивно растущей казачьей нужды, да никаких результатов работа этих комиссий не дала. Сам военный министр Куропаткин докладывал царю, что ежели никаких мер принято не будет, то не сможет Донское казачество выполнить лежащих на нем обязанностей. И что же, казакам дали — по сто рублей на коня! Это тогда, когда служба его обходится ему в полторы тысячи. Вот о Думе тут много говорили, а что же писали казаки своим депутатам? Тридцать первый Донской полк писал, что считает позором нести полицейскую службу. Первый полк буквально «молил» освободить их от службы, противной их совести и оскорбительной для достоинства славного Войска Донского. Десятая отдельная сотня просила ее демобилизовать, а мужикам дать землю. Целая станица Усть-Медведицкая, прогнав со схода назначенного ей атамана, потребовала вернуть казаков домой и впредь на опричненскую службу не посылать. Тоже самое хутор Фролов, станица Малодельская, Сергиевская и наша, Березовская, да не только протестовали они против полицейской службы, но и требовали свободных выборов Войскового Атамана. Дети наши, — писали они, — заслужили кличку «дикая орда», — народ называет их убийцами и наемными душами. Глазуновская станица писала в Думу, что помещичьи земли по России не желают от мужиков они охранять, пусть помещики сами себя берегут. И до того дошло, что пошла казачья учащаяся молодежь в революционные террористические организации. Вон Потемкинской станицы казак, студент-юрист Петербургского университета Василий Генералов, двадцатилетний юноша, в день покушения на царя Александра Третьего на Невском проспекте с бомбой в кармане арестован был. А кубанцы-студенты Пахомин и Андрюшкин в Шлиссельбургской крепости как террористы казнены. Тогда же наш усть-хопёрец Орест Говорухин сумел за границу удрать, а то повесили бы и его. А за что? За чьи грехи? А сколько наших казачат за распространение нелегальной литературы арестовано? Числа им нет. И пошли тогда у нас в Новочеркасске, как после дождя грибы, расти казачьи организации, требовавшие широкого самоуправления, боровшиеся против самодержавия и произвола, за восстановление казачьего Круга, за выборного Войскового Атамана. Требовали они разделения земли не только казакам, но и крестьянам, добивались свободного выхода из общины с выделением участков для вышедших. Требовали выкупа помещичьих и чиновничьих земель и раздела их неимущим. И сколько их, организаций этих было, вон, возьмите: «Казаки за Казаков», Казачий Союз, Донская Казачья Организация и ряд других. Вон тогда же наши малодельцы, берёзовцы, сергиевцы прямо в решениях сходов говорили, что помещичьи земли надо передать крестьянам…
Но Мельников сдаваться не хочет:
— Земля… земля… помещики… Х-ха! Господа социалисты всё это выдумали, те, о ком в той же самой Думе правильно сказано было, что хотят они лишь великих потрясений. А нам, — Мельников снижает голос и говорит намеренно медленно, подчеркивая тем самым им всё сказанное, — а нам, надеюсь, с вами вместе, да-с, донским дворянам, не великие потрясения, а великая Россия нужна! Простите мне, пожалуйста, но сами вспомнить изволили о том, как прошла мобилизация после нападения на нас Германии. Та самая Германия, которая в своём «Дранг нах Остен» только спит и видит, как бы разделаться с нами, славянами. Вспомните-ка тот патриотический порыв, охвативший все слои нашего общества. Хотя бы то, что на зов государя 96 % призывных явилось. Доселе неслыханное число! Кстати, припомните и первое заседание Думы, двадцать шестого июля. Разве были тогда партии? Нет! И народ, и интеллигенция, и власть в одном порыве патриотизма — все, вместе с государем-императором, Божьим помазанником, как один человек, шли…
Дядя Андрюха пожимает плечами:
— А кто же патриотический порыв этот на нет свел? Что стало делать правительство наше? Обратилось оно к общественности, к народу? Нет! Оно приказывать и повелевать стало. Народу, видите ли, не доверяло оно. Ему, народу, предоставляло оно право гибнуть на немецкой проволоке за спасение прекрасной Франции и гордого Альбиона. А наверху, с одной стороны, вроде с народом разговаривать хотели, Думу собрали народных представителей, а с другой стороны что было — репрессии, незаконные действия власти, давление на печать, усиление Охраны. Дума законы вырабатывает, а Государственный совет, обезьяны сонные, всё замораживает, всё тормозит, ничему хода не даёт. И вот дошло до того, что в Думе и правые, и левые против правительства объединились. А почему? Вспомните хотя то, как этот самый Государь ваш Третью Думу разогнал. Оскорбленными и озлобленными разъехались они тогда по домам. И оттолкнули от себя народ и Государь, и его правительство. Они ведь только распоряжаться хотели, но никак никого слушать не желали. И кто же? Да те, у кого для войны снарядов не оказалось, винтовок не было, четырех миллионов пар сапог для солдат не хватало. И когда на железных дорогах такой хаос был, так они безнадежно забиты были, что целые поезда сжигать приходилось или под откос пускать, лишь бы для спешных перевозок пути освободить. А теперь — манифесты пишут, обещаньица дают. Вон и полякам наобещали, да сразу же и спохватились, на попятный пошли. И не верят нам теперь поляки ни на грош. А что со скотом делали? Нареквизировали, нагнали куда попало, а кормить нечем. И подохло сотни, тысяч голов. Эх, манифесты ваши царские! А как же у царей-то всё шло? У матушки Екатерины один Пугачев наш чего стоил. Уж о мартинистах и новиковцах и не говорю. О декабристах при Николае Первом вспомните. А кто они были — да помещики и дворяне. А что показали несчетные процессы при Александре Втором? Да то, что всё общество наше к конституционному строю стремилось. А в восьмидесятые годы, когда с землей и волей пошла русская молодежь в народ, а власть — давила, а народ — бунтовал. И кончилось всё при Александре Третьем окончательным разделением: на — мы, правящие, и — они, всё остальное население. Тупым абсолютизмом, державшимся на полицейском режиме. Для правящих был их народ дикарями, и поэтому не заметили они, как русское общество культурно выросло, как его государственное самосознание переросло их, властителей. С этим и докатились мы до японской войны. А что тогда осталось, знаете ли вы, знаете, как о нас, казаках, вспомнили, да не так о нас, как о наших плетках. Понадобились мы им их народ плетьми пороть. Перепоров же и усмирив народ свой казачьими руками, всё же решили властители даровать Думу. О Первой и о Второй лучше не говорить вовсе, слишком уж быстро они скончались, а Третья и Четвертая просто комедия, в которой власть — полицейские, а народ — холуи царские.
— Да вы что, вовсе в Думу влюбились?
— Нам, казакам, в Думу влюбляться не приходится. Но за одно мы ей признательны, благодаря ей окончательно узнали мы народ русский целиком. Встретились мы с ним в Думе и только через нее всё нам окончательно ясно стало. Царской власти нужны мы были как слепые, бесплатные нагаечники. А русская интеллигенция и народ русский нас ненавидят, задушить нас, уничтожить хотят. И за что же? Да за службу нашу. Вы вот, предводитель дворянства российского, на самой границе Войска Донского сидите, а знаете ли вы хотя бы Устав казачьей воинской службы?
— Простите, но какая же может быть разница?
Все сидящие за столом смеются, дядя Андрюша удрученно качает головой:
— Постыдились бы, батюшка. Да вот, сравните сами — делятся вооруженные силы Войска Донского на служилый состав и Войсковое ополчение. Служилый состав делится на три группы: группа А — это приготовительный разряд для предварительной подготовки, зачисляется в него казак с 18 лет на три года, проходит предварительную подготовку у себя в станице, приобретая все нужное ему снаряжение на собственный счет, и на третий год службы участвует в лагерных зборах. Достигнув 21-го года, переходит он в группу Б — строевую, и уходит на службу, в которой остается непрерывно четыре года. И лишь после этого попадает в разряд В — третий, в нем остается он пять лет. Из разряда В пополняется убыль в строевых частях. Государству Российскому за все это время не стоит он ни копейки. Вот они — наши казачьи привилегии. Вот почему нужны России казаки необразованные совсем или недоучки.
Дядя Петя взглядывает на Мельникова из-под глубоко насупленных бровей:
— Вот и пели и поют наши гаврилычи: «Нам служба ничаво, мяжду прочим, чижало». Вот и бьются теперь у нас на всех фронтах все эти группы, а дома только бабы да детишки пооставались. И прекрасно видят они всё то, что происходит и понимают всё, несмотря на то, что малограмотные. Вот и посылают теперь добрую половину наших полков с фронта в тыл, дезертиров ловить, русский народ с фронта драпать неудержимо начал. И разговаривают они с пойманными ими дезертирами. И сами теперь начинают… почему народ этот с фронта бежит, и сами крепко задумываться начали. А слышат они от этих дезертиров, что сидит в Питере германский шпион Гришка Распутин, который министров назначает и снимает, и с самой царицей во дворце спит!
Мельников вдруг порывисто встает, застегивает поддевку на все пуговицы, коротким поклоном, не проронив ни слова, прощается с хозяевами, поворачивается на каблуках круто и выскакивает на балкон. Оставшиеся сидеть в гостиной слышат его голос:
— Эй, Хома, лошадей!
Отец делает движение встать и пойти вслед за гостем, но встречает такой взгляд мамы, что смущенно садится на свое место и молча смотрит под ноги. Видно сквозь открытое окно, как стоит Мельников на балконе один. Хома как-то долго возится с упряжкой. Наконец-то, после добрых четверти часа, слышны бубенцы подъехавшей к крыльцу коляски. Звон шпор — гость сбежал по ступенькам, собачий лай, провожающий тройку с заглохшим перестуком колёс на мостах, полная тишина в зале. Будто ничего не случилось, деланно спокойно обращается мама к бабушке:
— Бабушка, а не думаете ли вы, что нам пора к ужину готовиться?
Дядя Андрюша кряхтит, поднимаясь со стула, и подходит к окну:
— Унесли черти гостёчка! Вот через таких и беда вся. Ишь ты — манифестом царским тычет нам в нос. А у самого землицы шесть тысяч десятин.
И вдруг, в первый раз за все время, к всеобщему удивлению, вставляет свое слово и отец:
— Но ведь и у нас земля, ведь и мы…
И перебивает его бабушка:
— Да! И мы! Только согласная я, уж коли такое дело, так потесниться, што и казачьего пая хватить нам должно. А через ту землю, через то дворянство наше людей бить никак нам не надо.
Семён выходит на балкон и сталкивается с Мотькой:
— Що цэ той товстый пан такый сэрдытый видьихав? Що вы йому там, хиба сала за шкуру налылы?
Буян сидит у балкона, чешет задней лапой за ухом и вежливо улыбается. Если и брехнул он раза два вслед мельниковской коляске, так это он так, без злобы, только для порядку.
Потрепав Буяна по шерсти, насвистывая самому ему надоевший, еще с утра привязавшийся мотив песенки «Выйду ль я на реченьку…», отправляется Семён на мельницу. Из мастерской слышны голоса помольцев. Остановившись возле первого камня, не имея никакой охотки снова попасть в бесконечные разговоры, слышит он голос старика Софроныча, казака из Разуваева.
— Ить ежели ее, правду, искать, скрозь тады заглядывать надо. Не с одного тольки боку подходить. Видали вон Мельникова? Пан такой, как говорится, — не подходи, а то вдарю! Помню я, должно, это так в шастом али в сямом году было. Зима стояла страсть какая холодная. И поехал я в Ольховку, таперь уж и не упомню зачем, кажись, гасу надо мне было. Сел в санях боком, ветерок-то в пику тянул, сел, соломой оклалси, ватолами ноги укутал, воротник тулупа повыше поднял, пустил коней рысцой, а дорожка набитая была, хорошая, накатали ее здорово, тольки узковата трошки, а обочь дороги скрозь такие сугробы, што и сказать страшно. Помахиваю кнуточком, песенки потанакиваю, тольки слышу вроде кричит кто-то. Обернулся я, а было это, ну, как раз возле той балки, што версты с две перед Ольховкой с бугров к речке через дорогу пролегла, сроду в ней снегу, во как, намятаить. Так вот, в этой, в самой, в балке мужичонко один клиновский в сугробе, справа от дороги, увяз. «Што тибе черты в снег занесли?», — вспрашиваю. И рассказал он мине: вёз он в Ольховку воз дров. И догнал яво этот самый барин, Мельников, тройкой он катил, догнал и шумить: «Эй ты, чёрт глухой, сворачивай с дороги, не слышишь, что ли?». Спрыгнул тот мужичонко с возу, шапку скинул, Господом Богом молить: «Ваше, говорить… превосходительство, — хучь сроду Мельников тот в гиняралах не был, — ваше превосходительство, заставь век Бога молить, обьяжжай мине троечкой своей влево, порожняком ты едешь, а моя подвода перегруженная, конишка у мине никудышний, мореный, пропаду я с ним ни за понюх табаку…». Как взыграло сердце у Мельникова, как взыграло, вскочил он, с саней своих выпрыгнул, да как потянул того мужика плетью через лоб, да потом лошаденку яво, да вырвал из рук яво вожжину, да потянул конишку по боку ишо раз. Крутнул тот, рванулси, хватил через обочину дороги, сиганул в снег и заволок воз свой в сугроб, и сам в нем по пузо завяз. Вдарил тут Мельников мужика того ишо раз плетюганом, всю, как есть, морду яму искровянил, вскочил в свои сани, и с тем след яво простыл. Кинулси тот мужичонко к лошади, а она и повернуться не могеть. Уж порол он ее, порол, кнут весь обломал, чуть ту невинную животину до смерьти не запорол, кинул обламанное кнутовишше в снег, полушубок с сибе скинул, хотел сам сани обернуть, и не хуже лошаденки своей. Стоить в снегу по пояс, а ветерок — сиверко… А какая на ём одежа? Тут я как раз и подъехал. Почитай, с час с ним мучилси, пока и яво, и воз яво из снегу выпростал. Вперед дрова-то мы разгрузили, а работал мужик тот, как проклятый, слова не говоря. Тольки когда выровнялись мы на дороге, я вперед, а он за мной, когда выравнялись, нацапил он полушубок свой рватый, снегом кровь с морды обтер, шапку надел, глянул на мине, будто огнем ожег, и одно сказал: «Ну, рази не придет то время, когда разочтемся мы и с панами, и с пидпанками». А мине те слова вроде как не по ндраву пришлись: «Это ты, што же, мине, што ли пидпанком шшитаешь?». — Тибе, говорить, нет, а всех тех, кто за панов этих народ плетьми порет». — «Тю, говорю, да ты окстись!». — «Довольно, говорит, кстились мы, мужики, придеть время зачнуть и они кстится, да поздно тады будить».
Семён поворачивается уходить. Вслед ему доносится чей-то незнакомый голос:
— Да, скоро они кститься зачнут… скоро.
Часть III
Бегут угольные горки, тускло светит заспанное солнце. Туман ли это легкий или облака невыплакавшихся туч, густые ли удушливые испарения большого города, кто его знает, только одно лишь ясно: не пробивают солнечные лучи этой липкой мглы и расплывчаты поэтому, неясны и мутны очертания неустанно мелькающих по стене неведомых городов…
Миллионы лет прошло с тех пор, как погибли все Архи и Орхи, а с ними и несчетные города их и селения. И вырос после всего этого огромный, густой, дремучий, заплетенный лианами и загруженный буреломом, заросший папоротником лес.
И расплодились в нем, развелись и размножились такие гады и зверюки, каких никогда еще земля не видывала. И вышли и выползли они из чащи, и тут же накинулись друг на дружку, взаимно пожирая и уничтожая один другого…
Появилось и невиданное существо — не то обезьяна, не то иной, похожий на нее гад, имевший и руки, и ноги, вооруженный огромной сучковатой дубиной. Подозрительно озираясь, шагнул он облепленными грязью, в ссадинах, лохматыми ногами, крутнул направо и налево глубоко всаженной в плечи волосатой головой, сощурил маленькие, круглые, как пуговки, глазки, не то просвистел, не то прохрипел что-то, и полезли, запрыгали, заскакали вслед за ним сотни ему подобных. Взвыли, крутя дубинами, и помчались прямо к болоту, возле которого отдыхало стадо каких-то горбатых, длиннохвостых, покрытых чешуей, неповоротливых тварей. И все они — твари эти и обезьяны — мгновенно смотались в огромный клубок орущей, сопящей, ревущей, в смертный бой вступившей, воющей нечисти…
Ох, чёрт их побери, все эти наваждения! К дьяволу эти, бегущие по стене, мутные, расплывчатые тени! Сгиньте, болезненные миражи, порожденные усталостью и бессилием! Кровоточащему сердцу сейчас помогла бы песня, да сил нет даже звук издать…
* * *
Гаврила Софронович ушел на бахчи. Закрестить их надо. А то повадились воры, беда да и только! Самые лучшие арбузы, дыни и тыквы уносят. А когда с только одному ему известной молитвой закрестит дед те бахчи, то вор-то туда войти-войдет, а назад дороги не находит. Так и крутится целый день, куда ни сунется — стена каменная перед ним вырастает. Уже сколько раз находили они так воров — выбьется из сил, добро наворованное на землю положит, сам возле него лежит аль сидит такой пужаный, будто самого чёрта в глаза увидал!
Друзья давно сидят в любимом ими месте, опустив ноги в заросшую крапивой канаву.
— А ты, коль не веришь, погоди чудок, пока дед яво с бахчи возвернется. Вот и пойди туды сам, ежели хотишь. Оторви там арбуз аль дыню и иди домой. Вот тады и узнаешь то, што я узнал! — сказал Семёну Мишка.
— А ты пробовал?
— Х-ха, пр-ро-б-бовал? У нас жалмерка одна попробовала, да двух родила. Ты тоже и спросишь! Спытать мне гребтилось, брешеть Сашка про свого деда ай нет, вот я и пошел… Оторвал дыньку — сьел. Оторвал арбуз — сьел. Пошел паслену искать, подсел к одному кусту, а он сильный, страсть, полные жмени збираю. Нарезалси я той паслены, и вроде в сон мине потянуло. А солнышка, она в обед стояла. Лег я в пясок, положил голову на лопух, а сон мине и одолей. Скольки спал, ня знаю, когда, луп глазами, а стоить он, дед Сашкин, стоить надо мной и байдиком мине в зад тычить. «Што, — вспрашиваить, — внучек, повалило тибе на землю?». Ох и испужалси же я, как рванул с той бахши, так и шел наметом до самого до куреня нашего. Прибег домой, а маманя мине и вспрашиваить: «Иде ты это, анчибил, пропадал?». Ну, рази же подходяшшая это дела мамане бряхать, когда дед Сашкин всё одно всё ей обскажить. Ну, и призналси я… Вот и ухватила она пояс папанин, да ишо, слава Богу, попалси ей энтот, сыромятный, а не с набором, да как урежить, как урежить, изватлала мине так, што три дни сидеть не мог, стоя обедал и вечерял.
Все казачата смеются, смеется и Семён, но рассказанная история кажется ему не совсем правдоподобной.
— Так тебе же никакой стены не являлось. Уснул ты так, как и у себя на гумне уснул бы.
— Тю, как у мине на гумне! Да я сроду в полдня ня сплю. Мине маманя стольки дялов надаеть, што спать никак мине не приходится. Не, браток, это сила того захресту в сон обярнулась. Вот я и обмер, вроде как уснул.
Разуваевские друзья уверяют, что всё, рассказанное Мишаткой, истинная правда… Семён пожимает плечами, прислушиваясь к спору казачат о том, к кому им завтра с утра молотить идти. Кажется, к Настасье. Туда и Мишаткин отец придет. Слава Богу, на фронте ему ногу гранатой отбило, возвернулся он домой с культяпкой, чикиляет по хутору из двора в двор. Тому борону, тому веялку, тому косилку починить надо. И с паровой молотилкой управляется. Кабы не он, пропал бы хутор.
— Папаню мово вон и в Гуров, и в Киреев хутор кличуть, отбою нет, а маманя никуда яво с куряню не пушшаить, я, гуторить, чужим жалмеркам тибе на прокормлению не отдам. Хуш и культяпый ты, а и одной мине наедку с тибе хватить. И правильно говорить, таперь у нас по хутору казакам от жалмерок отбоя нет. Каких дедов и то позамучили.
Семён ничего не понимает:
— То есть, как так, позамучили дедов?
— Эх ты, простота, ты вон приходи завтрева к Настасье молотить. У ей муж уж второй год как не приходил. Ежели подвернесси ей ночью под руку, упрячить она тибе под подол…
— Как это — под подол?
На этот раз ребята смеются так, что слезы у них на глаза набегают. Только Петька, отдышавшись, выговаривает:
— Ну и дурной же ты, брат, несмотря што офицерский сын. А ты чаво ж на самом деле не знаешь, што для нашего брата бабы под подолами поприпасали? Да ты не задумывайси, Настась тибе научить, забудишь об том думать, што твои папаня с маманей тибе в капусте нашли.
И опять хохочут друзья его, и, наверно, поднялся бы он и ушел, если бы не донеслось до них из садов пение. Первым вскочил на ноги, весело сверкнув глазами, Петька:
— Пошли, рябяты, это у Рябовых служивые гуляють! Подбежав к рябовскому саду, дружно перепрыгивают через канаву и нарываются на идущего от речки деда Агафона.
— Г-га! Шелопуты! Чаво по чужим садам болтаетесь? А ну-кась в мент по домам, а то докажу атаману, враз он вам шшатинку вкрутить.
Как стая испуганных воробьев, несутся они к речке. Дед Агафон, он страсть какой вредный, не поленится и к атаману пойти жалиться. Добежав до реки, садятся все под вербами, тут их деду Агафону не видно, хоть и глядит он им вслед, приложив руку к изборожденному морщинами лбу. И ничего не видит из-за лучей заходящего солнца, бьющего ему прямо в темное, сухое, как у святителя Николая, лицо. Выглянув из-за вербы, видят казачата, что, пригрозив чекмарем, куда-то, совсем не в их сторону, повернул дед Агафон и запылил своими чириками дальше. Слава Богу, кажется, на этот раз пронесло, все равно никого из них сослепу он и не разглядел.
Еще вчера с вечера приволокли молотилку на выгон. Свезли сюда еще загодя снопы и ржи, и пшеницы, поналожили стога вокруг тока, будто городские осадные стены строили. Весь хутор ноне на гумне, заняв свою очередь, работает каждый, как окаянный, пока весь его хлеб не помолотят. А там идет он хуторцам помогать, так как и все они ему помогали.
Солнце уже совсем от бугров отскочило, жарко; завязав платками лица так, что только глаза видно, крепкими загорелыми руками бросают казачки развязанные снопы в бешено крутящийся барабан, схватывает он их, рвет и заглатывает в свое нутро, гудя на разные голоса — то высоко, то, сбившись от слишком большой порции, мгновенно глохнет, и вдруг взвывает снова, да так, что не разобрать голосов казаков и казачек, весело перекликающихся, радостных и довольных, будто собрались они вовсе не на тяжелую работу, а на праздник. Семёна с Петькой поставили оттаскивать мешки с половой, Гришатке с Ваняткой возле снопов дело нашли, казаки к мешкам стали, а бабы — к соломе. Накидывают ее вилами в кучу, подъезжает к той куче Настасья, стоя на ребре широкой доски, волочащейся по земле, захватывает ту кучу и тянет подальше, к стогу, где ждут ее казачки с вилами. Быстро разбирают они навильниками привезенный груз, кидают его на скирду и растет она, высокая и аккуратная, так причесанная, что хоть на выставку ее станови. Лихо ездит, стоя босыми ногами на доске, раскрасневшаяся Настасья…
И безногий коваль чикиляет туда и сюда, таскает замазанные мазутом банки, катит огромную бочку, залезает в самую пасть оголтело ревущей молотилки, ругается и смеется, перекликаясь с казаками и казачками, подталкивает и подбадривает вспотевших ребятишек. Почти захлебываясь от пыли, видит Семён лишь смеющиеся лица, слышит крепко присоленные прибаутки, и особенно нравятся ему трое служивых, которым послезавтра снова на фронт идти. Сняв рубахи, черные от загара и пыли, кидают они в телеги полные пятерики так, будто нет в мире ничего лучше игр с этими огромными мешками.
Особенно громко взревев, захлебнувшись, щелкнув какой-то железкой, вздрогнув всем своим телом, остановилась вдруг молотилка. Откинув последний мешок половы, еще не понимая, почему же это так тихо стало, оглядывается Семён и видит, как большинство молотников, сбрасывая на ходу рубахи, бросаются к речке, как уже забрели они в теплую ее воду, заплывают подальше, толкаясь, ныряя и дурачась так, будто и не работали они вовсе. А понабежавшие с хутора девчата и бабы уже порасстилали под вербами ватолы и полсти, расставили на них черепушки, кувшины и миски и, мотнувшись к камышам, достали из воды ведерко, полное бутылок самогона. Теплым пить его никак не способно.
Против Семёна сидит на ватоле один из служивых, Семён Семикопов, тут же и Петька с Мишаткой. Не торопясь, степенно, без лишнего разговора, все черпают из чугунка горячий, как огонь, лапшевник, откусывают огромные куски хлеба, жуют медленно, аккуратно, подставляя под ложки свои краюхи так, чтобы на штаны и на ватолы не капать. Веселая и живая, как кошка, ходит меж обедающими Настасья, обделяя их холодным ирьяном, наливает и Семёну холодный, как лед, напиток и, улыбаясь, спрашивает:
— Ну как, смогешь, ай нет?
Служивый Семикопов хохочет:
— Ишь ты, чего она знать захотела. А ты не вспрашивай, а лучше спробуй.
— Захочу, так и вспробую, у мине не зануздано, — отвечает она, ни на минутку не задумавшись.
Все хохочут:
— Ну вот это она яму резанула!
— Таперь дяржись, Семён, это табе не мешки с половой.
— С соком!
— Употеешь не хуже!
После обеда уснул весь хутор, поснули собаки, попримолкла домашняя птица, сморенные усталостью и зноем.
А вечеряли перед самым заходом солнца, а то и не видать будет, куда ложкой тянуться надо. Искупался Семён в речке и пошел спать в сад у жалмерки Настасьи на постеленной ему в зарослях малинника ватоле. Улегшись поудобней на спину, глянул на моргавшие ему сквозь кружево веток, горящие серебром звезды, и уснул мгновенно, крепко. Потому сначала и не понял, да кто же это возле него мостится. Батюшки мои, да ведь это Настасья. А та, быстрым движением подложив ему под голову правую руку, обняла его левой и снова услышал он тот же вопрос:
— Ну как, смогешь, ай нет?
Страшно смутившись, чувствуя, что мучительно краснеет он в темноте, зашептал, совершенно растерявшись от смелых прикосновений горячих рук:
— Н-нет, н-не надо, н-не надо…
И стал вырываться из крепких объятий.
— Эх ты, сопля!
Бесшумно исчезает в темноте стройная, в одной рубашке без рукавов, легкая тень Настасьи.
Кусает он губы, стыд, страшный стыд душит его, и хочется ему биться головой об дерево. Снова искупавшись в темноте в речке, решает идти домой. Довольно. Отмолотился, желторотый. Хутор еще зорюет, спят и собкки, брехать им не на кого — тут все свои. Солнце осторожно выглядывает из-за бугра и обливает серебром речку и пруд, и золото свежесложенных на гумне скирдов соломы. Из Правления слышны голоса, это атаман с писарем поднялись, когда еще и черти с углов не сыпались. Присесть, отдохнуть на крыльце, домой идти все равно еще рано. Что это атаман говорит?
— Совсем, Анисимыч, иной теперь казак пошел. Сам на них погляди — понабирались духу пяхотнево, кого из них не спроси, все отвечають — замирения. Рази ж это казаки?
— Так-то оно так, да вы лучше послухайтя, што они рассказывають. Хучь бы про газы про энти. Ить тыщи миллионов солдат наших немец газами потравил. А почаму, да потому што, когда пошел тот газ на наши окопы, а у солдат масков нету. Как же такое дело случиться могло? Об чём же начальство думало?
— А ты не дюже, теперь кажный зачинаить об начальстве свою понятию иметь. А того не знаить, што начальству сроду с горы видней.
— Это чаво ж яму видней? Как свой же народ немецким газом душить? Ить недаром же говорять, што министер Протопопов изменьшшик, шпиен немецкий.
— Тю, да ты што, белену лизал? Какие ты слова выговариваешь?
— Как наслухаисси, так и заговоришь. Ить вон от пяхоты от нашей, почитай што, одна третья часть в плену, одна треть в бегах, а тольки третья часть ишо и держится. Ить у половины полков наших, казачьих, только того и дела, што дизинтиров энтих ловить да обратно в окопы загонять. Это как же понимать нам надо?
— А так и понимать, што быры-кась бумагу да пиши, а то мы с тобой ни с бумагами, ни с молотьбой ня справимся.
— И ня справимси, как и с немцами нам не совладать. Грохнув и засвистев, загремела на выгоне молотилка.
Поднявшись с крыльца, отбежал Семён в луга, свернул на тропку, ведущую к пруду. А Настасья, лихо стоя на доске, бодро гнала свою лошаденку с новым грузом соломы и только раза два перекинулась словом с его тезкой. И многие сразу же поняли, что никак они ночью не постничали. Семён прибавляет шагу, ведь послезавтра в Камышин ехать.
* * *
Иван, сын сапожника Ефрема, того, что на Песчаной улице живет, тот самый Иван, что забрали его на войну сразу же после объявления мобилизации, вернулся домой. Отслужился. Пошли они где-то там в атаку на немецкие окопы и разорвалась граната у него, почитай, под ногами. Так правую ногу по колено и отхватила. И землей его закидало. Контузило. Подобрали его перешедшие в контратаку немцы, перевязали и тут же, поблизости, в лесочке под куст поклали. Тут опять наши ударили, сбили немца, и Ивана — культяпого, нашли. Промытарился он по лазаретам добрых пять месяцев и приехал в Камышин отцу-матери на радость и горе. Однако дело себе нашел: в городе сапожников всего один-два и обчелся. Уселся Иван на пенек напротив отца, ссучил дратву и пошел латать. И понесли ему бабы камышинские то сапоги, то ботинки, то набойки ставить, то союзки, то валенки подшивать. Отбою от них нету.
Вот этот-то Иван, после того как пришел он с фронта, дня через три и явился к Пономаревым с письмом от отца Тимофея. И рассказал:
— Накрыло и яво, только шрапнелью. Коня под ним убило, конек его не дюже прыткий был, вот и поотставал он от полка, погнал конька своего, имя Божие поминаючи, поперек шоссы, в лес ускребстись хотел, туда, куда полк его, почитай, уже с полчаса как скрылся. А немец, тот пардону не дает, гранат да шрапнелев, да «чемоданов» хватает у него. И вдарил немец по той шоссы, коня враз убил, а отцу Тимофею в икру левой ноги осколок загнал, да в левую, извиняйте, задницу, другой, трошки поменьше. И шапку он свою поповскую потерял, как через шоссу и то поле к лесу полз. Ну, короче говоря, когда подлатали его в лазарете, зачал он ранетых обходить, молитвы читать, напутствия давать, и кажного о всем досконально расспрашивать. И напал на меня, раба Божия Ивана, и узнал от меня, что завтрева мне на выписку и што еду я в Камышин-город. Вот от него и привез я вам письмецо, извините за промедление, с приезду загуляли мы, дня три дуром с горя и с радости пили.
Иван сидит в гостиной. Одет по-простецки, штаны казенные, а рубаха своя, ношеная, ременным пояском подпоясанная. На левой ноге сапог новый, хромовый, отец сшить успел, ну, а правая с деревяшкой, или, по-ученому говоря, с протезом. Сначала никак он ходить на той деревяшке не мог, не получалось. А теперь попривык, только много болтаться никак ему нельзя, растирает рану деревяшка проклятая, нога здорово болеть начинает. Гостя угощают чаем, а к чаю такого всего понанесли, что разбежались у него глаза и не знает он толком, с чего ему начинать надо. Мама подсела к нему поближе, подкладывает на тарелочку то того, то другого, благодарит он ее вежливо и удивленно, и съедает всё, что бы ему ни положили. Вокруг стола собралась вся семья, в дверях, прислонившись к притолоке, стоит Мотька со стряпухой — и им охотка солдата послушать. А выпив рюмку, другую, не заставляет он себя много расспрашивать, вот уже добрых два часа рассказывает, что ему повидать пришлось.
— И вот, батюшка-барин, ваше благородие, нету боле силов наших. Как зачнеть немец по нашим окопам крыть с антиллерии, то и Богу душу. Вперед кинет одну, вроде через нас, потом одну вроде недокинет, а посля того как зачнеть тарахтеть, как той швейной машинкой строчит. И останется тогда от полка одно название.
Кухарка крестится и вытирает глаза уголком головного платка. Иван дует на блюдце с чаем, откусывает кусочек сахара, пьет вприкуску и жмурится от удовольствия:
— И-их, хорош чаек. Дай вам Бог здоровья. И вот таким разом полк наш четыре раза немцы выбивали. Нас, тех, што с маршевой ротой в полк пришли, всего трое осталось. Ох, и бьют народ наш, почем зря бьют, а как вспросил бы, да на кой чёрт всё оно нам надо, народу простому, так ответ получается даже вовсе неподходящий. Вас мы знаем, идет промежь нас такая думка, что с вами обо всём говорить можно, не то, што с нашими офицерами. У вас, у казаков, офицеры попроще в обращении, свои хуторцы, сказать. А у нас вовсе всё оно по-иному. Назначен он командывать и службу требовать, вот и всё. А у вас все вы свои люди, сапча служитя, сапча и песни петь сбираетесь. А тут еще, ежели по-правде сказать, офицеров настоящих теперь у нас на кнут, да махнуть. Кадровых, тех, почитай, всех побили. Молодые теперь со школ прапорщиков понаехали. Из учителей, бухгалтеров да аптекарей. Кажной пуле поклоны отдают, сноровки никакой у них нет, не офицеры, а горе одно… ну, простите, дочитывайте письмецо до конца, коли не тайное в нем дело, очень даже охотка мне его послухать, больно уж душевный человек сродственник ваш. Много мы с ним тогда, почитай, целую ночь проговорили, как узнал он, что камышинский я.
К началу чтения Семён опоздал, пришел тогда, когда одна половина письма уже была прочитана, и поэтому слышит лишь то, что под конец написано:
«…Привел меня Бог и в Питере побывать, по разным делам командир полка туда меня посылал. И тут, по обычаю моему, тоже с многими людьми я спознался, начиная с дворников и кончая правителями. Всего-то наслушался и скажу теперь прямо: жалко ее мне, императрицу нашу, жалко по-человечеству, а все-таки всех нас в пропасть она ведет. Силу такую над царем забрала, так всё поворачивает, как только ей хочется. Этого во всей российской истории не бывало. А с петербургским обществом на ножах. И говорят о ней такие пакости, что слушать страшно. А кто? Да люди, на самых верхних ступеньках общества стоящие. И изменница она, и с Гришкой живет, и шпионка немецкая. А она, несчастная, с этим, Господи прости, «обществом» вести себя неумеющая, в Россию и русский народ просто влюбленная, верующая так, как наши начетчики-староверы веруют, и только одно твердо знающая: царская власть от Бога. Для Ники — так она царя называет — только остается одно: самодержавие! Никаких там ни Дум, ни парламентов. А тут еще и ее тяжелая болезнь, которую переносит стоически, но тем еще хуже душу свою отягощает. Всё это, вместе взятое, плюс влюбленность в нее царя, и царя любовь к ней такая, будто не зрелый он человек, а без ума втюрившийся подпоручик. А мерзавец и прохвост Гришка, тут прибавлю я, что бывает он во дворце не больше как раз-два в месяц и принимают его исключительно в присутствии царя или фрейлин, дьявольским ли духом, иным ли каким наваждением руководимый, ведет себя как зазнавшийся хам, как получивший неограниченную власть мужик, и поэтому никакого удержу не имеет. А тут еще одно: действительно, сам это наследник говорил: «Что мне доктора ваши, вот, придет он, даст мне яблочко, погладит по голове, а кровь у меня и останавливается»… Понимаешь? А общество, интеллигенция, те, что только и глядят, как бы с царского стола кусок урвать, вот от них и пошли в народ грязные сплетни, в массы, на улицу. И так всё это далеко зашло, что, боюсь я, не остановить теперь этого ничем. Суперпатриоты же наши только и делают, что слушают то, что Гришка с пьяных глаз болтает. А говорит он, что нам с немцами непременно сепаратный мир заключить надо. Иначе пропадем. Побьют нас. Пропала Россия. И получается так, что лучший друг царёв — ни что иное как изменник и предатель, что агитирует он за врага… Сергей, ждет нас беда неминучая…».
Отец откладывает письмо в сторону, придвигает к себе поближе чашку с чаем, пьет глоток и лезет в карман за папиросами.
— Н-да… что ж тут читать, гм… конечно, а ты, Иван, что не ешь больше?
— Покорнейше благодарим, с нашим удовольствием, только, как раздумаешься, так кусок поперек горла становится, в рот не лезет. Нагляделся и я за эти годочки, наслухался, и такая и у меня думка получается, что пропадет наша Матушка Расея. Вон и отец мой, на што простой сапожник, а царю он верный слуга, он ить тоже дюже верой зашиблен, тоже и он никаких там Думов или социалистов не признаёт. А за царя он, за крепкого царя стоит. А теперь ни об чём и говорить не хочет, а как спать ложиться, так станет на коленки, так часа по два поклоны кладет. И таких, как он, теперь, почитай, и не осталось. Иную думку народ задумал, я вам говорю. Вот поэтому и страшится отец мой, и одно только от него слышу: «Не дай Бог свинье рог, а мужику панство…».
* * *
На большой переменке в коридоре договаривается Семён с Валерием и Виталием и еще двумя товарищами отправиться в это воскресенье в овраг Беленький на прогулку. Начинается он далеко, на бугре правого берега Волги, маленькой водомоинкой, бежит всё дальше меж выжженных солнцем каменистых полян, вгрызаясь в почву, рвет наслоившуюся тысячами лет гальку, зарывается все глубже и глубже, и доходит до Волги широченной промоиной с берегами в добрый десяток саженей высоты.
Пойдут они сначала по берегу Волги, повернут потом в овраг и, пробираясь по его дну, как по каньону, выбирая голыши покрасивей, пойдут дальше и дальше, пока не поднимутся к той дороге, по которой ездят они в город с хутора. А там — бахчи со знаменитыми камышинскими арбузами, покотом лежащими на нескончаемых, обсаженных подсолнухами, буграх.
Подошло, наконец, и воскресенье. Поднявшись чуть свет, получив от мамы всё то, что наготовила она ему в дорогу, захватив толстую вишневую палку, отправляется Семён в городской парк на берегу Волги и, ожидая друзей, садится на скамейку возле кино «Аполло». А когда собрались все и, отойдя подальше от города, сначала выкупались, полежали на песке на солнцепеке, и лишь часам к десяти дошли до балки. Впереди шел Юшка Коростин. И когда вскрикнул он от удара камнем в плечо, сначала никто ничего толком не понял. Подбежали все к нему, и в эту минуту угодил второй камень в спину Семёна. Да так, что вначале и дохнуть он не мог. Камни летели с высокого правого берега оврага, видимо, залегла там целая компания, решившая показать им, где раки зимуют. Но кто это, почему, что им надо? О том, чтобы как-то подняться по отвесным берегам оврага и речи быть не могло. Сбившись в кучу над Юшкой, по крику Валерия, разбежались они врозь и залегли меж наносами песка и камней. Что ж дальше делать: бежать вперед — слишком далеко, назад — так отошли они уже с добрую версту, оставаться лежать глупо — всех их оттуда сверху перекалечат невидимые ими враги. Виталию попало в голову, хорошо еще, что лежал он, прикрывшись рюкзаком, а то дрянь бы дело было. Ясно, враги их лежат на животах над самой кромкой оврага, бросают камни лежа, целиться по-настоящему им плохо, но вот уже трем из лежащих внизу попало здорово. Возмущенный подлым нападением, кричит Семён возмущенно:
— А что ж вы прячетесь, сволочи!
Град камней почему-то прекратился, но слышится возня, ага, там, наверху, стараются отвалить подмытую дождями кромку оврага так, чтобы обрушилась она вниз и, как лавина, раздавила прячущихся на дне ребятишек. Да что они, на самом деле, перебить их хотят?
И вдруг, грузно осев, грохоча и кувыркаясь, разбрасывая вокруг себя целый водопад камней, подняв пыль столбом, полетел вниз, раскалываясь, подпрыгивая и крошась, огромный ком земли, глины и гальки. Бросившись в сторону, сначала и не заметили они, что, потеряв равновесие, свалился вниз и один из нападающих. Только когда улеглась немного пыль, увидали они на россыпи камней лежавшего на боку и жалобно визжавшего рыжеголового мальчишку, закусившего нижнюю губу и схватившегося за щиколотку правой ноги рукой, с изорванным рукавом, измазанным глиной и темными пятнами крови. Всё лицо его было в ссадинах, из верхней губы сочилась кровь. А там, наверху, где-то за поросшей травой кромкой оврага, вскипел и заглох быстрый топот ног. Сообщники распростертого ниц врага, видимо, постыдно сдрапали. Подпершись кулаками в бока, подошел Валерий к поверженному противнику:
— Что, влип?
Лишь сверкнув глазами, размазав по лицу грязь, кровь и слезы, не то всхлипнув, не то взвизгнув, ухватился тот снова за ногу. Валерий опустился на корточки:
— Ты что, ногу сломал?
— А я знаю?
— Будя скулить! А ну-ка, Семён, давай мне правую руку, а ты, герой, садись нам на руки, да покрепче хватайся нам за шеи и не реви. Нашкодил, так терпи. А мы тебя враз домой предоставим. Да ты чей есть? Не бойся, не съедим, не говноеды мы.
Раненого подхватывают с земли и усаживают на руки Валерия и Семёна. Процессия движется по дну оврага. Слёзы у мальчишки остановились, но совсем посинела и опухла босая нога.
Виталий и сын пароходчика Егор сменили первую пару. Жалобно и жалко взвизгнул пересаживаемый с рук на руки мальчишка. Валерий смотрит ему прямо в глаза:
— Эх ты, слюня, а еще в драку лезешь. Чей ты, говори!
— Степана матроса сын, энтого, што на самолетской пристани, там он, нонче «Мария Феодоровна» прибежит…
Идут нескончаемо долго, нога мальчишки пухнет прямо на глазах, но, наконец, пристань. Раненого сажают на кучу мешков, и Юшка бежит отыскивать его отца, а тот от страха перед отцом забыл о боли, только еще больше побледнел и сгорбился. И становится Семёну жалко маленькую эту грудочку, забившуюся меж мешками, как хворый воробей.
— А почему же вы на нас напали?
— Господские сынки вы, казаки-нагаечники…
— Ах, вон оно что. А кто же вами командует?..
— Не скажу, а то убьют они меня…
— Ну-ну, кому ты нужен!
Крепкий, с широкой зататуированной грудью, босой и без шапки, пробивается через толпу матрос. Только мельком глянув на сына, обводит он глазами всю притащившую его компанию:
— Правда это всё, што дружок ваш мне рассказал?
Валерий и Виталий в один голос рассказывают всё, что случилось. Матрос обращается к сыну:
— Ты с кем, Иван, связался?
Иван снова начинает плакать.
— Ага, на расправу жидкий. А того не думал, что могли вы их побить теми каменюками, — и, обернувшись к Семёну: — Што ж, в полицию жалиться пойдётя?
— Этим не занимаемся.
— Ага! Ну так идитя, идитя домой, нечего тут стоять, народ собираться зачнет. А я Ивану мому три шкуры спущу. А што жалиться не будете, спасибо вам, господские сынки…
Лишь хорошо отдышавшись на скамейке у кино «Аполло», говорит Виталий:
— А ведь и Иванов отец нас ненавидит.
— Да за что же?
— Вот и раскинь умом.
А на давно причалившем пароходе «Мария Феодоровна» уже закончились погрузка и посадка публики. На носу его и на корме, там, где третий класс, на мешках и котомках, босые и в лаптях, в стоптанных сапогах и порванных валенках, в армяках, просто только в рубахах, в меховых шапках и картузах, сразу же стали закусывать таранью и бубликами рассевшиеся мужики и укутанные шалями и платками бабы. Из первого и второго класса вышла на палубу так называемая «чистая публика». Светлые платья женщин, соломенные шляпы мужчин, серые, ловко сшитые поддевки купцов, офицерские мундиры, до блеска начищенные сапоги бутылками и щегольские штиблеты. А внизу, у самой кормы, уже собралась компания: тут и солдаты, и бабы, и мужики, и девки. Видно, что уже обошла свой круг добрая чарка, видно, что есть у них настроение и песню запеть. И действительно, чистым, красивым тенором заводит какой-то солдат, сидящий прямо на досках палубы и держащий в левой руке высокий костыль:
Солнце всходит и заходит, А в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые Стерегут мое окно…Хорошо поют пассажиры третьего класса. Чистая публика на корме, всем послушать хочется. Строфа за строфой, всё громче и громче льется песня и, пробравшись к поющим, матрос, Иванов отец, махнув рукой солдату, заводит сам:
Эх вы цепи, мои цепи, Вы железны сторожа, Не порвать вас, не порезать…Пароход отваливает от пристани, дав свой красивый, всей Волге нравящийся гудок.
К отцу приехал дедушка Сулин.
— Я к вам, вашесокблародия, за советом, лесу мне для куреню надо, потому как поряшили мы с Даниловной моей Настю нашу за Гришатку, за Алатырцева, отдать, в зятья мы яво возьмем.
Вот и просю я вас, укажитя вы мне тут человечка подходяшшаво, штоб по-божески, штоб шкуры с мине не содрал.
Отец и мама переглядываются, и кивает отец головой:
— Твое счастье, дедушка Сулин, есть у меня тут дружок, носится по всей России, как угорелый, а как раз матерь повидать приехал, пойдем к нему завтра с утра на склад. А чем курень крыть думаешь?
— Известное дело — жестью. Што мы, в поле обсевок, што ли? Шатровый курень становить буду, как хорошему хозяину положено.
— С жестью теперь туговато. Всё железо на военные нужды идет. Ну да утро вечера мудренее…
С первых же слов понимает Тарас Терентьевич, что дедушке Сулину требуется. И пошли они по складу, указал хозяин подручным своим, что и откуда отложить в сторону, и жести нашел, и пластин для срубу, а как поладились с ним, вынул дедушка Сулин три сотенных и отдал, не сказав ни слова.
Все пошли на Волгу глянуть. Гудел берег свистками буксиров, гремел листовым железом, громыхал колесами тяжелых подвод, стонал голосами извозчиков, грузчиков, матросов, солдат, баб-торговок и мальчишек. И, оглохнув, и ошалев от всего, очутились они, сами того не заметив, у баталерской хатенки. А там, слышно это, люди времени зря не теряют, несутся оттуда через открытое окно переборы гармошки, слова известной песни:
Разлука ты, разлука, Чужая да сторона, Никто нас не разлучит, Лишь мать сырая земля.Хотел, было, отец повернуть, да увидал их баталер, выскочил из хаты, забежал им с тыла и стал, растопырив руки и ноги:
— Никаких задних ходов не признаю. Только полный вперед!
Тарас Терентьевич здесь в первый раз, о баталере толком ничего он не знает, но компании ломать не хочет. Быстро познакомившись с сидевшими там двумя солдатами, поздоровавшись с хозяйкой, уселись гости в передний угол, без икон, но с выцветшими фотографиями матросов да пожелтевшими вырезками из журнала «Нива» с изображениями каких-то военных кораблей. Обрадовалась хозяйка старым знакомым, а когда увидела Тараса Терентьевича, миллионщика, обомлела, но, схватившись инстинктивно за сковородку, сразу же пришла в себя, застлала стол чистой скатертью, заставила его всякой снедью. Матросу посещение нравится, усаживается он к уголку стола и наливает первую рюмку.
— Во, а вы заходить не хотели, а жонка моя, што тот кок корабельный, враз всё сообразила.
Солдат-гармонист глянул на дедушку Сулина, и сказал товарищу:
— Казак — куда бы ни шел, што бы ни делал, а всё в шароварах…
— А ты как же, милок, думаешь? А в чем же нам, казакам, ходить свелишь? Ить ети шаровары, не гляди, што дюже сношенные, шил я ишо тогда, когда на службу сбиралси. Товар тогда такой был, што доси ему сносу нет. А платили, не дай Бог как, дорого. Влятала нам служба царская в копеечку.
— Тю! Да ты за свои, за пречистые, шил, што ли?
— Вот те и тю, а того не знаешь, што выходить казак на службу и служить на всём своём. Коня — купи, сядло — справь, шашку с пикой — запаси. И, как есть, всю обмундированию на перьвых чатыре года: сапог две пары, шаровар две пары, гимнастерки — две, полушубок форменный, фасоном от начальства указанным, нижнюю бильё. Акромя винтовки, всё за свои денежки справляем. До карпетков, а по-руськи сказать — чулок.
— А ты ж хто такой?
— Казак я, браток, казак. А служим мы царю русскому потому, што у атамана нашего Межакова в Смутную вашу времю с царем вашим Алексей Михалычем такой уговор был: мы царям служить будем, а они Дон наш признавать. И вот, отслужившись в Расее, ворочаемся мы на Дон-батюшку.
— А Дон твой батюшка не Расея, што ли?
— Был бы Расеей, так бы и звалси. А то зовем мы яво Тихий Дон-батюшка, как вы Расею вашу Матушкой величаете.
Солдат обращается к Тарасу Терентьевичу:
— А што же вы за человек будитя?
Баталер отвечает вместо него:
— Миллионщик человек, захочет — весь Камышин купит. А таперь, кроме всяво, снаряды делать зачал. Фабрику состроил.
Солдат смущенно чешет в затылке:
— Ишшь ты! Сроду не думал такого человека в упор видать.
Тарас Терентьевич улыбается:
— Ну, вот и гляди. А прадед мой бурлаком тут же работал, в Камышине. На себе баржи тягал, а у меня буксиры их гоняют. Бог даст, устроим в России — никому обиды не будет.
Снова заговаривает второй солдат:
— Обиды! Да на них наша Русь-матушка только и стоит. Вон, казаков возьмите, у кажного земли сколько влезет, а у нас?
Дедушка Сулин отставляет тарелку, полную рыбьих костей, и оглядывает стол в поисках других открытий.
— Што, аль завидки берут? А ты на чужое не зарьси, а в Расее твоей порядок наведи.
— На то и вся надея наша, што однова раза наведем мы у нас такой порядочек, што всякому народу люб будет.
Выходившая из хаты хозяйка кричит в окно:
— Ипеть ранетых привезли! Полный пароход. Народу на пристани!..
Все быстро прощаются с солдатами, остающимися сидеть в хате. Замешкавшись в прихожей, слышит Семён слова баталера:
— А вы не лотошите, ждите, пока стемнеет, лодка готовая, припасу наложено, одежу вечером смените, и айда. А то болтаются, как генерал-адьютанты, в полной форме, а того понять не могут, што лекше вас так накрыть. А документики вам тоже я припас…
По сходням парохода тянутся бесконечной лентой санитары с носилками, чикиляют, махая костылями, безногие, бредут безрукие, едва движутся фигуры с замотанными, как чалмами, головами, мелькают косынки сестёр, быстро подкатывают и разбирают раненых городские извозчики. Бабы на пристани плачут, одна из мещанок вытирает глаза платком:
— И, милые вы мои детушки, соколики вы мои, ангелы, и когда же всё это кончится, и сколько же вас много!
Стоящий рядом мужичонко сердито косится на причитающую:
— А тогда кончится, когда весь народ християнский переведут.
Дедушка Сулин подводит итог своим впечатлениям:
— Во, распустила слюни Русь-матушка! Слышь, Тарас Терентьевич, а ить солдаты то энти, дезертиры, поди? И одно я таперь вижу, легко это статься могёть, пропадет Расея наша ни за понюх табаку!
* * *
Узнав, что переводится отец Николай из Камышина в Царицын, на торжественные проводы его пошел Семён в реальное училище, но в залу идти ему не захотелось и спрятался он в раздевалке. Вышел лишь тогда, когда официальная часть кончилась. В это время появился отец Николай, окружили его какие-то купцы, подходя под благословение и целуя его руку. Крестил он их рассеянно, перебегал взглядом по обступившим его прихожанам, и увидал, наконец, сиротой стоявшего у окна ученика своего. Расставшись с последними из прощавшихся, подошел отец Николай к нему, положил руки на плечи, глянул в глаза, и почувствовали они оба, что не в силах будут сказать ни слова. Лишь, будто проглотивши что-то ставшее в горле комом, заставил себя отец Николай улыбнуться и сказал сорвавшимся голосом:
— Не горюй, друг, тогда и я горевать не буду. На всё, на всё воля Божия. И грех нам не принимать с радостью то, что Он нам посылает. Помни: ничего ценнее нет в человеке сладкой боли потери, печали по тому, что любил он глубоко и искренне. И чем дольше живет она, печаль эта, тем совершенней и чище отзывается воспоминанием об ушедшем от тебя образе и подобна тихому свету зари вечерней. Вот тогда, только тогда, скорбя истинно, отверзается перед Богом в молитве душа человеческая и поднимается до недосягаемых высот Духа Святаго… Вот и не забудь слова мои: увидимся мы с тобой снова, но в такой жизни, о которой сейчас и представления ты не имеешь. И хорошо запомни то, что сейчас я тебе говорю: много, ох, как много искушений пошлет тебе Господь Бог наш. Многое перенесешь и перестрадаешь, и будут у тебя минуты отчаяния и потери веры. Но — держись, казак, памятуя, что велика награда до конца претерпевшему. И знай — простерта над тобой десница Отца нашего небесного, и не страшись ничего в жизни. Прощай, сынок!
Поднял Семён взгляд свой на отца Николая, и лишь одно успел увидать, как озарил он его мгновенной вспышкой голубых глаз, светившихся чистыми, как роса, слезинками, и быстро зашагал от него по коридору. Побежали вслед ему директор, преподаватели и ученики, и снова остался Семён один у окошка. И не слыхал, как подошел к нему Тарас Терентьевич и, взяв за руку, сказал тепло и тихо:
— Сроду оно это так в жизни. Только привяжешься к кому, ан, глядь, расставаться надо. Дурное дело, что и говорить. Однако не дано нам порядок этот изменить. Пойдем-ка лучше домой к вам, там мамаша твоя давно нас за самоваром ожидает.
У отца опять был припадок его остомиэлитиса, и поэтому ни он, ни мама на проводы отца Николая не пошли. Сдав им с рук на руки Тараса Терентьевича, отговорился Семён головной болью, ушел в свою комнату, и никто его там не беспокоил. Лишь поздно вечером, когда уже лежал он в кровати, пришла мама перекрестить его на сон грядущий. Услышав ее шаги, быстро повернулся он к стенке и притворился спящим. Слышал шуршание ее платья, тихий шепот молитвы, почувствовал взмах крестившей руки, и так долго крепился, пока, потушив лампу, не вышла мама на цыпочках из комнаты. Лишь после этого не мог больше сдержать слёз. Так и уснул на мокрой подушке, ничего не поняв и ни с чем не примирившись.
* * *
Прошла дождливая, холодная осень, потянуло с севера морозцем, дунул ветерок с Урала и сковал матушку-Волгу. Тарас Терентьевич засел за счеты и балансы, Карлушки не видно, аптекарь что-то не является, а с фронта новости по-прежнему неприятные, хотя, как говорить стали, будто снабжение армии улучшилось, будто пишут теперь рабочие на вагонах: «Снарядов не жалеть», да больно уж много проиграно, слишком много потеряно, особенно же доверия. И шатнулся народ. Теперь его не удержать.
В городе много австрийских пленных. Меж ними оказался и один майор, доктор медицины. Пик по фамилии. Не успели его водворить в казарму, как узнал об этом воинский начальник, полковник Кушелев, и сразу же велел привезти майора к себе. Да ни как-нибудь, а на извозчике, и не в управление, а на дом предоставить приказал. А супруга полковника Кушелева, как в городе теперь доподлинно дознались, по-немецки, как сорока, строчит. Усадила она майора в кресло, чаю ему китайского с вареньем, закусочки, икорки, водочки, коньячку, а полковник сигару предложил, такую, за какие в мирное время по рублю за штуку платили! А всё лишь потому, что, узнав об этом майоре-докторе из Вены, сразу же заявила супруга полковника Кушелева о появившейся у нее вдруг мигрени, да такой страшной, что свету Божьего она не видит. И вся надежда теперь у нее только на этого майора. Он-то из самого высшего венского общества, будто самого Франца-Иосифа лечил. И отдал полковник Кушелев по гарнизону приказ: австрийскому военному врачу, доктору фон Пику, разрешается в любое время дня и ночи на территории города Камышина делать частные визиты, сохраняя собственную форму, как равно разрешается ему, офицеру кайзер-королевской армии, и ношение при сем холодного оружия. Вот и шарахались от него пришедшие с фронта на побывку солдаты, увидав живого австрийского офицера, с моноклем и палашом, преспокойно фланирующего по улицам. И частную квартиру ему дали, и пленного солдата-земляка денщиком к нему приставили. Чудеса в решете, и только! И стал тот майор лечить половину камышинского населения, главным образом, женского пола. Парень он был еще вовсе молодой, видный, так умел палаш свой носить, за эфес придерживая, с таким фасоном откозыривал оторопевшим русским солдатам и офицерам, в обществе оказался таким шармером, что и месяца не прошло, как разболелись в городе все дамы, да что там дамы — и купчихи, те, что побогаче, а особенно моровое поветрие вдовушек забрало. Всё же удалось заполучить этого майора и отцу, показал он ему свою синюю, в вечных нарывах, коленку, объяснила мама с трудом всё, что болезни касалось, и задержали майора на вечернем чае. Прописал он рецепт, послали Мотьку к еврею-аптекарю и так заплатили за особенное лекарство, что и сами в чудодейственность его поверили. А тут еще и тетя Вера с хутора приехала, оказалось, и у нее застарелая мигрень и пришлось бедному майору приходить каждую субботу на ужин, отцу мази приписывать, а дамам от мигрени венские вальсы на рояле наигрывать.
Вот в одну из таких суббот, когда вошел особенно в раж майор и залили «дунайские волны» всю их гостиную, застучал кто-то кнутовищем в калитку, выскочила Мотька на мороз, открыла ворота, спасибо, разгреб дворник снег, въехать можно было, и вылезла из саней закутанная шалями и платками бабушка. Решила и она в городе раз вместе со своими Рождество встретить. Вот и свелела бабушка Матвею запрягать пару карих в санки. Доехали за один день, только часа на полтора остановились в Зензевке, у слепого на постоялом дворе. У того слепого, что когда-то в Туркестане солдатом служил, да пошел там, по жаре тамошней страшной, к фонтану воды напиться. Напиться-то напился, да подставил голову под холодную, как лед, струю, подставил, и — ослеп! Вышел он после этого вчистую, пришел домой, дали ему что-то от казны, малость какую-то, да слава Богу, была у него хата своя в Зензевке, и стал он заезжий двор держать. Кто ни едет, все к нему либо переночевать, либо лошадей покормить заезжают. А то и попросту чайку напиться сворачивают. А хозяйка его, баба из себя видная, такие пироги и блины печет, что, кто бы через Зензевку не ехал, все, да что там через Зензевку — иные и крюку дают, и все к слепому сворачивают. Вот и бабушкины карие у него передохнули, а сама она с Матвеем чайку с медом выпила, с хозяином о божественном поговорила, морозцу они подивились и дальше отправились. А дорожку-то, во как хорошо, люди добрые накатали. А в воздухе будто мгла стоит какая-то, будто сквозь молоко ехать приходится, на усы и гриву будто иней какой-то сразу же садится, а потом и ледок схватывается. И бегут от этого кони веселей, одно знай — слушай, как бубенцы свистят. Бабушка попала прямо в гостиную, глянула на австрийского майора, а видала она в «Ниве» как враги царь-отечества выглядят, и сразу-то ничего понять не могла: да что же это такое, уж не завоевали ли австрийцы город Камышин? А как узнала, что пленный он, да еще и доктор, что жена у него в Вене осталась и двое детишек, и как показал ей доктор карточки своей семьи, а носил он их с собой постоянно, то и прослезилась бабушка.
— И-и-и! Милый ты человек! Страдаешь в чужой сторонке. Да ты, Наташа, боршшачку бы яму плесканула. Да глянь там, в саквояже аль в узле, аль в мешке, варенья я вишневого привезла, положи ему, нехай попробует. Ишь ты, а из сибе гладкий он, сытый. Ну, и слава Богу, на фронте-то, поди, тоже горя принял…
Прошла неделя, опять суббота подошла, опять сегодня майор на ужин придет. А и заслужил: у отца от мазей австрийских коленка будто нормальней стала и болит вовсе не так, как прежде, спать он по ночам спокойно стал. Как такого доктора не угостить. Уж не говоря о том, что каждый раз, как уходит майор, прощаясь с ним, сует ему отец в руку конверт с четвертным билетом. Ведь из Вены доктор, такому абы сколько не дашь!
Уселись все в гостиной, ожидали прихода австрийца, сокрушалась бабушка о том, что вовсе плохая стала тетя Мина, сердце у нее сдало. И вдруг обратила внимание на то, что кот Родик, — привезла она его с собой в корзинке, чуть не заморозила, да не оставлять же калеку на девок, одно они знают, только ха-хи да хо-хи, не доглядят и порвут его собаки. Так вот, увидала сейчас бабушка, что уселся Родик на самом виду, у дверей, и одно знает — умывается. Глянула бабушка раз, глянула другой, и улыбнулась:
— Гляньте же вы, гляньте, как Родик наш гостей кличет. Живой мне не быть, а заявится кто-то к нам, о ком мы сейчас и не думаем.
Но вот он и майор. Шинель и палаш оставил в прихожей, протер монокль и снова так раскланялся с дамами, так элегантно подошел к их ручкам, и так, лишь слегка наклонив голову, открыто-дружески протянул руку отцу, что снова все почувствовали, разве, кроме Родика, что ежели сейчас и не в Вене они, то дух ее прочно засел в их гостиной. Не успел майор усесться, как снова застучал кто-то в ворота и, накинув шаль, снова выскочила Мотька во двор, тотчас раздался такой визг, будто прищемили Мотьку воротами. Прогрохотали шаги по лестнице, будто двое по ступенькам бежало, хлопнула дверь в коридоре, распахнулась в гостиную и, разматывая на ходу башлыки и снимая с усов пальцами лед, стояли на пороге дядя Воля и Гаврюша и, ничего не понимая, будто увидав привидение, широко открытыми глазами глядели на сидевшего в кресле австрийского майора. В полной форме, в погонах, подтянутого, тонкого, такого, каких на фронте они и не видывали. Первой пришла в себя бабушка:
— А што я говорила, зря Родик умываться не будет. А вы, гярои, не пужайтесь, што супротивник ваш у нас сидит. Тут войны нету.
Но уже взвилась со стула тетя Вера, вскочила мама, поднялся, морщась, отец, встал майор и смотрел как, освободившись от полушубков, перецеловавшись и переобнимавшись со всеми домашними, выстроились перед ним два казачьих офицера, оба чинами пониже — есаул и сотник. Быстро представила их друг другу мама и, сделав по два четких шага, подошли они к австрийцу и пожали ему руку, и тут все сразу заговорили. И немало прошло времени, пока уселись они за стол и не принялись уплетать принесенный Мотькой кипящий борщ. Так прямо в гостиной и ели. Бабушка же особенно ухаживала за майором, и ел он так неслышно и аккуратно, будто считал внутренне все калории в каждой ложке. Борщ ему понравился.
— Зер гут. Карашо боршш!
Согласилась с этим бабушка:
— А ты как думал? Это тебе не ваши супы-брандахлысты. Это со свининкой, с мозговой косточкой, ешь на доброе здоровье, да сметанки, сметанки не жалей. У вас там, в Вене, поди, Господи прости, больше в счет лягушков. — Мама быстро ей что-то шепчет, но отмахивается она: — В Париже ли, в Вене ли, устрицы ли аль лягушки, все одно, всё они нехристи. Нехай раз православным борщом побалуется.
В это время, свернув на огонек, подошел и аптекарь. С майором поздоровался он совсем по-дружески. И недаром — рецепты-то майор пишет, и все они особенные, дорогие страшно, и зарабатывает на них аптекарь совсем неплохо. Да и сам майор пользуется. Дело коммерческое.
И решили тут же послать Мотьку за Тарасом Терентьевичем, благо, живет он всего за два квартала, на Красной улице. Не успели служивые и закурить, как вошел он с двумя молодцами, несущими корзины из собственного его ренскового погреба с ветчиной, рыбой, птицей, колбасой, икрой и шампанским. А женщины спешно бросились готовить ужин. Носились они то на кухню, то снова в гостиную, сев за рояль, сыграл майор что-то из «Летучей мыши», «Ночи в Венеции», «Цыганского Барона», «Лустиге Битве» и «Графа фон Люксембурга». Окончив, помедлил, наклонился над клавишами, будто что-то меж ними рассматривая, запрокинул вдруг голову назад и, сам себе аккомпанируя, запел:
Май зон дас ист дер Сигесмунд Шен шланк унд гезунд. Ер динт нет ви зи манен Бай трен бай ди уланен. Унд вен ер ауф дем пферд обен зитц А едес мадерл ауф ин шпитц. Дер шенсте ман ин дер швадрон Ист Сигизмунд, май зон!Тарас Терентьевич предложил всем выпить здоровье всех прибывших с фронта. Оглушительно хлопнув, взвилась пробка в потолок, заискрилось и запенилось донское шипучее и, выпив его стоя, первым Тарас Терентьевич, а потом все мужчины, бросили бокалы на пол и разбились они вдребезги. Всплеснула бабушка руками, глядя на всё ничего не понимающими глазами:
— Господи, бяда-то какая, да вы што, показились?
Быстро шепча на ухо, объяснила ей мама, почему так делать надо. Бабушка отрицательно качает головой:
— Да вы што, сроду хозявами не были? Мотька, да приняси ты им стаканов, какие похуже, а то они всё добро побьют.
А народ налег на закуски, на жаркое, на дичь, на водку, на ром и коньяк. И долго царило полное молчание, прерываемое лишь короткими восклицаниями. Но постепенно отодвинули свои тарелки и майор сел снова к роялю, хотел было еще что-то заиграть, да подошел к нему дядя Воля с двумя полными бокалами. Путаясь и оглядываясь на маму, научившую его этой страшно трудной фразе, всё же выдавил с трудом заученное:
— Эс лебе ди шенсте штадт дер вельт — Вин!
Высоко поднял свой бокал расстроганный австриец:
— Эс лебен ди козакен! — и одним духом опорожнил всё до последней капли.
Бабушка зажмурилась, Господи, опять они посуду бить зачнут…
Но никто больше ничего не разбивал. Все, даже Семён, провозглашали тосты, пили все вместе, группами и в одиночку, и, подсев к Тарасу Терентьевичу, уже совсем осоловелый, пролепетал майор, хлопнув его по колену:
— Абер ин Руссланд ист вирклих вундершен!
От многих возлияний и Тарас Терентьевич на взводе, но майору отвечает немедленно:
— А ты как думал? Это, брат, Россия, а не твоя лоскутная империя!
К ним подсаживается аптекарь и, перекинувшись с австрийцем двумя словами, берет Тараса Терентьевича за пуговицу.
— И ви знаете, что я вам сказать хотел?
— Нет, брат, не бабка-ворожка, не знаю.
Немилосердно крутя пуговицу, сосредоточив на ней всё свое внимание, лишь коротко взглядывая в лицо собеседника, рвет аптекарь так свои фразы, будто заикается:
— И ви же прекрасно знаете, это же война. И сколько горя и слёз. А почему? А за что невинные люди страдать должны?
Ну хоть бы взять господина майора. Ка-унд-ка офицер! И знаете, что в Австрии народу жрать нечего? И где достать? А у спекулянтов…
— У таких вот, как ты, у вашего племени!
— Ах, и что ви себе думаете? И разве другие тоже не стараются? У других нет жен-детишек? А у наших? Ну, вот майор — жена и два сына. Помочь надо…
— Што ты мне мозги туманишь? Я вон, ежели по Камышину пойду, да захочу каждому нуждающемуся помочь, так всего капитала моего не хватит. А ты мне с австрийцем твоим лезешь!
— Но ви же совсем, совсем большого человек! И он не просит ваших денег, он скопил, но только через швейцарские банки…
— Ишь ты, куда гнет! Это что же — должен я твоему майору в Австрию, вражескую страну, русское золотце переслать?
— Ну, и почему вражескую страну? И там все тоже люди. А почему русского золота? Богово оно, золото. А вы бы такого добро сделали, жена у него, двое детишек…
— Слыхал, слыхал, а как же звать ее, Пенелопу майорскую?
— И почему же как звать, и зачем Пенелопу, и вовсе она не Пенелопа, а Сара.
Хмель у Тараса Терентьевича мгновенно исчезает. Толкает он пальцем отца:
— Слыхал, майор-то этот, жид он!
Аптекарь воздевает руки к небу:
— И никакого он не жид. Еврей он, порядочного человек.
Разговор стал таким, что все, сидевшие в гостиной, поняли в чем дело. Прислушалась и бабушка, глянула на австрийца, на внуков, и решила и она слово свое вставить:
— Простите мне, старухе, что не в свое дело вмешиваюсь. А думается мне, коли уж есть такая дорожка, помоги добром человеку. На том свете тебе зачтется.
Тарас Терентьевич ошеломленно смотрит на бабушку, переводит глаза на дядю Волю и Гаврюшу:
— А что вы на это скажете, господа офицеры.
Переглянувшись, поняв друг друга, сразу же отвечает за обоих дядя Воля, старший:
— Столько мы всего на войне хлебнули, что зря и говорить не хочется. И, бывало, и с нами — чужим иной раз так привечены были, что диву давались.
Тарас Терентьевич вынимает свой красный платок и вытирает лицо и глаза.
— Ить вот какое дело! А гляньте на них, на них, как они — один аптекарь из Камышина, а другой черти откуда майор, как они друг за дружку держатся, ну да так и быть, всё одно еду я на следующей неделе в Москву, приходи, деньги приноси, да и адресок не забудь прихватить.
Лицо аптекаря озаряется счастливой улыбкой. Внимательно следивший за разговором майор, видимо, понял благополучный исход, и медленно, с полузакрытыми глазами, с выражением страшной усталости в уголках рта, поднимается в кресле. Монокль выпал у него из глаза и качается на тонком черном шнурке. Две слезинки быстро сбегают по подбородку, он их не замечает, пробует что-то сказать, ничего у него не получается и тянет он молча руку Тарасу Терентьевичу. Тот быстро жмет ее и кричит:
— Ты сантиментальничать брось, чучело австрийское! Сказал, сделаю, и готово.
Бабушка подходит к майору с цыбиком китайского чая в руках.
— Хушь и не нашей ты веры, а, поди, тоже человек. Вот, возьми. Теперь его не достать, настоящий, китайский, пей на доброе здоровье!
Тетя Вера подбегает к роялю, усаживается, берет несколько аккордов и запевает:
Выйду-ль я на реченьку, Ох, погляжу ль на быструю, Эх, не увижу ль я свово милово, Свово разлюбезного!Дядя Воля наклоняется к Гаврюше:
— А побил нас чёртов майор на внутреннем фронте!
И прав — за роялем опять австриец уселся. Сначала играет он «Радецки марш», затем мелодия меняется и поет майор, помолодевший и бесконечно счастливый:
Венн ди зольдатен дурх ди штадт марширен Оффиен ди мэдхен фенстер унд ди тюрен…Но — что это? Крутится это у него голова или попросту уходит пол куда-то из-под ног Семёна? Держась за притолоку, за стенки коридора, аккуратно притворяя за собой двери, попадает он в свою комнату. Свалился на кровать и заснул моментально, даже не заметив, что, уйдя от греха подальше, спит на его подушке свернувшийся калачиком Родик.
* * *
После обедни, одевшись и собираясь выйти на улицу, встретил Семён Ивана Прокофьевича, никогда в церковь не ходившего, и показалось ему появление его странным. А у выхода из училища происходило что-то совсем странное, преподаватели и прихожане собирались группами у вешалок и на дворе, толпились в коридоре, о чем-то возбужденно говорили, жестикулировали и полушепотом спорили. Но выражение лиц у всех было оживленное и радостное. Да что же это случилось? Уж не Берлин ли наши взяли? Иван Прокофьевич отошел с ним подальше и прошептал ему на ухо:
— Слыхал? Гришку Распутина укокошили!
Мороз прошел по коже Семёна. Слишком уж много слыхал он о Распутине и испытывал к нему чувство какого-то мистического страха и гадливости.
— Кто?
— После расскажу. Вот что — приходи-ка сегодня вечерком ко мне. Старый наш дружок баталер явится, несколько учеников наших будет, офицер один, Моревна моя бутербродов наделает. Потолкуем.
Быстро распрощавшись, бежит Семён домой. Время обеда давно прошло, но в столовую никто идти и не думает. Дядя Воля и Гаврюша сидят в углу и молча прислушиваются к тому, что говорится. Прислонившись к притолоке, стоит аптекарь. Тут же и Карлушка, и даже Иосиф Филиппович, как всегда, в мундире с ярко начищенными пуговицами. Все — и хозяева, и гости, стоят посередине зала полукольцом, окружив облакотившегося на подоконник Фому Фомина, купца первой гильдии, известного камышинского богатея. По круглому, жирному лицу его ручьями льется пот, в левой руке держит он платок и то и дело вытирает им лицо и бороду. Высоко подняв правую руку, будто кого-то остановить хочет, непрестанно шевелит толстыми короткими пальцами. Он давно уже охрип, говорит с усилием, постоянно прокашливаясь:
— Ить прямо с поезду я к вам прибег. В Питере третьяго дня самолично, своими глазами я его видел. И нехай мне никто ничего не говорит, а что исцелял он, так это доподлинно. Вон когда его царское величество изволило Беловежскую Пущу посетить, упал тогда наш наследник-цесаревич Алексей Николаевич, и таково несчастно свалился боком, что получилось у него кровоизлияние. Внутре. Боткин доктор тут же был, болезнь наступившую перитонитом определил. Определить-то определил, а лечить не мог. И такое получилось дело, что лежал царевич наш присмерти. Уже и указ писать зачали, оповещение народу о смерти престола наследника. И послала тут государыня-императрица телеграмму Григорию Распутину. В отчаянии она была, солнышко наше. И только што послала, враз ответ пришел: молюсь, выздоровеет! И только телеграмму ту во дворце читать зачали, подошел доктор Боткин к наследнику-цесаревичу, а он в кровати своей лежит, спит, во сне улыбается и на щечках его, на детских, румянец горит, а до того бледный, как смерть, был…
Купец дышит тяжело, захватывает пальцами правой руки ворот рубахи, крутит головой, сует платок в карман, хватает с подноса первый попавшийся стакан, выпивает его залпом и валится на стул. Поджав ноги под себя, берется за ручки стула с таким выражением, будто прыгнет сейчас на своих слушателей, и уже не говорит, а шипит:
— Три раза, понимаете — три раза исцелял. Никакие другие доктора, ни тот француз, ни азиат-доктор Бадмаев, ни Боткин, никто, а Григорий…
Аптекарь наклоняется к купцу:
— А правду это говорят, что за немцев он был?
— И ни за каких немцев он не был. А за мир с немцами. Нам, говорил, всё одно их не одолеть, а сепаратный мир заключить надо. Не то, говорил, утопится Россия в крови и бесконечные страдания народ русский примет.
Карлушка так зевает круглым ртом, как делают это выкинутые на берег сазаны, хочет что-то сказать, ловит взгляды дяди Воли и Гаврюши, клацает зубами так же, как и Буян это делает, гоняя в хвосте блох. Зато вставляет свое слово Иосиф Филиппович:
— Польшая, ошень польшая, ошипка пил…
Семён пробирается к выходу и слышит голос Гаврюши:
— Вот те и «пил»… видать, у всех нас похмелье будет!
Проходя мимо бабушкиной комнаты, видит Семён сквозь приоткрытую дверь как, стоя на коленях перед образами с зажженной лампадкой, бьет она поклоны и слышит ее тихий шепот. Посередине столовой стоит, как потерянная, кухарка, чешет вязальной спицей в голове и никак понять не может, да на сколько же человек стол ей накрывать? В коридоре слышны шаги уходящего хозяина их дома. Видят они его редко, камышинский он мещанин, дом выстроил в два этажа, сдает им весь второй этаж и приходит к ним лишь раз в месяц за получкой. Прежде чем закрыть за собой дверь, останавливается он на пороге и, по-волжски окая, говорит провожающей его маме:
— Собаке собачья смерть. Всю Расею нашу под вопрос постановил.
Мотька накрывает Семёну стол в его комнате. Сегодня подадут ему отдельно от взрослых. С каких это пор? Почему? Разве раньше он не всё слушал?
* * *
Уже совсем темнеть стало, когда подошел он к дому Ивана Прокофьевича. В окнах горит свет, мороз на улице крепкий, и рад он войти в теплую прихожую и сбросить, наконец, тонкую, совершенно промерзшую, шинель на сундук. Вешалок тут не водится. В самой дальней комнате, еще больше загроможденной книгами и мебелью, чем раньше, расселись у стола гости и указала ему Марья Моревна стул рядом с собой. Кипит самовар, горой навалены бублики, стоит мисочка с коровьим маслом и лежит в тарелках нарезанный пеклеванный хлеб. В огромной миске горой наложены куски чайной колбасы. Все кивают ему головами, хозяин дома Иван Прокофьевич, какой-то неизвестный пехотный офицер, бледный и истощенный, как узнал он позднее, поправляющийся в лазарете тяжелораненый, пьют чай, мастеря сами себе бутерброды с колбасой или, сняв с самовара размякший от пара бублик, режут его вдоль на две части и намазывают маслом. Как опоздавшему, делает ему хозяйка бутерброд собственноручно и наливает чай. Разговор, видимо, давно уже начался, и, лишь бросив короткий взгляд на нового гостя, продолжает бледный офицер:
— …Пришли мне мысли эти в голову, когда я в первый раз по-настоящему в лазарете в себя пришел. Лежал я в офицерской палате, у нас еще сравнительно сносно было, а вот что в солдатских творилось, думаю, сами вы знаете, лишний раз ужасы эти рассказывать не приходится. Теснота, лежат на соломе, на полу, вповалку, персонала не хватает, докторов рвут в разные стороны, сестры мечутся, как полоумные, ни отдыху им, ни сроку. А каждый день всё новые и новые раненые прибывают. Холод такой, что руки под одеялом мерзнут. И вот, ко всему присмотревшись и о всём раздумавши, понял я тогда, что делит нас и солдат какая-то невидимая стена, и ничем ее не пробить… Несмотря на то, что лежу я также с развороченным животом, и того и гляди, дубу дам. Молча мимо проходят, будто я какой-то зачумленный, проворовавшийся. А не мы ли, не офицеры ли, первыми гибнем? Ведь процент убитых офицеров нисколько не ниже…
Хозяйка поближе пододвигает ему тарелку с бутербродами и перебивает его, нисколько не смущаясь:
— Стену эту создавали веками те, кому вы, по мнению солдат, как цепные собаки, верой и правдой служите, а их, солдат, на убой гоните. Веками чуждались вы своего народа. Вон хоть баталера нашего спросите, как матросы на своих офицеров смотрят. Да как на врагов лютых. Всё у нас строилось на священном авторитете высших, на абсолютной их непогрешимости. И казалось народу, что правящие им делают всё по принципу: что моя левая нога пожелает. И вот теперь, когда авторитет этот дал такую страшную трещину, когда рушатся устои совершенно сгнившего режима, что же иное можете вы от солдат ожидать? Народу вы чужды, он и вас лично считает виноватым и ответственным за всё.
— Да чем же мы виноваты? Выполняя приказы свыше, шли мы на смерть, как те же солдаты. Что я поднимал моих солдат идти в атаку, так, извините, и мой ротный меня тоже «поднимал»!
Матрос тоже вставляет свое слово:
— Так оно, да не так. Класс вы привилегированный. Вот в чем суть. Поэтому вам и веры нет.
Докончив бублик, поддерживает его старший реалист:
— Правильно! Все считают, что вы за царя, за прогнивший режим, за все безобразия, которые у нас творятся.
— Но это же ерунда! Где же справедливость?
Младший реалист говорит басом, тоном, не терпящим возражений:
— Эк, батенька, куда вы гнете! Когда наступают великие сдвиги, никто не сентиментальничает. Вспомните французскую революцию!
От слова «батенька» офицера передернуло. Хочет он ответить, но снова говорит хозяйка дома:
— Простите мне, но, состоя в том крыле нашей партии, которое теперь называется большевиками, должна я вам сразу же сказать нашу точку зрения, чтобы потом недоразумений не было. Мы, большевики, за радикальное решение вопроса. Либо вы, либо мы. Вы — это дворянство, купечество, капиталист вообще, мещане, богатое крестьянство, попы.
Иван Прокофьевич в панике поднимает вверх руки:
— Марья, да Бог с тобой, этак вы половину России перережете. Да кто же останется?
— Беднота, пролетариат, рабочие, неимущие.
Матрос раздумчиво качает головой:
— А не получится у вас перебору?
Снова вскрикивает первый реалист:
— Никаких переборов! Только радикально!
— А не придется ли тогда вам собственного папашу распотрошить?
— То есть, как это так — папашу? Он тут причем?
— А притом, что лавочкой тогует.
— Лавочка, да мы едва концы с концами сводим!
Второй реалист смеется:
— Х-ха! Концы с концами! Амеба вы капиталистическая! Из вас, из аршинников мелких, эксплуататоры вырастают!
— Но, Петя, ты же пойми, мой папа…
— Х-ха, папа! Радикальная ломка, товарищ!
Офицер, видимо, отказывается что-либо понимать:
— Но ненавидимые вами цари ничего подобного не делали!
Реалисты вскакивают, первый бросает обвинение свое прямо в лицо:
— А два миллиона убитых за интересы западных капиталистов, а миллионы раненых, а сотни тысяч беженцев?
— А скажите вы мне, не один ли из князей Гришку убил?
Марья Моревна прищуривается:
— Не подсовывайте мне ревнивых мужей!
Баталер хлопает хозяина по колену:
Ну и ну! Вот это — баба, такая и сама на баррикады пойдет.
Семён встает:
— Простите, мне пора, да и боюсь я, что вы и меня со всеми родными перережете.
Хозяйка очаровательно улыбается:
— А вы не смущайтесь, кто нашу эпоху поймет, тот у нас место свое найдет.
* * *
Вместе с Коростиными катался сегодня Семён на салазках у устья оврага «Беленький». Таща санки, уже во второй раз встречается он с каким-то закутанным в шерстяные платки карапузом, прибежавшим кататься позже. Останавливается он и гудит из-под заиндевевшей от мороза шали:
— Ты не Пономарев?
— Да, а что?
— Да так.
— А чего же спрашиваешь?
— Да девка какая-то на каток прибегала, спрашивала, не видал ли кто тебя? Никто ничего не знал, вот и убежала она.
— Когда же это было?
— Да в обед.
— Ты не спросил, почему она меня ищет?
— Не! Торопилась она дюже. И вся заплаканная была. Нос платком терла.
Рванув салазки, поворачивает Семён к городу и добирается домой лишь перед вечером, входит в пустую квартиру, быстро пробегает пустые комнаты и лишь в кухне находит Мотьку с Родиком на коленях.
— А где наши?
— Ох, спужалы вы мэнэ. Вси на хутир поихалы, бо утром тэлэграм прийшов… титка ваша Мина Егоровна помэрлы. И стряпуху увэзлы. Тики ваш батько зистався, бо нога в його болыть. А нэдаром бабушка така сумна сьогодни була, прыснылося ий нибыто у нэи зуб из кровью выпав, та так заболив, так заболив… И тики що вона цэ разказала, а ось тоби тэлэграм той. А ваш батько до Тарас Тэрэнтьевыча пишлы…
К Тарас Терентьевичу бежать совсем недалеко. Бросив пальто на руки открывшей ему двери горничной, проходит он бесконечную неосвещенную амфиладу комнат и слышит голос хозяина из кабинета:
— …и хорошо сделала, что померла. По крайней мере, хоть по-христиански похоронят ее. А что с нами будет, того никто не знает. Как поглядел я, что в Питере творится, волос у меня дыбом стал. А тут еще — полон город запасных солдат. Оторванные от хозяйства мужички, пролетарии, сбор Богородицы. Полторы сотни тысяч. Неграмотная, дикая, по-скотски темная масса. Это вместо уничтоженных кадровых полков! А интеллигенция наша, чиновничество, мещанство, священство, всё оно на корню сгнило, всякими идейками напичкано. О высших кругах и говорить не хочу — ничтожества, ретрограды до опупения, либо в социалистов играют, либо только на жандармов надеются. Только вот еще часть офицерства да ваши казачки еще и держатся. Остальное — рвань, рвань, сволота, слякоть, дрянь. А-а-а! Семён Сергеичу наше почтение! Иди-ка сюда, за стол, садись, сейчас услужающие мои скатерти самобранные раскинут, выпьем за помин души…
Семён подходит к отцу и почему-то, совсем машинально, протягивает ему руку, так же, не отдавая себе отчета, молча жмет отец руку сына.
— Да, сынок, ничего не поделаешь, померла Минушка наша, да, померла. Сердце… да, дело дрянь, когда сердце. А ты сядь, вот, как Тарас Терентьевич говорит, помянем, да.
А хозяин уже налил три рюмки — две водки и одну наливки.
— Пусть вашей Мине Егоровне, чести не имел лично знать, казачья земля пухом будет…
Ставит хозяин рюмку свою на стол.
— Ну-с, гостечки мои дорогие, желаю вам крепости и сил духовных. Понадобятся они вам. А я — как на духу говорю, хвачу теперь на Кавказ, продам всё и там, как здесь пораспродал, и через Персию в заокеанские земли подамся. Нет, я человек стройки, созидания, налаживания, а дуром, как попало, валить не мастер. Ведь до чего у нас дошло: первый русский патриот и монархист Пуришкевич в любимца своего царя две пули собственноручно выпустил. Убил того, кто наследника престола, за которого он, Пуришкевич, в любую минуту сам под пули готов идти, лечил и вылечил. От смерти спас. А Юсупов-князь? Узнав о похождениях собственной своей супруги с грязным мужиком, тоже в Гришку стреляет. А перед тем еще и яду ему в торт собственноручно намешал. Яд, который получил он от доктора Ладовера, не абы какого докторишки, а всему вельможному Питеру известного врача. Член царствующего дома, великий князь Дмитрий Павлович, не кто-нибудь, а великий князь, в убийстве этого гада самое близкое участие принимает. И с ними представитель лучшей нашей интеллигенции, думец, патриот русский на все сто процентов Маклаков, воедино с капитаном Сухотиным, блестящим офицером, у английского посла Бьюкенена убийство это подготовляют. Англии крайне нужное. Показала она тут, что от страха смертельного перед немцами готова она Россию нашу пожертвовать не за понюх табаку, союзница наша верная. И наши-то, наши, поняли ведь, что царь у нас никудышний, что выхода, по их мнению, иного нет.
А царица — как староверка, как начетчица, сама ни телом, ни духом не здоровая, русским обществом ненавидимая и сама это общество ненавидящая, слепо, до самозабвения, верующая в простой народ русский, мать, любящая истерично своего сына, держащая мужа своего под пантофлем… нет, уйду, отрясу прах. Царь наш самодержавный, говорящий на пяти языках, сердечный, добрый, голубоглазый, до седых волос влюбленный супруг, любящий отец, нежнейший родственник, обладающий невероятной памятью и тактом — и никудышний император, полковник для захолустного пехотного гарнизона. Верующий, что всё в руке Божией, и всё, что ни делается — всё в воле Отца нашего Небесного! Эх, Петра бы нам сейчас великого, собственного сына убившего для пользы России… нет-нет, отряхну прах с ног моих и вам советую…
И лишь теперь замечают все полковника Кушелева, стоящего в дверях.
— Разрешите мне, старому солдату, принесшему присягу Государю моему и императору, сказать вам, что душу мою положу я за Россию, а не дезертирую.
Отец поднимает полную рюмку:
— Пью и я за Государя моего. Соберутся вокруг него верные… соберутся…
Все пьют, пьет и хозяин. Которую по счету? Что это — готовятся они в бой за царя своего или тризну по нем правят? Семён вздыхает тяжело и горько. Да, Петра им надо, да, а тетю Мину забыли!
Засыпает он тут же, на диване.
* * *
Давно уже вернулась мама с похорон тети Мины. Дядя Воля и Гаврюша уехали на фронт прямо с хутора через Арчаду. Тетя Вера осталась у дяди Андрюши, чтобы не чувствовал он себя уж слишком одиноким на занесенном снегом хуторе. Бабушка, приказав маме особенно приглядывать за Родиком, тоже осталась на мельнице. И за Андреем присмотреть надо, и Вера одна, и Агнюша несчастна, словом, не до поездок тут по городам.
С хутора вернулась мама полубольная, говорила мало, была задумчива и рассеянна, и за обедом теперь не разговаривали. Ни с кем не простившись, пропал из города Тарас Терентьевич, австриец-майор заглядывал лишь на минутку, прописать мазь и исчезнуть, аптекарь глаз не кажет, пропал куда-то и Карлушка. И было у всех такое чувство, будто засели они в глубокой траншее и зажмурились в ожидании бомбардировки. А в России творилось что-то вовсе неладное, страшное, пришли вести о голодных беспорядках в Питере, о забастовках, о революции. Будто сначала только беспорядки были, горожане и рабочие вышли на улицы, на их сторону перешли солдаты и матросы, будто и царь от престола отказался. Дом до отказа набивался возбужденными, жестикулирующими, плачущими, озабоченными гостями. Аптекарь уверял всех, что засядет в дворцах тот, кто всех надуть сумеет. Он единственный в городе не вывесил красного флага и оказался — монархистом. Кипятился страшно, выходил из себя и кричал:
— А покажите вы красного тряпка быку. И что он сделает? Да сбесится! А вы этого тряпка хотите русскому народу показать, народу, который за триста лет еще сам себя не нашел! И когда показать — когда мировой драка идет! Вот погодите, помяните мое слово — все пропадем!
Отец после прогулок возвращался домой еще мрачнее, чем уходил.
— Видали? Поясные ремни носить перестали, шинели в накидку, ширинки расстегнутые. Воинство православное с красными бантами. Действительно, мало мы их пороли!
Мама отмалчивалась, раза два слышал Семён, как, почти крича, доказывала она что-то отцу, слышал, как плакала она потом в спальне, как, хлопнув дверью, уходил отец в свой кабинет. Вот так номер: отец, оказывается, за царя, а мама — против. За царя, а где же он, царь-то? Вон он, висит портрет наследника-цесаревича в форме Атаманского полка. Вот тебе и августейший атаман всех казачьих войск! А почему же войска эти не встали, как один, в защиту своего атамана? Царь от престола за себя и за сына отказался, всё пошло кувырком, всё.
На большой перемене заметил Семён, что большинство учеников его класса, собравшись в углу коридора, о чем-то договаривалось. Следующий урок был Закон Божий. Новый священник, маленький, нервный, с жидкой козлиной бородкой, отец Нафанаил, никаким авторитетом у учеников не пользовался, особенно же теперь, когда всюду открыто говорить начали, что Бога-то и нету вовсе. Когда прозвенел звонок и вошел отец Нафанаил в класс, никто с парт не поднялся, кроме Семёна. И сразу же крикнул кто-то с «Камчатки»:
— Семён — дьячок, попу подмога.
Споткнувшись, забрался священник на кафедру, раскрыл журнал и спросил неуверенным голосом:
— Что у нас на сегодня задано?
— О столпотворении петроградском!
Не подняв головы от журнала, неуверенно спросил снова отец Нафанаил:
— Кто там нарушает порядок?
— Чёрт в рукомойнике!
Страшно озлившись, вскочил Семён к задним партам:
— А ну-ка ты, чёрт в рукомойнике, поднимись, если не боишься. Я тебя окрещу!
Гробовое молчание. Намеренно медленно обводит Семён глазами ряды склонившихся к партам голов, еще медленнее садится и говорит громко и ясно:
— Бунт рабов!
И вдруг отец Нафанаил:
— Вы, Пономарев, прошу без выражений!
Гомерический хохот прокатывается по классу:
— Своя своих не познаша!
— Семён-дьякон, поменьше вякай!
— Ох-хо-хо-хо-хо! Подвел Нафанаилушка дружка своего!
Рывком открывается дверь класса, входят директор и никому неизвестный штатский с красной повязкой на рукаве. Директор, в последнее время страшно нервничающий, бледный и похудевший, одним движением руки отстраняет отца Нафанаила с кафедры. Сгорбившись, исчезает тот из класса, осторожно прикрыв за собой дверь. Штатский, быстро окинув класс взглядом, берет быка за рога сразу же:
— Ребяты! Звать мине Иван Михалыч Кудельников. Рабочий я. У Тараса Терентьевича Кожевникова на буксирах работал. Потому как я по машинной части. Сбёг он куда-то, Кожевников. Ну да всё одно разыщем. А к тому я говорю, что таперь в Думе городской мы, местный Совет, заседаем. Солдаты и рабочие. Не то, што при Николашкином старом прижиме, когда должны были мы всем шапки ломать. Нету боле Николая кровавого, и осталось нам теперь всех энтих к рукам прибрать, которых он, как власть свою, скрозь порассаживал. Каких капиталистов, фабрикантов, купцов, офицерьёв, попов и иных, которые контра. А к тому я вам говорю, што завтра у нас, во-первых, похороны жертвов старого режиму, а посля того демонстрация. И к тому говорю, штоб все вы завтрева явились, а за явку вашу мне в ответе. А на случай, ежели какой несознательный саботаж али ишо што, то за это мы по головке не погладим. Понятно? Значит, завтрева в восемь утра на площади Революции, бывшей Соборной, штоб все вы, выстроившись, стояли. Ну, покаместь.
Рабочий идет к дверям, директор семенит за ним, двери захлопываются. Тишина. И снова одинокий голос с «Камчатки»:
— И наших николашкиных саженцев из класса прибрать.
Звонок объявляет перемену. Ученики вывалили в коридор. Взяв картуз, формы больше никто не носит, Семён уходит домой. Урок отца Нафанаила был последним не только в этот день, но и вообще. Попов, видимо, прибирать к рукам стали как первых.
На другой день, ранним утром, выстроенные по четыре, стояли реалисты, пестрея красными флагами перед главным входом училища. Директор, по-прежнему растерянный, бледный и жалкий, бегал туда и сюда, пока не подошел к нему тот рабочий из Городской Думы, теперь Совета.
— А ты, гражданин Тютькин, боле тут зря не рыси. Мы теперь и без тебя всему ладу дадим.
Лицо директора кривится жалкой, беспомощной улыбкой, согнувшись, отходит он в сторону, неуверенно мнется у входа и исчезает.
Рядом с Семёном стоит Виталий Коростин. Валерий где-то впереди, Ювеналий на левом фланге. Наклонившись к соседу, шепчет Виталий доверительно:
— Слыхал, как тот вчера сказал: «жертвов старого режиму» хоронить будут, а кто они — да семеро солдат, из тех, которые позавчера винный склад разбили и там перепились. Бочки раскрошили, водку на пол вылили, посуду побили. А те семеро так надрались, что в чаны со спиртом свалились и в них потонули. Утопли! Вот они теперь и жертвы старого прижиму!
Но подана уже команда. Стройно, широким пехотным шагом пошли первые ряды, сбиваясь с ноги, двинулась середина, побежали следом левофланговые. Бывшая Соборная, теперь площадь Революции, полна народу. Весь Камышин вышел поглядеть на невиданное зрелище. Вот они уже плывут над головами, вынырнув из-за угла, красные досщатые гробы. Сначала нестройно, разлилось по площади всё громче и громче:
Вы жертвою пали в борьбе роковой, Любви беспредельной к народу.Семён недоуменно оглядывается: причем тут жертва и любовь к народу? Появившийся сзади Юшка подмигивает ему и поет громче всех:
Вы пьяными пали в сортир головой…Товарищи толкают его в бок:
— Гляди ты, влипнешь!
— Такие, как я, не влипают!
На еще с вечера сколоченную трибуну выходит кто-то в красной рубашке с расстегнутым воротом и солдатских брюках в обмотках. Нет границ удивления! Семён узнает матроса, что у дружка его баталера два года тому назад топор унес! Жаль, что отсюда не так хорошо слышно, но смысл ясен:
— …и ишо раз — кто не с нами, тот против нас!.. империалистическая бойня… в свои руки взяли… не выпустим… с горя, которые выпили, потому жизнь при царе собачья… без буржуев… Долой капиталистов и контрибуцию!..
Взмахнув над головой кумачевыми рукавами рубахи, оратор запевает:
Вставай, проклятьем заклёменный…Юшка вторит:
Вставай, проклятый, заклеймённый, —но, к счастью, слышат это лишь друзья.
А толпа поет. Всё громче и громче, увереннее и решительнее. Захваченные общим порывом, поют все без исключения, смотрят в высокое ясное небо, отчетливо произнося красивые слова. Такие лица бывают у Пасхальной заутрени! Совершенно то же самое, такая же вера и надежда в глазах, такая же готовность идти за тем, к чему зовут слова нового, совсем нового текста. И такое же напряженное ожидание либо внезапного счастья, либо великого чуда.
Кончилось пение. Будто скрытый вздох пронесся по замолчавшей толпе.
Но вот всё приходит в движение. Медленно плывут на вытянутых руках гробы, звучит похоронный марш. Сколько раз, похоронив старое, предав его проклятию, устремлялись люди за новыми кумирами? И сколько раз оплевывали они их снова сами же?
Реалистов поворачивают и ведут к казармам. Толпа остановилась возле газетного киоска. Что там случилось? Кто это на крыше киоска машет огромным красным флагом? Толпа замирает в ожидании. А махавший флагом вдруг бросает его на землю, кричит что-то сверху в народ, и быстро три раза кувыркается через голову. И, как появился, так же неожиданно исчезает. В толпе засмеялись. Милицейские пробуют протолкаться к месту происшествия, но нарушитель скрылся. Да кто же это такой? Сосед-реалист наклоняется к Семену:
— Видал ты Юшку, вот удрал номер!
— А что он крикнул?
— Чем наши хуже ваших!
Но вот снова все двинулись, снова митинг, теперь уже во дворе пехотных казарм. Опять ораторы слишком далеко, чтобы хоть что-либо разобрать можно было. Сначала выскакивает какой-то прапорщик с огромным красным бантом на груди и тускло поблескивающим георгиевским крестом. После прапорщика выходит солдат, большой, нескладный, из запасных, потом старый знакомец в красной рубахе.
И снова:
С Интернационалом воспрянет род людской.Но устал Семён, одноклассники все исчезли, а он стоит да стоит. Вот выходит на трибуну целая толпа кудлатых, с красным флагом, в красных рубахах, в жилетках, — рабочие, что-ли? Ничего подобного никогда раньше он не видел. Неужели же это действительно те, кто своими руками построил эти церкви, пароходы, город этот, баржи, железную дорогу… худые, с изможденными, испитыми лицами, морщинистые, грязно-черные, с большими жилистыми руками. В каких условиях жили эти люди, чтобы так выглядеть? Почему он этого раньше никогда не замечал?
Меж рядами пробегают какие-то дяди с красными повязками на рукавах и сообщают, что в пять часов вечера митинг в реальном училище. А теперь — по домам. Идти домой все же не хочется, так все интересно, что на улицах творится. И никогда прежде невиданные лица, и разговоры, и пение, и музыка, и целые компании с гармошками, полупьяные, орущие и ругающиеся так, что услышь это бабушка, наверное, целую ночь простояла бы на коленях перед иконами. А вот и базар. И чего только не навалено на лотках! Остановившись на обочине тротуара, замечает Семён какого-то парня, босого, худого и грязного, только в рубахе без пояса и разорванных пониже колен портках. Озираясь воровски, испуганно пробирается он к ближайшему лотку с лежащей на нем целой кучей свежеиспеченных хлебов. Тут народу уже не так и много, хорошо видно, как сначала нерешительно, а потом вдруг быстро подскакивает он к лотку, схватывает один хлеб, тут же жадно откусывает от него целую горбушку, жует, озирается вокруг себя и, пригнувшись, бежит прямо на Семёна. Стоявшая за лотком торговка кричит нечеловеческим голосом:
— Кар-р-раул! Во-ор! Дя-аржи яво! Хлеб спё-о-ор!
Виляя, как змея, меж прохожими, бежит парень к бесконечным проломанным и полусгнившим заборам. Теперь уже совсем ясно видно бледное, испитое лицо и лихорадочно горящие глаза.
И снова дикий вой торговки:
— Дя-р-ржи во-р-ра!
Первым бросается на парня какой-то мастеровой. Стоящий неподалеку от Семёна, видно, извозчик, бросает бегущему под ноги палку, сшибает она его на землю, падает он лицом на булыжник мостовой и выпускает из рук надкусанный хлеб. Весь базар приходит в движение. На упавшего кидаются совершенно случайные прохожие, целой кучей валятся на него, почти у самых ног Семёна, видны лишь его черные ступни. Слышно сопение, удары, стон, что-то хряснуло, кто-то коротко взвыл. Стоящая поблизости баба рвет платок с головы и кричит:
— Бож-жа м-мой! Человека убивают!
Слышен топот подкованных сапог. Два милиционера, полиции больше нет, подбегают к бесформенной куче и, хватая то одного, то другого за шиворот и за полы, разбрасывают преследователей, и вдруг сами отступают от того, что лежит на земле. Толпа стеной надвигается ближе. Голова парня совершенно разбита. Вместо нее лежит на булыжниках бесформенное месиво из крови, жутко белеющих костей и раздавленных сапогами мозгов. Правая рука так выкручена, что ясно: сломали. Рубаха разорвана в клочья и вдавлена в грудь. Семёну становится дурно, хочет он шагнуть, шатается, и упал бы, ежели бы не поддержал его кто-то сердобольный:
— Пойдем отсель, парень. Эк, брат, народец наш, а? Ить убили человека!
Споткнувшись о надкусанный хлеб, все еще лежащий на мостовой, поворачиваются они уходить, и видят, как плакавшая навзрыд торговка вдруг схватывает с лотка хлеб, один, другой, третий, бросает их в толпу и кричит, заливаясь слезами:
— Убивцы проклятаи! Жритя, жритя, сволочи!
Какие-то бабы схватывают ее за руки, один из милицейских, одернув гимнастерку, решительно шагает к лотку. Медленно, не глядя друг на друга, молча начинает народ расходиться. Отведя Семёна подальше, жмет ему спутник его руку повыше локтя и пытается улыбнуться:
— А таперь иди, иди домой, малец. Всё я видал, счастье твое, что и тебя не подмяли. Господи, Иисусе Христе, вот те и свобода. Дождались, можно сказать…
И вдруг будто его ошпарило:
— А пузатого энтого, пузатого, видал, ай нет? Энтот, што на трибуне, как ветряк, руками крутил? Знаешь ты, кто он есть? Не знаешь! Ну, так знай: в тринадцатом году в Николаевке целую семью в семь человек вырезал. Младшему три годочка было. Всем, как есть, глотки сапожным ножом перерезал. В Сибирь его, на каторгу, осудили. А теперь возвернулся он, в Совете ихнем сидит. Говорить, што при царском режиме за народ пострадал. Мученик.
Мимо них проносится простоволосая, босая, что-то кричащая баба. За ней, один за другим, бегут трое детишек и последней выворачивается из-за угла старуха. Семёнов спутник узнает ее:
— Эй, бабушка, бабушка Анфиса, случилось што?
Старуха бросает на него лишь короткий взгляд выцветших, заплаканных глаз и останавливается:
— Пр-роклятаи! В-в-ваню, Ваню нашего в землю затолокли.
— Какого Ваню?
И вдруг хватает Семёна за обе руки:
— Ваньку! Бож-же мой! Да знаю я, знаю яво, чихотошный он, на краю города они в землянке живут. Бедность одна, Господи! — и вдруг, со всей силой бросив шапку о землю, Семёну: — Да иди, иди ты, заради Бога, домой!
Наскоро пообедав, рассказав дома всё виденное и слышанное, отправляется он на митинг в реальное училище. Ученики уже давно в сборе. Репетиционный зал битком набит публикой из города. Никого из этих людей никогда в жизни он не видел, большинство таких, как те рабочие, певшие в казармах, почему-то масса солдат, без поясов, с расстегнутыми рубашками, промелькнул у сцены и Иван Прокофьевич, украшенный огромным красным бантом, прошла за ним и Марья Моревна, в первом ряду сидит баталер, а вот он, тот, в красной рубахе, идет прямо на Семёна и, узнав его, останавливается, как вкопанный:
— Тю-ю! Глянь на яво! Старый друг лучше новых двух! А учитель твой наш парень, только далеко ему до его бабы, вот то жох-бабец! Ну, я нажму, делов полный рот, пришел наш час, таперь натешимся.
Раздвигая толпу локтями, уходит и он за сцену, зала наполняется до отказа, а Семён, по старой привычке, забирается в раздевалку. Теперь там ничего не висит, опасно: так унесут, что за моё почтение. У большого окна стоит старый Федотыч, бывший швейцар.
— А-а-а! Молодому господину Пономареву наше почтение. Не охота в середку, а? И не ходи. И у меня враз всю охотку отбило… слыхал ты, директора нашего, господина Тютькина, с должности убрали. Ноне после митинга тот матрос, из городского Совета, пришел, всё, как есть, в столах перерыл, а он, директор, стоит рядом и, веришь ли, трусится. Перерыл матрос тот всё, печать школьную в руках покрутил, кинул на пол, да как заорет:
— Понаписывали, сволоча, абы чаво. Ну, мы теперь дело вовсе по-иному повернем. Слышь ты, Тютька, а ну-ка сбирай!
Нагнулся директор бумажки по полу раскиданные сбирать, а я и подскочи, помочь ему хотел. Как матрос тот мине сапогом в зад дасть, как пихнет, да как заорет снова:
— Уходи ты, холуйская душа, а то я тебя даже очень просто в расход пущу. Да упомни: я теперь заместо Тютьки твово директором! — обернулся к директору да ему: — Уметай с глаз моих, штоб я тебя не видал, а то покажу я тибе Кузькину мать!
И смылся господин Тютькин задним ходом. Што ж он, старый человек, делать теперь будет? А? Как ты думаешь? Ведь нет же таких правов, штобы матросы директоров разгоняли. А? Иде ж это видано?
Зал взрывается громом аплодисментов, криками «ура» и пением «Интернационала». Швейцар косится на коридор и шепчет:
— А я так считаю, как пословица наша говорила: дурак красному рад. Вот што. Ишь ты — матрос, а директором помыкает.
Швейцар уходит. Семён видит, как, выбравшись из последних дверей зала, исчезают все три Коростина в направлении черного хода. Не пойти ли и ему туда же? На середине коридора преграждает ему дорогу один из его одноклассников, сын мелкого чиновника Петя. Оглядывается, не видит ли их кто, и быстро шепчет:
— Умётывай домой, до тебя добираются!
По черному ходу выходит Семён на берег Волги. Тихо здесь, хорошо, только совсем уже темно, а не пойти ли домой? Огромный плац перед училищем пуст. Вот она и кирпичная стена кладбищенской ограды, знакомый провал, только перешагнуть, а там — саженей сто меж завалившимися склепами и растоптанными могилами, и улица…
Удар в затылок валит его на землю. Сознание теряет он моментально. Какие-то тени подхватывают падающего, суют его в отверстие провалившегося склепа, крепко подталкивают в спину и падает он на кирпичный пол рядом с давно сгнившим гробом на вывалившиеся из него кости. Осторожно возвращаются трое нападавших к ограде, первый шагает в провал стены, и падает, как подкошенный, от меткого удара в висок. Ничего не заметив, появляется второй, и сбивает его с ног кто-то, метко орудующий колом. Лишь в последнюю минуту, заметив что-то неладное, пытается третий убежать, но пойман за ноги, его выволакивают в поле и начинается избиение. Бьют по голове, бьют ногами в бока, в живот, рёбра, до тех пор, пока избиваемый не показывает больше никаких признаков жизни. Трое братьев Коростиных бегут к склепам, переходят от одного к другому, ищут и, наконец, находят:
— Ага! Тут он должен быть.
Осторожно, придерживаемый братьями, спускается Ювеналий вниз, нащупывает лежащего без сознания Семёна, приподнимает его вверх, сверху подхватывает его за голову Валерий, берется, стараясь схватить под мышки, Виталий, осторожно, с трудом выволакивают все трое тяжелую для них ношу и несут через все кладбище по совершенно пустым улицам к подъезду его дома. На стук выходит заспанная Мотька:
— Боже ж мий, панночку, що цэ з вамы сталося? Притащившие своего товарища братья Коростины давно уже исчезли в пустых, безлюдных улицах. Город не спит, притаилась жизнь за плотно закрытыми ставнями, выходить ночью из домов никто теперь не решается. Только в городском парке слышны гармошка и пьяное пение — это гуляют солдаты и матросы:
— «И-эх, а хто дорог, а хто ми-ил…». Товаришши! Товар ищщи! Товар тащи-и!
Две недели провалялся Семён в кровати. Каждый день ходил доктор-австриец, слава Богу, сказал, что «аллее гут, каине гехирн ершюттерунг» — «никакой сотрясений на мозг», и, когда вышел в первый раз Семён к завтраку, отец заговорил с ним таким тоном, будто ничего страшного и не случилось:
— Видал, сынок, правильно наш дедушка говорил: заживет всё на казаке, как на кобеле!
И зашел к ним как-то поздним вечером Анатолий Анемподистович Коростин, сотник Астраханского казачьего войска в отставке, и рассказал всё о случившемся. Самый молодой сын его Ювеналий — Юшка, тот, что на демонстрации кувыркался с красным флагом, случайно подслушал, как договаривались Семёновы одноклассники, те самые, что уже нападали на них в овраге Беленьком, избить его на кладбище. И решили братья Коростины действовать сообща, ничего никому не сказав, надеясь тогда, что из драки ничего не выйдет. Да припоздали немного, но дали нападавшим по первое число, у всех трех все зубы повыбивали, двоим руки, а одному рёбра поломали. На всю жизнь запомнят!
— Так я полагаю, — сказал, уходя, старик Коростин, — время теперь такое подошло, либо они нас, либо мы их. Стесняться нам не приходится…
* * *
Этот плоский бугор, скрывающий долину речки Ольховки, кажется, никогда не кончится. Бесконечно вьется по нему подсохшая, побитая солонцами дорога, и конца и края ей не видно. А тут еще и лошади так медленно бредут, что тоска забирает, да неужели же нельзя их немного кнутиком подбодрить?
Отец сидит рядом с Матвеем, слушает нескончаемый рассказ о том, что на хуторах делается, и мучит его мысль: да правильно ли они сделали, уехав так рано из Камышина? Тут, видно, дела совсем кривоносые. Клиновцы открыто предъявляют претензии на их земли, уже протестовали они против отбирания гарцев, скотину свою выгоняют на попас на барские луга и собираются вообще и мельницу отобрать, говорят, что теперь всё это народное…
Но вот он, гребень бугра. Будто невидимым жезлом раздвинулась завеса и открылись вдруг потонувший в садах и вербовых зарослях хутор Разуваев и пригревшаяся в теплых вечерних лучах, серебрящаяся меж чаканом и кугой Ольховка, и маячат вдали их родные хутора. Вон они — крыши их дома, мельницы, флигеля, амбаров, прячущихся в зарослях ракит и акаций. Сами тронули рысью и побежали повеселевшие кони. Встает Семён в тарантасе: да неужели снова он дома? Д-о-м-а. На хуторе. А кто же, кто там вышел на луговую дорогу? Да, конечно же, бабушка это. Встречать идет, одна, маленькая такая, тоненькая, немного сгорбившаяся. И легко поспевает за медленным ее шагом старый, верный, добрый Буян…
Странно ведет себя Микита-мельник. Говорит, да не всё, хитрит, скажет слово-другое и, видно, прислушивается, присматривается, из всего, что видит и слышит, делает какие-то особые, собственные выводы. Чуть не каждый день приходит он теперь в дом, усаживается за вечерний чай с панами вместе, пьет его, жмурясь от удовольствия, прямо с блюдца, сокрушенно мотает головой и повторяет одно и то же:
— С-сукыны сыны, мошенныки, нэгодяи… Ось одын клиновец говорыв, що зроблять воны тэпэр тэ, шо пьятого году зробыты хотилы. Побьем, каже, панив, позабэрэм в ных усю, як есть, землю, а лыбо з хатив их повыкыдаем. Хай йдуть робыты так, як мы цилого вику робымо. Ось чього воны хочуть, с-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи!
Бабушка молча вяжет платок, мама зябко кутается в теплую шаль, хоть на дворе и середина лета, отец отмалчивается, либо только совсем коротко задает вопросы о лугах, о мельнице, но слов мельника никак не комментирует.
— С-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи…
Бабушка подбирает упавший на пол клубок и уходит в свою комнату, мать вспоминает, что у нее на кухне дело есть, и тоже исчезает. Поднимается и Семён, убегает с Буяном в лес. Отец остается единственной жертвой Микиты. Деваться ему некуда. Мельник допивает четвертую чашку чая, получает пятую, наливает чай на блюдце, закусывает меж зубами кусок сахара и тянет с присвистом и хлюпаньем:
— С-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи. А отой Пэтро з Ольховки, отой, що його в прошлому годи корова околила, знаетэ вы його, пшеныци вин у вас до нового урожаю пьять пудив узяв, так той говорыв, шо усэ тэ, що на паньськых полях у цьому роци рóдыться, забэрэ народ соби. А забэруть и всэ тэ, що в садах будэ. И скот позабырають, тики на кожну семью по одний корови зоставлять, та пару конив, та плуг, та борону. А мэлныцю народ у свои рукы забэрэ, сами молоть будуть. Ось як воны, с-сукыны сыны, мошенныкы, мэрзавци. Ага, вже, мабуть, пиздно, пишов я спаты. Та що я сказаты хотив: боюсь я тэпэр гарци одбыраты, бо клиновцы говорять мэни, що як я и дали гарци ти одбыраты буду, то пустять воны вам красного питуха, так, як у пьятому годи пускалы, с-сукыны сыны, мэрзавци, нэгодяи. Ни-ни, панэ есаулу, Сэргий Алэксийович, царя нам надо, царя. Так я говорю, чи ни?
Никакого ответа не получив, поднимается Микита и, шаркая огромными сапогами, предварительно истово перекрестившись на иконы, прощается и уходит через кухню. Отец долго сидит один, катает хлебные шарики и молчит, куря одну за другой задымившие всю столовую папиросы. Мотька быстро наводит порядок на столе и смотрит на хозяина.
— Панэ, а, панэ! Та Сэргий Алэксийовычу! Чуетэ ж вы тэ, що я вам скажу. Мыкыта той сам сукын сын, подлэць и мэрзавэць, як и уси ти клиновцы и ольховцы. А до вас вин тикы чэрэз тэ ходэ, щоб дизнатыся, що вы думаетэ, щоб писля клиновцям та ольховцям пэрэказаты. Знаю я його, прохвоста…
* * *
Вечером пришел хуторской атаман и с ним два старика. Все ушли в гостиную, лучше так, тогда не видят помольцы, кто у них за столом сидит. Подали гостям чай и закуску, выпили они и, как это и полагается, ни о чем серьезном не говорили, пока с едой не покончили. Отодвинув от себя тарелку, проведя широкой ладонью по столу, так, будто с крошками вместе стер он с него и все свои сомнения, тяжело вздохнув и лишь бросив короткий взгляд на отца, первым заговорил атаман:
— Обратно взбунтовалась Расея. Ить, скажитя же вы за-ради Бога, как тольки зачалась она, так и пошли по ей бунты. Скольки стоить на свете, стольки и народ у ей бунтуить. Видать, в привычку вошло. И скольки разов народ не бунтовал, завсягды яму цари морду в кровь разбивали. А таперь, гля, народ царю свому морду разбил, а того и гляди, што таперь друг дружке бить зачнут. Иная таперь линия получается. Вот и поряшили мы, вашесокблародие, до вас дойтить и с вами потолковать на тот случай, ежели завирюха какая зачнется, то как вы есть офицер наш, то вы нам и команду подавать будитя. И братца вашего, Андрей Ликсевича, несмотря, што горе у няво, таперь нам горевать некогда, того и гляди, што ишо горшая бяда зайдеть, так вот, братца вашего, войсковогу старшину, взбулгачить надо. Штоб нам, как в песне поется, ня спать, ня дрямать, а свою службу соблюдать. А потому я всё это говорю, што наслухались мы помаленькю того, што клиновцы с ольховцами гуторють. И одна у них у всех мысля: вперед ваши, а потом и наши земли к рукам прибрать, под сибе загрести. Вон пастухи ихние уже два раза скотину свою на наши поля пущали. Подпаскам нашим сопатки понабивали, да спасибо двое наших служивых в отпуску было, подсядлали они коней, добегли до лугив, а как увидали хохлы, што казаки конные скачуть, так враз, будто хмылом, их взяло. Хотели мы тогда весь скот ихний за потраву на хутор на наш пригнать, да посумлявались. Боятся они нас, казаков, большая у них опаска, да долго ли? Ить ежели што всурьез зачнется, хучь и крепкая ухватка наша, да ить их-то разов в десять боле, чем нас. Што вы на это скажете?
Отец мнется, крутит ус, и ясно видно, что ничего путного он атаману ответить не может. Мама, бросив короткий взгляд на молчащего мужа, вдруг вскакивает и выходит. Это, видимо, подействовало. Откашлявшись, отвечает отец атаману:
— Завтра съезжу я к Андрею. С ним к Петру Ивановичу пройдем. Слыхал я, будто он вчера из Черкасска вернулся. А после всего сверну я к вам, на Разуваев, вот тогда всё, как полагается, и порешим.
Атаман, видимо, доволен:
— Правильная ваша слова. Тольки дюже тормозить не следуить. А што мужики, што хохлы, все они заодно. Они у нас, ежели што, и нательные хрясты пооборвуть.
Атаман и старики встают и прощаются. Мама провожает их до моста. Отец остался у стола. Крутит и катает хлебные шарики. Да что это с ним, никогда он таким не был?
* * *
За всю жизнь тетки Анны Петровны не было у нее в курене такого переполоха, как сегодня. Шутка ли сказать: Андрей, Сергей, Петро, атаман хуторской и только что пришедший отдохнуть после ранения вахмистр Илясов, все они соберутся у нее этак к часам четырем.
Первыми приехала бабушки со снохой и внуком, потом подошли пешочком Андрей с Сергеем, а немного погодя и дядя Петро на дрожках прибыл. И только распрег, вот тебе и атаман с вахтмистром Плясовым. Поручкались все, и честь-честью, чтобы время зря не терять, за чайный стол сели, женщины на одном краю, а мужчины, все вместе, на другом краю собрались, у них разговор особый, сегодня мешать им нечего, не бабьего ума это дело в мужчинские разговоры влипать. Так решила тетка, и поэтому линию свою повела четко, сразу же ошарашив бабушку известием, что самая лучшая теткина наседка, та, что с хохолком, ну, разве в этом году не подвела: взяла, да всего только трех и вывела. Бабушка в ужасе всплеснула руками, да слыханное ли это дело, страсти какие, ох, не к добру это! И горестно поглядела на всех.
Андрей, изменился он, поседел здорово, согнулся, сухой стал, Господи прости, не хуже чем Симеон-столпник, а брови так на глаза нависли, что и разглядеть нельзя, какого они цвета у него стали, совсем, как у Буяна, выцвели. Петро Иванович, тому ничего не делается, как был сроду толстым, таким и остался. Ему всё впрок. А и Сергей что-то вроде как бы сдал. Сидеть за столом сидит, говорить, вроде, говорит, да всё так, будто и не с нами он в комнате, всё какие-то собственные свои думки думает, брови хмурит, невпопад иной раз отвечает. Сказать, чтобы от старости это было, так нет, вовсе он не старый, сорок годочков, иные казаки в таком возрасте только в самый сок входят. А он, поди ж ты, не иначе это у него, как от мыслей в голове. Да и Наталья вон, Наталья, прежде веселая такая, милая да разговорчивая, а глянь на нее — осунулась, в лице вроде побелела, сказать что, вроде и в порядке скажет, но, видно, думка на сердце. Женская. Господи, уж не по семейным ли делам, что у них с Сергеем?
Вахмистр Илясов пришел в полной форме, свои четыре Георгия нацепил. И при шашке. Палаш отстегнул он в прихожей, а сам по хутору так шел, будто генералу какому рапорт отдавать. Глядели на него через плетни казачки и глубоко вздыхали. Ить подвезло же Дуньке его, поранило мужа ейного легко, пришел он к ней, как огурчик, целый, и попользуется она теперь им, сколько душеньке ее угодно. А наши-то, иде они? Когда свидеться придется, когда к милому дружку под бок подвалиться смогут? Эх, жизня ты, бабья, одна колгота да горе.
— Что ж, расскажи, служивый, как оно там, в Питере? — попросил Андрей вахмистра.
Отставив выпитую чашку подальше, чинно поблагодарив хозяйку и заверив ее, что сыт по завязку, с достоинством, подчеркнуто вежливо отвечает вахмистр войсковому старшине:
— В Питере, вашевысокоблагородие, такого наглядеться пришлось, что по-перьвах и глазам своим верить я не хотел. И до того всё мне там обрыдло, што до ноне я хожу, будто в середке у мине всё, как есть, поперевернулось…
Быстро войдя в роль рассказчика, вахмистр говорит охотно и образно, но так же неумолчно толкуют меж собой и бабушка с теткой Анной, мужскими интересами никак не озаботясь.
— Да, поперевернулось всё в середке у мине. А всяму тому делу генерал Хабалов виной. Яму бы гарнизон Петроградский заране растрясти, поразогнать энту солдатню из Питера. Ить там тыщь с полтораста, а то и боле понасобирали. Запасных. Мужиков из деревни, остервенелых, злобных, таких, што им только дай порвать…
Вахмистр заикается, смотрит смущенно на женскую сторону, но, увидав, что там никто его не слушает, снизив голос, продолжает:
— Вот запасные эти всю роль и разыграли. Им одно: долой войну, землю давай, бей буржуев. А всё дело в том, что, как Дума правительству образовала, враз же и откель-то и Солдатский Совет обьявилси, и, как они, Дума та и тот Совет, не договаривались, так ни до чего и не договорились. И остались — Дума себе, а Совет — себе. Только и всяво общево у них, што Керенский тот в думском Правительстве министром юстиции сел, а в Солдатском Совете он заместителем председателя. Либо всем угодить хотел, либо по приказу Совета в Думе шпиеном поставлен. И тут вышел тот знаменитый приказ номер первый, штобы солдаты на фронте комитеты выбирали, штобы они только те Советы-Комитеты слухали, а офицеров не признавали. Враз же заместо Николая Николаевича, верховного главного командующего, генерала Алексеева посадили, а посля его, немного тому времени, генерала Брусилова назначили. И до того дошли, што энтого адвоката, штрюцкого, Керенского, военным министром назначили. Слухал я яво, как он к народу говорить. Ну и ухорез! Не иначе как те, што на ярмарках представлять народу разные киятры умеють. И знай одно у няво: слобода, ривалюция, риакция, инпериализьма, а как увидить, што вроде делом густо, а он: выньтя мою серцу и положьте на алтарь революции. И после тех слов со всех копылов в онборок падаить. Ей-богу! И ляжить, не ворухается. А круг яво народ с ума сходить, какие «ура» оруть, какие дикалоном в яво брызгають, в чувствию приводють, а он как вскочить, да обратно же: «Гражданы, зараз я готовый под расстрел иттить за тую за революцию, штоб против реакциев и контрреволюциев». А сам — как смерть, бледный и волосья на ём сторчмя, как на утопленнике, стоять. Все в ладошки яму бьють, а бабы, так энти вовсе с ума сходють: ах, душка Керенский, ох!
Так, одного разу, стоим мы, казаки, слухаем яво, а урядник Письменсков, ух, да знаитя вы яво, с хутора Гурова он, курень жестью крытый, в зеленую краску крашенный, так вот Письменсков тот слухал-слухал, да и говорить:
— Показываеть он нам представлению, глаза нам отводить. Дым пущаить. Штоб не видали мы и не слыхали ентого Ленина, што таперь с балкону дворца Кшесинской тоже речи говорить зачал. Вот кого всем им послухать надо. Тот не тольки буржуям, всяей Расее и самому Керенскому гробы стругаить. Тут не в онборок падать надо, а одну нашу дивизию в Питер привезть, штоб порядок она навяла. И што ж — как в воду тот Письменсков глядел: покаместь Керенский тот всех уговаривал, а кличуть яво теперь не главный командующий, а главноуговаривающий, те ленинские большевики в Петрограде восстанию подняли. Спасибо, там два наших полка да одна батарея стояли, за один день всю ту сволочь поразгоняли и сам Ленин ихний заграницу сбег. А посля всяво тот же Керенский на похоронах наших казаков, двадцать шесть душ казаков наших там головы, в том большавицком восстании, положили, обратно такую речь хватил, што опешили мы: нету в мире таких гяроев, как казаки. Вот они, шумить, настояшшии патривоты, вот они — спасители отечества. А тому два дня не прошло, пошли арестовывать большавицкого главного командующаво Троцкого, а там, на квартере, он же, сам Керенский, стоить, и арестовывать того прохвоста, тем восстанием командовавшего, не позволяить. Зачесали тут наши казаки затылки: «Да за что же мы, братцы, головы наши зазря подставляем? Айда, братцы, на Дон! Будя ее, Россию, от русских спасать!».
Вахмистр замолкает, дядя Андрюша хлопочет возле бутылок, тетка Анна сияет, оглядывая стол: сидят за ним мужчины — молодец к молодцу, бороды порасчесали, усы торчком, лица сурьезные, кабы были вот такие вот возле царя, никогда бы он от престола свово не отказался. А што теперь про Россию гутарят, так всё это спокон веков нам известно, сроду она бунтовала, царей убивала, князей, министров. А вон таких, как Иван Грозный и как Петро Первый, тех слухались. А как попадется ей какой добрый да смирный, так яво и уходокают. Тетка наклоняется к бабушке:
— Ты мине прошлого разу про лихорадку спрашивала. Вот самое перьвое, цыганский заговор: «Господи Иисусе Христе! Помилуй нас. Не я хожу, не я лечу, а сам Христос. Лихорадки-лихоманки отпуститя раба Божия, — тут имя хворого сказать надо. Вы, гнетучки, знобучки, трясучки, перестаньте яво мучить. Вас семьдесят семь, заплачу вам всем. Машке, Дашке, Гашке, Палашке, Феньке, Сеньке, Дуньке, Груньке, Акульке и всем вам, шестидесяти шести младшим сестрам». И, как прочтеть цыганка тот заговор, враз ей яйцо в воде дать надо. Воду ту тот хворый выпить должен, а яйцо цыганка с собой береть и кидаить яво в степь тогда, когда семьдесят семь верст от того места уйдеть, потому в том яйце хворость та. И тогда потеряить она хворого, и сроду яво не найдеть боле.
Но ясно видно, что бабушка что-то не особенно цыганам верит, смотрит на тетку Анну, будто сомневается, и спешит сказать ей свой собственный рецепт, проверенный ею самой. Когда еще девкой она была, слыхала от бабки-ворожки:
— Суровую нитку взять надо и к дереву какому пойтить, всё одно к дубу ли, к вязу ли, аль караичу. И две ветки ниткой той связать. А когда вяжешь — приговаривать: «Ты меня, лихорадка, держишь, а я тебя привяжу. Когда бросишь, тогда отвяжу». И так до трех разов говорить. А к дереву тому иттить, штоб никто не видал и никак и ни с кем не разговаривать…
А на другом конце стола продолжал вахмистр:
— А солдатня энта в один голос: мир без анексиев. А как всё у солдат у энтих началось? Вперед в Питере, на Выборгской стороне, фабрики забастовали. А за ними на Васильевском острове. И всё будто потому, што у народу хлеба не было. И пошли бабы на улицу. Толпами. И зачали кричать: «Хлеба! Хлеба!». Петроградское городское управление захотело было всё дело снабжения города в свои руки взять, собрались на заседание, а полиция, — видать, ряшили там, што это непорядок, народ хлебом снабжать, — да, пришла полиция и всех их переарестовала. Вызвала тут Дума великого князя Михаила и зачал он с царем по телефону говорить, только царь ни-ни, молчить, видно, узнал, што Дума великого князя диктатором хотела исделать. И тут царь Думу указом своим разогнал. В Петрограде же так народ прямо и говорил, што это ему царица так присоветовала. А в городе стрельба на улицах зачалась. Солдаты Литовского полка взбунтовались и командира своего убили. А за ними Волынский полк бунт поднял. И разгромили они окружной суд, Главное артиллерийское управление и арсенал. А в арсенале сорок тысяч винтовок. И разобрала те винтовки какая-то красная гвардия, сорганизованная из рабочих. Тут Председатель Совета Министров князь Голицын со всеми министрами в отставку подали, от ответственности в кугу схоронились. И получилось, што в столице нашей власти никакой нет. А царь молчал-молчал, да и прислал манифест, што дает он ответственное министерство. А Дума ему: «Отрекайся!». А он решил в Петроград ехать. Ехал-ехал, и на станции «Дно» делегаты от Думы: «Отрекайся». И вот тут подгадили терцы из конвоя, вместо того, штоб арестовать энтих делегатов да к стенке их постановить, молчали. Тоже охранители престола, присягу приняли, называется. А с Петроградом всякое сообщение прекратилось. Кинулись все снова к великому князю, да не взялся он, Керенский будто бы заявил, што все против царя и монархии. И зачали солдаты и матросы офицеров бить, тысячи побили. Самосудом. Да, ишо трошки про тот приказ номер первый, стояли наши на фронте одно время рядом с пехотой генерала Барковского. И там казакам солдаты тот приказ приволокли, немцы им его в окопы кинули за два дня перед тем, как привезли его из Петрограда. Вот тут вы и подумайте, откуда всё идет и через кого? А обратно об солдатне: в ночь на первое марта разбили запасные полки царскосельского гарнизона ренсковый погреб Шита… Перепились там и стрельбу открыли. Поскакали наши казачки туда, да как взяли их в плети, так враз они делегатов во дворец прислали: верноподданические свои чувствия изъявлять. Эх, руки твердой не было, вот и секрет весь. И только один знал, что он делает, это тот же самый Ленин, которого немцы к нам прислали, да, думается мне, и на свою голову. Да, ну а дале — зачал тот Керенский по фронтам мотаться и уговаривать в наступление идти, потому союзнички наши того от нас, несмотря на страшную нашу нужду, требовали. Тоже дураки такие, што от земли не подымешь. Вон и во Франции солдаты ихние бунтовали, да так они их прижали, што разлюли малина. А у нас развалу помогали. Ну да чихнут они от этого, да поздно будить. Об чём же это я? Да, уговорил Керенский, и пошли две наши армии на Юго-Западном фронте в наступление. Те пошли, которых большевицкая пропаганда не тронула. Лучшие, что остались. И полегло их тридцать восемь тысяч и тыща триста офицеров. И зачали остатки тех армий разбегаться, да как — один ударный батальон, что дезертиров ловил, у одного Волочиска насбирал их за одну ночь двенадцать тысяч. А покель суд да дело, перебили они своих офицеров, жителев грабить зачали, женщин насиловать. И как Керенский не уговаривал, Северный фронт наш так и не двинулся. А на Западном фронте тоже пошли, взяли три ряда неприятельских окопов, остановились, и — назад! И та же картина: грабежи, убийства, дезертирство, офицеров на штыки поднимают. На Румынском фронте тоже двинулись, сто орудий забрали, и вдруг телеграмма от Керенского: остановить наступление. Вот таперь и шумять энти в Совете: мир без аннексиев и контрибуциев. А тут ишо слушок прошел, што все, кому сорок лет, домой пойдуть. Вот и поперли они все самотеком по домам. В одном Питере их полторы сотни тысяч насобиралось, черный рынок открыли, торгуют сапогами, папиросами, водкой, грабють, ночами обыски, то ись грабежи делають. И взять их никак невозможно, Совет над ними руку свою держить. Вот и дують они самогон, и за Советы голосують…
А бабушка тетке шепотом:
— Для дела этого, для привороту, летучую мышь поймать надо. И бечь тогда с ней к муравейнику, положить ту мышь в тот муравейник и горшком прикрыть. И дня через два обратно туды прийтить. К тому времени муравли всю эту мышь, как есть, пообгложуть, одни от нее косточки останутся. Вот косточки те собрать нужно, и энти из них выбрать, што на них вроде, как крючечки. И крючечки энти завсегда с собой носить. И как завидишь того, што тебе мил и дорог, а ты ему те крючечки, так, штоб он не видал куда, ни то за одежину зацепи. Отбою от него посля того не будет…
Ах, всё же вахмистра интересней слушать:
— Вот так и получилась у нас, у казаков, полная мозгов затмения. Ить ишо по-перьвам, когда тольки царя скинули, а Миколай Миколаич обратно главным командующим стал, што он в приказе своем написал, а то, што признаёт он новуя власть и нам велит ей подчиняться. Ить это же не кто-нибудь, не Ванька-Каин какой, а сам великий князь Кирилл Владимирыч был, што красный бант нацапил и со своим морским экипажем к Думе явилси верность революции доказывать…
Бабушка притягивает к себе за рукав тетку:
— Скольки разов я табе говорила, што самое это простое дело на целый год наперед погоду знать. Возьми ты луковку, разрежь пополам и выйми из обоих половинок дольки-чашечки, двенадцать штук, и поклади их на подоконник от левой руки к правой и кажной той долечке имена месяцев дай: январь, февраль и так дале, все двенадцать. И посля того в каждую дольку соли до половины насыпь. И как утром в те чашечки глянешь, так враз знать будешь, который месяц дождливый будить. В которой чашечке боле соли растаяло, в тот месяц и дажжа боле всего будить, а тот самый сухой, в котором соль вапче не растаяла. Вот запиши потом, как в какой чашечке было, и будешь на целый год наперед погоду знать.
А вахмистр как-то зябко жмется и говорит дальше:
— Большавицкие же пропагандисты особенно к нам — казакам, подьяжжать стали. И вспрашивають и нас: на кой чёрт нам за францусский аль там английский капитал воевать надо и головы наши за них класть? А офицеры наши, спанталыку сбитые, молчать, и получилась у казаков к ним вроде как недоверия. А русские офицеры, генерального штабу, те, почитай, все красные, молодежь на четверть с красными бантами шшеголяют. Вон Брусилова-гинярала возьмитя, давал яму царь Георгия, так он при всем народе царю свому руку целовал, а потом, как тот же самый царь спросил яво, што ж яму таперь делать, одно тольки и сказал: «Отрякайси!». Энтот же самый Брусилов солдатам почетного караулу посля революции руку подавать стал, а они и глаза вылупили: стоять все по команде «смирно», ружья «на-караул» держуть, а он к ним с рукой лезить. Я, мол, таперь табе тоже товарищ! Видал я ету комедию своими глазами, и плюнуть мне захотелось: вот так холуй в гиняральском чине…
А бабушка невозмутимо продолжает своё:
— А когда скотиняку какую продашь, завсегда ты чудок волосьев от хвоста ее отрежь и под образа поклади. Никогда тогда скот в дворе твоем не переведется. Да, а вот ишо, штоб молотники у тибе никогда не хворали, обязательно, когда жито косишь, завсегда перьвый сноп сторчака посередь поля станови. И будуть тогда молотники твои, как тот сноп, крепко на ногах стоять. Поняла, хворости у нас никак не было! Иного мы в наше время боялись: силы нечистой. Вон и Алексей мой покойный, как на Кавказе служил, чего тольки не нагляделси и не наслухалси. Там, в Терских казаках, коли женского полу дите родится да некрещенным помрет, ежели окстить его не успеют, то воскрясает то дитё и в русалку оборачивается. И живуть те русалки в стипе, а в особый, в русальный день, голые, как мать родила, возля болот сбираются, круг болот тех пляшуть, и не дай Бог никому в тот день мимо того болота иттить, до смерти того человека русалки те зашшекотять. А кто за пазуху полыни положить, тому ничего не будить, русалки духу полынного не терпять. И все они страсть какие красивые, только с лица, как мел, белые, а волосья до пяток, и живуть с ягод лесных, с ежевики да с травы, и в болотах хоронятся…
Слышно что кто-то отворяет ворота и въезжает во двор. Дверь распахивается и появляется на пороге сам предводитель дворянства Мельников. Будь то архангел Михаил с мечом и в латах — не произвел бы он такого впечатления. Первой приходит в себя бабушка:
— А-а! Гостёк дорогой! Заходи, заходи, нечего косяки подпирать, они у нас и так крепкие.
Мельников делает церемонный поклон:
— Хоть, как говорится, незваный гость хуже татарина, всё же, приняв во внимание, что единение чисто-русских… — Простите мне, что так врываюсь, но сделать это почел я необходимым, ибо время никак не терпит. С тех пор, как под давлением гнусного скопища мерзавцев, именовавших себя Государственной Думой, вынужден был отречься от престола наш государь-император, ничего мы больше не слышим, кроме нечленораздельного рёва: «Свобода, свобода!». До дурноты, до одури, до помешательства. Гнусную, грязную, неграмотную толпу воров, жуликов, карманщиков, пропойц, бездельников и убийц открыто подбивают на преступления и измену отечеству, а немецкий агент некий, по воровской кличке именующий себя Лениным, немецкий агент из сифилистических дворянчиков, а с ним жидок из Америки по имени Лёва Троцкий. А мы — сидим сложа руки и ничего не предпринимаем. Пулеметы на эту сволочь нужны, картечь на этот сброд, свинец! Чтобы загнать проснувшуюся зверюку в ее вековую берлогу. И не только тех уничтожить, кто бунтует, убивает офицеров, грабит и насильничает, но и всех тех, кто всенародно, на улице, лобызался при вести об отречении государя и императора нашего, видевшего вокруг себя лишь ложь, предательство и измену. Пул-ле-мё-о…
Вахмистр вдруг краснеет и перебивает Мельникова:
— Я даже дюже прошу вас мине простить за то, што встряваю посередь вашего разговору, ну одно гребтится мине узнать и вас вопросить: а кто же с тех пулеметов стрялять будить?
Мельников, видимо, ошарашен таким вопросом:
— То есть, как это так — кто стрелять будет? Ясно, как день — верные долгу и присяге войска!
Дядя Андрюша пожимает плечами:
— А где же они, эти верные долгу и присяге?
Мельников окончательно закипает:
— Где? В первую голову — казаки! Сначала в плети сволочь эту, в плети, в плети!
Взяв рюмку меж пальцами, делает ею атаман круги по столу и, не взглянув на Мельникова, говорит совершенно спокойно:
— А иде ж вы таперь таких казаков найдетя, господин полковник?
Слова атамана приводят Мельникова в ярость. Захлебнувшись, сначала не может он ничего сказать, вдруг вскакивает со стула, роняет стоящую перед ним тарелку с пирожками на пол и кричит:
— Во-первых, не господин полковник я, а ваше высокоблагородие, а во-вторых, коли уж желаешь ты со мной говорить, то потрудись встать!
Только вскинув глаза на позеленевшего, с налившимися кровью глазами, Мельникова, так же спокойно отвечает ему атаман:
— Ну, коли уж на то пошло, то тута, в хуторе нашем, ежели кого стоя и спрашивать, так только мине, атамана хуторского. Вы, господин полковник, на Дону, а не в вашей Саратовской губернии, и не с мужиками, а с казаками гутаритя.
Мельников падает на стул, мама подбегает к нему со стаканом воды, разливая ее себе на мундир, едва он выговаривает:
— Т-т-ак, э-т-то ч-т-то же такое? Попал я на большевистский митинг, что ли?
Атаман только качает головой:
— Во-во! И этак думають они людей найтить, которые с ихних пулеметов стрялять учнуть. Вряд што у них получится.
Мельников жадно пьет воду и бормочет:
— П-пугачевщина! К-катастрофа… погибла Россия…
Двери неслышно открываются, на пороге появляются два старика-казака. Сняв фуражки, крестятся они на иконы, с достоинством кланяются:
— Здорово днявали. Разряшитя взойтить, часнáя компания?
Старикам пододвигают стулья, потеснившись, усаживаются они к столу и взгляды их, как завороженные, останавливаются на бутылке с водкой.
Семён решает исчезнуть. Уходя, слышит он слова вахмистра:
— Ить это же, вашсокблародия, котел закипевший. И того и гляди взорвется. А вы нам — плети! Плетью обуха не перешибешь. Тут с понятием подходить надо и во вниманию взять скольки нас, казаков, и какие и мы стали…
* * *
О всём подробно расспросив гостя, качает головой Гаврил Софронович, дедушкин друг, и тихо говорит Семёну:
— Так-так… кабы дед твой живым был, иная бы линия тут у нас пошла. А ты мине про Дон таперь послухай: как зачалась по Расее завирюха, как забунтовали солдаты супротив царя, Бог с ним, глупой был человек, у бабы у своей под подолом сидел, да, так вот, как всё зачалось, то перьвым долгом выпроводили казаки наказного атамана графа Граббе из Черкасска. И собралси там Казачий Союз и созвал он Донской Войсковой съезд, в апреле месяце, шашнадцатого числа. И выбрал тот Съезд Исполнительный Комитет, и послал тот Комитет по всем станицам и полкам приказ: избирать на Круг, на парламент наш, дилягатов. И всколыхнулси и взволновалси Дон наш, батюшка. И послал дилягатов на Круг, и двадцать шастого мая открылись засядания того Кругу в перьвый раз посля 1723 года. Сто девяносто четыре года не имели мы, казаки, права в России открыто голос свой подавать, а таперь сами, всенародной душой, за собственное дело взялись. А в Петрограде посланные Кругом представители Союза Казачьих Войск исделали, штоб через него голос всех двенадцати казачьих войск подавать. Не грабили, не убивали, не насильничали, не расстреливали, а хату нашу по старинным планам перестраивали. Восьмнадцатого июня выбрал тот Круг наш вольными голосами нашего усть-медведицкого казака Усть-Хопёрской станицы, генерала от каваллерии, кавалера двух Георгиевских хрястов Ликсей Максимыча Каледина. И сказал придсядатель Кругу: «Прерванные волею царя Петра Первого в лето 1723 заседания Круга продолжаются!». Понял ай нет, в чем загвоздка, а в том, што до того году были мы самостоятельные и таперь, почитай, посля двухсот лет, обратно праву свою получили, сами в руки взяли. И таперь надея у мине одна на шистьдясят полков наших да на восемьдесят батарей, да на все отдельные сотни и команды, а их боле полутора сотен. Вот ежели сбиреть их всех Каледин на Дон, то и бояться нам нечего. А немцев нам тоже бояться нечего, не враги они нам. А нам — плетни по границе поплести, потому холопы они там были, холопами и останутся. Так, Семён, ну иди, иди, рябяты тибе дожидають…
На старом излюбленном их месте, у канавы, давно уже дожидаются его хуторские друзья. И первым спрашивает Семена Петька:
— Ты про бабку Шилиху слыхал? Про энту, што христославов на принимала?
— Нет, а что с ней?
— А то, што ведьмачила она. Силу нечистую признавала. К примеру — пойдеть в лес, целую, как есть, осину сама с корнем из земли выдереть и несёть домой одна такуя дерево, што ее и шесть казаков не подымуть. Черти ей нясти помогали. А то в свинью оборачивалась и по хутору ночью бегала. И слову такую знала, што коровы молоко давать переставали, одно знають, бягуть со дворов, рявуть дуром, бяда на весь хутор и тольки. А хто ночью в одиночку по хутору шел, кидалась та свинья на няво, здоровая, зубы, как у кракадила, кидалась и до смерти искусать норовила. И пришли с фронту на побывку браты Песковатсковы, а они ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай не верють, фронтовики. И пошли они одного разу ночью по хутору в чириках, штоб слыхать их не было. И наскочила на старшого брата та свинья — передом он шел, а младший чудок вроде поотстал. А старший брат тольки цоп ту свинью за ногу переднюю, вертится она, а младший брат подскочил да за заднюю. И поволокли ее к пенькю, и к тому пенькю у правления переднюю ее ногу гвоздем прибили. И пошли домой спать. А когда утром вышли, а свиньи нету, тольки кровишша, и скрозь по улице след прокладен. А тут бягить Манькя Усова и шумить: «Эй, бабка Шилиха помираить». Побегли браты по тому кровавому следу и в курень бабки Шилихи он их привел. А тут уж и атаман пришел. Глядять — ляжить бабка Шилиха на кровати, а из правой из ее руке, тряпкой замотанной, так кровишша и тикеть, так и бьеть, как тот фонтан. Понял, в чём дела — ить гвоздь-то, свиньей когда она бегала, ей в правую переднюю ногу забили. Глянули казаки, и хотели ее тут же кольями убить, да атаман не свелел. «Нехай, сказал, ляжить, поглядим, што будить». А она месяц ляжить, другой, кровишша с ней тикеть, а помирать не помираить. Извялась вся, как шкилет стала, тут рази не догадайси дед Афанасий, взял он осиновый сук, исделал из яво клин, вошел с казаками в курень бабки Шилихи и клин тот осиновый под матку вбил. И тольки он тот клин под матку молотком вбил, захрипела Шилиха, зявнула раза два и померла…
* * *
Двор Анания Григорьевича выметен чисто, полы в курене вымыли с кирпичом, заслали половиками, окна и щеколды протерли так, что горят они на солнце, дверные ручки тем же кирпичом оттерли, всё в полный парад привели.
Убили на австрийском фронте младшего сына его Гришу, осталась вдова с двумя сыновьями, а старший сын, хранит его Бог, доси еще живой. Прислал он письмо из Пскова-города, что на торжество прибыть никак не может.
Во дворе Анания Григорьевича будут сегодня внука его, которому как раз годик сравнялся, в первый раз на коня сажать. Столы для гостей поделали посередь двора и с удовольствием наблюдают собравшиеся гости за бабьей суетой и за тем, как растет на столах то, что хозяину Бог послал. А послал ему Бог для всего хутора богатое угощение.
Кончилась бабья суета, вытирая фартуками руки, стали они по бокам крыльца и вынес дед Ананий Григорьевич внука своего Онисима на балкон-галерею. Одет он в полную казачью форму, шаровары с лампасами, гимнастерка, ремни на нем белые, мелом натертые, при шашке, специально по росту нового служивого сделано. Сегодня же, в первый раз в его жизни, острижен он и зачесали ему чуб, как казаку Войска Донского и полагается. Погончики приладили ему урядницкие, с разведческим просветом. Сам дедушка вышел в полной форме Атаманского полка, при шашке с серебряной портупеей, с орденом святого Георгия четвертой степени и при трех медалях. Погоны у него вахмистра, заслужил он их еще тогда, когда сложили казаки песню — в семьдесят седьмом году. Сапоги на дедушке и на будущем служивом начищены до ослепительности, фуражки надеты набекрень. Обвел дедушка взглядом двор свой и светло у него на душе стало: почитай, весь хутор сошелся, а впереди всех, блестя погонами офицерскими, при крестах и медалях, три офицера Пономаревы. Ить это же честь ему какая!
На специально расчищенной площадке уже стоял подседланный боевым седлом рыжий жеребец, за старостью лет давно уже переведенный на плуги и бороны. Почистили его и скребком, и щеткой, и расчесали и хвост, и гриву так, будто на смотр самому Войсковому Атаману приготовили. Копыта рашпилем в порядок привели, с вечера овсеца всыпали, вот и стоит он шустро, косясь добрыми старческими глазами на приближающегося к нему деда с внуком. Под уздцы держит его другой внук, мальчонка лет пятнадцати, тоже одетый в полную форму, а с другой стороны коня стоит второй брат его, Игнашка, и в руках у него пика для Онисима, новая, только вчера сделанная.
Одним взмахом крепких рук сажает дед внука своего в седло, получает он от Игнашки пику и ведет дед коня, три раза обойдя вокруг двора. Оба двоюродных брата будущего воина идут по сторонам коня, не дай Бог служивый на землю жмякнется. И полными страха глазами следит за всем готовая каждую минуту закричать от ужаса мать Онисима, но никто о ней не думает, не ее это дело, нонче сын ее, с первым днем ангела, принимается в казаки-служивые, и бабам тут мешаться никак не положено.
Крепко сжав пику в одной руке, схватившись другой за луку, весело смеется малый Онисим, и видно всем, что страшно нравится ему сидеть выше всех меж мягких, лишь слегка похрустывающих, подушек седла. Слава Богу! Вся процедура проходит без происшествий, только один какой-то старик не выдержал:
— Эй ты, куженок! Не дяржись за луку, за уздечкю, за уздечкю норови…
Но уже вывел дед коня на середину двора, скинул фуражку и поклонился на все четыре стороны:
— Господа старики! Принимаете ли вы внука мово, Онисима Малодельскова, в казаки?
— Приймаем!
— В час добрый!
— А куды ж яво, сукина кота, дявать?
Надел дед фуражку, кинулась залившаяся слезами мать к новому казаку Войска Донского, взяла из рук его пику, сняла сына с коня, прижала к груди и еще пуще расплакалася.
И рассердился дед:
— Нечего тут зазря сопли распущать. А ну — утрись!
Громко разговаривая, смеясь и шутя, размещались гости по лавкам, и встал атаман с полным стаканом цимлянского, поднял его высоко над головой, погладил левой рукой бороду и обернулся к хозяину:
— Проздравляю тибе, Ананий Григорьевич, с тем, што одного внука твово приняли мы ноне на службу Войска Донского. Дай яму Бог шшастя, чинов-ордянов и полные амбары. А тебе, Настасья, одно говорю: блюди и дале сына свово, дасть Бог, будить он табе на старости подмога, штоб послужил чесно, и во здравии и многолетии дослужилси до чинов гиняральских.
Грохнуло и раскатилось по всему хутору: «Ура!». Засмеялся чему-то Онисим — поймал, наконец, какую-то казявку.
Выпили все за будущего служивого и пошла по столам казачья беседа, быстро опустели бутылки, исчезли и пироги, и пироженчики, как хмылом взяло жареных кур, нигде больше не видать ни свинины, ни телятины, ни ягнятины. Пропало со стола, начисто подмели гости доброе угощение и запросили то взвару, то нардеку, то кваску, то сюзьмы. А дед Аникей Степанович заиграл старинную народную песню, которую охотно подхватили хуторяне:
Ну и горд наш Дон, тихий Дон наш, батюшка. Бусурманину он не кланялся, У Москвы, как жить, он не спрашивался. А с Туреччиной по потылице Шашкой вострою век здоровкался…* * *
Керосиновая лампа стоит на большом, покрытом самодельной скатертью, столе, выцветший ее, зеленый, засиженный мухами абажур собрал весь свет под себя и потонули углы комнаты, а с ними и тускло мерцающие киоты икон, в густом полумраке. Дверь заложена засовом, окно закрыто снаружи ставнями, изнутри плотно задрапировано толстой занавеской. Стоящая у стены кровать с едва белеющими высокими пирамидами подушек застелена широким, сшитым из разноцветных треугольников, одеялом. В комнате душно. Видно, что пуховая перина высоко взбита, и спать под ней — принимать муки мученические… Но таков уж порядок и обычай, и возражать против него никто и не вздумает.
Жалмерка Настя увидала Семёна, когда шел он по улице и попросила его зайти к ней и написать письмо мужу ее Грише, на фронт, в действующую армию. А получилась там с Гришей неустойка: вот уже целый год, как не приходит он на побывку, в наказание за то, что, подцепив в каком-то польском фольварке гуся, попался с поличным. Привели его поляки к командиру вместе со смертельно перепуганным гусем. Скинули поляки шапки и заявили командиру:
— Пане плуковнику! Пшепрашам, але тэн козак у Юзефа гэнзя вкрадл!
Лицо полковника залилось багровой краской. Вынул он из кошелька золотой, отдал полякам и, выпроводив их, крикнул:
— Эй, дежурный, вахмистра!
Вытянулся вахмистр перед командиром, войдя в халупу, и лишь искоса взглянул на провинившегося. Бросил командир окурок папиросы:
— Забери его и научи, как гусей красть, а потом попадаться. А в отпуск домой он у меня до тех пор не поедет, пока вину не загладит. Идите!
Счастье Гришке привалило: не отдал командир его под суд, а, придя в конюшню, набил ему вахмистр морду, да так, что посинел он, как турецкий баклажан. Вот теперь и выглядывает жинка его понапрасну, вот и куликует одна-одинешенька со старухой-матерью.
Принесла Настя меда из ледника, налила чайную чашку, положила перо и бумагу, достала чернильницу, полную дохлых мух, и просит так письмо написать, чтобы, ежели подсунет его Гришка командиру вовремя, отпустил бы он его на побывку. Ить у них одной пшеницы семь десятин засеяно!
— Ну, говори, что писать.
Будто давно заученное наизусть, диктует Настя тихим, грудным голосом:
«Ляти, письмо, возвевайси, никому в руки не давайси, тольки дайси тому, кто мил сердцу мояму!
Посылаю я вам, дорогой наш супружник Гриша, поклон до земли сырой низкий, а ишо кланяется вам маманя моя Анна Сергеевна и сосед наш дедушка Поликарп Иваныч, жана яво, бабушка Сирахвима…
А урожай у нас в етом годе обломный. Никак бы нам не управиться, да спасибо Атаман, обирягаить он нас, жалмерков, и косим мы, и молотим, и возим всем хутором враз, всех он на работу выгоняить вместе. А и те казаки, што на побывку пришли, и они дни и ночи спину гнуть вместях с нами. А поморились мы ис матирей твоей во-взят, упроси ты командира твово, нехай хучь на молотьбу тибе отпустить. Скажи яму, што жана твоя Настя с хутору Песковатского, где и яво отец с матирей проживають, а мы яму по бабушке роднёй приходимся, нехай сроду раз уважить.
А телку нашу, што в прошлом годе у нас завялась, продали мы, денег надо было, новые колёса на арбе поделали и хомуты два купили, старые во-взят порвались, а ни я, ни мать, скольки мы их шилой не ширяли, ни до чего не доширялись, пришлося новые покупать.
Свиней, слава Богу, три у нас. Будить Ликсей Кумсков в полк ехать, пошлю табе мясы жареной, подсвинка зарежу, а сала у нас ишо летошняго много, хватаить, и сала табе пошлю, и каймаку».
Хутор давно уснул, тишина кругом полная, лишь звенит голос казачки:
«…И с тем, дорогой Гриша, няхай будить над тобой Покров Богородицы, и бирягись ты там от всяво, и никого не забижай зазря, знаешь, как оно потом другим концом бьеть тибе же.
И с тем остаюсь супруга твоя и жана…».
Только в конце третьего, мелко исписанного, листа нашлось место для подписи. Слегка наклонив голову, внимательно глядя на кончик пера, тихо шепча, повторяя нужные буквы, долго и старательно выводит жалмерка свою подпись: Настя Гуштина!
Отложив перо в сторону, будто вилы это, которыми нагрузила она целую арбу снопов, облегченно вздохнув, вытирает Настя запотевшее лицо уголком головного платка, схватывает стоящий на столе кувшин, быстро наливает и себе, и Семену меда, выпивает свою чашку одним духом, заставляет и его выпить так же свою и наливает снова полные чашки. Прижав чашку к губам, медленно всасывая пьяную влагу, смотрит она неподвижным взглядом. Вдруг обхватывает его обоими руками за шею.
Никто еще в жизни так его не целовал! Первым желанием его было вырваться и бежать, попробовал он, было, подняться и не смог. Всей грудью прижалась к нему Настя, впилась в его рот горящими губами, да так, что и дохнуть он не может. Но вдруг, оттолкнув его от себя так, что ударился он головой о стену, шипит:
— Уходи! Уходи отцеля, а то зараз кричать учну!..
Страшно удивилась тетка, найдя Семёна в его комнате спящим. Родные его уехали еще вчера с вечера, а она, проводив их, отправилась спать, и всё бы хорошо было, не приснись ей под самое утро сон: будто тот подсвинок, что продала она его на прошлой неделе, стоит посередине гостиной и говорит человеческим голосом: «А мине бы таперь кваску испить!». Всполошилась тетка, лампадку зажгла, замоталась по куреню, тем разбудив гостя. Бегом отправился он домой, подойдя к пруду, разделся на ходу, с разбегу бросился в совсем еще холодную воду, плыл, успокаиваясь и бормоча: «Дура стоеросовая, с ума сошла!».
* * *
В Гурове церковное торжество: сравнялось ровно десять лет от дня постройки церкви, и поэтому решил отец Савелий, пригласив все соседние хутора, отслужить молебен с водосвятием.
Понаехало казаков видимо-невидимо. Кто знакомых в Гурове имел, сразу же заворачивал к ним во двор, а кто дальний был, тот распрягал прямо посередь улицы или где под вербами, бросал быкам или коням сена, открывал стоящий в задке специально привезенный кованный сундук и перебирался из дорожной пыльной одежды в парадную форму своего полка, надевая вычищенные сапоги и обязательно, несмотря на жару, калоши. Так полагается. Для форсу. Ну а бабы, дело известное, таких кофт, таких юбок, таких платков и шалей понавынимали, да так разрядились, что глядеть на них — не наглядеться. И Пономаревы все приехали, даже тетя Агнюша с детишками. А Муся-то, Муся, глянул на нее Семён и глазам своим не поверил, вовсе она взрослой барышней стала, надела по случаю торжества форму своего Института благородных девиц, да как пошла посередь улицы, так не было того казака, казачки или старика древнего, чтобы не обернулся и сразу же не спросил: «А чия же ты есть, красавица?».
И высыпали из куреней девки одна другой краше. И так они всю улицу видом своим взвеселили, что даже солнце возрадовалось, выглянуло из-за облака, чтобы на них получше наглядеться, да, увидав их, так и осталось стоять на небе до тех пор, пока всё то девичье половодье не вошло в церковь. Глянув на них, глубоко вздохнули замужние казачки, поправили платки, шали и полушалки и высоко подняли головы, не хуже, как те кровные, норовистые кобылицы. И подкрутили служивые казаки лихие усищи свои и тверже дали шагу в лакированных сапогах своих. И чаще заСемёнили сухенькими ножками древние старики, пыля по середине улицы. И глубоко вздохнули и вспомнили старое доброе время хуторские бабушки. Набилась церковь народом так, что ежели бы даже и сам войсковой атаман приехал, так и он бы до середки не дотискался.
Добрых два часа служил отец Савелий торжественную службу. А когда подошло время к причастию, вышел он на амвон и предложил всем, как есть — Бог простит, что не говори — удостоиться принятия святых Тайн по тому случаю, что большой это ноне праздник в хуторе, и потому еще, что страшные дела вокруг нас совершаются. «Ибо теперь, сказал он, как никогда прежде, не ведаем мы ни дня, ни часа суда Божия». Покорно став в очередь, причащались все. Причастив паству свою, приступил батюшка к молебствию, заиграло солнце золотыми лучами своими на ризе его новой, озарило чудок вроде сединой побитые кудри его, высоко, под самый купол, поднялся дым кадильный и чудно зазвучали слова молитвы:
«Святителю, отче Николае, моли Бога о нас…
Моли Бога о нас, святителю, отче Николае, яко мы усердно к Тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших…».
Окончив молебствие, вышел отец Савелий, осенил крестом всех молящихся и заговорил с амвона так, будто про сенокос или об рыбальстве:
— Братия и сестры, станишники и станишницы. Привел нас Господь Бог наш еще раз купно помолиться перед Престолом Его. Порадуемся же тому паче и паче, ибо зашли времена страшные, наступили дни искушения и узрили мы падение трехстолетняго трона и уход всеми оставленного императора, сумевшего в благородных прощальных словах своих показать нам, что был он человек хороший и чистый, а потому лишь погиб, что за великой любовью своею к России и к царице, жене — матери детей его, не узрил, не понял всей силы надвигавшейся над головой его бури. Не осудим его, памятуя, что сердце царево в руце Божией и что удел таких, как он, — удел праведников и мучеников. Помолитесь за него, за детишек его и супругу, жену суетную, и обратитесь взором и помышлением своим в собственный наш курень, казачий. Слыхали вы, что послал нам Бог мужей мудрых, что после почти двухсотлетнего перерыва, насилием злого царя Петра содеянным, созвали они старинный наш Круг и выбрали на нем нашего усть-медведицкого казака в атаманы. Понадеемся, что наделит его Господь мудростью змеиною и верностью Дону-батюшке, что скличет он, атаман наш, всех казаков своих силу нашу ратную домой, на Дон тихий. Ибо чую я, грешник, что заходит над нами туча грозная и, может это статься, что и нам придется, как предкам нашим в Азове, твердо стать за Дом Пресвятой Богородицы. Помните вы, сами знаете, что в осаде Азовской осталось защитников его полчетверти тысячи, а и те все переранены были. И, усумнясь в силах своих по дальнейшей городской защите, решили они тогда лучше в открытом бою лечь костьми в поле чистом, чем погибнуть в городских развалинах. И, отслужив последний молебен, попрощались они друг с дружкой в церкви, так же, как и у нас, посвященной святому Николаю, вышли в степь на вылазку и узрели неприятельские рвы и завалы порожними. Мать наша, Пресвятая Богородица, покрыла Азов-город Покровом своим и отвела от него силы вражые. Крикнув из последних сил, кинулись те бойцы азовские на садившихся в корабли турок и набрали полону и добычи столько, что и счесть тогда не сумели. Взяли в плен пашей турецких и знамена енычерские, и пошли, и поставили монастырь, и атамана своего избрали игуменом.
Спокон веков блюдет нас Богородица, мать и защитница наша. Не сумлевайтесь же, помня сидельцев азовских, но вооружитесь духом ихним и врата адовы не одолеют вас.
Взяв крест в обе руки, поцеловал его отец Савелий сам, и пошел народ ко кресту тому прикладываться. Будто и они все брали на себя клятву сидельцев азовских. Истово крестясь, выходили чинно из храма и сказал дед Листрат то, что весь хутор думал:
— Хороший поп у нас! По-нашему, по-казачьи с амвону гуторить. Иной какой архирей, али гинярал полный, никогда против яво не устоить!
А в церковной ограде давно уже столы накрыли, уставили их вареным и жареным и расселись за ними хуторяне и гости и, разоблачившись, присоединился к пастве своей отец Савелий. В первый раз это сегодня, что после доброго угощения и выпивки никто не завел песни, а перекатывался волной меж сидящими разговор негромкий и тревожный, и уже там и тут слышно, как крепко станишники заспорили.
Вон, раскрасневшийся от выпивки урядник говорит хуторянам:
— И скажу я вам, што революция эта всех, как есть, врасплох застала. Таперь которые министры и гиняралы за головы хватаются, да как же это так, говорять, проморгяли мы такую делу? Иду я это одново разу в Питере по улице, стоить какой-то, видать, бывший барин, стоить, пальта у яво расстегнутая, ветер полы яму рвёть, дощ на яво капить, а он, как дурной, сам с собой говорить: «Катаклизьма… катаклизьма…».
Вот-те, думаю, и катаклизьма. А почаму нас, фронтовиков, никто не вспросил? Почаму отменили приказ пяхоту с Питеру убрать, а казачий конный корпус туды ввесть? Ить всю энту катаклизьму ихнюю городская сволота исделала. Вот и подурели все. Алексеев-гинярал и тот шумел: светлые дни революции. Вот те и светлые, когда пьяные солдаты и матросы офицеров сотнями по улицам понабили…
Какой-то старик наклоняется поближе к уряднику:
— А царь-то, он што ж глидел? Хозяин он ай нет в дяржаве своей?
— Х-хоз-зя-ин! Да вот он-то как раз всё и проморгал. А когда узлом к гузну у яво подошло, послал он Иванова гинярала с отборными полками и полную полномочию яму дал… а тот подошел к Царскому Сялу, а царь сам со Ставки выехал, и тольки до станции «Дно» доехал, а там яво и зашшучили.
— Да хто же это могёть самого царя зашшучить? А иде же конвой яво был?
— Поди, бядняк, к жане с дятишками хотел…
— А вы суды слухайтя, подойдя к Царскому Сялу, услыхал гинярал Иванов будто против няво полк какой-то идеть, испужалси, будто братскую кровь проливать не хотел, и отступил в Вырицу, а с ним восемьсот солдат, всё, што у няво осталось. А остальные полки яво расстряслись, как те индюшата в стерне, железнодорожники скрозь рельсы пораскидали, вот и получилось, што один яво полк, Тарутинский, на станцию «Александровка» пришел и там яво обманом разоружили, а другой, Бородинский, в Луге оказалси, и ехать яму никуды не возможно. А остальные полки промеж Псковом, Лугой и Двинском позастрявали. А энти, из Думы, — к царю. И одно: «Отказывайся, будя, поцарствовал». Два раза гиняралов своих вспрашивал, а што на это казаки скажуть, а те яму: «Отрякайся, и казаки про тибе слухать не хотять».
Старик, сосед урядника, вскакивает:
— В-восподи! Да когда же нас вспрашивали?
Урядник усмехается:
— А ты, дед, сядь! Таперь никто никого не вспрашиваить, а хто умееть — тот и действуить. А они одно — катаклизьма…
А вот ишо и Керенский энтот, в прогрессивном он блоке. И энтих прогрессивных, вроде сказать, вперед идущих, тоже мы обнюхали. Одно слово: жулики и обманаты, ловкачи, вроде энтих на ярмонке, што людям глаза отводють…
— Да што же это такое, ить у царя, шутка сказать, десять миллионов солдат, чатыреста тыщ офицеров, и никто за няво не заступилси?
— Ну, солдатам за яво заступаться никак не приходилось. А остальные, те, што возля царя кормились, как зачалась энта светапредставления, катаклизьма ихняя, все, как есть, в кугу полезли. Сволоча.
— А иде ж казаки были?
— Ха, казаки! Все, как есть, казачьи полки перед революцией на фронт угнали. А старую гвардию, ее всю в боях с немцами перевели. А в Питере батальоны пяхотные, из энтих мужиков, у которых сотни годов тольки одна думка и была, как бы до земли дорваться. А што немец, што француз — один им чёрт. Вот и поперли они грабить и арестовывать, да как! Сам видал: вядуть матросы одного, испрашиваю их, за што вы человека взяли, а они мине: «А он за Радзянку». Повернулси я иттить, а там ишо какого-то штрюцкого пяхотные солдаты волокуть, вспрашиваю их: «За што вы яво забрали?», а они в один голос: «Он против самого Радзянки!». Как орудують!
— Так вот оно почему царь со «Дна» не поднялси.
— Тю-у-у! Да он перьвый телеграмму царю послал, штоб отрякалси тот. А когда царя убрали и Миколай Миколаич главным командующим стал, то долго он не засиделси, тольки и всяво, што с Кавказу до фронту доехал, а тут яво и спихнули. Крутнулси он круг сибе и об одном просил, штоб яво в Крым к жане пустили, под юбку ее хорониться. Вот те и великий князь! А тут энти большевики газетку исделали, «Известия» называется. И в газетке той какой-то Нахамкис написал, што каждый солдат, каждый гражданин праву имеить кажного риакционного гинярала на месте сам убить. Поняли, куды это повернуто? На гиняралов, как на зайцев, охотиться всем право давалось.
— Да ты случаем не брешешь? А какие же это гиняралы риакционеры?
— Пойми ж ты, садова голова, не в том дело — риакционер али нет, а в том, што кажный кого хочет убивать могёть, без суда и следствия. Ить в одном Питере боле тыщи офицеров солдатня побила. И одно оруть: долой баронов, фонов и прочих шпиенов И тут же сто пятьдесят гиняралов правительство из армии, с постов ихних, поскидывало. Да, и зачали пяхотные офицеры красные банты цаплять. Со страху.
— Што ж, пропала Расея, а, как ты думаешь?
— Как же иначе думать свелишь? В городах солдаты винные погреба разбивають, перепиваются, в вине тонуть, а как выскочить такой пьяный на улицу, так и бьеть, кого хотить. Скольки баб поперепортили, скольки помешшиков побили, поместий сожгли, скота порезали! И новый русский Распутин явилси, по фамилии Ленин, немцы яво в запломбированном вагоне как шпиена к нам прислали, большавицкий он вожак, одно знаить на митингах орёть: землю должны мужики брать силой, ничего не дожидаясь. Вот и пошел пожар по всей Расее, да такой, што даже Керенский ужаснулси, да как зашумить на фронтовом съезде 29-го апреля: неужели русское слободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Жилею, што не помер я два месяца тому назад, кабы тогда помер я, то с мечтой, што раз и навсягда для Расеи загорелась новая жизня, што умеем мы без хлыста и палки уважать друг дружку!
— Ага, припякло!
— Значить, правильно говорится, што до тех пор стоить Расея, пока мы ее плетями порем.
— Н-да, вот сам таперь и прикидывай. Ить недаром же сам Пуришкевич, монархист, предложил Думу к нам на Дон перевести и у нас же Учрядиловку собрать, под защитой казачих плетюганов, штоб обратно, как ишо при царе Алексее Михайловиче наш Межаков, так и теперь казачьими руками русским власть ихнюю становить…
— Дыть это же Содом!
— Не, не Содом, а дом веселый. И кончить его тот, хто снова всю Расею под плетюган, а либо под пулю поставить… И как бы ученый я был али гинярал, или аблакат, другая бы дела была, ну всё одно считаю, што таперь Каледину полки все, как есть, наши надо на Дон собрать и свою думку зачинать думать…
— То ись, какуя же это свою думку?
— А такуя: Москва сибе, а мы, казаки, сибе!
* * *
«…Одна, две, три, четыре пять, шесть, семь, восемь, девять…», — Семён стоит у ограды, отделяющей чистый двор от скотного, и считает клиновских баб, перебегающих по мостику от мельницы. Быстро, горбясь, кутаясь в платки, прикрывая лица рукавами, чуть не рысью, минуют они дом, заворачивают меж ледником и каретником и спешат туда, к саду, полному антоновки, белого наливу, ранета, бергамотов.
Урожай в этом году обломный. Чуть не каждый день ходил он с бабушкой в сад, сколько раз заботливо осматривала она деревья, сколько раз посылала его то за Матвеем, то за Микитой, еще один шест принести, подпереть еще одну, слишком перегруженную плодами, ветку. Подвязывала и сама, веревочками и мочалками, боясь, что поломаются они под тяжестью помутневших, налившихся соком антоновок…
«…Десять, одиннадцать… двенадцать… тринадцать… пятнадцать…».
Отец — нога у него опять разболелась — вышел на балкон и смотрит, не спуская глаз с дефиле клиновских баб, полуодетых, грязных, нечесанных, босоногих, баб, тянущих с собой то мешки, то корзинки, то, за полной бедностью, продранное и кое-как стянутое мочалкой решето.
«…Шестнадцать… девятнадцать… тридцать… тридцать шесть…».
Второй Спас сегодня. Еще с раннего детства запомнил Семён этот день. В их доме, как и по всей Донщине, соблюдался бабушкой порядок этот твердо: никто фруктов нового урожая не ест до тех пор, пока не поедет она на Второй Спас в Ольховку, в церковь, и не освятит там мед, яблоки, груши и виноград. Кто же позавидует на хорошее яблоко или грушу, да сьест до этого дня, всем родственникам его, што померли, не дадут ангелы Божие никаких фруктов на том свете испробовать. Вот и на этот раз приготовила бабушка всё, как положено, завернула в белую скатерть и стояли плоды, Господом людям посланные, в ожидании освящения… и дождались!
«…Сорок… пятьдесят… шестьдесят…».
Еще позавчера пришли поздно вечером два казака, посланные хуторским атаманом, и сообщили, что, как дознались в Разуваеве, порешили клиновцы как раз на Второй Спас обобрать сады Пономаревых, а подговорил их к тому Федька-астраханец. Предложил атаман прислать десяток казаков с плетюганами, да глянула бабушка на образа, перекрестилась и сказала:
— И не подумайте, нехай идут, у кого совести хватит.
Ошиблась бабушка. Ничего с совестью не получилось.
Почитай, половина Клиновки была им должна. То сена, то соломы брали, то ржи, то пшеницы, а то и деньгами. А как и не дать — придет такой, ободранный, босой, переступает робко с ноги на ногу, мнет шапку в руке, скинув ее еще у мельницы и пройдя весь двор с непокрытой головой:
— К вашей милости, Сергей Алексеевич. Сами знаете, какое наше хозяйство, жана ипеть хворая, мать на печи лежит, рематизьмой скрутило, а трех детишков правдать надо…
И такими глазами смотрит, хоть и знает отец, что навряд назад что получить придется, смущается, путается, говорит ерунду, потому что страшно всё это ему неприятно, и, в конце концов, зовет сына:
— Слышь, пойди-ка ты вот с Иваном к мельнику, скажи ему, чтобы отвесил он пятерик ржи…
Мужик мнется и дальше, глядит в землю и лишь молниеносно пробегает взглядом где-то выше глаз отца:
— Вашскоблародия, батюшка-барин, Сергей Алексеевич, мине бы хучь с пудик мучицы пшенишной, с пудик бы…
На дворе давно захолодало, лунки за ночь подмерзли, только к полудню стало оттаивать, а он, Иван, гляньте только на него, босой, с черными, грязными, в мозолях и ссадинах, ступнями, стоит, будто примерз к земле, и чувствует отец, что все равно не сойдет с места, пока не выпросит всего того, что ему нужно. И поэтому начинает отец страшно куда-то торопиться:
— Да-да, скажи Миките, скажи, пятерик ржи да пудик крупчатки. Да, а мешки-то у тебя есть?
— Есть, есть мешочки, захватил я, батюшка-барин, захватил. Век Бога молить будем… по гроп жисти…
Отвесив чуть ли ни земной поклон, трусит мужик вслед за панским сыном, трет заскорузлыми ладонями глаза, бормочет что-то про Богородицу, про то, что беспременно в предбудущем году весь должок возвернет он, сполна назад отдаст, лопни глаза, да, а ему, Семёну, такую теперь самоловку сплетет, какой во всей округе не сыскать. Мастер он этого дела, что-что, а самоловки плести первый он в Клиновке. Ей-богу!
«…Шестьдесят одна… две… три…».
Как ошалелая, выскочила из дома Мотька. Была она у мамы. Забежала мама в гостиную, упала там на диван, прижала платок к глазам и зашлась в плаче. Вошла к ней бабушка, и вихрем вылетела Мотька на балкон:
— Г-га! Дывысь! Клиновськи сучкы понабиглы! Чуже добро грабуваты!
Будто кнутом полоснуло по бегущим через двор бабам:
— Х-ха-а! Холуйка хохлацкая, а што, все урыльники хозяйские посполоскала, офцерская блядища!
— Подлюки бисови, стервы прокляти!
Быстро поднявшись со своей приступки, втолкнул отец Мотьку в кухню и захлопнул за ней дверь. Размахивая корзинками, грозя кулаками, взбешенные и раскрасневшиеся, уже готовы были бабы кинуться в дом и расправиться с «панской подтиркой», да увидав, что большинство их подружек уже там, в саду, услыхав там и смех и хруст ломаемых веток, поняв, что делёжки поровну все равно там не будет, а попадется каждой лишь то, что сама она отбить сумеет, молча бросились вслед за своими товарками.
«…Шестьдесят четыре… пять… шесть!». Шестьдесят семь баб насчитал Семён и, когда исчезла последняя за ледником, побежал к матери.
Немного успокоившись, сидела она рядом с бабушкой на диване, нервно перебирала пальцами совершенно мокрый платок и, глядя мимо всех, шептала:
— Да что же это такое, Господи, да что же это такое…
Отец шагал из угла в угол, тяжело хромая, и только тогда перестал, когда прикрикнула на него бабушка:
— А ты што, господин офицер, в маятники нанялси, што ли? А ну-ка сядь да сам в сибе приди. То ли еще будет!
Под вечер бабушка и Семён отправились в сад, в ужасе остановились они, и в первое время не могли произнести ни слова: будто ураган прошел, будто град побил всё живое, будто саранча уничтожила всё растущее, будто вандалы хозяйничали, намеренно стараясь принести как можно больше ущерба. Только несколько верхних веток осталось на деревьях. Обломанные, совершенно без листьев, ободранные, валялись ветки кучами, так, что и пройти теперь по саду невозможно было. И так все деревья изувечены, что ясно стало: сада этого больше не восстановить. Долго, молча прижав платок ко рту, будто опасаясь, что закричит она от страшной боли, стояла бабушка. Повернулась уходить и заметила вдруг, что в канаве, откатившись под лопухи, лежит маленькое красное райское яблочко. Медленно подняла она его, отерла платком и поцеловала.
— Пойдем, пойдем отцель, внучек. Дома я каждому от яблочка по дольке дам, пусть съест, как причастие примет. Последнее оно из саду нашего…
* * *
Мотькин отец приехал, будто снег на голову упал. Как был в грязных сапогах, с шапкой на голове, так и вошел прямо в столовую, где как раз накрывала Мотька стол для вечернего чая. Ни с кем не поздоровавшись, ни на кого не глянув, прямо обратился к дочери:
— А ну, Мотрино, збырайси. Одягайси, та й поихалы. Досыть тэбэ паны иксплютувалы.
Лицо мамы покрылось красными пятнами:
— То есть, кто же это дочь вашу эксплуатировал?
— А хто ж, як нэ вы!
Медленно поднявшись с кресла, вырос вдруг отец посередине столовой, дико блеснув глазами, указал Мотькиному отцу на дверь и прохрипел:
— П-ш-шол вон отсюда, хам!
Будто глотнув особенно большую галушку, глянул тот на отца, вдруг сгорбился, схватил с головы шапку и начал пятиться к выходу:
— Та вы ж, панэ, нэ той, нэ сэрчайтэ! Та хиба ж вы нэ знаетэ, що воно и як? В Совити мини сказалы про иксплютацию, щоб враз доньку привиз, а нэ то бида мини, барскому прыхвостню, будэ.
Ударив обоими кулаками по столу, вдруг заголосила Мотька на весь дом:
— Никуда я до тых хамив нэ пойду, тут зостанусь, тут…
Долго уговаривали Мотьку. Плакала она, плакала мама, плакала и бабушка, а отец ее, усевшись за стол, положив себе шапку под ноги на ковер, пил уже чай, дул на блюдце, аккуратно откусывал сахар и говорил тихо, дребезжащим голосом:
— Послидни врэмэна заходють. Посгубылы люды совисть… нэма царя, нэма й правды!
Вечером уехала Мотька.
Проснулся Семён от какого-то странного шума, будто мышь скребется или кто-то снаружи по окну тихонько пальцами перестукивает. Затаив дыхание, услыхал снова по-прежнему осторожный стук. Быстро открыв окно, едва разобрал темную фигуру, прислонившуюся спиной к стенке. И сразу же угадал Мотьку.
— Ты откуда взялась?
— Панычку, скорий одягайтэсь, бо клиновцы вас заарэштуваты хотять. За оту вашу оружию, що вы на стинках понавишалы, нибыто збыраетэ вы всэ цэ проты народу. Воны мусять зараз, ще до зари, тикы ще нэ выдно, за вамы приихаты. Хотять так вас забраты, щоб козаки в Разуваиви нэ узналы, бо казакив бояться воны, а як увэзуть в Клиновку, а потим до нас, в Ольховку, думають, що казаки вийной на ных черэз вас нэ пидуть. Тикайтэ, сховайтэсь, а я побигу, казакив сбулгачу!
Едва выговорив последние слова, исчезает Мотька в акациях. Ни минуты не раздумывая, наскоро одевшись, выскакивает Семён в окошко, пробегает к лесу, спускается к реке, идет вброд и выходит на островок под старую вербу. Тут его и аэропланами не найти.
Тихо, совсем тихо, еще толком ничего и не видно, но чу, что это там такое, будто вода булькает, будто в краснотале и камыше шум какой-то, ах, радостный визг, и горячий Буянов поцелуй прямо в нос хозяину. «Фу, будь ты неладен, разыскал, нечистый дух. Лежи тихо и не двигайся!». Прижав друга своего к боку, прислушивается Семён, но спят еще речка, и лес, и степь, и бугры, и ничего, кроме онемевшего от счастья Буяна, не слыхать…
Ага! А это что такое — ну, конечно же, от Клиновки, это ясно, слышен нарастающий перестук колёс, так и есть, всё слышней и слышней, вон, прогрохотали телеги по мосту, взлаяли Сибирлетка и Полкан… Но что это? От Разуваева через луга всё слышней и слышней, всё явственней мягкий топот копыт прямо к плотине. Узкая она, видно, пошли по ней кони гуськом.
Вслушиваясь внимательней, решает Семён, что проскакало не меньше десятка конных. Любопытство одолевает его так, что, забыв о Буяне, бросается он вброд, пробирается снова сквозь прибрежные заросли краснотала, быстро обувается и идет к дому так, чтобы в любую минуту можно было исчезнуть в камыше или в лесу. Страха он не чувствует, кажется ему, что всё это лишь продолжение той игры в индейцев, которой занимались они в последний раз месяц тому назад с казачатами из Разуваева и Мусей, Шурой и Валей. Лишь теперь замечает он, что посветлело небо, что уже хорошо различить можно белеющую мелким песком тропинку, темнеющий строй деревьев, а вон и уже совсем хорошо слышны голоса от мельницы. Остается пробежать через гумно и забраться на чердак половни, там окошко есть прямо во двор. Ох, вон они: посередине двора стоят три подводы, прижавшись к ним спинами, плотно сбились друг к дружке три солдата и пятеро мужиков. Семь человек конных казаков окружило их со всех сторон, а двое стоят рядом, держа в руках опущенные к земле прикладами винтовки. Окошко разбито, можно прекрасно всё слышать:
— А таперь, — атаман в седле, как влитой, — яжжайте вы домой по-добру по-здорову, покель я не осярьчал. Совет ваш клиновский нам не указка. Ишь ты, дитё несмышленое заарестовать захотели. А против вашего народу никто тут никаких оружиев не сбираеть, а трахвеи эти ихние, которые они, кровь на фронтах проливаючи, от врага достали. Понятно, ай нет? И эти трахвеи, штоб они вам глаза не мозолили, я зараз в Разуваев забяру. Ишь ты, вострые какие, чужое подбирать. А ежели вы, да посля того, што вы с ихним садом исделали, ишо какуя дурнуя намерению эаимеитя, дяржитесь тогда! Шутить ня буду. А вот ети две винтовки, што вы с собой приволокли, у нас останутся. Ишь ты, гярои, против дитя с винтовками вышли. А таперь — вон отцель!
Один из солдат вдруг взрывается:
— Это ж контрреволюция! Разоружать нас никаких правов ты не имеешь! Я зараз всю Клиновку подыму… я…
Ага! Да это же Фомка-астраханец. С расстегнутым воротом, с красной повязкой на рукаве, машет он руками, как ветряная мельница, и рвется его голос, полный ненависти. И тогда осадил коня атаман. Стоявшие рядом с ним конные раздались в стороны и, взмыв в воздухе, сверкнула выхваченная из ножен шашка и опустилась к правому стремени. А конь стоит, будто вкопанный. Тихо стало у мельницы, будто подавившись, замолчал Фомка. Бросив короткий взгляд на соседа слева, коротко приказал атаман:
— Ану — обыскать яво!
Как восковая кукла, слишком уж как-то безучастно стоит обыскиваемый и даже бровью не поводит, когда вытащили у него из кармана шинели заряженный наган.
— Ну-кась, Софроныч, и энтих всех!
У остальных оружия не оказалось. Атаман прячет наган в карман.
— Т-та-ак! Как говорится — на семи сидела, а девять вывела! Понадеялись вы улову, да выводок в камыши ушел! А таперь — исчезайтя, покель я ишо добрый!
Не говоря ни слова, мужики суетливо, солдаты спокойней, но тоже с оглядкой, рассаживаются непрошенные гости по телегам, трогают лошадей. Только уже на той стороне речки поднялся Фомка в телеге и погрозил кулаком. Только хотел он что-то крикнуть, как и прокатился, будя хутора и степь, сухой винтовочный выстрел. Натянули постромки испуганные лошади, высоко задрав ноги в воздух, упал Фомка на дно повозки. Стрелявший казак спокойно оглядел винтовку и быстрым движением закинул ее за спину. Атаман потемнел лицом:
— Ты што, взаправди?
— Иде там, тольки попужать!
Мужичьи телеги уходили всё дальше и дальше. Видно, как поднявшись в телеге, уселся Фомка, держась руками за товарищей. Дружно разразились хохотом разуваевцы:
— Ага! Таперь два раза они прикинуть, перед тем, как суды ехать.
Семён слезает со своего наблюдательного пункта, и сразу же, у входа в дом, чуть не задушила его мама:
— Нет-нет, не могу я здесь больше оставаться. Это же дикари, каннибалы. Нет… нет…
Заводя коней под навес, казаки весело переговариваются. Бабушка заторопилась тесто поставить, чтобы пышек напечь, Сергей выставлял кое-что, чем и горло промочить можно.
* * *
Собравшись у дяди Андрея, после долгих разговоров и прений порешили Пономаревы, что поедет бабушка на зиму в Разуваев, к тетке Анне Ивановне. Дядя Андрюша и тетя Вера переселятся к тетке Агнюше, туда и скот свой перегонят. Выждать надо, вон, говорят, скоро Учредительное собрание соберется, оно-то уж в порядок всё приведет. А Муся в Черкасск уедет, учиться надо.
С мужиками же в Клиновке и Ольховке дело вовсе дрянь. Вон Александр Иванович, Обер-Нос, так тот в Арчаду от греха подался. Прямо ему сказали, что не сносит он головы, если и дальше мужикам глаза мозолить будет. Забрал жену и сына и ночью уехал в одной «казанке», почти ничего из дома не захватив. Забил окна-двери, привязал к грядушке последнюю корову, остальную скотину распродал, и был таков. А Анемподист Григорьевич, тот, что библиотеку им продал, так он давно уже на Кавказе, к какому-то знакомому грузинскому кунаку-князю уехал. И правильно сделал — мужики, никого не спрашивая, сами все земли помещичьи позапахали. А Мельников, так тот в Москву укатил, там, как говорят, какие-то русские национальные силы собираются, монархисты ли, кадеты ли, кто их теперь всех разберет. А наши никуда далеко не отбиваются. Тут земля Войска Донского, нечего тут мужикам делать, пусть они у себя в России порядки свои наводят, а не у нас, казаков. Отец же решил в Камышин ехать, чтобы учебный год у сына не пропал.
И вот, когда уже укладываться хотели, приключилась с бабушкой история: пошла она утром рано в ледник, свежего каймаку принести хотела. Тут оно и стряслось. Сама она, прибежав в курень, рассказывала:
— Иду это я, только што хотела вертушку открыть, когда — глядь, а налетели грачи, оттуда, вроде от плотины, с севера сказать, налетели, да не два-три, а туча целая. И откуда их столько взялось? Да как кинулись они на те катухи, что соломой крытые, как саранча их пообсели и зачали с тех крыш клювами солому дергать. И такой грай, такой хай подняли, што уму непостижимо. А как выдернет один грач соломинку, так вскагакнет, и — в лёт! Обратно, на север. И нет его больше с той соломиной. Сроду я в жизни моей ничего подобного не видывала. Ох, не к добру это, не иначе, как предзнаменование о том, что налетят на нас какие-то рати черные, с севера налетят. И растащут, разнесут всё добро наше по соломинке…
Ехать в Камышин решили на двух подводах, одна с поклажей, а в казанском тарантасе сами они усядутся. Третью подводу грузили для бабушки, забирала она с собой все иконы и лампадки. Матвей вместе с ней поедет, он тоже в Разуваеве жить будет, только по делам к Миките-мельнику наведываться станет.
В последний вечер решили посидеть на балконе, благо, погодка выдалась теплая. И вот тут как раз, когда звезда вечерняя на небо взошла, вот тут и началось.
Первым взвыл Буян. Сидел он у каретника, в тени, почти и видно его не было. Тяжело и жутко завыл за ним Полкан, Кутёк, вот уже воет и Жучок, и последней подхватила Сибирлетка.
Сидевшие на балконе сначала попросту растерялись. Отец попробовал успокоить Буяна, и, близко не подпустив к себе хозяина, затрусил Буян к гумну, уселся там у канавы и завыл еще громче и отчаянней. Убежал подальше и Полкан, исчезли со двора и Кутёк с Жучком, и подали снова лишь голоса от опушки леса. Сибирлетка забежала за мельницу и взвыла оттуда протяжно, по-волчьи.
Легкой тенью прошла бабушка во флигель, зажгла там свечку и осталась одна в молитве.
Ничего не понимающая сидела мама, как горсточка отчаяния, нервно комкала платок и едва слышно шептала:
— Господи, да что же это такое, Господи…
А мельница не шумит. Остановили. Темно. Почему-то звёзд совсем не видно. Молчит степь, не слышно перешептывания акаций, но издалека доносится к хутору собачий вой. Тоскливый, протяжный, страшный. Только к полночи утихло всё, и никто на балконе с места не тронулся:
И полная отчаяния спросила мама:
— Сережа, да что же это значит?
Ответила не отец, а бабушка:
— Божье это предзнаменование. Чуют они, твари невинные, перемены, страшные перемены…
* * *
После приезда в Камышин завел Семён крепкую дружбу с братьями Коростиными.
Рассказали они ему о баталере, стал он здорово на митингах и собраниях выступать, стал разговоры с грузчиками, солдатами, рабочими вести, и до того у него дошло, что бросила его жена. Ушла к матери в Николаевку. «Мне, сказала, муж нужен, а не бунтырь какой-то. От новых друзей его у меня вся хата заплевана, как в кабаке, понакурено, самогоном за пять верст прет, ни днем, ни ночью покоя нет». Собрала манатки и ушла.
И у Ивана Прокофьевича тоже всё коловертью пошло: Марь Маревна в Петроград уехала, к Ленину, детей соседке отдала, полуслепой бабке, а сам Иван Прокофьевич в Совете вместе с баталером заседают. Шишки они там, и кабы не они, черти што в городе бы творилось. И больше всего дела у них с солдатами: пьют они дуром, хулиганят, грабят, насильничают, до того дошло, что жители сами особую стражу учредили, а то никак спать спокойно в городе невозможно, того и гляди ворвется пьяная компания, вся красными и пулеметными лентами увешана, и начнет контрреволюцию искать. А ищут в сундуках да в карманах…
А тут еще буксир этот, что позавчера у самолётской пристани причалил. Полон пушек, так и стоят накатанные, штук их с тридцать будет. И охраняют их какие-то: солдаты — не солдаты, рабочие — так нет, вроде вовсе не рабочие, рвань, красная гвардия. С винтовками. Разговорились они с часовым и сказал он им, что пушки эти послезавтра в Царицын дальше поплывут.
— А против кого же?
— На Каледина!
Всю ночь не спала компания. Раздобыли водки и тарани, и пока перед рассветом угощали они часового самогоном, пробрался Виталий к пушкам, да как не крутил, так ни до чего не докрутился. Замков снять не сумел, ни знал, как это делается. Вот и сидят они на берегу у кинематографа «Аполло», нахохлившись, как воробьи. Ничего не получилось, только напрасно красногвардейцу тому целую бутылку самогона и две таранки стравили.
Дав гудок, развернулся буксир, плеща красным флагом, и выправился на стрежень, повернув на Царицын. А возле трубы — плакат: «Смерть Каледину!».
Валерий крепко сжал кулаки:
— Ну погодите, рвань красная, покажет вам Каледин Кузькину мать. Ох, ребята, пошли на Дон, в партизаны!
Сев плотным кружком, решают они собрать запасы продовольствия, мешки и рюкзаки, запастись оружием и идти на Дон. Расходятся все лишь перед вечером и застает Семён дома много гостей. Тут и аптекарь, и Карлушка, и два камышинских купца, и Иосиф Филиппович, и неизвестный никому молодой, черный, как ворон, кривоносый, в брюках галифе, в куртке с отложным воротником и огромными нашитыми сверху карманами. Курит он, развалившись в кресле, короткую трубку, сжав ее полными красными губами, и глядит на всех черными, глубоко сидящими глазами. Повернувшись к отцу, спрашивает тоном Гулливера, благосклонно разговаривающего с лилипутом:
— Ну и что же вы себе из всего этого обещаете?
— Во-первых, как еще на Московском совещании говорилось, введение дисциплины в армии, порядка в стране, Россию от гибели спасать надо!
— И от кого же вы ее спасать будете?
— Как от кого? Ну, конечно же, в первую голову от большевиков!
Аптекарь и неизвестный быстро переглядываются, гость подбирает под себя ноги, улыбается скупо, одним уголком рта:
— А с кем же делать это будете, не с казаками ли?
— Да с казаками в первую очередь. И с русскими патриотами.
Неизвестный перебивает отца, нисколько не смущаясь:
— А настроения казаков вам известны? А патриоты ваши — это что же: Крымов, Иванов, Корнилов, что ли?
— Но ведь тогда вмешались эти самые, как их…
— Вот-вот, эти самые! И так вмешались, что Крымов застрелился, Иванов спасовал, а Корнилова Керенский объявил изменником, а теперь тот же Керенский против Каледина военные округа мобилизовал. Корнилов в Быхове сидит за решеткой. А солдаты полностью идут как раз вот за этими самыми. Их десять миллионов, озлобленных, голодных, которым терять нечего…
— Простите, а кто же их поведет?
— А мы поведем, как вы называете — «эти самые», то есть большевики!
Отец почему-то кладет назад взятую им из портсигара папиросу, снова вынимает, нервно закуривает:
— Г-мм! Большевик! А разрешите узнать, что же думаете вы об Учредительном собрании?
— Говорильня, которую мы разгоним, когда найдем нужным!
— Это же насилие!
— А что такое революция, как не род насилия? Мы же открыто проповедуем диктатуру!
— Но как же могут управлять страной пролетарии…
— Да не будьте же детками! Причем тут пролетарии?! Управлять будем — мы! Отбор, элита, мозг!
Мама вспыхивает:
— Какой цинизм!
— Называйте как хотите, просто это откровенность.
И снова отец:
— А кто же элита эта? Не та ли, что ее наши казачки в июле в Петрограде разогнали?
— Ах, то же попросту неудача была. За это время Ленин…
— Это не тот ли, что у немцев агентом по разложению русской армии работает?
— Вот-вот! Он самый! Только дело в том, что на сговор с немецким генеральным штабом пошел он, думая лишь о том, чтобы этих генеральских дураков использовать для мировой революции. Понятно? Сначала у нас, потом в Германии, а потом и небольшой фейерверк во Франции!
Мама беспомощно оглядывается:
— Хорошо, а кто же, кроме Ленина, и вот этого, как его, кто из Америки приехал…
— Троцкий из Америки приехал, а с ним сотня крепоньких головок, преданных революции, как и ваш покорный слуга, а с нами Собельсон, Розенфельд, Апфельбаум, Лурье, Урицкий, Нахамкес, Стеклов, Свердлов…
— Скажите, кроме этих, так сказать американцев, русские вообще у вас есть?
— Самый наш главный — русский, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, из дворянской семьи. Есть и парочка латышей, несколько грузин, меж ними Сталин-Джугашвили.
Отец снова нервно закуривает, мама морщит лоб:
— Это не тот, что банк ограбил и при аресте всех сообщников своих предал?
— Вот-вот, он самый! Забрал в банке деньги капиталистов и до копеечки передал партии. И вовсе не грабил, а экспроприировал.
И не предал товарищей своих, а тем, что они тоже арестованы были, сохранил их для партии, чтобы они, прячась, не разложились, а окрепли в тюрьме для дела революции.
Купцы, как по команде, отирают платками запотевшие лбы и один из них спрашивает:
— Что же это вы грабеж экспроприацией называете? Это вы всех нас по миру пустите!
— А почему бы и не пустить? Важна цель, а она столь велика, что все средства оправдывает. И Тит Титычам здесь обижаться не приходится.
— Здорово! Это значит ваши позавчера в лабазе у Шеина, что замели и всё повытащили, на революцию работали?
— Конечно! И не только это. Мы, например, уничтожим, как сорняк, и весь царствовавший дом. Физически уничтожим.
Мама закрывает лицо руками:
— Господи, значит, все эти Собелсоны и Радеки, всё это они придумали…
— И вовсе не они! Придумали всё это чисто русские, те, кого вы декабристами называете. Даже Разин и Пугачев до этого не доходили. А вот представители лучшей русской интеллигенции, царская гвардия, вот кто всё удумал. Кто царя Александра Второго убил, кто решил истребить Николая Первого? Не Павел ли Иванович Пестель, писавший в своей «Русской Правде», что царская власть доказала свои враждебные чувства к народу, а что этот русский народ политически мертвая и анархическая сила, почему дело освобождения России надо передать в руки немногих людей, вручив им диктаторскую власть. Вот у них, у этих лучших русских людей, и учились мы, от них, воспитанных на передовых идеях просветительского века. И к ним же Толстой, и Кропоткин, и Бердяев ручки свои приложили. Вот от них, через опыт страшной, кровавой, рабской истории русской, и выработали мы наши постулаты. И, по тем же идеям декабристов, введем и мы полную общественную нивелировку, вместе с полицейской опекой над всеми гражданами, как равно и полное поглощение государством того, что вы называете личностью, назвав всё диктатурой пролетариата, а на самом деле только нескольких просвещенных голов. Сейчас же пойдет русский народ с нами уже по одному тому, что действуем мы по принципу величайшего русского полководца Суворова, который говорил своим солдатам: «Ребята, вот эта крепость — ваша, отдаю вам ее на разграбление!». И перли они на вражеский свинец, и гибли тысячами, но брали неприятельские города и гуляли в них три дня, а потом опять прибирала их матушка-Русь к порядку, к рукам. Вот как оно, дело, делается. Совсем, как видите, просто. Только крепко подумать надо. Но, впрочем, нам уже двигаться надо, дела ждут, спасибо вам, и у вас я кое-чему научился.
Гость поднимается, почему-то встают и все остальные. Только мама сидеть осталась. Гость выходит в коридор первым, за ним тянутся все остальные. Аптекарь задерживается и наклоняется к маме:
— Наталия Петровна, ну вот, как перед Богом — уезжайте вы на Дон. Я его к вам нарочно привел. Прислали его сюда, да, делами будет ворочать… а вам, если каких лекарств, то я всегда, по старой памяти, а вы не задерживайтесь, нет…
Аптекарь исчезает. Мама гладит безмятежно спящего на ее коленях Родика, шепчет: «Спасибо тебе, Родик, ты один человеком остался».
* * *
В реальном училище митинги, собрания и демонстрации. Образован ученический комитет с представителями его в педагогическом совете, для наблюдения за деятельностью преподавателей недостаточно, конечно же, революционных, ретроградов и старорежимщиков, с правом голоса при оценке учеников, с заданием отменить Закон Божий и отметки, ввести лекционный способ преподавания.
Иван Иванович Дегтярь, еще раз избитый, скрылся на Дон, директора убрали окончательно, преподаватели запуганы и жалки.
Заглянул как-то туда Семён, и отправился на пристань, и встретил там Ивана Прокофьевича. Крепко пожал он ему руку, здороваясь совсем по-старому, начал было о чем-то говорить, да, безнадежно махнув рукой, рассеянно замолчал, глядя в сторону.
— Ну-ну, друг, одно запомни: рождены мы и приходим на свет, чтобы, толкуя об ошибках других, самим ошибаться. А поняв, что ошибаемся, пытаемся найти правильный путь, и еще больше путаемся, да, а ты вали, вали, а мне в горсовет пора…
Так и расстались. Похоже, был это день встреч: вот и сам баталер идет в компании грузчиков, что-то им горячо доказывает, и налетел бы прямо на старого своего приятеля, не отскочи тот в сторону.
— А-а! Старый друг лучше новых двух! Глянь ты на него, тоже в картузе. Правильно, кончили мы с царскими инблемами!
И, повернувшись к своим спутникам:
— А вы, товарищи, топайте в горсовет, я за вами поспею, вот мне с маладым дело одно обговорить надо, — и, быстро схватив его за рукав, отведя в сторону, сказал свистящим шепотом: — Слышь, Семён, по старой дружбе тебе говорю: ушивайтесь вы отцель с отцом и с матерью. И поскорея. Мне тут некогда будет об вдове и сироте голову морочить. Ясно, ай нет? — и, заглянув ему глубоко в глаза, почти закричал: — А чего ты на меня вылупился? Такая это, брат, штука, революция, лес рубят — щепки летят. Ну, поднимай паруса, чего засох!
Круто повернувшись, зашагал баталер к зданию городской Думы, теперешнему горсовету.
Весь под впечатлением услышанного вошел Семён в гостиную и присел в углу на свой стул. Сидели там, кроме домашних, как снег на голову свалившиеся вчера вечером Савелий Степанович и двоюродный брат Алексей. Говорил бывший его учитель:
— Теперь точно сказать не могу, но было это где-то на Обводном канале. Тороплюсь это я к центру, улица передо мной совершенно пустая, спят еще всё, только в шагах двадцати передо мной двое солдат идут с винтовками, а перед ними, тоже так шагах в десяти, попик какой-то военный поспешает. И сразу же мне попик со спины подозрительно знакомым показался. И почему-то надавил я за солдатами. А валеночки на мне подшитые, легкие, шагов моих не слыхать, да и солдаты, видно, увлеклись, не до меня им. Вот и заорал один из них:
— Эй ты, опиюм, а ну-кась, погоди! — священник же, видно, окрика того на свой счет не принял. И снова взревел солдат: — Тю, сатана в полушубке. Оглох, што ль? Стой, стрелять буду! — и винтовку вскинул.
Обернулся священник, и сразу же я его узнал: он, отец Тимофей. Остановился он и спокойно спрашивает:
— Что тебе надо?
Как тот взвоет:
— Га! Чаво мине нада. А доказать тебе, недобиток, што время твое прошло. А ну-кась, скидавай полушубок, это я его вчера обронил! — и подскакивает к отцу Тимофею и норовит его левой рукой за грудь схватить, а в правой винтовка у него.
И тут глазам я своим не поверил: молниеносным ударом в одно мгновение сбил солдата отец Тимофей с ног. В подбородок ему, по всем правилам бокса, такой крах поставил, что свалился тот, как мертвый, и винтовка по тротуару загремела. И вижу я, в левой руке у отца Тимофея — наган. Ох, чудеса! Второй солдат на минутку опешил, а тут я подоспел и парабеллумом моим в височек его стукнул. И этот на тротуар загремел. А отец Тимофей руку мне тянет:
— Благодарю вас, чести не имею!.. — да и захлебнулся: — Хо! Савель Степаныч! Ишь ты, как привел Бог свидеться! Спаси тя Христос, что ты его смазал, а то пришлось бы мне грех на душу брать.
Сунул он свой револьвер в карман, за ним и я то же сделал. Оглянулись мы — пусто на улице, захватив винтовки, нырнули во двор, да какими-то переходами, отец Тимофей, оказывается, тут по близости жил, всю географию тамошнюю знал, задними дворами, сквозь пробитые в заборах пролазы, через кучи мусора, переулками, быстренько, с оглядкой, в квартиру его пришли. Уселись, отдышались, хозяйка его, вдова какая-то офицерская, чайку нам согрела, и рассмеялся я:
— Да как же это так, отец Тимофей, одним ударом кулака вы, священник… да когда же вы этому научились?
А он засмущался, опустил глаза в землю и этак скромненько:
— Эх, искушение! Беда моя в том, что силенкой Бог меня не обидел. С детства, можно сказать, подковки я гнул. Да скрывал. Как-то вовсе неподходящее это дело духовному пастырю. Не под масть сану моему. А пистолетик я уже после бескровной революции приобрел.
Во славу Божию. И теперь не каюсь, придет время, дам ответ Отцу моему небесному во всём, что он сам видал и что ты со мной тоже узрил. И скажи ты мне: люди это, православное русское воинство или собаки бешеные? Фронт бросили, офицеров своих зверскими самосудами избивают, грабят, насильничают, воруют, церкви оскверняют. Вот он, народец наш, Христос в полушубке, как его наша прогрессивная интеллигенция называла. Сахарный мужичок, оказавшийся преступником и убийцей. В самых дальних уголках души их, в самых ее потемках, веками рабства загаженных, ничего, кроме злобы, ненависти, зависти, низости, ненасытной жажды напиться кровушки своих бывших притеснителей, нет. Кроме жажды добычи и насилия, ничего в них революция не пробудила. Какими они еще при Пугачеве были, такими они и сегодня оказались. Звери в образе человеческом, тля, сор людской, мразь…
Глянул на меня, перевел дух и вдруг, по-старому, с его детски наивной улыбкой:
— Что, не надеялся от духовного отца такие слова услышать? Нет, друг мой, ничего удивительного. Сами они, солдатушки российские, этому меня научили. Пойди, глянь на калмыка, на киргиза, на татарина, на казаха, на грузина, Господи Боже мой! Да на кого из нерусских ни глянь, никто таких преступлений и подлостей, убийства и грабежей не делает, как эти вот сахарные русские мужички! А кто их этому учил? Не ходила ли интеллигенция русская в народ, не уничтожала ли собственноручно изготовленными бомбами и царей, и князей, и губернаторов, и министров? А для чего? Да для того, чтобы народу русскому волю добыть. И вот волюшка эта, по глупости, неспособности и нерадивости властвовавших, упала народу этому с неба. И показал он себя. И еще больше покажет. А слышал ли ты, фу, да ты же сам к революционерам лип, и, вижу, влип, да, слышал ли ты, что народу с балкона дворца Кшесинской Ленин говорит? Приглашает грабить награбленное, мир хижинам обещает, а войну дворцам. Пока сам в дворцах не засядет и хижины в кулаке не зажмет, да так, что соки и кровь из них потекут…
Спровоцировал меня отец Тимофей на откровенность, и я кое-что ему от себя прибавил:
— Правы вы, отец Тимофей, влип я, как вы говорите, только у меня переворотец внутренний произошел. О Ленине вы упомянули, да в первый раз пришлось мне, тогда еще совсем молодым студентом, в Петрограде, в Палюстрово, увидать его в девятьсот шестом году. Митинг там собрали, всю площадь толпа запрудила, а я к заборчику отошел, а за заборчиком — канава. И вылез на трибуну вот этот самый Ленин и начал торочить. А я, студент, — стою и млею: вот он, трибун наш, вождь, вот кто поведет, вот он, герой. И разве не крикни кто-то: «Каз-заки-и!». Глянул я, а из-за угла, шагом, взвод донцов выворачивает. А тот с трибуны, Ленин, как сиганет, да через головы, по плечам, по спинам, к забору, схватился за верх, подпрыгнул, в момент через верхушку переметнулся и зайцем через поляну, только котелок его в канаву покатился. Тогда он, Ленин, в котелке ходил. Это теперь у него кепка, форма пролетарская. И в момент след его простыл. А в толпе никто и не двинулся, несколько студентов повернулось к казакам, что-то им крикнули, остановили те коней, а впереди их сотник. Смеется и кричит в толпу: «Эй, что это дух нехороший от вашего героя пошел?». Грохнули казаки со смеху, засмеялись и в толпе, начали с казаками перешучиваться, махнул сотник плеткой, повернул свой взвод и за другой угол скрылся. Я не вру это и не выдумываю, а сам своими глазами видал. Но не помешало мне это с ними и дальше связываться, хоть и дало всё виденное в душе моей трещину. И далеко я у них пошел. И теперь еще в полном доверии нахожусь, и особая мне работа доверена, от самого Троцкого.
А вторую лекцию получил я после ихнего в Петрограде восстания, когда два наших полка и орудия в июне всех их поразгоняли. И тогда он, герой и вождь, лыжи свои сразу же навострил и запрятался в Териоках, в Финляндии, и так долго там сидел, пока Троцкий весь петроградский гарнизон, после полного взятия власти в силу октябрьской революции, уже 25–26 октября, к присяге не привел. Лишь тогда только вылез он из своей норы в Финляндии. А когда драпал он, видел я его тоже: бледный, насмерть перепуганный, словом, редкий, жалкий трус. Здорово я тогда задумался. Кричать и призывать к убийствам, грабежу, на преступления целую страну поднять — это он мастер, а как узлом к гузну подошло, так первым в кусты. Ах ты, думаю, слякоть. И лишь когда совсем крепко засели его большевики в седле, только тогда явился назад в Питер. Загримированный, седой, растрепанный, в огромных круглых очках, не разберешь его — не то провинциальный учителишка, не то спившийся тапёр, не то прогоревший букинист, или выгнанный из трактира за пьянство музыкант. И ручки у него трясутся. Противно на него смотреть было, блевать охота. Полез я в затылок, повернулся, и думаю: нет, не для меня, пойду я на Дон…
Прищурился отец Тимофей:
— Простите, Савелий Степанович, личные качества вождя, а, конечно же, прохвост и сволочь он, для нашей идеи не должны быть решающими. Идея остается. Заспорили мы тут с ним и припомнил я ему французскую революцию, сколько они тогда народа перебили. И сравнил тогдашних французских пролетариев с теперешними нашими, такими же кровожадными, как и те, двести лет тому назад. Вспомнили мы с ним все подробности, и порешили с ним вместе, что делать всё надо только так, как на казачьих Кругах делалось. А партии все скассировать и на их место представителей групп населения и специальностей посадить. И точка. Считайте меня как хотите, — сказал мне отец Тимофей, — а я почти что саморасстригся. Причина — двойственная мораль православия. Снарядов нет, а иконы есть. И одуряем мы молебствиями солдат, и прут они с дубинками на пулеметы. И выдумала церковь, что Москва — третий Рим, а Русь наша матушка — новый Израиль, кстати, еврейские погромы устраивавший. И что русская династия прямешенько от римских цезарей линию свою ведет. И сидел у нас непротивленец злу Николай-царь, а им царица-кликуша управляла. Святых провозглашали, монастыри и церкви строили, попов ублажали, а сапог у солдат не было. И домолебствовались до распутинских бдений. И выростили особую мораль в церкви нашей: ничего не видеть из того, что творится, наше дело — жизнь вечная! А монастырям в жизни этой суетной землицу прирезывали, архиереям министерское жалование платили. И на зло и на неправду церковь наша никогда и никак не реагировала. Мужичкам велели попы царствия Божия ожидать. Вот и прибрал его теперь к рукам Ленин. А как же жили мы, что Достоевский сказал: одержимость — характерная русская черта! Вспомним староверов, самих себя в срубах сжигавших. Что-то где-то вычитали, слыхали, искусственную духовную постройку возвели, поверили в нее сами же до исступления и во имя Бога своего сами же себя и сжигали. Вот эта же одержимость и в интеллигенции нашей сидит, и прежде всего в Ленине. Теперь все в марксизм поверили, в мировую революцию. И попрут вслепую, и народ погонят, а ему не много надо, скажи только: круши ребята, крой, Ванька, Бога — нет! И во имя новой веры никому они пощады не дадут. И станут у ворот Европы, которая, как видим мы, с умилением и восхищением на них теперь глядит. И не успеет она оглянуться, ан поздно будет. Эх, люди, люди. Пришел к ним Христос и предложил, понимаете — предложил свою веру. И распяли его. А потом занялись то инквизициями, то крестовыми походами, то религиозными войнами, то сжиганием ведьм. И вот — разочаровались окончательно. И нашли себе Маркса, и поверили в него, благодаря одержимости нашей, только теперь не предлагая религию новую, а заставляя, приказывая, убивая. И никак мы, люди, не поймем того, что на почве земной прививается лишь то, что естественно на ней произрастает, а не из теорий, как из колб, выкипает. Задумался я, и ясно мне стало, что живем мы в период зачаточного, первичного человеческого общества, и что приличное создадим мы только через сотни лет, и по образу и подобию общества казачьего.
Да, попы вот, кстати вспомнить — как попы в Думу лезли: в сорока девяти губерниях на 8764 уполномоченных было 7142 священника. И чтобы не было скандала, допустили их в Думу всего сто пятьдесят. И если гибнет теперь церковь наша, то поделом ей за грехи ее теперь воздается…
И после всех наших разговорчиков дал мне отец Тимофей для вас вот эту цидульку и сказал, чтобы заглядывали вы в нее, когда о революции говорить будете. Из нее поймете вы озверение народа русского, памятуя, что никогда церковь наша против зла и неправды не протестовала.
Савелий Степанович протягивает отцу небольшую бумажку и тот читает медленно и внятно:
«Русский репертуар
Наказания: жестокое наказание, жестокое истязание на теле, казнь.
Битьё кнутом: простое, с пощадою, битьё нещадное, битьё без всякого милосердия».
Приятельница западных философов Екатерина Великая вводит наижесточайшее истязание.
«Способы битья: простое битьё, брали на спину. Битьё в проводку — водили по улице. И битьё на козле».
Царь Иван Грозный шестью ударами кнута убил князя Куракина.
Чем били:
«Кнут — батоги — палки — плеть — шпицрутены — розги».
По указу 1846 года (середина девятнадцатого века):
«10 кнутов — 30 плетям; 50 кнутов — 100 плетям; 1 кнут — 2–3 плети; 10 плетей — 40 розг».
В 1855 году определено давать либо 100 плетей, либо 2000 шпицрутенов. Осуждали до 6000 шпицрутенов, до 300 плетей, до 150 кнутов.
Кнут начало свое ведет от Владимира Мономаха и упомянут в «Судебнике» Ивана Третьего.
Били кнутом весь семнадцатый век, весь восемнадцатый, до середины девятнадцатого.
Петр Великий бил кнутом стрельцов собственноручно. Сестру свою и жену Евдокию, и наследника Алексея».
Прочитав записочку, кладет ее отец на стол:
— Н-дас… допоролись…
Вот, передав это мне, распрощался со мной отец Тимофей, надел рваный полушубок, нахлобучил извозничью шапку, крест за пазуху запрятал, закинул мешок за плечи, попрощались мы с ним и разошлись в разные стороны. Подался он на Урал.
Отец дотрагивается до руки Савелия Степановича:
— Это, так сказать, о духовном… но как же там у вас до большевицкого переворота дошло?
— Что ж, — Савелий Степанович ёжится, — Господу Богу помолимся, гнусную быль возвестим… Итак, после революции создала Дума Правительство и сказала, что выбрано оно Революцией… мастера мы красные словечки говорить! А большевики сразу же свой Совет солдатских, рабочих и казачьих депутатов подсунули. И в Правительстве этом, и в Совете сидел Керенский. После развала фронта и Московского совещания, на котором все казачьи двенадцать войск выступили с требованием дисциплины, порядка и подлинной демократии, сделали Корнилова главнокомандующим. На одном из заседаний Правительства Керенский сует ему записочку: «Осторожней, в нашей среде изменники». Вот как в Правительстве у нас дела шли. Но всё же отправился Корнилов на фронт, дисциплину опять вводить, а Керенский уговорил солдат, и двинулись мы в наступление, и под Калушем разгромили нас немцы в пух. Кончилось полным позором армии Брусилова и гибелью последних порядочных солдат. Фронт погиб. В июле казаки, сохранившие дисциплину и полный порядок, разгромили большевицкое июльское восстание в Петрограде. А Керенский солдат награждает, шлет список Корнилову, и на фотографии награжденных видим мы унтера Волянского гвардейского полка Кирпичникова, собственноручно заколовшего своего офицера в первые дни революции. Казаки в затылках чесать стали, вспомнили и то, как выпустил Керенский всех арестованных по делу большевистского восстания, подавленного казаками. Выпустил их потому, что все они члены Совета. Вовсе казаки задумались. Боясь Совета, знал он его хорошо, посылает Керенский князя Львова к Корнилову с вопросом: согласится ли он на диктатуру? Тот отвечает положительно. Керенский же спешно собирает Временное правительство и заявляет, что Корнилов стремится к диктатуре. Правительство предлагает, по настоянию Керенского, Корнилова убрать. Все главнокомандующие фронтами заступаются за Корнилова. Но Керенский и слушать не хочет. Видя такое подлое предательство Керенского, Корнилов объявляет его изменником и издает воззвание. Слабенькое: «Я, — пишет он в нем, — сын крестьянина-казака, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России. Клянусь повести народ путем победы до Учредительного собрания». И, выходит: Керенский — за мир, а Корнилов — за войну. Корнилов собирает войска и шлет их на Петроград. Как Толстой писал: «Эрсте колонна марширт, цвайте колонна марширт», — пошли верные полки и застряли на путях в Новгороде, Чудове, Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге. Всюду этому делу распропагандированные большевиками железнодорожники помогали. Стоят составы на станциях, ни кормежки солдатам, ни фуража лошадям. Керенский же из этих верных войск вызывает к себе в Петроград генералов Крымова, Краснова, Губина, Грекова и всех их там арестовывает. Крымов стреляется, а многие утверждают, что убили его. Меж солдатами начинаются волнения. В трех полках солдаты арестовывают офицеров. Большевистская пропаганда идет половодьем: царские генералы хотят угробить революцию. Генерал Черемисов открыто переходит к большевикам и вооружает петроградских рабочих, а всё еще прячущийся в Териоках, в Финляндии, Ленин 24-го октября пишет: «Требую немедленного восстания, оно нужно для защиты Петрограда от немцев». А немцы, надо сказать, как раз Ригу взяли. Пропаганда идет и против Керенского: он, де, врагу хочет Петроград сдать. Изменник. Кроме того, Временное правительство саботирует созыв Учредительного собрания, а соберут его только большевики. Керенский земли крестьянам не дает, только большевики это сделают. Керенский гонит солдат на империалистическую бойню, а большевики за мир без аннексий и контрибуций. Керенский спит в кровати бывшей царицы, он социал-предатель и социал-соглашатель. «Вся власть Советам!». Действовать немедленно, можно всё потерять? Вот как Ленин действует. А в Питере всё еще сидят три донских полка, поэтому-то Ленин и носа из Финляндии не показывает, их боится. И обращаются большевики к «братьям-казакам», и, всё хорошенько продумав, решают наши гаврилычи держать нейтралитет!
Двадцать пятого октября заняли большевики вокзал, почту, телеграф. В Зимнем же дворце сидело под защитой женских батальонов и юнкеров Временное правительство. Крейсер «Аврора» выпустил по дворцу один выстрел. Пальнула артиллерия Петропавловской крепости, и две шрапнели попали в Зимний. К вечеру открыли, что в Зимний со стороны Невы калитка одна открыта. И пошли в нее балтийские матросы, тысяч пять их всего было. Переарестовали в Зимнем юнкеров и женский батальон. Зимний сдался. Министров отвезли в Петропавловскую крепость, а поутру издали сообщение: «Зимний дворец, где засели члены Временного правительства, был взят штурмом революционных войск».
После этого ворвалась толпа во дворец, грабить, разбила винные погреба, пьянство началось гомерическое, все из женского батальона были по несколько раз изнасилованы, на улицах началось избиение офицеров и юнкеров, аресты, убийства, грабежи. Так захватили они власть, по их словам, валявшуюся на улице. Задача же их — мировая революция, и, как первый шаг, создание Европейского коммунистического государства.
Переворот этот был ничем иным как захватом власти одной партией, меньшинством, в целях заведения ее диктатуры, вернее, диктатуры отдельных, нескольких лиц, акт, конечно же, контрреволюционный, работа кучки заговорщиков под водительством Ленина. А что такое сам Ленин, лучше видно из его же собственных слов: «В борьбе за власть никакие принципы не должны нас останавливать, нужно быть готовым к каким угодно трюкам, хитростям, незаконным методам, лжи». И еще — «Если для дела коммунизма нам нужно будет уничтожить девять десятых населения, мы не должны остановиться перед такими жертвами». Видали? А дружок его, певец «Буревестника», Горький, разошедшийся с ним еще в тринадцатом году, уезжая за границу, писал ему в письме: «Вы, Владимир Ильич, очень интересный человек, ума палата, воля у вас железная, только те, кто не желает жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от вас подальше. Создателем постоянной склоки являетесь вы. Это же происходит от того, что вы, изуверски нетерпимы и убеждены, что все на ложном пути, кроме вас самих. Всё, что не по-вашему, принадлежит проклятию. Ваш духовный отец — протопоп Аввакум, веривший, что Дух святой глаголет его устами. Сектант вы от марксизма».
Вот и понял я, что с большевиками делать мне нечего, и на Дон подался. Сколько ехал и как, лучше и не рассказывать. Вонь, теснота, сквернословие, грязь, давка, вши, рёв, вой, плач, драки, чёрт знает что, ад какой-то. И лишь уже возле самой донской границы вагон вдруг опустел, светло стало и воздух очистился. Подошел поезд к станции и вошел в мой вагон казачий офицер и с ним два, совсем по-старорежимному подтянутые, казака. Вежливые, чистые, бравые, чуть я их целовать не кинулся! И тут со страхом вспомнил: да у меня же в кармане документ за подписью самого Троцкого, с совсем недвусмысленным текстом об отправке меня на Дон для организации рабоче-крестьянской красной гвардии. Ну, думаю, пропал! А офицер тот спросил меня, какого я полка, а одет я был, конечно же, по-пролетарски, в полушубке и валенках. Сказал я ему, где и с кем служил, разговорились, общих знакомых нашли, сам он усть-медведицким оказался, всю мою родню знает. Так я до Арчады и доехал, а оттуда прямиком сюда.
Совершенно выбившись из сил, тянется Савелий Степанович к стакану с чаем, получает на закуску печенье, откусывает кусочек и, жуя, обращается к Алексею:
— Алексей Андреич, а как же всё у нас, на Дону, было?
Отставив пустую тарелку подальше, пробует Алексей улыбнуться и ничего у него не получается. Оглядывается на Семена, вопросительно смотрит на маму, та пожимает плечами и едва слышно говорит:
— Говори, Алеша, все равно. Когда-нибудь должен же он обо всем узнать.
Повернувшись прямо к нему, все время лишь на него глядя, будто только ему и рассказывая, начинает Алексей спокойно, но с таким выражением, будто и говорить-то ему противно.
— Сначала я о хуторе. Потом о делах на Дону. Поехал я на Разуваев, узнав от отца на Арчаде, что бабушка одна там осталась. И как раз на второй день после всего, что там случилось, туда попал. После клиновского разгрома. Нашел бабушку в каком-то полуобморочном состоянии. Обняла она меня. Молчит. Одной рукой крепко меня за шею держит, а другой по шинели, по рукавам, по плечам, по спине водит. Голову мне на грудь положила, ни слова от нее не слышу, только слезы у нее. Редкие, так, одна за одной набежит в глазу, растет-растет, тронется, покатится по щеке и на пол падает.
А что же было: порешили клиновцы в своем Совете, что все наши хутора теперь им принадлежат. И пошли всем селом, с бабами и детишками, сначала на ваш хутор. Первое, библиотеку твою, Семён, книжку по книжке в разбитые кольями окна выкидывать во двор стали. А под окнами стоявшие, с хохотом и свистом, прибаутками, под гармошку, рвали те книжки и разбрасывали. В речку, канаву, по лугам. А ветер был. И понес он листки по полям, лугам, лесу, на бугры, в балку. А они — гогочут, орут, свистят. А остатки, с переплетами, скидали в кучу и зажгли тут же, под акациями. Погорели они, и акации обуглились. Чуть дом не занялся. Кто-то из стариков протестовал, хотели книги сохранить, да вылез тот же Фомка-астраханец, тот, что Семёна арестовывать приезжал, вылез на балкон и крикнул: «Што при старом прижиме панам хорошо было, то нам ни к чему! Мы сами свои книжки понапишем!». А в ответ ему, конечно же, — «Ура!».
И пошло! Да, а когда они к дому подошли и первый из них начал запертую дверь пешней ломать, выскочил Буян из-под балкона и укусил его за ногу. Ударил он Буяна пешней в голову, а рядом с ним стоявший вилами Буяну бок проткнул. Взвыл Буян, под балкон назад полез, тут его и добили.
А когда с книгами покончили, дележкой мебели занялись. До драки дошло. Двум головы проломили, одному два ребра сломали. А самое деятельное участие в дележке Микита-мельник принимал, вроде за порядком смотрел, себе взял только ту, на резиновых шинах, коляску. Сам он всё это мне и рассказывал, особенно о бабушкиных сундуках, те, что с музыкой отпираются, за них драка началась.
Отца моего, дядю твоего Андрея, тетку твою Веру и Агнюшу с Петром Ивановичем старики клиновские предупредили, чтобы уезжали они от беды с хуторов загодя. Вот и отправились они на Арчаду. Хотели и бабушку с собой увезти, да наотрез она отказалась. Пошла на другой день одна-одинешенька по хуторам, а там всё разграблено, растащено, разворочено, двери сорваны, окна выбиты, доски из полов выдрали и увезли, на кладбище нашем ограду и кресты поваляли, поломали, повывернули, в кучу сложили обломки и подожгли. Могилки порастоптали и опоганили. Так, будто стадо бешеных свиней всё поразрыло. И всё погорело, только верхняя перекладинка с дедушкиного креста с частью надписи осталась, обугленная и обгоревшая, только и разобрать на ней: «…сковой старши… сей… вано…». Это всё, что от кладбища осталось. Принесла бабушка ту головешку домой, на Разуваев. И икону Николая-чудотворца, что в конюшне у коней висела, затоптанную в навозе нашла, отмыла и тоже забрала. Вот и сидят они теперь с Анной Ивановной целые долгие вечера, глядят на огонек лампадки и молитвы шепчут… да, а хутор дяди Петра Ивановича почему-то соломой обложили и дотла сожгли. А свиней порезали и поделили, оставил он их на рабочего, не было времени угнать. Да, забыл: дедушкин дружок в Разуваеве помирать решил, лег в передний угол, велел ему икону в руки дать, прошептал: «Ныне отпущаеши», до конца — трижды окрестился и помер…
Алексей замолкает. Страшное, жуткое молчание воцаряется в зале. Опустив голову на руки, закрыв ладонями лицо, сидит мама как-то неестественно, лишь видно как падают слезы ее на скатерть. Отец потемнел, глядит себе под ноги, курит одну за другой быстро сгорающие папиросы. Лишь коротко на них глянув, отхлебнув чая, продолжает Алексей:
— А на Дону, ох, там что-то делать пробуют… А с Калединым вот как дело было: вернувшись с Московского совещания, решил он станицы объехать, забрал адъютанта и с ним вдвоем в северные округа отправился. Не было его в Черкасске, когда 29 августа, никому не известно кем, по всей России телеграмма разослана была: «Атаман Донского Войска Каледин присягнул Корнилову и грозит прервать сообщение Москвы с югом». Явная, подлая, открытая большевистская провокация. Керенский объявляет Каледина изменником, отдает под суд и требует его явки в Могилев для показаний, в специально для этого образованной Чрезвычайной комиссии. А помощник Каледина Митрофан Богаевский по Дону сполох ударил. По всем станицам летучки послал. Круг на экстренное заседание созвали. И постановил наш Круг: с Дона выдачи нет. Не дадим атамана нашего Москве на убой. А Советы по нашей границе комитеты спасения революции организуют и Царицынскому комитету поручают Каледина ликвидировать. Немедленно посылаются из Царицына два вагона с красногвардейцами на Дон, а Каледин, ничего не подозревая, объезжает станицы, добирается до станции «Обливской» и сидит там в ожидании поезда из Царицына на Новочеркасск. И в последнюю минуту предупредили его, что к этому поезду, который он ожидает, два вагона с красногвардейцами прицеплено для его поимки. Ускакал он в степи и спасся.
После же захвата большевиками власти в Петрограде послал наш Круг телеграмму Совету рабочих и солдатских депутатов: «Донское правительство захвата власти одною частью населения никогда не признает». Другими словами, у нас теперь с Москвой война будет. Попрет Россия на Дон!
Отец прерывает Алексея:
— Ну, причем же тут Россия? Большевики!
Алексей криво улыбается:
— Ах, дядя Сережа, а кто же большевики, не русские?
— Да Господь с тобой. Обманутые, распропагандированные интернациональной сволочью рабочие и солдаты. Причем тут наша несчастная Россия.
Алексей пожимает плечами и смотрит на часы:
— Спасибо, тетя Наташа. А мне — пора. Буду собираться. Хочу теперь выехать, по-темному оно лучше.
В наружные двери стучат. Быстро поднявшись, выходит отец и возвращается с сотником Коростиным. Едва поздоровавшись, усаживается тот к столу, обжигаясь, пьет чай, качает головой и вздыхает:
— Та-ак, дождались. Поднялась Русь сермяжная. Покажет теперь она нам сорок четыре диковинки. Слыхали вы или нет про Николушку-блаженного? Годков вот уже с двадцать он у нас летом и зимой в одной рубахе, босиком ходил. Люди ему денег и хлеба давали, хлеб он съедал или птицам скармливал, а деньги в подворотни или на подоконники бедным клал. Никому зла не делал, тихий-мирный был. А пришла бескровная, и изменился. Перестал деньги брать, кто бы ни дал, на землю их кидает. Будто противно ему или обжегся. И начал со столбов декреты срывать, сорвет и жует. И выплевывает. Соблазн получался: декреты новой власти Николушка разжевать не может и одно знает — выплевывает их. А знаете вы того матроса, что на карем жеребце скачет по городу, власть он большая, бескозырка на нем флотская с надписью «Потемкин». Вот вчера грех и случился, увидал он, как Николушка такой один декрет сорвал и жевать начал, выхватил маузер да одним выстрелом и уложил Николушку… И дальше поскакал, даже и не оглянулся. Весь день Николушка на улице провалялся, ночью его кто-то забрал… Да, забыл, еще одна новость, Кушелева полковника, арестованным он в Городской Думе сидел, погрузили на баржу, в Царицын вместе с арестованными купцами повезут. А там не шутят, одну такую баржу с арестованными офицерами, священниками, купцами и богатеями вывели на середину Волги да и потопили. Человек, говорят, с пятьсот народу в ней было.
Снова стук в наружную дверь. Господи, уж не арестовывать ли пришли? Воцаряется жуткое, страшное молчание. Хлопнув себя по карману, вскакивает Алексей, а за ним и Савелий Степанович, и оба они выходят. Слышен приглушенный разговор, шаги по лестнице. Вот неожиданность: братья Задокины приехали! Не садясь, говорит старший:
— Натальпятровна и Сергеликсевич? Две троечки наших тут по близости, у верного человечка, стоят. Кум наш Онисим в Царицыне он. Матрос. У власти человек. Шишка. Переказал: заберут вас здесь завтрева или послезавтра, ночью. Сбирайтесь враз, сычас восьмой час, а они в полночь сбираются, штоб верней захватить и без шуму лишняго. А мы вас на Липовку степной дорогой, оттель на Дон, в хутор Писарев, предоставим, так мы с отцом порешили.
Мама и отец беспомощно переглядываются. Алексей снова хлопает себя по карману, но вовсе это не карман, а кобура, и говорит быстро и решительно:
— Дядя, одевайтесь с тетей и Семёном, забирайте оружие и айда!
Поднявшись с места, убегает мама, уходит, прихрамывая, отец. Через пять минут мама возвращается с маленьким саквояжем, схватив сына, выводит его в коридор, одевается сама и одевает его. Вот он и отец, уже совсем готовы. Коростин побледнел и глядит, как потерянный:
— Ну, дай вам Бог, а куды ж я-то теперь денусь? Савелий Степанович что-то ему шепчет, и светлеет его лицо:
— Вовек не забуду. Завтрева же, а я — сам пять!
Семён быстро вбегает в свою комнату. Ночь лунная и льется в нее призрачный серебристый свет. Закрыв глаза, слышит он, и не слышит, видит, и не видит то, что вокруг него делается. Совсем смутно виден висящий над кроватью портрет наследника цесаревича. Совершенно растерянный быстро в последний раз смотрит он свою спальню:
— Прощай, комната…
Мама берет его за руку и тихо, неслышно выводит во двор. Все идут к задней калитке, ведущей к соседям, на другую улицу. Ворота крепко заперты: в городе, что ни ночь — грабежи. С пристани доносятся выстрелы. Пробираясь задами меж заборов, сараев и темных домов, проходят все к последней калитке, та открывается на условный стук, и вот они — две тройки, с застоявшимися, фыркающими лошадьми. Быстрые пожатия рук, Савелий Степанович исчезает вместе с Коростиным, бояться ему нечего, у него бумажка, подписанная самим Троцким, Алексей выскакивает из проулка на своем рыжем, козыряет, и нет его за первым же углом. Медленно и тихо идут лошади по спящим улицам, сворачивают то вправо, то влево в темные переулки, и вот он — выезд из города и притихшая под луной приволжская степь. Старший Задокин останавливает лошадей, выскакивает из телеги и подходит к ним. Поплотней подтыкая полость, говорит совсем спокойно:
— Кой-какими бумажками запаслись мы. Теперь на Карабуста держать будем, а там влево возьмем, степью, переднюем у нас на кошу, чтоб в Липовке зря собак не дражнить. А там папаша наш вас дожидает, отдохнем, да вечерком на Писарев. А теперь держите за нами, мы рысью и вы, мы шажком и вы придержите, мы вскачь и вы за нами, так-то веселей будет.
Луна скрылась за облаком, лошади идут ходко, в полушубке совсем тепло, монотонно стучат колеса, однозвучно, тупо бьют в землю подковы, спать хочется, спать…
* * *
Проснувшись, ничего Семён не понимает: направо и налево высокие, пологие, голые бугры. Тележку, в которой он лежит, подкатили задком к низкому, крытому соломой сараю. Широкие двери его открыты и несутся оттуда запахи сена, навоза, лошадиного пота. Слышно как фыркают, переступая с ноги на ногу, кони. Ага, значит, это они на задокинский кош приехали. Подняв голову, видит он перед собой большой, сбитый из шелёвок вагон, с трубой и мутным окном. От него бежит узкая, в одну колею, дорожка, мимо заросшего талами и терном родника и вытекающего из него хлопотливого ручейка, исчезающего дальше в вербовых зарослях. Быстро поднявшись по ступенькам в вагон, толкает он двери, и улыбаются ему и мама, и отец, и братья Задокины. Старший Задокин держит в руках только что распочатый цибик чая и обращается к маме:
— И еще раз спасибо! Ить это же догадаться надо: бросила целый дом добра, а вот чайку хорошего захватить не забыла, а-а, Семушка, проходи, да вот родителю нашему руку дай, познакомься.
Старик Задокин протягивает ему жилистую, крепкую руку, он здесь хозяин. Сыновья стушевались, сидят смирно, только слушают и исполняют всё, что отец скажет. И первый его вопрос к младшему сыну:
— Што там, как наш дозорный?
— Службу сполняет. Там ему, почитай, на пятнадцать верст видно. Я ему трошки выпить и закусить отнес.
— И правильно сделал. А теперь — самоварчик проворь.
Старший Задокин ставит на стол закипевший самовар, пар валит из него тонкими струйками и развешивает на нем старик подрумяненные, аппетитные бублики.
— Во, Наталь Пятровна, так оно способней, бублички на пару разогреть, а потом маслецом их промазать, на две половинки разрезавши, по-волжски. Ну, благослови трапезу, святитель Николай. С прибытием вас, дорогие гостечки, прошу вас хлеба-соли отведать.
Чай разливает мама такими привычными движениями, так непринужденно, будто только и делала она в жизни, что в этой будке-вагоне чаи распивала. Говорят с ней хозяева коротко: мине чудок покрепше, или — а мине пожижей, и лишь теперь вытаскивает старик Задокин из кармана припасенную им бутылочку и передает ее старшему сыну.
— Ну-кась, сынок, потчуй!
Закусывают, чем Бог послал: колбасой, солониной, жареной холодной рыбой, косточки от нее плюют прямо на пол.
Старик Задокин продолжает, видимо, давно начавшийся разговор:
— Мине отец мой рассказывал, пришлось ему по какому-то делу в Охотном Ряду в Москве быть, как раз за год до Турецкой войны, в 1886 году. И только он туды бороденку свою сунул, а вот они — стюденты с книжками своими сицилистическими и давай народу книжки те раздавать. А охотнорядцы, мясники, парни молодые, как бугаи здоровые, выскочили из своих лабазов и зачали тех студентов бить.
— Г-га! Народ против царя-батюшки смушшать! Бей их! Да как зачали тех стюдентов, кто кулаком, кто поленом, кто чем попадя, да по головам, да по холкам, да по рукам-ногам. Пока полиция прибегла, наклали они их целую кучу. Покотом стюденты лежали. Отволок одного такого битого папаша мой в сторону, водицы ему испить принес, а тот зубами об стекло стукотить, пить не пьет, а одно твердит:
— Тык мы же за народ, мы же для народу…
Почесал мой отец в затылке:
— Эх, сынок, — говорит ему, — когда я коня мово ковать веду, то завожу я яво в на то дéлковуя стойло, да привяжу получше и только тогда ссзаду к нему подхожу. Понял ли ты меня, ученый ты челоек, ай нет? Хучь и на пользу коняке моему я то дело делаю, одначе карахтер яво знаю, и с опаской всё зачинаю. А вы к народу лезете, тот народ сами из ваших же книжков узнавши. Не, браток, не с того конца зачинать надо. Вперед ты годков с пятьдесят поучи нашего брата так, штоб деды, отцы и детишки грамотные были, и лишь посля того книжками яво потчуй. Да не только такими, где пишете вы как царей убивать надо, а такими, в которых написано, как народу землицы достать, как с яво хозяевов поделать. А не учить яво, как он кровь проливать должен… — так отец мой тому стюденту говорил, а я вот дожил до того, што боюсь, што царь наш бывший, дроворуб наш, головы своей но сносит. Ить когда еще трон он свой принимал, што он тогда с разбегу сказал: а то, штобы народ никаких мечтаниев не имел, штоб земские представители во внутреннем управлении участвовали. Слышать, мол, он этого не желает. А посля всех делов Иванова-генерала послал усмирять, потом на ответственное министерство согласие дал, суды-туды путлял, да взял и отрекся. И пришли теперь к власти сынки энтих, которые народ учили, как царей убивать надо… Да, вспомним одно: в четвертом году министра Плеве убили, в пятом генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея бонбами в куски разнесли, вот оттуда все оно и идет. И зачалась теперь в народе расшатка, вон клиновские мужички уже себя показали. И приходится теперь вам от русских в казаки уходить. А делать бы всё другим концом — вон как у вас дружба с нами, с Задокиными, с мужиками, с шабаями получилась. И приезжали мы, шабаи, к вам, дворянам российским, и сажали вы нас за стол, и разговоры с нами вели, будто ровня мы. Вот этот рецептик, да по всяей России распространить…
Отец оживает:
— Боже мой, Россия… народ русский, он же за царя, вы же сами рассказали про тех охотнорядцев… да-да, а это всё, что творится, дело немецких козней, иностранной агентуры… интернационал…
Задокин смотрит на отца так внимательно, будто конь это, которого он купить хочет.
— Я, конешно же, вашевысокблагородие, мужик простый… ну, так я думаю, што никто меня душить не научить, коли я сам душегубом не родился. С корню это у нас идет! А што наши особый, Маркса какого-то, колер на всё наводят, так это для того, штоб народ старую свою правду забыл, а за ихней, за новой брехней, пошел.
Семёну ясно только одно: ни охотнорядцами, ни Марксами теперь ни Буяна, ни библиотеки ему не вернуть. Что тут зря толковать, лучше пройтись на лошадей поглядеть.
Коренник только покосился, тряхнул головой и снова налег на ячмень.
А не пойти ли к дозорному, вон он, на бугре, под кислицей, укутался в тулуп, надвинул на глаза заячью шапку. Как-то он его встретит…
— А-а-а! Не иначе, как сынок господина Пономарева-офицера царского! Коли не грешу — Семёном звать. Дозорный пункт мой поглядеть препожаловал, так, ай нет?
Кудлатая свалявшаяся борода, огромные усы, на глазах густые брови, всё рыже-грязного цвета, и всё это каким-то чудом весело расхороводилось, расплылось в улыбке, и нет никакого сомнения, что добрейшей он души человек.
И Семён улыбается ему открыто и широко:
— Здравствуйте, дедушка!
— Здравствуй, здравствуй! Вот подвинусь я трошки, а ты и садись на полу, здоровый он, в ём роту солдат укутать можно, тулупом моим. Да ноги-то, ноги укрой. Во, в порядке. Да, а вы, значит, того, в отступ пошли? Ну и правильно, очумел народ. Вон и Мельников лыжи навострил и Обер-Нос в Арчаду умчал, и Манакин-господин, три тыщи десятин земли у него, и тот счез, и Персидский, знаменитого героя внук и наследник, и тот куды-то пропал. И майорша ваша, на што только баба, и та, говорят, аж в Новочеркасск подалась. Об остальных дядьях твоих и тетках уж и не говорю я — всех, как хмылом, взяло. Вы последними тягу даётя. И правильно — а то, ежели запопадут, милости у них не проси. Остервенел народ. Вон учил нас поп наш, говорил: «Не убий», а теперь сидит, прижух, бороденка у яво трусится, и одно знает: прислухивается, не идут ли к нему, штоб и с яво мученика исделать. Стой, стой, а ить во-он, вон, глянь, никак ктой-сь верьхи суды гонить. Тю, бяги ты, заради Бога, в кош, скажи: от Зензевки ктой-сь суды прёть… нехай в скирд уходють…
Быстро, будто уходя от погони, идут все к скирду. Огромный, длинный, стоит он тут же, за сараем, тянется на добрых двадцать саженей. Чесалась об него скотина, рвали его ветры, тянули с него на подстилку и на подтопку, и стоит он, как гигантский длинный гриб с нависшими сверху желто-бурыми космами перепревших, почерневших, плотно слежавшихся лохмотьев. В самой середине его разрывает старик Задокин бок скирда, показывает на открывшееся темное отверстие и почему-то шепчет:
— Ржицу мы тут сеяли, да, а вы залазьте, залазьте, а мы посля всево гукнём!
Нужно опускаться на четвереньки, ого, да тут целую комнату выдергали, даже кое-где кольями приперли. И тепло, только темно, хоть глаза выколи. Узкий вход быстро забрасывают снаружи. Мама села рядом с отцом, посадила сына перед собой, крепко обняла его, положив его голову себе на плечо. Все обратились в слух, и, как ни стараются хоть что-нибудь разобрать, ничего сюда, в мертвую эту тишину, не долетает. А что, если вовсе это не кто-то из Зензевки, а они, красные… Ох, да, определенно солому снова разбрасывают снаружи, слышны шаги и смех, уж ежели смеются, значит, всё хорошо. Свет пробивается через узкую дыру, в просвете появляется старший Задокин и тянет маме руку.
— Вылазьте, пронясло! Липат из Зензевки коня напоил, да назад и потрюхал. Верный он человек, свой, только штоб вас он видал, ни к чему это. Заходитя в будку, чайку попьем, да и в дорожку, как солнце сядет, так и поедем. Да, всё ничаво, тольки вот, при мальце говорить как… дело такое…
Отец отвечает быстро и решительно:
— Говорите прямо, нам теперь ко всему привыкать надо. Отминдальничались.
Но лишь после того, как выпили чая, сообщает им старик:
— Липат это был, Липат, наш он человек. Не все мы убивцы и христопродавцы. Теперь верховодят энти, што ни кола у них, ни двора, беднота, пропойцы, лентяи… И мы вот, мужики Задокины, а тоже теперь с опаской оглядываемся, да, не известно, как ишо всё повернется. А Александр Иванович ваш, Обер-Нос, и скажите вы мине, чего ему надо было — уехал и уехал, так нет же, вернулся, и через сад к заднему крыльцу. И зачал от окна доску отрывать, в дом залесть хотел, сам он, уезжая, дом забил. Тут яво сзаду за руки и схватили: «Стой, ты чаво народное добро грабишь? Бей яво!». Обомлел он, на колени упал, просить зачал. Говорит Липат, будто заплакал он, Обер-Нос. Да рази народ теперь такую жалость имеет? Вперед колом его по голове вдарили, а потом пешней звизданули… Да, ну да бросим, бросим об этом, ишь Наталья Пятровна вся, как есть, бледная, будя, коней запрягать надо.
…Ночь совершенно безлунная, лошади бегут дружно, дорожка, видно, знакомая, хорошо подмазанная тележка катится легко и неслышно, крепко прижав сына, смотрит мама в темноту и молчит.
Старший Задокин облегченно вздыхает:
— Наталья Петровна, вот переедем вброд через речку, и в Донщине вы. Ускреблись! Крепко, видно, бабушка ваша за вас Богу молится.
* * *
Маланья Исаковна смотрит на отца крайне подозрительно. Сразу же видно, что всё, им сказанное, истолковывает она по-своему. Маленькое личико избороздили морщины, волосы цвета конопли прикрыты головным платком, еще совсем живые глазки полны сомнения и недоверия. Слушая, удивленно поднимает она брови, недоуменно смотрит на всех в комнате сидящих, крутит головой и вдруг решительно прерывает рассказчика:
— Могёть быть, могёть… тольки ежели такие, да ко мне явятся, враз я их вопрошу: «А ты мине добро мое наживал?». Слыхала я, говорять люди, будто обратно по всяей Расее бунты зачались. Да што ж тут нового? Вон ишо на моей это памяти, да и архиерей наш говорил, што при отце таперешняго царя нашего всяво пятьсот шистьдясят бунтов было, а царь-то всё одно усидел. Ишь ты — солдаты воявать не хотять, рабочие не работають, мужики не пашуть, так энто же в Расее, а ни у нас на Дону! У ней, у Расеи, сроду мода была бунтовать!
— Тетя, дорогая, да поймите же вы, что теперь совсем иное дело пошло. Вся Россия на дыбушки встала. В Царицынском уезде ни одного помещика не осталось, все разбежались. Наш Ольховский пристав уже месяца четыре как исчез!
Горница, в которой все сидят, чистенькая. Тюлевые занавески на окнах белы, как снег, подоконники заставлены горшками с цветами, застлана горница новыми, самодельными половиками, деревянные вымытые лавки блестят, блестит и черная, разрисованная золотыми львами, голландская печь. Тихо, уютно, спокойно, пахнет чебрецом. Не такие разговоры в такой горнице вести. Дядя Ваня, белый он стал, как лунь, стрижется по старой своей привычке под нуль, поэтому и выглядит вечно, как ежик. А тетка не унимается:
— Што ж, поймали убийц Обер-Носовых?
— Тетя, дорогая, — отец беспомощно оглядывается на маму, — да поймите же вы!
— И понимать мине неохота! Да што же это, Пугач, што ля, обратно пришел? Чего же царь глядел? Аль у няво верных гиняралов не было?
Подсев к тетке поближе, пытается отец снова, с самого начала, объяснить всё то, что происходит в России. Тетка слушает внимательно, но видно, что, как она ни старается, в толк никак взять не может.
— Так… так, ривалюция, говоришь. Здорово! Дожились, можно сказать. А я табе скажу, што настоящих людей на свете нету боле. Да как же это случиться могло, штоб на Божия помазанника руку подняли? И штоб никого по всяей Расеи не нашлось, хто б за няво заступилси? Одно выходить: либо царь тот никчамушный был, либо круг яво изменшшики и сволоча сидели.
Эти слова страшно коробят отца.
— Да Бог с вами, тетя! Как так — царь никчемушный! Совсем дело в другом было: солдаты, понимаешь, распропагандированные… на площади, на улицы вышли…
— Ага! Это значить, как при декабристах при энтих… А што ж царь антиллерию на них не послал? Кавалерию не кинул? Эх, Бакланова нашего яму бы аль Красношшёкова-гинярала. Энти враз солдатне той показали бы, где раки зимують. А нас с братом не пужай ты, Сергей, топорик мой, вон он, доси у притолоки стоить, спросю я их: «А вы мине добро мое наживали, а?».
Дядя Ваня всё помалкивал, но и он не выдержал:
— Вижу я, Сергей, о царе ты очень горюешь. А скажи ты мне, где же вы все, дворяне царёвы, были, когда он, как неприкаянный, в поезде по всей России мотался? Что же вы, те, кто милостями его жил, не выручили царя своего? А теперь — после драки, кулаками машете. Никак вам, видишь ли, без царя не нравится. Ишь ты. А скажи ты мне, Бога ради, кто же царей этих в России посадил, как не мы, казаки донские? Межаков наш в шестьсот тринадцатом году боярам на стол цедульку поклал, а на ней голос свой казачий подал за Михаила Кошкина-Романова. Да еще цедульку ту шашкой своей придавил. Для весу. И что потом летописец написал: «Прочетше атаманово писание, бысть у всех единогласен и единомыслен совет». И как не быть тому совету, когда за атаманской цедулькой пять тысяч дисциплинированных казаков стояло. А остальное всё на Руси тогдашней — унеси ты моё горе было! То-то. И вот скажу я тебе — с Россией, с ней у нас только и того связи, как через царский род, нами ей на престол посаженный. Спихнули его русские, и у нас с Россией никаких общих дел нет. А что ты говорил, будто теперь Россией какие-то псевдонимы правят, вроде Ленина-Ульянова, Троцкого-Бронштейна, Стеклова-Нахамкеса, так это у них сроду так в заводе было. Даже царский дом их — Кошкины-Романовы, Голштейн-Ротдебские. И еще тебе скажу — кабы он, царь твой, настоящим хозяином был, так просто его не спихнули бы. Возьми вон отца моего, какой хозяин он был, работал на быка, а бык на него — казака. А теперь попробуй меня пощупай, сколько добра у меня, несмотря, что хромой я. А есть у меня три куреня? Есть! Мельница водяная, не хуже твоей, есть? Есть! Скота шестьдесят голов держу? Держу! А деньжат столько у меня, что, ежели захочу, то и весь хутор Писарев куплю. И с потрохами. Да еще в кармане на разживу останется. А царь твой? Какое ему хозяйство отец его оставил? А он что? Эх, не об нем теперь нам думать, а об том, сколько, может статься, через него — дурака, горя мы все примем.
Отец ерзает на стуле, хочет что-то сказать, да перебивает его тетка:
— А што ты об дяньгах моих гуторил, лучше боле и не поминай. Ишь ты, приехал сроду раз, когда нужда загнала, и первые слова у няво об моих золотых. Сама я их, бис тибе, насбирала, сама и блюсти буду. И нихто нехай под них не подлабунивается — ни бунтари, ни сродственники. Никаких я твоих солдатов не боюсь. И боле ты мне об этом не толкуй. Помястилси у мине, и живи, есть-пить, Богу слава, всем хватить. Горницу вам дала хорошую, перины новые, подушки пуховые, кизеку хватаить, хушь год живи, копейки с тибе не спрошу.
Отец чуть не вскакивает со стула, но сдерживается.
— П-прос-стите м-не, т-тетя, ничего я вашего не хочу, я только предупредить…
Та только отмахивается:
— Об чужом не болей. А ты, Наталья, вот што — пойдем-кась на кухную, вареников наварим. Творогу того у мине, должно бочки с три. И куды они, скупшшики, подявались, никак я не пойму.
Отец занялся портсигаром, молчит и дядя. Усевшись у окна, смотрит Семён на улицу и ничего, кроме занесенных сугробами плетней, не видит. Бросив на отца короткий странный взгляд, уходит мама с теткой.
Вот уже третью неделю живут они на Писареве.
Отдохнув лишь один день, уехали Задокины в ночь. Прощались так, будто и не надеялись больше свидеться. Уже сидя в тележке, сказал старший брат:
— А мы с отцом так порешили: как станет Волга, так и подадимся мы на Дубовку, а оттоле на тот бок, да к киргизам. Энто люди порядошные, там дело вернее. А от своих вовремя уходить надо…
И выпал снег, и дунули ветры, и замели, запуржили все стежки-дорожки. Затопили бабы печи и пошел дым из труб прямо в небо. Столбом. Ох, к морозам это.
* * *
Прошли рождественские праздники, набегался Семён по хутору с христославами, намерзся, мотаясь по заметенным снегом проулкам, надекламировался и напелся рождественских тропарей и молитв. Собралось их, казачат-одногодков, человек двенадцать, ходили они с раннего утра чуть не до обеда, хутор-то, слава Богу, чуть ни пять верст длиной, протянулся по речке Ширяю бесконечно. Пока добежишь от одного двора к другому, во-взят умориться можно. Принимали их дружески, расспрашивали, кто чей, истово крестились, слушая довольно нестройное их пение, а учил ребят всему неожиданно оказавшийся великим мастером этого дела сам дядя Ваня. Помнил он и знал всё, что нужно, и не только духовное, но и шутки и присказки. Радовало всё это казаков и казачек, особенно теперь, когда, как люди говорят, будто бы Бог в отставку уходит. Отслужился.
Дружно начали гнать самогонку, пшеницы, слава Богу, хватает. К праздникам жарили и варили, и пекли, ну, совсем так, как в мирное время, три дня пропьянствовал хутор, увидя снова многих своих служивых, пришедших домой из полков, лишь теперь оттянутых к границам Войска. Держались они замкнуто, говорили неохотно и осторожно, слушали с явным недоверием, отвечали часто сердито и коротко, а иной раз и с озлоблением. Знали, что живет у них на хуторе, у своих родственников, бывший офицер и помещик, но ничего против него не говорили, шапок же не ломали, и, если заговаривал он с ними, отвечали неохотно и туманно. Лишнего же никто себе не позволил.
Поделили христославы содержание четырех полных мешков и, получив свою часть, притащил Семён к тетке увесистый оклунок, набитый пирогами, колбасами, салом, жареным мясом и птицей. Больше всех обрадовалась тетка:
— Молодец, плимённичек!.. Теперь всем нам дня на три хватит. Своего добра трогать не надо. Гля, хтой-тось и яиц вареных наклал. Слава Богу! А то куры наше вовсе нестись перестали. Бяда да и только!
Удивился он словам тетки, знал, сколько этого добра лежало у нее в кладовке, на чердаке, в новом курене, в погребах и на леднике!
А сегодня, когда праздники уже давно прошли, получил отец от соседей, казаков Морковкиных, три кольца колбасы и принес ее домой. Осмотрела ее тетка критически, понюхала, помяла пальцами, осталась довольна и велела племяннику пойти в погреб за кислой капустой, да никак из новой бочки не брать, а из той, што налево от входа стоит, из той, што старой ватолой прикрыта, да стенки хорошо поскрести, там ее, капусты, страсть еще сколько на стенках…
Полученную отцом колбасу жарила мама на огромной сковородке, уложив кольцами. И такой дух от нее пошел, что разволновался дядя Ваня, и захромал в свою комнату, там у него в шкафу, в самом нижнем углу, есть еще из старых времен, соблюл он ее, бутылочку одну. Натушила тетка капусты с перцем и лавровым листом, шкворчащую сковородку принесли прямо с плиты и поставили на чисто вымытые доски кухонного стола и, перекрестившись, подсунул дядя Ваня свою тарелку поближе к сковородке и только сказал:
— А мне, Натальюшка, вон энтот, поджаристый… — как застучали в двери, и слышно было, што вошло в прихожую сразу несколько человек, завозились там, обметая с ног снег, распахнули дверь, и сбились на пороге старик Коростин, Савелий Степанович, а за ними Ювеналий, Валерий, Виталий и Евгений. Все они молча разматывали башлыки, снимали шубы и искали глазами место, куда бы всё это положить можно было. Первым подал голос старый Коростин:
— Хлеб-соль!
Подобрала, было, губы тетка, метнула глазами на почему-то смутившегося отца, но сразу же отошла, и, пока все здоровались, самолично метнулась в погреб и вынесла оттуда, начав новую кадушку с капустой, столько ее, сколько надо, да, считая на каждого гостя, и по кольцу колбасы, своей, домашней, ничем не поступающейся принесенной отцом. Придвинули еще один стол, натащили стульев и табуреток, принес дядя Ваня еще одну бутылочку из своих неприкосновенных запасов, налил всем пьющим и непьющим, не спрашивая, и хватили по первой, крякнули, глянули друг на дружку и еще по одной выпили. Навалился народ на колбасу с капустой, мотнувшись еще раз в погреб, принесла тетка маринованных грибов, помидоров, соленых огурцов, моченых арбузов, нашелся стоявший где-то чугунок с вчерашними щами, объявилась жареная курятина, и долго трудились все над этим добром, пока не отвалились на спинки стульев. И пошла мама хлопотать с самоваром, а тетка за сухарями к чаю.
Лишь теперь передал Савелий Степанович привет от бабушки. Никто ее там не обижает, живет она по-прежнему в Разуваеве спокойно, кур-гусей перегнала она туда своевременно, голодать ей не приходится, молится она за всех Богу, но ни за что никуда с хутора не уедет. Прислала она Семёну две пары шерстяных чулок, сама связала, да две же пары отцу, да маме шаль верблюжьей шерсти, а Маланье Исаковне фунтов с десяток пшена хорошего, еще в прошлом году на собственной мельнице они его на драчке надрали. Знает она, что Исаковна кашу пшенную страсть как уважает. Дяде же Ване велела бутылочку одну передать. Нюхнул он ее, и расплылось лицо его в счастливой улыбке — перцовка. Да такая, что теперь днем с огнем не сыщешь. Ай, да бабушка Наталья Ивановна! Вот это уважила!
И рассказал Савелий Степанович, что счастливо доехали они с Коростиными до Разуваева. Удалось ему от Камышинского горсовета бумажку нужную получить и раздобыть подводу. Алексей же, погостевав у бабушки дня с три, ускакал к Каледину, в Черкасск. О Гавриле и дяде Воле никаких вестей нет. Скрываются где-нибудь, полки их, как слышно, вовсе покраснели, к Подтелкову в подчинение пошли. Бабушка теперь не в Ольховку, а на Гуров, к отцу Савелию, ездит, иной раз там и по три дня остается, просвирки она печь взялась. Считает это дело хорошим для спасения души, спокойней стала, вроде как не от мира сего. Иной раз песенки напевает, а любимая ее — «Снежки белые, пушистые…».
Оставив взрослых, уходит Семён с братьями Коростиными в боковую горницу, где сегодня хорошо протопили, и слушает от них камышинские новости. Здорово там тот матрос, с которым Семён на рыбальстве познакомился, озлился, когда узнал, что ушли Пономаревы. И как раз в ту самую ночь, в которую уехали они, явился он с красногвардейцами отца забирать, а их и след простыл. А дня через два сам в их квартиру вселился.
— Спит на ваших кроватях, и с ним баба, та, что раньше у кино «Аполло» семечками торговала, знаете вы ее хорошо. Хорошие у нее семечки были, крупные. И теперь она, баба эта, как по-английски говорится — ферст леди! Водку глушит, напившись, песни орет вместе с матросами и солдатами, а когда здорово наберется, говорят люди, будто матросу тому и морду бьет.
И баталера они один раз видели, о нем такой разговор, что реже стал он в Совет ходить, будто черная кошка промеж них с тем матросом пробежала.
— А Иван Прокофьевич вовсе от всего отказался и, говорят, что пока еще держится он, а как долго будет — никто не знает. Марь Маревна же его из Питера и глаз не кажет. Будто далеко она там пошла… вовсе далеко. И во всех отношениях. Ну, да Бог с ней. Жалко только Ивана Прокофьевича и детишек.
— А в городе все магазины закрылись, многие из них, особенно погреба ренсковые, поразбивали солдаты и матросы. Ночью они орудуют. Поднимут стрельбу в одном конце города, драку учинят, или подожгут что, милиция туда, а они, налетчики, в другом конце с ломами и пешнями, с парой коней добрых, к нужному магазину подскочут, двери враз разобьют, замки враз посшибают, нагрузят всё, что под руку попало, и — айда. А обыватель, простой городской житель, сидит, трусится, прижух, и что его потом не спросят — и видом он ничего не видал, и слыхом не слыхал. И Миллеру оба магазина разбили, говорят, что три подводы мяса, колбасы, окороков увезли. Знают люди, кто всё это проделывает, ведь, почитай, полгорода ограблено, а все следы в казармы пехотные ведут. А к ним еще и матросы пришли, человек с сотню. И что ни день, то пьянство у них, галдеж, песни, стрельба, а то и драка. Во вкус вошли, обыски делать начали. Всех, кто побогаче, пообыскали. У купцов всё, как есть, позабирали. Один было заартачился, ну и ширнул его солдат штыком в живот, а купец закричал не своим голосом, прибежала купчиха, и ее прикладом по голове. Да знаешь ты купца этого, красным товаром он на Саратовской улице торговал, Терентьев по фамилии. Лишь наутро, а обыск ночью был, решились соседи в дом зайти, всё боялись, больно уж тихо в доме-то. Позвали милицию, а там не милицию, а и попа надо: лежат они оба мертвые, поколотые, порезанные, кровью подплыли. Попов здорово прижали, собор закрыли, склад в нем делать будут, туда всё, у багатеев реквизированное, будто бы свозить начнут. Да что свозить, когда всё давно пропито. Кушелева-полковника в Царицыне в расход пустили, подвели к балке, поставили спиной к обрыву, и вогнал ему пулю в затылок комиссар. Так и загудел он вниз головой, балка там саженей пятнадцать глубиной, не хуже нашего Беленького. Там его снегом занесло. Лежит, их там, расстрелянных, десятки сотен, туда они и отца твоего отвезти хотели. А жителям к балке той подходить не велят, и родственники убитых и спрашивать о них не смеют. А вдова полковника Кушелева — арестовали ее с сыном, в подвале держали, вот там он и простудился. Выпустили их, прохворал он с неделю и помер. Кинулась она за священником, а никто идти не хочет, боятся. Отвезла она сына на салазках на кладбище, там его, в одеяло завернув, похоронила, вернулась домой и вены себе на руках перерезала. А как нашли ее милицейские, то выкинули на поляну, рядом с их домом. Три дня она в сугробе лежала, потом уж, ночью, прибрал ее кто-то. Но самое главное: об отце Николае, о бывшем нашем преподавателе Закона Божия. Лежит и он там, в Царицыне, под яром. Ему в затылок комиссар из нагана пулю вогнал…
Долго молчат ребята, смотрят в меркнущее окно, и верят, что отец Николай первый меж святыми угодник Божий.
Прижавшись друг к дружке, договариваются друзья бежать на Низ, к атаману Каледину, и поступить в партизаны. Только Евгений с отцом останется, девять ему лет. Куда его, дитё, денешь? О партизанах наслышались они много, бьют они красных, гремит по Дону слава Чернецова, главного партизанского предводителя, вот к нему они и отправятся. А теперь, чтобы старшие не догадались, идут они назад и чинно рассаживаются на лавке. Глянула на них тетка и улыбнулась:
— Тю, видал ты их — расселись, как воробьи на ветке. Што, голодные, поди?
Уплетают ребята остатки вчерашних щей и слушают рассказ Савелия Степановича:
— Да, Наталия Петровна, так просто из партии, конечно ж, не уходят. Но, будучи социалистом, в циммервальдцах никогда я не состоял, поняв, что принадлежать к ним могут лишь те, кто готов полностью, безоговорочно подчиниться. Собственные мысли, просто человеческую индивидуальность, всё это забыть надо и стать рядовым, ожидающим приказания начальства, или, вернее, вождя-диктатора, абсолютного авторитета. Могли мы в ней лишь до тех пор орать, проповедывать, раздумывать, дискутировать и спорить, без конца спорить, до одурения, пока партия наша к власти не пришла. Вот этот момент перед приходом партии к власти, перед полной ее победой, и опасен для каждого самостоятельно мыслящего. Не забудьте, что вовсе не боги сидят в этих самоновейших сектах, именуемых партиями, а часто, совсем наоборот, мелкие людишки, ущемленные, обиженные, озлобленные, подлые, мстительные или попросту прохвосты. Ну, конечно же, не все, но такие лучше умеют пробиваться к власти, умелей лавируют, ловчей действуют, проталкиваться вперед мастера большие. Вот и опасен этот момент — кто устоит! Честный, порядочный, идеалист или эти прохвосты. А у партийцев, не забывайте, дисциплина на первом месте, никак не хуже, чем у иезуитов. Организованы они сверху донизу, и поэтому — сила. И еще. В темноте угольной шахты, в тюремной камере, в цепях колодника, в грязных комнатушках эмиграции родились у них идейки особенные. Может быть, скажете вы, что преувеличивал Достоевский в «Бесах», но поглядите сейчас на всё, что творится. Разве же это не то, о чем говорил Верховенский: мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, доносы, неслыханный разврат, всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность. Одно-два поколения разврата необходимо — разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, себялюбивую мразь — вот чего надо. А тут еще «свеженькой кровушки», чтобы попривык.
Вот всё это, что предсказал Достоевский, и увидал я собственными глазами там, у них, у этих вот большевиков-циммервальдцев. А мои все идеи, мой весь социализм строил я на отрицании всего того, что чинилось царской властью не только над казаками, но по всей России. И тут, попав в самый центр, в самый ихний генеральный штаб, понял я, во-первых, всю ту разницу, которая нас от русских делит, а во-вторых, увидел я, что русский пророк Достоевский, безгранично ненавидевший католицизм и прокричавший на весь мир, что только с Востока свет придет, что Россия спасет человечество, что Запад сгниет, ошибался. Ошибался здорово и, как теперь говорят — адреском ошибся! Если Запад и сгниет, то гораздо позже нашего. «Во глубине сибирских руд» поверил Достоевский в русского мужичка, и, как все, твердо уверовавшие, то есть начетчики и сектанты — перебрал. Сюда бы его теперь, к этому самому русскому мужичку, «Христу в полушубке», но с винтовкой в руках и полбутылкой в кармане. Недаром же сам Максим Горький, жалкий, безвольный человек, завопил о русских вандалах, когда самолично увидал всё то, что эти сахарные мужички в церквях, музеях, во дворцах выделывают… Ваш дедушка всегда говорил: «Приглядываться надо». Вот и стал я к моим сопартийцам повнимательней присматриваться, особенно же к вождю моему и пророку Ульянову-Ленину. Посылал он на улицы, ни на минуту не задумываясь, плохо вооруженных, едва одетых рабочих, полупьяных, совершенно разложившихся солдат, нисколько над тем не задумываясь, что перебьют их, как куропаток. На смерть их гнал, чтобы бились они против собственных интересов. И главное, в Финляндию сдрапав, залезши там от страха под кровать, оттуда их на убой посылал. А сам где был всё время, когда остальные головы подставляли? Уже двадцатого июля нелегально переезжает на станцию «Разлив», в поселок, прячется у рабочего Емельянова на чердаке сарая, связь же с Петроградом поддерживает рискующими жизнью партийцами, верными своими ричардами. Но страх мучит его, и выпрашивает он себе от партии подложное удостоверение на имя рабочего Сестрорецкого завода Константина Петровича Иванова, с которым и переходит русско-финляндскую границу. Это тогда, когда все остальные наши партийцы буквально на баррикадах стояли. И вот, в сопровождении Шотмана, Эйно Рахья и Емельянова, переодетый в костюм рабочего, с замазанной мордой, в парике, всё с тем же подложным документом, спрятавшись на тендере паровоза, которым управляет коммунист Клава, удирает за границу и по конец октября прячется в Финляндии до тех пор, пока весь петроградский гарнизон не был Троцким приведен к присяге. И лишь тогда, всё еще переодетый, дрожа от страха, наконец-то, является в Петроград.
Может быть, скажете вы, что уж слишком во мне казачья кровь говорит, когда я это всё упоминаю, подчеркивая, что коль кто-нибудь, ежели уж он из себя вождя и героя изображает, так должен он и первым на баррикады кидаться… что же, возможно, что и я с перебором. Но, простите, кроме него, никто другой не сбежал, а были многие для партии никак не менее ценными. И, кроме всего, никак этого не забудьте, сбежал-то он от кого — да от Керенского, ничтожества этого, тоже с места в карьер испугавшегося «реакции», и даже Троцкого с Нахамкесом выпустившего из-под ареста, самых активных, самых способных меж большевиками. Нет, Ленин трус, подлый, грязный трус, строящий на солдатской крови что-то, что и самому ему вовсе еще не ясно и никогда еще никем в мире на жизненном опыте не проверено. Раздумался я, пригляделся, и попросту противно мне всё это стало. И вспомнил я шекспировского «Короля Лира». Говорит у него Глостер: «Горьки те времена, когда вожаками слепых становятся сумасшедшие». И ясно мне стало: фанатики и энтузиасты большевики ведут слепые народные массы за что-то, чего и сами еще толком не знают. «Нет, сказал я себе, к этому ты руки не приложишь!». Ведь жертвуя тысячи жизней, пытаются они вырастить из земли что-то, что само никогда еще не вырастало, ни природой не создано, ни людьми с успехом не проверено. Кровавый эксперимент подло, с преступным намерением, делается. Задумался я над самым важным вопросом: что можем мы, люди, особенного, никогда небывалого, сделать, такое, что потом в жизни человеческой привиться может? И тут, может быть, слишком уж я казаком был — вспомнил наши старинные Круги. Веками росла и развивалась эта единственная правильная форма народного самоуправления, народного совместного сотрудничества при решении всех важных вопросов, но без партий, имеющих всегда и лжебожков, и лжеучения свои, и свои, особенные, узко-кастовые интересы. И своих святых коров. Вот эту нашу форму народного владения землей, благами ее и управления обществом и считаю я теперь единственно правильной. Только к ней вернуться надо, по ней, применяясь к теперешним временам, дальше жизнь строить, а не выдумывать что-то кабинетное и растить вроде тех вон яблонь, что распинают садовники по стенам домов. Оно-то и красиво, да на поверку получается, что только декорация это одна, а растет и правильно развивается лишь то, что без помех, без идей само по себе спеет. И в нашей жизни людской такие декорации — кровавые, страшные, безответственные эксперименты. Преступные. И строят эти окровавленные декорации те, кто в жизни в меньшинстве оказался, отброшенные обществом, озлобленные, непризнанные гении, изголодавшиеся эмигранты, люди, оторванные от собственной земли, от своего народа и от подлинных его стремлений. И теперишний их крик «Грабь награбленное!» — в тысячу раз хуже крика разбойников с большой дороги. И ясно мне стало, что у Ленина всё, что до сего времени делалось, всего лишь первая ступенька, что не знает он сам, во что выльется всё это, и лжет, выдумывает и подливает, сам не будучи уверен во всём и сам не зная, что он завтра делать будет. И еще одна думка в голову мне пришла: а что, если после него еще позабористей начетчик явится? Кто нам гарантирует, что в этой диктатуре не созреет, как в теплице, окончательное воплощение партийного духовного тления? Вон, у англичан, у Мильтона, Сатана есть, а у Байрона — Люцифер, у немцев, у Гете, Мефистофель. И все духи эти носят характер тех народов, в которых их выдумали. Попробовал и Достоевский русского чёрта изобразить. Вышел какой-то геморроидальный чинуша в потрепанном пиджачке, подходящий к так называемому русскому доброму старому времени. И вот, выдумала, дала ему жизнь большевистская партия, и появился он у нас — архирусский чёрт, товарищ Ленин, в кепке, не дурак-парень, с мужичьей хитрецой, вызревший в русском аду, совершенный тип холодного, законченного интеллигента из прохвостов. И готов он идти через разрушения и тысячи трупов за своей идеей, которую и сам себе он еще полностью не представляет, а всё то, что какие-то формы приняло, всё это личная его выдумка, а никак не то, что постепенно росло на почве народной, из народной души выкохалось. Просто фанатик-самоучка, рвущийся к власти…
Дядя Ваня, всё время внимательно слушавший, крутит отрицательно головой.
— Слышь ты, бывший товарищ, а теперь обратно казак, а подумал ли ты о том, что, собственно, из народной души русской выкохаться могло? Не делала ли твоя Россия все возможное, чтобы свободный народный дух удушить? Ведь никто иной, как русский царь Новгородское вече уничтожил, людей там тысячами положил, колокол вечевой в Москву увез. Страшным террором царствовал на Москве царь Иван, а когда вдруг, спьяна, заявил, что уйдет он, вся Москва на колени стала, прося царя Грозного остаться. Режь нас, казни, баб насилуй, только царствуй над нами, царь православный… Да что же в русской душе лежит, и можно ли о ней говорить и в нее верить? Говоришь — повел он на смерть солдатню, а она на сто процентов мужики, то есть, как раз тот самый народ, о котором ты раздумывал… И не станут ли они все, как и при Иване-царе, на колени перед новым массовым убийцей, а?
Савелий Степанович откровенно чешет в затылке.
— Гм… д-да, но не забудьте, дядя Ваня, что ведь это же революция, когда вылезает наружу…
Отец подхватывает:
— Вот именно — нельзя же весь русский народ обвинять! Нет, ни причем он тут. Не забудьте — германский генеральный штаб…
Дядя Ваня сощурил глаза, как щёлки:
— Во-во! Это он, немецкий генеральный штаб, заставил клиновских мужиков Семёновы книжки подрать и попалить. А вон Савелий Степанович говорит, что, мол, наружу вылезает. Да, правильно, только не договаривает до логического конца. Согласен я, что в революцию вылезает наружу то, что веками в народе под спудом было. Суть его настоящая. И точка!
Пробует отец что-то ответить, но машет на него рукой тетка:
— Брось, Серега! Зазря не скули, нехай служивый докажет.
Мама смотрит в окно. Все замолкают. Савелий Степанович хмыкает:
— Гм, еще одно я подчеркнуть хотел: Ленин все эти планы свои, сидя в эмиграции, придумывал. За кривоногим столиком второразрядного кафе, злясь, что, кроме этой вот, единственной в день чашечки кофе, ничего он больше заказать не может. И смертно ненавидя тех, что у власти сидят, и, поди, по три чашки, да еще со сливками, выпивают. Отсюда и его: «Грабь награбленное!». И — «Война дворцам!». Хочется ему, мелочному, жалкому, заштатному дворянчику, всё и вся ненавидящему пролетарию, отомстить всем вот за эту его единственную чашечку жиденького кофе. Отомстить за пренебрежительно говорящего с ним жирного кельнера, за свои стоптанные сапоги, за голодный желудок. И месть его прежде всего будет — кровопролитие. Как и у анархистов, поющих, что горе народа потопят они в крови, а что после народу дадут, вот вопросик. Вон немецкий поэт Гете хорошо сказал: «Фон Зонн унд Вельтен вайсс их нихтс цу заген, их зее нур ви зих ди меншен плаген…», да-да, видит он лишь одно: как страдают люди. Поэт немецкий. А эти наши господа-преобразователи эти страдания народные только используют в своих, им одним известных, страшных целях. А солнца свои и миры особенные ищут они так, как средневековые алхимики, в партийных ретортах.
Тетка снова вскидывается:
— Тю, ты бы ишо по-турецки сказал! Наталья, што ета там за зонны?
И дядя Ваня и тетка внимательно слушают перевод стихов Гете. Дядя Ваня удовлетворенно кивает головой:
— Во-во! Об этом и я сказать хотел — всем энтим, так называемым большим преобразователям, нужно наперед всего под ноги глядеть, а не драть нос в вышину, так, что ли, Савелий Степаныч?
— Ну, конечно же, так. И моя это мысль. Вот, это всё поняв, и подался я на Дон. Вот вы, Сергей Алексеевич, всё о русских да о России толкуете. А знаете, что Ленин сказал: «На Россию вашу мне наплевать!». И проглотили! А ввиду того, что не терпит пустоты природа, ссадив царей, посадили они теперь пролетарского вождя своего и, что бы он не сказал, хотя бы в самую душу им плюнул, всё теперь перетерпят, недаром же они, русские, за тем же Иваном Грозным всем народом выли, когда он помер.
Ах, впрочем, пришлось мне всех этих новых героев хорошо разглядеть там, в Питере, на одном из заседаний Исполнительного Комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. В Таврическом дворце это было. А не забудьте, что состояло в Совете две тысячи представителей из солдат и одна тысяча от рабочих. Толпа. Стадо. И, конечно, все эти представители были самое лучшее, что только найти можно было! Выбирали их на специальных собраниях из числа особенных героев. Вот и туда я пошел, поглядеть на них, получше с ними познакомиться. И началось, как всегда: говорильня, крики, призывы, клятвы. И тут кто-то за окнами, на дворе, из винтовки пальнул, всего один раз выстрелил. Да как заорет: «Ка-за-ки!». Их, как кинулась вся эта толпа! Кто в окна, кто в двери, кто под столы. Давка, по головам, по упавшим прыгают, толкотня, драка. Хорошо, что я в нише стоял, а то и меня бы смяли. И из всех этих трех тысяч героев только один Чхеидзе, грузин, на высоте оказался. Выскочил он на стол, машет руками, кричит: «Асы-танавысь, пажялуста! Куда быжишь? Пачыму быжишь? Стой, гавару!». Пришел в себя народ. Поднимаются с пола, соскакивают с подоконников, расцепились на земле, перестали друг дружку дубасить, выползают из-под столов, стулья поднимают, устанавливают, не глядя один на другого, смущенно усаживаются. «Эх, думаю, действительно, станичников бы моих сюда, полусотню, привели бы они этих героев в порядочек. Грабить, насильничать, офицеров безоружных убивать, баб бесчестить — мастера! А вот тут… трусы жалкие. Избранники народные!».
И еще один случай был: вышел один такой геройский полк на демонстрацию. Марширует, песни поет, хор трубачей, красные флаги. И скомандовал им командир ихний на одном углу: «Шаг на месте!». Крепко сапожками в землю ударили, вся улица дрожит. Винтовки на плечах, сила! И опять где-то за углом кто-то очередь из пулемета пустил. В воздух. Может быть, от революционного восторга. А я как раз из дома одного выходил, в дверях в этот момент очутился, хотел на цвет революции полюбоваться. Да где там — верите или нет, ну, в одно мгновение, в одну минуту, будто корова языком весь тот полк слизнула. Только и видал я, как пятки их сверкали. А командир их, прапорщик, растерялся, вынул платок из кармана и лоб трет. Ох, и смеялся же я тогда…
Дядя Ваня улыбается и спрашивает:
— Слышь, Савелий Степаныч, да сколько же тех солдат на большевистскую демонстрацию вышло, когда их наши в июле разогнали?
— Видите, дядя, точного числа сказать нельзя, но знаю, что по Садовой шла толпа в тысяч шестьдесят человек. Казаки стали стрелять из винтовок им над головами, и все они разбежались. А всего с целью захвата власти Ленину шли революционные войска более, чем в сотню тысяч солдат.
Дядя Ваня от удивления открывает рот:
— Да ты не брешешь? А сколько же казаков было?
— Да говорил же я вам — два полка и два полевых орудия. Вот и всё.
Тетка презрительно улыбается:
— Во, видали! А ты мне, Серега, говоришь! Да я их, ежели придут, одним моим топором разгоню.
Савелий Степанович смотрит на тетку совсем серьезно:
— Не ошибитесь, вас-то они не побоятся.
Отец крутит головой:
— Н-да, действительно. И все-таки позднее захватили они власть, Ленин их. Ну, а как же Европа-то реагирует, союзнички наши?
— Союзники. А вот как: Ллойд Джорж сказал, что мы убеждены — события в России, открывающие эпоху в мировой истории, в первую очередь означают триумф тех принципов, за которые мы вышли на войну, и дадут еще более тесное и плодоносное сотрудничество русского народа с союзниками в борьбе за свободу и человечность…
Дядя Ваня ежится:
— Видал дурака! Это что же — за «Грабь награбленное!» выступили они, что ли? И кто же думать мог, что такие ослы они. Ах, да расскажи же ты нам, как Ленин этот самый в Россию попал?
— А очень просто: провез его немецкий генеральный штаб из Швейцарии через всю Германию в особом поезде, как теперь говорят, в запломбированном вагоне, с такой же совестью, с какой пускали они газ на русские окопы. В полной уверенности, что так он всю революцию повернет, так солдат разложит, что не сможет Россия дальше воевать. Только одного этот мудрый генеральный штаб не учел, что действуют идеи гораздо хуже любого газа и что пойдут они по всему свету гулять, и отправится призрак коммунизма гулять под ленинской маркой не только назад, в Германию, а и через океаны перекинется. Обещает это теперь Ленин немецкому генеральному штабу. Н-дас. И денежки Ленину дадены. На огромный его пропагандистский штаб, на газеты, на съезды, на брошюры, на демонстрации. И Троцкий за ним явился. Его англичане в Лондоне арестовали, но на протест Временного правительства, душки Керенского, выпустили. Между прочим, большевики теперь врут, что и Ленин так же, как и Троцкий, приехал. Неудобно им правду говорить. А ведет себя Ленин здорово: куда ни явится, всюду слова вне очереди требует. И дают ему немедленно. А скажет он, что надо, как вождь, как пророк, и — ушел. Изволили удалиться. Крот пролетарский. Только на крестьянском съезде отказали ему в слове вне очереди, так он и ожидать не стал, поднялся и вышел. Демонстративно. Я, мол, не абы кто, я вождь мирового пролетариата! Гордый аристократ от большевизма. И еще одно: ни одна партия ни в Думе, ни где бы то ни было, никогда не говорила, что стремится она к власти. Все открещиваются, мы, мол, только за право и справедливость. А Ленин, так тот наоборот, на Всероссийском съезде Советов заявил прямо, что его большевистская партия готова взять власть в свои руки. А потом покажут они всем, где раки зимуют. И многие в России чувствовали это и понимали. Недаром писала газета «Речь»: «Наше отечество буквально превращается в сумасшедший дом, в котором действуют и командуют бешеные, в то время как те, кто еще не потерял разума, стоят испуганно в стороне и жмутся к стенкам… это же Техас… это же Дикий Запад». Так газета писала, я специально выписал себе для памяти. Да, а о ком? А о Народной Воле — правых, кадетах, что-то вроде правых; конституционные демократы тут и «Семеро Левых» в правительстве князя Львова, тут и Народные социалисты и Трудовики, и социалисты-революционеры, средние, правые и левые. С ними ленинцы, циммервальдцы и меньшевики правые, и меньшевики левые, и меньшевики-интернационалисты, и меньшевики-народники, и марксистские социалисты, и социал-демократы вне фракций, и анархисты-максималисты и «межрайонцы»…
Дядя Ваня машет руками:
— Будя, служивый, ясно, всё ясно. Думаю, что при постройке Вавилонской башни побольше порядочку было.
— Гм. Возможно. Одно, дядя, не забудьте: всё проделал петроградский гарнизон по указке Ленина, а помогла всему Дума. Каждая партия и группа хотела своего, особенного, самого правильного. И только она боролась за самое важное. И все они друг-дружку боялись, подозревали, все один одного ненавидели, но каждый говорил исключительно во имя народа, и утверждал, что все остальные поголовно предатели, соглашатели или изменники. И сидели они друг у дружки в волосах до тех пор, пока не пришел русский чёрт в кепке и не сказал: «Пошли вон, дураки!». И тут мы, казаки, теперь особенно помнить должны, что трус этот, удравший от казаков из Петрограда, казаков особенно, всей своей пролетарской душой, ненавидит. И июльские дни никогда не забудет. И по-своему, хитро, умело, умно, повел он пропаганду меж казаками. И вот теперь, понимаете вы, что это для нас значит, все полки наши объявили нейтралитет. И появился у нас выученик его, Подтелков, а с ним десятки большевистских холуев, и смутились, почитай, что все, полки наши. Старого склада казаки молчат, боятся что и сказать. Изменились наши гаврилычи, засомневались, расхлябались, почесываются, ухмыляются, стали себе на уме, никому не верят, ничего слышать не хотят. И формулируют коротко: «Будя! Вместях мы с солдатами муки принимали. С нас хватаить». Особенно же подействовало на них это июльское восстание большевиков, тогда на Литейном семь человек казаков убили, а девятнадцать ранили. И что же — Керенский взял, и вождей этих убийц из-под ареста выпустил. «Нет, говорят теперь казаки, дурных больше нет». А Керенский, одновременно, специальную комиссию под председательством самого Чхеидзе для похорон убитых, всего девяти казаков, назначил. И парад, да еще какой парад, закатил! Речь какую хватил, казаков самыми большими русскими патриотами назвал. Три полка с черными флюгерами на пиках у церкви выстроил, в которой отпевание было. А когда начали гробы из церкви выносить и на лафеты ставить, то первыми несли председатель Государственной Думы Родзянко, министр иностранных дел Милюков, председатель Временного правительства князь Львов, и сам он, душка Керенский, министр военный и морской. Остальные гробы несли высшие представители армии и флота, адмиралы и генералы. Даже специальную газету «Вольность» выпустили, в которой виднейшие русские писатели статьи о казаках написали. Эта газета продавалась в пользу семей казаков, погибших на улицах Петрограда. И все семьи убитых в столицу российскую с Дону привезли. Шли они кучкой, Семёнили испуганно за лафетами старики, старухи, бабы, детишки, заплаканные, растерянные. Глядели на всё это казаки-строевики и говорили: «Нам никак не обязательно, штоб нас министры на кладбишшу в гробах носили. Нам жить охота».
Смахнув слезу, решительно встает тетка:
— Спаси Христос тибе, служивый, за всё, што обсказал! Тольки, дорогой, и нам жить охота. Вечерять зараз будем. Отпускайтя пояса, я боршшу наварила.
Разговор за ужином показался Семёну совершенно неинтересным. А гости, уже уходя из дома, столпившись в коридоре, дослушивали Савелия Степановича:
— Почему, спрашиваете вы, всё так произошло. Да потому, что всё дозволено было. Вчерашний раб, неожиданно получивший свободу, почувствовавший себя господином, хам, веками недоедавший холуй, надрался самогона, обожрался рябчиков, икнул, вылупил глаза и попер крушить и резать: «Г-га! Крой, Ванька, Бога нет!». И еще одно в нем сидело: себя показать, резвернуться, в позу особенную, с вывернутыми ногами, стать — глядите, што я могу, хочу казню, хочу милую. Мне теперь не только море по колено, но и наплевать на всё. Жги, пали, насильничай, режь. Ни за что не отвечаем! Вот так мстил он теперь за сотни лет унижений и оскорблений, дорвавшийся до им по-своему понимаемой «слабоды», он, вчерашний раб, шкурник и трус. А для их характеристики возьмем три полка — Измайловский, Семёновский и Преображенский. Сумлительно им стало, с опаской оглядывались, и на всякий случай нейтралитет объявили. Но — пошла толпа по улицам: р-раз! — и витрина вдребезги. А за стеклом и часы, и золотые кольца, и бриллианты, ну всё, что только душеньке угодно. Р-раз, еще разок, и расшиб двери прикладом, и вломился к буржую, и обыск у него устроил, и наиздевался, натешился, наорался, и досыта набился и руками, и ногами, показал «карахтер», измываясь над трясущимся, бледным, растерявшимся бывшим человеком, капиталистом и эксплуататором. Ага — вот теперь наша взяла, теперь покажем мы себя! Ага — а это кто, дочка пятнадцати лет, институтка говоришь, погоди, враз мы из нее проститутку исделаем, ану ложись, подымай подол, гони, товарищи, расстегивай ширинки, становись в очередь, тешься, ребята, таперь слабода!
Вот вам приблизительная картиночка того, что сам я видал. А там, на чердаке у финна, сидел он, вождь, слушал об этом сообщения и улыбался мефистофельской улыбкой: война дворцам, чёрт побери! Только запомните слова мои, долго это не протянется. Прекрасно он, новый российский бог, понимает, сколь долго можно дозволить толпе этой творить безобразия и преступления, убивать, грабить и насильничать. Связал он ее теперь круговой порукой, объединил преступно пролитой кровью. Генералы тоже служить ему будут не за страх, а за совесть. И зажмет он этих генералов, а генералы зажмут всю эту сволочь в кулак крепенько и введут им революционную дисциплинку похлеще царской: за малейшее непослушание — расстрел. И так придавят, что сок из них потечет. Вот тогда и придет для казаков страшный момент: знают и Ленин, и Троцкий, что казаки, хоть и внешне здорово они изменились, вовсе не их люди. И что отказались они в октябре защищать Временное правительство никак не потому, что сами покраснели, нет, а лишь потому, что в старое, на корню сгнившее, веру потеряли, что не хотят они больше за банкротов головы свои подставлять. И одна у них только мысль: «Пошли, братцы, на Дон». Поэтому и не верят большевики казакам, знают, что за свое они, за особую свою жизнь, за вековые традиции, за вольные края, которые не променяют они ни на что. Дух у них иной, и чем угодно можно их сделать, только не пролетариями. Поэтому и удрал Ленин в Териоки, боясь только казаков, считая их единственными в России, могущими организовать у себя центр сопротивления. Вся душа казака в светлой его мечте о воле, характер у него иной, степной, свободный, индивидуалистический, повадка иная, свой взгляд на людей и вещи. Таких в холуйское марксистское ярмо не втиснешь, но, простите, недаром говорят — не бойся гостя сидячего, бойся стоящего…
Савелий Степанович смеется смущенно, наскоро заматывает башлык.
— Да, бояться говорю, надо нам того, когда Ленин и Троцкий, вместе с русским генеральным штабом, восприявшим революцию и большевиков, из теперешних банд регулярные боевые войска организуют…
Дверь хлопает, и исчезают гости в морозной ночи.
* * *
Приболел старик Морковкин, а в курене у него никого, кроме баб, нету. И получилась у баб этих неуправка. А скотины полны базы. И накормить ее надо, и навоз вычистить, и соломы наслать, и кизяков привезти, и дров из Редкодуба. Да и тетка жаловалась, что зима вон какая холодная, запасов кизяка не хватает, раньше-то обходилась она, а теперь из-за родственников весь курень топить приходится, ни дров, ни кизяков не напасешься. Страсть какая!
Вот и пришлось Семёну с братьями Коростиными снабдить тетку топливом и у Морковкиных провозились они два дня, пока всё в порядок не привели. Натер Семён кровавые мозоли, дул на них на морозе, да не очень это помогало. Так и пролетела, почитай, целая неделя в работе с утра до вечера и поездках в Редкодуб за дровами. Но зато окончательно договорились они в поход, не медля, отправляться. Сначала на Иловлинскую, а там вниз по Иловле к Дону, а потом Доном-Доном до Новочеркасска, а там — прямо к Атаману Каледину: «Казаки Коростины и Пономарёв, являются по случаю желания вступить в ряды партизан!». Договорились, сгрузили последний воз дров, увидали прибежавшего в курень Савелия Степановича.
— Вечером приезжают из станицы уполномоченные Царицынского совета. В Иловлинскую пришло двадцать пять матросов и человек с сорок красногвардейцев. А у нас уполномоченные эти выборы хуторского Совета заставят сделать. И, говорят, будто городу хлеб нужен, жрать им там нечего, никто не везет, вот и хотят они у казаков добровольный сбор сделать — муки и пшеницы. Атаман собрание назначил, сход вечером в хуторском правлении соберет, всем приходить велел.
* * *
Добровольно большая зала собраний набита до отказа. Все в полушубках, валенках, укутаны так, что только кончики носов видно. На стене, где раньше висел портрет императора всероссийского, теперь пустое место, как содрали раму, так и осталось светлеющее, грязноватое пятно, порядком и паутину не обмели. За столом, как раз под этим пятном, сидит плотный матрос, направо от него, в пиджаке, бледный, щуплый, с красными губами, чернявый, нос крючком, кудрявый штатский, с бегающими темными глазами. По обе их стороны уселись по два красногвардейца, в шинелях, в папахах, с красными звездами, держат в руках винтовки с примкнутыми штыками. Расселись кто на чём. В комнате полутьма, махорочный дым вьется клубами, публика шепчет и кашляет, за башлыками и поднятыми воротниками шуб лиц и не разобрать. Помещение почему-то не топили, холодно, многие зябко постукивают об пол подошвами подшитых валенок. Когда говорят, пар вырывается клубами из прокуренных ртов, чхают, сморкаются прямо на пол, демократия! Сидящий в центре матрос обращается к своему соседу:
— Прошу вас, товарищ Либерман, прочтите обращение советской власти к казакам, а потом об ином деле потолкуем.
Тот встает, росту он маленького, в галифе, с низко свесившейся кобурой револьвера. Вынув из-за пазухи несколько листиков бумаги, бережно их разворачивает и, откашлявшись, начинает слабым, негромким голосом. В зале воцаряется мертвая тишина… Семён не всё хорошо слышит, но главное понимает.
«Обращение!
Братья казаки! Вас обманывают! Вам говорят, будто Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ваши враги, будто хотят они отнять вашу казацкую вольность… не верьте, казаки, вам лгут… ваши собственные генералы и помещики обманывают вас. Жизнь и судьба казаков были всегда неволей и каторгой. По первому зову начальства казак был обязан садиться на коня и выступать в поход. Всю воинскую справу казак должен был справлять на свои кровные трудовые средства… нужно, чтобы сами казаки решились отменить старые порядки… Совет народных комиссаров призывает вас к новой, более свободной, более счастливой жизни… Трудовые казаки, разве же сами вы не страдаете от бедности, гнета и земельной тесноты. Сколько есть казаков, у которых не более 4–5 десятин на двор… а рядом с вами помещики… выбирайте же сами, за кого вам стоять… за Калединых… за генералов… Вы гибли без смысла и без цели… решайте сами… наши революционные войска двинулись на Дон… Объединяйтесь… отбирайте земли у богачей…
Да здравствует власть Советов казачьих, солдатских, рабочих и крестьянских депутатов!.. Долой войну, долой помещиков и генералов!».
Переведя дух, вытерев платком лицо, товарищ Либерман берет новый листок и читает дальше:
«Властью революционных рабочих и крестьян Совет народных комиссаров объявляет всему трудовому казачеству Дона, Кубани, Урала и Сибири, что… ближайшая задача — разрешение земельного вопроса…
Постановляет: отменить обязательную воинскую повинность казаков и заменить постоянную службу краткосрочным обучением при станицах… принять за счет государства обмундирование и снаряжение казаков… отменить еженедельные дежурства… установить полную свободу передвижения, внести соответствующие законопроекты…».
Кончив и аккуратно сложив прочитанные бумажки, сунув их в огромный, наполненный бумагами портфель, садится товарищ Либерман на свое место.
Общее молчание. Из середины комнаты протискивается к столу фигура среднего роста, разматывающая на ходу башлык и опускающая воротник шубы. Дойдя до стола, оборачивается лицом к публике, оказавшись одним из писаревских казаков. И сразу же начинает кричать:
— Товарищ уполномоченный, товарищ Либерман и браты — красные гвардейцы, што вы все суды к нам препожаловали. И вы, товарищи хуторцы! Как все мы тут услыхали своими ухами, есть она, советская власть, народная и трудовая, и даже для нас, казаков, дюже нежная, потому много хорошего она нам обящаит.
— Обящать все мастера!
— Ишь ты, научился на собак бряхать.
— Ты погоди, поперед отца в пекло не лезь!
— Правильно, чаво там, и мы тоже натерпелись!
Но оратор выкриков не слушает. Да это же Гринька-говорок, фронтовик.
— И через то предлагаю я етим прибывшим товаришшам сразу же всю доверию и помощь оказать, потому старая время прошла!
Сидящий в центре матрос встает. Это огромный, крепкий, розоволицый парень:
— Товарищи казаки! Все вы слыхали, што советсткая власть исделать хотит. А штоб для верности, нужно вам таперь свой Совет избрать из трудовых казаков. Просю назначить кандидатуры.
Коротко взглянув на Либермана, садится он и ждет. Тишина. Никто не движется. Гринька-говорок пробует что-то сказать, но из середины перебивают его:
— Явланпия Григорича просим.
Гринька-говорок взмахивает обеими руками:
— Вы што, подурели?
Матрос настораживается:
— В чем дело, товарищ, почему подурели?
— А потому, што он у нас доси атаманом был.
— Был атаманом, а таперь придсядателем яво жалаем.
— Га, была, вон, и Анютка девкой, была, а ноне бабой стала!
— А твое какое дело — жалаем, и всё. Мы есть трудящий народ, кого мы посадим, тот и сидеть будить.
— Просим Явланпия Григорьича!
— Про-о-осим!
— В час добрый.
Со скамейки в переднем ряду поднимается ладный, в походной форме, светловолосый казак. Быстро поправив чуб, поворачивается к народу:
— Тиш-ш-ша вы! Зараз я слову сказать имею. А вы, товаришш уполномоченный, суды есть присланный, штоб народную советскую власть у нас издеся исделать. И штоб, как вы сказали, сами мы сабе своё, Совет, избрали. И, как мы до того промежь сибе говорили, и как мы яво, Явлампия, всем хутором порядошным и хорошим хозяином шшитаем, и как он нам через то дюже очинно подходяшший, то табе, товаришш уполномоченный, тут зазря крутитьси нечего. Народ наш яво жалаить, а как ты вроде сам за народ, то я таперь всех и вспросю: хто за Явланпия Григорьича как за придсядателя нашего Совету, подними руку.
Все, как по команде, поднимают руки. Только Гринька-говорок вдруг исчезает из помещения.
— Правильна!
— Ура яму!
Матрос снова встает. Зал моментально затихает:
— Прошу поднять руки, кто против.
Тишина. Никто руки не поднимает.
— Кто воздержался?
В самой середине собравшихся метнулась и повисла в воздухе рука в огромной рукавице.
— Я воздяржалси!
— Вы почему воздержались, товарищ?
— Гусь я табе, а не товаришш. Понял? А воздяржалси я потому, што когда в летошном году уляши дялили, то няправильную он мине дялянку подсунул. Вот почаму.
— Так вы же тогда против!
— Ты мине не учи! Я табе в дяды гожусь. Атаманом был хутору добрым, и председателем хорошим будить. Ну, а я — воздяржалси, и вся тут. Понял, лысая твоя голова?
— Х-ха-а-а-ха-ха!
— Крути яво, дедушка Пантелей!
Пошептавшись с Либерманом, снова обращается матрос к публике:
— Прошу назвать кандидатов в помощники и секретари.
— Это што ишшо за секлетари? Сроду у нас писаря были.
— Тю, да не всё одно!
— Ага! Ивана Петровича просим!
— Про-о-сим!
Народ вскакивает с мест, теснится к столу, толпа заслоняет всё происходящее возле матроса. Шум, крики и галдеж, руки поднимаются и опускаются. И одно лишь ясно: казаки решили избрать в Совет всех тех, кто и раньше был в хуторском правлении. Видно, что матрос это понял, и, когда выборы кончились, спокойно обращается к собранию:
— Поздравляю вас, товарищи, с первым избранным вами Советом. Предупреждаю, что все постановления Совета народных комиссаров должен он проводить в жизнь незамедлительно. А теперь…
Голос от входа, это тот же Гринька-говорок:
— А таперь скажитя же им всем, што шебаршить тут нечего. Каледин-атаман, энтот, што ис контрревалюцией ишол, застрялилси в Черкасске. Кончил царствию свою.
Тишина наступает мертвая. Будто ужаленный, вскакивает дед Пантелей:
— Брешешь, сука!
— А чаво мине бряхать, вон их вспроси.
Медленно встает товарищ Либерман:
— Да правильно это. Бунтовщик и контрреволюционер генерал Каледин покончил свою жизнь самоубийством. Генерал Корнилов бежал на Кубань, потому что не поладил с генералом Поповым, который с кучкой буржуйских сынков ушел в Сальские степи. Но, как вы из обращения слышали, советская власть не спит, вслед за ними отправлены отряды красной гвардии, и скоро и им конец придет.
Либерман садится. Медленно, молча, рассаживаются и казаки в полнейшей растерянности. В притихшую толпу снова говорит матрос:
— Товарищи! Надеюсь, что положение теперь вам ясно. Бунтари зачали себе пули в лоб пущать. Туды им и дорога! А вот еще одно дело: благодаря бунтам ваших генералов, нехватка у нас в городах в хлебе получилась. Особенно в больших центрах — Петрограде, Москве, Царицыне. Поэтому, не в пример царской власти, которая народ голодом морила, решила наша власть Советов городской бедноте помочь и постановила обязать всех добровольно внести с дыму по двадцать пять пудов…
Притихший было зал взрывается:
— Г-га! Побирушки приехали!
— Гля, по двадцать пять пудов! Этого и при царе не было!
— Справу отмянить, а хлеб отобрать! Здорово!
— Отдай добровольно, а то силой возьмуть.
— Ишь ты, потому он и солдат с собой приволок. Не испужаишь!
— Бедноту кормить, га, а кто ее наделал?
— Ты што, к нам приехал власть становить, мы тибе просили, а? Мы к тибе не поедем указывать.
— Повертай оглобли!
— На легком катири!
— Товарищи, но ведь кризис этот из-за мятежа ваших генералов!
— Глянь ты на яво! Раньше Расея, ради Христа, канючила, а таперь для кризису ей давай.
— Товарищи, советская власть сумеет заставить…
— А-г-га! Договорилси. А ну спробуй!
Но тут поднимается бывший атаман, теперешний председатель Совета, и, став рядом с матросом, спокойно обращается к разбушевавшимся хуторцам:
— Тиш-шаш! Будя! Всё я слыхал и всё, как есть, таперь мине ясно. Власть яво народная, и она за народ хлопочить. И так я шшитаю, што хлеба мы яму дадим, потому…
И опять от входа голос Гриньки-говорка:
— А ишо ты им скажи, што те, которые саботаж вядуть, тех по головке не гладють. Вон, в станице пятнадцать стариков позабирали, в тюгулевку посадили, как они против народу идтить хотели.
— А куды их денуть?
— Ишь ты, а за што?
Снова встает товарищ Либерман.
— Товарищи! Председатель ваш понял обстановку правильно. Советую и вам утихомириться. Предупреждаю: советская власть за себя постоять сумеет. А арестованные в Иловлинской старики, будут судимы народным судом за агитацию и саботаж против власти и ее распоряжений. Трудовые казаки…
— Ишь, заладил, сроду мы все трудовыми были…
— А со стариками ишо подумать нам надо!
— Шутка сказать — двадцать пять пудов!
— Пролетарии, энто хто же, што без штанов?
— А кого забрали?
Дверь тихо отворяется. Савелий Степанович машет Семену:
— Пойди-ка сюда, отведи вот прохожего к отцу.
Уже давно смерклось, толком сразу ничего не разглядеть, но, как завороженный, смотрит Семён на одного из стоящих у входа — большой, небритый, башлык перевязан через воротник, красное от мороза лицо едва видно из-под надвинутой на самые глаза папахи, но глаза, глаза… да это же дядя Воля.
— Здоров, товарищ племянник. Веди.
Савелий Степанович остается. Дело у него к матросу есть, позже он придет.
— Дядечка, вот-то наши обрадуются. Пошли!
* * *
Тетка носится из погреба в ледник, из старого куреня в новый, из кладовки в амбары и сараи. И стаскивает, сносит, тянет всё, что только из съедобного найти можно. Совершенно растерявшись, бегает за ней мама, помогая приготовить достойный случаю обед. Шутка ли дело — пришел войсковой старшина Валентин Алексеевич Пономарев к тетушке родной на побывку, да еще в такое время, когда брат его с женой и сынком, дома родительские покинув, в ее же курене пристанище нашел. Дядя Воля приехал не один: с ним еще каких-то два офицера, один вроде будто моряк, капитан второго ранга, Иван Иванович Давыденко, бритый, толстый, крепкий! А с ним лейб-гвардии Егерского полка ротмистр князь Югушев, тонкий, интеллигентный, подтянутый. Шинель на нем солдатская, а как скинул он ее, так тетка и обомлела: в царских погонах с вензелями, весь в шнурках на мундире, только всё примятое. Уже рассказал дядя Воля, что, уходя из Питера, надел князь Югушев парадную форму своего полка и решил в ней и смерть принять. Упорного характера человек. Придут на обед и хуторской атаман, теперешний председатель Совета, Явлампий Григорьевич, да еще двое стариков, один из них отец Гриньки-говорка, што, как с фронта вернулся, так и бегает по хутору, всё что-то доказывает. Старики коситься начали. Одурел парень. Таким, по старому обычаю, влепить бы на сходе двадцать пять горячих, оно бы у него и отлегло. Да время не то, ливарюция зашла, теперь такое дело получается, что каждое трепло об себе много понимать стало. Савелий Степанович сегодня обедать не будет, уехал он с тем матросом в станицу, показал он матросу свою бумажку, самим Троцким подписанную, вот тот его с собой и забрал. Только и успел Савелий Степанович кому нужно подморгнуть. А что получится, Бог даст, увидим.
Прошел обед, как это и положено: по три раза гости поясные ремни отпускали. Осовели. Смотрит на всех дядя Воля и спрашивает больше для порядка:
— Ну как же вы тут поживаете?
— Да вот, как сам видишь — за спаньём и отдохнуть нам некогда.
Дядя Ваня улыбается:
— Ты бы лучше обсказал нам, как оно там всё, в Черкасске, было.
Дядя Воля отвечает тихим, хриплым голосом, смотрит только на рюмку, и грустным кажется Семёну лицо его.
— С чего начинать, и сам я не знаю… ах вот, после того, как получилась та знаменитая телеграмма Керенского: «Всем, всем, всем. Где бы не находился атаман Каледин, немедленно арестовать его и доставить в Москву», вот, собственно, после этого и началось наше светопреставление. Круг немедленно собрался, самого атамана выслушал, ни на какой суд никуда его не отпустил, оправдал полностью все его действия, а Керенскому ответил старинной нашей формулой: «С Дона выдачи нет». И лишь после того поняли все, что давно нам надо было снять с фронта все казачьи полки. И вернуть их на Дон. Да поздно спохватились. После всех этих историй с первым усмирением большевиков в июле в Петрограде, после Иванова, Крымова и Корнилова, после того, как промаялись казаки на ловле дезертиров и наслушались как те орали: «Погодите, доберемся и до вас!», после полного банкротства всех этих временных правительств и ярой и умелой большевистской пропаганды двинулись, наконец, полки наши домой, да вовсе не такими, какими их наш атаман видеть хотел. Переживал он страшно тяжело развал фронта и тыла, только о России, чьим слепым патриотом он был, и думал, и единственно казаков считал способными эту его Россию снова, по примеру Межакова и Смутного времени, на ноги поставить. И ошибся, страшно просчитался. Распропагандированные, изверившиеся, измученные, полуголодные и безоружные — солдатня у них всюду, где только могла, оружие отбирала, затерявшиеся в этом огромном, ненавидящем их море российской пехоты, а от нас, ихних офицеров, ничего путного не слышащие — ясно поняли они, что старая власть окончательно пропала, обанкротилась. Вот и пришли они на Дон, правда, с офицерами, которых они, несмотря на требования солдат, так и не выдали, но с пустой душой. И рассыпались. Разошлись по домам, исчезли. Хватался потом Каледин за голову: «Ах, мне бы хоть два полка!», да поздно было. Сам виноват, вовремя казаков на Дон не увел, всё о России болел. Казаки у него были ничто иное, как снова усмирители, восстановители старого порядка. Революции он, разбушевавшейся русской стихии, старый верный России генерал, привыкший командовать послушными солдатами, не понял и огромных наступивших сдвигов не осмыслил. И Дон ему нужен был лишь как база для накопления сил и марша на бунтовщиков в Петрограде и Москве. Вот и разошлись по домам почти что пятьдесят наших полков и почти вся артиллерия. Но чуть ли не целиком остались в строю те казачьи полки, которые, поверив в большевистскую правду, собрались в станице Каменской и объявили там не только Донскую республику, но и собственный Военно-революционный комитет образовали. Председателем его выбрали подхорунжего Усть-Хоперской станицы, артиллериста Шестой донской гвардейской батареи, Федора Подтелкова. Знавал я его лично: черноглазый брюнет, блестящий службист в прошлом, боевой, ладный, широкоплечий, твердо уверовавший во всё, что обещала казакам красная проповедь. Объявил он Каменскую станицу столицей «Трудового Дона», собрал в ней верные ему части и выставил против Каледина на станции «Зверево» свой передовой отряд из казаков лейб-гвардии Атаманского полка. Секретарем у него прапорщик Кривошлыков, человек с высшим образованием, тоже наш казак. И сошлась к Подтелкову приблизительно пятая часть нашего боевого состава…
А должен вам напомнить, что собрались эти полки туда после состряпанного большевиками Съезда фронтовиков в Воронеже, на котором было решено покончить с контрреволюцией в Новочеркасске, разогнать Круг, уничтожить Каледина и его Правительство, и объявить Дон красной республикой, по благословению, данному самим Лениным.
Войсковой Атаман и Круг, имея в своем распоряжении только партизан-молодежь да несколько отдельных сотен, не желая междуусобицы на Дону, решили послать к Подтелкову делегацию для переговоров. Как ехали делегаты, как их принимали, лучше и не говорить — на станциях наэлектризованная большевистской пропагандой толпа, ненависть, злоба, ругань, рев: «Долой буржуев в Черкасске! Долой царских генералов! Повесить Каледина! На вешалку Богаевского! За борт царское старьё! Да здравствует власть Советов!». Вот тут и переговаривай! И сразу же поняли наши делегаты, что повисла над Доном черная туча, что польется кровь, а кто устоит — неизвестно. И, конечно же, с красными казаками ни о чем они не договорились, лишь решили: для дальнейших переговоров должен приехать в Черкасск сам Подтелков. И явился он пятнадцатого января, привезя с собой четырех казаков и Кривошлыкова. И сразу же ультиматум: вся власть в области над войсковыми частями и ведение военных операций переходит от Войскового Атамана к Донскому казачьему военно-революционному комитету. Все партизанские отряды, юнкерские училища, добровольческие дружины и школы прапорщиков расформировываются и разоружаются. Город Новочеркасск занимают войска Военно-революционного комитета. Члены Круга объявляются неправомочными и распускаются. Полиция расформировывается и по всей области объявляется, что власть перешла в руки Военно-революционного комитета. Попробовали, было, предложить ему провести по всему Дону голосование, и тогда отдать власть тому, кто получит большинство голосов. На это ответил Подтелков прямо:
— Ежели вас и большинство будет, не покорюсь. Продиктуем вам свою волю мы. Пусть через мой труп пройдут, а власти я из рук моих не выпущу. Мы, казаки, сами свою жизнь устроим, никого чужого не спрашивая.
Тут уличили его, показали ему перехваченную телеграмму Антонова, командующего войсками, идущими из Москвы на Дон, в которой сообщает он в Смольный — большевистский штаб в Петрограде, что казачий революционный комитет обращается к нам, как к высшей власти.
— Ну что, спросили его, своим служишь или чужую высшую власть признаёшь?
Но и тут он не смутился, остался при своих требованиях, и так и уехал, ни о чем не договорившись.
А пока велись эти переговоры, пришел карательный отряд красной гвардии на станцию «Миллерово». Тут его наш партизан, есаул Чернецов, полностью уничтожил. Интересно, что красные казаки в этом бою не участвовали, а отошли в Глубокую. И там влились в красную гвардию, которой командовал какой-то товарищ Макаров.
Каменскую наши забрали, а красные с налета заняли Лихую.
Чернецов спешно формирует в Черкасске еще один отряд из гимназистов, реалистов, кадет и студентов, и с ними идет на Лихую. Пели потом его партизаны:
Под Лихой лихое дело Всю Россию облетело…А на станции «Лихой» стояло три состава, полных красногвардейцев. Первой же гранатой из единственного нашего орудия разбили мы паровоз того состава, который стоял на выходе из станции, и таким образом заткнули ее. А сами выскочили из вагонов и тоненькой цепочкой, не ложась, спокойно пошли в наступление. Красные открыли беспорядочный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь шрапнелью. У нас — два пулемета, один «Кольт» и один «Максим». Шли мы, как на ученьи, всё ближе и ближе, и — «Ур-рар-а-а!». Атаки нашей красные не приняли, бежали, оставили нам двенадцать пулеметов, но пушки увезти успели. Переночевали мы в Лихой, подкрепились, отдохнули и утречком двинулись походным порядком на Глубокую. И пока шли, партизан наших, гимназистов и реалистов, из винтовок стрелять учили…
Подошли к Глубокой, поставили пушечку нашу на позицию, ударила она шрапнелью, и вдруг нам в ответ четыре вспышки, как после мы узнали, Шестая гвардейская батарея, казачья, по нас огонь открыла. И разбили они пушечку нашу первыми же снарядами, недаром казачьи гвардейцы, чёрт побери. А тут, как назло, пулеметы наши попортились. Было же нас всего сто пятьдесят человек, а к вечеру от ихнего огня осталось в строю всего шестьдесят. Затихло всё вечером, переспали мы ночь прямо в степи, утром, раненько, поднялись цепью на бугорок, и — обмерли. Прямо против нас стоит огромная, глазом не охватишь, масса конницы. Казачьи полки. Пушку нашу поправили мы за ночь, хлопнула она один раз, и первой же красной гранатой снова ее разбило. А после этого ударили они нас из артиллерии прямой наводкой. Исчезла цепь наша в черном дыму гранатных разрывов. И тут конница их, казаки, в атаку на нас пошла, да мы ее залпами, ружейным огнем отбили. Тогда выгнали они в степь двуколки с пулеметами и начали косить нас, как траву в поле. Кинулись мы в балку, и тут нас конница ихняя и накрыла. Кого порубили, кого в плен позабирали, и попался им в плен есаул Чернецов. А командовал этими казаками красными наш же казак, войсковой старшина Голубов…
Отец морщит брови:
— Это что за Голубов, не тот ли, с Японской войны? Бунтарь?
— Он самый. Бывший кадет Донского кадетского корпуса. Дела в корпусе были у него далеко не важнецкие, учился абы как, из карцера не вылезал. Служа в Петербурге, на жеребце своем Сант-Яго на офицерских скачках бесчисленные призы брал, добровольно ушел в составе 26-го полка на Японскую войну. Считался в полку первым разведчиком, особенно же прославился тем, что, получив за храбрость орден святого Георгия, расписался: «Орден в память поражения русской армии японцами — получил». А когда царь наш в Новочеркасск приезжал, то после торжественного обеда угостил всех присутствующих Георгиевских кавалеров папиросами. Голубов свою не закурил, а бережно в карман спрятал. На вопрос царя, почему он не курит, ответил: «Папироса эта, ваше величество, будет драгоценной реликвией в нашей семье», да, парень интересный, что и говорить. Шестнадцать раз ранен, казаки полка боготворили его за храбрость и простоту в обращении с ними. Верили ему и глубоко его уважали. А после революции сразу же он к большевикам подался. Но арестовали его в Ростове и привезли в Новочеркасск, и дал он нашему атаману честное офицерское слово, что отойдет от политики. Отпустил его атаман, а он в Царицын ушел, а оттуда в Каменскую и стал там у Подтелкова красными казаками заворачивать. И вот когда забрали красные казаки нас в плен, хотели они всех нас порасстрелять, Голубов не разрешил, но Подтелков прямо еще в степи зарубил Чернецова. Всего из этой переделки нас пять человек спаслось…
Дядя Воля на минутку замолкает, и решается Семён спросить его:
— Дядя, а сколько же всего партизан было?
Дядя Воля называет отряды, сотни и полки, но Явлампий Григорьевич перебивает его вопросом:
— Как видю я, вашевысокблагородие, всё молодежь, всё дятишки, а иде ж казаки?
— А либо с бабами по домам, либо в строю, но с Подтелковым.
— Здорово! Значить, казачью честь нашу желторотые спасають. А объяснитя вы нам, расскажитя, как же вапче война наша с красными открылась. Как оно под Ростовым было?
— В Ростове всё и началось. Город он интернациональный, хоть и училась в нем масса казачьей молодежи, казаков же в нем не больше ста семей жило. Всё остальные — сбор Богородицы: русские рабочие, греки, евреи, армяне, хохлы. Пристань огромная для Азовского и Черного морей, большой железнодорожный узел. Стояли в нем Сто восемьдесят седьмой, Двести сорок девятый, Двести пятьдесят второй и Двести пятьдесят пятый запасные полки. Был там госпиталь для неудобосказуемых болезней. До двух тысяч там порченого народу лежало. После революции солдаты и рабочие Атамана донского не признали. А стояли в Ростове и две казачьих сотни. С двумя пулеметами. После переворота образовался в городе Совет солдатских и рабочих депутатов и Военно-революционный комитет, и потребовали они от нашего атамана всю власть в области передать этому комитету. То же самое потребовал от атамана девятого ноября прошлого года и Черноморский флот. Получив это требование, объявил атаман Ростов на осадном положении, приказал все неказачьи части расформировать. Но пехота приказа этого не послушалась и открыто заявила о переходе на сторону Военно-революционного комитета. Сразу же собираются на митинг в театре «Марс», открыто призывают к восстанию, действуют решительно и быстро, захватывают все официальные здания города, мобилизуют пленных мадьяр, австрийцев и немцев, и решают идти на Новочеркасск. Две тамошних казачьих сотни окружены у вокзала. К Ростовской пристани подходят пять судов Черноморского флота и из них высаживается тысяча матросов. Из Тихорецкой подходит к ним на помощь пятьсот красногвардейцев. У Аксайской станицы и Нахичевани роются окопы. Обе казачьи сотни, окруженные со всех сторон красными, сдаются, их сажают под стражу, а офицеров увозят на крейсер «Колхиду». Каледин узнает о всём происходящем в Ростове, но никак не решается «пролить братскую кровь». Железнодорожники, все они, конечно же, иногородние, объявляют забастовку, и всё движение поездов полностью останавливается, никаких эшелонов никуда отправить невозможно. Вот тут и выручили новочеркасские студенты-техники, создали свою дружину и образовали поездные бригады, паровозы задымили, и приказал атаман Каледин наступать на Ростов. Сотня юнкеров генерала Кучерова, Донской пластунский батальон, Отдельная казачья сотня, две сотни Седьмого казачьего полка, Сорок шестой и Сорок восьмой казачьи полки полностью и Запасная батарея, да по четыреста казаков пришло из станиц Аксайской и Александровской.
Лицо отца веселеет:
— Ага, видишь, не все полки ушли к Подтелкову!
— Конечно же, далеко не все, да уж слишком мало было таких, кто атаманские приказы слушал. Да, постой, еще Новочеркасская дружина пошла, а в ней народу человек с тысячу было. Всё учащаяся молодежь под командой старых офицеров.
— Это и ты там был?
— Ах, не всё ли равно, где я был, а главное пошли мы и в первом же столкновении с красными сплоховали, отбросили они нас и взяли в плен четырех наших офицеров. Отошли мы и в окопы засели. Переночевать, перегруппироваться и наутро со всех сторон на Ростов ударить. Ночью, после двух часов, самое когда хорошо спится, собрал Роман Лазарев человек с двадцать головорезов, усадил на паровоз с одним вагоном, ворвался на станцию «Нахичевань», с налета освободил пленных наших офицеров, знал он, где их содержали, да, кстати, и весь тамошний Военно-революционный комитет прихватил с комиссаром Цуркиным и подружкой его, еврейкой тоже. И секретаря комитета, и всех его членов. А в это время сварганили наши студенты бронепоезд, на платформы мешки с песком положили, орудия поставили, подлетели почти на самую пристань и так начали крыть красный флот, что сорвался он с якорей и в море ушел. А тут в Ростове солдаты красных полков замитинговали, услыхали они, будто огромная сила казаков идет, и разошлись по казармам. Остались против нас лишь рабочие, матросы и красногвардейцы. Подошли было к Ростову три военных судна, да сразу же бронепоезд наш одно из них потопил, а два других тягу дали. Поднялись матросы и рабочие из окопов, а наши, по данному сигналу, на них в контратаку. Ростовский военно-революционный комитет сбежал во главе с их главкомом Арнаутовым, матросы отступили к пристани, а в это время мы со всех четырех сторон в Ростов вошли, и вместе с нами въехал в город атаман Каледин, и прямо в казармы пехотных полков. Туча солдат окружила его, встал он в автомобиле и приказал им немедленно сдать оружие. И можете себе представить: без слова, один за другим, снесли они винтовки в бунты и сложили. Семь тысяч штук накидали. Повернул атаман в город, а там вавилонское столпотворение, от мала до велика весь город на ногах, все на улицы вышли. Флаги, цветы, платки из окон и с балконов, крики «ура», слёзы… и тогда встал в автомобиле атаман и сказал:
— Мне оваций не нужно. Не герой я, и приход мой не праздник. Была пролита кровь, и радоваться тут нечему. Я лишь свой долг исполнил…
Мрачный, как всегда без улыбки, сгорбившийся… эх, иначе бы ему себя вести следовало, но главное было: победа. Матросы сдались, разоружили их, посадили в поезда и отправили в Севастополь, офицеров наших, тех, что на «Колхиде» сидели, налетом самодельной канонерки освободили, обе сотни наши на свободу вышли, места свои в городе заняли, и взяли казаки в Ростове управление в свои руки. Стал он городом, оккупированным казаками, с рабочими-большевиками и большим процентом населения, большевикам сочувствующим. И это вот сочувствие большевикам иногороднего населения для нас особенно большой вопрос. Половина нашего населения — не казаки. Понабежали к нам, спасаясь, со всех сторон, еще со времен добулавинских, селились у нас, уходя от московского рабства, от польского угнетения, от вечной драки и горя на Украине…
Отец недовольно крякает, дядя бросает на него короткий взгляд, но говорит дальше, не останавливаясь:
— Обжились, недурно зарабатывать стали, те, что прилично себя вели, в казаки приняты были, а остальные, вся масса, только и жили надеждой казачью землю к рукам прибрать. Отобрать ее у тех, к кому они бежали, головы свои спасая. Мечтали, как и весь народ русский и по Украине, о клочке земли собственной. Бедность, зависть, веками скопившаяся в душе рабская ненависть ко всем, кто живет лучше… Забылась старая вера в справедливого казачьего атамана, водившая их за Пугачевым, Разиным, Булавиным. Теперь перешло всё в зависть и ненависть к казакам вообще, по их мнению, задушившим в пятом году революцию. Дало им наше Правительство возможность созвать на Дону Крестьянский съезд, выбрать и посадить в казачье Правительство своих мужичьих министров. О знаменитом «паритете», поди, слыхали вы. Из шести ихних министров трое оказались большевиками, а три стояли на стороне атамана. Это крестьяне, а о рабочих говорить вообще не приходится, те все — красные. А тут еще потомки тех, кто посадил на престол дом Романовых, кто России покорил Сибирь, Кавказ, Польшу, Крым и Наполеону морду раскровянил, глянь, сколько теперь меж этими потомками таких, что в большевистскую правду поверили. Это те самые казаки, предки которых сотнями лет жили своим особым, русским совершенно чуждым укладом жизни, своими прадедовскими традициями, вольным своим степным духом, потомки людей, никогда рабства не знавших, крепостного права не имевших, воспитанных на обычаях глухой старины. И вот и многие из них, в общем российском котле двести лет варясь, близко теперь к сердцу своему приняли и позор Японской войны, и преступное ведение вот этой, еще не отгремевшей, и полное политическое банкротство всех нас вот сейчас…
Отец сердито кашляет:
— Что-то, брат, и ты стал того, много разговаривать…
Мама вспыхивает:
— Да не говори ты, Сережа, глупости, просто понял человек!
Отец разволновался:
— Что значит — глупости? Ишь ты — банкроты. А не эти ли банкроты, не этот ли дом Романовых создал такую империю, что конца и края ей нет, такую, что боятся враги ее, как огня, такую…
Дядя Ваня трогает отца за плечо:
— А ты, Серега, не дюже. Не дом Романовых империю твою создавал, нет, но проворонил, профершилил, до разорения довел собственный народ, до отчаяния, потому что сотни лет в рабстве и в полурабстве его держал. Вот и полетело всё кувырком. И получил этот дом твой теперь по заслугам. Только боюсь я одного: нам, казакам, придется теперь грехи его, дома этого, расхлебывать.
Отец вдруг краснеет, и сначала даже слова сказать не может, хватает ртом воздух, захлебывается. Все смотрят на него с испугом. Прекращает спор тетка:
— Не лотоши ты, Серега! Што машешь руками, будто кто тебе в зад шилом ширнул. Таперь нам, как и я бабьим своим умом вижу, тольки и того, што об своем курене думать.
Всё время молчавший, вступает в разговор князь Югушев:
— Простите мне, господа, но разрешите высказать и мои по сему поводу соображения. Теперешнее наше, скажем, недоразумение, уверяю вас, лишь переходящая стадия, внутреннее кипение, некоторый подъем температуры у слегка переутомившегося в страшных напряжениях организма. Да, господа, организма, чего-то целого всё же, если хотите, внутренне крепко связанного, несмотря на кажущиеся нам страшными симптоммы общего развала и распада. Я рассматриваю это лишь как внутреннюю горячку, и весь вопрос лишь в том, как долго она продлится и сколько мы в весе потеряем. А как это в здоровом организме всегда бывает, после крепкого заболевания с выздоровлением поднимается он еще более сильным, становится еще выносливей, решительней и предприимчивей. В это возрождение верю я: потому что, несмотря на страшные препятствия, на всю внутреннюю борьбу у нас, на несогласия, смуты, нелады, бунты и революции, росли мы неуклонно лишь потому, что и водители наши и ведомые в главных, государственной важности, вопросах били в одну точку. И князья, и цари, и императоры, и их министры, и полководцы воодушевлялись сами и поднимали народ свой в победном его шествии к увеличению, славе и укреплению державы Российской. И в этом шел народ за ними слепо. Поэтому я совершенно спокоен. Да, и мне не нравится то, что, по общему нашему мнению, засела сейчас в Петрограде и в Кремле какая-то интернациональная сволочь, с которой мы с вами не ладим, против которой, может статься, даже пойдем с оружием в руках. Вместе. Всё говорит о том, что начнется по всей Российской империи война гражданская. И победит в ней тот, на чьей стороне окажется наш народ. А как всё кончится — вспомните революцию французскую. Санкюлоты, помните, торжествовали. Ну, а потом что? Да-с. И в победе или поражении казаков сыграет огромную роль то, кто к вам теперь бежит, и как эти, головы свои спасающие, у вас себя поведут, и как вы с ними поладите или не поладите. Уверяю вас, всё перемелется, всё образуется, и русский народ, терпевший тысячи неправд и невзгод, но всегда, при всех обстоятельствах, в крови, в поту, в голоде упорно строивший свою империю, пойдет и дальше этой своей дорогой, простите — сметая всё на пути своем, что ему мешает. Русский народ — это единственный в мире пример народа-империалиста, вечно против собственной власти бунтующего. Поэтому, еще раз прошу извинения, смотрю я на всё это, что происходит в Черкасске, проще, чем вы — для вас может это стать вопросом жизни и смерти, так сказать, быть вам или не быть, а для нас, повторяю, легкий подъем температуры, здоровая встряска, пересмотр позиций внутренних, но никак не опасность для государства. Я совершенно уверен, что, несмотря на все эти интернациональные лозунги, на весь этот истошный крик о мировой революции, народ наш, патриот и националист, да такой националист как, может быть, никто иной в мире, в нужный момент инстинктивно пойдет за теми, кто укрепит, усилит, увеличит и прославит его державу. Но — мое место, лично мое, сейчас здесь — у меня это попросту вопрос эстетики, присяги, такта, воспитания, классовой моей принадлежности. Мундир полка моего не замараю я красной тряпкой, нет, но когда всё это кончится, и, легко может статься, что в каше этой я лично и пропаду, роли это для России моей не сыграет, так как мой централист-народ, привыкший к руке крепкой, и дальше пойдет историческим своим путем собирания земель русских. И в эту мою Россию я верю, потому что через всю историю свою доказал мой народ — крепостной раб, с песнями шедший в бои на Кавказе, Польше, Сибири, смерд, мечтавший о воле и утопивший в крови вольные племена горцев, туркестанцев, вас, казаков. И построил, создал, укрепил свое государство только потому, что крепко, глубоко сидит в нем способность отдать всё для создания, пусть несправедливой, рабской, грязной, но страшной для врагов его, по его мнению, славной страны. И в этом, простите, нахожу я известную поэзию, и, как мне кажется, лучше всего сказано обо всём, что сказал я, словами поэта:
А слово его всё едино — Он славит свово господина!Князь замолкает, берет свою рюмку и медленно отпивает глоток вишневки.
Дядя Ваня говорит, ни к кому не обращаясь:
— А ведь здорово сказано. Значит, все эти и князья, и цари, и императоры, какими бы они сами не были, всего лишь как те блохи в шкуре медведя. И чешется он, и злится, и кусает их, а идет своей дорогой, круша всё на пути своем.
Князь поднимает на него глаза и улыбается:
— Да, так оно и есть, неплохо вы сказали, нет. И поэтому я совершенно спокоен. Страна моя не пропадет, народ не изведется, а кровоспускание, Боже мой, не так уж и страшно.
— Значит, что же нам, казакам, и ждать иного, как того, что подомнет нас под себя медведь ваш — народ русский, как подмял он и перевел новгородцев, псковичей, булавинцев…
— Подомнет! Вопрос лишь времени и потерь. Но повторяю: в исторической перспективе для нас потери эти не страшны. Вон возьмите, как пример, ваше знаменитое Азовское сидение. Опустел тогда Дон ваш, а что теперь, сколько отличнейших кавалеристов, да к тому же бесплатных, билось за Россию в этой войне!
Не выдерживает мама:
— Но, князь, за всё это время народ русский был либо рабом, либо бесправным, либо нищим, либо голодным, ведь это на века вперед на психике его отразится…
И снова улыбается князь:
— Откровенно говоря, всё то, что вы рабством называете и что для вас, казаков, совершенно неприемлемо, для нас, русских, нечто совсем иное, ибо, что греха таить, иной формы правления за все свое существование русский народ не знал. Привычка — вторая натура. Бунтовал он, заварухи устраивал, в сектах распутствовал, наемничал, шел и за Разиным, и за Пугачевым, спасался в монастырях, искал правды в расколах, изуверствовал, жег, грабил, убивал, и всё же, в конце концов, склонялся, смирялся, свыкался и шел дальше этим историческим путем своим. Так и дальше будет. В этом я уверен, этот путь его веками проверен и лишь тогда он пропасть может, если сойдет с него.
Сидящие напротив князя казаки-старики переглядываются и один из них спрашивает:
— А как же таперь, ваше сиятельство, нам, казакам, быть? Куды ж нам подаваться?
— Думаю, выбора у вас нет. Всё, что подтелковы и голубовы творят, для вас тоже временное явление. Тоже некоторым образом болезнь, суть которой прекрасно понял ваш генерал Попов, уйдя в Сальские степи. Это его слова о том, что выздоровеет Дон и поднимется. Верит он в это, зная ваш дух народный, полностью русскому противоположный. Опасность для вас не в этом, а в ином, в русском воспитании ваших водителей, вот в чём. Теперь же принесут вам красные насилие, грабеж и террор…
Мама высоко поднимает брови:
— Простите, как так — террор? Ведь все русские революционные партии осуждают террор, произвол и насилие, даже марксисты…
Князь машет обеими руками:
— Господь с вами, Наталия Петровна! Да как раз не только мелкие марксисты, но и бог и учитель Карл Маркс стоял за террор. Всё, что теперь, перед серьезной схваткой, проповедуется, ничто иное, как пускание пыли в глаза. Сам я, своими глазами, у одного приятеля моего из титулованных революционеров номерок «Новой Рейнской газеты» читал, от седьмого ноября 1848 года. В ней сам Маркс к террору открыто призывает и пишет, что в Париже будет нанесен уничтожающий ответный удар, и мы воскликнем: горе побежденным! И это — горе побежденным — сам Маркс курсивом написал. И дальше там: есть только одно средство сократить, упростить, концентрировать корчи старого общества, кровавые родовые муки нового, лишь одно средство — революционный террор. И опять сам Маркс слова «революционный террор» курсивом написал.
Отец преобразился, будто дорогой подарок с признанием заслуг получил. Но почему-то обращается к дяде Воле:
— Слышь, Воля, а как же там с Добровольческой армией, ты нам про нее так еще и не рассказывал.
Сунув руки в карманы брюк, смотрит дядя на носки своих сапог и говорит устало и неохотно:
— Н-дас, армия. Впрочем, пусть уж князь расскажет, он в этом деле больше разбирается.
Князь просить себя не заставляет:
— Я Валентина Алексеевича понимаю. Он, видимо, слишком воспитан, слишком тактичен, а недоговаривать не хочет. Мне же стесняться никак не приходится, девиз мой: чем трезвее, тем лучше. Знаете вы все, что, собственно, пол-России кинулось удирать на юг, то к вам — казакам, то к матери городов русских — Киеву, к так называемым украинцам, вот, на родину добрейшего нашего капитана Ефима Григорьевича. Украина! Мы ее Малороссией называть привыкли. Но после того, как сам Ленин дал лозунг: самоопределение вплоть до отделения, с единственной целью, чтобы получить в массах к себе симпатии, так как сам-то он прекрасно понимает, что, даже если и отделятся все эти самоновейшие самостийники, никто из них толком самостоятельности своей устроить не сумеет уж только потому, что кадров интеллигенции, на то нужной нет у них, нет умения и навыка управлять государством, нет живых традицый, давно под давлением российской власти исчезнувших и выхолощенных. Понимает Ленин и то, что давно разбились и там все по бесчисленным партиям и группам, и что очень многие национализм, а для самостоятельности нужно крепкими националистами быть, считают отжившим, ушедшим в прошлое, опасным. Вот разве у вас, у казаков, может статься, всё же что-то и получится. Но и ваша интеллигенция централизмом заражена до отказа. Приучены вы на Москву равняться. Двести лет под царским скипетром даром для вас не прошли. Да, выговорил Ленин слово «самоопределение» еще и потому легко, что этим приобретет он симпатии миллионов дураков на Западе — вот, скажут там, смотрите, какой он антиимпериалист, какой он прогрессивно думающий, ура ему! А это ему и надо, мужик он с хитрецой, свою партию соорганизовавший как орден, как этакий всероссийский ку-клус-клан, основанный на терроре и слепом послушании. И знает, что всюду будут сидеть его люди. Невеселая судьба будет у всех этих самопределившихся. И ежели эта так называемая Украина, которая, правда, сейчас только за федерацию, ежели и она отделится, то все равно ей не сдобровать. Россия ее задушит. Украина, даже собственного имени себе сама не придумавшая. Украина — старое русское слово и означает в теперешнем смысле — окраина, то, что немцы называют «рандгебит». Почитайте-ка «Разрядную Книгу» (1475–1598). Там украин этих, то есть русских окраин, сколько угодно: казанская, литовская, крымская, немецкая, польская…
Дядя Ваня криво усмехается:
— Ну, это лишь доказательство того, что все эти окраины-украины как раз никогда русскими не были. Самих названий их достаточно.
— В массах малороссов, после уничтожения Екатериной Сечи запорожской и ухода из нее казаков, массы малороссов так окраиной и остались, сведши собственный язык на опереточный диалект русского.
Тяжело поворачивается на своем стуле капитан Давыденко:
— Вы, князь, трошки переборщили. Язык наш совершенно самостоятельный, а не опереточный диалект. Гм, с некоторыми примесями. А в вашем русском сколько иностранных слов, тысяч с пятьдесят наберется. Да, вот одно правильно: за сотни лет пребывания нашего в составе государства Российского массы наши, наши мужики, стали по психологии своей тем же самым, что и мужики русские. Поместья у нас грабят и жгут, помещиков убивают и гонят совершенно так же, как и в России, землю делить хотят так же, как и русские, никаких самостийных течений в народе нашем нет, только тонкий слой интеллигенции, учителя, аптекари, ну, кто еще, да, часть профессоров, вот, разве, они, да с народом-то у них ничего общего, кроме языка, нет. Правда, там, в Австрии, в Галиции, там будто больше таких, что хотят великую Украину, свой собственный империализм выдумывают, так то же в Австрии.
Князь довольно качает головой:
— И еще, добрейший наш капитан, не забудьте и того, что служили вы матушке России не за страх, а за совесть. И главным образом во флоте боцманами, а в армии — фельдфебелями. Где боцман хохол, где фельдфебель хохол, там о дисциплине заботиться не приходилось. И сами умели в струнку стоять. И хоть теперь и орут на весь свет о своей борьбе за свободу, а против Москвы никогда нигде не выступали. Разин, Булавин, Пугачев — все донцами были.
Дядя Ваня морщится:
— А ведь мы с Добровольческой армии разговор завели.
— Простите, действительно, давайте не отвлекаться. Да, кто только мог бросились из России, спасая животы свои, стараясь попасть либо на Дон, либо в Хохландию. Еще второго ноября первым появился в Новочеркасске генерал Алексеев, потом, двадцать второго ноября, генерал Деникин. Марков и Романовский. И последним, шестого декабря, генерал Корнилов. Сразу же, конечно, на казачьи средства создана была «Организация генерала Алексеева», то есть теперешняя так называемая Добровольческая армия. Генерал Алексеев, этакий маленький, сухонький, с записной книжечкой в кармане, в которую бисерным почерком заносит он все приходы и расходы, недаром же он «Администрацию» в Николаевском кавалерийском училище читал. Теперь взял он на себя часть финансовую, и этак аккуратненько, как бравый бухгалтер, всё в эту свою книжечку записывает:
«От ростовских купцов 23 ноября 1917 года тысячу восемьсот рублей тридцать пять копеечек получил.
Генералу Арбузову, на постройку одной пары сапог сто сорок рублей пятьдесят копеек сего 1-го ноября выдал».
И всегда точно число и номер оправдательного документа. Когда я с ним в первый раз в Новочеркасске повстречался, галстучек на нем был криво повязан, сюртучек потертый, штаны свои вобрал он в высокие сапоги, надел огромные круглые очки, ну, истый приказчик с волжского пароходства. Корнилов — тот как был скромным, застенчивым армейским офицером, так им и остался. Артиллерист он, худощавый, тоже роста небольшого, с монгольским, без выражения, как маска, лицом. И к ним, третьим, Каледин, вечно сумрачный, насупившийся, сгорбленый, без улыбки. Н-да… генералы… кстати, напомню вам, что на Дону они в крайнем меншинстве, три четверти нашего бывшего генерального штаба пошли с большевиками под водительством не абы кого, а самого Брусилова. Ну-с, и начали эти генералы пушечное мясо для борьбы за Белую Россию искать и, естественно, устремились на Дон, так как вся надежда у них исключительно на казаков. Сразу же образовали триумвират: Алексеев, Корнилов, Каледин, и дали уже этим большевикам прекрасный пропагандистский козырь в руки: глядите, казаки, говорят, теперь из Москвы — недобитые царские генералы на Дон сбежались, хотят вас в гражданскую войну против России и втянуть. Бейте их!
Вот поэтому и был Подтелков ваш таким несговорчивым. Веру в русских генералов потеряли ваши фронтовики давно. Да, я же о Добровольческой армии… Так вот, сформировавшись сначала в Новочеркасске, а после освобождения казаками Ростова перешла эта армия туда, в Ростов. И многие офицеры, до полутора тысяч, поступили в нее, а пока она формировалась, гибли ваши партизаны, кадеты, гимназисты, реалисты, студенты — ребятишки, начиная от пятнадцати лет. И гудел соборный колокол в Черкасске, каждый день провожая в последний путь привезенных с фронта казачат-партизан. И, как правило, в дождь, снег, слякоть шел за этими гробами несчастный ваш атаман Каледин, верно служивший той, лучшей, России, в которую он так верил, и теперь так страшно разочаровавшийся и в русских, и в казаках. Он одинаково всех не понимал, как не понимал и самого того времени — честный, прямой, глубоко порядочный солдат, но никак не политик. Да, так вот, набежала тогда на Дон масса разного народа. А в Добровольческую армию записалось всего тысячи две. Полковники поступали рядовыми, генералы шли на унтер-офицерские должности. А когда покончили подтелковцы с вашим Чернецовым, когда полегло всё ваше лучшее и подошли красные к Черкасску, сообщил Корнилов Каледину, что уходит он со своей Добровольческой армией на Кубань. Вместо надежды получить помощь страшное известие о потере единственного союзника. А Черкасск и весь Дон со всех сторон окружен красными, и последние, еще вчера дравшиеся против большевиков, казаки начинают разъезжаться по домам или, преимущественно так называемые правые, присоединяются к Корнилову. Попов уходит в степи, походный атаман Назаров докладывает Каледину, что большевики в нескольких верстах от Черкасска и что защищают его всего сто пятьдесят человек партизан, молодежи, что движется в столицу Дона большой отряд красной гвардии, а с ним казаки Голубова. И что борьба бессмысленна и бесполезна. Каледин созывает заседание Правительства, и оно решает передать власть в Новочеркасске городскому самоуправлению. Тут и стреляется Каледин. Круг выбирает атаманом бывшего походного атамана Назарова, и тот заявляет, что никуда из столицы Дона не пойдет. Он там и остался. Вот мы с Валентин Алексеевичем и вашим добрейшим моряком и ударились сюда, пересидеть и выждать. Ну-с, только еще пару слов о Добровольческой армии: пошла она на Кубань, во-первых, потому, что богатый это край, есть где кормиться, а еще и потому, что верят они в кубанских казаков и в то, что поднимутся те обязательно. Всего с казаками ушло до трех тысяч человек. Назвались Добровольческой армией, а не народной. И правильно сделали: народ сейчас либо колеблется, либо против. И загвоздка теперь вся в том, на чью сторону русский народ станет. Генерал же Попов, как вот и мы с вашим дядей, уверен, что донцы не подведут и весной поднимутся. С моей же точки зрения, уход на Кубань сейчас — неумная авантюра. Кубанские казаки ни в чем еще не разобрались, Кубанская область буквально залита потопом идущих с турецкого фронта солдат, полностью большевизм восприявших. Этой массе, будет их под сотню тысяч, должны противостоять добровольцы с их трехтысячным боевым составом, плохо вооруженные, стоящие под командой тех генералов, чьи имена для солдат, как красная тряпка для быка. Это для них только капиталисты, реакционеры, контрреволюционеры и помещики, желающие продления войны внешней. А воззвание Совета народных комиссаров знают они твердо. И в нем говорится: «Солдаты! Дело мира, великое дело мира в ваших руках. Не дайте контрреволюционным генералам сорвать его!». Вот теперь и припомнят солдаты на Кубани имя генерала Корнилова, еще на государственном совещании в Москве требовавшего введения смертной казни. И с ним Алексеев и Деникин, оба сидевшие в Быхове за контрреволюцию. Понимаете, сколь всё это неблагоприятно для добровольцев, которых, конечно же, обвинят в желании продолжения войны и в борьбе за помещиков.
Отец снова прерывает князя:
— Но причем же тут помещики? Не наш ли Круг не только упразднил дворянство, но и земли помещичьи передал крестьянам. А после крестьянского съезда на Дону не послали ли эти же крестьяне своих представителей-министров в наше казачье, так называемое паритетное Правительство! Разве этим не доказали мы…
— Вот-вот, доказали, да, во-первых, только у нас на Дону, а что там Добровольцы думают — об этом никому ничего не известно. Молчат они, а Ленин прямо говорит: забирайте землю немедленно. Да здравствует мир! Вот вам и разница. И второе — это то, что никто нигде о Круге вашем ничего не знает, пропаганды у вас никакой вообще нет. Знают лишь, со слов большевиков, что вы реакционеры. И, я считаю, вам нужно было работать на вашей организации темпами революции — вы этого не сделали. Бежавших генералов никуда не пускать, никаких с ними триумвиратов не заключать. Единственно что хорошего сделали: на Кубань не пошли, хотели вас попросту подчинить, к рукам прибрать. Попов это понял, и выжидает, зная казаков и то, что все равно вам с красными воевать придется!
Дядя Воля поддакивает:
— И еще как придется! Не забудьте, что уже сосредоточили красные на наших границах войска свои. И все эти силы имеют приблизительно семьдесят тысяч винтовок, восемь тысяч сабель, триста орудий. Сколько пулеметов — не знаю…
Отец, видимо, сильно обескуражен:
— Т-та-ак! Здорово. Но ведь большевики за мир, то есть за измену нашим союзникам, что же союзники наши говорят?
Дядя как-то криво усмехается:
— Союзнички наши? Видишь, там, на Западе, там тоже дураков не сеют, сами они родятся. Сам знаешь, что за всю эту войну единственное, чем союзнички занимались, это требовали, чтобы мы наступали. И к тому же Керенскому с ножом к горлу лезли, чтобы и он наступал. А Ленин мир проповедывал. Вот этим и помогли союзнички большевикам — солдаты воевать не хотели, и пошли за Лениным. Как видим, и там, на Западе, политических мудрецов и днем с огнем не найти.
Отец тихо свистит:
— А мы-то, сколько мы за ихние Марны и Вердены голов положили… как мы верили…
— Да, верующими были, а блаженными нас теперь большевики сделают, а потом и до них доберутся… проповедует же Ленин революцию сначала в Германии, а потом во Франции.
Дядя Воля взглядывает на маму, и вдруг хлопает себя по лбу:
— Ох, Наташа, совсем позабыл тебе сказать, что племянницу твою, тети Агнюшину Мусю, видал я в Черкасске, на Атаманском проспекте встретил, в форме сестры милосердия. Уходила она с нашим Партизанским полком под командованием генерала Богаевского, с Корниловым они пошли, Попов Богаевскому не понравился. И что я ей ни говорил — и слушать она не хотела. А тут еще хорунжий Примеров, сын полковника Примерова, тот тоже в том же полку сотней командует. Видно, любовь там у них с этим хорунжим. Парень хороший, молодой, боевой мальчишка, по ухватке видно…
Мама в ужасе всплескивает руками:
— Воля, да почему же ты ее с собой не забрал?
— Мусю? С собой? Плохо ты ее, видно, знаешь. Девка с характером, это раз, а второе — дома у нее давно не всё в порядке, нет у нее семьи… вот и нашла она себе новую… Да и в полку том в большей она безопасности, чем с нами была, ведь мы переодетыми, как солдаты, с подложными документами шли.
— Господи, да ведь ей-то всего лет семнадцать, и вот, сестра милосердия…
Расплакавшись, мама уходит. Поерзав на стуле, спрашивает один из стариков:
— А как вы думаете, ваше сиятельство, може, и вспради там, в Расее, посвободней таперь заживуть…
— Да нет. Развяжите любому из нас руки, ослабьте опеку, и мы, уверяю вас, мы тотчас же опять опеку попросим…
Казаки внимательно слушают князя, и отвечает за всех атаман:
— Значить, выходить дело, вроде той свиньи они, што из свинушника убегла, в огороде шкоды понаделала, черепушки как поразбивала, корыта поперевертывала, а когда суды-туды повернулась, да и сама же, по своей воле, обратно в свинушник возвярнулась?
Князь заразительно смеется:
— Совершенно верно. Но, чтобы никого не обижать, не будем делать таких сравнений. Но, уверен я, что, скинув царский режим, новое они на себя ярмо оденут, Не хотели против немцев воевать, а теперь гонят их против казаков. И пойдут!
Дверь вдруг распахивается, бледная, как стена, заплаканная, вбегает в комнату тетка и вначале и слова выговорить не может. Дядя Ваня подходит к ней и гладит ее ладонью по плечу.
— Да тю на тибе! Што там за беда стряслась?
— Вот т-табе и т-тю! Сам на залу пойди, глянь, ляжить она там без головы… с-сама я ей топором от-трубила!
— Кому же это ты голову оттяпала?
— Кому! Да хохлушке нашей, нясушке, наседке самолучшей. Энтой, што прошлого году шашнадцать штук курят с лесу привяла!
Все вздыхают облегченно. Дядя улыбается:
— Ну?
— Вот те и ну! Собрались мы, бабы, в старом курене и пошла я кизяку принесть, зашла в катух, а она, хохлушка, как вылетить оттель, да как по-петушиному закукаречить, как закукаречить. Господи думаю, к беде это, побегла я, ухватила топор, да за ней. И у база ее зашшучила, да… вон, сам пойди, глянь, ляжить она там без головы.
Дядя Ваня решает действовать энергично:
— Ану, Семён, беги ты, брат, пулей, забирай ту хохлушку, тащи ее на кухню, бабам отдай, нехай нам с нее лапши наварят. А ты, сеструха, коли уж собрала бабий круг, то и веди нас туда, вон, поди, и князю охота с нашим женским полом поближе познакомиться!
* * *
Парадная комната старого куреня битком набита, самые бабы собрались. Вон одна, постарше, вяжет чулок и, наклонившись к соседке, рассказывает:
— Тольки и того, што Гринька-говорок пришел. Да и тот дурной какой-то, всё об советской власти ореть, да урядник этот, што раненный был и на выздоровлению яво отпустили, а ить всяво по хутору человек сто двадцать будить, и ни вестей об них нет, ни голоса. Раньше, при царе, хучь письма ишли, какие казаки на побывку приходили, а таперь… Вот и брешеть тот Гринькя-говорок, будто в Усть-Медведицком округе войсковой старшина Миронов, свой он, казак природный, будто он с Лениным ихним в разговоре был и пообяшшал тот яму Дон никак не трогать, тольки старую власть убрать. И будто набрал тот Миронов целую дивизию, и будто, как навядуть они свой порядок, то и уйдуть с Дону красные гвардии в Расею назад, а вперед зачнуть казаки на казенных конях служить и при казенном обмундировании, и будто справы никакой боле сами покупать ня будуть…
Большая керосиновая лампа горит посередине комнаты, под самым потолком, освещает круглый стол. Расстелила на нем одна казачка свое вышивание, подошла к ней мама да так и ахнула:
— Глянь, Семён, да ведь она так же, как и я, гладью анютины глазки по канве вышивает, ну точь-в-точь, как тот коврик в комнате твоей над кроватью, помнишь?
Набежали у мамы на глаза слезы, скоренько вытирает она их скомканным платком, дрожат ее руки и жалко скривившиеся, побелевшие губы. Смотрит на нее казачка, широко открыла карие свои глаза и, видно, что вот-вот и она разревется.
Входные двери широко раскрываются. Первым входит дядя Ваня, а за ним все из нового куреня. Дядя Ваня низко кланяется казачкам и громко спрашивает:
— Здорово днявали, часная компания! А не разрешитя ли и нам в ваши разговоры встрясть?
Весело отвечают бабы:
— Слава Богу!
— Милости просим!
— Так и быть, заходитя, господа старики!
— Ух, хорошо, а то у нас от посного разговору языки посохли!
Высоко, удивленно поднимает дядя Ваня брови:
— Языки, говоритя, посохли? Ить вот бяда какая! Ну мы их враз в порядок приведем.
Из широких карманов полушубка вынимает он две бутылки наливки, а в эту же минуту появляется тетка с двумя девками и тащут они подносы с конфетами, леденцами, пряниками, орехами и печеньем. Мужчины сразу же находят себе место, где и им присесть можно, как говорится — в тесноте, да не в обиде. Первые рюмки выпивают молча, поглядывают с удивлением на них: почему же они пустые, и как это так терпеть можно. Наливают еще по одной, и затягивает дядя Ваня любимую свою:
И-эх вы, бабочки, вы козявочки…Народ занялся закуской, песне еще не время, из другого угла тянет раненый урядник:
Эх вы, куры, мои куры, кочеточки мои!И он отвлекается третьей рюмкой. И выходит тут на середину комнаты Дунька Морозова, подбоченилась, закинула голову назад, будто потянула ее к земле огромная коса, и затянула высоким сопрано:
А я, бабочка, наделала бяды, Пошла по воду — побила казаны!Вся, как есть, бабья полусотня дружно подхватывает:
Господин наш посялковый атаман, Разбяры ты ету делу по правам… Разбяры ты ету делу по правам: Я побила казаны по головам…Будто из ружья хлопнули наружной дверью. Широко распахнулась входная в комнату, напустила холодного пару, и замер на пороге закутанный башлыком Савелий Степанович. Неуклюже стараясь развязать узлы замерзшими пальцами, хриплым, срывающимся голосом едва выговаривает:
— В Черкасске… атамана Назарова, Богаевского Митрофана, председателя Круга, с ними шесть казачьих генералов, шестьсот офицеров, юнкеров, кадет, гимназистов расстреляли большевики за одну ночь…
* * *
Будто вымер весь хутор Писарев. В степи лежит еще снег, холодно, еще столбом поднимается по утрам дым из куреней к далекому, покрытому облаками, небу. Пусты и улицы, и проулки, будто вымерло всё, будто и живой души нигде нет.
В старом курене, в той же большой горнице, собрались перед вечером все снова, закусили и выпили, и, глядя в окно, в темноту, спросил дядя Ваня:
— Может, ты, Валентин, еще что расскажешь?
— Эх, рассказывать, так с нашего паритетного Правительства. В декабре прошлого года оно окончательно было создано. И засело в нем тридцать шесть человек… Собственную донскую керенщину мы развели. Потому что, видите ли, единение с донским крестьянством надо нам было. Вот и собрали для этого Крестьянский съезд, и представителей своих выбирали попросту, по симпатиям, без партий, без программ, местных провинциальных величин, по признаку их популярности в массах. Мы в наше Правительство посадили восемь казаков членов, — говори министров, и восемь же есаулов, их помощников, и прислали нам крестьяне своих шестнадцать человек, восемь министров и восемь эмиссаров. Демократию мы развели такую, что дальше некуда, потому-то все эти господа министры и их помощники людьми были совершенно случайными, ни специальных знаний, ни образования особого, ни опыта, ни широкого кругозора. Казаки, так те хоть округа и станицы свои представляли, а крестьяне-представители никакого авторитета в области не имели, с их цензом не выше сельских учителей. Стало это Правительство в Областном Правлении заседать, и были это не заседания, а митинги политические, обструкции крестьянские представителей в вопросах защиты края и внутреннего порядка. Только трое из крестьянских министров были надежными: Светроваров, Мириндов, и Шапошников, а остальные, особенно же Кожáнов, Боссе, Воронин и Ковалев, — те были открытые и явные враги. Прислушались ко всему казаки, и заговорили:
— Во — посадили нам мужиков в Правительство, поглядим таперь, как они мужиков своих организують и куда.
И пришлось Атаману нашему, на основании самоновейших демократических правил, тогда, когда черноморские матросы и ростовские большевики нам войну объявили, с этим своим Правительством об обороне края дебатировать и дискутировать. Доказывать им, уговаривать их, только зря время теряя. И та же картина в вопросе введения осадного положения на железных дорогах. Товарищи иногородние министры, открыто играя на руку большевикам, всё тормозят, обструкции устраивают, решения задерживают, прекрасно зная, что без единогласного постановления Правительства сам Атаман ничего поделать права не имеет, и не может. Сидел перед Калединым коллектив в тридцать шесть человек, а он, боевой генерал, Атаман, ответственный за судьбу своего края, должен вступать с ними в пререкания, должен им доказывать, спорить, вести бесконечные прения. И почувствовали в народе, что никакой силы у казачьей власти нет, что вечно она колеблется, ни в чем не уверена, даже порой подозрительной в симпатиях к большевикам кажется. И стали на это свое Правительство казаки смотреть косо. И терял Атаман авторитет свой с каждым днем и часом. А тут еще это же Правительство широкую амнистию политическим заключенным объявило. И вылезли из тюрем большевики и их помощники, и открыто начали саботировать, агитировать, за развал взялись, за подрывную работу. И зачесались казаки: да что же это такое — борется наше Правительство с большевиками или потакает им? А не забудьте — на Крестьянском съезде было постановлено распустить Добровольческую армию. И теперь, сидя в казачьем Правительстве, старались провести в жизнь, что постановили члены его — явные большевики. А Каледин со своим триумвиратом носится, на белую Россию надеется, хочет сделать Дон базой для тех русских, которые спасут Россию от большевиков. А тут еще насели на него такие для него огромные авторитеты как Корнилов, Алексеев, Деникин. Привык он старшим генералам подчиняться слепо, и дал он им на их Белую армию казачьих денег из Ростовского банка пятнадцать миллионов рублей. А красные — те никак не спят, прут отряды ихние на Дон со всех сторон, идут в открытое наступление, хотят казаков уничтожить, задушить, залить край ваш кровью. Понадеялся было Каледин на Восьмую дивизию, которая совсем случайно оказалась на Дону, но и она разложилась. Разошлись и эти казаки по домам. А многих фронтовиков из колебавшихся частей распустил сам Каледин, в надежде, что очухаются они сами. И вот, скрепя сердце, не находя иного выхода, собственно, уже отчаявшись, разрешил Каледин партизанские отряды формировать. И пошла на убой золотая, прекрасная, жертвенная казачья учащаяся молодежь. А молодых казаков последнего призыва мобилизовать не решились, самого слова «мобилизация» боялись, слишком недемократично и контрреволюционно. Да и в самом Правительстве запротестовали бы господа пробольшевистские министры. А ведь этих молодых хватило бы на три дивизии с гаком. И очередные станичные команды не использовали, тоже из станичной молодежи, было их до десяти тысяч, давно они обучены были, только собери их, и командуй. А сделай это Каледин, первым бы — Временное правительство в Петрограде взбунтовалось. И ко всему большевистская пропаганда. И никакой, абсолютно никакой, собственной. На важных постах сидели у нас господа офицеры, привыкшие получать приказы и командовать, а своей казачьей головой думать не привычные… «грудные ребёнки», как сказал мне один мой знакомый еврей. Не понял Каледин, что не бунт это, а социальная революция, что тут с головой дело делать надо, а не по Уставу внутренней службы. А как унижался он, хотя бы перед артиллеристами нашими, когда просил их выйти на защиту Дона. Он, известный, заслуженный, сто раз отличившийся генерал, герой Луцкого прорыва, кавалер Георгиевского оружия, орденов святого Георгия четвертой и третьей степеней за бои у Гнилой Лины, у деревни Руда, за бой под Калушем, он, всенародно выбранный Войсковым Атаманом всем своим народом, ведь это он свою фуражку перед ними снимал, прося их выйти на позицию. Помялись они, помялись, и разбрелись кто куда. Принес на Дон чистое, незапятнанное имя, и загадили его, загрязнили. А уйди он из Черкасска, сказали бы, что сдрапал, струсил, спрятался под бабью юбку…
И постоянно, днем и ночью, лезли к нему и Алексеев, и Деникин, и толковали ему о союзничках наших, будто они, через какую-то московскую организацию, в которую вошли все русские патриоты, дадут нам широкую помощь. И, конечно же, никакой помощи ниоткуда он не получил. А только набежали, как саранча, все эти патриоты на Дон, все эти обанкротившиеся господчики из несчетных русских партийных политиков, все эти господа родзянки, милюковы, савинковы. И требовали они, интриговали, нашептывали, мутили, портили всё.
В последнюю, собственно, минуту собирает он совещание знаменитого своего Триумвирата с представителями от Круга и Правительства. Но ни Алексеев, ни Корнилов не являются, а посылают вместо себя генерала Лукомского, который сразу же обещает, что Добровольческая армия никак казакам на помощь прийти не может, и что снимает Корнилов офицерский батальон, стоящий на позициях у Ростова. Прения начались, разговорчики, споры и, конечно же, ни до чего не договорились. Будто совсем порешили отойти в район глухих станиц, да и на это не решились. Но воззвание к казакам написали, даже отпечатать его успели, только читать его уже некому было, полный развал наступил. И тут же и телеграмма от Корнилова пришла о том, что двинулся он на Кубань. Этим обнажил он весь наш фронт у Ростова, и сразу же двинулись на нас красные от Грушевска. Вот и встал Каледин на этом совещании и сообщил господам собравшимся, что в распоряжении у него сто пятьдесят штыков, что борьба дальше невозможна, что следует сложить полномочия и ему, и Правительству, а власть передать городской управе, чтобы избежать уличных боев в Новочеркасске и гибели невинного населения. И снова заспорили. А Каледин им:
— Разговоров было достаточно, проговорили Россию…
Быстренько решают они все сдать власть Городской Думе, Каледин уходит в соседнюю комнату, и — стреляется. Страшным по всему Дону прокатилось эхо этого выстрела. Задумались казаки: до чего же мы выбранного нами Атамана довели? Только поздно было. Со всех сторон идут красные на Дон, а на станции «Серебряково» толпа рабочих и красногвардейцев избивает восемьдесят человек казачьих офицеров. «Это, кричат, поминки вам по пятому году!». А на другой день после смерти Каледина избирает Круг Войсковым Атаманом генерала Назарова, а к нему Походным Атаманом генерала Попова. Спешно решают защищать Дон до последней капли крови, но посылают делегацию к командующему наступающими на Новочеркасск красными, какому-то товарищу Саблину. А тот им и отвечает:
— С трудовыми казаками не воюем, а с Правительством Дона, не признавшим власти Ленина-Троцкого. Казачество же, в такой форме, в какой оно есть, должно быть уничтожено.
Так и сказал: «Уничтожено»! Пришел тут на Дон шестой полк Тацина, в полном боевом порядке, восторгу пределов нет, а не прошло и двух дней и он нейтралитет объявил. Двенадцатого февраля утром занял Голубов со своими красными казаками станицу Кривянскую, а в пять вечера — Новочеркасск. Походный Атаман, генерал Попов, собрав около себя до трех тысяч, ушел в Сальские степи… А казаки голубовского Северного Революционного казачьего отряда окружают в Новочеркасске здание Войскового Круга, где шло заседание. Голубов врывается в зал и орет:
— Встать!
И все встали. Только Атаман Назаров продолжал сидеть. Подскочил к нему Голубов:
— Ты кто?
— Я — выборный Донской Атаман, а кто вы?
— А я — революционный атаман!
Сорвал Голубов с Назарова погоны и приказал отвести его на гауптвахту. Тут к Голубову, крадучись, осторожненько подходит один член Круга:
— А что нам делать прикажете?
— Убирайтесь к чёрту!..
На минутку дядя замолкает, глядит в темное окно, будто где-то там, в заснеженной, пустой степи, маячат ему фигуры из описанной им картины. Вздыхает дядя и продолжает:
— А в городе полное отчаяние, страх, разочарование, слухи ползут зловещие, все винят Правительство, но отворачиваются от тех, кто еще призывает к отпору. Вот и повстречались тут у нас два мира — шкурники, трусы, карьеристы, прохвосты и люди порыва, жертвы, доблести, долга. Люди, творившие чудеса храбрости, умиравшие за вольный свой тихий Дон с молитвой на устах, и иуды, глупцы, ничтожества. И поднялись по всему городу стрельба, пьянство, аресты начались, избиения, допросы. Вот тут, князь, я и капитан и порешили мы в последний момент тягу дать. Вот и всё…
Отец поднимает низко склоненную голову:
— Значит, свои же казачки подвели?
Быстро реагирует князь:
— Нет, так просто нельзя казаков обвинять. Тут вам прежде всего ваше двухсотлетнее пребывание под общероссийской муштрой. И что особенно важно, вина созданного у вас аппарата управления, вашей интеллигенции, вашего офицерства, чьим ярким представителем оказался Каледин, в последнюю минуту Дон не помянувший, а сказавший, что проговорили — Россию! Тут же и вековая, упорная, целеустремленная пропаганда вашей принадлежности к России и вашей от нее неотделимости. Всё это удалось общероссийскому центру крепко внедрить в ваше дворянство, созданное этим центром, скажем, Петроградом, с особой целью, простой: разделяй и властвуй. До тошноты избитая, сотни раз оправдавшаяся истина. Но в толще вашего народа, в казачьей массе, по-прежнему крепка старая ваша, булавинско-разинская, закваска. Но понимал, знал, чуял старую эту вашу закваску Походный ваш Атаман Попов. Уверен он, знает, что не покорятся казаки большевикам. И ушел в степи и, уверен и я — спасет он честь вашего Дона. Вину же в том, что пошли многие казаки за Подтелковым и Голубовым сносят те, кто прививал вам централизм, слепой русский патриотизм, ассимилировал вас, насадил у вас чувство неотделимости от России и от всего того, что бы там не происходило. Вот и попробовал Каледин ваш Россию эту выручить, спасти ее со сбежавшимися к нему политическими банкротами, потянувшими его бороться за навсегда скомпроментировавший себя строй. Был он, Каледин, только русским генералом казачьего происхождения, а не Донским Атаманом разинской или булавинской ухватки. Вымуштрованным в России верным присяге офицером. Уверяю вас, стреляться никогда ни Ленину, ни Троцкому в голову не придет. Иначе они воспитаны, иному обучены, по-иному и на вещи смотрят. Вон и Попов ваш, а с ним три тысячи казаков, не стреляться захотели, а решили борьбу продолжать. За Россию не цепляясь.
Отец растерянно смотрит на князя:
— Простите, вы же сами сказали, что вы — рюрикович! Ведь это же… вы что же — сами революционер? Я, откровенно говоря, ничего не понимаю: как это так Россия нам централизм привила? Да что же мы, бунтари, что ли? Мы же все русские люди… мы…
Князь отвечает вяло и неохотно:
— Надеюсь, потолкуем еще мы с вами на эту тему…
Воспользовавшись наступившим молчанием, говорит хуторской атаман:
— Я об чем вам сказать хотел: пришел в Иловлинскую один голубовец, прямо с Черкасска. Слышь, Сёмушка, побяги-ка ты в курень Гриньки-говорка, там у него голубовец энтот сидить, привяди ты яво суды, говорил я с ним, и согласный он кой-што нам рассказать…
На дворе, оказывается, давно стемнело. Бежит Семён по-над речкой, туда, на самый край хутора, где последним к выгону стоит накренившийся набок курень отца Гриньки. Давно уже у них неуправка в хозяйстве. С тех пор, как ушел на войну Гринька-говорок, остались дома лишь хворый и на военную службу забракованный отец его да молодая Гринькина жена. Старались они вдвоем как-то всему дать ладу, да так у них ничего и не получилось.
На стук никто не отвечает. Тяжело открывается, скрипит и грозит, того и гляди, сорваться с петель расхлябанная дверь.
— А-а! Семён Сергевичу наша почтения! Табе кого, односума? Бяри яво задаром, так отдаю!
Гринька-говорок приветливо улыбается, сидящий с ним рядом на лавке казак быстро поднимается. Было бы лицо его очень приятным, не побей его так здорово оспа.
— Ну, хозявы, проститя, на время отлучуся, к Поповым пойду, обяшшал я всё обсказать, как оно там было. А ты, Гринькя, думаю, таперь понял, куда она, дела, поворачивается?
— Ды-ть как сказать, людей, верно, зазря побили, ну…
Из угла выплывает, из табачного дыма, худое, испитое лицо Гринькиного отца:
— А ты, Гринькя, таперь приберегайси. Узнають в хуторе, как оно получилось, вспомнють, што ты толковал, я табе тогда не заступа.
Войдя в курень Поповых, вытягивается голубовец, как по команде «смирно»:
— Здорово днявали, часная компания.
— Слава Богу!
— Садись, служивый, гостем будешь!
Пока казак усаживается, придвигает ему дядя Ваня рюмку с наливкой:
— А ну — благословясь.
Голубовец выпивает ее не спеша, вытирает рот ладонью и заговаривает так, будто торопится рассказать о всём, что видел:
— А таперь, суды, мине вы послухайте. Намучились мы на войне этой, а как на ней было, ни мине, и ни вам рассказывать, сами знаитя. Пошел я рядовым, а к энтой, к фявральской революции, два хряста на мине, дьве мядали и погоны урядницкие. Ну, мало с них радости было, всё лавочку энту кончить гребтилось, да домой поскорей, на Дон, на хутор, на левады, к жане с дятишками приттить. Тольки трошки по-иному оно всё пошло. Вперед послали полк наш дезертиров энтих ловить, потом попали мы с Красновым под Петроград, потом зачалась ета катавасия и нагляделси я такого, што и вспоминать неохота. Одно нам всем ясно стало, в завирухе ихней лучше нам, казакам, зря чубов не обжигать, а на Дон иттить надо. Понадеялись мы на Атамана Каледина, да не схотел он полки наши с фронту сымать, всё думал, што начнуть русские обратно немцев бить. Вот и остались мы в энтом котле.
И показали себя солдатня ихняя. Вот, к примеру, в Дубовенском полку распяли они командира свово. Да чаво вы на мине вылупились, говорю вам — распяли, не хуже, как того Христа. К дереву яму ноги-руки гвоздями прибили, а потом измываться над ним зачали, хто уху отрубить, хто в живот яму штыком пырнеть, хто нос яво же шашкой отсекёть. Пальцы яму все, как есть, на ногах и на руках поотрубали. Топором. Когда прискакали мы туды, разбеглись они, тольки труп энтот на дереве висеть осталси. Оглядел яво доктор военный, сказал, што всяво шестьдесят разов рубили яво и кололи…
А и так ишо было: распороли они одному попу живот, кишку разрезали, гвоздем ее к телеграфному столбу прибили и зачали яво круг того столба гонять, кишки яму выматывать… Думал я, што под горячую это у них руку, со временем утихомирятся, да, думал, а как глянул потом у нас, в Черкасске… ну, да не об том я, вперед сказать хочу, што там, на фронте, пошли у нас головы кругом, ничаво мы никак понять не могём. Кинулись мы к офицерам нашим, а они либо в молчанку играются, либо удочки смотать норовять, либо сами так порастерялись, што и глядеть на них никакой возможности нет. Либо с подо лбу на тибе зырить, либо такое преть, што, видать, боиться он тибе и никак боле не верить. А посля Красновского походу окончательно поняли мы, што пропало всё то, што сотни лет стояло. Понаехали к нам в полки разные дилягаты, то от полков, то от комитетов, то от самой от Думы, то от солдатстких и рабочих депутатов, и, знай, одно нам торочуть, што наступить таперь мир во всем мире. И што ня будуть боле казаки так служить, как при царе служили. А Дон как был сам по себе, так и останется, тольки вот царские атаманы и гиняралы, которые нас зазря на смерть гнали, тольки их поубяруть с постов ихних, а тогда и пойдеть вольная жизня. И будто сам ихний Ленин нам, донцам, республику в Москве объявил. А тут, слухаем мы, будто сбираются у нас гиняралы разные, энти, што бил их немец, как тольки хотел, сбираются они обратно, как в пятом году, против всяей России нас на усмирению послать. Вот тут и подскочил к нам Подтелков, всё, как есть, нам по-простому объяснил, реки нам мядовые наобяшшал, а берега прянишные. И ряшили мы всё то снистожить, што нам на путю стоить, по которому народ к миру прийтить могёть. Вот и явились мы на Дон, слухаем: партизаны какие-то идуть, энти, што за гиняралов да за капиталистов стоять. Ну, и цокнулись мы с ними. Видел я сам, как казаки нашего Двадцать шастого полка дятишков энтих рубили. Там тогда и Чернецова, командира тех партизан, Подтелков срубил. Ну, думаем, кончилось, будя, таперь всем нам полякшаить. Вот и заняли мы с Голубовым Новочеркасск, так, под вечер, в няво вошли. Многих с наших аж сляза прошибла, слава Табе Господи, таперь мир, кончилась кровипролития. Вошел в Черкасск наш Северный Революционный казачий отряд, а за нами красные гвардейцы, матросы, рабочие, шахтеры пришли. И подняли они пьянство, стряльбу, крик, руготню. Эх, думаем, Русь-матушка, приняли мы тибе на Дон, што-то с того дела получится. И слышим, што собралось заседания Новочеркасского Совета рабочих и солдатских депутатов, а с ними и наш казачий Исполнительный Комитет засядаить. И перьвым ихним решением было арестовать нашего архиерея Гермогена и архиепископа Митрофана. А по всяму городу аресты и расстрелы пошли. Какая-то из Совдепа ихняго баба, Кулакова по фамилии, так энта стерьва сама с револьвером скрозь бегала и на улицах, кого попадя, стряляла. Видим мы: бьють они казаков, кого где запопадуть, кого на улице, кого на базу, кого в погребе, где нашли — там и поряшили. Иных на извозчиках за город к вокзальной мельнице вязуть и там им пули в затылки пушшають. А чатырнадцатого февраля переименовали нашу Войску Донскуя в Донскую Республику. Будто велел это сам Ленин ихний исделать. Так сам на телеграмме и написал своей рукой: Донская Советсткая Ряспублика. Это нам, чаво и говорить, здорово понравилось. И стал во главе нашей ряспублики Подтелков. Переехал он в Ростов и объявил, што вся власть таперь перешла в руки Военно-революционного комитету, трудовых крестьян, рабочих и казаков. А в Черкасске сформировалси Совет рабочих и казачьих депутатов и военным комиссаром назначен был матрос Медведев, бывший сибирский каторжник. И зачали они враз декреты разные издавать. И зачали мы те декреты читать. И зачали, ничаво не остается: никаких нам правов нету, звания от вольного Дону ня будить. Так выходить, што переделають нас в мужиков, да ишо и нашими же руками… И тут же приказ: сдать в трехдневный срок всю оружию, а офицерам и партизанам прийтить и зарегистрироваться. И зачали скрозь по городу аресты производить, волокуть заарестованных на гауптвахту, да не тольки офицеров, и девчат наших молодых, должно институток наших донских али гимназисток, дочерей офицерских. Сам я двух тринадцатилетних кадет видал, тоже сидели заарестованные. И всех их мы же, казаки, охраняли. Сидели они свободно, не запирали мы их, сбирались они по калидорам, межь сибе разговаривали, с нами спорили. Тут я и атамана Назарова видал. Сказал он тогда нам: «Берегите, казаки, офицеров ваших. Пригодятся они вам». Да, а в ночь с семнадцатого на восемнадцатое февраля пришли матросы и красногвардейцы и забрали Назарова, Волошинова, Усачева, Исаева, Грудеева, Ротта и Тарарина, все, кажись, гиняралы они были, точно мы ня знали, погоны с них при аресте посрывали. И сказали нам, што переводятся они в городскую тюрьму, потому што народный суд над ними будить. Забрали и увяли. А увяли их в Краснокутскую рощу и там всех, как есть, порастреляли. И зачались обратно по городу расстрелы. Красногвардейцы, шахтеры, матросы, латыши. А мы, казаки, глядим на всё это, и головы у нас кругом пошли: ить это наших же казаков мужики бьют. И зачались у нас с матросами и красными гвардейцами стычки и драки. В рукопашную мы с ними ходили, отбивали у них тех, кого они на расстрел вели. А то ишо и так они делали, как в энтом лазарете Общества Донских Врачей. Вынесли на улицу ранетых офицеров, которые там лежали, и волокуть их на расстрел. Тут женщины сбеглись, кричать, плачуть. А они им и говорять:
— Выкупай, бабы. Двести рублей штука. Плати и забирай, у кого деньги есть.
Вынула одна, а в ней всяво четыреста рублей. Отдает матросам, а те ей шумять:
— Выбирай кого хотишь!
Вот, значить, думка у нее: двух она спасеть, а все сорок на нее глядять, кажный жизни надеется. Взяла перьвых попавшихся, облилась слезами, а остальных уволокли они, постряляли. А Волошинов, энтот, што посля революции перьвым атаманом был, того вместе с Назаровым ночью расстреляли, да не добили, осталси он ляжать чижало ранетый, вылез из балки и возле хатенки крайней бабу одну увидал. Попросил укрыть яво, а она, жана она одного рабочего-иногородныго была, побегла и матросам об нем сказала. Пришли они и штыками яво прикончили. На город же, на Черкасск, контрибуцию в пять миллионов рублей наложили, с тем, штоб в чатыре дня собрана она жителями была. Тут же и приказ вышел: трупы, которые на улицах по городу валяются, должно население закопать, потому эпидемия от разложения трупов тех произойтить может. Даже газета ихняя «Известия» приказ тот напечатала…
Казак замолкает, переводит дух и тянется к рюмке. Вместе с ним молча выпивают и все остальные. Крепко хруснув пальцами сжатых рук, низко наклонив голову, продолжает он:
— Ить какая она дела получилась, почяму всё оно так вышло, ить это, как хохлы говорять, разжевать надо. Ну, хоша бы Каледина-атамана взять. Оно, конешно, нагляделись мы на солдатов хорошо, толковать не приходится, банда кровожадная. Только и то во вниманию принять, што и сами мы так, зазря, головы подставляли и муки мученические примали, потому как послали нас на войну энти самые паны, которые свою старую Расею и царя свово проворонили и предали. А таперь обратно же нас, казаков, эти же самые цари на Расею порядок наводить гнать норовять. Ить ишо на государственном совещании в Москве Каледин наш вроде от имени всех казаков сказал, што нужно порядок по всяей Расее навести. И таперь слышим, што с гиняралами русскими триумвират какой-то он заключил, и нас на Расею с плетюганами гнать. Порядок русским сзаду всаживать. Вот это нам по ндраву и не пришлось. А тут ишо — мы бы домой, а наш же атаман нас на фронте держить. Должны таперь тольки мы и немцев, и австрийцев, и турков бить, и солдатов русских разбежавшихся скрозь разыскивать и, как тех зайцев, ловить, обратно их на фронт гнать, а фронту-то энтого, почитай, што и нету, все, как есть, поразбегались. А в полки к нам агитаторы поналезли, как те вши в кожухе, сидять, видимо и невидимо. И одно нам толкують: сам Ленин ихний нам, казакам, ряспублику объявил, могём мы домой иттить.
Отец откашливается и, щурясь, спрашивает:
— Н-нусь, казачок, поняли вы теперь, как вас большевики надули?
Казак темнеет в лице и совсем резко отвечает:
— Мы-то много чего поняли, потому што пробуется оно на шкуре нашей. Да, видать, не все ишо поняли, как с нами говорить надо. Из дятишков давно мы повырастали, — лишь на минутку замолкнув, не глянув даже на отца, продолжает спокойно говорить: — Да, понять-то мы поняли, тольки на бяду нашу не от тех, на кого понадеялись. Не от своих. А наши тольки и хотели, што за ету Расею нас в новуя драку втравить. Да привяди они нас на Дон, да не болей об германьском фронте, а тольки об своём, об Доне, иной бы коленкор у нас вышел. Ить шистьдясят полков наших было, а скольки батарей, а отдельные команды и сотни. Эх, вот тогда ряспублику нашу нихто бы задавить не посмел. Да ишо, при энтом российском всеопчем развале, сказал бы иную слову, да женщины тут. Справдишним же гяроем был у нас Назаров-атаман. Ить прямо он нам говорил, што няхай яво убьють, не боиться он того. И што даже хорошо энто будить, поднимуться тогда казаки, поймуть, што им делать надо. Вот таперь и вся надея наша на то, што офицеры наши поймуть, наконец, што оно и куды. И не полезуть обратно Расею пороть и спасать, как Каледин через триумвират свой делать сбиралси. Вон Попов-гинярал, энтот, што партизан своих в Сальские степи увел, ить советовал он Каледину бальер казачье-украинский исделать по линии Оренбург-Курск, и тем отрезать и Дон, и Украину, и весь, как есть, юг Расеи, и тем большевиков на корню поморить. А всех энтих, што сибе за главных русских патриотов объявили и к нам понабегли, всех энтих дяникиных, алексеевых, романовских, и хто там ишо есть, в район Саратов-Камышин посадить. Няхай оттель Расею свою с русаками сами спасають. Так нет же, посбирал их Каледин, и сам себе на шею посадил. Вот и выручили они яво. Когда подошло в Черкасске узлом к гузну, што Корнилов Каледину сапчил? «Ухожу на Кубань». И крышка. И как их, добровольцев этих Попов-гинярал, посля того, как стал он Походным Атаманом, ни уговаривал в Ольгинской станице, иде они совешшанию свою делали, как ни уговаривал вместе с ним в Сальские степи итти, генерал Алексеев и слушать не хотел. Одно твердил: на Кубань, а там — на Кавказ, а в случае чаво — распыляться, полные штаны гинярал наклал. И понял Попов наш, в чём у них дело: могут они распыляться; хто они, эти две тыщи добровольцев — сбеглись к нам, шкуру свою спасая, бывшие люди, кто откуда попал, с бору да с сосенки посбирались. Им и разбегаться так же легко, как той шайке карманников. А мы, казаки, мы на стипе нашей тыщу лет всем народом живем, нам распыляться некуда, у нас другой вопрос: переведуть нас, казаков, русские, аль нет, устоим мы. Вон он вопрос, в чём и понял яво гинярал Попов правильно.
Отец быстро перебивает урядника:
— Совсем я с вами не согласен. Вы же понимать должны, что генерал Алексеев, бывший Верховный Главнокомандующий Русской армии, ведь это же голова! Ему и книги в руки…
Урядник горько усмехается:
— Во-во. Вот на этом обратно мы протяпать могём. Ежели чужим, один раз сбанкротившимся гиняралам, за хвосты цапляться будем. Думается мине, што должны мы с Калединым вместе российские наши думки похоронить. Своё нам дело делать надо. Вон и Назаров нам говорил… на гауптвахте…
— А вы там были? Видели его?
— А то как же! Ить наши караулы кажный день смянялись. Ноне от нашего, двадцать сямова, а завтрева — от десятого. Назаров с нами кажный день в колидоре разговаривал. Слухали мы яво молча, в землю глядели, совесть нас мучила. А поделать ничаво не могли, потому таперь мы под революционной дистяплиной стояли. Што новое наше начальство прикажить нам, то мы и творили. Голубов нами заворачивал. Одно тольки нам ясно было: правильно Назаров гутарить. И чаво б яво не вопросили — враз он отвячал. И какую слову не скажить, за сердце она нас брала. Говорил он: поунистожуть большевики атаманов, перебьють их всех, братьев ваших — офицеров, постряляють, а потом за стариков возьмуться… И тут мы дюже прислухивались, вон, хучь мине возьмитя, я — младший урядник, брат наш середний — сотник, а старший брат, отец яво в науку отдал, в кадетском корпусе он училси, а мы быкам хвосты крутили, как энтот полковник. Тут у нас вовсе она дела иная, не в пример русской пяхоте, там солдат с Пензы, а офицер фон-барон с Курляндии. Мы, казаки, с офицерами свои, родня вроде сказать. И ишо Назаров говорил, што мужичьи комитеты большаки у нас понасажають, зажиточных казаков вместе со стариками побьють, церьква опоганють, над верой нашей дедовской надругаются, всё добро у нас позабяруть, с Расеи к нам мужиков понаселють и зачнуть казачиству нашу во-взят переводить и снистожать. И вот, когда мы всё ета на шкуре сами своей опробуем, тогда, так говорил он — поднимется Дон и повыгонить всех красных в Расею ихнюю. Потому, говорил он, што ни чужой гнет, ни тиранство никогда казаки над собой не признавали. Другой мы народ, говорил, не в пример русским, нас в мужичий хомут не запречь. И ишо говорил — как отпашутся вясной казаки, так Дон и подымется. То же и Попов-гинярал партизанам своим толковал. И ишо Назаров нам сказал: и вы, говорить, сторожа наши нонешние, завтрева с нами вместе за Дон подниметесь. Прямо говорил. И завсегда спокойный был такой, будто не под страхом смерти сидить, а на завалинке с нами гуторить. И никогда никого не боялся. Одново разу заявилси к нам пьяный матрос и зачал по-российски в бога-мать крыть. Вышел атаман из камеры своей да как крикнеть:
— Позвать суды начальника караула!
Прибег он, стал перед ним смирно:
— Што изволитя?
— Как вам, казакам, не стыдно, шумить, не совестно? Пускаете сюда большевиков, а те ругаются тут, как пьяные извозчики. И вашего выборного атамана ругают. Не им меня судить, а вам, казакам. Убрать этого мерзавца отсюда и не пускать на гауптвахту всякой сволочи!
Козярнул урядник: «Слухаюсь!». Обярнулси, а матроса давно и дух простыл. Вот это — атаман был, да! И с того дню никого мы на гауптвахту не пускали. Эх, обманули нас, когда пришли и сказали, што переводять их всех в тюрьму для суда. Поверил им урядник наш, посля хваталси за голову, да поздно было. Ить когда постановили Назарова расстреливать, снял он с щеи иконку, ту, што мать яво дала яму, вон, поди, точно такуя, как и у мине есть, да, снял, окстилси и поцеловал ту иконку. Хотели яму глаза завязать, ну не дал он: я, говорить, со смертью в жмурки не играю. И спросил он, вроде как старый военный, штобы дозволили яму расстрелом своим самому командывать. Согласились они. Вот и подал он команду: «Сво-олочь — пли!». И выпалила сволочь энта. Послухалась правильной команды… Ох, и пошло же тут посля того расстрелу промежь нас, голубовцев, ить атамана нашего, говорили мы, казаки выбирали, стало быть, казаки же и судить яво должны были, а вовсе не сволочь ета московская. Тут и поняли мы вовсе, как правильно Назаров говорил, што не будуть большаки с нами считаться, што ноне атаманов побьють, а завтри за нас самих возьмуться. Што пустють они красный террор по хуторам. Открыл расстрел этот нам глаза. А ишо, посля этого расстрелу, девятнадцатого февраля это было, в полдень, как раз пришли казаки десятого полка смянять нас на гауптвахте. И только зачалась смена караула, как вывалила на площадь толпа народу — тут табе красные гвардейцы, солдатня, матросы, шахтеры, рабочие, бабы, кого тольки нет. И пруть к нам. И одно оруть: «Даешь ахвицеров!». Побить их хотять. Тут наш урядник, начальник караула, команду на сибе взял. Погодитя, говорить, товариш-ши, дадим мы вам пить. А те одно пруть, всё ближе и ближе. И подал наш урядник команду:
— Трубач, трявогу!
Резанул трубач на трубе, и вся толпа, как вкопанная, остановилась. Велел нам урядник два наших пулемета выкатить, а полувзвод казаков в цепь рассыпал. И обратно командуить:
— Без команды огня не открывать. Патрон боявой. Зарядить винтовки. Прицел постоянный. Пулеметчики вставь ленты. Винтовки на руку! — и толпе: — Ишо один шаг — огонь открою! А ну — шлитя парламентеров!
Взревели, было, какие в толпе, другие шушукаться зачали.
Прислали трех парламентеров. Двух солдат и одного матроса. И требують они от нас выдачи ахвицеров-контрреволюционеров.
А урядник им:
— Никаких у мине контрреволюционеров нету. Поняли? И штоб враз вы разошлись, за пять минут не разойдетесь — огонь открою.
Замялись те, а в толпе, глядим: один суды, другой туды, третий через забор. И двух минут не прошло — порожняя площадь стала, будто мятлой ее подмяли.
И обратно командуить урядник:
— Вынь патрон! Трубач, отбой!
Принял караул десятый полк, а мы ишо одну ночь добровольно остались, для всякого случаю. И не посмели те обратно на нас кидаться. Отучил их наш урядник.
В Ростове декрет издали, должны все станицы оружию сдать и офицеров выдать. Тут и увидали мы, што и Голубов, и Подтелков обманаты. Либо их самих, как тех глупых дятишков, краснюки обманули. Ага, думаем сабе, таперь много у нас дела будить, потому знаем мы, што большавицкий главный командующий Антонов-Овсеенко на нас таперь пойдеть. А у няво — тридцать тыщ солдат, да пулеметов двести, да боле тридцати легких орудий, да чижолых чатыри, да бронеавтомобилев нескольки. И таперь всех нас задача красных тех побить, а всё военное ихнее снаряжение сабе позабирать…
Внезапно встает со своего места князь, крепко жмет казаку руку и говорит дрогнувшим голосом:
— Если б только знали вы, как от всего сердца желаю я вам успеха… ах, вот если бы все ваши так… думали, как вы.
* * *
Договорившись с братьями Коростиными о всём, твердо решив завтра же ночью уйти с ними к Попову в Сальские степи, но лишь в полночь, набегавшись по хутору, уснул Семен.
Завтра рано вставать надо… вставать…
— Вставай, Семён! Эк тебя разобрало! А ну-ка, по-военному — раз, два и готово! — дядя Воля трясет племянника до тех пор, пока не приходит он в себя окончательно. — Одевайся. Быстро. Отец твой маме помогает. Сейчас поедем все. Куда и зачем — потом узнаешь…
Выскочив в коридор совершенно готовым, наталкивается Семён на маму, та ловит его за руку, ведет вслед за отцом и оборачиваются они, уже стоя на дворе. В дверной раме тускло освещенного куреня стоят рядышком дядя Ваня и тетка.
— Ну, с Богом, с Богом, поспяшитя, а ни я, ни брательник мой сроду от родительских куреней никуда не пойдем. Никого мы не боимси. Вон он, топорик мой, у притолоки стоить. Враз мы их отцель распужаем. Яжжайтя, яжжайтя, храни вас Мать Пресвятая Богородица!
Во дворе ждет их запряженный парой серых лошадок просторный тарантас. Все быстро усаживаются, отец берет вожжи, быстро трясет руку прихромавшему к подводе дяде Ване, щелкает кнутом и выкатывает за ворота. До рассвета еще вовсе далеко, но, привыкнув к темноте, ясно различают глаза едущих впереди и позади их подводы с сидящими на них закутанными фигурами. А вон они — дядя Воля и Савелий Степанович, оба верхами, у обоих за плечами винтовки, а вон и еще несколько конных, да что же это такое творится, куда они едут? Огней в окнах нигде не видно, спит хутор или только так кажется? Почти из каждого двора тихо, как привидения, выворачивают телеги, выскакивают конные, ворота снова неслышно закрываются, да в чем же дело, почему даже собаки не лают?
Давно выехали в степь, повернули боковой дорожкой, перевалили через бугор, едут в темноту, в неизвестность. Тепло Семёну, пригрелся, зарывшись в сено, и зажмурил глаза, притих, окончательно пришел в себя, лишь сидя на лавке в ярко освещенной комнате, видно, гостиной, совершенно не известного ему дома. Усаживает его мама поудобней. Оглядевшись, видит он себя в компании всех Коростиных. Тут же и все остальные из дяди Ваниного куреня. А какой-то сморщенный старичок и такая же старушка, ему не известные, видимо, хозяева этого дома, куда они приехали. Оба одеты они точно так же, как одевались и его дедушка с бабушкой, по старинке, тепло и просторно. Девка в валенках вносит и ставит на стол кипящий самовар. Сквозь плотно закрытые ставни скупо пробивается свет начинающего бледнеть неба. Старушка-хозяйка усаживается к самовару, все получают по стакану горячего чая, стол заставляется такими же разносолами, как это и у них на хуторе было, и лежит в корзиночках свежий, только что испеченный, вкусно пахнущий хлеб. Почувствовав голод, берет краюшку, мажет на нее тающее от теплого хлеба масло, откусывает с аппетитом хрустящую корку, налегает на чай с молоком, и лишь теперь слышит голос незнакомой старушки:
— Святые угодники! Ужасти какие! Да как же всё случилось?
Отвечает ей Савелий Степанович:
— Матросы мне никак по-настоящему не доверяли. Спал я всегда вместе с комиссаром, и хоть многое он мне говорил, но о главном умалчивал. Позавчера же, с вечера, оставил со мной одного матроса и ушел. Вернулся только к полуночи, принесла хозяйка самовар, только заметил я, что глаза у нее красные, заплаканные. Хотел было спросить ее, в чем дело, да исчезла она. Положились мы спать, крепко я уснул, греха таить не буду, выпили мы немного за чаем. Проснулся я будто от толчка, глянул, а комиссара моего нет. Вышел я в сенцы, а хозяйка мне навстречу, причитает, слезами заливается, едва я ее водой отпоил. И рассказала она мне, что ночью этой комиссар почти всех стариков, станичного атамана, учителя, священника, всех переарестовал и повели матросы их на станцию через заросшие красноталом пески, с версту там идти надо. Зашел он ко мне, дождался, пока усну, и сам туда же. А хозяйка наша всю ночь не спала, через занавески, огня не зажигая, за всем наблюдала. Выскочила она вслед за комиссаром во двор и видит: бежит соседка ее, как сумасшедшая, мимо, увидала ее, и только и успела крикнуть: «Всех, как есть, в талах показнили!».
И исчезла. А комиссар на станцию поскакал, на телеграф. Телеграфист же, наш казак, когда расселись на станции матросы и стали там водку пить, вышел потихоньку из будки своей и смылся в станицу. И по дороге в краснотале на убитых стариков наскочил. Постреляли их, штыками покололи, шашками порубили. С учителем и священником тридцать трое их там лежало. Не успела мне хозяйка всё рассказать, вот тебе и телеграфист, мой он старый знакомый, вскакивает в курень и прямо мне:
— Уходи, Савелий Степаныч, сычас воротятся, они и тебя первого убьют, телеграмма с Царицына пришла, што контрик ты.
Выскочил я во двор, дала мне хозяйка маштачка, а темно еще вовсе было, телеграфист же за мной, тоже верьхи, увязался, и сказал он мне, что следующей ночью пойдут матросы на Писарев, и список у них есть, кого брать будут. Атамана, стариков видных, вот Сергея Алексеевича, и всех их расстрелять им велено. А всё потому, что поднялись на Низу казачьи станицы, первой Суворовская, а за ней остальные. И будто генерал Попов из калмыцких степей на Черкасск пошел. Поднялся наш Дон-батюшка. Вот и успел я в Писареве всех перед рассветом взбулгачить.
Встав из-за стола, моргнув многозначительно Семёну, вышел из комнаты Виталий со своими братьями. Придвинула мама Семёну вареников, взял он один, прожевал, сказал коротко: «Я сейчас», и тоже вышел во двор. Куда же это заехали они? Никогда он тут не бывал. В глубокой котловине, весь заросший вербами и ракитами, раскинулся вокруг небольшого пруда маленький хуторок. Кажется, Дубки называется. Видно, средней руки помещик живет. Ничего отсюда не видно, хуторок, будто в колдобинке, спрятался, снаружи, со степи, и не увидать его, пока вовсе близко не подъедешь.
Валерий тянет Семёна за рукав и отводит за сарай:
— Слушай сюда: побили красные вчера стариков в станице, а что они сегодня в Писареве натворят, неизвестно. Но недолго им царствовать, слыхал, по всему Дону восстание. И нам теперь ушами хлопать нечего…
Из дома выходят дядя Воля и Савелий Степанович. Шагнув к племяннику, крестит его дядя, Савелий Степанович жмет ему руку и почти хором говорят они ему:
— А мы на Разуваев. Бабушку надо там устроить. Может быть, на Арчаду ее повезем. Туда и вы приедете. Ну, бывай здоров…
Вывели коней, махнули в сёдла, пустили с места карьером, и, глянь — только были на бугре, и нет их больше.
Старушка-хозяйка вышла с князем на крыльцо. Глядит она на нового своего знакомого и шепчет побледневшими губами:
— Да как же это так… да что же это такое?.. Россия наша, матушка Русь православная… и… и… это же невозможно…
Морщится князь Югушев:
— Русь православная, говорите? Подождите — новый Пугачев пришел, с прогрессивными идеями, университетским образованием и интернациональной выучкой. Сорвет он ее, матушку-Русь, с нарезов, да так, что всем нам небо с овчинку покажется… так, кажется, казаки ваши говорят?
А с бугра кричат:
— Господин атаман! Хтой-тось по стипе охлюпкой кроить! И вот он — кубарем скатывается с кручи, спрыгивает с замыленного конишки. Вихрастый, в одной рубахе и старых, видно, отцовских шароварах, Васька, соседов сын, четырнадцатилетний казачонок. Знает его Семён хорошо, вместе они Христа славили. Бросив коня посередине двора, подбежав к атаману, волнуясь, докладывает:
— Явланпий Сидорыч, господин атаман! Не успели вы уехать, часу времени не прошло, заявилась энта красная гвардия в хутор. Никто не спал, а я на мельницу, на подловке схоронилси. Оттуда всё, как есть, видал, рассвело уже. И подняли они стряльбу, и пошли от куреня к куреню, а было их человек с пятьдесят, на подводах прискакали, всё пяхота да матросы. Враз они по всяму хутору рассыпались и, куда в двор не забягуть — нигде никого с казаков нету. Ох, и остярвилси же энтот комиссар ихний, кинулси вот к Семёнову дяде в курень. А он с теткой на порог вышел. Как заореть комиссар:
— Взять их, контрреволюцию!
А тетка ихняя как ухватить энтот топор свой, да как станить посперед дяди, да как замахнеть тем топором, да как зашумить:
— А хто ты есть, прохвост, а? Тоже, поди, разбойник, с Сибири сбежавший. А ну, подойди, подойди, я тибе охряшшу.
Тут один с матросов в нее с винтовки вдарил. Будто хто ее сзаду наземь рванул — так навзничь и повалилась. А Семёнов дядя в мент один ухватил тот топор, да как шибанеть яво и прямо тому комиссару в голову. Упал тот, захрипел, кровишша из няво потекла. Красные гвардейцы и матросы тут на дядю кинулись, со сходцев и яво, и тетку мертвую стянули, штыками их кололи, стряляли в них, ногами топтали, чаво тольки не делали и посля того на воротах их повесили. Мертвых. Так и висять там. А потом, как зашли в курени ихние, как зачали добро на улицу ташшить и в окошки выкидывать, как зачали там хозяйскую водку пить, с ледника, с погреба всё, как есть, волокуть, в курей-утей с винтовок бьють.
И тут привяли к ним двух оставшихся в хуторе стариков — слепого Кондрата и деда Афанасия, энтого, што ишо с турецкой войне без ноги пришел. Привяли их, постановили к анбару и залпом в них вдарили. Так они там и ляжать.
И тогда пошли все в курени Поповых, в обоих расселись и обратно зачали водку пить и гармошка у них заиграла.
Слез я с подловки с мельнишной, ухватил нашего карего на базу, да речкой, речкой… и ушел. Тольки того и слыхал, как в куренях бабы кричать, матросы за ними гоняются, тянуть их кудысь, кофты-юбки с них рвуть…
Часть IV
Быстро бегут угольные горки, проплывают, как привидения, и тонут, растворяются в надвигающемся сумраке.
Капища, молельни, мечети, пагоды, храмы. Сколько построили их люди и сколько сами же разрушили? Скольким служили они для молитв и проповедей о любви, и скольким для призывов о мести и ненависти?
Инквизиция, крестовые походы, уничтожение иноверцев в Сибири, преследования староверов, гугеноты…
Но вот они — пришли новые преобразователи. С винтовками. И объявили религию опиумом для народа, и уничтожили тысячи храмов и перебили десятки тысяч священников. И разрушили их дико, по-изуверски, сожгли и опоганили.
И глядят на них, разрушителей и убийц, такие же, как и они, двуногие, со всех концов мира. И выжидают: чья возьмет. И заводят с ними и торговлю, и дружбу, решив, что правильно сказал один из представителей культурного Запада: торговать можно и с каннибалами.
И с тех пор объявлено дело людей с винтовками светлой дорогой в будущее, прогрессом, реальностью, с которой обязательно надо считаться. Реальностью новых законов, объявивших войну дворцам и разрушивших, спаливших десятки тысяч хижин.
Чьих же хижин?
Да наших, казачьих.
Никто в мире за них не заступился. Никто не ужаснулся страшному насилию, страшной, кровавой неправде. Никто. Ведь это же, — сказали в культурном мире, — революция. Это же, безусловно, прогресс, в начале своем так похожий на землетрясение, на геологический сдвиг. Это же впервые приобретенное право вчерашнего раба, вдруг взбесившегося на воле и пошедшего крушить всё, что только ему под руку подвернулось. Это же законное его стремление к светлой для него цели: в первый раз за сотни лет нажраться доотвала и, залив глаза спиртом, уничтожить всё, что становится ему на хамском пути его.
Но не сам выбрал он эту дорогу. Его вели. Вели не к аракчеевщине, не к барщине, не в новое крепостное право, а в рабство особое, новое, выдуманное не какими-то средневековыми князьями и боярами, не царями и их опричниками, а учителями из числа бездушных теоретиков, слепых начетчиков, ненавидящих и обозленных, наконец-то, дорвавшихся до топора обиженных полуинтеллигентов.
И сгорели степные курени и церкви казачьи. Поднялся, заклубился дым от пожарищ, но ни до неба, ни до сознания людей не дошел…
И снова поет Семён казачью песню:
Отцовский дом покинул мальчик, я Травою двор зарастёт. Собачка, верная твоя слуга, Не взлает у ворот…Только не слышать бы гула мотора, не глядеть на бесконечную ленту с призраками храмов и капищ. А закрыв глаза, снова и снова вспоминать страшное прошлое.
* * *
— Джиу!
Сначала не обратил он внимания на этот странный звук. Лишь с удивлением глянул на почему-то попадавших в канавы казаков, положивших винтовки на поросшие тернами, осыпавшиеся желтым суглинком валы. Серьёзными, хмурыми взглядами провожали они его, не говоря ни слова. Только командовавший ими урядник, пригнувшись за кучу кизяков, крикнул вслед:
— И куды тибе черти нясуть?
— Джиу!
Перепрыгнув канаву, не оглядываясь, быстро бежит он на полого поднимающийся перед ним склон, туда, на самый верх бугра, ничего не слыша, кроме слов вахмистра, сунувшего ему в руку клочок бумажки и сказавшего:
— Бяги вон туды, на курган разрытый, наблюдатель там наш сидить. Цадулькю яму отдашь. Да одним духом, как заяц, мотай.
Вот и побежал он по только что пробившейся веселой траве. Прекрасно ему всё здесь знакомо, часто приходил он сюда с хуторскими ребятами, глядел вниз на Иловлю, на широко раскинувшиеся луга и левады, на пашни и музги, на протянувшийся по левому берегу лесок, называемый казаками Редкодубом. Там, на этом кургане, сидит теперь сотник, наблюдатель той батареи, в которую приняли его на прошлой неделе казаки, почему-то молча и сердито на него глядевшие.
— Да табе скольки годов-то?
— Ты мамкину сиськю когда сосать бросил, вчора?
Но, узнав его историю, принял Семёна командир батареи добровольцем, велел зачислить на довольствие, дал ему и коня с седлом, с порванными пустыми сумами — хозяина коня убили вчера утром, получил он и шашку, и винтовку с десятью патронами, и вступил в Донскую Армию вольноопределяющимся.
— Джиу!
Да что это за чертовщина? Всё чаще и чаще. Шмели сказать — так не шмели это, те вовсе по-иному гудят: в-в-вумм! И не пчёлы, нет в Писареве хуторе пчеловодов. Почему так пронзительно, быстро и отрывисто?
— Джиу, джиу! Джи!
На этот раз слышен короткий свист совсем близко, что-то, щелкнув о голыш, падает позади, в двух шагах. Быстро обернувшись, схватывает он ослабевшую на излете пулю, упавшую в пыль и совсем еще горячую, и лишь теперь понимает в чем же дело. И лишь теперь ясно различает винтовочные выстрелы:
— Так… та-ак… так!
Ох, да это же по нём стреляют! Красные! Идут они оттуда, из России, из Саратовской губернии, к речке Иловле, к границе казачьей. Еще вчера узнали у нас, что, будто бы целый их батальон вышел из Малой Ивановки и хотят они здесь, у хутора Писарева, сбить казаков с бугров и войти в пределы Войска Донского.
— Джи!
Ого, совсем близко! Пригнувшись так, как учил его урядник Алатырцев еще в школе хутора Разуваева, едва переводя дух, бежит он дальше, и, слава Богу, вот они, наконец, и разрытый курган, и наблюдатель сотник Широков, и недвижно лежащий на земле, с головой покрытый шинелью, видимо, раненный, казак-телефонист.
Крепкий, росту невысокого, подтянутый и аккуратный, рябоватый и черноволосый, сотник Широков чин свой получил, начав Германскую войну с рядового и столько насобирал на ней крестов и медалей, что за невероятную удаль, храбрость и смекалку получил чин офицерский.
— Ага, явилси, кужонок! Ну, и хорошо, а то вон он, видал ты яво, Сеня мой, выглянул трошки, а яво и резануло пулей, почитай, што в висок. А ты чаво вылупилси, суды лучше глянь, вон они, вон, из ляску выходють… тю, да ты не дюже голову подымай, а то и тибе, как Сеню, резанёть.
Семён осторожно выглядывает через кромку кургана на так хорошо знакомый левый берег Иловли, на Редкодуб и далекие пологие бугры Саратовской губернии. Так и есть — вон они, хорошо их видать, вышли из леса цепью, ого, больше сотни будет. Перебегают, ложаться, постреливают, вскочив, снова бегут и снова падают в прикрытия. А вон и вторая цепь странных, по-разному одетых, людей. И там поблескивают на солнце штыки, слышны винтовочные выстрелы, видно, наши с правого берега им тоже не молчат.
В бинокль наблюдает за ними сотник:
— Ага, видал, вон она, третья цепь прёть! Ишь ты, скольки их набралось, гля, есть вроде и в вольной одеже, должно, мужички мобилизованные, а може, и рабочие царицынские. Ну, погодитя! А ну-ка, вольноопряделяюшший, к телефону!
Семён хватается за какую-то ручку, телефона полевого в жизни своей никогда он еще не видывал, пытается ее крутить, и вдруг с ужасом видит, как буряк, покрасневшее лицо сотника. Одним рывком выхватывает он из его рук аппарат и, зажав телефон меж ног, укладывается поудобнее и лишь на одно мгновение обжигает Семёна сердитым взглядом:
— Тут враз не понять, хто дурней — те, што посылають аль те, кого посылають! Сиди там внизу и ня рыпайси, вояка. Бис тибе управлюсь.
И, лишь на мгновение припав к биноклю, кричит в трубку:
— Вахмистра, слышь, гранатой, гранатой их пужани!
И сыплет какими-то непонятными цифрами и словами, из которых ясно можно различить лишь два: прицел и трубка.
— Г-га-ах! — рявкает где-то за хутором трехдюймовка и через мгновение прекрасно слышно, как высоко над ними, немного в стороне, пролетает снаряд. Взметнув к небу смерч огня и дыма, рвется он в самой середине перебегающей красной пехоты, далеко правее его разрывается второй и совсем на левом фланге грохает третий разрыв. Заметались пехотинцы. Передняя цепь совсем смешалась, многие ползут назад, к лесу, на правом ихнем фланге вскочило трое и быстро, согнувшись, как зайцы, исчезли в кустах краснотала. Ага! Дали мы вам жару!
— На шрапнель таперь, на шрапнель станови!
Это кричит в трубку совершенно разгорячившийся сотник, уже стоящий во весь рост на кургане. И снова какие-то трубки, прицелы, цифры, ноли.
Высоко в воздухе вспыхивают белые, протканные молниями облачка, прижались к земле, неподвижно лежат до того быстро перебегавшие цепи.
— Будя! — кричит сотник и хватается за бинокль.
Из леса, с тыла наступающих, вихрем выносится кавалерия, широким полукругом охватывает весь луг и мгновенно долетает до вскакивающих, бегущих, стреляющих с колена и падающих красных. Под яркими лучами высоко взобравшегося солнца вспыхивают взлетающие над головами конников палаши. Ог-го! Да ведь это же наши, наши это красных рубят! Семён выскакивает из выемки и становится рядом с сотником.
А там, в лугах, давно уже смешалось всё в кучу — выстрелов больше почти и не слышно, ни понять, ни разглядеть толком ничего невозможно, только, вон, выскочили из свалки два коня без седоков, отбежали к лесу и остановились.
Сотник аккуратно складывает аппарат, поправляет пояс, отряхивает шинель, быстро сняв фуражку, вытирает рукавом пот со лба и, улыбаясь по-дружески, подмигивает Семёну:
— Видал ты, как мы им пить дали? И без пристрелки! — и вдруг мрачнеет: — А понял ты, ай нет, што это началось, а? Война наша казачья с Расеей, вот што.
А там, в Редкодубе, уже построились три атаковавшие сотни, отзвенел в воздухе и давно замер сигнал отбоя, двинулись конные к броду через Иловлю, а вон, стороной, зашагали взятые в плен красные и ярко, и тепло согрело всех их выбравшееся из белой кипени облаков горячее солнце. Ушли с лугов все, лишь остались неподвижно лежать порубленные пехотинцы. Сколько их — отсюда и не перечесть. Лишь теперь спрашивает Семён сотника:
— А почему же из трех орудий только одно стреляло?
— Эх ты, простота! Да она у нас тольки одна и годная. Энти две так, для близиру, таскаем, няхай народ шумить, будто у нас, почитай, целая батарея, у них и замков нету. И снарядов таперь не боле десяти штук осталось. Да ты брось, битых не считай, хто яво знаить, до чаво ишо мы досчитаимси.
Потные и запыхавшиеся выростают у кургана санитары с носилками.
— Иде тут ранетый?
Первый санитар сдергивает шинель с раненого, быстро над ним наклоняется и вдруг взглядывает на сотника остановившимися глазами.
— Тю, да-ть он, никак, кончилси!
В ужасе смотрит Семён на темное, залитое кровью лицо. Молодой, совсем молодой, откуда он, желторотый? Лишь коротко глянув на лежащего, махает сотник рукой:
— И носить яво некуды. Тут и зароем. Сирота он был. Знаю я Сеню хорошо. Родителев яво в Иловлинской красные матросы возля вокзалу в краснотале побили. Шла у яво и тетка, да та, от матросов убягая, в речке утопла. Сирота он круглый, вон, не хуже Семёна, к нам в батарею прибилси.
Санитары покрывают убитого его шинелью, присыпают полы землей, чтобы ветром не сдуло.
— Попа бы суды, да иде их, попов, таперь взять. У нас в станице красные их, почитай, всех, кого побили, кого по стипе пораспужали, поди, их сбирай таперь… а дали вы им, господин сотник, духу! Наши их штук шистьдясят порубали, да ранетых тридцать два, да пленных сотни с две. И комиссар при них был, весь, как есть, в кожаной одеже. Повяли и яво наши, да не схотели писаревцы, штоб он погаными ногами своими землю нашу донскую топтал, срубили яво в кустах.
Закинув винтовку за плечо, согнувшись под тяжестью полевого телефона, бросил еще раз взгляд Семён на сиротливо лежавшего под шинелью убитого, на синее небо, прислушался к полной, звенящей тишине и зашагал с кургана вслед за сотником и санитарами.
…Когда прискакал тогда на Дубки казачонок и рассказал всё, что на Писареве произошло, собрались они в доме тех старичков, каких-то мелкопоместных дворян, долго возбужденно о всём толковали, допоздна не расходились, и не сводила мама с него глаз и никуда от себя не отпускала. Лишь раза два выходил отец к лошадям, корму давать. Не выпряг он их, так и стояли запряженные под навесом. Только к полночи легли все спать покотом, не раздеваясь, прямо на полу в гостиной. А выставленные дозорные, видно, не особенно-то хорошо в темноту приглядывались, и, когда резанул ружейный выстрел, первым вскочил отец, за ним атаман, а потом и все остальные. Вокруг хутора поднялась беспорядочная стрельба. Кто-то кричал не своим голосом:
— Вы-х-ха-ади! Краснюки иду-уть!
Мама выскочила во двор прямо в объятия отца, сразу же потянувшего ее к тарантасу.
— Семён, Семушка, да где же ты, иди сюда!
Успела она схватить его за полу, да испугались хлопнувших совсем рядом выстрелов кони, рванули с места в карьер, вынесли тарантас куда-то в ночь, в темноту, и остался он в середине двора, ничего не видя и не понимая, совершенно растерявшись.
— Это ты? А ну сюда, за мной, за скирды, за скирды! Юшка Коростин тянет его за руку и бегут они вместе, ничего не видя и не соображая. А сверху, с бугра, раскатившись по всей степи, грохнул и разнесся по хутору винтовочный залп.
— Сюда, сюда, на гумно, а там — канава, а канавой мы в степь уйдем, мы с Виталием всё наперед разглядели. Там пересидим!
Спотыкаясь, не сразу привыкнув к темноте, бежит он за Юшкой, скорее, чувствует, чем видит его, куда-то поворачивает, на что-то натыкается, валится вместе с ним в канаву и снова бежит, всё дальше и дальше…
А подошедшие незамеченными в темноте матросы двинулись, было, к хутору вниз по дороге, да всё же увидал их старик-дозорный и грохнул из дробовика в первую наскочившую на него фигуру, взвывшую нечеловеческим голосом. Снова хватил старик дробью из второго ствола и искровянил, и изуродовал лицо второго матроса. Но не растерялся их старший, выпустив всю обойму туда, вниз, где должен был стоять барский дом. Кинулись остальные на широкий двор, и кто кого бил в наступившей свалке, понять было невозможно. Лишь через полчаса стало ясно, что обороняющихся больше нет.
В наступившей жуткой тишине старший сделал перекличку. Пошло их из Писарева двадцать пять человек, а теперь собралось шестнадцать. Остальные лежали на дворе и в катухах без движения либо глухо стонали, раненные дробью или вилами.
Четырнадцать стариков легло на Дубках. Закололи их штыками, постреляли из винтовок. С простреленной головой лежал в столовой и сам хозяин дома. Охватив его руками, прижавшись к нему всем телом, исступленно плакала и причитала старушка жена. Поморщившись, матрос из нагана выпустил в обоих одну за другой все пять пуль. Конвульсивно дернувшись, осела старушка на труп мужа. Затихло всё на хуторе Дубки. Окончательно затихло.
Человек с пятнадцать стариков всё же ушло в степь. Пользуясь темнотой, бежал каждый из них кто куда, и лишь когда рассветать стало, сбились они в кучки, собрались все вместе за одним стогом соломы и порешили идти на Липки. Был с ними и атаман, и старик Коростин с остальными сыновьями. А Юшка и Семён, добежав до балки, заблудились в зарослях тернов, растерялись в темноте, и пошел каждый из них своей дорогой. А когда взошло солнце, увидал Семён, что один он одинешенек, и что ни живой души не видно, куда ни глянь. Быстро залезши на стоявшую рядом вербу, оглядел он раскинувшуюся перед ним ширь: ярко осветило ее солнце, брызнуло по ней разбежавшимися во всё, стороны лучами, и проснулось всё живущее в степи, воздавая хвалу Тому, Кто сказал: «Да будет свет!».
Что делать? Куда идти? Где отец с матерью? Дубки, оказывается, вовсе недалеко, прошел он не больше трех-четырех верст. Нет, от греха опять в балку спускаться, а там видно будет.
Так и шел, почитай что, до обеда. Мелеть балка стала, уже берега положе. И решил он еще раз выбраться наверх. Осторожно, скользя и падая, схватился за какой-то корень, одним духом выскочил на обочину и со страха чуть назад не повалился: прямо на него, держа винтовку наизготовку, ехал верховой, а за ним еще двое. Но были на них блестевшие на солнце новенькие урядницкие погоны. Слава Богу, не красные это, а казаки, наши!
— Тю, гля на яво! Ты откель? Не из сурчиной норе вылез?
Урядник говорит весело, но подозрительно скользит его взгляд по странной фигуре измазанного, грязного, оборвавшегося о терновые кусты мальчика.
— Ты чаво тут делаешь, не сицилизьму ли по стипе разносишь?
Подъехали и те двое, плотно закутанные в винцерады, с низко надвинутыми на лбы фуражками с кокардами. И они смотрят хмуро и недоверчиво.
— Ну, говори, што ля, ай табе памороки отшибло?
— Отец мой, есаул Пономарев, в тарантасе они с матерью, кони их понесли…
Спрыгивает урядник с седла, подходит и кладет ему правую руку на плечо.
— Молись, малец, Богу твому! А отца с матерей твоей видали мы ишо на заре. В Арчаду они подались. Матеря твоя без памяти лежала, потому што тибе не уберегли, што пропал ты. Она, когда кони их с Дубков вынесли, с тарантасу выскочила, хотела за тобой назад бечь, да правую ногу в шшиколотке переломила. Поклал ее отец твой в тарантас и по коням вдарил, а она в онбороке была. Так мы их и повстречали. Да ты чаво на мине вылупился, с ней большой бяды не будить, вон кум мой, вон энтот, на рыжем, на высоком, он в санитарах был, всю, как есть, энту самую медицину прошел. Он ей, матери твоей, ногу ту перевязал, вроде как в лубок втянул, дошшечкю мы подходяшшую нашли. И помчали они в Арчаду, она в сознанию пришла, тольки обратно плакала дюже, дело известное, бабье. А отец твой говорил, будто у вас на Арчаде знакомцы есть. И доктора там. А ты не тужи, нас таперь дяржись. В дозоре мы, понял? Таперь к нам на батарею поступишь, командир наш Явграф Иваныч Маноцков, с Рогачева хутора сам, войсковой старшина, отца твово ишо по кадетскому корпусу знаить. Докладали мы яму про встречу с отцом твоим. А у нас на батарее команда разведчиков своя. Хотишь — к нам поступай, могешь и номером при орудии быть, враз выучим, житуха у тибе пойдеть во какая, я табе говорю. Малина. Тю, да ты што, кричишь, што ля? Вон дурной! Девка ты ай казак? Нам таперь слюни за мамашами распушшать не приходится. То ли ишо будить. А матросов энтих, што вас с Дубков ночью пораспужали, одна с наших конных сотен ноне утром рано там же и достала. Развешала их всех, как есть, по верьбам сушиться. Такая у наших казаков решения вышла. Да ты, никак, дрожишь? Голодный, поди? А ну-кась, хвати-кась с бутылочки моей разок, оно враз согреить. А потом, вот, сухарик пожуй. А там посажу я тибе на мово коня сзаду и домчим мы тибе в батарею в один мент.
Так и попал Семён на батарею из трех орудий, так и был принят на нее телефонистом и нацепили ему наскоро сшитые какой-то заплаканной жалмеркой погоны вольноопределяющегося, и почувствовал он себя у дела. И повернули они тогда на границу Войска Донского и заняли хутор Писарев двумя полками конницы и одной батареей.
* * *
Сотник Широков шагает бодро, едва поспешает за ним Семён, и только теперь, оторвавшись от воспоминаний, понимает то, что ему говорят:
— Да ты што, аль оглох? Говорю ж я табе, когда узнал наш бригадный камандер про красный энтот батальон, то враз, ишо ночью, три сотни в обход послал. Энтой балкой, што в Лавлу версты с две выше Писарева впадаить. Там сотни энти и затаились. А краснюки так, без дозоров, прямо на Писарев и поперли, пока в Редкодуб не дошли, там в цепи рассыпались, видал ты, и в наступлению пошли. Ни направо, ни налево, ни назад не глядя. Тут им мы с тобой трошки огонькю подсыпали. И как я считаю, што гранатами, што шрапнелей человек с двадцать добро мы перечкали. Смешались они от пушки нашей, а в тот мент сотни энти наши с тылу им вдарили. Понятно? Ты учись военному делу, стратегию енту самую понимать. Нам, казакам, таперь тольки одна спасения — маневром али смякалкой брать. Иначе никак мы их не подолеем. А то, ежели она, матушка Русь, да всем миром на нас навалится, нам ее дракой в лоб не совладать. Вот тольки снарядов я много перевел, шутка сказать — шесть штук! А иде их нам брать, как не у красных же? Вот ты таперь и умствуй. Да ты поспяши, поспяши, пойдем послухаем, што казаки говорять, будто никак не жалають они границы Войска переходить. Нам, толкують, в Расее своих порядков не наводить. Ежели таперь русские заместо царя Ленина посадили, ну, и няхай, мы тут непричастные. Мы, говорять, сами у сибе свой присуд заводить будем, а Расея нехай так исделаить у сибе, как ей самой жалательно. Мы в ее дяла вмешиваться никак не будем. Так казаки гуторють.
* * *
На широкой поляне за хутором, как раз за той канавой, через которую перепрыгнул он, поспешая на наблюдательный пункт, уже выстроились два спешенных полка. Только теперь в первый раз увидел Семён так много казаков, подтянутых, в аккуратно подпоясанных длинных шинелях, с шашками и винтовками за плечами и начищенными до блеска сапогами. И как это сумели они так здорово принарядиться? А вот и слова команды: «Смиррно, равнение на-лево!». Эх, как здорово, как один человек, повернули они головы и замерли, как статуи. Вынырнув из садов в самую середину выстроившихся казаков, затормозил грязный и запыленный открытый автомобиль, глухо рокоча неостановленным мотором. Сидевший справа военный с генеральскими погонами выпрямился во весь рост и крикнул весело, на весь выгон слышно было:
— Поздравляю вас, родные донцы, с первой победой! Молодцы, ребята!
— Р-рады стараться, вашедительства!
— Слыхал я, братцы, будто пошли промежь вас разговоры, што неохота вам через войсковую границу в Саратовскую губернию идти. Понимаю я вас хорошо, станишники, но одно скажу я вам: знаете вы все меня еще с того времени, как гонялись мы с вами и за немцами, и за австрийцами, и как мы их сообща турсучили. А потому турсучили, что, кроме доблести вашей воинской, есть еще одна штука, наука военная, стратегия и тактика она называется. А ежели теперь забудем мы с вами науку эту, то давайте лучше воевать бросим. У самого у меня никакой охотки нету куда-то к чёртовому батьку залазить. Но, как брат ваш и станишник, как старший ваш начальник, ответственный за успех дела, прямо вам говорю: без того, чтобы забрать Большую и Малую Ивановки, никак мы не обойдемся. Надо нам коммуникации ихние пресечь, а себя тем от ихних новых ударов обеспечить. А тем тогда и границу нашу войсковую убережем…
Генерал останавливается, переводит дух и вдруг показывает на стоящего прямо против него урядника.
— Слышь, урядник, никак Ковшаров фамилия твоя, станицы Березовской должен ты быть…
Вытянувшись вструнку, отвечает спрошенный:
— Так точно, урядник Ковшаров, третьяго Ермака Тимофеевича полка, березовские мы, с самой станицы.
— Ага! Так вот скажи ты мне — правильно я говорю или нет?
Бросив косой взгляд на строй напряженно молчащих казаков, отвечает урядник, ни минуты не задумавшись:
— Так што, как я стратегию энту и камуникацию апридяляю, а вам она, учёному на то гиняралу, как тому попу Библия, то шшитаю, што ничаво нам иного не поделать, а позанимать выгодные позиции.
Генерал, видимо, доволен ответом:
— Во, видали вы, что ваш же сослуживец говорит. Я вас куды зря не поведу, знаете вы меня. Слава Богу, с многими из вас и рыбу бреднем ловили, и Христа славили, и за девками…
Вдруг быстро шагнув из строя, останавливается перед автомобилем вахмистр батареи, козыряет и обращается к генералу:
— Вашсокпривасхадительства! Разряшитя и мине слову сказать!
— Говори!
Крутнувшись на правой пятке и левом носке к строю, кричит вахмистр на весь хутор:
— А я так шшитаю, што нам тут митинговать нечего, не товаришши. Как яво привасходительство объяснили, так оно и быть должно. Он нас чатыре года в бои водил, верим яму, зря он не сбрешить!
Махнув правой рукой так, будто срубил он кого-то, шагает вахмистр в строй.
Генерал сразу же продолжает:
— Слыхали, что старый служака сказал? А теперь, с Богом, расходитесь, чую, давно кашевары ваши борщу наварили.
Сидевший рядом с генералом полковник вскакивает, приподнявшись на носках, шепчет что-то ему на ухо, генерал как-то беспомощно кивает головой и валится на сидение. На полковнике донская форма, с иголочки. Громко, будто немного окая, обращается он к притихшим казакам:
— Станичники! Вы меня еще не знаете, я полковник Манакин, генерального штаба, помещик соседней с вами Саратовской губернии. Сразу же пошел я на Дон, зная, что поднимется казачество за святую Русь, что, как и встарь, пойдет оно на Москву белокаменную, выбросит из священного Кремля засевшую там жидовскую свору, и воцарится на Руси снова…
Договорить полковнику не дали. Будто ветер прошел по рядам, взбаламутил их, разорвал, перепутал. И взревела, теперь уже не стройные ряды, а до предела обозленная, вышедшая из себя толпа:
— Ах ты, распротудыттвою мать! Помешшик! Имению яво отбивать надо!
— Катись ты не в Москву, а к такой матери под подол!
— Ишь ты, нашими головами Кремль яму брать охотка!
— Вон отцель, мужик!
— Ишо форму нашу, гад, нацапил!
Стоящий рядом с Семёном казак рвет из-за спины винтовку и стреляет прямо над головой упавшего на сиденье полковника. Шофер бешено крутит баранку, автомобиль рвется влево, выхватывает на солончак, круто поворачивает и в одно мгновение исчезает в садах.
— Г-га! Обратно, как в пятом году, по России порядок наводить!
— К тетери-ятери!
— Н-не ж-жалаем!
— Сам иди на твою святую Русь, штоб она пропала!
Кто-то заботливо спрашивает Семёнова соседа:
— Слышь, Хоперсков, а гинярала не задел ты случаем?
— Тю! Так я ж над головами бил. Хто ж в свово стрялять будить? Энтому мужичку дал бы я, да шшастья яму привалила, возля гинярала упал. Няхай они сами свои стратегии разводють…
Какой-то казак весело хлопает себя по полам шинели:
— А ушлый и гинярала шофер! И мотора не остановил, должно, сам с наших, знаить нашего брата, в случае, ежели до густого дойдёть, штоб вовремя смыться.
Казаки смеются. Злобы у них к генералу нет. А вот о России и слушать не хотят. Своих делов хватает.
* * *
А вечером, послав дозоры по теклинам и балкам, снова собрались казаки на том же самом лугу, разложили костры, распаковали сумы и подсумки, нанесли им хуторские девки и бабы вареного и жареного, пошли по рукам появившиеся откуда-то бутылки, хватила гармошка «польку-бабочку», и с первой попавшейся ему под руку жалмеркой вышел в круг сам командир батареи, а за ним вахмистр. А за вахмистром — урядники и приказные, а за ними, какие посмелее, и простые казаки. Да так вдарили они с носка в загудевшую донскую землицу, да так крутанули бабы подолами, да так ухнула стоявшая вокруг танцующих толпа, что посыпались из костров искры до самых звезд и самому вечернему небу жарко стало. Загуляли казаки, здорово загуляли.
Глянул на всё это Семён и побежал в курень дяди Вани, да в проулке под навесом увидал урядника батареи.
— А-а! Так это ты, значить, сынком Сергея Алексеевича, есаула Пономарева будешь? Знаем яво, знаем, ишо с японской войне хромаить он. Няправый стал. Мельница у вас возле Разуваева хутора. Поразбивали там мужики всё, как есть. Ишо спасибо скажи, што на время бабушка твоя ускряблась, а то и ее не помиловали бы… Эх, а мине вот в Черкасске быть довелось, чего я там тольки не нагляделси, чаво не наслухалси. И особо мне трое в памяти засели: Голубов, Волошинов и Богаевский Митрофан.
Насучив дратвы, натерев ее воском, вставив в концы свиной волос, крепко зажав меж колен сапог, колет его шилом новый Семёнов знакомец, урядник Урюпинсков, быстро с двух сторон вставляет в проколы дратву, тянет ее в разные стороны и пролегает вдоль голенища ровный, аккуратный шов.
— А ты садись вон на мешок, послухай, што я табе расскажу. Оно табе пригодится… Ишь ты, гуляють наши. И понятная это дела. Хто с радости, а хто с горя водку глушить и танцы выкомариваить, потому — туча над нами зашла, пока што тольки то там, то тут молонья бьеть, а когда она по-настояшшему вдарить, ишо вовсе неизвестно. А нам, казакам, пригинаться таперь не приходится, вот и выплясываем, штоб поганые думки прогнать. А хотел я табе про Голубова сказать: дела у яво простая получилась, с большавицкого благословения захотелось яму донским атаманом стать. И пошли за ним казаки многие, потому што хорошо яво знали, свой он человек был, то пулей, то осколком шашнадцать разов ранетый, на фронте настояшшим гяроем был. А начальству никогда он не молчал, сроду за казаков заступалси. Ишо в японскую войну в полку перьвым разведчиком и перьвым скандалистом по веселым домам был. И на болгарскую войну добровольцем ходил, батареей там командовал, от болгар военный хрест получил за храбрость. А как ета война зачалась, возьвярнул он болгарскому царю тот свой хрест. Ну, начальство не любил он, все яво односумы то полковники, а то и гиняралы, а он так в есаулах и осталси. Обходили яво, затирали. Вот и зачал он с Подтелковым кашу варить. Арестовали яво наши в Ростове и в Черкасск на гауптвахту привязли. И лично к няму туды помощник атамана Богаевский Митрофан приехал и зачал с ним разговоры говорить. И зачал он шуметь, што неправда у нас и инакше всё делать надо. Ну, пообяшшал он Богаевскому боле с большевиками не якшаться и выпустил тот яво под честное офицерское слово с гауптвахты. И тольки он оттель вышел, как и подалси враз в Каменскую, в Военно-революционный комитет. И перьвым он с десятым полком в Новочеркасск вошел. Тольки два дня посля няво красные гвардейцы и рабочие с матросами туды пришли. И зачали они расстреливать, и зачал он казаков оборонять и выручать, кого тольки мог, и зачали враз же большевики на яво коситься, доверию к няму боле не имели. И, штоб у них оправдаться, объявил он, што пойдеть с казаками в Сальские степи, против отступившаго туды гинярала Попова. И приказал казакам своим грузиться, а когда сам на станцию пришел, а казаков-то и нету, по домам разъехались. И тут большевики ишо крепче к нему недоверию поимели. А он, штоб всё же дружбу свою им доказать, набрал человек с тридцать самых яму преданных и побег с ними в станицу Великокняжескую. Потому узнал он, што скрывалси там Богаевский Митрофан. И заскочил перед рассветом в курень калмыцкого гилюна, у которого Богаевский пряталси, и забрал яво сонного и в Черкасск предоставил. Потребовал Подтелков с Ростова туда Богаевского препроводить, а Голубов свою линию гнёть — устроил всяму красному гарнизону митинг, всех, как есть, скликал и дал на том митинге Митрофану Богаевскому слово. И зачал Богаевский говорить, а сам он Каменской станицы казак, а учился на педагога. Это энти, што учитялями и профессорами становются, и ишо был он казачий историк, всё старину нашу раскапывал. А был он и придсядателем Войскового Круга, и заместителем Донского Атамана Каледина. Со всяво Дону казаки яво на эти должности выбирали. Это он тогда, когда Круг наш посля революции собралси, открывая засядания, сказал: «Объявляю заседания Донского Круга, посля двухсотлетняго перерыва, открытыми!». Казак был настояшший. Это он, когда Керенский Каледина на суд в Россию потребовал, знаменитый свой Митрофанов Сполох по всяму Дону объявил, старину казакам напомнил, и ответили они тогда в Москву: «С Дону выдачи нет!». Это он тогда настоял и ишо при Каледине провозгласил сибе Дон наш независимым…
Вот и разыскал яво Голубов, и в кадетском корпусе тот митинг устроил. Чаво он этим исделать хотел, никак я не пойму. Потому што комиссар русский, в Черкасске сидевший, Ларин по фамилии, тот, как знаем мы твердо, думал так, што на том митинге разорвуть казаки Богаевского на клочки. Да иное получилось: зачал он говорить и три часа говорил. И затаили мы все дыханию и слухали яво так, как того попа в церкве. Худой он был, смученный, как энти святители, што их на иконах малюють. И так он нам про казачеству нашу сказал, так всё объяснил, што поняли мы, кто наши враги, а и политкомиссар Ларин понял, с кем он дело имеет. И ясно нам стало, што пора нам с красными кончать. И не успел тот митинг кончиться, как обратно Богаевского в Ростов, к Подтелкову, а Голубов яво опять же не дал и посадил на гауптвахту под казачью охрану. И враз же с Ростова пошли красные броневики и антиллерия в Черкасск и вломились на гауптвахту, забрали там Митрофана нашего, комиссар Яков Антонов и красный командир Рожинский, увязли в Балабановскую рощу и там четырнадцатого апреля расстреляли. Потому што Ларин враз в Ростов доклад исделал, как хлопали все, как есть, казаки на том митинге Богаевскому, так, што матросы, какие там сидели, убрались поскорее, боялись, што побьють их казаки. А он нам прямо говорил, што казачье дело свое делать мы без Москве должны, своими руками, без большевиков и Ленина. Ничего не боялси, прямиком резал. А Голубов, как пришли броневики с Ростова, драпанул в Заплавскую станицу, там митинг скликал, зачал там перед казаками оправдываться, зачал прямо призывать казаков против большевиков восставать, зачал каяться перед всем народом открыто и таким несчастным прикинулси, што многие яму поверили, што и сам он обманутый был. Ну, тут прямо спросили яво: а хто виноват в смерти Чернецова, Волошинова, Назарова, Богаевского? И зашумели на яво здорово и выскочил с народу студент Пухляков и дал в Голубова с нагану три раза, на месте яво уложил. И, шшитаю я, што правильно тот студент наш исделал. Да, вот ишо трошки про Волошинова табе сказать, был он тоже антилярист, яво временным Донским Атаманом посля революции выбрали, в семнадцатом году, а когда собралси Круг и выбрал Атамана Каледина, сдал он яму свой пост. А на энтом Кругу, на котором посля самоубийства Каледина Назарова атаманом выбрали, был Волошинов предсядетелем. И когда вошел Голубов тогда с красными казаками в Черкасск — Круг заседал, и ни Назаров, ни Волошинов никуда не убегли, а вместе с Кругом остались. Забрали яво тогда с Назаровым и на ту же гауптвахту посадили. И написал он оттуда матери своей письмо:
«Дорогая мама! Пишу из своей невольной темницы, в которую попал за то, что всю свою жизнь был честным сыном Дона и желал ему блага. Совесть моя чиста, а потому смерти не боюсь. Говорят, что приговорён я Голубовым к смерти. Если это так, если мне суждено действительно умереть, то простите за содеянное. Пусть меня все простят. Уйду в могилу с материнским благословением…».
Вот и забрали их с гауптвахты рабочие-красногвардейцы, семерых, с Назаровым вместе, в Краснокутскую рощу увели и там расстреляли. И бросили их на земле лежать. Да Волошинов очунелси, дополз ночью до хаты иногородняго Парапонова и зачал у крыльца проситься, стучать зачал, надеялси, што спасут яво. А баба того Парапонова побегла к красным гвардейцам и привела их к нему. Один из них из револьвера яму в глаз вдарил, весь череп разворотил, а другие штыками яво покололи… Показали нам, казакам, што они нам всем готовють. А ить как по-перьвах хорошо всё у нас пошло, поверили мы, што с революцией в Расее и ей, и нам счастье привалило. Ить Круги наши, это же народ наш, землеробы, хлебопашцы сбирались, они старуя праву свою вспомнили. И мы, на фронтовом съезде в марте месяце семнадцатого году, как мы поряшили: единая российская республика, автономия областей, неприкосновенность казачьих земель. А в апреле што мы объявили: да то, што поддерживаем Временное правительство, што Расея должна быть демократической ряспубликой, с правом всем на национальное самоопределение, как и местного широкого самоуправления. А земля нам, казакам, гуртовая, это та, што в станишном пользовании, и войсковая, а крестьянам нашим донским — надельная и приобретенная. Мужиков наших с нами полностью приравнивали. А частную землю у помешшиков отобрали для всяво народа в пользование! Порядок мы настоящим и наводили, по-христиански делились. А когда в октябре большевики в Петербурге свой переворот исделали, зачали тогда у нас на Дону дело с Юго-Восточным союзом проворачивать. Учрядили в Черкасске специальную на то комиссию по вопросу объединения всех, как есть, казаков, и вошли тогда в этот союз мы, донцы, кубанцы, терцы, астраханцы, горцы Кавказа, дагестанцы и калмыки с уральскими казаками. И тогда еще обьединенное наше Правительство выбрали. Предсядателем наш донец Харламов, замястителем кубанец Макаренко, эх, верили мы, што пойметь народ русский и свою, и нашу шшастью, ну, тут большевики свое зачали, говорил нам тогда Каледин: «Предупреждаю я вас, порядок на Дону будут делать другие, а не вы», да сумлевались мы, пока красные себя расстрелами не показали, кто они в самом деле есть. Вот и ореть таперь красный главный командующий Крыленко, што борьба с казаками должна вестись ожесточеннее, чем с врагом внешним. Вот и гонить таперь Ленин целые армии на нас, увидал, што обрадованные той самой революцией, которой и он хотел, сами мы таперь, по-своему, нашу казачью жизню строить хотим. А ить по перьвоначалу сам нашу казачью ряспублику нам обьявил. И пользовался такими вот, как Подтелков и Голубов, тольки для того, штобы нас разбить, силы наши разделить. А какая же это наша ряспублика, спросю я тибе, когда скрозь по Дону зачал Советя вводить, гарнизоны свои становить, карательные экспедиции посылать, мужиков наших иногородних против нас гарнизовать, стариков наших, атаманов, офицеров бить и расстреливать. Мы, говорил, против кулаков, а кто эти кулаки, там они, в Петрограде, решають, а мы одно знай — головы подставляй. Да коли это и всправди наша собственная ряспублика, так тогда сами мы и опридялим, кто у нас какой есть, никого чужого вспрашивать не будем. Уж никак ни энтих матросов и красных гвардейцев, што нагнал он к нам со всяей Расеи. А ить как глаза нам отводил, как брехал, во, сам глянь, какие он письма писал, как нам мозги туманил!
Из кармана гимнастерки достает урядник смятый клочок бумажки, чьим-то писарским почерком аккуратно переписанное письмо Ленина:
«Председатель Народных Комиссаров.
Петроград 13/4 1918.
Ростов-на-Дону.
Президиуму первого съезда Советов
Донской Республики.
От всей души приветствую первый съезд Советов Донской Республики.
Особенно горячо присоединяюсь к словам резолюции о необходимости победоносно закончить разрастающуюся на Дону борьбу с кулацкими элементами казачества. В этих словах заключается самое верное определение задач революции. Именно такая борьба по всей России стоит теперь на очереди.
Ленин.»
— Видал! По всяей России с кулаками воюють. А мы тут, вспросю я тибе, причем? Ежели уж ряспублику мы сами поимели, так и порядки сами у сибе наводить будем, а не яво карательные отряды. Так, ай нет? Вот и ряшаем мы таперь в Расею никак не ходить, няхай там они сами своих кулаков бьють, как хотять, дело это не наше. А то вон заладил Фицхелауров: стратегические пункты яму занимать надо, тольки тут, скажу я табе, заковыка одна есть — етих самых стратегических пунктов до самой Москвы не перечтешь и не позаймаешь. Не, будя, выпрем краснюков с Дону и делу конец. А у сибе сами, по свому закону, жить зачнем.
Быстро, одним ловким ударом сапожного ножа, режет урядник концы дратвы, затирает шов воском, надевает сапог на ногу, критически смотрит на него со всех сторон, делает два-три шага и довольно улыбается.
— Во! Как етот сапог. Сами, своим умом, без ихней указки. А ты, малец, о побитых наших атаманах и казаках думай. И старайси по ихней дорожке иттить. А таперь — бяги, у вас там таперь тоже разговорчики идуть. А я, видал, всё у мине в порядке, пойду к полчанам моим, поди, осталось у них што на дне бутылок…
* * *
Еще громко звенят на лугу песни, еще тут и там откликается на их зов гармошка, рвут еще присохшую траву расходившиеся в танце каблуки, да не до веселья хуторским старикам. Собрались они вместе с господами офицерами в старом курене дяди Вани общую думу думать.
Здесь, в горнице этой, всё еще так ярко напоминает тетку и дядю.
Трещат дрова в ярко разгоревшейся печке, не очень-то сильно светит закопченное стекло керосиновой лампы. Тепло тут, на сон гонит.
Но что это говорит соседу своему князь Югушев?
— Они, в конце концов, правы! Чужой я им. Такой же я для них, как и те, с которыми сегодня утром воевали они. И вон, за хутором, трех убитых своих похоронили. А за что их убили? За мечту их. За тот самый Дон, в который еще деды их, начиная с Азова, верили. За Дон тихий, счастливый, мирными границами опоясавшийся. Вот и болели то «нейтралитетом» при Керенском, то теперь «пограничной болезнью». И чужой я им, как тот вон дурак Манакин. И откуда только его Фицхелауров выкопал?
Сразу же отвечает ему один из стариков:
— И я так шшитаю, што промашку дал гинярал наш. Не нужно яму было мужичка того, ох, проститя, не нужно было Манакина того с собой в автонобиле таскать. Ить всё в порядке получилось. Пошли бы казаки, сумел он им правильную слову сказать, так нет же, выскочил пан-помешшик. Русь у яво святая, жиды ей мяшають. Да скольки же их, жидов энтих, што сто миллионов русских под сибе подмяли? Сроду это так по Расее было: уж кто-кто, а жиды им завсягды во всём виноваты были. Га! А знаитя ли вы чего наши казаки по всяей Расее нагляделись? Ить и там такое идеть, што с ума сойтить можно. Одно: бьють, режуть, стряляють, жгуть, грабють, насильничают. Да чаво тут далеко ходить — вон што они с нашим Иван Иванычем и сяструхой яво исделали, со стариками нашими и энтими в Иловлинской. Не-е-е! Нам дал бы Бог свои курени отстоять, а в Расею не ходоки мы боле.
Князь Югушев отвечает ему тихо и медленно:
— Как казак, совершенно вы правы, только боюсь я, обстоятельства вас заставят. Слышали вы, что генерал ваш о стратегических соображениях говорил?
— Никаких мы тут стратегиев не признаём. Не пойдем в Расею, и вся недолга. Ишь ты какая там каша заварилась, нашим донским чириком ее не расхлебать. Царская власть, как тот гнилой дуб, повалилась, а взамен ее понасбирались какие-то демократы, сицилисты, кадеты, большевики. И так долго друг у дружки в висках сидели, пока новый русский царь Ленин брехунца энтого, Керенского, в грязь не затолок. А сперьвоначалу все они вместе кричали, што привядуть Расею к Учрядительному собранию. И боле всех об собрании кричал Ленин. И до тех пор, пока на власть не пришел. А как сел он на трон свой, собрались все энти выбранные в Москве, послал он одного свово матроса с шайкой красных гвардейцев и разогнал всю ту братию, как свиней с огороду. Вот те и новая демократия, и сицилизьма ихняя. Вот и скажитя вы нам, што нам от такого народу ждать, што двадцать миллионов голосов за ту Учредилку дал, и пальцем не ворухнул, когда ее матросы разгоняли? Почаму никого у них с ихних, этих самых, как они говорять, передовых людей, никого не нашлось, штоб тем матросам укорот дать? Почаму не поднялись они так, как вот таперь мы, казаки, повосставали. Через ночь, можно сказать, всем войском! И как же это так, обратно скажу, получилось в Расее, когда трехсотлетний трон скидывали, иде же все царевы гиняралы были, вся дворянства яво, все господа офицеры, ить их, офицеров одних, чатыреста тыщ было! По кустам попрятались, аль, как тот великий князь Кирилл Владимирович, красные банты понацапляли. Не! От такого народу плятни нам на границе позаплетать надо. Не спасать Расею лезть, а от нее спасаться, вот што. А таперь Манакин энтот, жиды яму виноваты… а на Съезде народов в Киеве, што ишо от двадцать перьвого до двадцать восьмого сентября там засядал, в котором участию украинцы, латыши, татары, грузины, литовцы, белорусы, эстонцы, молдованы, мы — казаки, и те же евреи, приняли, што на том съезде поряшили: казаки есть особый народ, и приймаем мы их в свою семью, так там поряшили.
Молча сидевший в углу морской офицер, друг князя Югушева Давыденко, поднимает левую руку вверх, а правой лезет в боковой карман.
— Подожди-ка минутку, старик, я тебе вот кое-что скажу, во-первых — эти самые так называемые украинцы, сам я малоросс, из Киева родом, только с этими, так нызываемыми «щирыми», ничего общего не имею и иметь не желаю. Так вот, «щирые» эти, которые вас в сентябре семнадцатого года, как ты говоришь, в семью вольных народов приняли, теперь у Донского правительства ростовский и таганрогский округа, чисто казачьи, исконные ваши земли к своей «щирой Украине» присоединили. Да, вот вам и новые друзья ваши. А что евреев касается, так вот, прочту я тебе списочек, а ты повнимательней послушай!
Давыденко вынимает большой лист бумаги, старательно разглаживает его на столе, бросает быстрый взгляд на молча глядящих на него казаков и медленно, с расстановкой, читает:
«Совет Народных Комиссаров.
Ульянов-Ленин — председатель, русский. Чичерин — иностранных дел, русский. Луначарский — просвещение, русский. Джугашвили — народности, грузин. Протиан — земледелие, армянин. Ларин-Лурье — экономический совет, еврей. Шлихтер — снабжение, еврей. Бронштейн-Троцкий — армия и флот, еврей. Ландер — государственный контроль, еврей. Кауфман — государственные имущества, еврей. Шмид — труд, еврей. Е Лилина-Книгиссен — народное здоровье, еврейка. Анвельт — гигиена, еврей. Володарский — печать, еврей. Апфельбаум — внутренние дела, еврей. Фэнгстей — беженцы, еврей, Савич и Заславский — его помощники, евреи…».
Подняв глаза от бумаги, смотрит Давыденко в потолок и говорит еще размереннее и медленнее:
— Как видите, на двадцать два члена этого Совета — трое русских, один грузин и семнадцать евреев! Н-дас!
А теперь вот еще списочек Центрального исполнительного комитета, слушайте:
«Председатель Я.Свердлов — еврей, секретарь Аванесов — армянин, Бреслау — латыш, Бабчинский — еврей, Бухарин — русский, Вейнберг — еврей, Старк — немец, Сакс — еврей, Шейман — еврей, Эрдлинг — еврей, Ландауер — еврей, Линдер — еврей, Волах — чех, Диманштейн — еврей, Энукидзе — грузин, Эрмен — еврей, Иоффе — еврей, Книгиссен — еврей, Каменев-Розенфельд — еврей, Зиновьев-Апфельбаум — еврей, Крыленко — русский, Красиков — еврей, Каул — латыш, Ульянов-Ленин — русский, Лацис — еврей, Ландер — еврей, Луначарский — русский, Петерсон — латыш, Радзутас — еврей, Розин — еврей, Смидович — еврей, Териан — армянин, Штушка — латыш, Смилга — еврей, Нахамкес-Стеклов — еврей, Сосновский — еврей, Скрытник — еврей, Бронштейн-Троцкий — еврей, Теодорович — еврей, Урицкий — еврей, Тележкин — русский, Фельдман — еврей, Розенталь — еврей, Ашкинази — еврей, Карахна — караим, Розе — еврей, Радек-Собельсон — еврей…».
Переведя дух, подняв глаза от списка, смотрит Давыденко в упор на старика:
— Понял ты или нет теперь, кто там управляет? Все жиды, дальше и читать не хочу, вот список у меня московской Чрезвычайной комиссии, в ней тридцать шесть человек, из них один поляк, один немец, один армянин, двое русских, восемь латышей и двадцать три еврея! Понял ли ты теперь, почему у Добровольческой армии лозунг: «Бей жидов, спасай Россию!»?
Во дворе слышен топот копыт, видно, прискакал кто-то. Вон и шаги на крыльце, шум старательно вытирающихся в сенцах о солому сапог. Коротко стукнув в дверь, распахивает ее и останавливается на пороге закутанная башлыком фигура, за ней вторая.
— Здорово дневали, господа старики!
Широко раскрывает князь Югушев руки навстречу вошедшему:
— Валентин Алексеевич, какими судьбами?
Подавая на ходу князю руку, разглядев в углу племянника, идет дядя Воля прямо на него.
— Здоров, вояка! Слыхал я, слыхал, как ты пули по буграм считал. Выходит так, что получил ты первое боевое крещение. Говорил мне командир твоей батареи, что он тебе за это лычки приказного нашить велел. Молодец, только полевому телефону подучись, не срамись больше, да вахмистра попроси, пусть он тебе панораму растолкует.
Дядя пожимает всем руки, садится за стол, кто-то что-то ему наливает, быстро выпивает он предложенную ему рюмку, закусывает коркой хлеба и жеребечком лука, и лишь теперь видно, что другой, с ним пришедший, никто иной, как сам Савелий Степанович.
А дядя не замолкает:
— Воюете тут? Здорово! А я вот вам про наш хутор Разуваев расскажу. А ты, племяш, запомни. Сам я всё видал. Не забудь, как она, война эта, началась и кто первый начинал. На носу себе это заруби. Когда ускакали мы отсюда, то порешили разделиться, я с Савельем Степановичем на Разуваев, а Говорок на Арчаду потянул. Ночевали мы в степи, в скирдах спали, на второй день перед рассветом к Разуваеву подскакали. И прямиком к бабушке. А там, в курене тетки твоей Анны, хуторской атаман военный совет собрал. И как увидал нас, будто солнышко для него взошло. Ведь поднимались казаки по всему Дону, почитай что, вовсе без офицеров. Под влиянием всего, что происходило, либо прятались они ото всех, либо исчезали вообще с поля зрения. И своих, и чужих одинаково боялись. Вот и водили восставших либо вахмистры, либо урядники. На всё войско только двое: Мамантов-генерал да полковник Голубинцев сразу же заправилами были, а то всё простые казаки сами делали. Так и в Разуваеве было. Порешили там казаки на границе стать, и как раз вот по нашим хуторам позиции заняли, кое-где окопы порыли, вниз по речке Ольховке дозорных погнали. А с чего началось — первым долгом клиновские и Ольховские мужики все имения наши разграбили, скот угнали, мебель увезли, окна-двери выломали, полы разобрали, тянули всё, что кому надо было. А потом свой скот на казачьи луга пустили, разуваевским подпаскам сопатки набили и переказать велели, что и на Разуваев придут, свои там порядки наводить будут. А в Ольховку, как раз накануне нашего приезда, рота красной гвардии из Камышина пришла, пушку одну привезла, двадцать пять подвод винтовок, сразу же клиновцев и ольховцев мобилизовать стали, винтовки им раздали, и за один день человек с четыреста у них пехоты образовалось. И тут же узнали наши, что намереваются красные через Разуваев на Киреев и на Гуров, а потом на Усть-Медведицу идти, против действующего там с казаками генерала Голубинцева. Вот и засели мы все думу думать, силы наши подсчитали, вместе со стариками и молодыми имели мы человек с пятьдесят кавалеристов да человек сорок пеших, винтовки у каждого пятого, шашки у половины, пики у некоторых, у остальных дробовики и вилы-тройчатки. Погнали мы на Гуров и Киреев за подмогой, а вниз по речке Ольховке в Середний Колок пехоту нашу послали, а по взводу конных в обход по буграм справа и слева пошли. Зашли они ночью, куда им приказано было, и остановились там, сигнала ожидая. А сын хуторского коваля, дружок племянника моего, Мишка, должен был по знаку, данному атаманом, на кургане, что повыше хутора, пук соломы зажечь, а знаком этим должен был быть красный запон на журавле колодца, и должна была Мишкина мать тот запон поднять тогда, когда ей атаман свелит. А как загорится там солома, должны были мы все в атаку переходить. Немного отоспавшись, вышли пешие часу в четвертом утра, позиции заняли, и мы с Савелием Степановичем к ним подались. И только что мы в Середний Колок пришли, вот тебе — бежит наш дозорный наметом и докладывает, что двинулись от Клиновки цепи, семечки грызут, смеются, без особого порядка, нам их так через полчаса ждать надо. Залегли мы в кустах, и только что те поближе подошли, как раз на лужок вышли, а мы по них залпом. Отбежали они и тоже залегли по-за деревьями. С пяток ихних битых на лугу лежать осталось. Огонь они по нас частый открыли. А в это же время поставили красногвардейцы оружие свое в Ольховке на площади, сзади почты, а на почте, на крыше, наблюдатель ихний за трубой примостился. Единственный это там дом двухэтажный, с высокой крышей, видать с нее всё. Скомандовал тот наблюдатель пушке своей огонь, только, либо никакой он артиллерист не был, либо прислуга никудышняя, только пальнули хохлы из той пушки, и, хотите верьте, хотите нет — ну, прямо же в того наблюдателя угодили. Гранатой. Разнесло в клочки и наблюдателя, и трубу, а почта, дом-то деревянный, тёсом крытый, как свеча загорелась. А в этот самый момент Мишка с кургана своего красный запон на колодце увидал, и сноп соломы на шесте зажег. Услыхали мы взрыв в Ольховке, дым и огонь увидали, поднялись все до одного, и — «Ур-ра-а-а!», в атаку на пехоту пошли. И в это же время справа и слева конница наша с бугров на Ольховку посыпалась. И тоже «ура» орут и из винтовок, и дробовиков бьют. Эх, и дали же мы им пить! Хохлы, те сразу же наутек пошли. Сядет на траву, валенки али сапоги долой, да как урежет босиком, ты его и на коне не догонишь. А винтовку — в кусты. Четыреста штук мы их потом насбирали. Пушку с зарядным ящиком, шестьдесят штук снарядов, одиннадцать подвод обувки, шинелей, полушубков набрали. Битых мы всего двенадцать человек нашли. Клиновцы на Липовку отошли, а ольховцы все, как есть, по домам разбежались, всё, что было на них военного, поскидали, и — глянь на него! — стоит вместе с жинкой своей тот хохол у ворот своих и на тарелке у него хлеб-соль для нас, а в руке кисет с махоркой, закуривай, кому охота! Пойди тут докажи, что он полчаса тому с винтовкой против нас топал! Набрали мы с сотню пленных из клиновцев и красногвардейцев и заставили хохлов битых красных хоронить, а трех своих раненых хуторской фельдшер Филип Ситкин забрал. Только вот, — дядя вдруг заминается, — да только вот дружок Семёна моего, Мишатка, сплоховал. Да, сплоховал. Как зажег он ту солому на шесту, так и выскочил на курган и стал из отцовского дробовика в воздух палить и «ура» кричать. Тут его и угадала одна из тех пуль, что не слыхать их в полете. Прямо в правый глаз ударила. Упал, и не копнулся. Похоронили его всем хутором отдельно, там, где на выгоне три вербы стоят, недалеко от гумен… шестнадцать ему недавно сравнялось…
Наступает короткое молчание. Тихо. Кашлянув в руку, обращается хуторской атаман к дяде:
— А ить вы, господин есаул, скрозь побывали. Не расскажете ли нам, как оно всё по Дону зачалось?
— Дядя отвечает сразу же:
— Да, привел Бог. Задача мне от генерала Попова была, вот и мотались мы с Савелием Степановичем везде по глухим хуторам. А коротко сказать, почитай, что по всему Дону всё так же было, как вон в Иловлинской или в вашем хуторе. Пришло время и поняли казаки, что нет у них иного выхода, кроме как подниматься на восстание. Прав был генерал Попов, уходя из Черкасска в степи, и тогда еще сказавший: «Отпашутся казаки, и поднимутся!». А тут оно всё еще и раньше получилось. Испробовали казаки на собственной шкуре новую власть, поняли, что будет она их душить не хуже царя Петра Первого. А начали большевики с обещаний, перешли на провокации и обманы, на брехню, а кончили пулей, штыком и террором. Кричали о трудовом казачестве, о Донской республике, а когда приехали к ним делегаты наши в Ростов, к ихнему главкому Юрию Саблину, прямо он им сказал, что казачество с его сословными привилегиями должно быть полностью уничтожено… Что поведет советская власть с верхами казачества беспощадную борьбу путем поголовного истребления их и что это точка зрения не его лично, а исходное положение советской казачьей программы. И для выполнения ее поведут они массовый террор, особенно против тех казаков, которые принимали участие в борьбе с советской властью. Предварительно же уничтожат всех богатых казаков, с ними стариков как носителей казачьих традиций, атаманов, офицеров, священство. Кроме того, будет на Дону конфискован хлеб, скот и вообще все сельскохозяйственные продукты по нормам, на местах решаемым. А на место уничтоженных казаков будут переселены из Центральной России бедняки. Ушам своим делегаты наши верить не хотели, и вернуться не успели, как и сами убедились: пошли по Дону расстрелы, реквизиции, аресты, над бабами насильничанья. Грабеж, увод скота, убийства открытые и по ночам тайно. Поставили везде свои гарнизоны из матросов и красногвардейцев, из рабочих, мастеровых, мужиков. Черти из кого комиссаров везде понасажали и приказали им проявлять максимальную твердость в проведении этой программы. Так вот, сразу же и истребили они в Новочеркасске, шестого марта, атаманов наших, с ними шестьсот человек офицеров. Жечь стали, расстреливать. После Новочеркасска в Великокняжеской расстреляли священника Проскурякова, а с ним двух его сыновей-студентов, забрали есаула Макарова с отцом и братом, учителя Черепахина и десятка полтора стариков, вывели в степь и побили. Узнал об этом генерал Попов и послал в Великокняжескую две сотни, разгромили они красных и освободили там еще с сотню арестованных стариков, сидевших в тюрьме в ожидании расстрела. А Луганской станицы казаки железную дорогу разобрали и остановили поезд, в котором везли большевики арестованных казачьих офицеров. Большевиков и комиссара ихнего побили, а офицеров освободили. Председатель Черкасского исполкома, матрос Медведев, десятого марта потребовал ликвидировать всех еще оставшихся в живых офицеров, а казаки местного батальона, до того шедшие с большевиками, заявили, что ежели немедленно не будет остановлена регистрация офицеров, то батальон выступит с оружием в руках. К ним присоединились и десятый, и двадцать седьмой полки, раньше бывшие у Подтелкова, а с ними и вся голубовская артиллерия. Открытый бунт подняли казаки в Черкасске, и бежал Медведев в Ростов. Потребовал, было, Черкасский исполком от Кривянской станицы выдачи скрывающихся там офицеров, а станица им ответила, что она всех иногородних, сочувствующих большевикам, рассматривает теперь как заложников, и ежели исполком что-либо предпримет, то вырежет она их до последнего. В это время ударил красный главковерх Тулак из Ставропольской губернии на Попова, и начался у них бой возле зимовников Королькова на Стариковской балке. Наша артиллерия с первых же снарядов три красных пушки подбила, а конница погнала тулаковцев в степь. Спасла их поднявшаяся метель, но всё же успели они в колодцы сулемы насыпать, воду отравить. А за это расстреляли казаки всех взятых в плен красногвардейцев. Пятнадцатого марта собрали большевики в Ростове Съезд Советов для окончательного решения вопроса национализации казачьих земель. И, конечно же, расстрела всех непокорных. Прислушались казаки ко всему, что там говорилось, и в ночь на восемнадцатое марта первой на Дону восстала станица Суворовская. Выбрала сотника Алимова своим начальником и ударила на станицу Нижне-Чирскую, освободила ее от большевиков и кого надо из комиссаров порасстреляла. А за ней, одна за другой, поднялись Есауловская, Потемкинская, Верхне- и Нижне-Курмоярская, Нагавская, Филипповская. И пошел, заполыхал степной пожар по всему Дону. Всё, что говорю я вам, далеко не полно, выхватываю лишь отдельные случаи из того, что делалось. А главное это то, что восстали казаки против бессудных расстрелов, массовых убийств стариков, офицеров, священников, против грабежей, реквизиций, насилий, осквернения церквей. Двадцатого марта, мобилизовав казаков от семнадцати до семидесяти лет, восстала станица Егорлыкская, за ней Баклановская, сразу же занявшая своим отрядом станицу Ремонтную. А двадцать девятого марта съехались в станице Богаевской представители двадцати двух станиц, создали «Комитет общественного спасения» и вынесли резолюцию — о беспощадной борьбе с советской властью за освобождение Дона и создание краевой власти. Тут и у нас на севере, в Усть-Медведицком округе, восстания начались, стали партизанские отряды формироваться, а станица Гундоровская уничтожила у себя карательный отряд матросов и пошла на Луганск. Нашла там, кого б вы думали — немцев!
Атаман хлопает ладонью по коленке:
— Да ну? А што ж немцы энти исделали?
— А то исделали, что помогли восставшим амуницией и винтовок им дали, вот что немцы сделали. А в это время митякинцы присоединились к гундоровцам, и вместе с немцами…
Атаман подскакивает на стуле:
— Быть того не могёть! Вчорашние враги, а глянь ты на них!
Дядя лишь улыбается:
— Вот вам и вчерашние враги! А теперь нам, казакам, помогают. Да, так вот — ударили вместе с немцами митякинцы и гундоровцы на шедшую на Дон дивизию Щаденко и разбили ее в пух и прах. А в это время заночевал на хуторе Сетракове Тираспольский отряд красной гвардии Первой социалистической армии. Напали на них казаки ночью, на сонных, и забрали у них всю артиллерию, пулеметы и обозы. Станица же Мигулинская собрала у себя окружной съезд и атаманом выбрала полковника Алферова. Поднял он весь свой округ на восстание. У станции «Тацино» нашим особенно повезло: разбили они там красных и забрали у них орудия, пять тысяч снарядов, пулеметы, винтовки и два миллиона патронов. Большевики же собрали в станице Константиновской заседание Окружного съезда Советов, расселись товарищи и ораторствовать о контрреволюции, о терроре начали. И вдруг — т-р-рах! Открываются двери и входит в зал заседания полковник казачий в полной форме, а с ним два калмыка — георгиевские кавалеры… через полчаса переименовался съезд Советов в окружной съезд, всех большевиков тут же казаки прикончили и стали отряды формировать. Заняли, было, восставшие Новочеркасск, да не устояли, выбили их большевики из города. А пока закипала эта каша, по всему Дону начал генерал Попов отряды свои переорганизовывать, перегруппировку сил сделал. Создал отдельные группы войск. А пока шли все эти переформирования, начались жестокие бои за Александров-Грушевск и за Ростов. И на самую на Пасху, двадцать третьего апреля, заняли наши Новочеркасск и сразу повернулись на Ростов, и взяли его вместе с немцами. Нашими там полковник Туров командовал. Не успели хорошо и дух перевести, как созвали восставшие Круг Спасения Дона и избрали на нем третьего мая Войсковым Атаманом генерала Петра Николаевича Краснова, а уже четвертого мая приняты были этим Кругом Основные законы Всевеликого Войска Донского, объявившие Дон независимым, самостоятельным государством.
Давыденко, чудом спасшийся от матросов в Писареве, пересидев у одной казачки на подловке в соломе, вдруг выпрямляется и громко хохочет:
— Х-ха-а-а-ха-ха! Вот это здорово! Всевеликое! И откуда они это всевесёлое выдрали!
Смех моряка действует на всех, как ушат холодной воды. Старики смущенно переглядываются, и отвечает Давыденко Савелий Степанович:
— Откуда взяли? Видите ли, в старину, когда по зову Войскового Атамана собирались в Новочеркасске казаки со всего Войска решать особенно важные вопросы, вот еще тогда говорили: со всего Великого войска. Эту формулу и взял в основу наш атаман, и создал свое новое, по времени, считаю я, совсем подходящее: Всевеликое Войско Донское. Кстати, так нас в грамотах своих еще царь московский Алексей Михайлович величал.
Давыденко не унимается:
— А я эту вашу формулу «мания грандиоза» называю! Все-вели-кое! Ха-ха! Не слишком ли изволите? Не забудьте, что, кроме вас, кстати, ничего вы о том толком не сказали, есть еще и Добровольческая армия генералов Алексеева, Деникина и Корнилова, настоящих русских патриотов, героев белой борьбы, рыцарей белой мечты!
Дядя Воля дальше не слушает:
— Н-дас… белой мечты… мечтают эти ваши генералы, сны им о великой России снятся. Только не забудьте, что и в их армии сейчас на восемьдесят процентов казаки. Остальные — русские господа офицеры без полков, осколки старого, под откос сброшенного режима.
И одно теперь только совершенно ясно: благодаря им раскололось противобольшевистское дело. Благодаря им, этим неизвестно о чём мечтающим генералам. И крепко раскололось. Звал их наш атаман Попов в станице Мечётинской, уговаривал идти вместе, не захотели, на Кубань пошли, надеялись там кубанских казаков мобилизовать, на людской материал да на кубанские богатства рассчитывали. И что же у них вышло: зря людей положили, Екатеринодара не взяли, никаких пополнений не получили, спят еще кубанцы, выжидают, а вот генерала Корнилова, казака, лучшего из всех их, потеряли. Вместо него Деникин теперь командует. И вернулись они снова на Дон, на отдых, на донские хлеба рассчитывая.
Моряк кричит:
— И имеют право на отдых! А Корнилов ваш тоже с этим демократическим душком был, н-нар-ро-о-дник! Сын простого казака! Знаем мы таких, очень хорошо знаем. Вот Деникина, того вы на ваши всевеликие не поймаете! Говорильни устраиваете. Круги у вас перед глазами кружатся, от общей матери-России, родины вашей, отделяетесь, тогда, когда она в беде, в несчастьи… вместо того, чтобы помочь, чтобы беспрекословно подчиниться главнокомандующему…
Высоко подняв брови, удивленно глядит атаман на кричащего моряка, и видно по лицу его, что ничего он не понимает.
— Ш-ша! А ну помолчи, не на базаре! А што ж ты, господин хороший, от этой самой Расеи твоей к нам, на Доншшину, подалси? А? Пришшамили тибе твои русские люди? Кишки б они табе выпустили, каб ты суды к нам не ускрёбси. Али как энти матросы в Кронштадте, што офицеров своих либо в корабельных топках сжигали, либо ядро к ногам привязав, на дно пушшали…
Моряк вскакивает с места:
— Так это же результат немецко-жидовской пропаганды! Это же местные эксцессы, но не ваше казачье предательство отделения от общей матери-России. Это же государственная измена, за которую вешают! Против них бились вместе с союзниками нашими французами и англичанами доблестные наши генералы Алексеев, Деникин, адмирал Колчак, и, конечно же, не пойдут они с каким-то там походным или как его называют, пароходным атаманом, тоже предателем!
Из полутемного угла подскакивает к моряку старик Морковкин:
— Ишь ты, гля на яво, суку! Отсиживалси тут у наших жалмерок под подолами, шкуру свою спасал, а мы яму изменшшики! Ишь ты — Расея! А не поперла она, вся, как есть, за красными тряпками, не выгнала царя свово, не жгеть, не палить, не насильничаеть? Не поганить храмы Божьи? Как вон в станице нашей, повыбивали иконы с алтарю, поскидали посередь церкви и подожгли. А кто делал — когда посбирали их всех, а они одно: «Мобилизованные мы, не виноваты… курские мы… пензенские…». Хто же это, скажи ты мине, не твоя Расея поганая? Эх, было б Краснову нашему посбирать всю, как есть, энту Добровольческую армию да и кинуть ее куды-нибудь в Саратовскую губернию аль в Воронежскую, нехай там добровольцев своих сбирають, а не нам, казакам, головы морочать! Притулку у нас ишшуть, и на нас же погаными языками тявкають. Было б вас всех за проволоку посадить, штоб не воняли вы у нас по стипе!
Моряк хватает старика за чекмень:
— Так вы же изменники… Предательство же это! — и вдруг отпустив старика, грозит кулаком в воздухе: — П-подождите! Подождите, мы вас еще прикрутим!
Несколько стариков, вскочив с мест, пробуют перекричать моряка, пытается что-то сказать и князь Югушев, и грохает об стол кулаком хуторской атаман так, что сразу все затихают.
— Вот што, милый человек, пересидел ты тут у нас, шкуру свою соблюл, хлеба нашего поел, а таперь — будя! Штоб я тибе с рассветом в хуторе нашем боле не видел. А увижу — прикажу казакам штаны тибе спустить, несмотря, што царь офицерский чин табе дал, и двадцать пять в зад табе всадить, штоб упомнил ты разговор твой. И свялю я казакам тибе в Саратовскую губернию проводить, сбирай там добровольцев гиняралам твоим. А сычас — уходи отцель, штоб я тибе не видал!
Моряк озирается, как затравленный зверь, встречает лишь озлобленные взгляды или грозное молчание, вдруг срывается с места, почти бежит к выходу, поворачивается у порога, пытается что-то сказать, но, кем-то подбодренный, вылетает в дверь. Наступает неприятное, тяжелое молчание. Но прерывает его чей-то голос от входа:
— Гля на яво, побег жидов бить, Расею спасать.
— От дурака глупые и речи!
Морковкин наклоняется к князю:
— А скажитя таперь вы мяне, ить это же ужасть што, скольки их, евреев энтих, там позасело!
Князь спокоен, как всегда:
— У всякого народа разные люди есть. А у русских, а у вас сколько таких, что после стыдиться их приходится? Но одно надо помнить: по одиночкам о народе судить нельзя, да.
— А што же вы об етом, об Давыденке?
— Ох, тут дело хуже, одно скажу: белая борьба началась!
— Это как же понимать?
— А так, что такие вот всё испортить могут, вот как понимать надо!
Дядя Воля тянет Семёна за рукав:
— А ну-ка, племяш, выйдем, дело есть.
По-мертвецки сном спящему хутору долго идут они молча в полной темноте, стучатся в стоящий на отшибе темный курень, открывает им двери каким-то чудом попавший туда раньше их Савелий Степанович, входят они в слабо освещенную, с завешенными плотно окнами, горницу, не успевают и оглядеться, как вслед за ними появляются Давыденко и князь Югушев. Дядя почему-то шепчет:
— Вот что, племяш, договорился я с твоим командиром батареи, дает он тебе неделю отпуска для свидания с родителями. А сейчас все мы в Арчаду мотнем, туда и батарея твоя придет. Коней мы запасли, а вон, в углу, бери, винтовка твоя и шашка, а вот, держи, наган. И двинем мы сейчас, пока еще не рассвело, путь нам далекий, неизвестно, с кем повстречаемся, красные банды крепко за рубежи наши держатся. А теперь — пошли, пошли, закусим, да в путь-дорогу.
* * *
Дядя рысит далеко впереди, вправо, по бугру, маячит Савелий Степанович. Оттуда, от границы, всего опасней, говорят, что хотят красные перейти речку Иловлю повыше хутора Писарева и отрезать от восставших здесь казаков, от Арчады до Усть-Медведицы. Чёрт его теперь разберет, как лучше делать надо. Семён старается не глядеть на едущего рядом с ним Давыденко.
Князь Югушев рысит замыкающим, ездит он здорово, кавалерист старый, только не по-казачьи в седле сидит, тоже гвоздочки подергивает. У него, кроме браунинга, оружия никакого нет.
Начинает светать, только облачно, далеко еще, не видно…
Савелий Степанович с бугра прямо на дядю поскакал, а тот коня придержал, дожидается, ишь, руками машут, зовут их…
Семён переходит в намет, князь и моряк поспевают за ним с трудом. Придержав коня, кричит дядя:
— Придави, племяш, подбодри воинство русское!
И пускает своего Карего карьером туда, где на небольшой возвышенности сбежались в кучу несколько караичей и осин. Ого! — вот он снова, знакомый звук:
— Джи!
Там, совсем вправо, хорошо их на засветлевшем горизонте видно, добрый десяток конных. Это что за люди? До сих пор у красных только пехота была! Пригнувшись к луке, ударив конька своего каблуками, доскакивает Семён к дяде. Тот машет ему рукой:
— Эт ты, брат… глянь на него! — обернувшись, видит Семен, как упавший на землю конь Давыденко пробует поднять голову, привстает на передние ноги и падает снова, придавив под собой седока.
Но вот уже несется Савелий Степанович к моряку, соскакивает на землю, вытаскивает матроса из-под убитой лошади. Тот прыгает на одной ноге, ранен, видно, и тяжело повисает на плече Савелия Степановича. Оба медленно идут к ним, шествие замыкает тоже спешившийся князь, подхвативший седло моряка и переметные сумы. А дядя не ждет:
— Племяш, не зевай, не зевай, сюда, под деревья коня клади!
Быстро ударив своего рыжего ладонью под передние колени, схватив другой рукой за хвост, обматывает его щиколотку задней ноги, тянет Семён хвост на себя.
— Ну ложись, ложись, балда!
У-ф-ф! Слава Богу! Улегся! Быстро схватив винтовку с плеча, укладывается Семён поудобней за седлом, кладет винтовку на подушку, и лишь теперь осматривается: ага, вон трое красных обойти их хотят, а те, справа, тоже трое, отрезают их от хуторов. Остальные, держась на приличном отдалении, стреляют, с лошадей не слезая, по-настоящему целиться не могут, бьют в белый свет, как в копеечку.
Дядя Воля на минутку отрывается от бинокля:
— Матросня! Гвозди дергают! В кольцо нас берут. Держись теперь, племяш. Зря не стреляй, поближе подпускай, патроны береги. Старайся в седока, скотину жалко, да и прятаться они за убитыми конями будут.
Принесенный князем и Савелием Степановичем моряк с трудом опускается под первую же осину, долго возятся они с ним, перевязывая ему ногу. Закусив губу, надрывно стонет он, пуля ему кость под коленкой разбила. Ох, бедняга! Но вот, опустив, наконец, разрезанную штанину через грубо накрученный бинт, усаживается он за деревом и достает из кармана шинели огромный, в деревянном футляре, револьвер. Ага — парабеллум это. Как пушка, палит. Иного оружия у него нет. А за это время положил Савелий Степанович своего и князя коней, и оба они улеглись за их спинами. Став боком к караичу, снова смотрит дядя в бинокль.
— Чёрт возьми, отдельная ли это компашка или только передовой отряд? Ишь ты, как окружают, парни, видно, бывалые! Ну погодите, товарищи, не на тех нарвались!
А те, гарцуя каждый врозь, человек их семь, скачут туда и сюда, разъехавшись друг от дружки саженей на пятнадцать, меняют аллюры, вертятся они уже близко, уже можно различить их куртки, шинели, бескозырки…
Пуля щелкает прямо в дерево, другая впивается рядом, в корень. Ага, получше пристрелялись.
— С разбором стреляй, не лотоши! — напоминает дядя Воля.
Один за другим слышатся два его выстрела. Один из врагов повалился с коня.
«Ага, неплохо, а ну-ка и я попробую!», — долго целится Семён в того, в черном. Вот он на мушке. Быстро нажимает на спуск, и видит, как, мотнув головой, дернул в сторону комиссарский конь, но сразу же взял седок его в руки. Эх, значит, пуля мимо!
— Джиу! Джиу! Джик!
Ого! Да они не шутят! Снова прикладывается он, стараясь поймать на мушку комиссара, и вдруг появляется на ней другой, в малахае. Быстро жмет на спуск, и видит, как будто подкошенный, падает на всем скаку конь и подминает под собой потерявшего малахай всадника. К упавшему подскакивают те, в матросских бескозырках. Стараясь целиться как можно спокойней, гонит Семён в них пулю за пулей и краем глаза видит, что и дядя туда же стреляет. Один из матросов вдруг неестественно выпрямляется назад, запрокидывает голову и медленно оседает на землю. Готов! «Интересно: моя это или дядина пуля?». Второй бросается бежать в сторону, спотыкается и, размахнув руками так, будто всю степь обнять хочет, падает на лицо.
Голос дяди весел и громок:
— Здорово, племяш! Троих мы с тобой из строя вывели!
А тот, придавленный конем, и не шевелится, значит, и его стебануло! А сзади их медленно, размеренно, шлет пулю за пулей Савелий Степанович, справа злобно хлопает парабеллум Давыденко. Только князь, став боком за дерево, угрюмо молчит, держа в опущенной руке бездействующий браунинг. И прав: сейчас из него стрелять — только патроны зря расходывать. Внезапно что-то совсем новое почувствовал Семён. Будто водки хватил он крепко. Будто азарт в него неуемный вошел, будто схватило его и понесло, и нет в мире ничего лучше, как садить из винтаря по этим гарцующим фигурам.
А те отдали коней своих коноводу, отбежал тот в сторону, в ложбинку, и полезли спешившиеся за кустиками прошлогодней колючки, за суслиными бугорочками. Ишь ты, знают свое дело, так легче они нас на мушки возьмут. А парабеллум Давыденко строчит и строчит, не переставая. Да что он, одурел, что ли? Ведь пушка его туда и не доносит вовсе! На мгновение оборачивается Семён в его сторону и видит как, крутнув высоко в воздухе правой рукой, вдруг всем телом оседает моряк под коренья дерева, парабеллум отлетает в сторону, здоровая его нога судорожно скребет землю, дергается и затихает. Кончился!
Медленно, будто на ученьи или на параде на Марсовом поле, во весь рост, в расстегнутой шинели с ясно видным под ней уланским мундиром, подходит князь к Давыденко, поднимает с земли его парабеллум, осматривает его, отодвигает убитого в сторону и ложится на его место.
Но — что это? А там, на бугре, скачут, рассыпавшись лавой конные, добрая сотня их будет. Да это же казаки! Наши! Одним ударом руки поднимает своего коня Савелий Степанович, то же делает и дядя, и вот они оба, выхватив шашки, гонят наперерез уходящим в степь матросам. Одним рывком стоит Семён на ногах, рыжий его вскакивает сам, заносит Семён ногу в стремя, и чувствует крепкую руку князя, схватившую его повыше локтя.
— Приказный Пономарев! Как старый кавалерист, как старший вас в чине, приказываю оставаться здесь.
— За дядей я хочу… за дядей!
— И не думайте! Без вас они управятся. Видали, что делается?
С гиком проносятся мимо них казаки, ничего уже за крупами их лошадей не видно. Смешались в кучу.
Наконец, труба, отбой. Кончилось. И уже строится сотня справа по три и рысит сюда, к ним. А в стороне гонят двое конных трех пленных.
А князь занялся Давыденко. Снял с него шинель, скрестил ему на груди руки, положил под голову фуражку, сдвинул вместе растопырившиеся ноги, придавил пальцем веки широко раскрывшихся навстречу солнцу глаз, вытянулся перед ним, пробормотал что-то, сказал ли что, молитву ли прочитал, и, козырнув, отошел в сторону, спокойно осматривая парабеллум.
А казаки всё ближе и ближе. Пленных ведут. Дядя едет впереди вместе с командиром сотни, а левая рука на перевязи!
— Дядя, что с вами?
— Ерунда! Стрельнул в последнюю минуту тот, кожаный, и прошла пуля через рукав, повыше локтя, кожу обожгла, заживет, как на кобеле. Ну, зато и дал же я ему!
Командир сотни хмуро улыбается:
— И правильно, по-баклановски. Надвое, как тушу свиную, разворотил.
Стороною, озираясь, как волки, видно, сильно избитые, зелено-бледные, с кровоподтеками на лицах, в окровавленных рубахах, проходят мимо них раздетые до белья, босые матросы в сопровождении двух конных казаков. С ужасом смотрит на них Семён и сорвавшимся голосом обращается к командиру сотни:
— Да как же это так, господин есаул, так же пленных нельзя, ведь это же…
Есаул не успевает ему ответить, как наезжает на него конем один из конвойцев, смотрит темными, горящими страшной злобой глазами и говорит хрипло и отрывисто:
— А ты, вольноопридяляюшший, вижу, с ученых. Так вот, и мою науку послухай. Ишо трошки подучись. Ишь ты, за сердце тибе взяло, жалкуешь ты об них. Да и как их не жилеть, ить это они там разным своим карлам-марлам поверили и ихнюю науку на нас, казаках, примянять зачали. В Ютаевке. Вот и гоним мы их туды. Слыхал ты, ай нет, старая там вдова офицерская жила, мужа у ей на фронте убило. А две дочки осталися. Знавал их, ай нет?
Дядя прерывает конвойца:
— Прекрасно ты их, племяш, знаешь, Пинна и Римма, помнишь, в Писарев они к вам часто в гости прибегали.
Как же не помнить. Каждую неделю приходили они через Редкодуб, там всего версты три-четыре, кормила их тетка, чаем поила, допоздна они засиживались, играли в фанты, песенки пели, в карты играли, гадали. Римма пела новейшие романсы Вертинского, особенно же нравившийся ей «Ваши пальцы пахнут ладаном…», чем бесконечно возмущала суеверную тетку: «Доиграисси ты, накличешь беду на свою голову. Брысь!». Как их не помнить, обе молодые, обе красивые, румяные, в чудесных платьицах, тоскуя в провинции, рады они были бесконечно, когда узнали, что в соседнем хуторе два офицера появилось, да еще один самый настоящий князь!
— Конечно же, помню. А что же с ними?
И снова говорит конвоец:
— А то с ними, што пришла вот ета матросня в Ютаевку. Окопы там рыть зачали. Этих двух девок в те окопы уволокли. И всю, как есть, ночь над ними измывались, а посля того штыками все, как есть, ихние бабьи причандалы попрокололи. Да так, голяком, в тех окопах и бросили, когда мы на Ютаевку налетели. Ушли они тогда от нас. И коней они там реквизнули. И сказал нам там народ, што знають они всех: и кто коней брал, и кто девок в окопы волок, враз кажняго угадають. Вот таперя, когда переловили мы остатних, гоним мы их туды, народ скличем, опрос свидетелев исделаем. И ежели вот эти окажутся те самые, што там бесчинствовали, ох, господин вольноопридяляюшший, не схотел бы я тогда на их месте быть. Отдадим их на суд народный, нехай свое сполна получуть.
* * *
Здесь, в катухе, на сене страсть как хорошо. Тепло, тихо, спокойно. И вставать не хочется. Разморил его сон, потягивается с удовольствием, смотрит, едва приоткрыв глаза, на пробивающийся сквозь щели в досках раздробленный луч солнца, зевает, проводит рукой по лицу, но вдруг встает перед ним картина всего того, что произошло на прошлой неделе.
Оказывается, послали тогда из Писарева на всякий случай одну сотню по буграм, и услыхали они ихнюю перестрелку. Всё остальное просто получилось… А Давыденко там же, в степи, под теми караичами зарыли. Один какой-то казак, возрастом постарше, молитву над ним прочитал, сотенный трубач, никогда еще Семён ничего подобного не слышал, протрубил что-то над могилкой. Крест из веток сделали и химическим карандашом имя воина Ивана нем написали. А убитых красных так в степи лежать бросили, только некоторые казаки вакан хороший использовали, сапогами и брюками разжились. На то и война — не зевай, когда что под руку подворачивается. Отдохнула сотня с полчаса и вытянулась дальше по бугру, на Иловлю, может быть, и до Ольховки дойдет. И дядя Воля с Савелием Степановичем решили вместе с той сотней на Разуваев отправиться. Там положение серьезное, нельзя свой хутор в беде оставлять. А куда же племянника с князем девать, им же на Арчаду надо? Вот тут и позаботился Господь Бог о чуде: замаячила с запада по степи пешая колонна, тянулся за ней небольшой обоз, а что за люди такие, кто же его знает? И послал командир сотни двух казаков, тех, у которых кони поглаже, дело это выяснить. А видно было в бинокль, что те, пешие, в боевой порядок строиться начали. Но — свои оказались, скачут посланные назад и докладывают, что партизаны это, отряд «Белого орла» называются, и идут они на Усть-Медведицу. А командует ими хорунжий Милованов, и командирша с ними, ох, и бабе-е-ец!
Распрощался Семён со всеми и поскакал с князем неизвестному отряду наперерез. На прощанье осмотрел дядя племянника, погоны поправил, поясной ремень подтянуть аккуратней велел, коня его по шее погладил, много не говорил, только всем поклоны передал, а тете Вере сказать велел, что, как управится он с делами на Разуваеве, так сразу же на Арчаду и примчит.
— Ну, вали, племяш, дай Бог счастья. Поклон от тебя бабушке передам.
А князь, получив от казаков снятый с комиссара карабин и полный патронташ патронов, выслушав рассказ конвойца, только и сказал:
— Н-дас… теперь миндальничать никто не будет.
Взяв наперерез шедшему прямо по степи отряду, не желая морить лошадей, переменным аллюром подрысили они к пехоте, глянул Семён на первых попавшихся ему навстречу пехотинцев, и ахнул: да ведь вон те двое, Юшка с Виталием! Так и есть!
И узнал от них, что после того налета матросов на Дубки забежали они аж на Лог, а там и принял их к себе хорунжий Милованов, а отца ихнего начальником хозяйственной части назначил. Милованов парень свой, рубаха, жинка его в тачанке, в обозе, на паре карих вина бочку возит, чуть кто приморился, а она ему стаканчик: «Хвати за успех контрреволюции!». Баба такая, что поискать — другой такой не найдешь. Из донских институток. И показали ему, где командир отряда находится:
— Во-он там, у того костра, возле которого обозные тачанки стоят.
Быстро подлетел Семён к сидевшему у огня молодому хорунжему, спрыгнул с коня, перекинул уздечку через левый локоть, сделал шаг вперед, вытянулся и отрапортовал:
— Господин хорунжий! Приказный Пономарев, отправляясь из шестой донской батареи по делам службы на хутор Фролов, станцию Арчада, просит позволения остаться в вашем отряде на все время следования!
Глянув на него заслезившимися от дыма костра глазами, улыбнулся хорунжий, хотел что-то сказать, да перебил его грудной женский голос:
— И прекрасно, молодой. Знакомы будем! Присаживайтесь-ка сюда, рядом.
Лишь теперь увидал он сидевшую рядом с Миловановым совсем молодую женщину в солдатской шинели без погон, как показалось ему — зеленоглазую и писаную красавицу. И загляделся. И страшно смутился, услыхав слова хорунжего:
— Но-но-но! Начальство глазами есть надо, а не чужих жён. Понятно, приказный? А, впрочем, садитесь-ка действительно туда, куда вам моя Галина Петровна показала, и рассказывайте всё, как на духу!
Совершенно смутившись и покраснев, привязал Семён коня своего к задку первой же подводы, сунул тот морду в торчавшее из нее сено и занялся своим делом. Примостившись возле зеленоокой красавицы, лишь теперь увидал Семён сидевшего с другой стороны князя Югушева…
И пообедали, и выспались, и коней с князем почистили, и вечером у костров с партизанами песни попели, и спать рано полегли. Двинулись на Арчаду лишь на следующее утро. Семён и князь, единственные в отряде конные, по приказу хорунжего зарысили вперед, местность освещать, всё прошло благополучно, в два коротких перехода пришли они на Арчаду и побежал Семён, ища на главной площади курень казака Илясова. Вот она, настежь раскрытая калитка, а вот он и хозяин на пороге.
— Тю, Семён, гля на яво — приказный стал. В чины высокие вышел! Отразу тибе таперь и не угадать. Откель Бог несет? Да заходи, заходи в курень. Господи ты Боже мой, скажи ты на милость, какая она дела получилась. Ить родители твои всю времю тут у нас прожили, всё об вас мячтали, где вы есть, уж не пропали ли там на Дубках. Маманя ваша страсть как убивалась, што ни день плакала. А третьяго дня приехал к ним полковник Манакин, с иногородних он, помешшики саратовские, папаня ваш хорошо яво по каким-то там дворянским дялам знаить, вот и договорились они вместе в Черкасский город ехать, там Манакин свой Саратовский корпус формировать хотить, верней сказать, деньги на няво от атамана нашего заполучить, от Краснова-гинярала. А папаня ваш, как он, почитай што, инвалид, у Манакина по интендантской части служить зачнёть. А мамаша ваша, вас не отыскав, никуды ехать не хотела, нога у ей, слава Богу, трошки вроде получшела, ну, купили они ишо пару лошадей, телегу подходяшшую, да вот, плача, села она и уехала. Манакин тот обяшшал ей, здорово обяшшал, што всё, как есть, разузнаить про вас, человека верного и в Дубки, и на Писарев хутор пошлёть. С тем и уехали. А дядюшка ваш, полковник Андрей Алексеевич, тоже в Черкасск вдарилси, слушок прошел, будто сын ихний, Гаврил, брательник ваш двоюродный, нето без вести пропал, нето убитый вроде. Когда Черкасск брали, будто снарядом яво вдарило, вроде смертью храбрых лёг он. Да вы што? Ты, брат, не того. Таперь она время такая, што хорошего не жди. Сопли нам таперь распушшать не приходится. Да. А тетка ваша, Агния Алексеевна, тоже туды же подались, дочку свою Марию, вашу сеструху двоюродную, институтку благородных девиц, искать, потому как слыхала она, будто какая-то Добровольческая армия с Кубани битая возвернулась и на отдых по нашим донским станицам стала. И будто в армии энтой Муся ваша милосердной сястрой служила. Вот и поехала Агния Алексеевна за дочкой своей. А другая тетка ваша, Вера Петровна, она дядю вашего Андрея Алексеевича, полухворого, сердцем он жалиться зачал, да мамашу вашу, хромають они ишо здорово, так отпустить не хотела. Провожу, сказала, в Черкасск, да потом и вернусь, к тому времю и Воля мой, дядюшка ваш, есаул Валентин Ликсевич, возвернется, — старик Илясов понижает голос: — Там, на хуторах у вас, сказали они мине, будто у дяди Андрея и Валентин Ликсевича кое-што позарыто, так вот и хотить дядя ваш всё, как есть, поотрывать и суды привезть, а то клиновцы да ольховцы попользуются. Скрозь они там рышшуть… а вы садитесь, садитесь. Эй, Дунька, где ты есть, гля хто к нам пришел, приняси-кась служивому поисть.
Сгоряча хотел было Семён отправиться вслед за своими, маму найти, о Гаврюше узнать, да все отговорили его.
— Ну, куды вы один? Да ишо по такому времю, когда скрозь по Дону красные рышшуть. Вот повыгоняем их в Расею, тогда и яжжайтя с Богом. И самое разлюбезное дело вам таперь тут батарею вашу дожидаться, а там толкач муку покажить!
И остался Семён на станции «Арчада», купил Милованов у казаков кое-каких лошадишек, штук с десяток, посадил на них обоих Коростиных, несколько усть-медведицких реалистов и гимназистов, и двух студентов, и отдал этот полувзвод под команду князя Югушева. Назвали их командой разведчиков, а Семёну на погоны продольную лычку разведческую нашили. Вот и отсыпается он теперь в ожидании батареи и одного полка из Писарева, слухи прошли, что вот-вот заявятся они в Арчаду. А тогда и пойдут все на Усть-Медведицу, заняли ее сейчас красные казаки Миронова. Те самые, что еще верили словам Ленина о том, что признают большевики Донскую республику, а тогда выгонят казаки всех понабежавших к ним белых генералов и заживут самостоятельно, в дела Москвы не вмешиваясь, а Москва в ихние дела вмешиваться не станет. Говорят, что тысяч с пять казаков у Миронова, все усть-медведицкие и хоперские, только будто тают ряды их, потому что в занятых красными станицах они расстреливают и грабят, что восставать зачали станицы, почитай, по всему северу Дона. А против того Миронова ведет восставших казаков полковник Голубинцев, многие хутора с ним пошли, сами казаков мобилизовали, только одна беда — там, где железная дорога близко, там у красных и бронепоезда, и подвоз подкреплений быстрый. Лезут они и от Поворино, и от Царицына тучами, как те муравьи. Числа им нет.
* * *
Прибрав своего коня, как полагается, натерев его щеткой до лоску, всыпав ему овсеца, той же лошадиной щеткой протерев погоны и почистив шинель, побелив ремни на поясе и портупее, подбодрив ладонью только начинающий отрастать чуб, ярко начистив сапоги, лихо нацепив набекрень полученную от Илясова в подарок казачью фуражку с кокардой, отправился Семён к своим партизанам.
А показалось ему, что в последнее время как-то особенно посматривала на него Галина Петровна, но отвечала всегда без улыбки и крайне сдержанно. Глянув в замазанное мелом конюшенное зеркальце, увидал он себя в нем почему-то глупо улыбающимся, рассердился, и, прошептав: «Ну и дурак», зашагал на край хутора, туда, где в последнем справа курене стоял на квартире хорунжий Милованов, на несколько дней куда-то отлучившийся. Уже издали видно собравшихся вокруг ярко горящего на лугу костра молодых партизан. Варят, наверное, либо неприятельских, либо от благодарного населения попавших в их котел неосторожных кур. Вон они и оба Коростины. Тут же, примостившись на сене, сидит и Галина Петровна. Лишь коротко глянув на него, только молча кивнув головой на приветствие, показала ему место рядом с собой и уселся он прямо на землю, обхватив руками ноги. Один из партизан, высокий, белокурый, подтянутый и ловкий, без головного убора, то и дело наклоняется к котлу, подсовывает под таганок куски кизяка, мешает большой деревянной ложкой кипящую воду, булькает она и брызгается, крутит содержимое котла и бурлит, выгоняя наверх то морковь, то картошку, то куски курятины. Быстро глянув на кашевара, спрашивает его Семён:
— А знаете ли вы, что сказал тот хохол, когда подошел он в степи к цыганам, варившим кашу?
Повар щурится, трет глаза и наперед улыбается:
— Что же сказал тот хохол?
— Варысь, варысь, кашка, будэм тэбэ исты.
— Здорово. А что же ему цыгане ответили?
— Будэмо исты, та нэ вси.
— А он им?
— А хохол им отвечает:
— А що, хиба в вас ложок нэма?
Все смеются, смеется и Галина Петровна, но как-то сухо и отрывисто, и снова коротко взглядывает на Семёна.
— А скажите мне, Пономарев, откуда вы?
Рассказывает он о себе всё по порядку, о своей семье, о родственниках, всех их перечисляет и, когда доходит до тетки Агнюшки и упоминает Шуру, Валю и Мусю, внезапно прерывает его Галина Петровна.
— Муся, Мария? Она не в Донском Мариинском институте в Новочеркасске училась?
— Да-да, в Новочеркасске, дядя мой как раз там был, когда Добровольческая армия в кубанский поход уходила, встретил он там Мусю, когда она с партизанским полком отправлялась. Там, в этом полку, знакомый его хороший, Примеров, служил, обещал дяде за Мусей присмотреть, сестрой милосердия она пошла. А что?
Совсем внимательно и как-то строго смотрит Галина Петровна:
— А что-нибудь еще слыхали вы о ней?
— Нет, не слыхал.
Подняв с земли ветку, загребла Галина Петровна затлевшиеся соломинки в костер и, кажется, что смотрит она в огонь каким-то невидящим, вдруг странно остановившимся взглядом.
— А в семье вашей все целы?
И снова, сбиваясь и торопясь, рассказывает он о дяде Ване и тетке с хутора Писарева, о их смерти, о матери и неудавшейся встрече, о дяде Андрюше и Гавриле.
— А очень вы вашу Мусю любили? — голос Галины Петровны совсем изменился, стал еще темнее и глуше.
Удивленно поднимает Семён глаза:
— Мусю любил ли? Да больше всех!
Совсем низко склонилась к костру Галина Петровна, ширяет бестолково веткой в огонь, больше разгребает угли, чем подсовывает и, видно, что и сама толком хорошо не знает, что делает.
— Рассказать вам о вашей Мусе?
— Да разве вы ее знали?
— И как еще знала! Одноклассницы мы. Когда стали наши из Новочеркасска уходить, то масса молодых девушек и офицерских жен либо с Поповым, либо с Корниловым пошли. Многие, правда, остались в Новочеркасске, им специальная задача была, раненых партизан и офицеров скрывать и ходить за ними. С Поповым в степи Оля Каринова пошла, Ира Кочетова, Филимонова, Карамышева, Татьяна Баркаш, Шевырева Дуня, Изварина Клава, Караичева Вера. А мы с моим хорунжим Миловановым к генералу Богаевскому в Партизанский полк, с Корниловым на Кубань. И Муся ваша с нами была. Ни в каком лазарете она не числилась, а еще с одной новочеркасской институткой, по имени — Вавочкой, падчерицей нашего донского полковника Грекова, вместе они были. То раненых перевязывали, то им еду готовили, то пулеметные ленты набивали, то корпию щипали, то белье стирали. И Вавочка и она обе любимицами полка были. И так себя держать умели, что восхищались ими все и уважали их, и любили, как сестер родных. И пошли мы, как вы знаете, на Екатеринодар. Бой у нас за город начался. Уже кирпичный завод мы взяли. Там еще Вавочка с нашим пулеметчиком, прапорщиком Зайцевым, отличилась: он стреляет, а она рядом с ним, спиной к цепям красных, сидит и ленты ему набивает. Там я ее и видала в последний раз. А сестра ваша куда-то к раненым побежала. И тут командир второй бригады генерал Богаевский увидал Вавочку у пулемета, рассердился и приказал ей из передовой линии убираться. Побежала она Мусю вашу искать, а куда, никто толком рассказать не мог, бой шел горячий. Многие их из цепи Партизанского полка видели, да не до них им было, а и знали все, что делают они свое дело, ну и в порядке всё. А когда на другой день рассвело, то в поле, за цепями, нашли их обеих убитыми. Поняли? Поняли, Пономарев, убитыми их нашли. Вавочку и сестру вашу Мусю!
Галина Петровна бросает ветку в огонь, опирается локтями на колени, охватывает голову обеими руками и замолкает.
Рывком поднимается Семён:
— С-спасибо, Галина Петровна… — и, ни на кого не глядя, идет прочь, ничего не видя и не слыша.
Долго, до ночи, темной и теплой, бродит он по левадам, перепрыгивает через канавы и рытвины, натыкается на плетни, подолгу стоит, ухватившись за ствол дикой кислицы, то облокотясь о саманную стенку. «Муся моя, сестренка милая…».
Уже поздно, сам того не заметив, снова подходит к всё еще горящему костру. Высоко к небу мотаются языки огня, на всю степь разносятся голоса поющих партизан:
На берег Дона и Кубани сходились все мы, как один, Святой могиле поклонились, где вечным сном спит Каледин…Через густой сад незаметно подходит Семён всё ближе. Кончили партизаны свою песню, но прислушивается степь и кажется, что и звёзды ждут продолжения. Тихо. Лишь трещат в огне сухие ветки да где-то далеко-далеко стучит железным ходом запоздавшая «тавричанка».
Юшка Коростин спрашивает:
— Галина Петровна, говорят, что знаете вы наизусть стихотворение Петра Крюкова «Родимый Край»?
— Знаю, а что?
— Прочтите нам, пожалуйста, многие из ребят его не знают.
Семён плотно прижимается к плетню, только теперь заметив, что мокро всё лицо его от слёз.
Видит как подняла голову Галина Петровна:
— Было это еще тогда, когда, вернувшись с фронта, засели наши казачки по углам, запрятались по куреням, заразились своим нейтралитетом, и пустили красную нечисть на Дон. Начала она грабить, убивать, бесчинствовать. Вот тогда и пошли такие вот, как вы — гимназисты, реалисты, кадеты, студенты, институтки и гимназистки в партизаны. И спасли честь Дона. Вот тогда, в ту страшную минуту сомнений, и написал Крюков свое стихотворение… — Галина Петровна выпрямляется. — Так вот, слушайте!
«Родимый Край! Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов…
Чуть тает тихий свет зари, сверчок под лавкой в уголке, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой… Укропом пахнет с огорода… Родимый Край… Кресты родных могил. И над ливадой дым кизечный, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и журавель застывший в думе — волнует сердце мне сильней всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусств создали мир очарований.
Тебя люблю, Родимый Край.
И тихих вод твоих осоку, и серебро песчаных кос, плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов на заре и в праздники шум станишного майдана, и старый милый Дон — не променяю ни на что.
Родимый Край.
Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разлуки и грусть безбрежная — щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной.
Молчанье мудрое седых курганов и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной — не ты ли это, Родимый Край.
Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой Край Родной.
Но всё же верил я, всё же ждал, за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметет волной наш Дон Седой.
Вскипит, взволнуется и кликнет клич — клич чести и свободы!
И взволновался Тихий Дон! Клубится по дороге пыль, ржут кони, блещут пики. Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна.
Звенит и плачет и зовёт.
То Край Родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог и угол.
Кипит волной, зовет на бой Родимый Дон! За честь отчизны, за казачье имя, волнуется, шумит седой наш Дон — Родимый Край…».
Сад, в котором стоит Семён, густ и велик. Зарос то малинником, то смородиной. Пробираться нужно совсем осторожно, чтобы не заметили его, чтобы не прервать удивительной, прекрасной, божественной тишины, наступившей после чтения стихов. Но уйти нужно. Обязательно. Сейчас же, немедленно подседлает он своего конишку, и в путь — в Черкасск. Повидает там маму, поговорит с ней, проживет день-два, и тогда, тогда всё ясно: за Край Родной, за честь отчизны, за кизячный дым, за хутор наш, за милую мою Мусю…
Стараясь пройти никем незамеченным, крадется он через илясовский двор, держась в тени поближе к катухам. Но, будто нарочно, поджидал его старик-хозяин:
— А-а! Семушка наш. Господин приказный! Да вы суды, суды, в курень, заходитя, я вот тольки рассказать вам хотел, дьякон наш хуторской Кондрат Стяпаныч, ить он тоже тогда с вашими в Черкасск уехал, увязался с ними, как тот кобель, прости Господи. Ладану яму да вина церковного раздобыть надо было. Так вот, возвярнулси он, ноне в обед приехал, коня свово во-взят уморил, и рассказал, што брательник ваш двоюродный Гаврил Андревич живой, слава Богу, только, вроде, трошки ранетые были. Да, так вот, как приехал дяденька ваш Андрей Ликсевич, царства яму небесная, как приехал…
Семён холодеет:
— Что? Что ты сказал? Почему — царство небесное?
— Вы суды слухайтя. Как приехали в Черкасск господин войсковой старшина Андрей Ликсевич, так перьвым же делом отправились они в Войсковой штаб, справки об сыне своем, об сотнике Гаврил Андревиче, там навесть. И тольки што из квартеры с своей вышли, тольки што с проулку на Платовский спуск повернули, ан глядь — идуть они, брательник ваш двоюродный Гаврил Андревич, живые и здоровые, тольки левая рука у них на перевязи. А дяденька ваш, Андрей Ликсевич, царства яму небесная, как увидали сына свово Гаврилу, так только всяво и сказать смогли: «С-сынок, Гаврюша!». И наземь свалились. Подскочил к яму Гаврил Андревич, народ сбегси, повярнули яво — а он кончилси. Сердце у яво не устояло, удар с ним приключилси. А ишо, когда уяжжали они отцель, с двора нашего, и дьячок за ними увязалси, шутковали они: «Садись, — говорили, — в задок, коня свого, коня дохлого за грядушку вяжи, обоих вас потянем. А ежели красные где нас увидють, никогда не нападуть: уж мы-то отстряляимси ай нет, а ты их враз кадилом своим распужаешь». Так шутковали, конца свово не чуяли. Эх, да и хороший же человек они были, дядя ваш Андрей Ликсевич. Успокоились они, а што нас, грешных, ждеть, того не знаем. Об етом сычас лучше и не говорить. Он с Минушкой своей таперь свиделси, лягко яму там. Не убивайтесь об ём дюже, хорошо он, честно жизню свою прожил, не хуже деда вашего Алексея Иваныча, царства яму небесная. А ишо сказал дьячок, што мамаша ваша, она с Сергеем Алексеевичем, господином есаулом, поступившим к ентому Манакину на должность интенданта, потому как в строю негожие они, так вот она поедить в город Азов. Там интянданства формироваться зачнёть того корпуса, каким тот Манакин командывать будеть. А об вас поимели они вести, што осталися вы живой, лекше ей таперь, мамаше вашей, зазря таперь убиваться не будить. Будто добегли в Черкасск писаревские казаки, на Кругу там были, вот от них и попользовались родители ваши вестями. И смяялси отец ваш Сергей Ликсевич, когда узнал, што в приказные вы произошли. «Во, сказали, таперь он мине враз чинами перегонить». Шутковали не хуже дяди вашего. А тетка ваша Агния Ликсевна в Ростов поехала, будто там энтот Партизанский полк стоить, в котором дочка ее, а ваша сестра двоюродная Мария сестрой милосердной служить. Свидеться с дочкой хотить. А другая тетка ваша, Вера Пятровна, они ишо с неделькю в Черкасске побудуть, вместе с папашей и мамашей вашими дядю вашего похоронять, а тогда и суды прибудуть, к дяде вашему Левантину Ликсевичу, господину есаулу. У них, как мы, казаки, говорим, — уговор дороже казанков, — в моем курене друг дружку ждать. А энтот сосед ваш, господин Персидсков, помещик саратовский, яво все мы тут «Бонжур» прозвали, он у вашей мамаши столовалси, придёть, бывалычи, на обед ай на ужин, сядить в угол, скажить: «Бонжур!», ногу на ногу кинеть, и одно знаить: ногой той дрыгаить, слова доброго не говоря. А как поисть, как подымется, картуз у яво в руке, поклонится, скажить: «Бонжур!», и нет яво, ушел. И так кажный день. Так вот таперь «Бонжур» етот в город Ростов поехал, он к гиняралу Деникину в пропаганду поступаить, Освагом называется. А энтот ваш другой сосед, помещик Мельников, энтот к атаману нашему гиняралу Краснову лезить, тоже формирования не хуже Манакина исделать хотить, только покрупней, штоб на всю, как есть, Расею и штоб вроде заместо энтой Добровольческой армии, што ей Деникин командует. Он почему-то с Деникиным-гиняралом не дюже в дружбе, говорить, што Деникин открыто должен царскую знамю выкинуть и всех православных россиян за престол и отечество против жидов и коммунистов воевать покликать. А как тот Деникин неизвестно куды крутить, вот и лезить таперь Мельников к атаману Краснову, и будто знаить он, што и сам Краснов вовсе не дюже за вольный Дон, а втайне за царя. А казаки, как Краснов гуторит: лучшая жемчужина в короне царей российских, и поэтому свою власть — Всевеликую Войску — он тольки до поры до времени удумал, а как скинить он большевиков казачьими силами, то и Деникина спихнеть, и лишь тогда сам на белом коне в Кремле вьездить, царя там посадить, а Дону вроде автономию получить и сам на Дону царствовать зачнеть, как царёва правая рука. Так Мельников про Краснова думки говорить, и на том они с папашей вашим согласились, всчет царя и Краснова. А таперь пойдитя вы, выспитесь получше, да об дяде вашем полковнике Андрее Ликсевиче не дюже горюйтя, хорошую он смерть принял, не хуже деда вашего, энтот от своей удовольствии, от рыбальства, а он от радости, што сынка увидал. Не каждому это Бог дает — радостно помереть, хто яво знаить, как мы с вами помирать будим…
* * *
Юшка и Виталий уснули. В сарае тепло и тихо. Соломы тут достаточно, лежать можно хорошо, мягко. Толкнули их сюда еще засветло, заперли простой задвижкой. На крыльце куреня сидит часовой. Молчит и он. Тишина такая, будто весь хутор Витютнев вымер.
А ведь как у них всё глупо получилось: послали их на этот хутор поглядеть, можно ли тут для лошадей разведческой команды сена и овса купить, всего сюда верст двадцать от их лагеря. Стоит теперь сотня «Белого орла» в балке одной, недалеко от Фролова. Отправились они с утра рано, до Витютнева доехали только после обеда, особенно не торопились, нашли здесь двух хозяев, согласившихся продать по прикладку сена и по пятьдесят пудов овса, о цене договорились и задаток им николаевскими деньгами дали. Зашли потом к одному из хозяев в курень, оставили винтовки и патронташ в сенях, поставила им хозяйка миску молока на стол и буханку хлеба положила. Только нацелились они узорчатыми деревянными ложками на молоко, только откусили от еще теплого ржаного хлеба, как грохнула ударенная снаружи ногой дверь, широко открылась и вскочило в комнату три казака в длинных шинелях без погон и с винтовками наперевес, и передний, огромного роста, чубатый и рыжий, со сбитой на затылок фуражкой без кокарды, придерживая дверь плечом, крикнул:
— А ну — руки вверьх!
Растерялись они здорово, побросав на стол ложки, встали, подняв руки, только Ювеналий продолжал удивленно жевать полным ртом.
— Выходи с куреню, не задерживай!
Мимо стоящих у двери казаков протиснулись они боком в сени, глянули на свои винтовки, беспомощно переглянулись и так же, с поднятыми руками, вышли во двор. Вслед за ними вышли и их победители.
— Ишь ты, беляки! Должно, кадеты аль стюденты! Против нас партизанить взялись. Погодитя, покажем мы вам, иде раки зимують.
Двое казаков сразу же ушли. Остался тот, высокий, велел им опустить руки и стать возле сарая, а сам приказал хозяйке вынести ему ту миску с молоком и хлеб, уселся на крыльце, положил свою винтовку рядом с собой и медленно, деловито и аккуратно откусив хлеба, принялся за еду.
— А вы без шутков! А то я враз с винтаря вдарю. У мине пардону нету.
Лицо у казака серьезно-сосредоточенно, скулы движутся размеренно и спокойно, только глаза горят зеленым жутким огнем.
— Пострялять бы вас, и вся недолга! Ишь ты — господские сыночки. Сосунки, а туды же, в вояки лезуть…
Постоянно взглядывая на своих пленных, доел казак порцию на троих, с трудом всунул в карман оставшийся хлеб и, взяв винтовку, поднялся на ноги. Из-за верб вынырнули те двое, подошли и сказали что-то охранявшему их казаку, огляделся тот и громко крикнул:
— Эй, хозяин, иде ты есть, а ну-кась запри-кась вот етих в сарай.
Так их троих в сарае и заперли. Только задвижку засунули. Замка у хозяина не оказалось. Пить и есть не дали. В другом конце хутора раздался одиночный выстрел, будто кто-то команду подал, и снова все стихло. Сидели они совершенно растерянные, только Юшка прошептал:
— Слыхали вы? Мироновцы это, разьезд ихний сюда наскочил. Влипли мы.
Так же шепотом ответил ему Виталий:
— Благодари Бога, что не матросы…
Нервно прислушиваясь ко всему, что там, наруже, делается, ловили они каждый звук, но ничего, кроме мычания скота, пения петухов и кудахтанья кур, не слыхали. «Пить пойдем, пить пойдем, пить пойдем», — твердила какая-то пичуга в лугу за куренем. В хуторе затихло все окончательно. Виталий и Юшка заснули. Только Семён, лежа у самой стены, водя пальцем по толстой талине плетня, никак уснуть не может. И вспомнился ему почему-то приезд Кати и Вали Кононовых к ним на хутор. Валя тогда крикнула:
— Мама, посмотри, живая корова!
А когда въехали они во двор и увидала она их сараи, удивленно посмотрела на сестру.
— А у них и дома из корзинок сделаны!
Вот и сидит он теперь в такой корзинке. Мироновцам в руки попался. Здорово! А что, если они их действительно побьют? Семён холодеет. Подобравшийся, было, под самые веки сон исчезает бесследно. Но — что это? Шаги! Кто-то входит во двор. Двое. Слышно, как говорят они с их часовым, как прощается он с ними и уходит, а те, видно, смена, бросают охапки сена у самой стенки сарая и усаживаются, прислонясь спинами как раз там, где лежит Семён. Возятся с чем-то, шуршит сено, сквозь талины плетня видно, как вспыхивает зажженная спичка, закуривают они, молча сплевывают в темноту, махорочный дым пробивается в сарай и дразнит Семёна. Теперь и он закурил бы с удовольствием. Интересно, сколько же времени? И почему молчат их часовые? Наконец заговаривает тот, что совсем близко сидит, рядом, даже дыхание его слышно:
— А я табе так, дружок, скажу: нам тут вапче разобраться надо, што оно и к чему. По-первах верили мы яму, Миронову, наш он, свой, усть-медведицкий. После перевороту в Петрограде окружным комиссаром в Усть-Медведице стал. С японской войне подъесаулом вернулси, на льготу яво уволили по неблагонадежности, будто ишо тогда он у большевиков в партии был. А в ету войну в двадцатом полку служил, до войскового старшины дослужилси. Ученый человек, не хуже того Голубова. За хорошую жизню для всяво народу против начальства шел. Вот яво и назначили. И с тем зачали большевики по всяму Дону власть свою становить. И помаленькю дошло до того, што должны были мы у нас, в Усть-Хоперской, атамана выгнать, Совет исделать и придсядателя избрать. Об етом нам Миронов приказ прислал, а ежели не схотим, карательным отрядом пригрозил. Предложили наши старики атаману придсядателем назваться, осерчал он, плюнул и наотрез отказалси. Насилу подхорунжего Атланова уговорили. И только тем доказали, што в противном случае прислали бы нам мужика придсядателем. Выбрали мы и Совет, и поперли к нам на майдан иногородние, и одно про енту, про равенству, говорять, про то, што таперь казачьи земли мужикам принадляжать. А сапожник Капустин, иногородний, вылез на трибун и говорить:
— У вас, старики, бороды длинные, да головы дурные!
Выскочил тут на тот трибун урядник Осин да как резанеть того Капустина святым кулаком по окаянной шее, так тот ширкопытом вниз и загудел. А там яво на кулаки приняли. Ишо чудок добавили. Узнал об етом Миронов и вызвал Осина в Усть-Медведицу. Избили яво там матросы, во как, и на две недели на отсидку посадили. И тут Миронов всяму округу мобилизацию объявил. И велел съезды хуторских Советов исделать. Штобы, как сам он сказал, весь округ наш большевизировать. Тольки мобилизацию яво сорвали казаки, на съездах и на сходах постановили и все, как есть, всем округом, ответили яму, што от мобилизации никак не отказываются, но потребовали, штоб он наперед всю красную гвардию с Дону выгнал, а казакам винтовки выдал. Тут обратно издаеть приказ Миронов, штоб сдали казаки всю, как есть, оружию. А казаки яму в ответ: «Нету у нас оружия, а што есть, так его мы против красных банд соблюдаем». А когда узнали, што урядника Осина матросы здорово побили, то объявили, што, ежели иде-нибудь хто из казаков арестованный будить, то пошлють они со всех хуторов по пять человек казаков с винтовками, а те и вспросють, какая это таперь права новая, што казаков на Дону чужаки бьють? А тут ишо получилось: послал Миронов в хохлачью слободу Чистяковку транспорт оружия, а казаки хутора Каледина узнали об етом, и транспорт тот перехватили, и красных гвардейцев, которые тот транспорт охраняли, в плен позабирали. Кинулись чистяковские хохлы тот транспорт и тех красных гвардейцев у калединцев отнять, да раскатали их калединцы в дым. И пошел голос по всяму округу: «Миронов хохлов против казаков вооружаить». И зачали казаки прямо говорить: «Погодитя, вот отпашемся, а тогда и зачнем восстанию». Назначил Миронов двадцать четвертого апреля съезд Советов в Усть-Медведице и слушок пустил, што идеть к нам карательный отрад с Расеи. И тут же потребовал от всех станиц, штоб дилягатам, которые на тот съезд Советов едуть, наказ казаки дали для разбора общих положений о земельных комитетах и особенно того параграфа, в котором говорится, што к предметам ведения губернских земельных комитетов относится фактическое изъятие земли, построек, инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов из ведения частных лиц. Тут наши старики враз всё смикитили и нашшатинились. «Во-первых, говорять, с нас губернию исделать хотять, а во-вторых, вся ета изъятия из ведения частных лиц есть ништо иное, как простой грабеж. И землю отобрать хотять, и добро ограбють, к мужикам в Москву пошлють. Социализьма, говорить, идёть, от хуторов наших цвятущих один пепел оставить». И вот в такой настроении в нашей Усть-Хоперской станице съезд Советов началси. Дилягаты к нам из Казанской, Мигулинской и Чернышевской явились, и прискакал такой Гаврилов Николай, и объявил постановлению хутора Большого о том, што там мобилизация зачалась для самозащиты от красной гвардии. Выслухали яво у нас и постановили: советской власти не подчиняться, враз приступить к мобилизации от семнадцати до пятидесяти лет. И выбрали начальником нашего гарнизона Голубинцева, полковника, нашего Третьяго полка офицера, парня дюже боявово, тольки одна у няво бяда, и когда до ветру идёть, и тогда «Боже-царя…» поёть. Скрывалси он от красных у нас в станице. И как выбрали яво, враз он конные разъезды на Усть-Медведицу послал. Вот так в нашей станице против большевиков и против Миронова восстания зачалась. И вот какую воззванию на сходе написали:
«Ударил час, загудел призывный колокол, и Тихий Дон, защищая свою Волю, поднялси, как один человек, против чужеземцев, обманщиков и угнетателей, грабителев мирного населения. Ваших сыновей и братьев обезоружили, штоб дать оружие пришлым бандам хищников… боритесь за свободу… Ни одного фунта хлеба, мяса и пшена грабителям-красногвардейцам!».
И обьявили, што тем, хто от мобилизации уклоняется — смертная казнь. И тут нам с Усть-Медведицы предупреждению прислали и так в ём написано:
«Я, командующий Первой донской революционной армии, прибывшей в Усть-Медведицу с целью разогнать контрреволюционные банды, временно уезжаю на станцию «Себряково». Предупреждаю, что, ежели за время моего отсутствия будут прибывать агитаторы белой гвардии и население будет поддерживать их, то я двину свои сто двадцать тысяч, армию, и не оставлю у вас камня на камне!».
И подписано: «Командующий Первой донской революционной армией Горячих».
Ить вот бряхливый мужик, да откель же у него такая армия? Только смяялись казаки наши. Восьмого мая это было. Тут скажу ишо, што на хуторе Большом еще двадцать четвертого апреля съезд вольных девяти хуторов и станиц состоялси. Они постановили: советской власти не подчиняться, объявить восстание с целью изгнания красной гвардии и восстановления казачьей власти. Мобилизовали всех могущих носить оружие и послали в Чертково есаула Трошева, к немцам. Седьмого мая перьвый к ним от немцев транспорт оружия пришел: восемь пулеметов, шестьсот винтовок, пятьдесят артиллерийских снарядов. Тут и забрали восставшие казаки Усть-Медведицу, пять пулеметов добыли, четыреста винтовок и в плен сто пятьдесят красногвардейцев взяли. Из окружной тюрьмы сотни с три арестованных казаков освободили, которых большевики расстрелять хотели. Тут и Второй Донской округ поднялся, а по реке Куртлаку тоже все, как есть, казаки восстали, есаула Сутулова командиром выбрали и образовали Куртлакскую боевую группу. Миронов же из Усть-Медведицы в слободу Михайловку убег, со станции в Филонове подкрепление матросами получил, мужиков в Михайловке мобилизовал, и занял станицы Скуришенскую, Глазуновскую и Арчадинскую. Вот теперь и выходит, что мы с тобой и с Мироновым и его мужиками, энтими, што в слободе Михайловке наших безоружных казачьих офицеров тридцать шесть человек побили, вместе против казаков наших идем. И ежели вапче на всю ету мерехлюдию глянуть, то одно сказать можно: поднялси весь, как есть, Дон, с Низу до Верху, всем народом против красной гвардии и зачали казаки офицеров своих искать, а они по балкам, по гумнам, в стипе, в Войсковом лесу сидять, скрываются. Иные из них, как по-перьвах и сам Краснов-гинярал, ишо под Петроградом, наглядевшись, как наши полки тогда митинговали, к Подтелкову шли, об казаках боле и слухать не хотели. Ну когда возгорелась восстания, пошли они с народом вместе. А што энтот дилягат наш, простой казак на Круге, когда Краснова выбрали, говорил? Знаешь аль нет? Так вот, послухай: «Я коснуся одному, господа члены, так как мы на той попришше стоим: свово не отдавать, а чужого нам ня надо, то надо до того добиться, штоб эти флажки, што вон, на карте, фронт показывають, назад не передвигались, но и в даль далеко не пущались. Россия? Конешно, держава была порядошная, а ныне произошла в низость. Ну и пущай. У нас и своих делов немало собственных. Прямо сказать, господа члены, кто пропитан казачеством, тот своего не должен отдать дурно. А насчет России — повременить. Пущай Круг идеть к той намеченной цели, штоб спасти Родной Край. Пригребай к своему берегу. Больше ничего не имею сказать, господа члены…». Во! Понял ты ай нет, куда наш дилягат гнул?
Казак замолкает, плюет, долго возится, видно, табак по карманам ищет, закуривает, затягивается и спрашивает своего соседа прямо:
— Чаво ж молчишь? Што ж нам с тобой таперь делать: дале с Мироновым против казаков иттить, аль как?
Странно знакомым Семёну голосом отвечает спрошенный:
— Одно я табе скажу: нечего нам тут дожидаться, пока тот комиссар заявится. Ить побьеть он детишков этих, што мы караулим.
— Это как пить дать.
— А твоя станица што постановила? Смертную казню всем, хто от мобилизации уклоняется. А ты и того хуже — против своих воюешь. Понимаешь ты, куда ты попасть могёшь? В петлю, браток. А наши казаки всё одно в Расею не пойдуть. Прогонють красные банды за границу, и сигнал «стой» сыграють трубачи наши. И сами по себе заживем. Ты суды слухай…
Теперь уже ничего не разобрать, што они там шепчут. Но вот поднимаются, идут к дверям сарая и, отодвинув задвижку, входят внутрь. Вспыхивает спичка, и, к своему крайнему удивлению, узнает Семён во втором казаке Гриньку-говорка. Узнаёт и Говорок своего старого знакомца. Широко улыбаясь, протягивает ему руку:
— Тю, Пономарев, гля, иде свидеться пришлося!
Первый казак смотрит на них недоумевающе:
— Откель ты яво знаешь?
— Х-ха, откель знаю! С Писарева хутора! Да и ты отца яво знать должон, есаула Сергея Ликсевича Пономарева. Энтого, што в третьем полку в японскую войну в ногу ранетый был.
Первый казак приходит в восторг:
— Глянь ты на яво! Сынок мово сотенного командера! Ить я же тогда яво с линии огня выволок, на перевязошный пункт предоставил отца твово! Спроси отца, как оно было, кто яво меж Гаоляном таскал, не приказный Ротов? Ну, да сычас это ни к чаму, а вот што, рябяты, довольно вам тут на красногвардейских харчах прохлаждаться, переходим таперь на свои, донские. Винтовки ваши, шашки и пантронташ в сенях стоять, как и были, а кони с нашими вместе в соседнем дворе. Зараз же на Арчаду вдаримси. Да поскорея поварачивайтесь, а то взвод наш, с комиссаром, суды зарей возвярнуться должон.
Широким жестом загребает всех их троих казак, подталкивает через весь двор к куреню и стучит в дверь. Заплаканная хозяйка дает им по стакану молока и куску хлеба.
— А иде ж служивый твой?
Казачка трет глаза углом фартука, сначала не знает, что сказать, но, наконец, решается:
— Ишо с вечеру через окно убёг, в Войсковой лес подалси, а оттуда на Арчаду, к Фицхелаурову-гиняралу, он яво ишо, по герьманской войне знаить, в яво полку и в дивизии служил.
— Ну, и правильно. Помаленькю все мы друг-дружку разышшем.
Быстро попрощавшись с хозяйкой, выезжают все со двора, держат за передним — Ротовым, ничего толком в темноте не различая, переезжают плотину, смутно поблескивает в темноте вода в заросшем лилиями пруду, кони выходят на торную дорожку, передний казак пускает своего рысью, все остальные лошади следуют за ним сами, как по команде. Теперь только держись, не дай Бог конь спотыкнется. Рысят молча, долго, пока там, на востоке, вроде яснеть не начинает, а слева темной стеной не надвигается на них Войсковой лес. Ротов сворачивает с дороги, все въезжают под высокие темные деревья, забираются поглубже в чащу и слезают с лошадей. Гринька-говорок подходит к Семёну:
— Зараз передохнем трошки. Таперь нам тут тольки на коней и уповать. Непогоде ли быть, нипрятель ли иде поблизости окажется, тольки возля свово стой и на няво гляди. Ежели он спокойный, и ты ничего не боись. А как зачнеть он ухами водить, настораживаться, аль этак, истиха — ху-ху-ху-кать зачнеть, значить, упряждаить он тибе. Тогда круг сибе поживей поворачивайси, хтой-тось близко есть. Видал — зараз спокойно кони наши стоять, значить, и нам бояться нечего. Да, а я тогда, с дядюшкой вашим расставшись, трошки вроде засумливалси, и напрямик к Миронову поскакал. И такого там нагляделся, такой сицилизьмы нанюхалси, што тольки и мячтал, как бы обратно к своим прибиться. Не казачью он делу делаить, а свою, личную, мужицкими руками творить. Вот зараз слыхали мы, будто обратно Фицхелауров подходить, тогда к няму и подамси. А за власть Советов отвоевалси я, будя. С мине хватаить.
Сняв притороченный к седлу мешок с сеном, сунул Семён добрую охапку коню, подложил клунок себе под голову и решил прилечь, только на одну минуточку. Сон одолел его моментально. Но — что это? — с вечера небо было совершенно чистым, погода безветренная, откуда же гром? И почему так часто? В одну секунду придя в себя, видит, как конек его, замерев, будто статуя, смотрит туда, на восток. И вот он снова гулкий короткий удар, а через какую-нибудь минуту совсем явственно — разрыв.
«Ага! В романе о великом герое Семёне-победоносце будет написано: приказный Пономарев был разбужен грохотом канонады! Уже штук с пяток выпустили. И бьют оттуда, от Фролова, а снаряды рвутся в нашем направлении. Ни черта не понять».
— Ротов с Гринькой на опушку леса побежали, — объяснил ему ситуацию Валерий.
Схватив лежавшую рядом на земле винтовку, загнав патрон в дуло, поправил шашку, потрепав успокоительно нервно переступавшего с ноги на ногу конька по шее, бежит Семён в сторону и усаживается за пеньком старой вербы. Давно уже рассвело. Значит, долго он спал. Приподнявшись, раздвинув ветки белотала, видит бегущего меж деревьев Гриньку.
— Эй, ребяты, суды! Скорея! Коней оставьтя!
Все трое срываются с мест и бегут за повернувшим назад Гринькой.
— Суда, желторотые!
Выбежав на опушку, сначала никто ничего толком не видит: лес отступил, широко раскинулись заросшие молодым красноталом песчаные дюны, солнце скрылось за облаком, нигде живой души не видно, в чем же дело?
Справа доносится голос Ротова:
— Разбягайтесь кажный друг от дружки шагов на пятнадцать. В цепь ложитесь. Зараз суды краснюки нагрянуть. Да в талы, на буруны залазьтя, штоб перед собой видать могли!
Выскакивает Семён на бугорок, продирается сквозь густые заросли краснотала, и останавливается, как вкопанный: вон, не больше как в полуверсте, движется на них жиденькая цепь, видно их хорошо, пригибаясь, падая и вскакивая, оборачиваясь и стреляя назад, подбегают они всё ближе и ближе, прямо к ним, видно, тут, в Войсковом лесу, спрятаться хотят. Да кто же такие? И, снова грохнув на всю степь, разорвалась над головами бегущих звонкая шрапнель. Далеко справа слышен голос Ротова:
— Не стрялять! Подпушшай ближе. Ждать мою команду!
Отступающие пехотинцы подбегают всё ближе, а вон там, сзади них, из-за верб над дорогой, вдруг высыпает вторая цепь, погуще, идет быстро вслед первой, не стреляя. А это кто же? Быстро пробежав взглядом по бурунам, видит выскочивших слева из-за тех же верб всадников. Далеко они, хорошо не разглядеть, но одно ясно: казаки это должны быть. Наши, что ли? Как же тут вот в этих бегущих стрелять, когда пули наши туда, в преследователей, лететь будут? Дрянь дело.
И снова голос Ротова:
— Рябяты, прицел постоянный. В ноги норови! Ог-гонь!
Быстро выделив одного из совсем близко перескочивших куст, нажимает Семён на спуск, слышит нестройный залп винтовок, видит на короткий миг поднявшегося из-за дюны Ротова, бросающего гранату в направлении бегущих совсем близко красных. Взрыв взметает тучу песка. Вся цепь залегает. Теперь они снова ползти будут, за кустами ничего не видно, в оба глядеть надо.
— Подпушшай, рябяты, подпушшай…
Хорошо — «подпушшай»! Да их же человек с сорок, а нас пятеро. Нагонявшая красных цепь, видно, по команде перешла в беглый шаг, а конные, десяток их, не больше, отхватывают залегших в кустах от лесу.
— Вз-воод, п-пли!
Залп от винтовок, и снова, на этот раз и слева, и справа, разрывы ручных гранат. И громкий голос Ротова:
— Сдавайси! В кольце вы! Бросай винтовки! Вых-ха-ади!
Тишина. Сначала ничего не видно, кроме колышащихся под ветром тоненьких веток талов… А что если они поползут да в атаку кинутся? Ведь слыхали же они, сколько их стреляло. Хороший «взво-од» — пятеро! И вдруг, почти совсем под носом у него, поднимается из-за бурханчика растрепанная фигура без фуражки, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками. У Семёна разбегаются глаза: и вправо, и влево, шагах в десяти друг от друга, стоят они меж низких кустов, да человек тридцать их будет, тянут руки к небу, будто Богу молятся. Встает во весь рост и Ротов:
— Взвод, не стрелять. Дяржи их на мушке. Приказный Пономарев, с двумя казаками посбирайтя оружию. А вы, эй, краснюки, чаво опупели, в кучу сходись, говорю вам, в кучу, в середину, мать вашу в дыхало, враз, а то с пулямету угошшу!
Медленно, видно, что выбились они из сил, сходятся побросавшие винтовки красные, скопляются в середине цепи. Юшка и Виталий уже давно там, только и видно, как наклоняются они, поднимая винтовки. Бежит и Семён, и по следам в песке сразу же видит, где и ему искать надо. Вот она — одна, вторая, третья, лежит дулом на кусте четвертая, воткнутая штыком в землю. Это, видно, специалист еще с фронта за время братания! Гринька и Ротов стоят во весь рост, держа винтовки наизготовку, и кричит Ротов, обернувшись к лесу:
— Господин исавул! Няхай ишо цепь ляжить. Мы их и так упекём!
Обернувшись к красным:
— Стройси по чатыре! Становись! Налево кру-у-гом!
Привыкнув безропотно исполнять команду, послушно поворачиваются те к ним спинами. Отвоевались. Снеся в кучу штук двадцать винтовок, запыхались Юшка с Валерием, натаскал и Семён семь штук. Теперь окружить всю эту компанию. Подойдя совсем близко, останавливается Семён за спиной первого, всё еще держащего над головой руки пехотинца. Мимо него проходят справа Гринька, а слева Ротов.
— У кого ливольверты есть, признавайси!
В толпе пленных движение и шепот… Из середины отвечает один:
— У товарища комиссара наган был. Тольки гранатой яво убило, во-он он, за кустами ляжит.
Слева от леса выносятся конные, впереди он, князь Югушев. Семён срывает с головы фуражку:
— У-рр-р-р-а-а «Белым орлам»!
— Ур-рра-а!
Опустив руки, поворачивается подтянутый, лихой, красивый, высокий солдат, по всему видно, что унтером он при царе был. Смотрит кругом, и вдруг плюет озлобленно себе под ноги:
— Ч-черти! Надули. Никаких исавулов у них нету. А ить мы взаправди думали…
Князь соскакивает с коня, обнимает Семёна и отвечает солдату так, будто спокойно с ним разговаривает:
— И индюк думал, да сдох!
Кто-то хлопает Семёна по плечу — рядом с ним стоит Валерий.
— Здорово! Кады не вы, ушли бы они в лес, — и вдруг страшно мрачнеет: — А когда напали они на нас, Галина Петровна на тачанку свою выскочила, а пуля ей, ну, прямо же в затылок. Так и покатилась. И тот, молодой, што кашеварил, студент, и его убили, а с ним еще трех кадет, одного гимназиста и еще двух студентов из Усть-Медведицы… А дядя твой с Савелием Степановичем в Арчаду вернулись. И батарея твоя пришла, вахмистр уже спрашивал, ежели, сказал, за три дни на батарею не явится, расстреляю, как дезертира…
Выстроенные по четыре тяжело шагают по бурунам, выбираясь на торную дорогу, пленные. Отбежав в кусты, примеривает Гринька-говорок снятые с красногвардейца галифе.
— Ить от чёрт! Подлататься я трошки хотел, шаровары мои во-взят поизорвались. А он, глянь, какой бугай, таких, как я, в яво штаны двоих всадить можно!
* * *
В доме старика Илясова собрались они все — трое Коростины, молодые и их отец, дядя Воля с Савелием Степановичем, князь Югушев и вахмистр батареи. Дочка хозяина, еще совсем молодая, лет шестнадцати девка, угостила их лапшой и вареной курятиной, поставила самовар и разлила чай в толстые белые чашки с синей каемкой.
На дворе давно смерклось. Тихо на хуторе. И собак не слыхать.
После боя с заблудившимся отрядом голубовских красногвардейцев, потеряв из сотни «Белого Орла» шесть человек убитыми и пятерых раненых, остался командир на кладбище, там, где возле братской могилы партизан, отдельно, под тремя вербами, закопали и его Галю. С похорон разошлись все молча, хорунжего своего не трогали, пусть с женой попрощается… без лишних свидетелей…
Керосиновая лампа ярко начищена, молодая хозяйка, Настя звать ее, сбилась с ног, но прием устроила, как и полагается, все гости довольны, сидят на лавках и стульях, а она и сам Илясов постоянных мест не имеют, нужно за всем доглядеть, чтобы кому из гостей в чем недостатка не было. К чаю Настя наделала хворосту, посыпала его откуда-то чудом раздобытым сахаром. Старик-хозяин, больше для порядку, принес полную четверть собственного настоя и вместе с тарелкой нарезанной тарани поставил на стол. Внучка подсунула каждому толстые граненые стаканы. Потерев руки объявил Илясов:
— Баклановская! С перчиком. Для душевного разговору.
Семён всех разговоров внимательно слушать не может. Всё еще стоит у него в глазах утопавший в сирени гроб Галины Петровны, закрытый… закаменевшие черты лица шедшего за гробом хорунжего. Ничего не видя и не чувствуя, машинально тянется и он к стакану с перцовкой, выпивает его залпом, удивленно, будто проснувшись, смотрит вокруг себя, и только теперь слышит то, что говорит Савелий Степанович вахмистру.
— Гиммельрайх фамилия, говоришь? Ну, конечно же, еврей. Ясно. Прав ты, вспомнив то, что еще в Писареве тот, потом краснюками убитый морской офицер, как его, ах, да, Давыденко, говорил. Только одно, дорогой, нельзя же по этому списку о всем народе судить, да еще в этих вот обстоятельствах. И еще одно во внимание прими: с тех пор, как изгнали евреев с Палестины, почитай, две тысячи лет скитаются они как беженцы, чужаки, никому ненужные пришельцы по всему свету. Куда ни придут, всюду страх конкуренции, завистливые глаза, предубежденность. Так вот они и в Россию через Польшу и Украину попали. Изгонял их еще князь Иван Васильевич, потом Елисавета, выселял Павел Третий. А Николай Первый, указом из 1843 года, черту оседлости провел: только в семи западных губерниях жить им разрешил. Так, российским же правительством, было им запрещено у нас на Дону селиться. Попали они к нам лишь по присоединении Ростовского и Таганрогского округов, живут там своими общинами замкнуто, свои доктора у них там вертятся, адвокаты, торговцы. И с казаками никаких у них недоразумений не было. Да вот еще, а что ты думаешь, откуда эти наши казачьи фамилии: Жидковы и Евреиновы? О чём они свидетельствуют? Да о том же, о чём и такие, как Татаркины и Калмыковы с Турчаниновыми. Значит, были когда-то какие-то евреи, которые, как и калмыки, татары и турки, у нас обжились, и стали внуки их казаками. Вон хоть того черкасского доктора Сегаля возьми, врач, стопроцентный еврей, а взяли сына его по мобилизации в казачью армию в четырнадцатом году, пошел он в казачий полк, служил там под именем Сегалёва, и медаль на Георгиевской ленте за храбрость получил. Нет, нам тут за этого комиссара, что его Семёнов новый дружок Гринька-говорок ручной гранатой уложил, на всех евреев серчать не приходится. А латышей возьми? Ведь целые их полки теперь на стороне красных воюют. А китайцы? Что же из-за этих несчастных ходей, что вынуждены в красную армию идти, нам теперь Пекину войну объявлять, что ли? России — да, там иначе всё было, там ненависть эта сверху насаждалась, в высшем обществе планировалась. Вон еще при царе Александре Втором «Священную дружину», антиреволюционную и антиеврейскую организацию создали, хотели на террор революционеров террором же отвечать. Да всё из господ белоручек там проповедники были, за политические убийства стояли, только чьими бы руками, а не своими. Позднее «Союз русского народа», так называемую Чёрную сотню, организовали, с теми же целями и проповедью, и опять же, главным образом против евреев. И повелось: в чем-нибудь неудача, неустойка, как казаки говорят, так сразу же во всем жиды им виноваты. Вон как в эту войну у нас было: нету винтовок, снарядов не хватает, сапог не пошили — кто виноват: да, конечно же, жиды. Шпионы они, предатели, бей их, спасай Россию! Даже в Думе, уж на что, кажется, выбрали туда лучших русских людей, так и там, да хоть возьми того же Пуришкевича или Маркова 2-го, много их таких было, заведут в Думе прения об армии, сразу же крик: выгнать из нее жидов! Займутся вопросом самоуправления: долой из него жидов, начнут о школьном вопросе толковать: ограничить прием евреев! Долой жидов адвокатов и врачей, гони их вон! Весь Президиум Думы против евреев открыто был, центр относился к ним отрицательно, и сочувствовал тем, кто новый термин выдумал: жидомасоны. А что же всё это значит? Да то, что не только царь и его правительство, но и известная часть народонаселения глубоко евреев ненавидела. Вон хоть дело Бейлиса возьми — на весь мир прогремела Россия, стараясь доказать, что евреи ритуальные убийства творят. Тридцать пять дней процесс продолжался, суд присяжных судил, экспертов подкупали, лжесвидетелей выставляли, прокурор громы и молнии метал, а присяжные, простые мужички, слушали всё это, слушали, глядели-глядели, да и вынесли оправдательный приговор. И так это вечно в России было: что бы ни произошло, евреев к ответу!
Внимательно слушавший вахмистр улыбается:
— А ить и вправду говорится! Привялось мине тогда в Киеве быть, когда энтот чудак министра Столыпина на глазах самого царя в киятри убил. И враз слушок пошел: еврейский погром готовится. Три наших полка стояли там готовые для царского смотра, сняли их спешно и в город для наблюдения порядку постановили. Правда ваша, как завируха какая, так уж беспременно жидов бить надо.
Савелий Степанович кладет вахмистру на плечо руку:
— Вот видишь! Значит, ежели и мы так же думать начнем, то должны мы, как те солдаты, офицеров наших перебить. Потому что большинство из них дворяне. А ведь все они плоть от плоти нашей. А как до этого дошло — еще в шестнадцатом веке все земли на Дону во владении Войска находились. Главным же занятием в те времена были война, охота, рыбальство, скотоводство. К концу же семнадцатого века пришлый на Дон народ стал хлебопашеством заниматься, а казакам, по указу Круга, запрещено это было под страхом смерти. И постепенно образовалась и выросла у нас наша старшина, захватила она часть этих земель и стала на Москву оглядываться, к ней тянуть. А Москва старшину обнадеживать и поддерживать стала. Кончилось всё Булавинским восстанием, которое шло против захвата Москвой казачьих земель, против ее вмешательства в наши внутренние дела и против той старшины, что Москве споспешествовала. Когда же был Булавин разбит, стал Дон из самостоятельного государства русской провинцией. По рекам Айдару и Деркулу отрезала Москва наши земли к Воронежской губернии, а весь Приазовский край делит меж соседними губерниями. Вот тут и начала старшина наша казачьи земли в частное владение захватывать. И войсковые, и юртовые. И на это от Москвы грамоты получала. Как пример, скажу: в 1762 году старшина Себряков получил несколько тысяч десятин земли, весь Кобылянский юрт, от царя Петра Третьяго в дар. Войско протестовало, до Сената дошло, да не пошел Сенат против своего же царя. Так и осталась та землица за Себряковым. Особенно же много земель было роздано после Пугачевского бунта и после войны 1812 года при Платове-атамане. Тут и начала старшина земли эти крепостными крестьянами заселять, и так и остались они у нас после отмены крепостного права как иногородние жить. Так вот, при том же Платове и создалось окончательно наше донское дворянство, согласно позднее опубликованному, 26 мая 1839 года, Положению, по которому все станичные юрты закреплены были и запас земли для наделов по 30 десятин на каждого рождающегося казака. Всё это было окончательно санкционировано при Николае Первом, а при Александре Втором получили наши дворяне права землю свою продавать. И вышло так, что одна пятая всей нашей земли, по благословению Москвы, перешла в частные руки, да еще и заселили ее пришлым, как сейчас видим, враждебным нам элементом. Так вот всё и шло, и докатились мы теперь до того, что приходится у нас на душу населения по 4,3 десятины земли, и обеднели казаки… Да… к чему я это говорю? И что же, теперь прикажете нам всех наших офицеров, всех дворян, по примеру русских, убивать, поместья ихние жечь, добро растаскивать? Нет! Взял наш Круг да и постановил: отобрать все эти земли обратно в Войско. И никто протестовать и не вздумал. Вон возьми хотя бы Пономаревых наших — все в казачьей армии и дальше служат, вплоть до первого героя, приказного Семёна. Такое, вахмистр, и злоба на дворян, и ненависть против евреев, всё это нам, казакам, ни к чему, Круг наш во всем разберется, без убийств пожаров и грабежей. Всё это оттуда, из Москвы, к нам пришло, это запомни.
— А ить верное ваше слово! Мине ж как раз в Черкасске быть привялось, когда там писатель известный Немирович-Данченко и энтот, как яво, бывший министр Временного правительства, Гучков, были. Данченко, энтот на засядания калединского круга приходил и посля всяво так прямо и сказал: «Я, говорить, весь, как есть, мир проехал, не тольки все парламенты на всем свете знаю, а и со всеми ихними выдающимися деятелями знаком. Но нигде во всем мире не видал я такой дисциплины, такого порядка, такого отношения к делу, такой выдержки. Я, говорил, потрясен тем, что видел. Не знал я, что подобное существует на моей родине. Буду жив — опишу всё в назидание потомству. Как мало знали мы казаков!». Вместе с ним и Гучков на Дон прибег. Тот даже на Кругу выступал и сказал: «Пытались мы неоднократно казачество рассказачить, а я теперь вижу — нужно было своевременно Россию оказачить». Во как сказал!
Семён вдруг краснеет и выпаливает:
— И вечно это у них одно: Россию оказачить. Ерунда то! Всё одно, если б задумал кто из ворону соколов понаделать.
Дядя Воля крепко схватывает племянника, поворачивает его к себе, смотрит ему прямо в глаза и до боли жмет плечо.
— Спасибо, племяш. Коли б дедушка твой живым был, порадовался бы за внука.
Никто на них внимания не обращает. Савелий Степанович наклоняется через стол к вахмистру:
— Всё это, с Кругом, совершенно правильно, только одно нам никак не забывать: без предварительного зговору, всем народом, без каких-нибудь дававших указание центров, одним старинным нашим духом казачьим водимые, поднялись сами пахари наши за право свое жить по старому казачьему обычаю. И встают теперь перед нами две задачи. Первая — населённые к нам Россией и сбежавшие от нее на земли наши иногородние, теперешние враги и завистники, недруги наши. Их больше пятидесяти процентов населения. И второе, опять же результат русского владычества — слепое русофильство у многих, ох, многих у нас, особенно у офицерства. Правда, у нас на Дону не так сильно, как на Кубани, но одно теперь совершенно ясно, особенно после примеров атамана Каледина и генерала Богаевского, что никак господа офицеры наши не могут отучиться, чтобы старшему в чине не козырнуть. Видали вон, припхался к нам Деникин, чужак, посторонний, черти откуда прибежавший, и к нему, а не к Попову, пошел со своим Партизанским полком Африкан Богаевский. Попов, видите ли, для него не авторитет, и прёт он к тому, в ком, по службе своей в российской армии, привык он начальство зреть. Многим привила Москва-матушка вот это рабское чинопочитание, готовность стать во фронт перед первым попавшимся лишь потому, что на нем больше лычек понашито. Не только интересы собственного народа забывая, а даже рассматривая его только как материал для пополнения полков российских. И в этом, считаю я, огромная для нас опасность!
Старик Коростин хлопает ладонью по столу:
— Зато Краснов у вас есть. Герцог донской! А я так считаю, чтоб от лишних думок голова не пухла и чтобы наши дома не журились, выпьем-ка по единой вот вместе с казачатами нашими. Уж ежели мы, старики, подведем, они, молодежь, не подгадят!
* * *
Кому дом этот принадлежал, так Семён толком и не узнал. Да и неважно это. Привык он уже видеть одну и ту же картину: полуобгоревшие, разбитые, разграбленные дома, загаженные комнаты, изломанную, перевернутую мебель, выбитые окна и двери, ободранные обои, изувеченные гобелены. Нигде по-настоящему и пристроиться нельзя, везде сквозняки, холодно и неприветливо. После долгих поисков в разграбленном барском доме поднялись они с Юшкой по лестнице в мезонин и, к удивлению своему, увидали большую, с уцелевшими стеклами в огромном швейцарском окне, комнату, с большим, из кирпичей сложенным камином, с продавленным, но всё же пригодным для спанья диваном, и множеством, правда, разодранных кресел на кривых ножках, с большим круглым, из широких некрашенных досок, столом, и видом на луга, леса и коврами расстелившиеся, желтеющие стёрней нивы. Недели две, слава Богу, на отдыхе и переформировании простоят они здесь. Совсем далеко, до самых почти границ Войска, ушли казаки, почти что целиком освободился Дон от красных, и можно теперь будет и отдохнуть, и в пруду выкупаться, и отоспаться, и раны подлечить. Когда отвел им староста дом этот для постоя, сказал Юшке какой-то старик-хохол, что, потому дом этот еще уцелел, что боится народ ходить в него, будто нечистая сила в нем есть, будто по ночам музыку и голоса слышно, будто в полночь бродит по нём тень убитой старушки-барыни. Махнули они на всё это рукой.
Вон опять замитинговали казаки генерала Татаркина. Подойдя к Саратовской губернии, никак за границу Войска идти не хотят. Но подчиниться им придется. Повстанческая казачья армия вольных хуторов и станиц теперь влилась в Донскую армию, дисциплинка теперь иная. Все казачьи силы объединились и окончательно сформирован и победоносно действует Четвертый конный отряд Голубинцева с тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым усть-медведицкими конными полками. Красные отошли везде и в полном беспорядке. Где-то там, по России, собираются они с силами, готовятся для новых нападений. А нам теперь передохнуть, придти в себя, подумать о судьбе жалких остатков отряда «Белого орла» надо. Командует им по-прежнему хорунжий Милованов, только совсем иным он стал после того, как убили в Арчаде его Галю. В боях потерял, почитай что, половину боевого состава. Потемнел в лице, в себя ушел, бриться перестал и выросла у него бородища, как у староверского начетчика. Серьезно пьет. Но по-прежнему за каждой мелочью смотрит, зря ни к кому не придирается, но непорядка не терпит. В бою ходит в полный рост, ни на пули, ни на гранаты внимания не обращает, и смотрят на него партизаны с восторгом и страхом. Ох, недолго он еще так со смертью играть будет.
Под вечер Юшка и Виталий притащили дров, собрали целую кучу листов в уничтоженной библиотеке, принесли несколько полуразорванных книг, приладили в камине таганок, сунули туда веток и кизяка, положили дрова и две ножки от разбитого рояля, и в найденной в саду сковородке начали жарить яичницу с салом с расчетом накормить минимум взвод. Лошадей прибрал Семён, как полагается, сегодня его очередь, поужинает он, и опять к ним в конюшню пойдет. И только расселись все четверо вокруг стола, только что отрезал Валерий каждому по куску хлеба, как глухо раздались шаги на лестнице, и вот он — командир, хорунжий Милованов. Без улыбки, лишь коротко откозырнув, бросив: «Продолжайте!», — пристроился и он на кончике дивана, залез рукой в карман шинели, вытащил фляжку, отвинтил пробку-рюмку, налил ее полную и первому подал Валерию.
— Опрокинь-ка для аппетиту!
Обошла рюмка всех, последним выпил сам Милованов, закусывая. Только когда закурили, расселись в креслах, наконец, заговорил хорунжий Милованов:
— Та-ак. Теперь, как говорится, итоги подвести можно. Поднялся наш Дон-батюшка одиноким. Пошел Корнилов на Кубань, и там его под Екатеринодаром убили. Принял над добровольцами командование генерал Деникин, и привел их разбитыми опять к нам на Дон. За нашей спиной отсидеться. Вначале здорово нам немцы помогали, баварская кавалерия заняла в конце апреля станицы Ольгинскую и Аксайскую, полковник Туроверов вместе с немцами город Ростов взял, а потом и Таганрог. Дали нам немцы и оружия, а Деникин от всякого сотрудничества с немцами отказался, даже явную к ним враждебную позицию занял… стал ко второму походу на Кубань готовиться, и получил от немцев через генерала Эльснера предложение, в Егорлыцкой добровольцы стояли, а Эльснер был представителем Добровольческой армии в Ростове. Предложили немцы Деникину заключить с ними официальное перемирие, тогда анулируют они Брест-Литовский мир, обязуются в три месяца очистить всю Россию от большевиков. Созвали совещание, на котором присутствовали Алексеев, Деникин, Романовский, Лукомский, Марков, наш Африкан Богаевский, и категорически отвергли предложение немцев: изменить союзникам Добровольческая армия никак не может…
Юшка поперхнулся махорочным дымом:
— А оружие от немцев через наши руки брать могли!
— Так это позже, уже при Краснове. Да, так вот, двадцать восьмого апреля созвали наши в Новочеркасске Круг Спасения Дона, и договорились с немцами. Очистили они Аксайскую и Ольгинскую станицы, а наши послали делегацию на Украину и объявили мобилизацию нескольких годов, порядок в суде, торговле и управлении навели. Первого мая, выступив на Круге с докладом, генерал Краснов сказал, что казачество — вне партий, что должно оно у себя внутри навести полный порядок, основанный на заветах казачьей старины. Что должен Дон принять участие в освобождении русского народа от большевизма, а первым делом выгнать красных с Дона. С немцами, сказал, не вовек мы, они нам помогут, а мы им понять дадим, что донцы народ свободный и независимый и что Войско Донское управляется Атаманом, выбранным вольными голосами казачьего Круга. Должны мы, сказал дальше, собственную свою армию иметь, Царицын и Камышин должны быть присоединены к Дону, а на севере пойдет граница наша по линии Лиски-Поворино. И такую Кругу картину нарисовал, что казаки третьего мая выбрали его атаманом и всю полноту власти на Дону ему вручили. Тут же принял Круг Основные Законы, которые сам Краснов составил. А в них говорится, что Дон есть государство самостоятельное, основанное в началах народоправства, наш флаг утвержден, сине желто-красный: казаки, калмыки, русские. И гимн: «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон и послушно отозвался на призыв свободы он…». Вручили Атаману Пернач, и весь Круг вместе с ним отслужил молебен в Войсковом кафедральном соборе, после чего состоялся парад войск. А пятого мая сообщил Краснов состав Совета Управляющих, то есть своего кабинета министров. Председателем назначил Африкана Богаевского, военных дел — генерала Денисова, внутренних дел — Янова, и так далее. Вот и стал Дон самостоятельным государством, а путь к этому еще калединские круги с Митрофаном Богаевским проложили, по старой, еще допетровской формуле: «Здравствуй, царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону». И сразу же стал Дон наш перед вопросами: немцы сидят в Ростове и Таганроге, Добровольческая армия торчит в Мечетинской, на западе возникла Украина с посаженным немцами гетманом Скоропадским, кстати, сразу же заявившая претензии на исконные донские земли Таганрогского и Ростовского округов. А Дон весь — в обломках лежит, ни административной власти, ни торговли, ни денег, всё разрушено, в городах нет хлеба. Скот и лошадей красные угнали, разрушены здания, храмы ограблены, осквернены алтари и иконы. Взялись и Круг, и Атаман за работу, а, должен вам сказать, не жалует атаман Краснов союзничков наших, говорит, что армия русская, и мы, казаки, нужны им были лишь для того, чтобы нашей кровью купить победу над Германией. А немцев — любит. Уважать немецкого солдата, как честный противник, на войне научился. И порядочек, говорит, у немцев, во всём во какой! Сколько лет против всего мира дерутся, и всему миру этому неустанно морду бьют. И царь у них, кайзер ихний, крепко сидит. Тут особенно подчеркнуть надо, что Краснов наш для России — монархист, а для Дона — самостоятельный, независимый от России Герцог. Россия сама по себе, а мы на Дону — сами хозяева. Но — союз донского пернача и царской короны. Вот он какой, Краснов наш. Первым же делом написал Краснов письмо кайзеру Вильгельму, прося его признать Дон самостоятельным государством, с немцами не воюющим, и послал это письмо с есаулом Кульгавовым генералу Айххорну, командующему немецкими войсками на Украине. Написал в нем, что Войско Донское с Германией в войне не находится, просил, чтобы немецкие войска на донскую территорию не продвигались, приложил текст Основных Законов и просил помощи оружием, предложив установить торговые сношения. Написана была и Декларация и передана всем государствам, и союзным в этой войне, и бывшим противникам. Вот тут у меня выдержки, важнейшие места из нее переписаны, слушайте:
«Всевеликое Войско Донское, существующее как самостоятельное государство с 1570 года… Большой Войсковой Круг и выбранный им Атаман Каледин не могли признать власть народных комиссаров за истинную и правомочную, и отшатнулись от советской России, провозгласивши себя самостоятельной Донской демократической республикой… на основании ранее, 21 октября 1917 года, заключенных договоров, Донская республика, как часть целого, входит в состав Юго-Восточного Союза из населений территорий Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск, горских народов Северного Кавказа и Черноморского побережья, вольных народов степей Юго-Востока России, Ставропольской губернии, Черноморской губернии и части Царицынского уезда Саратовской губернии, и обязуется поддерживать интересы этих государств и их законных правительств… Дон ни с кем не воюет, желает со всеми жить в мире, предлагает признать его и прислать в Черкасск консулов, а войско тогда пошлет в эти государства свои «зимовые станицы».
В форме присяги для казаков первый абзац звучит так: «Обещаюсь честью донского казака перед Всемогущим Богом и перед Святым Его Евангелием и Честным Крестом, чтобы помнить Престол Иоанна Предтечи и христианскую веру и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным Всевеликому Войску Донскому, своему Отечеству…».
Н-дас… и вот тут завязался у нас первый узелок, и как он развяжется, никак и не знаю… Добровольческая армия, верная договорам с союзниками, сидя у нас, на Дону, мечтает о продолжении войны с Германией, и сны видит о создании фронта на Волге, для чего надеется привлечь организованные в России из австрийских военнопленных чехословацкие легионы. О всём этом дознались немцы и напрямик спросили Краснова, что он в таком случае делать будет. Тут и написал Краснов свое второе, тайное, письмо кайзеру Вильгельму, содержание которого конфиденциально сообщил на заседании своего Совета Управляющих. В этом, втором, письме, заверял Краснов немцев, что, в случае открытия такого фронта, Дон будет нейтральным и что войны на своей территории против Германии не допустит. Снова просил признать Всевеликое Войско Донское как самостоятельное государство, объединенное с иными войсками в Доно-Кавказскую федерацию, просил надавить на большевиков, чтобы они отвели свои войска с Дона, просил о военном снаряжении и постройке заводов боевых припасов. Тут, напомню я вам, что поднялись, наконец, и кубанцы, и приехала на Дон ихняя делегация и привезла постановление Кубанской Законодательной Рады, в котором говорилось, что первым делом нужно очистить Кубань от большевиков, а поэтому кубанцам необходим союз с «добровольцами», что нужно сделать всё, чтобы с немцами не воевать, но и чтобы они никак на Кубань не шли. Состоялось совещание этой делегации с донским Атаманом и представителем Добровольческой армии. Генерал Алексеев заявил, что, в случае образования чехо-словацкого фронта, уйдет Добровольческая армия на Волгу, и казаки всё равно снова будут втянуты в войну с Германией, а надо сказать, что у кубанцев члены их Правительства перед вторым походом на Кубань хотели добровольно сложить с себя полномочия, им их же народом в ихней Раде данные, чтобы никак не мешать Деникину. И неотлучно при Деникине находились и Кубанский Атаман Филимонов, и Кубанское Правительство с Бычём, председателем, и Рябовол — председатель Кубанской Рады. Они все считали, что главная цель освободить Кубань от красных и никак не допустить туда немцев. Для Добровольцев же Кубань вовсе не была какой-то самостоятельной страной, а только частью единой-неделимой России, и цель Деникина — пополнение кубанскими казаками Добровольческой армии, и Кубань — как ее продовольственная база. Вот тут и загвоздка: немцы опасаются создания чехословацкого фронта, и, по их требованию, большевики бьют чехов. Краснов хотел похода против Царицына как большевистской базы. Немцы, если бы все антибольшевики объединились, пошли бы против красных, но Добровольцы прямо ответили, что они уйдут на Волгу. Алексеев сначала присоединялся к мнению Краснова идти на Царицын с донцами, но Корнилов тогда с Деникиным пошли на Кубань… Не успел Краснов отправить второе письмо Вильгельму, как добровольческие газеты в Екатеринодаре объявили полный его текст. Оказалось, что сидящий у Краснова председателем его Совета Управляющих генерал Африкан Богаевский нашел возможным тайный текст этого письма передать Добровольцам. Говоря прямо — предал своего атамана. Всё сразу же стало известно в Берлине, и посланную с Дона вместе с письмом делегацию кайзер после этого не принял, признание Дона не состоялось. Но, в конце концов, через майора Кохенхаунена была установлена постоянная связь Краснова с генералом фон Кнерцером в Таганроге, Айххорном на Украине и фон Арнимом в Ростове. Договорились о том, что марка немецкая стоит у нас семьдесят пять копеек, наладили обмен винтовок на хлеб: одна русская винтовка с тридцатью патронами — один пуд пшеницы или ржи. Заключили договор о поставке аэропланов, орудий, снарядов и патронов, как и о том, что, в случае совместных военных действий, военная добыча делится поровну, выработали план совместного наступления под Батайском, и в результате всего ушли немцы из Донецкого округа, а в Ростове образовалась Доно-германская экспортная контора, и получили мы от немцев тяжелую артиллерию. Тут же предложили немцы Краснову совместные действия, видимо, Деникина убоясь, отклонил это предложение. Получили мы от немцев за первые же полтора месяца двенадцать тысяч винтовок, сорок шесть орудий, восемьдесят восемь пулеметов, сто десять тысяч артиллерийских снарядов, одиннадцать миллионов патронов. Одну треть артиллерийских снарядов и четвертую часть патронов отдали Добровольцам, тем самым, у которых под крылышком сидят наш донской социалист Агеев, общественный известный деятель, полковник генерального штаба, уволенный Красновым за пьянство Сидорин и Парамонов, ярый член кадетской партии, миллионщик, личный враг Краснова. Все они, вместе с Африканом Богаевским, повели по всему Дону пропаганду против Краснова, пустили слухи, что продался он, работает на немецкие деньги, за это хочет пустить Германию в Россию, чтобы захватила она ее военную промышленность и закабалила политически, экономически и в военном отношении, что всё то, что делает Краснов — идет вразрез с договорами России с союзниками и свяжет в будущем Россию по рукам, что приведет Краснов к открытому разрыву с союзниками, доведет до того, что называется попросту измена союзникам и, наоборот, к союзу с извечным врагом России — Германией. Особенно напирали на то, что письмо Вильгельму поставит атамана в открыто-враждебные отношения с Добровольческой армией и может довести до войны с ней в том случае, если союзники откроют чехословацкий фронт…
Вот как, братцы, обстояли дела, когда, под влиянием всего того, о чем я рассказал, собран был в Черкасске восемнадцатого августа Круг, а оппозиция выставила кандидатом в Атаманы Африкана Богаевского. Но — одолел его наш Петр Николаевич, и снова выбрали казаки Краснова.
Семён медленно поднимает глаза на своего командира:
— А я так считаю, дважды на Круге выбрал народ наш Краснова атаманом, пахари наши, те, что восстали поголовно и сами с вилами Дон свой освободили. Вот и должен он теперь кулаком об стол грохнуть и первое, что сделать — вместе с немцами выгнать к чёрту не только большевиков, но и всех этих странствующих музыкантов…
Валерий хмыкает:
— А кубанцы немцев и видать не хотят, и что горцы скажут, никто еще не знает. И сколько еще у вас богаевских и харламовых найдется, тоже неизвестно… Вот, выходит, взял Краснов среднюю линию.
Юшка с озлобленным лицом, сердито замахнувшись, бросает в камин кусок кизяка, так, что искры разлетаются по всей комнате.
— Дурак он, Вильгельм ваш. Ему нужно было прямо, признав Краснова, двинуть корпус или два на большевиков и был бы им всем каюк. И красной, и белой сволочи.
Виталий щурится:
— Н-да-а… тебя-то вот Вильгельм и не спросил. Не так всё это просто — с западу лезут на него союзнички наши, а тут еще и территория, на которой сам Наполеон ноги поломал…
Юшка снова вскипает:
— И Наполеон твой дурак был, предлагали же ему сами же русские мужики с ним идти, нет, видите ли, ручки свои версальские пачкать не хотел, я, мол, и так, гвардией моей, всех побью, да вот Платова не учел… да! Все они дураки…
Хорунжий Милованов улыбается, залезает в карман гимнастерки, вытаскивает кучу бумажек, роется в них, находит нужную, разглаживает ее на коленке и смотрит на Юшку.
— А ты, Юшка, не лотоши. Я что тебе еще, для полной твоей правоты, почитаю, слушай:
«Наполеон кочевал в полумиле от Малоярославца, находился между герцогом Винченским-Коленкуром и принцем Невшательским — Вертье и мною… едва успели мы оставить шалаши, где провели ночь, как прилетели тучи казаков. Так как были они порядочно построены, то мы приняли их за французскую кавалерию. Герцог Винченский первый догадался: «Государь, это казаки!». — «Не может быть», — отвечал Наполеон. А они уже скакали на нас с ужасным криком. Схватив лошадь императора, я повернул ее за собою. «Да это наши!». — «Это казаки, не медлите!». — «Точно», — сказал Бертье. «Без малейшего сомнения», — прибавил Мутон. Наполеон дал несколько повелений и отъехал. Я двинулся вперед с конвойным эскадроном, нас опрокинули, лошадь моя получила удар пикою в шею в шесть пальцев глубины и повалилась на меня, мы были затоптаны этими варварами. К счастью, они приметили артиллерийский парк в некотором расстоянии от нас и бросились на оный… Маршал Берсьер имел время прибыть с конно-гренадерами…».
Хорунжий медленно сворачивает бумажку, улыбается Юшке:
— Так написал генерал Рапп в своих мемуарах о том, как гаврилычи наши едва самого Наполеона в плен не взяли. Д-да…
Хорунжий встает, идет назад через всю комнату по диагонали, снова круто поворачивается и начинает говорить, ни на кого не глядя, постоянно, как маятник, ходя туда и сюда.
— Х-ха-а… территория… Россия-матушка… Почитай, сто миллионов одних русачков… а как обернешься назад, как вспомнишь, как держава сия строилась ими, русачками, кем и какими способами, волосы дыбом становятся. Для примеру, возьмем хотя бы нам, казакам, особенно хорошо знакомого Петра Великого. Как и чем государство свое крепил он. Вон, в «Книге Морского Устава» пятой, глава двенадцатая, артикул восемьдесят пятый, написано:
«Кто уведает, что един или многие нечто вредительное учинить намерены или имеет ведомость о шпионах или иных подозрительных людях… и о том в удобное время не объявит, тот имеет быть живота лишен»… А потом, указом о доносах от 25 января 1715 года, прямо сказал, что каждый истинный христианин и верный слуга своего государя должен немедленно доносить о всём, что узнает, о измене, заговоре, дезертирстве. По указу этому обязаны были родственники доносить друг на друга, дети на родителей, священники на прихожан, крепостные на господ, за что получали они свободу.
Почитайте-ка книжку Ивана Головина, изданную в Париже, называется «Россия под Николаем Первым», издана в 1845 году. Описано в ней, как великий царь реформирует шпионаж внутренний. Теперь каждый против любого может подать обвинение, лишь крикнув сакраментальное: «Слово и дело»!
В книжке Семевского «Очерки и рассказы из русской истории семнадцатого века» вы читаете, что прокричавший «Слово и дело» сразу же ставился под личную защиту царя. Обвиненный моментально терял все права: личные и гражданские, и волокли его в Тайную Канцелярию, в Преображенский приказ, если надо, то и со всей семьей, со всеми родственниками, знакомыми, случайно бывшими у него посетителями. И начиналось: сначала били три раза кнутом «истинного христианина и верного слугу государя», того, кто прокричал «Слово и дело». Если он эти удары выносил, то обвинение считалось доказанным. После этого били обвиненного. Если выдерживал он, и не сознавался, то снова лупили обвинителя, и так до тех пор, пока обвиняемый не сознавался. И лишь после этого начиналось следствие, иногда продолжающееся годами. Все знакомые, родственники или друзья его разбегались, отказывались от него, исчезали. А в результате — смерть или Сибирь. В обществе, в народе полная деморализация наступила. Раб имел в своих руках судьбу своего господина, подсудимый — судьи, солдат — офицера. А вот вам и примерчики: обвинил крепостной Аким Иванов своего господина прапорщика Скобеева в том, что побил он жену свою, не дававшую ему пить, и при этом сказал: «И государь наш пьянствует!». И 21 апреля 1721 года последовал указ: бить нещадно батогами прапорщика Скобеева, а доносчику с женой и детьми — волю. И могут они жить, где захотят.
Крепостной по имени Ванька Каин обворовывает господина своего и убегает. Ловят его, сажают на цепь с медведем, бьют кнутом и кричит он: «Слово и дело», и заявляет, что господин его Филатьев убил полицейского. Каину за донос дают свободу и поступает он сыщиком, но всё же за пожог рубят ему голову, как и господину его Филатьеву.
Тайную сию канцелярию, вступив на престол, уничтожила царица Екатерина. Но — учредила тайную экспедицию! Недаром, чёрт возьми, с энциклопедистами в переписке состояла.
Но, о Петре продолжим, о наказаниях при нем.
После бунта стрельцов рубят им головы: 11 октября 1698 года — ста сорока четверым. Двенадцатого — двести пяти. Тринадцатого — сто сорок одному, семнадцатого — ста девяти. Восемнадцатого — шестидесяти пяти. Девятнадцатого — ста шестерым. Лично царь-государь восьмидесяти четырем головы отнял. Трупы их убираются, а головы остаются на шестах до 1727 года. Заставлял Петр рубить и Меньшикова, и Голицына, только последний, за неловкостью и неумением, по несколько раз одну и ту же голову рубил… На казнь эту явился и князь-папа Зотов, шут царский, со свитой своей и благословил собрание трубкой. Зотов — это тот, при женитьбе которого переоделись все священники монахами и монашками, а кончилась свадьба эта оргией. Когда же этот Зотов умер, на вдове его Бутурлину жениться велели. А тот уже давно глубокий старик. Всё же для свадьбы этой строится на Сенатской площади пирамида, внутри ее поставлена кровать. Все пирующие пьянствуют и мужчины пьют из сосудов, сделанных в форме женских, а женщины в форме мужских половых органов. Напиваются вдрызг, «молодоженов» раздевают догола и кладут этих стариков в кровать. Народ на площади наблюдает за тем, что происходит в эту «первую брачную ночь». Вот как.
А когда православный царь явился к Фридриху Третьему, то заявил, что учиться он приехал. Поэтому попросил показать ему, как немцы вешают. Получил ответ, что, к сожалению, нет осужденных. Крайне изумился император всероссийский и спросил: «Да какой же вы царь, если не можете по собственному желанию вешать или рубить головы кому угодно?». Ответил ему Фридрих, что Брандербург часть Германии, а в Германии есть законы, которые он тоже респектировать должен. Тогда Петр сразу же нашелся: «Так, пожалуйста, повесьте первого вам из моей свиты подходящим показавшегося. На горло, на горло приглядитесь у каждого! Какое самое крепкое, того». Ответили ему, что и это, вешать невинных, в Германии запрещено. Вздернул возмущенный царь плечами: «Никакой вы, говорит, после этого не суверен!».
И этот же Петр, при посещении Вены, говорит, что на Айя Софии должен быть крест водружен, и Царьград должен принадлежать христианскому, понимаете — христианскому государю.
Так вот, как же дома-то этот христианский государь себя вел?
Князя Федора Хотевовского бил кнутом за обман, дворянина Зубова казнил за воровство, воеводу Бартенева за кражу чужих жен и девушек и устройство гарема, князя Жедякова за грабеж и убийство. Бил кнутом и сенаторов, и священников. Головина, старика, из всеми уважаемого дворянского старинного рода, отказавшегося одеваться чёртом, раздел голым, поставил босиком на лед Невы, и помер дед в шутовском колпаке, который на него надет был. В 1703 году под стенами Нотенбурга вешает целую беженцев толпу. Придворным своим плюет в лицо, адмиралу Головину, сославшемуся на болезнь и отказавшемуся есть салат с уксусом, выливает в рот целый соусник уксуса. Двум сенаторам сжег языки, вице-канцлера Шафирова, спасшего его от турок, осудил на обезглавливание, но помиловал на эшафоте, налюбовавшись его ужасом под топором палача. Повесил князя Гагарина и коменданта Бахмута князя Масальского. Генерал-фискала Нестерова за взятку в две тысячи рублей — колесовал. При казни князя Гагарина на площади присутствуют весь Сенат и все его личные друзья, знакомые и родственники, сидя за уставленными яствами и водкой столами. Повешенный болтается на виселице, а вся публика эта пьянствует всю ночь…
Барон Шарль Людвик Пелльниц издал в 1791 году мемуары, страшны его воспоминания: головы казненных, братьев царицы Лопухиных и еще четыре головы виднейших лиц Петербурга, годами остаются на площади на копьях. Генеральшу Балк, требуя сознания, собственноручно бьет кнутом, а когда та признается, дает ей еще тридцать ударов. Взяв город Нарву, бьет по лицу коменданта города, а убитую при штурме жену его велит бросить в воду…
Вот тут и вспомните великого российского поэта Пушкина: «И за учителей своих заздравный кубок выпивает!». Ну, не холуй ли гений русский, которого царь Николай пороть приказывал! Н-дасс…
Взяв Полоцк, является в монастырь, самолично убивает патера Косиковского, а свита перебивает монахов, монастырь грабят, церковь оскверняют. Убежавший в Рим один из монахов писал: «Царь натравил на монахов английскую собаку, видевшие это женщины заплакали, и велел им Петр груди отрезать». Об этом же секретарь царя Макаров написал.
Пленных же шведов, тех, о которых Пушкин так сладенько написал, мучил до смерти, сжигая и зажаривая живьем. После же взятия Азова велел отлить золотые дукаты, на которых русский орел держит в когтях Чёрное, Северное, Белое и Балтийское моря…
Царь Петр приказал Долгорукову 19-го июня 1708 года: «Как будешь в Черкасском, тогда добрых обнадежь и чтоб выбрали атамана доброго человека, а по совершении оном, когда пойдешь назад, то по Дону лежащие городки по сей росписи разори и над людьми чини по указу — надлежит опустошить по Хопру сверху Пристанной по Бузулук; по Донцу сверху по Лугань; по Медведице — по Усть-Медведицкой, что на Дону. По Бузулуку — все. По Айдару — все. По Деркуле — все. По Калитам и по другим Заданным речкам — все».
«И разорил, уничтожил, сжег, испепелил все Долгоруков и построил плоты и повешал на них казаков и пустил вниз по Дону в устрашение всем… Петр, о котором раскольники говорили — сатана он и антихрист, рожденный Никоном от ведьмы. Он не царь, а узурпатор, настоящий царь утонул, а на место его посадила сатана жида из колена Данова… Кстати, происхождения-то Петр сам весьма, действительно, подозрительного, а вторая жена его Екатерина буквально из веселого дома взята была. Царицу Евдокию посадил в монастырь, сам сына своего Алексея убил, Россию под гнет иностранцев отдал, ушел от турок и под Полтавой победил только при помощи диавола».
Тридцать восемь городков сжег тогда Долгоруков, двадцать тысяч казаков перебил, казнил, четвертовал, вешал.
Сын Алексей бежал от отца в Вену в декабре 1716 года, под покровительство кайзера Карла Шестого. Сначала скрывался в замке Эренберг в Тироле, а затем в Кастель Сан-Эльмо у Неаполя. Посланный Петром в Европу офицер Романцов открыл местопребывание Алексея и сообщил русскому послу в Вене Толстому. Петр написал письмо сыну, в котором Богом присягал, что ничего с ним не случится, если он домой вернется. В феврале 1718 года вернулся Алексей в Москву, привез его Романцов, получивший за это чин генерала и имение. И сразу же был Алексей обвинен в государственной измене и судим. Были, конечно же, и «соучастники» найдены. Сначала Петр сам бил кнутом сына, потом Евдокию, мать его. Суд осудил Алексея на смерть, вины своей он не признал, палача царевича убивать не нашли. Петр его отравить сначала хотел, да не стал тот пить из предложенного ему кубка. Тогда маршал Адам Вейде отрубил Алексею голову, топором оттяпал в присутствии папаши, кровь спустили под доску, вынутую из пола, а метресса царя мамзель Крамер снова голову к трупу пришила, горло платком завязали и объявили: умер от сердца. Так вот и жила святая Русь…
Когда же из мучимого в Преображенском приказе не могли вытащить имен сообщников, выводили его на улицу, чтобы он на улицах указывал на сообщников своих меж прохожих. Конечно же, общая паника, крик: «Язык! Язык!». И народ в ужасе разбегался.
Самым любимым занятием Петра было пьянствовать и за ребро вешать. По возвращении его из Европы в Петербурге гомерическое пьянство началось, пили целыми неделями, день и ночь. Тут и Всепьянейший собор учредили. Современник Петра Бурхгольц рассказывает: «Все священники, офицеры, простой народ, все лежали пьяным покотом… один поп еще держался, но был, как помешанный, другого несло… Напивался Петр каждый день, самого Лефорта пьяным в Кенигсберге чуть не заколол». Почитайте свидетельства барона Пельница. А когда стрельцам головы рубил, то за каждой скатившейся с пенька головы здоровье пил. Любил пошутить его величество.
Преображенский приказ, переименованный в Тайную экспедицию. При Павле была Тайная следственная канцелярия, при Николае Первом и Александре Втором — третье отделение. Через правёж Годунова, через опричников Ивана Грозного, через «Слово и дело» Петра, через агентов третьего отделения дошла Русь-матушка до Чека! Теперь донос возведен на высоту недосягаемую, и детской шуткой кажется нам распоряжение из времен Александра Второго бесплатно принимать в школы тех учеников, которые обяжутся доносить начальству на своих товарищей…
Хорунжий вдруг останавливается посередине комнаты, смотрит вокруг себя невидящим взглядом и обращается к Юшке:
— А ты что воззрился, а ну-ка, дай-ка мне из фляжки потянуть…
Пьет быстро, один большой глоток, молча возвращает фляжку и продолжает свой бег по комнате:
— Да, управляли народом… При Иване Грозном зашивали в шкуру медведя и отдавали голодным собакам, жарили на сковороде, рубили на куски, бросали в воду. Годунов вырывал бороды по волоску, Алексей Михайлович отрубал мужчинам нечто неудобосказуемое. Петр, имевший двадцать тысяч дезертиров, приказал вешать каждого третьего по жребию… При Анне Иоановне официально состоялось семь тысяч две казни. Издевавшийся над религией Петр живьем сжег в 1714 году попа Фому, ругавшего православие. В январе 1702 года путешественник Ле Брюин видел в Москве женщину, живьем по плечи закопанную в землю. В 1691 году клеймили раскаленным железом, букву «В» выжигали: вор. При Петре выжигали орла: орлёные. В 1780-82 выжигали букву «У» — убийца, и «Л» — лжец. При Николае Первом: «КАР», сокращенное «каторжник». Или «В» — бродяга, или «СК» — ссыльнокаторжный. По уложению из 1649 года, выкалывали глаза или отрубали руки, уши и губы, или рвали ноздри. Шуйский велел Болотникова ослепить. Пробовал старый боярин Репнин протестовать против того, что пляшет царь Иван Грозный пьяным. Заплакал и ушел в церковь молиться за царя. Там его, у алтаря, опричники убили. Князь Дмитрий Оболенский сказал Басманову: «Потому ты царю мил, что помогаешь ему в скотоложестве». Приглашает Иван князя на пир и собственноручно пробивает ему сердце ножом.
И на этом фоне — толпы бродячих попов, мириады нищих, юродивых, блаженных. Одному даже церковь посвятили — Василию Блаженному. Нищих при Александре Третьем — в Москве только двадцать шесть тысяч, в Лифляндии — шестнадцать, в Варшавской губернии — четырнадцать, в городе Нижнем и Вятке — по десять, в Московской губернии — пятнадцать тысяч. А сколько их по всей святой Руси было?
Первую смертную казнь в общественном месте произвели в Москве в 1376 году. Князь Дмитрий Иоанович колесовал Вельяминова и Некомата. Иван Грозный убивал жезлом сам, избивал в церкви, разрывал на куски. При Елисавете в общественных местах били и женщин. При Павле били всю Россию, а идет традиция эта еще от Мономаха и Ярослава. Петр бьет кнутом, ставит босым на снег, поливает кипятком, беременных женщин бьют до выкидыша, потом забивают до смерти, а оставшегося еще живым ребенка оставляют на трупе, чтобы и он умер. Анна Павловна закопала крестьянку Ефросинью за убийство мужа в землю по плечи, и жила та от 21 августа до 22 сентября. Царица Екатерина застала дворцовую даму графиню Брус в кровати своего любовника и забили их кнутами в той же кровати до смерти. Николай Первый, как и Петр, бил собственноручно палкой своих приближенных.
Царь Иван Грозный умирает, за ним ухаживает жена Федора и наклоняется к нему, он хватает ее и насилует, и лишь после этого умирает, а с ним вместе и кончается дом Рюриковичей.
Патриарх Фотий в 866 году пишет, что русские по своей жестокости известны, а Нестор в 945 году говорит, что русские под Игорем распинали, резали на куски, расстреливали стрелами, греческим пленным головы железными штангами разбивали. Князь Святослав, взяв Могилев, передушил мужчин, а женщин и детей насадил на колья. Русские, по взятии Киева в 1169 году, не только избивали жителей, но и православные церкви сжигали. Иван Третий в Ливонии не только насиловал женщин, но бросал их, в реку, резал носы и уши, отрубал руки и ноги, сажал на колья. Иван Четвертый пробивал беременным женщинам животы, сажал детей на колья заборов, насыпал людям порох в задний проход и взрывал их, сажал на колья, а потом, обложив соломой, зажигал. Шведских пленных сжигали и зажаривали. Когда Тотлебен и Репнин пришли в Пруссию, то вели себя их войска, как каннибалы. До двухсот тысяч человек было тогда перебито и перевешено. По взятии Крыма опустошили его, здания сжигали, грабили жителей, прятавшихся в мечетях убивали, оскверняли могилы, стреляли по муэдзинам. По завоевании Кавказа рубили горцам руки и ноги, резали уши и носы. В русско-турецкую войну, в 77 году, турок сжигали живьем, насиловали женщин в Бинбунаре на глазах связанных мужей, в Трново сожгли мечеть со сбежавшимися в нее жителями. В 1897-98 годах жило в Сибири сосланных 298577 человек, а беглых по России тогда насчитывали до ста тысяч…
Вот тут и приходит мыслишка: старались ли правители России системой жестокостей деморализовать народ или такое правление страхом вообще возможно только благодаря полной деморализации самого народа… Вот теперь и будем приглядываться, как себя поведут, если укрепятся они в России, новые цари ее.
У нас, во всяком случае, повели они себя по старинным традициям, достаточно я вам о них рассказал. Уж не потому ли были русские целую тысячу лет насилуемы, что в такой власти имели они нечто, полностью их народному характеру отвечающее?
Всякое понятие о чести было русскому чуждо — избитый кнутом, с исполосованной спиной и задом, как ни в чем ни бывало, возвращался он снова в свое общество. Да еще и пословицу русские придумали: за битого двух небитых дают… Наукой, видите ли, считали.
Русское холуйство поражало иностранцев, Да-Колло писал: «Четыреста тысяч конников великого князя служат ему не за плату, а из любви, страха и послушности — пер аморе, тиморе ет обедизница».
Еще Сильвестр в «Домострое» писал, что гнев и немилость царские равны гневу Божию. Выходит дело, и деваться им некуда было. Ежели царь ихний им ихние животы вспаривает, значит, на то воля Божия!
А вот вам примерчик истинного отношения к царям своим народа: во время пребывания своего в Москве, захотела царица Екатерина самолично объявить народу о снижении цен на соль и появилась на балконе. Народ в ужасе разбежался. Это та самая Екатерина, по указу которой крепостной, осмелившийся помимо помещика подать на него жалобу ей лично, был немедленно бит кнутом и отправлен в Нерчинск на рудники. Без суда и следствия. Это та самая Екатерина, чьё «Уложение» было отпечатано в двадцати тысячах экземпляров, переведено на все главные языки, а цитировались в нем и Монтексье, и Беккраиа, и из-за «свободомыслия» своего было запрещено в тогдашней Франции. Чисто пропагандный трюк, которому, уверен я, прекрасно научатся большевики, знают, что на Западе дураков не сеют, сами они там родятся. А коль уж о Екатерине заговорил…
Впрочем, господа, давайте-ка снова по единой, Пономарев, вон, на столе, фляжка моя, ага, спасибо, а теперь всем поднеси. Так! Где я остановился?
Ах, на матушке-царице! Кстати, вот как раз прадедам нашего Семёна десять тысяч десятин казачьей земли нарезавшей и дворянство им давшей, да, о ней потолкуем. Начнем хотя бы с восшествия на престол — первое, что сделала, велела кабаки для народа открыть. Попы, солдаты, мужики, офицеры — все перепились. Когда в кабаках водки не стало, начала толпа частные дома разбивать. Колодников по тюрьмам кормить нечем было, вот и выводили их на улицы, чтобы они у прохожих еду себе добывали, велели им рубахи поднимать и спины кнутами исполосованные народу показывать. А царица-матушка самолично книгу расходов своих завела и всё туда записывала: один дукат девке, потерявшей родителей, один дукат погорельцам, десять дукатов мужику, взлезшему на мачту, двадцать дукатов княжне Анастасье Голициной за то, что два стакана пива, два стакана вина и два стакана водки выпила.
Хотела она, по плану царя Ивана, всё у церкви забрать и попам жалованье назначить, да ничего не вышло, а попользовалась бы неплохо — было тогда в России мужских монастырей 479, женских 74, 18319 церквей, а всех служителей церкви 67873 человека, которым принадлежало 910966 крепостных крестьян. Всего же населения тогда, по ревизии 1788 года, было 28 миллионов, а это значит, что каждый тридцатый житель России был крепостным церкви. Вот как тогдашние попы хлопотали о царствии небесном! А теперь удивляемся мы, что внуки этих крепосных попов своих распинать стали и кишки им выматывают. И доходики у тогдашних монастырей неплохие были, по тем временам Троицкий монастырь в год больше ста тысяч рублей дохода имел.
И в это же время при дворе самой императрицы слуги ее буквально с голоду дохли, и потребовался особый царский указ для того, чтобы стали их кормить с дворцовой кухни.
В 1764 году ввезли в Россию с Запада на 8353 рубля книг, а пудры — на 7187 рублей!
Губернатор московский велел учеников связанными в школы привозить — никто сам идти не хотел, а когда узнала об этом императрица, то сказала: «Милый мой князь! В тот день, когда мужики наши потребуют образования, не только ты, но и я на наших местах не останемся!». И не удивилась, узнав, что мужики никогда не моются, а зачем же, молвила, мыть им тело ихнее, когда оно им вовсе и не принадлежит. В это же время личная служба любовника царицы — Орлова — обошлась ей по тем временам в семнадцать миллионов рублей. Потемкин за два года получил девять миллионов и тридцать семь тысяч крестьян. Зорич за одиннадцать месяцев службы — имение в Польше ценою в полмиллиона, имение в Лифляндии за сто тысяч и наличными пятьсот тысяч рублей. Бриллиантов дала ему на двенадцать тысяч, а, служа в Польше, получал он по двенадцати тысяч в год. Всего же, с 1764 по 1796 год истратила царица-матушка на любовников своих восемьдесят три миллиона рубликов.
А за все это время носилась с планами, оставленными ей по завещанию Петра Великого. А что было это завещание — доказательство письмо Миниха от 20 сентября 1762 года, где особенно он ей об этом напоминал, и требовал изгнать турок из Европы. Призывал ее и Вольтер осуществить эти планы и забрать Константинополь и объявить его столицей России. А ей некогда было: от Григория Орлова имела она трех сыновей и одну дочь. Старший родился 29 апреля 1762 года и получил имя Бобринского, купили ему имение и положили на его имя в банк миллион рублей. Павел Первый дал ему титул графа. Двое детей умерли в детстве. Дочь, уже при царе Александре Первом, вышла замуж за графа Фридриха Вильгельма Буксгевдена.
Когда отравили Григория Орлова, заменил его Васильчиков Александр, гвардейский офицер, да не по мерке оказался, и взяла она Потемкина с гигантской и непропорциональной фигурой, — как писал о нем английский посланник. Был у нее какой-то Висенский, Завадовский, был Корсаков, и застала его царица в кровати с собственной фрейлиной Брус, запорола, и утешилась с дворянином Ланским, да помер он от чрезмерной работки и осталась после него царица целый год неутешной. Привел ей Потемкин унтер-офицера Ермолова, да начал тот зазнаваться и интриговать, и заменили его капитаном гвардии Мамоновым, вскоре пойманным с дворцовой дамой Щербатовой. После этого пришел Платон Зубов, и потом говорили все в Петербурге, что была последняя любовь царицы — платоническая. Это он сообщил царю Петру о смерти матери и сказал ему тот: «Друг матери моей и мой друг!». Во как! Кстати — каждый любовник производился всегда в генерал-адъютанты, жил во дворце в особом апартаменте, в день начала деятельности своей получал для разгону сто тысяч рублей и назначалось ему месячное жалованье в двенадцать тысяч. До начала работки осматривал каждого нового любовника доктор Рогерсон, а потом шел он к «пробальщице» Протасовой или Бранцике и, лишь получив от них аттестат, становился на службу свою. Впрочем, под старость стала матушка царица себе женщин требовать, всероссийской Сафо стала. Выручали ее Протасова, Бранцика, Дашкова…
Да, об убийстве Петра Третьего немного сказать: любовник царицы Григорий Орлов с братом Алексеем, князем Барятинским, с каким-то Тепловым, артистом Волковым, одним сержантом гвардии и двумя солдатами привезли в Ропшу, где сидел сверженный с престола Петр, отравленного вина, выпил тот немного, почувствовал предательство, и хватил горячего молока. Тогда первым ударил его Алексей Орлов. «Что я тебе сделал?», — закричал Петр. И тут кинулись на него все остальные и начали душить подушкой, царь вырвался, его бросили в качалку, затем на землю, на пол. Оборонялся он отчаянно, кричал, звал на помощь. Тут Барятинский сделал из салфетки петлю, накинул ему на шею, остальные схватили за руки и ноги, а тянул Энгельгард. Так, 17 июля 1762 года погиб последний Романов. Удушен. В манифесте о смерти сообщила супруга его Екатерина, что умер он от геморроя. Энгельгард получил генерал-лейтенанта и стал губернатором Выборга. Принимавшие участие в убийстве солдаты получили офицерские чины и были переведены в провинцию, да кем-то по дороге все были убиты. Писала потом о Петре Екатерина, что импотент он был… да…
Неплохо вспомнить и дочь царицы Елизаветы, и Разумовского. Принцесса Тараканова, княжна по-нашему, могла, по рождению своему, Екатерине конкуренткой быть. Вот и скрывалась она от царицы в Италии двенадцать лет и лишь в марте 1775 года удалось Алексею Орлову, убийце Петра Третьего, затянуть Тараканову обманом в Россию. Сразу же ее объявили ненормальной, заточили в Шлиссельбургскую крепость, где она, по одним сведениям, от наводнения, по другим — забитая кнутом, умерла.
А царица-матушка вечерами в уютной обстановке, в узком кругу друзей, в картишки перекидывалась, в бостон, вист, рокамболь, пикет. Многие участвовали: граф Разумовский, фельдмаршал граф Чернышев, князь Голицын, граф Брус, граф Строганов, князь Орлов, князь Вяземский, иностранные дипломаты. С Потемкиным игрывала царица только на бриллианты. Азартно играли, один раз за один вечер выиграл у царицы граф Бобринский четыреста тысяч рублей…
Хорунжий Милованов вдруг останавливается, смотрит на всех так, будто видит их в первый раз, проводит рукой по лицу, трясет головой и поворачивается к Валерию.
— Ну-ка, ты теперь всех нас обнеси, так, брат, по-хорошему…
Быстро, запрокинув голову, выпивает одним духом свою рюмку, ставит ее на стол, поворачивается, идет снова к стенке и продолжает кружиться по комнате непрестанно, как заведенная машина, говоря так, будто сам он себе всё это рассказывает.
— Н-дас. А играли так у матушки царицы, что и дочерей, и жен проигрывали… как говорится, не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался…
Прыгаю я с одной темы на другую, из одного века в другой, особенного порядочка нет у меня, да не важно это, все они во все времена, за всю их историю, одинаковыми были.
Ах, о красном воинстве говоря, неплохо и императорское вспомнить, ну, хоть, скажем, в Пруссии, еще при Апраксине. Написал ему официальную реляцию генерал-квартирмейстер Ганс Генрих Веймарн: жители лежащего на самой границе прусского городка Гольдапа были не только ограблены, но и дома их сожжены, разбиты и загажены… Главнокомандующий в Гумбинене порол солдат кнутом, резал грабителям носы и уши, но преступления только увеличивались. Даже офицеры творили не меньшие проступки. Адъютант Киевского пехотного полка на дороге меж Мемелем и Тильзитом сжег целое село, армия должна была проходить через пылающие улицы. Было это в 1752 году — солдаты самого Апраксина согнали народ в кучи, стариков, женщин, детей, пороли до полусмерти, убивали, калечили, жгли живьем на кострах. Многие женщины кончали самоубийством, дабы избежать каннибальства этих московитов…
Так Сугенхайм о всём писал, дорогой мой Семёнушка, а ты удивляешься, что они дядю твоего на штыки подняли, а тетю на воротах повесили… Традиция, милый ты мой, российская.
В 1775 году Сечь Запорожскую разорили. Да всё брали, как и сейчас у нас на Дону грабят, режут, жгут и вешают, а главное, ружья отбирают… потомки тех, кто запретил у нас на Дону выбирать войскового атамана, это те, которые при той же Екатерине числом в пятнадцать тысяч регулярного войска пришли на Дон в 1792 году и утопили в крови станицы Бессергеневскую, Мелиховскую, Манычскую, Пятиизбянскую, Верхне- и Нижне-Чирские, Кобылянскую, Есауловскую и многие другие за то, что они на Кавказ переселяться не хотели.
Это те самые московиты, что забрали Польшу в 1773–1775 годах, Грузию в 1801, Финляндию в 1809, Кавказ покорили в 1864-м… Отличился там и наш Бакланов-генерал… да, деваться ему некуда было. Это тот Бакланов, что спросил царя Александра Второго: «Правда ли, царь-батюшка, что хотят теперь казаков перевести в драгунское положение? Если правда, то кликну я клич по всему Войску Донскому, и мы, казаки, от стара до мала, постоим за свое историческое право…». Улыбнулся император, умным человеком оказался, казаков в драгуны не перевел, но отдал распоряжение: кандидатов на пост наказного атамана из казаков не назначать…
Это те самые россияне, против которых восставала Польша в 1794, 1812, 1830 и 1863 годах, и душили ее лучшие русские полководцы Суворов, Румянцев, Паскевич. Боролись за свою свободу литовцы, латыши, эстонцы, финны, запорожцы, туркестанцы… И бились мы, казаки, под Разиным, Пугачевым, Булавиным восстававшие. И всё это видела церковь православная, и о победе христолюбивого российского воинства молебны пела. Удушила Россия Вече в Новгороде, Круг на Дону и Яике, и не только молчала церковь, но и великие писатели земли русской молчали и не протестовали против кровавых насилий. Лермонтов, Достоевский, Тургенев, никто, только Пушкин разразился фразой: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!». А историки российские, так те в один голос всё это то собиранием земли русской, то борьбой с неверными, то самозащитой, то освобождением величали. Даже за границы свои на Запад кинулась матушка-Русь, и в 1848 году венгров задушила. А как росла: в 1722 году было в ней всего населения четырнадцать миллионов, в 1815 — сорок пять, в 1908 — сто пятьдесят пять. За четыре столетия, с тысяча пятисотого по тысяча девятьсотый год, территорию свою на сто двадцать пять квадратных километров увеличивала. И всё захватом нерусских земель, с пятисот сорока тысяч квадратных километров в четырнадцатом веке на двадцать пять миллионов в 1916 году выросла. И помогли мы ей, казаки, с нашим Ермаком Тимофеевичем, самую малость земель ей подарили — целую Сибирь. И отблагодарила она нас при Петре, отрезала и присоединила казачьих земель к соседним губерниям один миллион десятин…
Матушку-царицу Екатерину вспомним, мало ей было, что у нее в карты жен и дочерей проигрывали, иные она забавы удумала, в Эрмитаже «Малый Циркель» образовала, в котором оргии устраивались, а в Петербурге общество, соответствующе воспитанное, Физический клуб организовало, пьянство поголовное, а в конце — лотереи, кто с кем в кровать ляжет. Особенно же мадам Рудль отличилась, устроила для того же высшего общества дом свиданий на Васильевском острове, с 32-мя комнатами и бассейном для плаванья. Для голых мужчин. С сорока окошками. Как писал один очевидец: сама императрица бывать изволила!
А дисциплинку в армии тоже хорошо поддерживали: по кригсрегламенту Петра давали солдатам за провинности шпицрутенов, через строй проганяя в пятьсот и тысячу человек. Екатерина солдат Мировича прогнала через двенадцать тысяч. То же и Александр Первый сделал, мужиков бил. При Анне Иоановне сослано было в Сибирь двадцать тысяч, при Елисавете шестьдесят тысяч, а при Александре Первом и Николае Первом по шестьдесят тысяч ежегодно… И не только мужичков потрошили, заботились и о писателях. Радищев за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» в Сибирь был сослан Екатериной Великой, той, что с энциклопедистами в переписке состояла… Основателя Харьковского университета Каразина при Александре Первом в Шлиссельбургскую крепость усадили за книгу о нужде народной. Николай Первый сослал Щедрина в Вятку, Пушкину царь собственноручно морду бил, Тредьяковский, получив пощечину от министра Волского, бежит жаловаться к Бирону, а у того тот же Волский сидит, Тредияковского тут же раздевают и дают семьдесят ударов палки, потом везут на маскарад и там еще бьют. Самого Достоевского чуть не повесили.
Андрей Боголюбский захватил в 1169 году Киев и три дня грабил и жег, и храмы осквернял, и монастыри.
Иван Калита, пойдя против Твери, союзниками имел пятьдесят тысяч татар. Когда Псков и Рязань уничтожили, выводили оттуда народ волостями, а вместо них москвичей селили.
А что комиссар Саблин делегатам нашим в Ростове сказал: вместо уничтоженных казаков бедноту из России населят.
Вот это я неумирающей русской традицией называю.
И тут же удумали: Москва — третий Рим, Новый Израиль, русская династия происходит от римских цезарей. И всё это глотал народ-богоносец, и пёр и в Пруссию, и на Балканы, и в Польшу, и в Венгрию, и на Кавказ. И жег, и грабил, и насиловал воин христолюбивый так, как никто в мире.
Отовсюду поступают жалобы, писал Пикуль царю в 1704 году, что московиты все церкви, сёла, имения разграбили так, что описать это невозможно.
Солдатики наши, да, вот что еще о них свидетельствовали: в нашей губернии вторая бригада стояла… И стены, и полы, и потолки в таком виде после христолюбивого воинства остались, что самому небрезгливому человеку стоило только взглянуть, так, бывало, целый день тошнит.
А начальство ихнее — портрет губернатора, сходствия много: и смотрит грозно, и руку за жилет… Так вот и кажется сейчас и скажет: «А ты чего смотришь, дурак!». Это из «Именинного пирога» Мельникова-Печерского.
А вот его же, наизусть я выучил, «Старые годы» называется: «Князь к службе был не леностен, к дому Господню радение имел большое, сколько по церквам иконостасов наделал, сколько колоколов вылил… У него и холоп, и шляхетство так промеж себя забавлялись, кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут, да дадут козлу лизать, козел-то лижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, пока глаза под лоб не уйдут… Иному ежа за пазуху засунут… шутов назовут у гостей чай отнимать, передразнивать прикажут, кипятком ошпарят, шуты с гостем подерутся, обварят его, на пол повалят, мукой обсыпят… Смеяться князь изволил, видя это. И на галерее знакомцы, шляхетство мелкопоместное с приказными, хохотали, хотя, к чему тот смех — неведомо. Всяк свое место знай, не то велят шутам из-под него стул выдернуть. Подле медведя двухгодовалого посадят, а с другой стороны юродивый, босой, грязный, лохматый, ему князь всякого кушанья набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасцу… а по углам шуты, немые, карлики, и калмыки, все подачек ждут и промеж себя дерутся и ругаются. Дуняша да Параша виршами про любовь рассказывают, разок пять их выдерут, выучат они всё твердо. Все пьют, не отставая, кто откажется, тому велит князь вино на голову вылить…».
Н-дас, забавлялся князь российский с шутами… шуты — старая русская традиция. Петр Первый пожаловал дворянство шуту Засекину, а царю Ивану Грозному шут Гвоздев не понравился, и велел он ему за пазуху кипятку налить. Закричал тот, озлился царь и прикончил его ножом собственноручно.
Петр приказывал шутами быть людям из высшего общества. И все слушались. Если били шута, обороняться он не смел, не человек он больше. Были при Петре шутами Тургенев, Ланской, Ленин, Шаховской, Кирсанов, Ушаков, Да-Коста, Тараканов, Зотов, Ромодановский, Стершиев, Головин, Бутурлин. Офицер Ушаков поскакал из Смоленска в Киев, послали его по важному делу, прискакал ночью, ворота города заперты, не пустили, кинулся назад — жаловаться, и был за это в шуты произведен. Зотов, так называемый архиепископ Прессбургский, затем — патриарх, и, наконец — князь-папа. Коронуют его торжественно, с короной с изображением голого Бахуса. Князь Волынский, как Мельников-Печерский пишет, при государственной собачке в няньках состоял. Высшее общество, холуи, рабы, смерды. И с начальством соответственно разговаривали: «Удостойте сказать, ваше превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здоровье находить изволите?». Милостиво ответит превосходительство, и вопроса удостоит: «А ты?». И отвечает пресмыкающийся: «Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенция раскрывает все мои сантименты и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства!». Вот-с, высшее общество, строители России, карьеру делавшие. А как же лучше всего сделать ее было: а вот — девка та, Монсона дочка, сама фортуну сделала и родных всех в люди вывела: сестра в штас-дамах была, меньшой брат в шамбеляны попал, ему, правда, за скаредные дела голову срубили… долго торчала та голова на высоком шесту… Н-дас, дорогие мои слушатели, думаю, ясно вам, какими путями дочка Монсова карьер свой сделала…
Ох-х-х, ну-ка же, еще по единой хватим, а то горло пересохло…
Где я остановился, да, по «Русской Правде» из XI века, должник, не заплативший долга, становился рабом повелителя, человек, сам себя прокормить не смогший, становился рабом первого встречного, взявшего его к себе.
Иван Третий в 1497 году издал судебник, в котором говорилось не только о наказании за совершенные преступления, но в статье девятой о наказании ведóмого лихого человека. А обнаруживали его так: в случае совершения где-либо преступления направлялся туда недельщик для отыскания преступника. Он опрашивал жителей, землевладельцев, священников, зажиточных крестьян. Подозрение большинства падало на кого-нибудь, и сразу же назывался он облихованным. Брали его и обыскивали, пытали, даже если он и сознавался. Если же не сознавался, то все равно после пытки предавали его смертной казни.
Самодурами были все царствующие особы.
Веселая царица была Елисавет, Поёт и веселится, порядка ж нет как нет…Принцессой имела она любовником солдата Шубина, а после него Разумовский заступил… За труды свои стал он графом, а вместо него гвардейский солдат Бутурлин подвизался. Затем калмык, а потом граф и канцлер Воронцов, после них кучер Лялин, за ним певец Полторацкий.
Меж утехами любовными пеклась Елизавета и о стране своей, и о ее внутреннем спокойствии. Донесли царице, что Наталия Лопухина, муж ее генерал-лейтенант Лопухин, их сын, и с ними графиня Анна Бестужева, гвардеец князь Путятин, государственный советник Сибин, заговор вместе с маркизом фон Ботта, посланником Марии Терезии при русском дворе, умыслили и переворот дворцовый готовят. Первого сентября бьют их на площади кнутом. И недаром, чёрт побери, действительным их преступлением было то, что позволила себе Наталия Лопухина на бал с розой в волосах явиться, так же точно, как это царица делала. Заставила царица Лопухину тут же на колени стать, отрезала ту розу вместе с волосами, дала ей две пощечины и, как я уже сказал, обвинила всю семью, вместе с друзьями и знакомыми, в подготовлении заговора. И вот после битья кнутом вырезали всем им тут же языки. Палач в толпу орал: «Эй! Рупь за язык Лопухиной! Кто больше?». После этой государственной операции ссылают всех их в Сибирь. Да, веселая царица была Елисавет, музыку и пение любила, поэтому и доплелся до самой ее кровати певчий Разумовский. Театры и маскарады царица любила, и поэтому раздевает и одевает лично кадета Свистунова, машкеру ему примеряя. Переодевая же кадета Бекетова, открывает у него такие данные, что прямо с маскарада посылает его в свою спальню. В театре ее, в одном действии, и такая сценка была: извещает ангел деву Марию, что она родит. В сиём случае вскакивала артистка и указывала ангелу на дверь: «Считаешь ты меня за блядь? Вон или я тебя выкину!».
Царица сия разрешила дворянам самим крестьян своих в Сибирь ссылать, а как они с крепостными обращались, достаточно примера знаменитой Салтычихи, замучившей до смерти больше ста своих дворовых. Сама же Елизавета сослала в Сибирь шестьдесят тысяч человек, колесовала или четвертовала Миниха, Остермана, Головкина, Левенвольде, Менгдена. Обезглавила дворцовую даму Балк. И всё же, несмотря на такие ласки царские, сам ее государственный канцлер Бестужев оказался фальсификатором подписей на векселях….
Совершенно забыл — призвал Петр Великий любимца своего Меншикова и обвинил в воровстве. Но доказал тот, что государство должно ему больше, чем он сам забрал. А через четыре года всё же признался, что украл он денежки. После Полтавской битвы забрал он в шведском лагере двадцать тысяч талеров и казне не передал, из царской казны несколько раз брал столько, сколько унести мог. В Любеке пять тысяч дукатов, в Гамбурге — десять, в Меклембурге — двенадцать тысяч талеров. Царь промолчал. Спустя некоторое время всё же отдал его под суд, но — простил. При Петре Втором пал временщик Меншиков. В петербургском дворце его нашли одного столового серебра на двести тысяч рублей, на три миллиона драгоценностей, восемь миллионов дукатов и в тайнике семнадцать пудов серебра. А в амстердамском и лондонском банках имел он девять миллионов рублей на текущем счету своем. Стоимость же имений и крепостных его вообще счесть не могли.
Зорич, любовник Екатерины, в Шкловском замке фальшивые деньги делал, генералы Валуев и Крыжановский при царе Александре Третьем государственную казну считали своей собственной и соответственно распоряжались. То же самое проделывал и граф Ацлерберг при Александре Втором. Александр Второй прогонял из России за воровство обоих великих князей Николаев Николаевичей, а Николая Константиновича, как клиптомана, в сумасшедший дом усадил.
А мы удивляемся, что мужчины наши теперь всех поголовно режут, и, как вот видите, имения в соответствующий вид приводят.
Братец Александра Третьего Алексей расходует на баб миллионы, предназначенные на флот, живет с Жуковской, и сын от нее становится графом Беловским. Бросает Жуковскую и связывается с парижской дамой полусвета мадам Бения.
Великий князь Владимир грабит казну, а деньги расходует на баб в Париже и Петербурге, дочь его Елена выходит замуж за принца Николая Греческого и через неделю убегает от него с любовником. Сыновья ее, Кирилл и Борис, основывают в Петербурге клуб сибаритов, в нем две дюжины членов, великих князей и аристократов. Гости в клубе — только дамы. Слуги — женщины. Стены из зеркал. Главное занятие членов клуба — изнасилование гостей. Саму племянницу княгини Святополк-Мирской изнасиловали. Скандал. Клуб — закрыт. Кирилл и Борис уезжают из России, и Кирилл, назло Николаю Второму, женится на его золовке, разведенной княгине Гессенской…
Дочь Николая Первого, великая княгиня Ольга, живет с гвардейским офицером Барятинским, за что изгоняют его на Кавказ.
Николай Константинович, сын великого князя Константина, крадет драгоценности матери и дарит их своей любовнице, за что надевают на него смирительную рубаху, а потом изгоняют в Закавказье.
Великий князь Сергей долго воевал с Николаем Вторым за Кшесинскую, победил, но выгнали его за границу.
Царь Александр Второй, кроме своей семьи, имел еще одну комплектную… так сказать, частным образом.
Александр Третий коротал ночки с певицей Фулло.
Скандалы дочери великого князя Михаила Анастасии разражались во всех странах Европы.
Великий князь Михаил Михайлович такие номера откалывал с Игнатьевой, что выставили его за границу, где и женился он на графине Софье Меренбах…
Хорунжий останавливается с таким видом, будто пришел в себя из обморочного состояния:
— А ну-ка, гляньте у себя там, по сумам, нет ли у вас чего подходящего. Моя фляжка, того, отказалась… ага, так я и знал, кто-кто, а Ювеналий выручит… что, хохлацкий самогон? Непривычный человек с одного глотка с копыт падает… ну, да не на таких нарвались.
Выпив добрый глоток прямо из бутылки, вытерев рот ладонью, осоловело смотрит на Юшку:
— А как там в смысле закуски?
Ювеналий быстро отрезает хлеба, кладет на него кусок сала и Милованов, жадно откусив, пятится в угол, вдруг садится на пол и, жуя, продолжает…
А вот о грозном царе и забыл. А о нем сотню книг написать можно. Карамзина почитайте, про опричнину. Годами, в страшнейших мучениях, гибли в Москве люди. Сравнивали Грозного потом с Александром Македонским. И кого только он не убивал, даже слона, привезенного из Индии и не стававшего на колени царю поклониться, приказал на куски разорвать. Идет царь с опричниками своими на город Клин Тверской области, сжигает его, всё живое уничтожается. Оттуда — в Тверь. Пять дней убивают и грабят, что увезти нельзя — сжигают. Потом в Медынь, затем в Торжок, всё и там так же проделывают, как в Клину, и Твери, и Медыни, только еще избивают всех поголовно ливонских и крымских пленных, сидевших там закованными. Подходят к Новгороду, окружают город, связывают священников и монахов, каждый должен откупиться двадцатью рублями, кто сразу денег не платит, того бьют кнутом с утра до вечера. Купцы и судьи — в цепи, женщины заперты в домах. Неоткупившихся избивают кольями. Епископ Новгородский встречает царя на мосту через Волхов с хоругвями, торжественная служба в соборе, званый обед, епископа сажают рядом с царем. Царь вдруг кричит, опричники набрасываются на епископа и новгородцев. Массовое, страшное, неописуемое избиение. Избивали и убивали всех, целые семьи с отдаленными родственниками, девушек отдавали убийцам на потеху. Не только Новгород, сёла, пригороды, скот на полях, целые провинции уничтожались, реки и озера стравливались, дома сжигались, сжигали и хлеб в амбарах. Наконец, царь и сын его Иван выходят судить новгородцев, одного обливают кипящей смолой, целые семьи, связанные, топят в реке, опричники на лодках добивают плавающих. Так продолжается пять недель. Наконец, объявляют народу, что виновен во всем епископ Пимен. В лохмотьях, избитый, с повешенной на шее волынкой, с бубенцами и барабаном в руках, отправлен он в Москву верхом на белой кобыле. А Иван идет на Псков. Все жители города выходят и становятся на колени, просят милости, кажется, что всё по-хорошему пройдет. На мосту подскакивает к царю юродивый и протягивает ему кусок сырого мяса: «Я христианин, — говорит Иван, — и в пост мяса не ем». — «Ешь ты мясо и пьешь кровь людей!», — отвечает ему юродивый.
Царь в ужасе бежит в Москву. Теперь она за всё отвечает. Первым гибнет князь Вяземский, ближайший Иванов советник, затем отец и сын Басмановы в пытках «сознаются», они и называют сотни имен. Изменников. На площади в Китай-Городе поставлено восемнадцать виселиц, посредине площади — костер. Москва в леденящем ужасе. Купцы бросают магазины открытыми и бегут куда глаза глядят. Москва как вымерла. Наконец, появляется на улице процессия — во главе царь Иван с сыном Иваном, за ними толпы бояр, князей, опричников и виднейших первых людей города и всей страны. На площади — ни души. Приказ: собрать народ. Люди согнаны. Царь спрашивает, праведен ли суд его. Из толпы крики: «Праведен. Долой измену!». Первым гибнет князь Вяземский. Молодому Басманову приказано убить отца. Никите Прозоровскому — убить своего брата. После этого молодой Басманов подвергается казни, как отцеубийца, а Прозоровский — как братоубийца. Начинается сумасшедшая оргия убийств. Поливают кипятком и горящей смолой, вешают, ставят на угли, набивают на кол, сам Иван одного прибивает копьем, другого пригвождает жезлом к земле, третьего дубиной. За четыре часа убито двести человек. Отправляются в дома убитых. В доме Тунникова царь сам насилует жену убитого, а наследник — дочь. Скуратова рубят на куски. Мясо — собакам. Жен и дочерей голыми гонят к реке и топят… Так действовал Иван за время всего своего царствования. Тютина, казначея своего, его жену, двух малых сыновей, две красавицы дочери велел порубить в куски. Особенно охотно убивал молящихся в церкви, трупы после этого валялись на улице неубранными. Боярина Мишкова сам убил железным посохом. Митрополиту Филиппу, сидевшему в монастыре, где он был заточен и морим голодом, принесли на тарелке голову племянника его, убитого опричниками. Вислой сошел с ума, когда на его глазах сначала изнасиловали его жену, а потом повесили. Обезглавили князя Оболенского, повесили воеводу Казаринова. Крепостной князя Воротынского наговаривает на него, что он колдун, а Воротынский, взявший Казань, отогнавший хана от стен Москвы, давно уже глубокий старик. Сначала пытают его, а потом зажаривают меж двух костров, царь сам посохом подсовывает угольки. И никто не протестовал. Только князь Курбский, сбежавший из Московии. За это все друзья его были уничтожены, первым князь Горбатый-Шуйский, непосредственный потомок Владимира Святого, с ним сын его, потом казнили целый ряд бояр, а в конце посадили на кол князя Шевырева.
В июле 68 года приказывает царь напасть на дома тех купцов, чьи жёны славились красотой. Всех женщин собрали за городом в палатку, царь выбирает себе самую красивую, а остальных отдает на забаву опричникам. Все лежавшие по близости дома сожжены, мужчины и скот — перебиты. На некоего Федорова донесли, что он хочет убить царя и сам сесть на престол. Его забирают, одевают в царское платье, сажают на трон, надевают на голову корону и дают в руки скипетр. Царь становится перед ним и говорит издевательскую речь, а окончив, кланяется глубоко и пробивает ему сердце ножом. Опричники разрывают его на куски и бросают их собакам. Тоже самое делают с женой его, со всеми родственниками и знакомыми. Князя Щенятьева, удалившегося в монастырь — изжарили, древнего старика князя Пронского утопили. Князь Никита Одоевский осужден на смерть, но казнь его годами откладывается, царю нравятся его муки в ожидании смерти каждую минуту. В 1389 году посылает царь своего двоюродного брата, князя Владимира, в Астрахань. Уже в Костроме принят тот с царскими почестями. Воеводу Костромы корят, князя зовут назад и дают ему, жене его и сыну — яд. «Пей, говорит ему царь, то, что ты мне готовил». Служанок его раздевают догола и казнят. Мать, глубокую старицу, монахиню, топят в реке. Сын царя Ивана, Иван же, был его самым лучшим помощником в кровавых его делах. Они меняются любовницами, одновременно имеют одну и ту же. Сын два раза женился и оба раза прогнал жён в монастырь. Татары подходят к Москве, сын бежит к отцу и просит его дать ему войско для отражения неприятеля. «Бунтовщик!», — орет папаша, бьет его жезлом по голове и тот падает мертвым. А когда брали Казань, далеко отстал царь от армии. Позвали его к войскам. И ответил он: «Бейтесь, братие. А я — молюсь за вас. Оставьте меня выпросить милость у Господа, и вы победите».
Но у татар перенял царь одно важное дело: по образцу кабаков ханских организовал московские… Писал тогда в челобитной Андрей Образцов, что многие у него в кабаке до смерти допиваются.
И о семейной жизни царь Иван думал. В первый раз собрал со всей Москвы тысячу пятьсот девушек, выбрал Анастасию Захарьину-Кошкину, и — отравил ее. В 1561 году женится на черкешенке, по крещению нареченной Мария, дочери князя Темрюка. Не уступала она мужу своему в жестокости, и ее он после двух лет отравил. В третий раз женился на дочери купца Собакина, отравил ее через две недели. Четвертую жену, Анну Колтовскую, сослал в монастырь. Отравил и пятую жену, Анну Васильчикову. Шестую, вдову Василису Мелентьеву, удалил, пала она в немилость за то, что похудела. Седьмая была Мария Долгорукая, оказалась не девушкой, утопил в реке после первой же ночи. Восьмая, дочь Нагого Мария… умерла сама по себе. Искал после нее невесту за морем, да помер… Здорово ему доктор Бомелиус понравился, избрал яд, действовавший по каплям, как часы. Испробовали на параде войскам: умер минута в минуту князь Гвоздев-Костовский. Приурочили к тосту и дали испробовать одному боярину, заговорил тот, поперхнулся и скончался. Третьему, только что женившемуся, дали так, что свалился он мертвым перед концом свадебного пира. Покачал царь Иван головой и велел того доктора Бомелиуса зажарить на вертеле.
Хорунжий замолкает, вытирает лоб ладонью, тянет руку к бутылке, Ювеналий молча дает ему ее, выпивает он еще один глоток, снова так же ладонью вытирает рот и, уставясь глазами в потолок, продолжает…
— Н-дас… Россия, русские люди… Еще Салтыков-Щедрин писал: русский всегда врать готов. Исторически доказано, что еще в старое доброе время нельзя было уверения настоящего русского брать всерьез. Профессор Никитенко говорил, что ложь — это идол нашего общества, что врет оно каждую минуту словом и делом, сознательно и бессознательно, а один путешественник, написавший в 1688 году книжку «Вуаяж де Москови», имя у меня сейчас выскочило из головы, говорит, что с незапамятных времен замечено, как готов русский врать. Поймают его во лжи, не покраснеет он, а только улыбается. Англичанин Ланин говорил, что врут русские еще хуже персов. Сам царь Александр Третий сказал о русских, что они линейные его корабли украли бы, если могли бы куда-нибудь упрятать. И ежели бы могли ему во сне зубы вырвать, вырвали бы. Русские… х-ха! В декабре 1806 года писал откомандированный в Пруссию к генералу Бенигсену полковник Кнезебек о Пруссии, как страдает эта несчастная страна, как она разграблена и опустошена, невозможно вообще описать. Неприятель не мог бы хуже сделать. Русские забирают всё, что под руки попадется, а что им не нужно — уничтожают… Вот оно, христолюбивое воинство, теперь себя у нас, на Дону, показало так, что восстали все поголовно. И вот эти тысячелетние рабы, при Наполеоне грабившие и уничтожавшие имения помещиков, говорили: Наполеон не враг, он от рабства освободит. Мужики ловили дворян и связанными вели к французам. Наполеон в ответ на адрес, преподнесенный ему французским Сенатом 20 декабря 1812 года ответил, что мог он легко одну часть населения России поднять на другую, если бы объявил свободу крепостным. В Витебске пришла к нему 28 июля делегация, предложившая поднять всеобщее восстание, пусть только объявит отмену крепостного права. То же самое под Москвой — четверо пришедших к нему депутатов предложили ему армию в сто тысяч человек и полное ее снабжение, пусть только уничтожение крепостничества объявит. Особенно настаивали на обращении к духовенству, оно тоже только одного его слова ждало, чтобы благословить восставших. Вот, кажется, есть нам с вами о чём подумать.
А в 1905 году посланный царем к Питту Новосильцев предлагал ему заняться тем вопросом: что может иметь Англия против того, что Константинополь не будет больше принадлежать варварам-туркам, а русскому «пепль-цивилизатер». Цари и народ, интеллигенция и высшее общество… Император Павел Первый любовницу свою Нелидову назначает дворцовой дамой императрицы, затем связывается с Лопухиной, а потом спит с кухаркой. Все сыновья его и внуки были эротоманами, дегенератами, сумасшедшими, эпилептиками. Незаконные дети получали фамилии Князевых, Александровых, Львовых… Александр Второй открыто живет с Нарышкиной, а мужа ее назначает обергермейстером: «Я его, говорит, украсил рогами, пусть же живет с оленями!».
По смерти Петра Второго невесту его ссылают в Томск, в монастырь. Всё у нее отбирают, включительно до обручального кольца, с ней в ссылку едет вся ее семья и все родственники, всего шестьдесят человек. Всех их, конечно же, подвергают пыткам. Ивана Долгорукова колесуют, брат его Александр перед колесованием кончает самоубийством, только Василий Долгорукий спасается, и — становится и сам палачом. Елисавета, по требованию нового палача, подписывает приговор о колесовании фельдмаршала Миниха и канцлера Остермана, но на эшафоте сообщают им, что колесованы они не будут, а им только головы отрубят, ставят их на колени, подходит палач и сообщает, что они вообще помилованы. Вот и говорили в России: ближе к царю — ближе к смерти. А как та же Елисавета на престол-то вошла — исключительно при помощи французского посланника маркиза Шетарди, давшего ей на подкуп солдат шестьдесят тысяч дукатов. А когда уселась она на престоле прочно, арестовала она Шетарди и выслала. Особенно помогавший ей при перевороте Герман Лесток был в ноябре 1748 года арестован, мучениями принужден признаться во всех своих «преступлениях», разжалован, отобраны были у него все ордена и должности, чины и имущество, бит он был кнутом и сослан в Углич, откуда вернулся лишь при Петре Третьем.
Грюнштайн, сыгравший немалую роль при восшествии на престол той же Елисаветы, тоже кнутом бит был и тоже сослан, а сама Елисавета, едва успев сесть на престол, тайно венчается со старым своим любовником Алексеем Разумовским, а наследником престола делает сына Карла-Фридриха, Карла Петра Ульриха, и немедленно выписывает его из Германии. Прискакал он в Россию и сразу же в православные перешел, 18 ноября 1714 года… А, кроме престолонаследника, завела она и штат чесальщиц пяток, которыми бывший истопник заведовал, позднее ставший генерал-лейтенантом, Василий Иванович Чулков. Теперь он уже камергер двора, и спит на матраце у ног царицы, независимо от того — одна она в кровати или в обществе.
Случилась у нее беда, в московском дворце погорело добро ее, четыре тысячи платьев, два сундука шелковых чулок и сто штук сукна…
Но пеклись и о народе, чтобы позабавить его, построили знаменитый ледяной дом в январе 1740 года. Обставлен он ледяной же мебелью, с дельфинами, ледяными пушками, ночью иллюминирован. Пушки стреляли ледяными ядрами, на столах лежали ледяные игральные карты и стояла ледяная посуда. В нем женили Голицына на калмычке и после торжества венчания легли они в ледяную кровать… вот-с… Организовавший рабство русское Петр Первый передал дело это наследникам своим, и при Елисавете приняло оно законченную форму. По статистике 1742 года в великорусских губерниях было шесть с половиной миллионов жителей, из них три с половиной миллиона рабов. При Николае Первом двадцать один с половиной миллион крепостных короны и двадцать три миллиона крепостных дворянских… В 1850 году из шестидесяти миллионов жителей России было сорок пять миллионов рабов. Говорили тогда на Руси, что в холопе и рабе виры нетути, за убийство раба не наказывали. Рабы делились на полных и кабальных, временных, за долги. Если помирал господин его, то становился он свободным. В старину раб назывался смердом. Если слуга или служанка биты за проступок, то теряли имя и вместо него получали ругательное. Кто называл их по-старому, получал пятьсот палок. Получивший семь тысяч палок оставался в постели одну неделю. Дворовому платили тогда от пятидесяти копеек до семи рублей в год, три четверти муки, полторы четверти крупы, двенадцать фунтов соли и в три года шубу давали. При Елисавете душа ходила в тридцати рублях, при Александре Первом мальчик шестнадцати лет стоил двести рублей. Бунтовали они, смерды, холопы и рабы. И били их и отправляли в Сибирь. Да, забыл, мужик, годный в солдаты, стоил от пятисот до шестисот рублей, а в наши средние века женщина на базаре стоила тридцать-сорок рублей.
При Николае Первом было в России 556 крестьянских бунтов и восстаний.
А голодала-то Русь наша матушка. После смерти князя Владимира начался голод и длился несколько лет. В Новгороде с 1215-го до 1230-го. Город вымер. При царицах наших в восемнадцатом столетии было тридцать три голодных года. Народ ел собак, кошек, червей, трупы. В 1570 году ели людей и трупы в Москве. При Михаиле Романове в 1615 году умерло в Новгороде от голода пятнадцать тысяч человек. И на нашей памяти целые области, центр России, на Волге и наши северные округа, голодали.
И чума Россию не забывала. Еще Нестор в одиннадцатом столетии писал: змея упала с неба! Черная смерть косила почти постоянно. В 1387 году вымер от чумы Смоленск. Весь пятнадцатый век царила она в России. Решили псковцы от этого избавиться, и убили пятнадцать ведьм, но не помогло. С 1482-го по 1485-й умерло в Пскове и Новгороде двести пятьдесят тысяч человек. В 1506 году — «от живота» вымерло пятнадцать тысяч, а в 1522 году от чумы в Москве и Новгороде вымерла вся округа. Около пятисот тысяч человек. В 1561 году от неизвестной болезни по России вымерло полмиллиона. В 1655 умерло от чумы четыре миллиона восемьсот тысяч. В Москве в 1771 году снова чума. В Астрахани в 1892 году от холеры кончилось четыреста тысяч. В 1831 году эпидемия холеры в Петербурге, народ разбивает госпитали и бьет, калечит докторов. В селе Каменка похоронили вместе с умершими и живых кошек — авось, теперь болезнь прекратится. Принимали и лекарство: из желудка и крыльев сороки порошок, не помогало, начали опахивать зараженное село ночью голыми, кого встретят — убьют. И этот рецепт не помог.
Первый доктор в России появился при Иоанне Третьем — Антон Немец, а потом Феофил Грек.
Первая медицинская книга вышла в 1588 году, рукописно.
Иван Третий — скотоложествовал открыто, и, когда послал в Польшу сватов, хотел на польской царевне жениться, на сватовство его ответил Август Сигизмунд, послав ему кобылу в подвенечном наряде.
Иван Четвертый — педераст. Любимец его — Федор Басманов. Князь Овчина-Оболенский прямо обвинил его в педерастии, и был за это, естественно, замучен.
В 1708 году замучили в Преображенском приказе попа Козловского, утверждавшего, что самолично он видел Петра с сукой его Финеткой в целях интимных. Мальчишку из пекарни Меньшикова полюбил Петр за выдающиеся качества зада. Потом обслуживал его в сиих же делах денщик его Ягужинский. Вот-с. Педерастия, тоже о ней много сказать можно: великий Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, великий князь Сергей, убитый террористами в Москве, все они делом сиим занимались. Даже журнал такой выходил: «Русский эрот не для дам». В 1879 году отпечатан в ста экземплярах. Двадцать одно стихотворение Лермонтова и актера Каратыгина, посвященные педерастии. Лермонтов писал под псевдонимом Диарбекир. Первое стихотворение — «Гошпиталь», второе — «Тизенхаузену», третье — «Ода к нужнику». Вот как жили они. Можно сказать, прогрессистами для своего времени были.
А вот со школами дело вовсе плохо обстояло. При вступлении на престол Александра Второго было в России тысяча сто начальных школ, одна на шестьдесят тысяч жителей. А всего учившихся тринадцать тысяч.
Зато сектантов было хоть пруд пруди. В 1835 году насчитывали полмиллиона, в семидесятом — миллион. При Петре десять миллионов человек не пожелало причащаться. Из Петра имени сделали они кабаллистическое число 666, как позднее у Толстого, тоже об этом числе говорится.
При Александре Втором раскольник Адриан Пушкин объявил, что земля никому принадлежать не должна, она собственность Божья. Усадили его за это на пятнадцать лет в монастырь на Соловки.
Ну-с, из какой еще области вам пару словечек сказать? Да, в «Стоглаве» Ивана Грозного говорится, что женщины и мужчины, монахи и монашки купаются в речках голыми вместе. Олеариус писал, что женщины совершенно бесстыдны, купаются под открытым небом голыми, собираются в группы и пляшут, не стесняясь посторонних. По всей России до восемнадцатого века все купались вместе голыми.
Ах, забыл — в 1817 году в Михайловском дворце, в Петербурге, в квартире капитанской вдовы Татариновой собирались люди всех состояний и устраивали моления, псалмы пели, каялись открыто, даже сам министр просвещения князь Голицын участвовал. А кончалось всё оргиями.
Беглый монах Серафим образовал в Пскове секту: «грех в святости», был идейным предшественником Распутина.
Двадцать шесть лжепророков в разное время болталось по Москве, а Прокоп Лукин учредил секту добровольных евнухов.
Вспомним тут и знаменитого Радищева с его «Путешествием из Петербурга в Москву»:
«Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и разрумяненых девок. Всякого проезжающего стыд сотрясшие наглые девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие… бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условившись о требовании своем с услужливой старушкой, становится во двор… Настала ночь… Баня для него уже готова, путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены, омывают грязь, сие производят, совлекши с себя одежды, возбуждая в нем любострастный огонь…».
Хорунжий замолкает, тянется к бутылке, почему-то оставленной им возле себя на полу, пьет из нее снова и, затыкая замотанной в пробку тряпкой, продолжает говорить, будто сам с собою.
— Я будто бы без особого порядка о всем толкую. Да не в этом дело. Хочу, так сказать, грубыми мазками общую картинку нарисовать… Чтобы общее о всём представление вы, братцы, имели. Да.
Вспомним еще раз знаменитое «Слово и дело». Жило это до Александра Первого. Апогея своего достигло при Павле, а уничтожено было только в тысяча восемьсот первом году.
Да, еще разок о «кровавом воскресеньи». Повел толпу поп Гапон к царю. С иконами, с царя же портретами. Девятого января знаменитого пятого года. Двинулся народ к дворцовой площади, верноподданически царя просить о народном представительстве. Послал царь на них пехоту и конницу, стреляли они в толпу, давили копытами. Только мертвых потом больше двух тысяч насобирали. Вот вам и царь-батюшка, глубоко в Бога верующий.
А коль уж без всякого порядка, вспомним и царя Петра Второго. Охоты псовые страшно он любил. Свита с ним, толпы женщин. Пятьсот экипажей. Огромный обоз с продуктами, поварами, слугами. И вдруг — помирает сестра его Анна. Охоту не прекращают, тело отправляют в Петербург, заранее заказанный бал состоялся, будто ничего и не случилось.
Шведы и турки грозят Украине, послы Испании и Австрии с канцлером Остерманом зовут царя спешно вернуться в столицу. Не едет он, а из леса возле Горенок мчится в Ростов, и всё это продолжается восемь месяцев, ежевечерние оргии, сам царь забавляется с Екатериной Долгорукой, наконец, совершенно обессиленный едет в Москву, и — умирает…
Да, великое тогда дело псовая охота была, не каждому ее иметь разрешалось, закон точно регулировал число собак по чину и званию собственника, а ввели ее еще в начале шестнадцатого века при великом князе Василии Московском. До него считалась собака животным нечистым, и прикасаться к ней церковью православной строжайше воспрещалось. В-вот-с… с-собаки; впрочем, о казаках там не лучше думали.
Шут Анны Педрилло, исполнявший и дипломатические поручения, после взятия испанцами Тосканы писал Гастону Медичи, обещая ему пятнадцать тысяч казаков в обмен на соответствующее количество водки данцигской. Того сорта, от которого в Богемии ее величество изволили быть многажды зело пьяны… та-ак.
Русь-матушка. Паулус Овиус и Терьерштейн оба свидетельствуют о забивании при пытках деревянных гвоздей под ногти. Носы отрезать стали при Александре Невском, в тринадцатом веке, и резали до конца семнадцатого столетия. Вот и бежали с Руси все, кто мог, куда глаза глядят. И, к сожалению, объявили мы, казаки, что с Дону выдачи нет и насобирали у себя всякую сволочь, которая вот теперь вместе с большевиками идет, почитай что, поголовно. Вот и начал Петр беглых собирать, и кончилось всё восстанием Булавина и концом нашей самостоятельности. А для Руси не только уйти из нее преступление было, даже одно желание побывать за границей считалось изменой или бегством. При Иване, в шестнадцатом столетии, за это смерти предавали. И не зря — вон при Годунове, послали восемнадцать детей боярских изучать языки в Лондон, Любек и во Францию. И вернулся из них домой только один…
Хорунжий замолкает только для того, чтобы хватить еще раз из почти опустевшей бутылки.
— Что воззрились, думаете, что, конечно же, против всего того, что я сказал, спорить можно… Да, конечно же, можно, особенно, если вспомним средневековье на Западе, но одно вы, ребята, не забудьте: пришла на Западе взамен всем тем ужасам, которые и там так же, как и у нас творились, эпоха Возрождения, а у нас, от крепостного права, через каких-нибудь только пятьдесят лет, проведенных под надзором жандармерии и охранявшихся полками казаков с плетюганами, сразу из средневековья к Совету солдатских и рабочих депутатов с лозунгом: «Грабь награбленное!». Вот об этом подумайте крепко, тогда и поймете, чёрт меня самого побери, почему вот эти хохлы у нас живут и на нас же ножи точат. А нам — деваться некуда. Нам — нож к горлу приставили, и удастся ли нам оборониться? Бьем мы сейчас толпы красногвардейцев, и уже слышим, что собирает Троцкий русский генеральный штаб и русских офицеров. И поведут на нас дисциплинированные, по царскому образцу выученные войска… А закончить хочу совсем другим, о том, о чём лучшие русские люди мечтали и что из этого получилось. Об Учредительном собрании сказать хочу, «учредилке», как его теперь большевики крестят. Можно сказать, что столетиями об этом думали и говорили передовые головы России. Еще декабристы, первое это упоминание, толковали о Народном собрании или Великом соборе. «Земля и Воля» в 1863 году, в воззвании своем «Свобода», которое Герцен в «Колоколе» перепечатал, писала: торжество народных интересов должно выразиться в созвании народного собрания из выбранных представителей свободного народа. А партия «Народной Воли» в 1879 году в свою программу прямо включила созыв Учредительного собрания. Отец русского марксизма Плеханов писал в журнале «Социал-демократ», что нужно начать агитацию в пользу созыва Земского Собора, долженствующего играть роль Учредительного собрания, то есть положить основы нового общественного порядка в России. В первом проекте программы Российской социал-демократической рабочей партии в 1902 году писал Ленин, что полное, последовательное и прочное осуществление этой программы достижимо лишь путем созыва Учредительного собрания, свободно избранного всем народом… Вот тогда, в январе пятого года, и двинулись рабочие к дворцу с готовой петицией к царю, в то кровавое воскресенье, о котором я вам уже говорил, а в петиции той говорилось: повели немедленно, сейчас же, призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий для выборов в Учредительное собрание при всеобщей, тайной и равной подаче голосов… Как сказал я вам уже, пулями ответил царь. Да все, вся Россия, только об этом собрании и мечтали. Поэтому тридцатого марта семнадцатого года, так сказать, на другой день после переворота, Временное правительство и Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов создали комиссию для выработки закона об Учредительном собрании. Седьмого мая семнадцатого года писал всё тот же Ленин: Временное правительство помещиков и капиталистов оттягивает созыв Учредительного собрания, а в сентябре, в письме к ЦК партии: только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв Учредительного собрания. А за ним и Троцкий — седьмого октября: буржуазные классы, направляющие политику Временного правительства, поставили себе целью сорвать Учредительное собрание. Словом, все новые российские боги были за созыв. И на следующий же день после захвата власти, после Октябрьского переворота, писала «Правда»: «Товарищи! Вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли русской Всероссийского Учредительного собрания». Выборá в это собрание назначили пришедшие, наконец, к власти большевики на двадцать пятое ноября. Но — подсчитали голоса, и, как говорится, прослезились: всего было подано сорок один с лишним миллион голосов… Из них — один миллион двести тысяч социал-демократов-меньшевиков. Партия Народной свободы — без малого два миллиона. Украинские социалистические группы и партии — почти пять миллионов, мусульмане — около двух, два миллиона — иные, мелкие, семнадцать миллионов четыреста тысяч — социал-революционеры, а большевики — всего девять миллионов восемьсот тысяч. Победители в Октябрьском перевороте оказались в страшном меньшинстве на всенародных выборах. Три четверти голосов было подано против них. Что же делать? А очень просто: царь тот стрелял, а они сначала арестовывают членов партии Народной свободы Долгорукова и Кокошкина с Шингаревым, и издают декрет, что эта партия — враги народа. Потом арестовывают социал-революционеров, Авксентьева, Аргунова, Сорокина, Питирима, а в это же время, по приказу Ленина, в Петроград спешно переводятся верные большевикам латышские стрелки. Всё же открытие заседаний Учредительного собрания назначается на пятое января. Газета Горького «Новая жизнь» пишет: Преображенский и Семёновский полки решили присоединиться к эсерам под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию». Два флотских экипажа также… И, как в Кровавое воскресенье, выходит на улицу демонстрация. Ее разгоняют матросы и латыши. На Шлиссельбургском шоссе избивают обуховских рабочих, вышедших тоже демонстрировать за Учредительное собрание. Убита дочь Горбачевского, революционера, внучка декабриста. Убит крестьянский депутат Логинов. А при входе в Таврический дворец, где должны собраться депутаты, их обыскивают, вся же площадь — сплошной военный лагерь. Партии Народной свободы, кадетов, их вообще нет, они враги народа. Наконец, в четыре часа открываются заседания и председателем избирается социалист-революционер Чернов, а секретарем — Вишняк. Чернов пробует говорить, но почти ничего не слышно от свиста и улюлюканья присланных большевиками матросов и солдат. От имени большевиков выступает Бухарин и говорит прямо: у нас воля к диктатуре, с этой кафедры провозглашаем мы смертельную войну буржуазно-парламентарной республике! Как видите, уже большевики, понявшие, что они в меньшинстве, не стесняются. Встает Церетели, только что вернувшийся из ссылки в Сибирь, где он десять лет провел на каторге. Пробует говорить под свист и рёв. Кое-что можно разобрать, например: Учредительное собрание, избранное на основании совершенного по демократизму избирательного права, открывается не в тех условиях, которых добивался рабочий класс… Вся страна охвачена пожаром гражданской войны. Подавлены все демократические свободы, не существует ни неприкосновенности личности, ни жилища, ни свободы собраний, ни союзов, ни даже стачек… Тюрьмы переполнены арестованными, испытанными революционерами и социалистами, даже членами Учредительного собрания… Нет правосудия, все худшие формы произвола и беспредела снова получают права гражданства…
На эти слова Церетели поднимается такой галдеж, вой и рёв, что комиссар Дыбенко приказывает закрыть, прекратить заседание. Так, в четыре часа утра восемнадцатого января восемнадцатого года, кончилось то, о чем мечтали десятки русских революционных поколений. Задушили. И сразу же новые аресты, убийства членов Учредительного собрания Кокошкина и Шингарева…
«Новая жизнь» написала по сему поводу: «Да здравствует Учредительное собрание! — раздалось на улицах Петрограда и Москвы. За этот возглас «народная власть» расстреливала манифестантов. Девятнадцатого января Учредительное собрание умерло, предвещая своей смертью муку для истерзанной страны и народных масс… лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания, в борьбе за эту идею погибли в тюрьмах и ссылках, каторге и на виселице тысячи интеллигентов и десятки тысяч рабочих и крестьян… пролиты реки крови… и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию». Так взвыл теперь творец «Буревестника», личный друг Ленина, певец босяков Максим Горький. И быстро замолчал. Закрыл ему газетку дружок его любезный Ленин. Тоже придушил.
Так покончили большевики с демократией в России. Не одно кровавое воскресенье, а, боюсь, десяток лет кровавых будет, прежде чем их сколупнут… Тут нужно напомнить еще одну вещь: то, что казачество наше на Государственном совещании в Москве, в середине августа прошлого, семнадцатого, года от имени двенадцати казачьих войск послало свою делегацию, в которой от Дона были Л.Попов, М.Генералов, Н.Мельников, А.М.Каледин. Каледин прочел это от имени всех казаков, что Казачество, не знавшее крепостного права, искони свободное и независимое, пользовавшееся и раньше широким самоуправлением, всегда осуществлявшее в своей среде равенство и братство, не опьянело от свободы. Получив ее, вновь вернув то, что было отнято царями, крепкое здравым смыслом своим, проникнутое здоровым государственным началом, спокойно, с достоинством, приняло свободу и сразу воплотило ее в жизнь, создав в первые же дни революции демократически избранные войсковые правительства, сочетав свободу с порядком. Вот как сказали наши. И еще: Казачество с гордостью заявляет, что полки его не знали дезертирства… Внимательно слушали Каледина все, а особенно большевики, сразу же понявшие, с кем они в лице казаков дело иметь будут. И взяли Каледина как первого на заметку. Вот тогда они всё обдумали, и уже 29 августа пошла гулять по Руси провокационная телеграмма о его присоединении к Корнилову и об угрозе прервать сообщение Москвы с Югом. Поняли товарищи, что единственным их организованным врагом, врагом идейным, имеющим, за что постоять, являются казаки. Недаром вопит теперь Троцкий: Южный фронт — казацкий фронт. Дон — очаг контрреволюции. На Дону восстание вспыхивает за восстанием. На Дону разрешается не только судьба всего казачества, но и всей революции.
Дело идет не о Доне, а о всей революции. Пора нанести удар самому заклятому врагу…
Снова быстро, будто боясь, что отнимут у него бутылку, пьет хорунжий еще один глоток, прислонившись к стенке, глядя в потолок, продолжает:
— Вот и идут они, вся Россия, тысячу лет проституировавшаяся царями, и теперь, после расстрела большевиками ее демократии, послушно топающая с винтовками на нас. И кто ведет — господа царские офицеры и царский генеральный штаб. Почти поголовно. И ведут на царский манер организованную красную гвардию, а как ведет она себя у нас, сами вы своими глазами видали. И напомнило их поведение мне времена атамана Булавина, когда, как писали казаки тогда: «А нашу братью, казаков многих, пытали и кнутом били, и носы, губы резали напрасно, и жён, и девиц в постели брали насильно, и чинили над ними всякое надругательство, а детей наших, младенцев, по деревьям за ноги вешали!».
Хорунжий вдруг вскакивает и смотрит на слушающих его, замерших в молчании его подчиненных.
— Вот она, Русь-матушка неизменная. Свершилась мечта ее крайних революционеров, исполнилось то, что они так восторженно цитировали:
Народ мы русский позабавим, И у позорного столба, Кишкой последняго попа Царя последняго задавим.Пошли мы, Миловановы, за нее, за Русь святую, в четырнадцатом году, трех сыновей собрал отец мой на службу и помню, как тяжело вздыхал дед мой и жаловался: коней внукам добрых покупать надо, придется скотинку с базу гнать и лучших быков наших, Козыря, Калину, Ермака и Сокола, продавать… Всё мы казаки отдали, десятки тысяч голов положили, и вот прут они теперь на нас только потому, что хотим мы жить по старому нашему казачьему обычаю. Уничтожить нас хотят, смести с лица земли. Вот он, народ русский, о котором русский же писатель Бунин писал: глубоко он скверный, грубый, а главное — лживый дикарь. А Россия? Писал о ней поэт-славянофил:
В суде черна неправдой чёрной И игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи тлетворной И лени мертвой и позорной, И всякой мерзости полна!А что другой русский поэт писал, отправляясь на Кавказ:
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты — послушный им народ!А Пушкин? В письме князю Вяземскому в июне 1826 года писал: «Я, конечно, презираю отечество мое. Услышишь — он удрал и никогда в проклятую Русь не вернется».
А что Толстой в своем «Хаджи Мурате» писал? Слушайте: «Чувство, которое испытывали чеченцы, все, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребить их, как желание истребить крыс, ядовитых пауков, волков было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». И тот же Толстой устами казака Ерошки говорит: «— А то раз, сидел на воде, смотрю рыбка сверху плывет. То-то мысли пришли — чья такая рыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой чёрт, взял за ножки да об угол. Разве не делают такого? Эх, души нет в людях…».
И тот же Толстой в письме настрочил А.Толстой: «Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни…».
Хорунжий вытирает выступивший на лбу пот, быстро делает глоток из бутылки, ставит ее на пол, качнувшись, держится за стенку и почти кричит:
— На конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1867 году сказал русский Бакунин: я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи, этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и нерусских, ее нынешних рабов!
Х-ха! Еще, в последний раз, царя Ивана Грозного вспомню: устав от убийств, заявляет он, что уйдет в монастырь. Его упрашивают, плача, в отчаянии, только бы он и дальше оставался. Остается Иван. И дальше бьет, мучает, пытает, сжигает и колесует. Наконец, умирает. В глубочайшем трауре плачет в церквах народ, молясь за «грозного царя» и за спасение его души. В народных песнях жестокости Ивана народ опевает как государственную необходимость — он уничтожает «измену»… Вот, умерли царские иваны, пришли иваны социалистические, и прет народ русский на девственные степи наши…
Милованов закрывает глаза, голова его падает на грудь, да что он, уснул, что ли?
Ювеналий бормочет:
— Ну это он того, пересолил. Нельзя медаль только с одной стороны глядеть…
Семён вспыхивает:
— А что, скажешь, не прав он? Тут, по его мысли, вся закваска в том, что сидевший веками в рабстве народ никогда сам себе ничего приличного придумать не сможет, а из одной формы холуйства в другую влипнет. Вот что он сказать хочет.
Милованов вдруг снова поднимает голову и раскрывает красные от бессонницы и алкоголя глаза.
— Н-дас! Вот теперь у них и получается. Бога они того, скассировали. Ученые их, видите ли, говорят: набегала на берег моря волна, набегала, сотни миллионов лет работала, да и появилась первая, этакая примитивная, амеба, что ли. Стала она развиваться, расти и прошли еще миллионы лет и выросли из нее и ихтиозавры, и бронтозавры, и обезьяны, и, наконец, хомо сапиенс из пещерного человека вылупился. Просто всё и понятно. А главное — без Бога. А скажите вы мне — слыхали ли вы украинскую побаску о попе? Вышел он на амвон проповедовать и говорит:
— Сначала, хлопцы, ничого нэ було, а стояв одын плытэнь.
А один из прихожан из задних рядов и спрашивает:
— А скажить вы нам, пан-отэць, а в вищо ж колья вбывалы?
И тем положил попа своего тот хохол на обе лопатки. Так вот и у безбожников, о кольях они и не подумали. А во что их, колья эти, вбивали, сами вы гляньте, высуньтесь в окно, посмотрите на небо звездное, и поймите, что какой-то Великий Механик всё это устроил. Техникой увлекшийся Гений. Но, между прочим, и нас, и душу нашу живую выдумавший. Вот Он то и руководит всем. Он, для которого земля наша в мире Его только песчинка малая… Вот и спорить нам никак не следует, а этакое соревнование между господами учеными и верующими на демократических началах устроить. Пусть докажут они нам, кто прав, а мы послушаем, одно зная, что ничего в мире нет, чтобы начала не имело, а его кто-то положить должен был. И без злобы и ненависти, без уничтожения друг дружки, без подленького вопросика: «Како веруюши?», а в добром, в искреннем желании найти ответ правильный. А как они, теперешние пришельцы, начали? Церкви наши поганить стали, иконы жечь, алтари осквернять: «Крой, Ванька, Бога нет!», — кричать. Вот и поднялись мы за Дон чистый, светлый, верующий. За степи… А они, в какое время года ни возьми — сказка одна. Зимой вон, у нас с правого берега глянешь, легла она, полоса по степи скованного льдом Дона и чернеют на стрежне незамерзшие полыньи и вьется над ними холодный парок. И стеной стал на другом боку безлистый лес, и вьются над ним грачи и вороны, и чернеют на берегу Дона челны и баркасы, вытащенные из реки при первых заморозках. Придавил морозец крепко, пролегла еще не совсем укатанная дорожка в снегу и бегут по ней санки, и свистит в ушах ветер от ходкого бега коней. Стройными рядами в центре, гурьбой разбежавшись по проулкам, стали по хуторам и станицам высокие рубленые, круглые курени с балясами и крыльцами, с узорчатыми украшениями на окнах. Высоко в небо взмыли кресты колоколен, радуют взор вывески на площади: «Потребительная лавка»… «Кредитное товарищество»… «Камера станичного суда»… «Приходское училище»… «Области Войска Донского Усть-Медведицкое станичное правление»… лавки… магазины… дома взьезжие… И стоит она, знаменитая наша Пирамида, спускается одной стороной своей к высокому меловому обрыву, туда, где заворачивает Дон и с трех сторон огибает станицу. Пирамида — гора, на чьём склоне и стоит станица наша. А там, на юге, с самого верха Пирамиды, пошли, побежали к Дону балки-овраги, и куда с нее ни глянь, страсть как далеко видно. В старое время была она лесом заросшая, и скрывались в том лесу бежавшие из Московии бедняки. А на речке Вороне построили казаки монастыри, мужские и женские, для одиноких казаков и казачек, стариков и старух. Вот отсюда и начиналось в те времена Дикое Поле. Устье речки Хопра было конечным пунктом казачьего расселения, а по самому Хопру шел тракт с Дона на Москву. Да, монастыри наши, прибежище старых израненных бойцов и вдов-казачек. Вон и знаменитые наши сидельцы Азовские, развалины города оставив, пошли и поставили монастырь, а атамана своего игуменом избрали. Лишь после Петра Первого началось заселение левого берега Дона. И не так казаками, как бежавшим из Московии людом. Занимала тут земли и войсковая старшина наша, получавшая за заслуги огромные участки, и селила на них приведённых из России мужиков. Вон, атамана Денисова возьмите, умирая, оставил он наследникам своим тысячу семьсот душ такого народца. А бежавшие из Московии от рабства и религиозных преследований селились по Медведице и Иловле, оседали в лесах и балках, строили сами и монастыри, и скиты. Со страшной жестокостью преследовала Москва раскольников, и спасались они у нас, находя и приют, и привет. Тогда же возле Бахмута открыли казаки копи соляные и сбежался на них из Москвы работный люд. Чтобы вернуть их назад, послал тогда царь Петр войско под начальством князя Долгорукова, и стал за казачье добро и право атаман Булавин, забрал Черкасск в свои руки и решил царю не покоряться. Но — победил Петр, сжег и разрушил сорок четыре казачьих городка, до тридцати тысяч казаков перебил и пустил вниз по Дону несчетные плоты с повешенными на них казаками. С уцелевшими семью тысячами ушел тогда сначала на Кубань, а потом в Турцию, атаман Некрасов и живут потомки их и по сей день в Турции. Давно прошли те времена. Стал Дон после атамана Булавина из самостоятельного государства московской провинцией, постепенно заселился округ казаками, и зазеленели поля наши пшеницей и рожью, и выросли сады, и построились по речкам запольным бессчетные хутора и станицы. На месте старого скита возле Усть-Медведицы основали казаки Преображенский монастырь, а по верху Пирамиды разрослись степные травы и покрыли ее цветами, как скатертью самобранной. Но недолго простоял и этот монастырь. Узнала Москва, что скрываются там раскольники, и послала против них войско. И созвал игумен братию свою на молитву и стали они просить Бога защитить, закрыть их от войск вражеских. И было им по молитве их: двинулась часть горы, оторвавшись от Пирамиды, и покрыла собой монастырь, не позволив пришельцам осквернить святыни его, и поныне живет в нашем казачьем народе легенда, что снова появится из-под земли, как только воссияет на Дону правильная вера и станет он снова самостоятельным… И вот, снова двинулись на Дон наш полки московские и встретил их изменник войсковой старшина Миронов. Скрылись защитники станицы по балкам и, организовавшись, напали ночью на занявший станицу батальон красной пехоты. И уничтожили его. Удрал Миронов, сосчитали казаки свои потери, и оказалось у нас шестнадцать человек убитых казачат-партизан. И схоронили мы их на вершине Пирамиды и поставили там высокий крест, и видать его далеко-далеко. Стоит он там, и сам Бог знает, сколько еще придется схоронить нам казачат наших, защитников вольного Дона, степи нашей привольной. Степи, над которой величественно и спокойно, плавно парит орел, взмывают ввысь кобчики, носятся ласточки и зовет перепел подружку свою: «Пить пойдем, пить пойдем, пить пойдем…». И гуркают в зарослях верб дикие голуби и ругаются: «Витютень, дура, просыпал табак». И поёт, стоя высоко в воздухе, жаворонок, и жужжат пчелы и стрекозы, проносятся и бегают, сгорбившись, перепелки и вальдшнепы. И пахнет тут мятой и медом, сухой травой и тысячью иных запахов, идущих от трав и цветов степных. И всходит над степью солнце и приветствует его в радости всё цветущее и поющее на ней. А вон они — стеной стали хлеба наши, колышутся на ветру и пшеница, и рожь, и идут по ним от ветра волны, и перебегают на степной ковыль, и уходят туда, к горизонту, к морям теплым, к древнему Старочеркасску и Азову, славному городу. Кличет тут стрепет жёнку свою, свистит суслик, крутит головой пучеглазая сова, важно расхаживают дудаки. Широко и привольно раскинулась степь наша, дошла до Кавказских гор, до Черного моря, до Урала-реки и остановилась перед болотами Московии. И кто только тут не побывал: скифы и бродники, печенеги и готы, гунны и хозары, половцы и татары! И приходили сюда греки и византийцы, арабы и индусы, хивинцы и персы, и скакали храбрые амазонки. И все ушли, и остались только мы — казаки, еще в 850 году, в Гремячем Ключе, принявшие веру православную от Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
И вот снова двинулась на нас Москва, пошли полки ее со всех сторон и, что творят они, вы и сами знаете. Вон, хутор Проносный возьмите: стоял на месте его казачий городок, да пришел с войском, по указу царя Петра, князь Долгоруков и велел тот городок спалить. И, как говорили тогда у нас на Дону: пронесло городок огнём… На месте сожженного городка отстроился хутор Проносный станицы Зотовской.
Пришли москвичи красные, и снова его огнем пронесло, нет его, сожгли его россияне.
А станицу Аржановскую со всех четырех сторон подожгли. В полночь, когда спали все. Начал из горящих куреней народ выскакивать, а красные их из винтовок, как куропаток, стрелять стали. После этого фейерверка российского только одна треть куреней в станице осталась.
Подожгли красные и станицу Зотовскую, да дождь проливной огонь погасил. Только, разве, одна пятая куреней погорела. Осталось Высшее начальное училище целым, да велел комиссар Кабаков, бывший царский офицер, сжечь его, как «казачье гнездо».
В Федосеевской подожгли большевики приходское училище, от того огня и сама станица занялась. А в это время выгоняли казаков за станицу и расстреливали в степи.
В Аржановской — в лесу «Затон», а в Зотовской — на горе, у ветряка Порватого.
На хуторе Этап пытались два красногвардейца казачку изнасиловать, на крик ее прибежал семилетний сынишка и ударил одного из красных рогачом по голове. Тут его оба они штыками и прикончили.
На хуторе Выдяновский Подок выскочил на улицу казачонок, в шароварах с лампасами и фуражке казачьей, схватили его храбрые русичи и тут же, на месте, расстреляли…
Вот как начал Дон наш получать свою порцию российского социализма… вот как… да! И, если начну я вам теперь всё считать, что красные у нас в округе сделали, и двух дней на то времени не хватит… вот.
И восстали мы, и пошли с голыми руками… и бьёмся, и — легла в могилу и Галя моя. Всё я теперь сделаю, чтобы заплатить им по счету сполна, всё сделаю…
Милованов вдруг встает, ни на кого не глядя, идет к двери и замирают тяжелые шаги его внизу лестницы.
Поднимается и Семён. Валерий останавливает его взглядом.
— Ты далеко?
— На коней глянуть.
— Правильно. Только вот одно: командирские слова подытожить нам надо.
Юшка приводит растопыренными пальцами по свалявшейся, как у Буяна, шевелюре.
— И подытаживать нечего. Картина ясная. Пойдем за ним и в огонь, и в воду. Только глядеть да глядеть, больно уж рискует много. Так ведь и зазря убить его могут.
Семён направляется к двери, берется за ручку и оборачивается:
— Тут, брат, гляди не гляди, сделать многого не можем. Человек он, в отчаяние пришедший, с такими тяжело. А вот насчет того, что сказал ты, Юшка, об одной стороне медали, отвечу я тебе: у меня, в Камышине, знаете вы его, преподаватель русского языка Иван Прокофьевич был. Красный. Честнейший, порядочнейший, добрейший, искренний передовик, но революции боявшийся, принадлежавший к сотням тысяч тех российских мечтателей, которых теперь Ленин так ловко перемудрил. И тут для нас не только в России дело, Россия эта, как вот теперь я удумал, в руках новейшего Архимеда-Ленина, и есть в его руках та точка опоры, на которой он весь мир перевернуть хочет. Вот чего я, урядник Войска Донского, боюсь… правда, не так много я знаю, как Милованов наш, но запомнил я случайно то, что Достоевский говорил: «Эти бесы, эти язвы, миазмы, все нечистоты, накопившиеся в нашем большом… в нашей России… и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем. И туда нам и дорога». Да, так Достоевский думал, о Ленине и не подозревая. А тот бесов этих теперь в целях мировой революции использует. И что станется, если выплывут бесы эти под его руководительством и после того, как на них, на своей точке опоры, повернет он весь мир по-своему? Что тогда? Уж не то ли, что еще Чехов сказал: «Под флагом науки, искусства и угнетенного свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы, такие крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции»…
Это вам одна сторона вопросика. А вот и еще одна, о ней крепко подумать надо. Хомяков еще об этом писал, говоря о древнем Риме, а я это к нашему казачьему положению в России применяю: преступление Христианства, по римским понятиям, заключалось не в том, что оно отрицало божество Юпитера или Минервы, а в том, что отрицало верховную божественность государства, поставляющего богов… Вот тут у нас, казаков, и главная заковыка получается. Нашим восстанием мы божественность верховной власти Москвы, вместе с богами ее, отрицаем. И в этом наше перед Москвой преступление. Это же наши Пугачев, Разин, Булавин делали, против священного Третьего Рима поднимаясь. И расправилась с ними Россия царская. Вот теперь и поперла против нас Россия красная, социалистическая, точка опоры мировой революции, чтобы на старых основаниях московской святости задушить нас. Обязательно задушить еще и потому, что новый бог их, Маркс, мнения был определенного о всех таких, как мы, желающих жить по-своему. Что он говорил: «Я двадцать пять лет боролся с Россией и, несмотря на это, русские всегда носились со мною и лелеяли меня». Да, лелеяли, потому что в глубине душ ихних отвечал он русским полностью. Вот что он дальше говорил: «Все эти маленькие «осколки» — баски, бретонцы, кельты, хорваты, словенцы, словаки фатально тяготеют к прошлому. И становятся препятствием для революции; им не по дороге с историей, она против них, они подлежат ассимиляции или — уничтожению!».
Надеюсь, поняли вы два основания, на которых Москва против нас действует. Ясно мне теперь всё. И понимаю я командира нашего полностью, и пойду за ним до последнего патрона уже по одному тому, что знаю: если жабы эти, крокодилы чеховские, то есть, Москва эта, победят, то сотрут они нас, казаков, с лица земли безжалостно и беспощадно во имя выдуманной преступной теории безродного Маркса, собиравшегося в жизни людской действовать так, как делают при плановом хозяйстве: сеем тут клевер, и крышка! Всё остальное, что на поле росло, подлежит уничтожению! Совершенно не считаясь с тем, что со дня создания земли жили и живут на ней народы разные, одинаковое право на жизнь имеющие…
На лицах друзей своих видит Семён удивление. Удивлены они, что никогда еще так не говорил он, а только всех слушал. И не только удивление, но и полное с ним согласие. Быстро выходит он на лестницу и, притворяя за собой дверь, слышит голос того же Юшки:
— Ишь ты какой из него профессор кислых щей и составитель ваксы получился. А здорово. С подкладкой!
* * *
А что же мне вам рассказывать, думаю, и сами вы всё знаете. Ну да ладно, зайду только с самого начала, чтобы яснее все было…
Семён наклоняется, захватывает целый сноп сухого хвороста, бросает его в огонь и, заслонив глаза от посыпавшихся искр, протирает их и всматривается в глядящих на него в упор слушателей. Расселись они вокруг костра, только передних хорошо видно, остальные тонут в быстро наступивших сумерках, в тени высоких верб не каждого разглядеть за спинами сидящих впереди.
Двадцать шесть человек мироновцев, позавчера взятых в бою в плен, велел ему, теперь уже сотник, Милованов препроводить в станицу Усть-Медведицкую. Дал ему в помощь Ювеналия и Виталия, назначил его, теперь уже урядника, старшим и распрощался с ними, выйдя далеко за хутор, на выгоне, много не говоря, а пожав каждому крепко руку, исчез за ветряками. И пошли они, минуя хутора и станицы, по степи, и лишь в походе увидал Семён меж ними и двух своих разуваевцев: соседа по парте Петьку и Мишку Ковалева.
Жаркая схватка была у них позавчера с мироновцами. Наседали те крепко, целым полком, да осадила их пулеметная команда и озадачил глубокий обход генерала Голубинцева. Смешались мироновцы, разбежались, растерялись по степи и по балкам, многие ушли, многие, плотно прижавшись к родной земле своей, захлебнулись от крови, пробитые братскими казачьими пулями, тут же навеки поснули. Добрую сотню старых служивых, взятых теперь в плен, сразу же забрали победители в свои ряды, а вот эту молодежь, согласно приказа Войскового Атамана, велел сотник Милованов препроводить в Усть-Медведицу, а оттуда в Молодую армию, которую формирует теперь генерал Краснов. Вот и повели их теперь Семён с дружками своими. Уж перед самым вечером, выскочив откуда-то из балки, присоединились к ним трое, по виду тоже старых служивых казака, в винцерадах, с глубоко на лоб надвинутыми папахами, на добрых конях и при полном вооружении. Расспросили они Семёна, далеко ль он путь держит, сказали, что и им туда же по дороге, и вот остановились все они на берегу какой-то речушки, выбрали местечко для ночевки, сообща натаскали веток и насобирали сухого навоза, разложили костер, закусили тем, что выдали им при их уходе, и, когда высыпали на небе звезды, вот тогда и спросил Семёна Миша Ковалев о том, как это у них всё на Дону получилось.
Иные сидели, иные прилегли на разостланных шинелях, три старых казака, от которых так и ничего и не узнали, кто они, откуда и почему, тоже в округ путь держат, выбрали себе места совсем позади плотно в кучу сбившихся казачат. Тихо, совсем тихо стало. Только плескалась рыба в речке да чавкали сомы в камышах. И далеко на севере, будто, сверкало что-то на небе, не то зарницы, не то, кто же его знает, вспышки от артиллерии. Только слышно бы тогда урчание было…
Трещат ветки в огне, сыпятся искры, высоко, в самое небо, тянется легкий дымок. Хоть и приморились все здорово, да столько им друг дружке сказать надо, что не до сна им. Тут надо — как Миша Ковалев сказал, чистую картинку заиметь.
— Постараюсь я вам чистую эту картинку нарисовать, — Семён переводит дух, — а потом поговорим. Когда в феврале прошлого года объявилась у нас революция, то сразу же бывшего Наказного Атамана графа Граббе сместили и избран был временно вольными голосами Атаманом войсковой старшина Волошинов. Временное правительство в Петрограде было Доном признано, послали мы в него своих представителей, и в Петрограде же, Общеказачий съезд созвали, на который в марте семнадцатого года съехались шестьсот человек, избранных казаками всех войск депутатов, из них две трети — фронтовики наши. Съезд этот постановил: Россия — республика. Казачьи войска — автонономны…
Миша приподнимается на локте:
— А што ето такое — автономны?
— А сами по себе, каждый у себя в своем курене управляется по-своему.
— Ага! Правильно, ну, дале!
— Да, автономия полная, полная неприкосновенность казачьих земель, то есть, только мы, казаки, сами ими распоряжаться будем, и только мы им хозяева. Это там, в Петербурге, все наши войска, двенадцать, так сказали. А на Дону у нас заявили, что поддержка от нас полная Временному правительству, что Россия должна быть демократическая республика…
Какой-то незнакомый молодой казачок поднимает руку, спросить хочет что-то. Семён кивает ему головой:
— Что тебе не ясно?
— Это, што же, демократическая, без царя, што ли?
— Ну да, без царя, с президентом выборным, все выборные, как у нас на Дону…
Спрашивавший мнется:
— Так-так. Как говорится — без царя во главе и без голове! Одно дело у нас, на Дону, мы спокон веков выбирали, а у них… Иде им, михрюткам, без царя, пропадуть ни зазря!
— А ты погоди, дальше слушай, кроме всего, порешили наши, что все имеют право на национальное самоопределение, то есть каждый народ по-своему жить может, так, как он захочет, поняли? О земле постановили наши, что гуртовая, это та, что каждый год меж казаками делится, и войсковая земля, всё это казакам принадлежит, а крестьянам отдать надельную, ту, что они теперь получат, и ту, что они сами себе приобрели, навечно. В самоуправлении нашем, то есть сказать, на сходах хуторских и станишных, должны они участвовать пропорционально, то есть сказать, по числу их в станице, и столько представителей на сходах. Земство должно на Дону быть полностью, а Россия должна казакам возместить все расходы по войне. Атамана своего казаки и Правительство избирают сами, вольными голосами, и выборщики все от двадцати лет и выше, обоего пола. Атаману в помощь избирается Войсковой Совет — Правительство наше. В мае месяце прошлого года собрался на Дону Крестьянский съезд, которым заправляли понабежавшие на Дон после революции социалисты-революционеры…
И снова голос того же молодого:
— Энто те, што без Бога, што ля?
— Ну, как сказать, вопрос религии у них…
— А ты не мнись, знаем мы хорошо сициалистов, на шкуре нашей спробовали. Ну, дале, дале говори.
— Да, так вот, этот Крестьянский съезд потребовал, чтобы никаких там ни гуртовых, ни войсковых земель не было, а всё в одну кучу и поделить. Вот тут и завязался у нас с нашими иногородними первый узелок. Первый Войсковой Круг, собравшийся двадцать шестого мая, создал Примирительную камеру для споров меж казаками и крестьянами, и выбрал атаманом генерала Каледина, героя Луцкого прорыва…
— А это ишо што за прорыв?
Один из казаков, тот самый ухватистый, выходит из темноты и становится позади Семёна:
— Суды вы послухайтя. Каледин-гинярал, сын он войскового старшины, участника Севастопольской обороны, вышел на войну начальником Двенадцатой кавалерийской дивизии. Ранетый тяжело был. Командовал Двенадцатым армейским корпусом и потом Восьмой армией. Имел Георгиевское оружие и хрясты четвертой и третьей степени. В феврале шешнадцатого года полезли немцы на французский город Верден, а австрийцы на итальянцев у Трентино насели. Вот тут, штоб союзничкам нашим помочь, и вдарил Каледин со своей Восьмой армией возле Луцка, вдарил, фронт пробил и пошел шшаплять. Разгромил австрийскую Четвертую армию, боле пятидесяти тыщ австрийцев и немцев в плен взял и дале попер. Должны были немцы с французского фронта тридцать шесть дивизий снять и против Каледина кинуть, а к ним ишо восемь австрийских и семь турецких. Верден французский тем мы спасли и итальянцы из бяды выкрутились. Вот он хто был, Каледин наш… Боявой гинярал, за ето яво мы, фронтовики, и атаманом выбрали. Ну, а таперь ты, Семён, дале говори.
Семён откашливается и подбрасывает в огонь сучьев:
— Значит, выбрали у нас Каледина. Начали мы на Дону порядок строить, и началось по России такое, что хоть святых выноси. И выступил на московском совещании наш атаман в августе семнадцатого года и сказал там, по полномочию всех двенадцати казачьих войск, что в армии надо запретить митинги, упразднить Советы и комитеты, декларацию прав солдата дополнить их обязанностями, дисциплину укрепить, власть должна быть твердой. Тут и взвыли все красные и пришили Каледину кличку контрреволюционера. А тут, поди, помните вы и сами — было в июле в Петрограде большевистское восстание и подавили его два наших полка и одна батарея. Это всех против нас, казаков, по России подняло. И поэтому, когда в августе собрался на Дону Малый Круг и объединились наши для выборов в Учредительное собрание с русской партией Народной свободы, то многие из наших полков на фронте закричали, что Правительство наше за помещиков стоит. Это после того, как Круг наш уничтожил на Дону дворянство и помещичьи земли отдал крестьянам!
Да, взвыли наши уже здорово распропагандированные полки, что Каледин контрреволюционер, а тут генерал Корнилов выступил, и набрехали большевики, что Каледин хочет Юг России отрезать. И вдарили против Дона свой красный сполох. Собрался в сентябре Второй Войсковой Круг, рассмотрел требование о выдаче Каледина в Москву, заявил, что с Дону выдачи нет, и предложил товарищу Керенскому прислать в Черкасск следственную комиссию. Этот же Круг и дело Голубова разобрал, заступился на Круге за Голубова Каледин, и отпустили с Круга Голубова с миром, дал он офицерское слово, что не будет идти больше с красными, и, как только выпустили его с гауптвахты, так он прямиком и махнул к Подтелкову. На этом же Круге был расторгнут договор с партией Народной свободы, и списки кандидатов в Учредительное собрание поручили составить Донскому правительству. Предложил было Петроградский Комитет Совета крестьянских и рабочих депутатов прислать одного представителя на устраиваемое им «демократическое совещание», да отказал наш Круг, ответив им, что казаки поддерживают Временное правительство, это раз, а, во-вторых, предоставление Войску только одного голоса не соответствует его удельному весу. Тут и вовсе большевики на нас ощетинились. Опять мы контрреволюционерами оказались. Временное же правительство решило послать два наших полка и одну батарею в Хиву для наведения там порядка, а наши послали депутацию, которая должна была протестовать против этого и вообще против несения казаками полицейской службы и ловли русских дезертиров. А пока суд да дело — в Петрограде большевистский переворот произошел, Октябрьская революция. И захватили власть большевики, главным образом солдат на лозунг мира подманувши. Вот здесь у Каледина нашего большая неустойка получилась: был он большим русским патриотом и считал, что с немцами до победы драться надо. Поэтому и не согласился забрать с фронта казачьи полки, хотя весь Дон этого требовал. А тут на Дон бывшие царские генералы сбегаться начали, армию Добровольческую формировать, Каледин с Корниловым и Алексеевым триумвират антибольшевистский заключили. Вот и крикнули большевики в миллионные массы: «Ребята, вас опять на капиталистическую бойню послать хотят, на братскую кровавую драку, а кто — помещики и генералы. Гвозди их всех до последнего!». Вот многие наши полки на фронте и не только заколебались, а прямо к большевикам пошли, за Донскую республику, Лениным объявленную. Против Каледина контрреволюционера. Собрался в Новочеркасске Круг на третью сессию, а матросы Черноморского флота прислали Каледину телеграмму и потребовали ухода казаков из Ростова. Из центра пошла на Дон карательная экспедиция в конце ноября, и отдал советский главковерх Крыленко приказ, в котором значилось, что с казаками надо бороться ожесточенней, чем с немцами, врагом внешним. В Ростове большевистский переворот произошел, советскую власть там учредили матросы и рабочие, а стоявший в Новочеркасске 272-й Запасной пехотный полк объявил, что он Донского правительства не признаёт. Ну, наши юнкера, с полторы сотни их было, разоружили тех шестнадцать тысяч солдат, что в Запасном полку числились, а Каледин, всё боявшийся пролития братской крови, Ростов взял, вместе с немцами. Начал Чернецов отряды свои партизанские формировать, и на заседаниях Третьего Войскового Круга принято было постановление о принятии полной власти на Дону. Создали тут Правительство паритетное, по-нашему сказать, на равных началах: семь министров от казаков и семь от иногородних. Атамана Каледина снова 562 голосами переизбрали, помощником его Митрофана Богаевского. Послали делегацию в идущий на Дон Семнадцатый пехотный полк, карательную экспедицию московскую, для переговоров, а в это же время состоялся на Дону съезд иногороднего населения, крестьян и рабочих. На съезде этом Каледин выступил, сказал, что крестьянам передано три миллиона десятин земли, что теперь сами они сидят в Правительстве. Жестоко критиковали крестьяне паритет этот, но всё же закончилось дело мирно: съезд выработал наказ своим представителям в Правительстве и более или менее мирно разъехался. А в это время в станице Каменской образовали казачьи фронтовики Военно-революционный комитет и во главе его стал председатель Донской красной республики, наш казак, вахмистр Подтелков, артиллерист. А у нас, в Усть-Медведицком округе, стал Миронов советскую власть насаждать. И расползлись по станицам большевистские банды, а как они себя вели, знаете сами: до того довели, что поднялись казаки, и как один, на восстание. Начали, было, из Черкасска переговоры с Подтелковым, а тот, от имени своего Революционного комитета, в котором были представители от 11 наших конных полков, двух сотен и пяти батарей, единственных не разошедшихся по домам, потребовал передать ему всю власть в Войске, Круг объявить неправомочным и распустить. И попались нашим в руки документы, из которых явствовало, что подчиняется Подтелков большевистскому правительству в Петрограде полностью и еще вдобавок от большевиков денег два-три миллиона просит на войну с Калединым.
Донское правительство, всё это узнав, созвало на четвертое февраля новый Круг, а все остальные наши полки либо нейтралитет держали, либо по домам расходились, Атамана не слушая. Вот тут и дошло у нас до высшей точки: Чернецов погиб в бою, атаман Каледин, видя, что у него нет и сотни казаков, застрелился, союзничек его Корнилов в последний момент ушел из Ростова на Кубань. В полном развале собрался двенадцатого февраля Малый Войсковой Круг, Атаманом генерала Назарова избрал, объявил мобилизацию, обратился к казакам с воззванием, ввел смертную казнь за непослушание, объявил осадное положение, отменил смертную казнь, отменил осадное положение, полное у него затмение получилось.
И послали опять делегацию, теперь уже в Ростов и в Александро-Грушевск, к тамошним советским главковерхам. И получили ответ: казачество должно быть уничтожено. А дальше быстро всё покатилось: Походный Атаман генерал Попов ушел в Сальские степи, выбранного Кругом Атамана Назарова, не ушедшего из Черкасска, захватили большевики и расстреляли. Но сразу же меж красными казаками и матросами и рабочими раздоры в Черкасске начались. Захватили там красные из пришедшей из Ростова карательной экспедиции Митрофана Богаевского и расстреляли. Хотели арестовать Голубова, да драпанул он, и застрелил его один студент на сборе станишном, на котором хотел он перед казаками оправдаться в том, что помог большевикам Черкасск занять.
Начали новые хозяева грабить, расстреливать, убивать. Да так себя повели, что не выдержали разошедшиеся по станицам казаки и восемнадцатого марта первой на Дону восстала станица Суворовская, и пошла волна восстаний, и докатилась до Верхне-Донского округа, и пошел пожар по всему Дону. Сразу же организовались восставшие и создали две группы войск — одну в районе станицы Заплавской, а другую на левом берегу Дона — Задонскую. И тут услыхали казаки, что заняли станцию «Чертково» немцы. Восстали мигулинцы, восстал Верхне-Донский округ. В Усть-Медведицком, у нас, образовался «Совет вольных хуторов и станиц». Отбили наши Черкасск и собрался там двадцать восьмого апреля Круг Спасения Дона, избрал Атаманом генерала Краснова, навел порядок по станицам, ввел везде казачье управление, послал посольство на Украину, с «непрошеными гостями», немцами, наладил Краснов дружеские отношения. Учредили у нас Сенат, создали гимн — «Всколыхнулся взволновался православный Тихий Дон…» и Донской, сине-желто-алый, флаг. Решил Краснов формировать Молодую армию. К середине мая было в новой Донской восставшей армии семнадцать тысяч шашек, сорок четыре орудия и сто девятнадцать пулеметов, все у большевиков отобранные. А большевики со всех сторон на нас поперли, и стояло их вначале семьдесят тысяч пехоты при двухстах орудиях и четырестах пулеметах. Да, и еще — выработал Круг присягу, вот она:
«Обещаюсь честью Донского казака перед всемогущим Богом и перед святым Его Евангелием и Честным Крестом, чтобы помнить Престол Иоанна Предтечи и Христианскую Веру, и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным Всевеликому Войску Донскому, своему отечеству. Возложенный на меня долг службы буду выполнять в полном напряжении сил, имея в помыслах только пользу Войска Донского и не щадя жизни ради блага Отечества»…
Что-то сжало горло, спазма какая-то, понял Семён, что дальше говорить он не может, делает вид, что хочет побольше захватить хворостинок, нагибается и собирает их по земле. В рядах слушателей чувствуется движение, поднимает Семён замутившиеся глаза и смотрит прямо в зрачки Мишки Ковалева. И, сощурившись, спрашивает его Мишка:
— Так, правильно это всё, а што же ты в счет Миронова скажешь?
Еще не придя в себя от охватившего его внутреннего волнения, запускает он два пальца за воротник, судорожно глотает воздух, пробует начать говорить, но перебивает его один из тех трех прибившихся к ним казаков, темноволосый, среднего роста, с чубом, по всему видно, что бравый парень.
— Вряд он што толком про Миронова сказать сможить. Ишо молодой. Ты мине про няво вспроси. Семьдесят он пятого года рождения. Ваш, усть-медведицкий. С самой станицы казак. Ишо в японскую войну воявал, да там, как и Голубов, дюже влево брать зачал, и потому посля войне уволили яво на льготу в чине подъесаула. В германскую войну в Двадцатый полк пошел, кончил войсковым старшиной и одним из перьвых у нас на Дону зачал красных организовывать. По вере он по своей идёть так же, как и Голубов, и Подтелков шли. Вот и нашел Голубов пулю, а Подтелков вешалку.
— Как так — вешалку?
— А што ж вы, доси ня знаитя? После того, как поднялося по всяму Дону восстания побег он с остатками своих, человек их с полусотню было, к жинке своей, к «донской царице», как ее казаки за ухватку ее прозвали. Дюже уж заважничала она, павой ходила, когда он придсядателем Донской ряспублики стал. Побег Подтелков с Ростову, да недалеко добег, пымали и яво, и дружков всех казаки восставшие, и народным судом яво же станишники и хуторцы к вешалке приговорили за то, што привел на Дон красную гвардию. Не царский какой, а свой, народный, суд яму был. И приговор подписали, и вешали теми же руками, какими быков своих запрягали, степь нашу пахали. За бяду, им к нам принесенную, за страму, што положил он на Дон, с гвардией энтой в одной супряге ходя. Вот как оно было. Одиннадцатого мая с ним кончили.
Мишка Ковалев придвигается ближе к огню и коротко резюмирует:
— И правильно исделали. Туды и дорога. Слышь, служивый, папаня, сказать, а ты сам из каких будешь? Мы тут все, как есть, один одного знаем, а вы вот, по поличию, вроде откель-то знакомый, а откель — ня знаю.
Казак улыбается:
— Ня знаишь? А ты приглядись. Ты куряшший?
— Есть такой грех.
— Папироски «Кузьма Крючков» приходилось курить?
Широко открываются глаза Мишки. Удивление, радость, восторг отражает повеселевшая его рожа.
— Тю! Да-ть никак и справди вы это, Кузьма Фирсыч?
— Я самый. С хутора Нижне-Калмыковского, станицы Усть-Хоперской, Третьяго Ермака Тимофеевича полку. Верой-правдой службу свою сполнял, два хряста и чин подхорунжего с войне домой привез. А с началом революции, всяво наглядевшись, вместе со станишниками моими восстанию поднял. А таперь вот в Тринадцатый атамана Назарова полк с односумами едем. Понятно?
Мишка вскакивает:
— Так точно, понятно! Покорнейше вас благодарим. Ить это вы тогда, пики у вас не было, поперед шашкой от гусар от немецких отбивались, а потом, у одного пику отобравши, немецкой пикой ентой двянадцать ихних гусаров положили! Шашнадцать ран поимели и конь ваш одиннадцать разов ранен был…
Крючков снова улыбается:
— Всё правильно, только не гусары то, а уланы были. Ну, да дело то прошлое, а зараз, думаю я, што дюже много толковать нам не приходится. Дела наша таперь скрозь ясная. А вот станишник мой, Иван Самолыч, он песни играть мастер. Давайтя какуя стариннуя…
Иван Самолыч просить себя не заставляет. Откашлявшись, заводит:
Как у нас-то на Дону-у…И подхватывают все у костра сидящие:
Во Черкасском городу. Казаки там пьють-гуляють, По беседушкам сидять, По беседушкам сидять, Про Азов ли говорять…Прислушались вербы. Перестала плескаться рыба в речке. Замерли, горя ровным светом, звёзды. Притихла степь. Слушает небо казачью песню. Слушает. И что оно казакам готовит, никто живой ни знать того, ни понять не сможет.
* * *
А на другой день, до Усть-Медведицы уже рукой подать было, вышли они на бугорок, расстелилась перед ними прямая луговая дорожка и подошли к Семёну оба дружка его, взяли под руки и заговорил Мишатка:
— А таперь расскажу я табе про хутор наш Разуваев. Ты, поди, так толком ничаво и ня знаешь. Посля того, как во второй раз побывал у нас дядюшка твой Левантин Ликсевич с Савель Стяпанычем, посля перьвой победы нашей, осталось у нас всяво в хуторе конных с полсотню, служивых казаков, да какие из второй-третьей очереди, да дяды покрепше, да мы, молодые, всяво нас с добрую сотню набралось. А дюже на нас клиновцы и ольховцы ожесточились. И немного тому времени прошло, с Липовки, с Зензевки, с Камышина и с Дубовки пополнения к ним пришли, и вдарили на наш хутор два ихних полка с батареей в чатыре орудия. И, как мы ни оборонялись, пришлося нам в отступ иттить. А как через неделю подошел Голубинцев-гинярал, подошли и фицхелауровские полки, и прогнали мы красных аж под Липовку.
И вот, во-перьвых, про бабушку твою табе расскажу, про Наталью Ивановну. Здорово к ней хохлы прицеплялись, ольховцы: «Иде, спрашивали, золотые твои?». Ну, хошь верь, хошь не верь, солдат клиновский, он таперь в красной гвардии вроде как за офицера, энтот, што тибе арестовывать прияжжал, Фомка-астраханец, так он на хохлов с наганом пошел. Отпустили они тогда бабушку твою враз с миром. А тетку твою, Анну Пятровну, так пограбили, што ничаво у ней в хате не осталось: «Офицерская, говорили, родня, с тибе шкуру спустить надыть». А девку энту, што у ней сроду работала, сироту Параньку, красные гвардейцы забрали: «Иди, говорили, варить нам будешь», — да и снасильничали над ей в катухе, почитай, целый взвод. А она посля того в речку кинулась, утопла.
Стояла рота одна в саду, дружка деда твово Гаврил Софроныча, а дров у них для кухни не было, так они, почитай, половину сада яво вырубили, пожгли. И яблони, и груши, и сливы.
Дедушку Явланпия, помнишь ты, из-за ланпадки у няво с Савелием Стяпанычем спор получилси, да, не пошел он с хутору, осталси и, как был в шароварах с ланпасами и чириках, на улицу вышел, а комиссар ихний, в коже весь, как есть, приложилси в няво с нагану, вдарил и на месте уложил. Два дни он на улице у свово плятня проляжал.
Атаман наш Фирсов ранетый здорово был, осталси. Яво штыками прикончили.
Новичок энтот, што ты у яво махорку за яйцы мянял, тот лавку свою кинул, на Низ подалси, родня у няво в Ростове.
И зачали по хутору стариков забирать, энтих, што за древностью своей никуда уйтить не могли, дедушку Мирона, антиляриста, Гаврил Гаврилыча Фирсова, дедушку Авдея и Явланпия, дедушку Сулина и Анания Григорьевича, за хутор вывели, в пясках побили.
А когда бились мы с ними перед тем, как в отступ пойтить, то лягло наших семеро: Филипп Ситкин, энтот, што свиней резать мастер был; урядник Алаторцев, што нас с тобой стряльбе обучал; отец нашего дружка Ляксандры, того, што мы с ним Христа славить ходили, тоже лёг, гранатой яво накрыло. Никишка, энтот, што, когда казаков на войну провожали, на левом фланге стоял, ишо шутковали над ним за рост яво, того пуля в лоб уложила. Атаманова сына Николая, до вахмистра он дослужилси, и яво посередь груде вдарило. И ишо двух, вряд ты их знаешь, фронтовики оба… вот как ана, дела у нас была. А с бабами што делали, того лучше и говорить табе не буду. Не хуже как с той Паранькой. А от антиллерии ихней одиннадцать дворов в хуторе погорело. Таперь и не призначишь, иде курени стояли. И тетки твоей курень хохлы спалили. Убегла она с бабушкой твоей в чем были. Таперь они у энтой Насти, што ей ты на фронт письма писал, в летней кухне живуть. И вот обратно отступили мы, засумнявались тогда наши, и поряшили, што лучше к Миронову иттить, он вроде с красными в дружбе. Може, упасем тогда хутор свой. А то и Голубинцев гинярал, и Фицхелауров — ноне они тут, а завтра иде? Вот и пошли мы, почитай, все, как есть, разуваевцы, с Мироновым, да погнал он нас черти куды, под Михайловку, а хутор-то наш иде? Хто яму помочь дасть? И тут вы наскочили… да… а перед тем, как уходить нам в третий раз, заскочил я к Насте, а бабушка твоя Наталия Ивановна и говорить мине: «И-и внучек мой, Сёмушка, слыхала я, тоже воявать взялси. Коли увидишь яво иде, скажи яму, што ничаво без воли Божией не случается. А всё это нам за грехи наши. И ишо скажи, што знала я наперед, што будить с Апокалипсису. Там всё, как есть, сказано. О всадниках об энтих. Вот и ты знай, и внуку мому перекажи, што перьвый всадник на белом коне — война. Перетерпели мы её. А второй конь у яво — рыжий, революция это. Терпим мы её. А третий конь — вороной, голод это, а четвертый всадник на коне бледном — смерть это всем христианам. Вот, говорить, и скажи ты внуку мому Семёну, нехай ничего не боиться. Всё это нам от Отца нашего небесного. Нехай смело круг сибе глядить, помня, што претерпевший до конца, спасен будет». Вот што бабушка твоя табе переказать велела!
Мишатка на минутку умолкает, взглядывает на Семёна снова и сжимает его руку повыше локтя:
— А таперь ты получше на мине погляди, Сёма. Скажи ты мине, иде ты был, когда вы нас возля того хутора зашшучили?
Семён оживляется:
— Где? Да я с полувзводом наших от ветряка с фланга вам заходил, к речке мы спустились, в кустах красноталу засели. Оттуда мы вас винтовочными залпами и сбили. Еще видал я, как вы отступать перебежками стали, а какие-то двое одного, видно, раненого, тянули…
Мишка еще крепче сжимает Семёнову руку:
— Видал, говоришь, как тянули? Ну, а стрелял ты по нас?
— Ну, конечно же, стрелял! А что?
— И видал, как двое ранетого тянули?
— О-о, Господи, ну, конечно же, говорил же я, видал!
— И я табе верю, што ты видал. Правильно говоришь. А одним из тянувших я был, а другой, што мине помогал, вот он, Пятро. А тянули мы, штоб знал ты, коваля нашего хуторского, яму пуля чиясь, таперь уж чья ня знаю, може, и твоя, прямо посередь груде вдарила. И не захрипел, молчки головой к земле своей донской припал. Понял ты, Семён, ай нет, што пуля та, може, и твоя была…

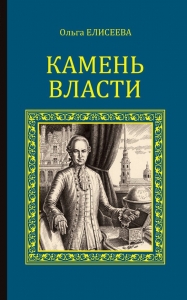





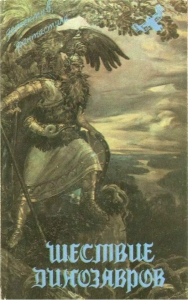
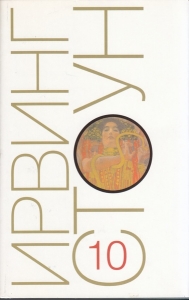
Комментарии к книге «Смерть Тихого Дона», Павел Сергеевич Поляков
Всего 0 комментариев