И поныне, читатель, корабли редко заходят в Моонзунд; ищущим простора и глубины, им нечего делать на этих сумрачных плесах, которые сжаты дюнами осыпающихся в море призрачных островов.
Не знаю, как сейчас, а раньше еще можно было через толщу вод разглядеть смутные очертания кораблей, навеки опочивших в глубине. Смерть застала их здесь, и они доблестно погибли во славу Грядущего – ради нашего дня, читатель…
В этом романе некоторые исторические имена я сознательно заменил вымышленными. Некоторые же оставил в их точной исторической достоверности.
До победы при Моонзунде нам, читатель, еще далеко.
Сначала мы изведаем всю горечь поражения в Ирбенах.
Часть первая
Прелюдия к Либаве
Я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче дает понять о разложении ткани…
А. Герцен. Былое и думыПерелистай журналы тех лет – и ничего страшного, опасного для родины не обнаружишь. Казалось, что этот мир нерушим…
Царский адъютант Воейков, как и раньше, рекламировал углекислую «Куваку» из собственных минеральных источников. Кшесинская крутила 32 fouette перед ранеными в госпитале своего имени (на 20 кроватей). По Невскому неслись огненные рысаки, взрывая комья пушистого снега, а в витрине у Елисеева лежала свежая клубника. Последним капризом моды стало дамское манто из шкур леопардов – и дорого и жутко…
Жизнь была чертовски хороша!
Ресторан «Астория» под управлением элегантного Луи Террье обещал в скором времени стать связующим центром русско-французского альянса. Академия художеств «снизошла» и до футуристов, предоставив им свои залы для размещения новейших шедевров, составленных из колечек колбасы, коробок от пудры и собачьих хвостов, отрубленных у бродячих шавок. Иван Степашкин недавно выставил свою обнаженную «Фрину перед судилищем», явно стащив идею картины у покойного Семирадского…
Нет, в мире ничего страшного не произошло!
Трансатлантическую линию по-прежнему обслуживали быстроходные левиафаны «Царь» и «Царица», каждые 12 дней выходящие в Нью-Йорк из Архангельска. А торговый дом «Обюссон» – по традиции – приобретал у петербуржцев старинную мебель, ковры и посуду. Графиня Лаваль распродавала в Петербурге (ставшем теперь Петроградом) участки унаследованной земли и парки. Рубинштейны, Манусы, Симановичи охотно скупали барские особняки, платя за них миллионы. На манеже цирка «Модерн» собачки Дурова обписывали столбик, на котором было начертано: «Берлинъ».
Н. Евреинов выпустил скандальную книгу – «Театр для себя».
Рысистые бега работали. Конкуры продолжались.
Танго уже танцевали, хотя танец этот и не считался приличным. Среди красавиц особо ценились женщины стиля «вамп» – с гладкой прической, закрывающей уши, с длинными шеями холеных гусынь, с громадными ртами, способными чувственно укусить мужчину сразу за кошелек.
Продажа спиртного была запрещена, но в ресторанах умудрялись загримировывать водку под чай и подавали ее в чайниках. Процветало искусство мелодекламации, много печатался Николай Агнивцев:
Длинна, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь, такса, за ней шагает, хмур и строг, законный муж ее – бульдог!«В современной культуре, – писали тогда, – немало грубейших парадоксов. Главный из них – война. Но оставим сегодня войну. Я хочу сказать совсем о другом…»
Табачная фабрика Асмолова рекомендовала русским дамам курить только папиросы «Эклер». Между прочим, вышел в русском переводе роман Г. Манна «Верноподданный», совсем не замеченный публикой. А на смену знаменитой Лине Кавальери приходила новая вампирша – Вивина Мадзарино, но до России она еще не добралась, и потому русские генерал-адъютанты пока не знали, каков на нее прейскурант… Разве что-нибудь изменилось? Нет! Мир этот нерушим. Однако…
* * *
Россия уже выбросила на врага все арсенальные запасы и теперь вступила в новую кампанию почти безоружной. Теперь уже никто, ни Германия, ни Антанта, не рассчитывал покончить с войной одним крепким ударом. Война превращалась в затяжное испытание экономики, сырья, выдержки, нервов. Союзники почти сознательно обрекали Россию на разгром, и русский Ванька кровью оплакивал «чудо на Марне», в грязи болот под Сольдау он спасал от кайзера Париж…
В 1915 году Германия всю мощь своей военной машины, лязгающей сцеплениями концернов и синдикатов, запустила исключительно против одной России. «Пора уже, – говорил кайзер, – всех славян поставить на колени в зловонную лужу позора, чтобы заставить их уважать высокий германский дух!..» Ломая настилы льда, рушились кони в трясины Мазурских болот, жалобным ржаньем заглушая стоны людей. А вдали от Пруссии, в предгорьях Карпат, свершалась вторая трагедия великой и славной армии. Там командиры батарей давали расписку в том, что не истратят в день более двух снарядов на каждое орудие…
– Превосходно! – ликовал «железный» маршал Маккензен. – Мы дадим на стволы наших пушек по 80 выстрелов и устроим русским кровавую баню. Наконец, у нас в арсеналах в изобилии имеется еще и то, чего русские не знают… минометы! огнеметы! газы!
Россия устала от войны раньше союзников. И не только от жертв, – от распутинских министров, от стариков генералов, которые к новым условиям войны применяли музейные приемы тактики. Увы, времена Скобелева, вылетавшего на белом коне впереди марширующих в дыму колонн, давно уже кончились. Буржуазная наука войны переживала период острого климакса. Штабная мысль и дальше, вплоть до 1917 года, будет метаться над картами как угорелая в поисках новых путей к победе и… не сыщет их! Масштабы прежних представлений о войне тоже оказались резко смещены. Россия только пленными уже потеряла 2 миллиона человек; одних лишь дезертиров она имела армию, способную удерживать собою целый фронт… Русский народ еще в 1915 году ощутил себя на краю пропасти.
* * *
Лед, лед… всюду лед. До весны вмерзли дредноуты на рейдах Гельсингфорса – за частоколами скал и рифов, за постами неусыпной брандвахты. Из Петербурга гудит над Балтикой могучая королева эфира – радиостанция «Новая Голландия»…
На флагманском крейсере «Рюрик» заканчивался обед. Вице-адмирал фон Эссен рывком поднялся из-за стола. Обед, сытный и спокойный, не привел его в состояние благодушия. Даже три бокала мадеры (почти горячей) не подействовали. Следом за командующим флотом поднялись его флаг-офицеры – Колчак и Ренгартен.
– Прошу в салон, господа, – велел им Эссен, продолжая на трапе прерванный за столом разговор. – С началом войны мы призвали из запаса рабочих, хотя и знали, что они принесут на флот бациллу большевизма. Устранить же с кораблей этот опасный элемент мы не в состоянии, ибо хлеборобы флоту не нужны – серое быдло покорно, зато и неразвито. А современная техника нуждается исключительно в грамотных матросах…
Массивная броняжка двери, закрашенная под слоновую кость, без скрипа пропустила за адмиралом его флаг-офицеров. Фон Эссен по-домашнему скинул тесные ботинки, нацепил плетенные из камыша шлепанцы. Толстый, как бомба, кастрированный котище ходил вокруг адмирала, избалованно требуя к себе хозяйского внимания.
Эссен пасмурно глянул на карту Балтики.
– Александр Васильич, – спросил он Колчака, – а не принять ли вам от Трухачева славную Минную дивизию и навести порядок в водах близ берегов моей праматери – Швеции?
Капитан I ранга Колчак незримо подтянулся, ответив:
– Боюсь, мое назначение обидит старых заслуженных адмиралов. У меня и без того хватает завистников, считающих меня карьеристом.
Карандаш в руке Эссена задумчиво блуждал над ковшом Рижского залива и вдруг лег поперек Ирбенского пролива.
– Вот оно! – произнес Эссен, причем рыжее лицо адмирала, все в брызгах крупных веснушек, сморщилось. – Именно здесь таится наша судьба… Если мы дадим кайзеру прорваться в Ирбены, тогда падет Рига, а затем сразу возникнет и проблема Моонзунда! Господа, об этом даже страшно думать, будем надеяться на лучшее…
Он отдернул шторы и выглянул через квадратные окна салона на рейд. Денек выдался яркий, солнечный. Гельсингфорс утопал в морозной дымке, золотясь куполами храмов. Между кораблями – по деревянным мосткам с перилами, словно по улицам кустодиевской провинции, – расхаживали матросы-клешники с финскими хохотливыми барышнями. Над рейдом со стороны катков оглушительно трубили могучие геликоны корабельных оркестров…
– Иван Иваныч, – обратился адмирал к Ренгартену, – а каковы последние вести из Мемеля?
На красивом лице Ренгартена истерично вздрогнули губы:
– Мемель нами взят. Но командир десанта, кавторанг Пекарский, беспробудно пьян. Деклассированные личности, из числа коих составлен отряд, не спасут положения. Среди гатчинцев и балтийцев-штрафников царит повальное пьянство, грабеж имущества, насилие над женщинами… Разве такие подонки способны удержать Мемель? В завершение всего на кавторанга Пекарского опрокинули кухню со щами; облитый жиром, весь в капусте, он… сдал командование!
Вице-адмирал со вздохом отпустил флаг-офицеров.
– Мемель мы потеряем, – сказал он. – Поланген тоже. Гросс-адмирал принц Генрих понимает это, как и мы с вами… В конце концов, все сходится сейчас на удержании нами Либавы.
Фон Эссен завалился на койку. Черный кот запрыгнул на грудь адмирала, обнюхал его рыжую бороду, пахнущую одеколоном «L’origan» и мадерой «Alicante». Командующий Балтийским флотом ласково чесал фаворита за ухом, говоря ему самое потаенное:
– Либаву! Либаву нам с тобой держать надо… Понял ты или нет, мазурик? Ведь от Либавы все зависит сейчас… И даже твоя шкура, паразит ты мой бесподобный!
Либавский роман
Особых достопримечательностей в Либаве нет, если не считать, например, построенный в 1825 году маяк. Но город всегда привлекал к себе людей своим прекрасным положением у моря, своим климатом, своей простотой, напоминавшей деревню. К сожалению, все изменилось за последние годы, когда массы пьяных матросов, чрезмерное скопление населения и усиленное движение на улицах придают Либаве характер тех торговых центров, из которых хочется бежать. Прежней поэзии уже не осталось…
Из старых путеводителей1
За брекватером гаванского волнолома – вот уже сколько лет! – качается поворотный буй, весь в лишаях едучей ржавчины, а на нем звонит колокол, предвещая туманы, суля тревоги и штормы…
Либава – город поэзии маяков и причалов, готических вилл рижских негоциантов, город ромашковых венков, уплывающих в море. Древние лабазы еще хранят в своей сырости неувядающие запахи имбиря и корицы, завезенных сюда со времен герцога Якобы из курляндских колоний – Тобаго и Гамбии. По булыжникам мостовых и поныне сухо громыхают телеги ломовых извозчиков, груженные в порту романтичной кокосовой копрой. Над Либавой постоянно господствует лишь один ветер – залихватский зюйд-вест, который несет в глубину Курляндии запахи тех сосен, что извечно растут за морем – на берегах Готланда, у стен легендарного Висби…
Боже, сколько очарования! Сколько свиданий и разлук!
А теперь повернись лицом туда, где вода плотно смыкается с небом, и ты увидишь – в скорбной одичалости волн – ползущие тени германских «байернов». Со стороны разбитых крейсерами пансионатов Полангена наплывает по ночам гул артиллерийских дуэлей: это насмерть бьются враждующие соперники, закованные в панцири крупповской и путиловской брони. Беженцы приносят в Ригу слухи – о повешенных и униженных, а ветер прогоняет над Либавою задымленные флотом облака и безмолвные, словно призраки, оболочки кайзеровских цеппелинов.
Впрочем, Либава еще не повержена – нет… Черные баки ее обугленных нефтехранилищ с несгораемой надписью «Нобель» остались на берегу в память о тех днях, когда германские «маркграфы» громили своим калибром заводы и гавани. Либава еще жива: она принимает идущие с моря подлодки, изредка дает у причалов покой усталым крейсерам – «Баяну», «Громобою», «Богатырю», «Олегу» и прочим. На вокзале еще покрикивают поезда, отходящие точно по расписанию.
Весна является сюда из Европы – от Киля, от Куришгафа, от Мемеля. Когда ветер домчит до города запахи тающих льдов, Либава удивительно хорошеет. Буйно начинают свой рост альпийские буки и каштаны, которые к осени устелют все парки хрусткими орехами. И всюду – липы, липы, липы… Даже на гербе Либавы – тоже липа, цветущая, полнокровная, брызжущая зеленой, прохладной тенью.
А на коре одной из таких лип была когда-то памятка:
Клара И.+Сергей А.
Весна – 1915 – Либава
Сколько я бродил здесь, отыскивая эту надпись, и размышлял: «Неужели не было этой безысходной любви?..» Но я знаю, я верю – она была, нежданно вспыхнувшая на этом берегу.
В самый канун грозы и непомерного людского отчаяния.
* * *
Когда землечерпалки, углубляя фарватеры, вынули с глубины первые ковши грунта, чтобы превратить сонную Либаву в передовую базу боевых сил Балтфлота, – именно тогда германская разведка заслала сюда своего резидента – моложавую вдову фрау Мильх, которая и открыла возле базара скромную торговлю книгами.
Фрау Мильх начинала с продажи воинских и корабельных уставов, дешевых сытинских изданий и народных календарей. А сейчас у нее прилавки ломятся от антикварного старья и большой оборот капитала. Жизнь отшумела… Из пикантной дамочки, путавшейся с бравыми кавторангами, фрау Мильх превратилась в почтенную матрону, с грудью такой необъятной, словно форштевень работящего буксира-толкача. Она устала. Устала ждать. Но теперь конец близок – крейсера кайзера уже на подходах к Либаве, и скоро фрау Мильх, выслужив законную пенсию, сможет вернуться в родимый Грайфсвальд, где в буфете еще хранится кофейный сервиз прабабушки…
Дверь с улицы имела колокольчик, который предупреждал владелицу о появлении в лавке покупателя. Война – время для торговли книгами невыгодное (требуются сало, водка, бинты, сахар). Сегодня, например, не заглянул еще ни один покупатель. Лишь ближе к вечеру вдруг прозвучал звонок. Из-за пыльной занавески фрау Мильх проследовала в помещение лавки. Сияя отточенной цейсовской оптикой, на обширном полигоне ее груди колыхалась складная лорнетка.
– К вашим услугам, герр обер-лейтенант, – сказала она гостю, наметанным взором безошибочно определив его звание.
Флотский офицер снял перед дамой фуражку, кокарда на которой – словно изумруд, вся зеленая от соли. Нетрудно догадаться, что человек вернулся с моря. Теперь не мешает уточнить – с какого он корабля? Для фрау Мильх уже ясно, что он не с бригады крейсеров, ибо крейсерские офицеры имеют моду носить фуражки с опущенной тульей…
Старший лейтенант слегка поклонился, говоря по-немецки:
– Добрейшая фрау Мильх, последний раз я был у вас еще перед войной… Помните? Взял у вас каталог Таврической выставки.
Последовал величавый жест пухлой руки, хозяйка заговорила, старомодно жеманясь:
– Как я люблю офицеров флота. И как мне жаль их… Бедняжки! В любой шторм… Вчера так грохотал ветер. О, война! Какое тяжкое испытание для всех нас… И когда это кончится?
Она сдула пыль с роскошного переплета, который был торжественно перечеркнут синим крестом андреевского стяга.
– Только для вас… Увлекает даже название: «Нужен ли флот России, и его значение в русской истории». Возьмете?
– Благодарю, – отвечал офицер, едва глянув. – Я и без этой книжки господина Белавенца знаю, что флот России необходим.
– Может, вам предложить что-либо из амурных романов?
– Терпеть их не могу, – сказал офицер, копаясь в книгах.
Тогда она подсунула ему серию фотографий известных красавиц: Вера Коралли, Клео де Мерод, королева бриллиантов Наташа Труханова, шансонье Отеро, Вера Холодная, королева танго Эльза Крюгер… Спору нет, все они были соблазнительно-прекрасны.
– Голыми их назвать нельзя, – заметил офицер. – Но обнаженными назвать уже можно…
Фрау Мильх восприняла это замечание как намек. Из-под прилавка она извлекла конверты с наборами открыток:
«Только для мужчин. Последний шик Парижа».
Скромно потупясь, вдовица разложила открытки веером.
– Надеюсь, офицер не откажется от такой дикой прелести?
Лейтенант отвечал женщине, годившейся по возрасту ему в матери:
– Но, судя по всему, это продукция не Парижа, а… гамбургское производство!
«Ну, это уж слишком!» Фрау Мильх даже оскорбилась:
– Объясните же, что вы ищете в моих книгах?
– Меня волнует не порнография, а – иконография.
– Но здесь не церковь, а иконами я не торгую…
Старший лейтенант пояснил, что иконография никакого отношения к иконам не имеет – это подраздел науки исторической, которая изучает старинный портрет и судьбы лиц, кои изображены на портретах.
– Кое-что я нашел как раз по мне. – Офицер вытащил из развала связку четырех томов Ровинского. – Давно искал именно это тиснение, где столбцы описей уснащены петит-гравюрами.
– Сто рублей! – отомстила ему фрау Мильх за все сразу.
– Ну что ж. Возьму… Мне еще нужен второй том морозовского каталога. Знаете, такой громадный томина инфолио? В сером сатинете, а буквы в золоте.
Фрау Мильх не упустила удобного случая, чтобы спросить:
– Я приготовлю… Когда зайдете в следующий раз?
Однако офицер уклонился от ответа:
– Как-нибудь… При случае загляну.
– Вы, наверное, с подводной лодки «Макрель», которая всю ночь не давала мне спать своей нахальной сиреной? Обычно офицеры на субмаринах неразговорчивы. Я понимаю, у них такая собачья служба, что они уже белого света не видят…
– Заверните, – сухо произнес офицер, расплачиваясь.
Фрау Мильх ловко обрезала ленточку на пакете с книгами.
– Обычно, – сказала она рассеянно, – мой магазин доставляет товар на дом. Зачем вам таскать эту тяжесть по городу? Назовите, в какой гавани вы стоите, и моя прислуга доставит пакет… в Минную гавань? Или, может, в Купеческую?
– Благодарю, – откланялся офицер. – Но мы… на рейде!
Выпуская его на улицу, дверь брякнула звонком. Фрау Мильх опустила шторы на окнах. Торговля окончена. День был неудачный. Итак, жизнь отшумела… Без любви, без кухни, без внуков. Дело лишь за крейсерами кайзера, которые в беспощадном грохоте орудийных башен успокоят ее суетливую старость.
* * *
А на тихой Шарлотинской – за тем самым костелом, куда офицерские дамы бегают посмотреть на красивого ксендза-поляка, – затаилась старинная кофейня «Под двуглавым орлом», прославленная своей кондитерской кухней. Здесь ко дню тезоименитства императора и его супруги издавна выпекают праздничные торты, похожие на храмы, в пасхальные торжества здесь готовят «патриотические» яйца из шоколада, которые потом круглый год хранятся как украшение на квартирах либавских обывателей. В витринах этой цукерни всегда выставлены корзиночки со свежайшими марципанами.
Старший лейтенант Сергей Николаевич Артеньев отворил бесшумную дверь, и сразу – еще от порога – повеяло ароматом цукатных булочек. В прихожей он оставил пакет с книгами, повесил на раскрылку шинель. Потирая с холода ладони, Артеньев огляделся в гостиной. Сегодня здесь что-то безлюдно. Он присел за крайний столик. Лезвием десертного ножа выразительно постучал в нежно поющую грань хрустального бокала.
– Кельнер! – позвал резко, обратясь к дверям кухни…
В зеркале напротив офицер уловил свое отображение. Виски уже тронула седина, а идеальная белизна воротничка еще больше выделяла серость усталого лица. Глаза были съедены солью – красные, словно у алкоголика с похмелья. Да-а… Последний переход от маяка Риксгефта, что возле Данцига мигал по расписанию только кораблям германским, – этот переход дался команде нелегко. Всяко было в прошедшую ночь, и роковой след пузырей от вражеской торпеды, – этот след лишь случайно прочертил за кормою эсминца. Артеньев почти любовно коснулся очаровательной белизны кувшина для сливок. Ведь не успей они вчера отработать левой машиной, и эта белизна фаянса уже никогда не приласкала бы его взора…
– Что угодно господину лейтенанту? – раздался голос.
Артеньев обернулся и невольно привстал. Перед ним стояла кельнерша, незнакомая ему по прежним посещениям кондитерской. Это была обворожительная, цветущая здоровьем женщина, вся в хрустящем ворохе кружев. Губы ее трепетно улыбались, а глаза (ах, какие это были глаза!) оставались слегка печальны.
– Кофе, – сказал ей Артеньев.
– Коньяк? – тихонько предложила она.
– Нет. Меренги. Если свежие.
– Странно.
– Что вас удивило?
– Моряк и… без вина?
Артеньев мельком глянул на плакат военного времени, висевший над ним: паровоз Германии улетал во вьюжную ночь России, машинист-кайзер вел его прямо в пропасть, а лопоухий кочегар, принц Генрих, лопатою швырял в ненасытную топку батальоны, дредноуты, пушки…
– Видите ли, – отвечал Артеньев, откровенно любуясь красотой кельнерши, – флот России достаточно велик, и каждый корабль этого флота имеет свои собственные традиции. На нашем корабле нерушима заповедь: пить поменьше и… лучше пить на корабле!
– Entschuldigen Sie, bittе[1], – засмеялась женщина, – в таком случае есть корабли, на которых пьют как можно больше?
– Есть и такие, майн херц, – согласился Артеньев…
На искристой от крахмала скатерти, как отличный натюрморт, была вписана желтизна лимона и розовая мякоть воздушных меренг.
– Простите, фрейлейн, – спросил Артеньев, коснувшись платком коротких усов, – отчего я вас никогда здесь не видел? Наверное, вы нанялись в услужение сюда недавно?
– Совсем недавно.
В разговоре выяснилось, что кельнершу зовут Кларой Изельгоф. Артеньев осторожно осведомился – кто она: латышка или… немка?
– Я не способна точно ответить на ваш вопрос, – отвечала женщина, – ибо у меня в роду были даже таборные цыгане.
По-русски она говорила чисто – безо всякого акцента.
– Пожалуй, я принесу для вас коробочку марципан. По нашим временам это такая редкость. А мы используем для них еще добротные довоенные запасы…
– Не стоит беспокойства, фрейлейн. Они у меня быстро засохнут, а в каюте и без того полно тараканов.
За стеклом витрины быстро завечерело. Мимо цукерни, держа путь в синагогу, гуртом прошли старые иссохшие евреи, и, глядя на них, Артеньев вспомнил, что сегодня суббота, а значит, на корабле проверка боезапаса. К театру проносились коляски, в отдалении безнадежно свистел городовой да тошно выла от гавани подлодка («Макрель», если верить фрау Мильх)… Артеньев потянулся к фуражке. Кельнерша подала ему пакет с книгами.
– Не забудьте, – сказала с заботливостью.
– Благодарю вас, фрейлейн. Благодарю за все…
Дать ей «на чай» он как-то постеснялся. Если бы Клара Изельгоф была не так красива, он бы дал. Но стыдно совать лишний полтинник в эту прекрасную руку, на которой драгоценный браслет свидетельствует о вкусе женщины и ее состоятельности.
– Мы иногда заходим в Либаву, – сказал он. – Но у меня здесь никого нет: я – петербуржец… Может, вы доставите мне удовольствие еще раз встретиться с вами?
При этом ему стало неловко, что он, заслуженный офицер флота, как последний мичманец, навязывает себя в знакомство. Не дожидаясь ответа, он обозленно щелкнул кнопками на перчатках.
– Я не всегда бываю свободна, – отозвалась Клара не сразу. – Но сегодня у меня вечер как раз не занят.
– Ах, какая досада! – огорчился Артеньев. – Он не свободен сегодня у меня. Я должен вернуться на корабль…
Артеньев покинул кофейню «Под двуглавым орлом» и, шагая в гавань, похвалил себя за то, что нигде и ни разу не назвал имени своего корабля. Либава (об этом предупреждали) была битком набита германскими шпионами.
2
Вся история человечества – неустанное стремление к скорости, к нарастанию поспешного бега в будущее. Со времен незапамятных человек старался побеждать замедленность своей жизни. Оттого-то и ценились арабские скакуны, многовесельные галеры, высокая парусность чайных клиперов. Покорение пара и электричества лишь ускорило эту гонку – за мили и метры, за часы и минуты. Бог войны Марс с высоты своего величия презрительно взирал на людскую спешку и все самое быстрое тут же отбирал для своих нужд – нужд воинственных, нужд убийственных. Мотоциклы еще не успели войти в спорт, как германцы уже водрузили на них пулеметы. Аэропланы еще не научились перевозить пассажиров, зато они уже умели сбрасывать на головы людей бомбы.
А за три года до войны в России произошло событие, о котором еще не раз будут вспоминать наши историки… Со слипов Путиловского завода петербургские умельцы спустили на воду корабль, получивший наименование «Новик» (так в старой Руси называли новобранцев). Впервые в русском флоте корабль питался одним мазутом, а раскаленная лавина пара неудержимо бросалась на ювелирные лопатки турбин. «Новик» проходил испытания на «мерной миле» под Ганга. Приемная комиссия заполнила крылья мостика, следя за стрелками тахометров. Выше скорость, выше… Казалось, что турбины на разгоне оборотов разлетятся в куски. Мелко вибрируя, эсминец легчайше вспарывал волну. И – ни буруна под форштевнем! И – ни каскада за кормой! «Новик» летел, как в сказке, не нарушая маскировки движения, – он шел без пены…
– Дадим еще, – решили тогда на мостике.
Стрелка лага шагнула за 33 узла. Невероятно!
– Британский истребитель «Свифт», – рассуждали офицеры на мостике, – год назад дал рекордную скорость в тридцать пять узлов. Господа, не рискнуть ли прибавить еще давление на турбины?
Прибавили – «Новик», словно играючи, побил рекорд мира (репитеры лага устойчиво держали 35 узлов). Тогда командир эсминца решительно толкнул рукояти телеграфа, и стрелки тахометров потянулись дальше. Неустанно щелкал лаг, отбивая на табло ритм наращивания скорости. Палуба ходила ходуном, на пружинах амортизации тряслись в рубках приборы… Результат – 37,3 узла!
– Ура! Самая высшая скорость мира принадлежит России…
Вместе с бескозырками матросов взлетали в небо, уносимые ветром (и навсегда) кепчонки и картузы путиловских мастеров, гордых своей победой. А потом, когда пришли в Гангэ, командир получил телеграмму – не поздравительную, а трагическую. Оказывается, разведенная эсминцем ходовая волна, почти невидимая с мостика, неслышно подкралась к далекой земле; она обрушилась на берег, разворотила причалы, сорвала со швартов катера и унесла в море детей, игравших на пляже. Командира судили, но суд его оправдал: «Новик» не виноват – корабль сам не знал своей мощи…
А потому и не стоит болтать, что ты служишь на «Новике». Лучше молчать, ибо немцы за этим кораблем давно охотятся.
На сходне Артеньев, по должности старшего офицера, принял рапорт от наружной вахты. Происшествий нет, по правому борту эсминец имел баржу, с которой пересасывал в свою утробу мазут.
– Командир не отлучался?
– Никак нет. В салоне.
– Добро. Вольно.
– Вольно! – репетовали команду, свистя на дудках.
И все живое, что до сего момента застыло в шеренгах, стоя лицами внутрь корабля, – все живое и полнокровное опять задвигалось, затрещало на трапах робами. «Вольно!..»
* * *
Старший офицер – это дракон, это шкура, это сволочь. Если командир – хозяин только корабля, то старший офицер – полицмейстер команды и владыка кают-компании: здесь таится «квадратура круга» его власти. Старший офицер – это цепной пес суровой и железной флотской логики, в которой нет середины, а есть только крайности.
Но старший лейтенант Артеньев, хотя и занимал такую собачью должность, шкурой и сволочью никогда не был. Раньше, когда он числился старшим артиллеристом эсминца, ему пришлось работать бок о бок с матросами, налаживая сложную огневую мощь корабля, а работа всегда сближает людей. Оттого-то и отношения Артеньева с командой были ровными, не беспокоящими лишней нервотрепкой ни его самого, ни его подчиненных. Рукоприкладства на «Новике» не знали, в чем немалая заслуга Артеньева. А ведь не секрет, что на бригаде линкоров у матросов зубы пачками вылетали. Но это уж их дело – «линейное», парадное; дредноуты больше борта у стенок протирают, а на эсминцах люди плавают, – и война, она ведь тоже сближает людей, делая их проще, покладистей.
В каюте Артеньев переоделся в рабочий кителек, навестил минера эсминца – лейтенанта Игоря Мазепу. Как водится на флоте, обращение в чинах между офицерами презиралось, на русских кораблях издавна принято звать людей по имени-отчеству или… по кличке. Мазепа за свою узколобую приверженность украинофилам имел негласное прозвище – «Щирый».
– Игорь Витальич, что с третьим торпедным аппаратом?
– Сменил среднюю торпеду. Вода съела тавот, пошла по корпусу ржавь от рулей. Лучше сменить, чтобы не рисковать.
– Верно, Лили Александровна еще не подкатывала?
– Да нет, – отвечал Щирый. – Наверное, подъедет…
Лили Александровна – это наказанье господне для всего эсминца. Она жена командира «Новика», каперанга фон Дена. Жены частенько бывают на кораблях своих мужей, иногда (в нарушение уставов) остаются даже ночевать, и это бы ничего. Но Лили Александровна фон Ден, урожденная баронесса Фитингоф, была близкой подругой императрицы, принадлежала к окружению Распутина. И никогда не знаешь, какой гадости можно ожидать от этой внешне респектабельной, уже седеющей красавицы.
Из каюты минера – вдоль дорожки текинского ковра – Артеньев цепким шагом проследовал в кают-компанию. В углу, закинутый бледным тиком, дремал рояль. Темно-вишневые панели красного дерева отражали в своей глубине рассеянные блики бра, укрепленных по бортам. От абажуров розового шелка, что качались над столами, проливался успокаивающий свет. На диване, обложившись красочными выпусками журнала «Столица и усадьба», сидел артиллерист эсминца лейтенант Рафаил Петряев. Рослый блондин с раздвоенным от сытости подбородком, он упивался видом фешенебельных гостиных и снимками петербургских красавиц.
– Живут же где-то люди, черт побери! – сказал он с завистью обнищавшего шляхтича. – А тут болтаешься, как шар в биллиарде: от левого угла да в правую лузу. Ты посмотри, какие женщины!
– Не канючь, папочка, – ответил ему Артеньев. – Плюнь. Все в жизни разложено по полочкам: одни в каюте, другие в будуаре.
– Нет, но ты посмотри, какие женщины!
– А я – практик, – сказал Артеньев. – И на чужую мутовку никогда не облизываюсь…
В самом деле, сыну учителя гимназии не пристало задаваться. И нечаянно вспомнилась квартира в Петрограде, с отсохшими обоями, с разбитым паркетом; за окнами, всегда мутными, течет тягучая, как нефть, вода в канале. А за каналом красный кирпич стен Экипажа, почти тюремной кладки, за которыми извечно пели флотские горны, будя еще с детства надежды, что есть широкий мир…
В офицерском буфете вестовой Сашка Платков перетирал к ужину хрусталь, остервенело швырял в лохань корабельное серебро ножей и вилок. Сергей Николаевич сказал ему:
– Зябко что-то. Плесни мне казенного…
С рюмкой мадеры в руке он вернулся в кают-компанию:
– Новости с моря есть?
– Одна. Препоганая новость, – ответил Петряев. – Немцы готовят к спуску серию миноносцев, боевые качества и скорость которых идентичны нашему славному «Новику».
– Ну что ж, – сказал на это Артеньев. – «Новик» только первенец, скоро родятся ему сестры и братья. У нас тоже готовы к спуску на воду однотипные нам «Гром», «Изяслав», «Автроил», «Гавриил», «Азард», «Забияка» и прочие. Я думаю, что если немаки дадут одинаковую с нами скорость, им все равно не совладать с нашей превосходной артиллерией…
Послышался свисток наружной вахты – от сходней.
– О! Это наша мать-командирша, – сказал Артеньев…
Он поднялся наверх. Возле причала стояла коляска на дутых шинах. С помощью вахтенных через сходню уже перебиралась на эсминец стройная дама, серебристые соболя струились с ее покатых плеч. Артеньев на палубе подал ей руку:
– Палуба полита мазутом, не поскользнитесь. И приношу извинения, что встречаю вас в этом кителе… Я слышал, что вы были в Москве? Ну, какова жизнь в первопрестольной?
– Кто бы мог подумать! – трагически отвечала госпожа фон Ден. – Один эклер у Трамбле стоит теперь гривенник. И ввели дурацкие карточки на сахар за обязательной подписью генерала Шебеко. Отныне москвичи разговаривают на языке каторжан: «Я получил пайку, а ты съел пайку…»
– Это смешно, – заметил Артеньев, не улыбнувшись.
– Это ужасно! – ахнула дама. – Я пошла к Ваде Шебеко и говорю ему: «Вадим Николаевич, я же не арестантка, чтобы жить вашей пайкой». Он не стал спорить и выдал мне сахарные карточки на три года вперед. Громадный такой лист – величиной с газету «Вечернее время». Теперь я спокойна… до самой победы я спокойна!
В преддверии командирского салона – тишь да благодать. Тревожные возгласы металла, поющие надрывы машин, визги лебедок на развороте, фырканье нефти в шлангах и раздраженные звонки телефонов – ничто не доносится сюда, в эту святая святых корабля.
– Карл Иоахимович, – сказал старший офицер, пропуская жену командира в салон, – Лили Александровна нас не забывает…
Из кресла поднялся командир «Новика» – капитан I ранга фон Ден, высокий человек с унылым лицом (тонкое пенсне на его носу казалось мало совместимым с его боевой должностью).
– Благодару за лубезность, Сергэй Николаэч, – произнес он с акцентом природного ревельского барона. – Вы свободны, если предполагать, что в этом мире вообще сущэствуэт свобода.
* * *
В каюте старшего офицера одна из переборок, – сплошь в книгах. Вестовым дан приказ: «Не прикасаться!» За время службы Артеньев ударил матроса только единожды, когда тот, в порыве услужения, мокрой тряпкой полез протирать матерчатый переплет дягилевского тома о живописи Левицкого… Ударил крепко – по зубам!
Давно известно, что каждый на Руси сходит с ума на свой лад, не в пример немцам, которых всегда охватывает массовое сумасшествие. Артеньев считал, что, не будь он морским офицером, из него удался бы хороший хранитель музея. Любовь к искусству прошлого, особенно – к русскому портрету, всецело заполняла ту часть души его, которая не была занята службой. С началом войны возникла даже сердечная рана: случись, «Новик» потопят немцы и можно спасти себя, но… книги? Однако с книгами расстаться не мог – плавал вместе с ними, будь что будет.
Он недолго любовался столбцами описей Ровинского, вскоре услышав, что от эсминца отвалила баржа, а трюмные матросы с шуршанием скатывали через палубу рукава мазутных шлангов.
– Леончик, – сказал Артеньев в телефон, – зайди-ка ко мне…
Явился его приятель, инженер-механик эсминца Леонид Александрович Дейчман, стареющий холостяк флотского запаса, вырванный войной из сытой дремоты конотопского хутора, где он оставил возлюбленные им грядки с редькой, укропом и огурцами.
– Сколько приняли топлива? – спросил его Артеньев.
– Недобрали тридцать тонн. Сосали до тех пор, пока с днища баржи не полезла грязь через фильтры.
– Кстати, почты не было? Газет? Что на фронтах творится?
– Газеты изолгались, – сказал Дейчман. – Впрочем, мы не скорбим от поражений и не ликуем от побед: источник наших настроений – дадут нам водку или нет? А ты чего грустен?
– Да так… не пойму сам. Между прочим, я сегодня «Под двуглавым орлом» встретил одну женщину. И не выходит она у меня из головы. Даже читаю вот, а… думается о ней, вспоминается!
– Вопрос первый, – сказал Дейчман. – Чья она жена?
– Не хочу тебя смешить, Леончик, но… Так и быть, можешь смеяться: она служит кельнершей в этой кондитерской.
– Значит, не графиня… та-а-ак. – Разумный Дейчман рассуждал слишком разумно: – Офицерский корпус его величества имеет свои жестокие законы. Если Бискупскому не простили женитьбы на знаменитой Вяльцевой, то… пусть эта кельнерша останется между нами. Мне сказал, как другу, и больше никому не сигналь.
Артеньев смущенно отшутился:
– Но я же не собираюсь жениться. Просто интересная женщина… Чего ты хочешь? И вообще, милый, вокруг этой дамы, как я догадываюсь, поставлена густая дымзавеса таинственной неизвестности.
– Тебя, чернокнижника, надобно просветить, – сочувственно заговорил механик. – Вон мичман Кара-Динжан с угольного «Разящего». Списали его вчера на берег с дымом, с треском и ужасной копотью.
– За что списали?
– Люэс… Не признается, под каким «Орлом» он его сцапал – под двуглавым или… Но люэс местный. Либавского происхождения. Так что будь здоров, Сереженька, и бросай свою кельнершу, пока не получил пробоины ниже ватерлинии…
Эсминец сильно качнуло на волне, разведенной близко прошедшими тральщиками. Свежий ветер раздул пузырем шторы над иллюминатором. Дейчман кивнул наверх – к стальному подволоку, над которым размещался салон командира.
– А эта кайзерина… там? – спросил со значением.
– Да. Между нами говоря, я не понимаю Карла Иоахимовича. Как можно продолжать супружескую жизнь, если ему отлично известно, что жена его состоит в распутинском окружении?
– Это ты не понимаешь. А есть люди, для которых карьерные соображения дороже святости семейного очага. Ты посмотри, – сказал Дейчман, – какие хваты обретаются в штабе Эссена? Однако Эссен не дает им ходу дальше каперанга. А наш фон Ден скоро получит черного орла на погоны… А может, и аксельбант привесит.
– Ну, это слишком! Еще бы перо ему вставить и посадить с женою на крышу трамвая…
Дейчман поднялся, зевнув:
– Ладно. Пойду. Мне снова не спать – две трубки потекли в третьем котле. А с нашей командиршей будь настороже. Помни, что у нее имеется еще кузен, барон Фитингоф, который на «Гангуте» сейчас матросам гайки завинчивает… Понял?
– Боюсь, плохо кончится, – ответил Артеньев обеспокоенно. – На флоте есть только одна гайка – это долг перед отечеством, и вот эту гайку я согласен завинчивать до упора. Но если я вижу, что матрос расхристался, так это я как-нибудь переживу. В конце концов, люди устали от войны. Не желает матрос бушлат на себе застегнуть – ну и черт с тобой, не застегивайся!
– Я тоже такого мнения, – согласился инженер. – Но это мы… мы с тобой воюем. А есть корабли, с которыми возятся, как нищий с писаной торбой. Их прячут от врага, но показывают царю! Там все гайки уже пришли в движение. И матросы от этого воют…
Артеньев раньше времени лег спать. Задремывая, он слышал возглас с палубы: «Почта пришла!» Еще разок вспомнил он красивую кельнершу – всю в кружевах, пахнущую миндалем… Заснул крепчайше – под яростное фырканье виндзейлей, под гнусавое сипение магистралей, в артериях которых корабль неустанно качал горючее, пар, воду горячую, воду забортную.
* * *
Среди ночи к «Новику» подошел посыльный катер, штабной офицер передал на эсминец пакет, вскрыть который следовало на траверзе Полангена… С этим пакетом в руках Артеньев поднялся в салон. Под пальцами неприятно дребезжала пластина двери: дру-дру…
– Карл Иоахимович, – доложил он фон Дену, – нами получен приказ: вытягиваться в Минную гавань. С нами идет полудивизион особого назначения в составе миноносцев – «Охотник», «Пограничник» и «Сибирский стрелок».
За бархатным пологом алькова раздались слова, сказанные по-немецки, и Артеньев хорошо расслышал их:
– Берем мины. Наверное, снова идем под Данциг. Одевайся же, мое сокровище, поскорее: теперь здесь тебе не место… В случае чего, знай, что могила твоего мужа возле минной банки Штольпе!
Коляска на дутых шинах отъехала от причала, а «Новик» на малых оборотах винтов потянулся в черную пропасть Минной гавани, где всегда царили страх, риск, опасность, строгость. «Но зачем? – думал Артеньев. – Почему фон Ден сказал, что мы идем опять под Данциг? Ясно, что к утру будем на банке Штольпе… Во проклятый дурак! Во проклятое место!»
3
На корме эсминца палубные рельсы обрываются в море. Кормою «Новик» и подошел сейчас под минный причал. А на причале – тоже рельсы (узкие, как у одноколейки), они тянутся по земле вдаль, прямо в распахнутые ворота минного пакгауза. Сейчас в мелькании карманных фонарей, в молчаливой суровости, минеры выкатят первую мину, вторую, третью… Еще никогда возня с минами не улучшала настроения тем людям, которые с ними общаются. Возишься с нею, как с младенцем, и пока не спихнешь за борт – покоя тебе не будет… Фон Ден стянул под бритым подбородком ремешок фуражки:
– И сколько берем этого барахла?
– По девятнадцать на борт, итого тридцать восемь.
– Какая мерзкая слякоть летит с неба. Ужасно, ужасно… Сергей Николаич, ради моего спокойствия пройдите к пакгаузу.
Под ладонями с поручней трапа сползала каша мокрого снега. Из мрачного склепа пакгауза матросы – плавно и осторожно – уже выкатывали первую мину. Громадный кругляш ее был укреплен на тележке якоря, и мина сейчас напоминала дурацкий вагон, который дергался колесами на стыках рельсов. Артеньев заметил, что это была мина нового образца «тип 08 (15)», обладавшая страшной разрушительной силой, способная ломать днища крейсеров. От пакгауза еще издали слышался возбужденный гул матросских голосов.
– Что за аврал здесь? – прикрикнул Артеньев, входя.
Минер эсминца лейтенант Мазепа тоже был здесь.
– Ненюков тут баланду разводит, – сообщил он старшему.
– Ненюков!
– Есть. – Перед Артеньевым выросла фигура матроса, в «штате» которого на рукаве была изображена рогатая мина. – Никакой баланды нет, ваше благородие. Спорим вот… Письмо получил из дому. Из деревни, значит. Тетка моя, Марковна, мужа с фронта дождалась. Ни рук, ни ног – так исправно всего обтесали, хоть в рамочку и на комод ставь, чтобы любоваться… Вот и спорим тут с ребятами!
– Спорить нечего. Человек пострадал за отечество…
Матросы опять загалдели, один подскоком уселся на мину, прямо посреди ее страшных рогулек, махал руками, рассуждая:
– Убить твою тетку мало! Разве можно так с инвалидом?
– Ненюков, а что твоя тетка сделала с калекой-мужем?
Минер охотно пояснил старшему офицеру:
– А ничего не сделала… Посадила урода на телегу и отвезла в уезд, прямо к воинскому начальнику. «Вот, – сказала там, – брали вы его у меня с руками и ногами, а обратно в порядке не вернули…» Пихнула сокровище это на лавку, а сама – в деревню.
– Как можно? – возмутился и Артеньев. – Защитника страны?
– Очень даже можно, – со злобою отвечал минер. – Потому как четыре рта уже разеваются. И туда – только кидай, словно в кочегарку худую… На што тетке моей пятый рот?
Артеньев вдруг поманил Ненюкова к себе пальцем:
– Ближе, ближе ко мне… Ну-ка, дыхни на меня!
Ненюков дыхнул вбок, но офицера не обманул.
– Где надрызгался, скотина? Говори – где взял?
– Да тут вот… недалеко за гаванью. Бабы торговали.
– Если не все выпил, вылей за борт. Сосешь заразу всякую! Лейтенант Мазепа, после похода Ненюкову – карцер. На всю железку!
– Есть карцер Ненюкову! Продолжать погрузку, черт бы вас побрал! Разве за всеми вами уследишь?..
Тридцать восемь мин поставили на рельсы эсминца. Принайтовили к палубным рымам, чтобы не дергались на качке. Заботливо укрыли каждую клеенчатым чехлом, чтобы вода и снег не растворили в ней сахар[2]. «Новик» уже мелко дрожал, весь в нетерпении, словно горячий рысак перед скачкой. Под настилом палубы мягко содрогались турбины, а ревы мощных воздуходувок сотрясали тишину Минной гавани. Горячие ветры, вырываясь из машинных низов, словно из кратера вулкана, слоями перемещались над кораблем.
Артеньев, хватаясь за поручни, взлетел на мостик:
– Карл Иоахимович, можно отдавать кормовые концы…
Не спеша вытянулись за волнолом. Первая волна пробежала от носа до кормы. Слизнула с палубы остатки мазута и квашню истоптанного снега. Ветер, пружиня, раздувал брезенты над минами.
– Пошли! – стали креститься на мостике. – Господи, будь к нам милостив, помоги нам, боже милосердный. Смилуйся ты над нами, пресвятой Никола-угодник, хранитель всех плавающих…
Мелькая уютными огнями, пропадала Либава в темени, и никому уже не верилось, что где-то есть улицы, шумят ночные рестораны, танцуют женщины и ложатся люди спать – в мякоть постелей, с вечерней газетой в руках… «Новик» узким клином входил между волн, торопливо поглощая смятенное пространство.
* * *
Далеко в море последовал доклад от сигнальной вахты:
– По правому крамболу – четыре шашлыка!
Мачты кораблей с их надстройками, медленно выступая из-за горизонта, и в самом деле напоминают шампуры, на которые нанизаны куски мяса. Встреченный в море полудивизион (тоже с грузом мин на борту) вышел из порта Виндавы и примкнул к «Новику»… На траверзе Полангена вскрыли пакеты: штаб приказывал развернуться для постановки мин на коммуникациях противника возле Данцига. Куда идут корабли – матросам никогда не сообщали.
Ближе к рассвету на мостик позвонили с торпедных аппаратов:
– У нас беда! Ванька Ненюков ни хрена не видит… ослеп! Мы стащили его с кресла наводки… Что делать?
– Сергей Николаич, – отозвался фон Ден, обращаясь к старшему офицеру, – пройдите, любезный, в пятую палубу, выясните.
На обледенелом настиле палубы ноги выписывали вензеля. Артеньев с трудом добрался до кормы. Пролез через люк в пятый отсек, где селились нижние чины минной службы. Ненюков сидел в кубрике на рундуке, тупо глядя перед собой… Артеньев спросил его:
– Что ты лакал сегодня, собака? Покажи мне бутылку.
Волна вздернула корму эсминца на гребень, под палубой с грохотом бились гребные валы. Ненюкова шарахнуло в сторону, ударив о стойку пиллерса. Артеньев сам распетлял шнуровку его чемодана, среди матросской хурды обнаружил бутылку. Никакой этикетки на ней, конечно, не было. Понюхал сам и передал бутылку матросам:
– Нюхните и вы… Что здесь? Политура?
– Ликер из табуретки, – ответили ему. – От него дохнут…
Держа в руке бутыль, источавшую резкое зловоние, Артеньев испытывал и жалость к матросу, и страшную злость.
– Вот этой бы бутылкой, – сказал, – да по башке тебя…
По трапу, весь мокрый, скатился лейтенант Мазепа.
– Ну что? Отвоевался? – накинулся он на слепнущего. – Снимаю тебя с боевого расписания. Проваливай до родимой деревеньки. Может, там тебя тетка отвезет на телеге куда-нибудь до первой канавы… Ложись на рундук! Лежи…
– Привязать его, – распорядился Артеньев. – Иначе швырнет на качке с рундука – ног-рук не соберем.
– Братцы вы мои! – вдруг завопил Ненюков. – Да што же это деется? Ой, братцы… лучше бы меня убило…
Рыдающего минера вязали шкертами к рундуку, а он извергал то молитвы к всевышним силам, то самую черную матерщину. И в этот момент звончайше – так, что мертвецы подымутся из гробов! – ударили по всем отсекам эсминца призывные колокола громкого боя.
– По местам стоять – тревога, тревога, тревога!
* * *
Напором ветра толкнуло промерзлую рынду, и медь колокола гудела на ветру – нестерпимо щемяще… Эсминцев полудивизиона было не видать: они спешно отвернули, полоски дымов их растаяли, словно легкие мазки акварелью. А из предрассветной мглы резко и зловеще выступали сразу пять вражеских силуэтов. Сейчас уже все на «Новике» видели, как впечатались в горизонт узкие зализанные тени германских крейсеров. На мостике сразу стало тесно, шумно, галдяще. И пожилой сверхсрочник кондуктор Хатов, стоя за штурвалом «Новика», сказал с непонятной яростью:
– С поздравкой всех нас! Вляпались, как дачники… Сейчас немаки будут нам собачью свадьбу играть…
С дальномера гальванеры уже исправно подавали дистанцию:
– …сорок три, сорок два, сорок один… Противник резко идет на сближение!
Срываясь ногами по скобам трапа, на визирную площадку залезал опоздавший спросонья Петряев, и Мазепа с мостика треснул его ладонью по сытой вертлявой заднице:
– Быстрей работай, папочка. Шевели мослами…
– Человек за бортом! – вдруг резануло почти вопельно.
Каперанг фон Ден быстро отреагировал:
– Бросьте круг для очистки совести, и… лежать на курсе!
В отдалении выплеснуло из воды последние взмахи рук, и море тут же сомкнулось над человеком. На телефонном расблоке Артеньев щелкал переключателями, опрашивая наружные посты: «Кто выпал?» Но посты отвечали мостику, что у них составы полные, потерь нет. «Новик» шел на виду германских крейсеров, прикрывая отход полудивизиона. При наличии минного груза на палубах миноносцы уже не могли стрелять – ни торпедами, ни артиллерией. «Новик» сейчас в том же гиблом положении, однако орудие носового плутонга можно ввести в бой… На полубаке, расставив ноги, стыли на ветру комендоры, упругий свежак открытого моря балахонисто вздувал их широченные клеши… Крейсера отворачивали на пересечу.
Вдавив свое лицо холеного барина в каучуковую оправу визирной оптики, лейтенант Петряев истошно выкрикивал:
– Головным «Принц Адальберт», за ним бронепалубный «Мюнхен»… «Аугсбург», следом – «Роон», а концевым «Тетис»… Товсь!
Первые снаряды пристрелки взмутили воду на перелете. Вторая серия рухнула под левой скулой «Новика». Эсминец замер, вздрогнув всем телом, и, отряхнув с палубы тонны воды, пошел дальше.
– Карл Иоахимович, не пора ли менять курс к повороту?
– Не спешите умирать, – отвечал фон Ден помощнику. – Что нам даст поворот? На циркуляции мы потеряем половину залпа.
– Но мы же не сделали еще ни одного! – возмутился Артеньев.
– А стоит ли? – неожиданно прозвучал вопрос каперанга…
Гнусаво проблеял под козырьком мостика ревун. Следом за ним бравурно выстрелила носовая. На залпе людей осияло желтым восковым пламенем. Полыхнуло жарким дыханием порохов.
– Кто давал приказ? – заорал Ден, перевесясь с мостика через поручни.
От носовых орудий, выбивая из ствола пушки дымно воняющий унитар, ему отвечал старшина орудия, весь опутанный проводами:
– Приказ и ревун даны с дальномера!
Фон Ден задрал лицо к визирной площадке:
– Лейтенант Петряев, сейчас же задробите дистанцию. Или вам кажется, что здесь маневры?
Грудью преодолев напор ветра, через мостик шагнул Артеньев:
– В чем дело? Данные верны – накрытие с первого залпа…
– Лучше обратитесь в корму, – огрызнулся командир «Новика».
Тридцать восемь стальных шаров, до предела натисканных могучей взрывчаткой, болтались на рельсах эсминца. Один осколок в размер ногтя – и этого хватит, чтобы «Новик» со всей его командой превратился в раскаленное облако газов.
– Я не имею права рисковать кораблем, – продолжал фон Ден. – Мне доверено сто двадцать молодых жизней. В том числе и ваша, старший лейтенант… Разве это не по-христиански?
Петряев нарушил приказ, и второй залп носового плутонга напористо шибанул всех ударом пламени. С носа Дена сорвало пенсне.
– Довольно спорить, – сказал он. – Мы давно в кольце!
– Прорвемся! – озлобленно отвечал Артеньев.
– Это безумие…
– Безумно – думать иначе. Продолжать огонь!
– Прекратить огонь! – настаивал фон Ден. – Я не могу принять боя с грузом мин на борту. Это лишено смысла… Сигнальщики!
И фон Ден сам кинулся к этажеркам кранцев, в которых лежали, свернутые в коконы, флаги двух сводов – отечественного и международного. В руках каперанга ветер развеял шелковый моток флага, и все увидели… большое белое полотнище.
– Поднимай! – велел фон Ден сигнальному старшине.
Старшина Жуков испуганно взирал на командира:
– Ваше благородие… избавьте. Как есть… Христом-богом прошу. Я русский моряк… не могу позориться! Лучше уж я погибну…
Шестерка снарядов, сверля мутный воздух рассвета, прошла над мостиком, пригибая к решеткам настила самых храбрейших. Фон Ден развернулся и – вмах! – треснул Жукова по зубам. В паузе между залпами отчетливо лязгнули зубы старшины.
– А хучь убейте! – осатанел Жуков. – Подымайте сами…
Каперанг начал привязывать к фалам белый флаг. С высоты дальномеров разносился голос Петряева:
– Кончайте этот декаданс… Нас же сейчас накроют!
Артеньев вынул револьвер, ткнул его в спину фон Дена:
– Долой с мостика! Или пришлепну…
Фон Ден треснул рукой по оружию, и револьвер Артеньева, матово блеснув, скрылся за бортом. Первое орудие – в панике событий – вдруг замолчало. Германские крейсера, фукая в небо языками огня и копоти, быстро пожирали расстояние, тесня «Новик» в середину своего железного строя.
– Вы арестованы! – сказал фон Ден старшему офицеру.
Но тут сзади подошел старший минер Мазепа, заложил руку за шею каперанга и рывком свалил командира на решетки мостика.
– Хватит уже! – заявил Щирый. – Лучше под трибунал пойду, но этого балагана не могу терпеть… Старший, бери команду!
– Стойте! – кричал фон Ден, когда сигнальщики стали вязать его фалами. – Стойте же… вы все погибнете!
Возле боевого телеграфа выпрямился лейтенант Артеньев:
– Носовая, чего притихли? Давайте ревуна… огонь!
И толкнул рукояти на «полный». Выбил заглушку на трубы в машину, приник к раструбу амбушюра. Носовая выстрелила, ударившись о медь, Артеньев разбил себе губы. Брызгаясь кровью, он приказывал в машину:
– Дейчман, давайте из турбин что можете. А чего не можете, тоже давайте… Сейчас на лаге только восемнадцать!
Стрелки тахометров, плавая в голубом дыму, потянулись дальше, отмечая возросшую ярость турбин. Пять германских крейсеров крепко зажали «Новик» в блокаде своих прицелов. «Новик» пенного буруна не давал, и потому немцы не сразу заметили нарастание его скорости. На крейсерах стали очухиваться, когда эскадренный миноносец пошел на прорыв… В рубках «Новика» неустанно отщелкивал показатель лага: 32 узла… 33… На тридцати четырех узлах вырвались из кольца, после чего умолкли пушки, а на мостик, расслабленно шатаясь, поднялся инженер Дейчман.
– Меня сейчас избили, – сказал он, плача без стыда.
– Кто избил? – обступили его офицеры.
– Мои же кочегары. Грозили вышвырнуть за борт.
– За что, Леонид Александрович?
– А за то, что «дейчман» означает «немецкий человек»…
Дали отбой боевой тревоги, и до мостика дошел слух, что в кубриках заваривается кутерьма. Весть об измене командира задела самолюбие матросов. Казалось, они не могли простить себе своего заблуждения, что ранее подчинялись предателю. Теперь из низов корабля доносились выкрики: «Долой всех немцев! Баронов за борт!» Артеньев осведомился – кто больше всех шумит, и боцман Слыщенко донес, что шумят двое:
– Портнягин – из первой, а Хмара – из четвертой палубы.
– Этих крикунов ко мне, – распорядился Артеньев.
Два матроса поднялись на мостик, посматривая исподлобья.
– Берите в пирамиде карабины, – наказал им Артеньев. – Под вашу ответственность сдаю вам бывшего командира. Башкой ответите мне за него… Запереть его в салоне.
Матросы, жестоко усердничая, поволокли фон Дена к трапу – с бранью унизительной:
– А, хад ползучий! Тебе-то в плену бламанже на тарелочке подавали б. А нам лопатой из ямы помойной… Иди, сучара!
Горизонт ожил, и Артеньев вздернул к глазам бинокль. От Виндавы спешили крейсера 1-й бригады – «Адмирал Макаров», «Баян», «Олег» и «Богатырь». Из радиорубки «Новика» вырвались бурные взрывы пискотни и воя морзянки – это работали радисты эсминца, сообщая координаты немецких кораблей. Крейсера России пронесло мимо – они, внешне нелюдимые, быстро растворились в серости дня… «Ну, кажется, все закончилось!»
Артеньев (он был смертельно бледен, почти посинел лицом), повернувшись спиною к ветру, долго разминал в пальцах папиросу:
– Вот и служи… Служишь, черт побери, и не знаешь, кто рядом с тобой… Это ужасно! Сдать врагу «Новик» – лучший эсминец русского флота.
Возле его носа чиркнул спичкою минер Мазепа:
– Прошу! А вам не кажется, что теперь вы станете командиром «Новика»?
– Спасибо. Не ради карьеры служу…
Тридцать восемь мин еще ерзали на рельсах, терлись боками в расслабленной швартовке креплений, и только сейчас люди заметили, что чехлы над ними были разодраны осколками. Но храбрецам всегда чертовски везет – это уж старая истина.
4
На подходах к Либаве он попросил к себе Дейчмана.
– Леон, – сказал ему Артеньев в штурманской рубке (без свидетелей), – после того, что произошло на мостике, следует потушить то, что случилось у тебя в котельных… Ты это понимаешь?
– Я все понимаю, но лезть в низы обратно не хочу. Зачем? Чтобы мне опять намяли карточку за мою фамилию?
– Тогда ты не понимаешь… Фон Дена с его предательством хватает «Новику» уже выше мостика! Если обнаружится и твоя беда, матросам припишут большевизм, команду «Новика» могут расформировать. А команда уже сплавалась, и нельзя эсминец выбивать из ритма войны… Теперь осознал, дружище?
– Я… боюсь, – признался механик.
– Боязнь своих подчиненных – это такая болезнь, которую лечат отстранением от службы. Не вылечишься – спишут!
Эсминец легко клало на борт, потом волна перекладывала его на другой борт. Внизу что-то громыхало, и Артеньев не сразу догадался, что это ветер колотит брезенты спасательных шлюпок.
– Ну! – строго прикрикнул он на друга. – Решайся!
– Какая сволочь, – вдруг заговорил Дейчман, – осмелилась перетолмачить с немецкого на русский мою поганую фамилию? Впрочем, я понимаю – меня бы никогда не ударили, если бы не эта история на мостике. Как только до котлов дошло, что у вас там стряслось, меня сразу и треснули. А знаешь, кто меня бил?
– Не надо фамилий. Истории возбуждать не будем.
– Но это так гнусно. Меня били, а я кричал им, что мой дед – крымский врач, а мать – молдаванка… Боже, неужели в такой грандиозной империи не найдется местечка и для инженера Дейчмана, захудалого конотопского дворянина?
Артеньев долго молчал, наблюдая, как по разложенным на столах картам ползал хитрый механический жук – одограф, автоматически записывая на картах все изменения курса корабля. Вот прибор с резким жужжанием передвинул свой карандаш – значит, эсминец уже пошел на разворот к Либаве, скоро войдет в канал фарватера.
– Ладно, – поднялся с дивана Артеньев. – Кочегаров накажем как-нибудь келейно. Отнесись к этому, если можешь, с юмором. Ну, дали в нос. Ну, кровь брызнула. Ну… с кем не бывает?
Явился боцман Ефим Слыщенко, сообщил доверительно:
– Так что смею доложить о человеке за бортом. Все уже в полном ажуре – это Ненюков кувырнулся. Кады боевую сыграли, он по доброй воле, от рундука отвязавшись, шагнул за борт – прямо ко святым угодникам… После него хурда осталась. Домой отсылать, что ли? На деревне всякая тряпка сгодится…
– Отсылай, боцман. Я письмо напишу, что погиб геройской смертью… за веру, царя и отечество!
И как-то все перемешалось в усталой голове. И эта тетка, получившая с войны обрубок вместо мужа; и этот прыжок за борт матроса, ослепшего от бутылки денатурата; и этот рев крейсерского калибра над головой, гнуснейшая подлость предательства командира; а где-то – издалека, из тишины – отзывалось теплом и светом от чистой и здоровой женщины, встреченной случайно.
Артеньев поднялся на мостик. Прошли приемный буй, который подвывал кораблям сиреной, тяжко качаясь на волнах.
– Сразу, как отдадим якоря на рейде, всех господ офицеров прошу в кают-компанию…
* * *
Два якоря-холла, грохоча звеньями цепей, зацепили «Новик» за грунт либавского рейда.
Фон Ден стал бушевать взаперти салона, требовал, чтобы его допустили к радиорубкам эсминца.
– У меня телеграмма к его величеству! – кричал он. – Тридцать слов… Хорошо, я согласен на двадцать… хоть на десять. Но пустите меня… царю-ю… у-умоляю вас! Дайте оправдаться!..
В кают-компании – два узких стола, протянутых вдоль бортов. Между ними – узкий проход, в котором и расхаживал Артеньев.
– Господа, – говорил он, взвешивая каждое свое слово, – под славным андреевским флагом нашего эсминца при столкновении с крейсерами противника произошло одно событие… возмутительное! Позор слишком велик, и нельзя доводить дело до суда. Следует его и завершить здесь же, не сходя с корабля, как дело нашей общей чести. Я сознательно подчеркиваю, что затронута честь нашего корабля… Надеюсь, вы меня отлично поняли?
Все его поняли, только новиковский священник отец Никодим поежился в смущении.
– Да ведь грех, – сказал, – грех человека на смерть толкать.
– Во-первых, – ответил ему Артеньев, – у вас, батюшка, из-под рясы торчат штрипки от кальсон. Здесь вам не сельская церквушка, а кают-компания… А во-вторых, батюшка, вы в дела мостика не суйтесь, как мы не суемся в церковную палубу. По-моему, – заметил Артеньев, – грех заключается в другом – в измене отечеству!
Отец Никодим затолкал под носки завязки кальсон и сказал:
– Я молчу. Дело ваше. Офицерское. Благородное…
Артеньев при всех покрутил барабан револьвера, из которого торчали желтые затылки патронов. И высыпал все патроны из барабана. Со стуком они падали на обеденный стол кают-компании, раскатываясь по зеленому сукну скатерти.
– В барабане оставляю один. – сказал Артеньев. – Пусть он распорядится им, чтобы уйти от позора самому и не позорить нас. Кто не согласен со мною – прошу встать и заявить.
Офицеры молчали: они были полностью солидарны с ним.
– Добро. Тогда я поднимусь к нему…
Боже, до чего же тяжелы показались ему на этот раз двенадцать ступеней трапа, ведущих в благословенную тишь салона, простеганного штофом и бархатом. Возле дверей с карабинами в руках, замкнув лица в хмурости, стояли матросы – Портнягин и Хмара.
– Благодарю за службу, ребята, – сказал им Артеньев. – Теперь ступайте отсюда прочь. – И он шагнул внутрь каюты командира.
Фон Ден сидел в кресле-вертушке перед столом, напротив него стоял в причудливой рамке из бронзы портрет жены.
Молча, расширенными глазами он наблюдал за старшим офицером. Артеньев подошел к раковине, тонкой струйкой пустил воду из крана. Наполнил водою ствол револьвера, держа его вертикально. После чего протянул револьвер командиру:
– Надеюсь, Карл Иоахимович, вам не нужно рассказывать, как поступают опозоренные офицеры. Вот вам… с водою!
Вода при выстреле разносила череп в куски.
– Держите!
Фон Ден взял револьвер и выплеснул из него воду.
– Я не опозорен. Я верный слуга его величеству. Я потребую суда. Я добьюсь правды…
– Суд офицерской чести уже состоялся. И он осудил вас!
– Нет! – отвечал каперанг, весь трясясь. – Я не могу.
– Уже поздно. Так постановила кают-компания.
– Нет! Это шантаж…
– Шифровку по радио мы уже дали. Поторопитесь.
– Нет. Я дождусь ответа из штаба.
– Поторопитесь. Скоро за вами придут жандармы. Здесь один патрон. Этого хватит. Уйдите от позора сами, не позоря других…
В спину уходящего Артеньева фон Ден, словно нож под лопатку, всадил одно только слово:
– Мерзавец!
Артеньев из коридора салона не уходил. Ждал выстрела. Но выстрела не было. Постучав в дверь, он напомнил:
– Кончайте же наконец эту канитель!
И грянул сдавленный выстрел. Артеньев рывком открыл дверь.
Каперанг фон Ден по-прежнему сидел в кресле, облокотясь на стол. Он стрелял в себя через подушку, и подушка теперь была отброшена в сторону, из нее просыпался пух. Пуля же, пущенная каперангом в висок, вышла у него из глаза, и теперь этот глаз желтой осклизлой слякотью стекал по щеке…
Самое страшное, что фон Ден остался жив и сознание не потерял. Вторым глазом он сейчас с ненавистью глядел на старшого.
– Подлец, – сказал он Артеньеву. – Ну какой же ты подлец…
Артеньев насытил пустой барабан еще одним патроном.
– Будьте же мужественны! – крикнул в бешенстве.
Пальцами фон Ден тронул свой висок, размозженный пулей, окровавленные руки медленно потянулись через стол – к бумаге.
– Два слова… – неожиданно попросил он. – Жене…
Карандаш выкручивался из его пальцев. Артеньев вышел.
Он дождался второго выстрела. На этот раз фон Ден был мертв, но из кресла не выпал. Сидел – прямой и безучастный, вдавив острый подбородок в грудь. На длинном черном шнурке, словно маятник, раскачивалось пенсне. А перед ним, захватанная кровавыми пальцами, лежала записка к Лили Александровне: «…меня убивают подлецы-карьеристы, свои же офицеры, которым я так много сделал хорошего. „Новик“ пропитался ядом анархии. Я ухожу из жизни не по своей воле, а принуждаемый к тому насилием. Может, это и к лучшему, ибо тогда не предстоит мне наблюдать те ужасы, которые ожидают Россию в будущем… (Далее следовали слова любви к жене, которые Артеньев старался не прочесть). Но не прости убийцам моим!» – заклинал фон Ден жену в конце записки.
От такой гнусной лжи Артеньев что было сил хватил ногой по стулу, и фон Ден мешком свалился на ковер. Чтобы ковер не запачкать кровью, Сергей Николаевич подсунул под голову мертвеца подушку. После чего нажал педаль на расблоке вызова под словом «буфетъ». Моментально явился в салон Сашка Платков с полотенцем, переброшенным через плечо, словно заправский официант.
– Помоги мне, – сказал ему старший офицер. Они содрали все белье с пышной кровати командира. Мертвеца в несколько рядов, плотно и туго завернули в простыни. Белой куколкой лежал он по диагонали салона, непомерно длинный, и матрос с офицером переступали через него как через бревно. От возни с неповоротливым телом оба устали. Полосатый матрас обнаженной постели наводил на мысль о генеральной уборке.
Сашка Платков вытер лоб посудным полотенцем.
– Все-таки, – сказал он, – матросское дело проще: ну, морду набьют тебе, и все тут. А вот офицеры…
– Цыц! – прикрикнул Артеньев. – Больно ты у меня грамотный стал. Зови сюда подвахтенных. Пусть оттащат каперанга в душевую и дверь – на замок. А ключи от бани – мне!
С запискою фон Дена он спустился в кают-компанию.
– Здесь и про нас, господа, – сообщил он, пуская записку по кругу. – Каперанг называет нас убийцами… Но никто из нас не убивал его. Он ушел из жизни сам, и это лучший вариант из всех, какие только можно придумать…
Командиру Минной дивизии контр-адмиралу Трухачеву он отослал подробный рапорт о случившемся, приложив к нему предсмертную записку фон Дена (пусть штабные перешлют жене).
* * *
Вечерело, когда лейтенант Артеньев отправился на Шарлотинскую – в кофейню «Под двуглавым орлом». За эти сумасшедшие дни он как-то позабыл лицо Клары Изельгоф, и память – в сумбуре событий – не могла восстановить ее нежного облика. Он спешил к ней, чтобы увидеть, чтобы запомнить и больше не забывать…
* * *
Став базою флота, Либава резко разделилась на два города… Старая так и осталась дремать в тишине парков, где вековые дубы осеняли ее «монплезиры» и кургаузы. Новая же Либава быстро разрослась в пролетарский город.
Денно и нощно дымили копотью трубы цехов и мастерских; германский капитал властно управлял акционерным обществом «Беккер и К°», на заводах которого тянули сталь и проволоку; фирма Вакандера и Ларсона штамповала пробку и отливала линолеум; пыхтели паром фабрики растительных масел. Здесь не выживали цветы, не было тут и тенистых вилл, а музыка курортов сюда не долетала.
Не миновать новой Либавы, чтобы попасть в старую, буржуазную. Прямо над гаванью, словно над пропастью, был переброшен Железный мост, соединяющий две Либавы, как два различных мира. При лунном освещении мост этот казался иногда Артеньеву мистической конструкцией, созданной неземными существами. Железный мост вел его на свидание любви…
И вот что удивительно: Клара, оказывается, его ждала. Нет, она не призналась в своем ожидании, но Сергей Николаевич догадался об этом сам – по вспыхнувшему взгляду, по суетливой радости ее первых слов. А он вновь наслаждался покоем и тишиной, любовно трогал молочный кофейник… Артеньев говорил женщине:
– Втиснутые в железные коробки отсеков, лишенные подчас самого необходимого, поверьте, как мы любим, чтобы на берегу нас окружали красивые вещи, чтобы такие красавицы, как вы, улыбались нам!
На стене кофейни недавно появился новый военный плакат: «Берегись шпионов!» К плакату была приложена красочная схема германского шпионажа, которая широко раскинула свои щупальца, охватив почти все области русской жизни… Среди шпионов поблизости от агента по распространению швейных машин компании «Зингер» была представлена и фигура официантки, которая подслушивает разговор пьяных офицеров… Но Артеньев-то – не пьяный, да и что он скажет красивой женщине, кроме тех слов, какие вообще говорят женщинам?..
Поздно вечером он сидел в своей каюте и писал… в Казань:
«Милостивые государи.
С глубоким волнением узнал из газет, что в Вашем городе, несмотря на ужасы войны и многие бедствия, открывается выставка «Художественные сокровища Казани». Мне известно, что в Казани работали миниатюристы Босси и Барду, меня всегда интересовала работа художников «Арзамасской школы» – Ступина, Макарова, Мелентьева, Щеголькова и прочих. Много уже лет я занимаюсь русской иконографией… Весьма сожалею, что, связанный службою, не могу посетить Казани, чтобы усладить себя личным общением с художественными сокровищами Казани. У меня просьба к устроителям выставки: когда выйдет ее каталог, не откажите в любезности выслать один экземпляр по адресу…»
Ложась спать, Артеньев просмотрел «Журнал иностранной литературы». Попалась интересная статья о женской красоте (с древних времен до наших дней). Артеньева интриговал Винтергальтер, который работал в Париже и написал немало портретов русских красавиц. Все в мире интересно, но… пора гасить свет и спать.
5
В прошлом году германский крейсер «Магдебург» с треском напоролся днищем на камни возле маяка Оденсхольм. Команда крейсера, выстроясь на палубе, по сигналу с мостика толпой шарахалась с борта на борт, чтобы раскачать корабль, работавший машинами «враздрай». Но сняться с камней не удавалось. Тогда немцы стали выбрасывать тяжести: якорные цепи, броневые двери башен и рубок, выпустили за борт всю питьевую воду. Трудились всю ночь – не помогло: «Магдебург» застрял прочно.
На рассвете их заметили с маячного поста русские моряки. «Магдебург» открыл огонь, разбивая снарядами вышку маяка и барак радиопоста. Но израненные радисты, истекая кровью за «ключом», успели передать на базы важное сообщение. К острову Оденсхольм спешно вышли русские крейсера. Еще издали они открыли огонь, отгоняя от «Магдебурга» германский миноносец, снимавший с крейсера его экипаж. Русским сдались в плен сам командир «Магдебурга», два его офицера и полсотни матросов. Но перед сдачей они успели запалить погребные фитили – взрывом разрушило «Магдебург» от носа до второй трубы.
Эссен послал к месту гибели «Магдебурга» партию балтийских водолазов. Ползая по затопленным отсекам крейсера, водолазы исправно «обчистили» салон и каюты. Наверх были поданы даже плети, на рукоятях которых имелись казенные штемпеля: «К. М.» («Кайзеровский флот»). Плети были страшного вида – почти палаческие семихвостки, размочаленные на спинах матросов[3]. По окончании работ на «Магдебурге» адмирал Эссен приказом по Балтфлоту объявил всем водолазам строжайший выговор за безобразную работу. Водолазы спокойно проглотили выговор и… получили месячный отпуск!
Этим приказом Эссен, маскируя свою радость, запутал германскую разведку. В каютах на «Магдебурге» секретных документов действительно не нашли. Но когда стали обследовать грунт возле крейсера, наткнулись на труп немецкого шифровальщика. Даже мертвый, он оставался верен присяге и тесно прижимал к своей груди свинцовые переплеты секретных кодов германского флота. Из объятий мертвеца водолазы забрали шифры – и, таким образом, флоты Антанты получили доступ к тайнам флота противника…
Ветер стонал над Балтикой, где взаперти на рейдах и в гаванях Финского залива, окованные льдом, выжидали весны русские корабли. Как раз в это время, чтобы отвлечь русских от наступления в Галиции, германское командование занесло кулак над Курляндией. Она была почти неприкрыта ныне с моря – лишь несколько наших эсминцев и подлодок бороздили простор, как неприкаянные мыкаясь между опустелыми базами; редкие маяки слепо и колдовски светили им по расписанию. Немцы хотели вытеснить Балтфлот из западных гаваней Курляндии – от пограничного Полангена до самой Виндавы, чтобы силы Рижского залива оказались заперты, словно в банке!
Колоннам Гинденбурга противостояли сейчас малые силы русской 12-й армии. Полосу побережья в основном держали ратники-добровольцы – пожилые люди, пошедшие на фронт ради того пайка, который получали в тылу их семьи (в случае гибели добровольца семье его была обеспечена пенсия). Дрались они отлично. Но опытная германская армия давила и плющила слабые гарнизоны, словно прессуя их своим натиском. Немцы ворвались уже в Литву, они взяли древний Шавли, а часть нашей армии еще застряла в Восточной Пруссии.
Обстановка на Балтике с каждым днем становилась сложнее, над морем неслась трескучая россыпь морзянки – нашей и немецкой. В штабе вице-адмирала Эссена особенно не спешили с выводами, чтобы в горячке не допустить промахов. Вывести корабли в море – это и дурак сумеет, но надо так планировать операции, чтобы корабли и вернулись целы. Каждый погибший корабль – немалая прореха в системе обороны, это подрыв государственной и финансовой мощи; наконец, это стоны и плачи сотен баб, причитания которых не долетают до безымянных могил, захлестнутых волнами Балтики…
* * *
Любая светская дама могла бы позавидовать обстановке командных салонов на русских кораблях. Адмиралтейство словно забыло, что салонам «подобает более величавая скромность кельи благочестивого архиерея, нежели показная роскошь спальни развратной лицедейки».
С началом войны опомнились: ведь это антикварное убранство представляло в случае боя хорошую пищу для огня. На флагманских судах стали пороть с мебели цветные штофы, рвали с переборок драгоценные гобелены, оставляли в базах легкомысленные козетки типа Нана, крушили на причалах кровати в стиле элегантной эпохи Людовиков… Разгром был учинен полный, но, кажется, должных кондиций достигли: теперь в убранстве салонов присутствовала суховатая и деликатная пустота.
Так же, как от ненужных вещей, избавлялся штаб флота и от блестящих, но ненужных офицеров. Николай Оттович фон Эссен окружил себя лучшими специалистами флота, которые не имели придворных званий. Его «флажки» (как называли тогда флаг-офицеров) были людьми подвижными, знающими, опытными. Сравнительно еще молодые, они уже успели хлебнуть и позора Цусимы, и жуткого отчаяния Порт-Артура, а потому делали сейчас все зависящее от них, чтобы избежать поражений на море в войне с сильным германским флотом.
Колчак считался признанным мастером минных постановок. Ренгартен – ученик А. С. Попова, видный радиотехник, был изобретателем первого на флоте радиопеленгатора. Под стать им был флагарт кавторанг Свиньин. Такие офицеры, как Василий Альтфатер, Федор Довконт, князь Михаил Черкасский, были прекрасные оперативные работники. А новинка XX века – авиация, которая прямо из пеленок рванулась в небеса на своих бесовских крыльях, – была представлена в штабе Эссена контр-адмиралом Адрианом Непениным, справедливо считавшим, что будущее всех войн принадлежит самолетам…
Да, штаб Эссена дал России немало мастеров флота, но зато штаб Эссена воспитал (за редкими исключениями) и будущих главарей контрреволюции – самой яростной и самой неистребимой. Об этом тоже не следует забывать, читатель…
Дымя сигарой, зажеванной в углу рта, Эссен рассуждал:
– Мемель-то мы, господа, профукали по дешевке. Для нас эта операция, придуманная Ставкой в обход флота, еще аукнется не раз… В результате мы подержали Мемель в руках, словно горячий уголек, и тут же бросили. А принц Генрих, явно напуганный нашей дерзостью, сразу умножил свои силы на нашем театре. Вот последняя сводка: на Балтику им переданы крейсера и миноносцы, а также вторая эскадра линейных сил. Для нас это – ох и ах!
Эссен живо повернулся к тяжеловесному, словно откормленный боровок, контр-адмиралу Непенину:
– Адриан Иваныч, что скажете на это?
Непенин ответил одним характерным словечком:
– Думато…
Пахнущий оттепелью воздух насыщал каюту через иллюминаторы, было слышно, как хлещет со срезов рубок по металлу звончатая капель. Эссен перебрал на столе бумаги, среди которых попалась замызганная записка с обращением к нему: «Милай, дарагой… лутшаму ис явреев даверь уголь прадать». Это Распутин просил за кого-то, чтобы погреть руки на угольных поставках флоту. Эссен хмуро, без тени улыбки, перебросил записку Ренгартену:
– Это по вашей части, радист. Узнайте, с какого аппарата ее приняли, и прикажите химической службе как следует продезинфицировать этот аппарат… Итак, господа, – продолжал Эссен, – будем готовы для начала потерять Поланген! Наши мужички с крестами на шапках пущай уж удирают от Гинденбурга и дальше, винить их за это было бы бессовестно…
– Что-то у нас не продумато свыше, – заметил Непенин.
Гельсингфорс чернел вдали дымками домов. Явился стремительный Колчак, нервно рвал с пальцев тесные перчатки.
– Началось таяние. Ирбены и Рижский залив вот-вот освободятся ото льда, и… Николай Оттович, не обколоть ли нам заранее крейсера и эсминцы, на ревельских стоянках, чтобы сразу выпустить их за ледоколами на боевые позиции?
– Добро, – согласился Эссен…
Ему принесли с моря свежую пачку расшифрованных германских квитанций, перехваченных нашей радиослужбой, – адмирал быстро вник в переговоры противника, их замыслы, их сомнения, их перебранку. В основном ругался Гинденбург, армии которого с моря не успевал (или боялся) прикрыть кораблями гросс-адмирал принц Генрих.
Николай Оттович хмуро буркнул:
– Война – это как покер: у кого нервы сильнее, тот выиграл!
Но у немцев оказались крепкие нервы. В одну из апрельских ночей радиорубки штаба командующего Балтийским флотом буквально взорвало в каскадах передач:
– Немцы проникли в Рижский залив. Прокрались вдоль берега…
Эссена это даже не удивило; он приласкал своего кота.
– Принц Генрих был бы круглым дураком, если бы он сейчас не рискнул на этот прорыв в залив, нами почти не защищенный…
Горохом сыпались новости с моря – трагические: германские эсминцы сняли с острова Руно-Рухну служебный персонал маяка, огнем они сбили башни маяков на Домеснесе и Цереле. А наши корабли, идущие от Ревеля, как назло, затерло во льдах, в скрежете торосов хрустела сталью бортов подлодка «Акула».
Непенин, мятый с похмелья, посоветовал:
– Думато! Если кораблям не пробиться, запускайте авиацию…
В весеннее небо бросили четверку самолетов. Их вели с грузом бомб юные мичмана и поручики, которым сам черт не брат. Эссен велел Колчаку первым же ледоколом идти на Ревель, откуда первым же поездом отправляться на Виндаву.
– Начинаем заваливать минами последние подходы к Либаве и Виндаве, – сказал он каперангу. – Тральщикам тоже прикажите участвовать в постановке. На всякий случай я позабочусь, чтобы с моря вас прикрыла, во избежание случайностей, первая бригада крейсеров.
Колчак разбудил кавторанга Довконта:
– Феденька, хватай бутылку коньяку и зубную щетку.
– А что случилось?
– Завалим последние фарватеры у берегов Курляндии, чтобы немцы маршировали не так нахально…
Шесть стареньких, ходивших еще на угле, миноносцев лениво подымливали возле причальных стенок Виндавы. Поодаль качались, словно неряшливые галоши, номерные базовые тральщики. Всякий сброд кораблей, начиная от финских буксиров и кончая речными пароходишками, был мобилизован на время войны для исполнения тяжкой повинности траления. На одном из тральщиков вдруг вспыхнул огонь, оттуда передавали: «Выйти в море не могу зпт у нас в днище обнаружилась течь тчк». Колчак, уже стоя на мостике «Генерала Кондратенко», сказал Довконту:
– Во кабак… Феденька, узнай – что у них там?
* * *
Людей, попавших на тральщики, поражало изобилие всяких спасательных кругов, пробковых поясов, надувных жилетов и прочего.
– Когда мы вляпаемся в пакость, – поучали здесь новичков, – хватай сразу, что попадется под руку, и держись крепче. Считай, что в этом случае тебе повезло: ведь на тральщиках не надо терять времени даже для прыжка за борт. Ты и ахнуть не успеешь, как палуба выскочит у тебя из-под ног…
Как трудолюбивые крестьяне выходят утром в поле с косою за плечами, чтобы косить травы, – так же и тральщики прилежно убирают «урожаи» мин, созревающих на морской целине. Их минные «жатки» тралов подсекают ножами стальные стебли минрепов, на которых колышутся в глубине сочные гремучие соцветия – мины!
Публика же на тральщиках – смелая, но ужасно бестолковая. Водят их по минам всякие там прапорщики от Адмиралтейства, штабс-капитаны по геодезии и даже кавалерийские ротмистры, которых быстрехонько переодели во флотское, наспех обучили стоять на мостиках и тралить мины, ценя свою жизнь в копейку…
Катер с миноносца доставил Довконта на борт тральщика. Штабного оператора встретил на палубе прапорщик флота, бледный и романтичный юноша с тонкой шеей, торчащей из широкого воротника кителя. Он был явно испуган и не скрывал этого.
– В чем дело? – сразу обрушился на него Довконт. – Если, черт побери, вы решили затонуть, так умейте же потонуть не в гавани.
– Извините, но я уже составил рапорт…
Слово «рапорт» прапорщик произнес с ударением на первом слоге, что в разумении Довконта являлось стратегической ошибкой.
– А здесь не казарма, чтобы деликатный морской рапурт превращать в хамский солдатский рапорт! Может, вы еще дойдете до такого безумия, что благородный морской компас переиначите в дурацкий компас?.. Сейчас же показывайте мне вашу течь!
Они спустились в придонный отсек, где оба бились в потемках о сырое льдяное железо шпангоутов, медленно источавших ржавую слизь. Тускло светила заляпанная суриком лампа, и, конечно же, обыкновенная могилка, вырытая в земле, может показаться уютной квартиркой по сравнению с этим придонным отсеком тральщика.
Прапорщик, делая круглые глаза, сообщил:
– Уверяю, все крысы убежали от нас сегодня утром сразу же, как мы сдали в порт тралы и приняли на борт мины…
Довконт сумрачно матюкнулся. Прапорщик показал ему место, где тихой слезой набегала в льялы вода. Казалось, корабль горько плакал, сознавая всю свою старческую беспомощность.
– Вот это и есть ваша течь? – хмыкнул кавторанг.
– Да.
– В таких случаях, – отвечал Довконт, – не срывают людей с мостика флагмана, а зовут врача-венеролога… Ляпните сюда цемента на лопате и можете считать, что ваш пароход излечился. А больше не дурить! Сейчас же сниматься с якоря.
– Значит, вы находите, что это неопасно?
– Да нет же, нет, – в раздражении отвечал Довконт, пробираясь к трапу и светя фонарем только себе, совершенно игнорируя при этом командира тральщика, который громыхал в темноте по железу всеми локтями и коленями. – Вообще, милейший, – философствовал Довконт, – служба на флоте – это умение вовремя повернуться с одного бока на другой. А если вам еще встретится на берегу удобная женщина, которая будет горячая зимой, а летом прохладная, тогда совсем хорошо. Кстати, каков номер вашего героического корыта?
– Тринадцатый, с вашего соизволения.
– Счастливчики! А сколько приняли мин к постановке?
– Тринадцать.
– Везунчики! А сколько человек в команде?
Прапорщик чуть не заплакал:
– Увы, без меня – тринадцать…
Федя Довконт выбрался на палубу, пожалел свои новые брюки.
– С таким номером не пропадете, – сообщил в утешение. – А сумма отрицательных показателей в народном суеверии всегда приносит положительный результат…
Катер доставил его обратно на «Генерала Кондратенко».
– Набрали там всякой шантрапы, – доложил он Колчаку. – Какие-то студенты-недоучки штаны черные понадевали и даром трескают паек флотский. Эта война свирепо разрушила нашу касту!
– Все продумато, – отвечал Колчак в стиле Непенина. – Пусть уж гибнут шаланды с такими студентами, чтобы поберечь настоящие корабли с настоящими командирами… Начнем сниматься?
Над рейдом сразу возрос мощный шум вентиляторов, якоря вздернулись над водою, и корабли плавно тронулись из гавани.
* * *
В море сильно штормило – некстати. Несчастные гробы-тральщики трепало так, что с высоты мостиков эсминцев на них было страшно смотреть. К тому же крепенько подмораживало – палубы леденели. На траверзе мыса Люзерорт корабли встретили немецкую мину, сорванную штормом с якоря. Довконт внимательно обозрел ее в бинокль.
– Новенькая, стерва! – сказал. – Даже блестит от масла. Она, видать, из числа тех, что немцы подарили нам под пасху.
Это верно – на лаковых боках мины белела броская надпись по-русски: «Дорого яичко ко Христову дню». Пасхальное «яйцо» тут же расстреляли из пулеметов; расколотая пулями мина быстро насытилась водою и затонула тихонько, не делая лишнего шума. Пошли дальше. С тральщиков семафорили, что их сильно качает, рвет крепления мин, которые невозможно удержать на палубах.
– Пусть привыкают, – ответил Колчак, сосредоточенный…
С № 13 стали писать, что у них в предохранителях мин начал растаивать сахар. Колчак обозлился:
– Пусть этот студент с «тринадцатого» поскорее сваливает груз за банкою Сноп и убирается отсюда ко всем чертям.
Федя Довконт вспомнил безусого прапорщика, для которого весь этот флот с его минами и тралами представлялся сплошным кошмаром, и пожалел юношу, осторожно намекнув Колчаку об опасности:
– Если сахар растаял, то это рискованно при постановке. Да и качка не уменьшается. Может, «тринадцатый» лучше вернуть?
Колчак отмолчался, весь во внимании. Его большой и плоский, словно лезвие топора, нос был развернут по ветру и медленно наливался синеватой краснотой от холода.
А беда к «тринадцатому» не замедлила прийти. Одна из мин при постановке отделилась от якоря раньше времени. Пружины внутри мины сработали, сбросив предохранительные колпаки со страшных сосцов смерти.
– Ну, все! Сейчас их шарахнет…
На миноносцах видели, как из рубки «тринадцатого» сорвался на корму командир-прапорщик. Там матросы что-то рубили на корме топорами, надсаживаясь, словно дровишки кололи. Довконт с такой силой сжал кулаки, что заскрипела кожа перчаток. Но каперанг Колчак, этот верный ученик школы британского флота, оставался невозмутим, как первый лорд Адмиралтейства на светском файф-о-клоке. Между тем работой винта мину уже подтянуло к тральщику.
И… рвануло! Аж до самых небес рвануло огнем и дымом.
На «Генерале Кондратенко» все невольно присели, зажмуривая глаза. А когда поднялись, то увидели, что тральщик № 13, приседая на корму, стремительно погружается. С его палубы, словно арбузы с лотка, подталкивая одна другую, быстро катятся в море мины.
– Господи, – закрестились на мостинах, – спаси люди твоея…
Из тринадцати человек экипажа не уцелел ни один. Но чудом вынесло взрывом за борт четырнадцатого – самого командира. И когда вытащили его из воды, это был уже совсем другой человек. Он постарел до неузнаваемости. Прапорщика отчаянно трясло, и, выколачивая зубами хорошую джигу, он просил об одном:
– Водки… да-да-дайте ско-ко-кореее во-во-водки!
Командир «Генерала Кондратенко» обернулся к Довконту:
– У меня в одежном шкафу есть бутылка. Отодвиньте чемодан, там увидите. Влейте ее в юношу, чтобы он опомнился…
Довконт буквально на себе протащил командира тральщика до салона, рвал с него мокрую промерзлую одежду, расшвыривая вокруг ватные штаны, китель, кальсоны, свитер. Прапорщик сидел посреди салона на стуле, покорно позволяя поворачивать себя как угодно, пока Довконт трудился, напяливая на него сухое белье.
– Теперь вы на всю жизнь запомните, какая бывает настоящая течь… Не огорчайтесь, юноша: «C’est la vie», – как говорят наши доблестные союзники французы.
Только сейчас командир тральщика № 13 зарыдал. Довконт схватил его за плечи, швырнул на постель. Сверху энергично набросал одеял и подушек, чтобы тот скорее согрелся. Рыдания затухали. Теперь он будет спать как убитый. Довконт налил и себе рюмочку за счет пострадавшего. Поднялся на палубу, где порывом ветра его чуть не унесло за борт. Партия минирования уже вышла в район массовой постановки. Между двумя точками побережья – от Люзерорта до Бактофена – в море посыпались мины.
Немцам предстоит немало потрудиться, если они рискнут тут прорваться в сторону Рижского залива.
* * *
«Новик» тоже участвовал в этой операции. И тоже не все было гладко. Одна из мин самовзорвалась при выкидывании за борт (очевидно, не была проверена на заводе). Силой взрывной волны побило людей, отброшенных от кормы на броню надстроек. От страшного толчка остановились машины. Когда осел дым над волнами, с палубы стали подниматься минеры. У кого разбита голова, у кого рука обвисла, а лейтенант Мазепа паралично волочил ноги. И все – орали, орали, орали. Не от боли – от потрясения…
Колчак доложил фон Эссену:
– Минная постановка прошла идеально. Просто удивительно хорошо работали корабли и люди. Кое-какие неувязки случались, но это уже в порядке вещей.
6
Вернулись из Ревеля, куда ходили на заправку топливом, в Либаве котлы держали на подогреве, увольнений на берег не было – боевая готовность повысилась. Потом, как это и бывает, в штабах что-то изменилось, готовность «Новику» снизили. Артеньев выругался:
– Всегда разведут панику, будто у них ярмарка горит, потом закинут нас под лавку и забудут. Ладно, я сбегаю на берег…
Либава уже была пронизана щемящей тоской, город медленно наполнялся мрачными слухами. По секрету сообщали, что войска отходят. 200 миль Курляндского побережья обороняют дружины ополченцев, два эскадрона кавалерии и один батальон морской пехоты. В море стали попадаться корабли Германии, которых раньше не встречали на Балтийском театре. Иногда русские крейсера пытались навязать сражение противнику, но немцы, пожирая в котлах и машинах тонны топлива и смазочных масел, выходили из дистанции боя – не трусливо, а преднамеренно, словно сберегая себя для иных задач…
Артеньев с трудом пробрался через причал. На досках его под открытым небом лежали раненые солдаты, покорно ожидающие эвакуации морем. Под ними билась стылая вода, над ними кричали чайки, словно спрашивая: «Чьи вы? Чьи?..» Сергей Николаевич заметил, что некоторые из раненых уже мертвы. Поодаль от них сидела сестра милосердия, застывшая в отчаянии, как скорбное изваяние. Артеньев спросил одного из солдат – откуда они и куда их направляют.
– Свалили вот, и дохнем. Третьи сутки не пимши, не жрамши. Под себя делаем. Мы из-под Полангену… немец жмет, подпирает.
Артеньев попробовал заговорить с сестрой, но эта молоденькая, симпатичная женщина с челкой на лбу резко отвернулась. Запомнились офицеру ее руки, красные от ветра, будто обваренные кипятком, и тяжкая сумка, на которой крест международного милосердия – такой жалкий, такой беспомощный.
Идти в театр, где давали сегодня глупейшую комедию «Вова приспособился», не хотелось – ни ему, ни Кларе. Артеньев предложил убить вечер на кинематограф.
– Вы случайно не знаете, что показывают сегодня в «Альянсе»?
– Кажется, там идет «Розовая мечта Гекубы»…
По дороге Артеньев охотно поведал Кларе все, что знал о Гекубе, и женщина внимательно его выслушала.
– Если верить Овидию, – заключил Артеньев, – то конец сумасбродной Гекубы был весьма печален. Когда она волею богов превратилась, пардон, в суку, фракийцы закидали ее камнями…
Неожиданно Клара сказала:
– Но есть и другая версия – Гекуба бросилась в море.
– Да? – удивился Артеньев. – Но… откуда это известно вам?
– Это не по Овидию, а по Еврипиду, – сказала Клара.
Сергей Николаевич никак не предполагал встретить знание Еврипида в своей знакомой из кофейни. Клара пояснила ему:
– Я ведь окончила гимназию. Это чистая случайность, что я стала кельнершей. Я еще надеюсь поправить свою судьбу.
Артеньев купил самые дорогие билеты. С улицы трещали мотоциклетки – подкатывали армейские офицеры прямо с позиций, несущие в зал кинематографа свежую грязь окопов, запах крови и пороха. Вот на экране появился человек, проникший в подъезд дома. Стал подглядывать в замочную скважину. Увидел, что там целуются, и поскакал на второй этаж. На втором этаже он увидел через дверь, как дама расстегнула блузку и показала господину свои упругие, как мячики, груди. Артеньев испытал некоторое смущение перед Кларой, когда герой фильма пулей взвился на третий этаж.
– Я не совсем понимаю, – шепнул он, – при чем здесь Гекуба?
Экран уже отображал в подробностях интимное омовение женского тела. Не ожидая, пока герой фильма достигнет самых высоких, этажей, Сергей Николаевич встал, и Клара поднялась за ним… На улице им стало как-то не по себе.
– Но при чем здесь Гекуба? – не переставал возмущаться Артеньев, а Клара взяла его за рукав шинели:
– Бог с ней, с этой Гекубой. Вы не зайдете ко мне?..
Дома выяснилось, что Клара не одинока – у нее уже дочь, девочка лет четырех. Допытываться об отце девочки Артеньев не счел для себя удобным. Правда, его отчасти поразила обстановка квартиры – богатая, старинная. Наверное, еще от бабушек и дедушек. Уют и тишина квартиры располагали к искренности. Сергей Николаевич немного поведал о себе… Нет, он не женат!
– У меня в Питере сестра, бестужевка. Натура сумбурная. Сама не знает, чего она желает от жизни. Есть такие неспокойные натуры, с которыми надо возиться, как с детьми… Вообще-то в моем роду не было моряков. Больше учителей гимназий и инженеров-путейцев… Что я люблю? Увлекаюсь портретами предков. Особенно миниатюрной живописью. В этом особое очарование. Берешь в руки портрет величиной с пуговицу. Красавица времен Венского конгресса вся выписана в деталях пунктиром…
Клара сидела напротив, очень внимательная к его рассказу, курила длинную дамскую папиросу. Модная шемизетка из белого шелка, окантованная черной бархаткой, шла ей. На груди женщины лежал медальон, убранный сердоликом, и Артеньеву хотелось узнать – что там, внутри: нет ли памяти о сопернике?.. О себе Клара рассказывала в меру. Где-то в биографии этой женщины, видимо, был предел, за который посторонние не допускались. Артеньев был достаточно внимателен, но точного представления о судьбе Клары из ее рассказа так и не сложил. Впрочем, это частное дело каждой женщины, и вряд ли стоит обижаться на их скрытность…
– Мне у вас очень хорошо… – признался он Кларе. – Честно говоря, я бы сидел и до утра, но служба обязывает встать и уйти.
В прихожей он ее нежно поцеловал и в поцелуе заметил, как она вся податлива, как мало ей этого поцелуя.
* * *
Возвращаясь на корабль, он опять не миновал свалки фронтовых калек, воздевших к небу свои культи, лубки рук и ног. Сестра милосердия сидела все в той же страдальческой позе.
– Мадемуазель, – заговорил с ней Артеньев, – мой корабль стоит неподалеку. Не пройдете ли со мной перекусить и обогреться?
Она повернула к нему свое лицо без единой кровинки:
– Меня вы покормите. Меня вы обогреете. А… их?
Артеньев прямо от сходни спустился в лазарет эсминца.
– Док! – сказал он врачу. – Иногда не мешает вспомнить о клятве Гиппократа… Вы видели этих несчастных, док?
– Да был я там с санитарами. Она послала меня к черту.
– Кто?
– Да эта вот мымра, которая к ним приставлена…
Сергей Николаевич с трудом протиснулся под срез полубака. Возле дверей коридора кают-компании было не протолкнуться от матросов, слушавших, как лейтенант Мазепа ругается по телефону с береговыми службами. Команда «Новика» переживала за людей, забытых на причале премудрым отеческим начальством.
– Не мычат, не телятся? – спросил Артеньев у минера.
– Сволочи! – отозвался Мазепа. – Комендант Либавы говорит, что это не его дело. А госпиталь – у них и так все забито.
– А что ответил эвакуационный пункт?
– Не дозвониться. Никого нет.
Артеньев перенял трубку из рук минера.
– Барышня, соедините меня с жандармским управлением Либавы.
– Нашел, куда брякать, – послышалось из толпы матросов.
– Цацуня, цыц! – прикрикнул старшина Хатов.
Из жандармского управления ответил глухой бас:
– Штаб-ротмистр Епифаньев на проводе.
Представившись, Сергей Николаевич доложил о раненых, брошенных на произвол судьбы, а далее построил свою речь хитро:
– Команды кораблей имеют возможность своими глазами наблюдать отношение к их братьям солдатам, защитникам отечества. Вы понимаете, ротмистр, какая это прекрасная иллюстрация к нашим беспорядкам на фронте, если даже в тылу… в тылу, говорю я вам, творится такой чудовищный бардак!
С другого конца города устало вздохнул жандарм:
– Благодарю, что сообщили. Мы сейчас же вмешаемся в это безобразие; и кое-кто жестоко поплатится своими погонами…
Жандармы оказались разворотливы. Скоро к причалу стал подходить корабль для транспортировки раненых в Ревель. Но… какой это был корабль! Допотопный угольный лихтер с открытыми трюмами, куда раненых солдат собирались валить навалом на груды острого антрацита. Каждый с эсминца понимал, что сверху их будет заливать волна, мочить дожди, – они не выдержат.
– Чисто собак! – говорили матросы. – Ну, надо же!
– Ах, в суку их всех… За што воюем? За што страдаем?
– Издеваются, как хотят…
Артеньев посоветовался с офицерами:
– Готовность снижена. А от нескольких тонн мазута Россия, ей-ей, не обеднеет. Зато людей спасем.
С ним согласились, и он объявил аврал. Вмиг, словно того и ждали, матросы очистили кубрики. По доброй воле стелили белье на рундуках – под грязных и вшивых, зачумленных войною. Раненых бережно стаскивали по трапам с берега в живые отсеки эсминца.
Игорь Мазепа доверительно шепнул Артеньеву:
– А лед кое-где еще не сошел, как бы борта не помять на подходах к Ревелю. Эссен сглотнет нас и пуговиц не выплюнет.
– Пускай жрет. Лучше мне погон лишиться, нежели наблюдать это свинство. Сгуляем до Ревеля – там отличный госпиталь…
Хотя и временно исполняющий обязанности командира, Артеньев в салон даже ни разу не поднимался. Сейчас туда – в эту роскошь стеганных плюшем диванов, ковров и японских ширм, расписанных зацветающей вишней, – провели сестру милосердия. «Пусть хоть выспится по-человечески!» Эсминец дал ход. Корабельный врач с санитарами всю ночь перевязывали раненых. За борт летели лохмы гнойных бинтов в крови и струпьях.
– Хорошо живете, моряки, – говорили матросам солдаты, хрустя казенными простынями, с удивлением оглядывая крытые пробкой переборки. – Зато вас и держат на службе царской дольше нашего…
На траверзе Наргена «Новик» встретил чистое, спокойное утро. Почти не качало. Эсминец шел на ровном киле, разбрызгивая легкие весенние воды. На горизонте уже «читались» башни города. С глазами, выжженными водой и ветром, словно кислотой, Артеньев – наконец-то – спустился с мостика. Сестре милосердия сказал:
– Господа офицеры нашей кают-компании имеют честь просить вас к общему табльдоту.
И он подал ей руку на трапе.
– Простите меня, – сказала ему женщина. – Я была груба с вами. Тогда… еще на причале. А вы люди, и хорошие люди. Я надеюсь, что этот поступок вам поставят в большую заслугу.
– Мадемуазель, – рассмеялся Артеньев, – вы плохо знаете наши флотские порядки. С меня теперь могут сорвать погоны.
* * *
Состоялась неприятная беседа с начальником Минной Балтийской дивизии – контр-адмиралом Трухачевым.
– Сергей Николаич, – сказал он Артеньеву, – вас хотели представить к чину капитана второго ранга[4], чтобы назначить командиром «Новика». Но теперь – ау! – придется потерпеть. Этим самовольным отводом эсминца с передовых позиций без ведома начальства вы сильно очернили свою блестящую аттестацию.
Артеньев смолчал. Трухачев протянул ему руку:
– Как русский человек, страдающий душой за все просчеты в войне, я солидарен с вами. И даже счастлив, что на моей Минной дивизии служат не тряпки, а люди, способные к вызывающим решениям. А теперь покажите, как вы срезали траверз мыса Тахкона…
Артеньев на нарте показал, как «Новик» обогнул этот мыс.
– Ну вот, – сказал ему Трухачев. – Благодарите судьбу.
– А что такое, Павел Львович?
– Вы проскочили через минное поле, поставленное накануне, о чем миноносцы еще не были оповещены. Теперь, Сергей Николаич, вы понимаете, какой вы счастливый человек?
Артеньева пошатнуло. Слов нет, если бы «Новик» погиб, он бы застрелился. Сейчас он испытал такое ощущение, будто пуля уже ударила его в лоб, круша и ломая кости черепа… С трудом овладел собой и дослушал сообщение своего адмирала:
– Либаву, кажется, сдадим. Эсминцы в связи с этим станут базироваться на Усть-Двинск и на рейд Аренсбурга… Хорошего в этом мало, но вся война еще впереди. Россия – это такая страна, которой можно нанести поражение, но которую нельзя победить!
7
Любовь пришла… С того случайного поцелуя роман между ними стал насыщен остротою чувств, ожиданий, сомнений и недосказанности. Артеньев был ошеломлен и почти смят этим натиском любви – от женщины, которая охотно, почти ликуя, вызывала его на интимность… По ночам – через Железный мост – он возвращался на эсминец, где его поджидал Дейчман, поверенный его романа.
Впрочем, механик был брюзгой; старый холостяк, он не советовал Артеньеву увлекаться чрезмерно, пророча всякие каверзы от женщины, тем более в таком распутном городе, как Либава.
– Иди ты… в главный штаб! – отругивался от приятеля Сергей Николаевич. – Клара чистая женщина, у нее ребенок. Я вообще люблю женщин с детьми! Порочная женщина абортирует, а здоровая рожает. И ты знаешь, что я кобелячества не терплю. Хотя смолоду, как и все мичманята, тоже грешил на гельсингфорсской Эспланаде…
– Ах, Эспланада! – вздыхал Дейчман. – Сейчас наш Эссен обставил рейд Гельсингфорса такими комодами, что бедным эсминцам и приткнуться некуда. Вот отнимут у нас немаки Либаву с Виндавой, и будем околачиваться у Эзеля. Что-то страшно мне становится, как подумаю об извечном законе стратегии: вслед за отступающей по суше армией всегда отступает вдоль берега и флот!
– Для немцев мы этот закон разрушили: германский флот не успевает наступать за своей наступающей армией…
В небе теперь часто мелькали германские «альбатросы», крылья которых были исчерчены черными крестами. «Новик» огнем своей отличной артиллерии подбил один такой аэроплан, и взору моряков представилась незабываемая картина. Из кабины «альбатроса» первой выпала собака. Затем, крутясь распятием, полетел вниз и пилот, быстро обгоняя собаку в полете. Море разъялось сначала перед человеком, а потом поглотило и животное. Следом за ними, разламываясь в воздухе на куски, рухнул в море самолет.
Вскоре заплавали над Либавой оболочки германских цеппелинов. Дирижабли кайзера проносились в облаках безмолвно, словно пришельцы из иного мира. Продырявить их удавалось не всегда, ибо зенитное дело – дело новейшее, родившееся совсем недавно, и даже опытным комендорам было непривычно задирать свои пушки в безглазое, безликое небо, где тихо плавает пугающая своей внешней нелюдимостью германская «колбаса».
Цеппелины пролетали сейчас как раз над теми краями, где столь часто бывал их славный создатель – граф Фердинанд Цеппелин, женатый на женщине из Курляндии. Графиня Ева Цеппелин, урожденная баронесса фон Вольф, вам, милейшая сударыня, трудно укрыться от суда русской истории… Если бы не вы, мадам, отдавшая своему мужу колоссальное состояние, нажитое для вас потом рабов – латышей, ливов и эстов, то ваш супруг никогда бы не создал свое громоздкое детище. А теперь кайзер поставил перед Цеппелином ясную задачу: «Гибель и полное разорение населения и городов, враждебных Германии…»
И вот цеппелин пролетает сейчас над прозеленью лужаек, он плывет над золотыми пляжами штрандов, над теми виллами и замками, в которых еще вчера местное дворянство пышно чествовало его создателя. Прибалтийские бароны с гордостью взирают на небеса; они считают, что заслуга в создании цеппелинов принадлежит им!
* * *
Совсем неожиданно Артеньева вызвал в штаб дивизии каперанг Колчак, и встреча с ним не сулила ничего доброго. Колчак, сам в прошлом командир миноносца, заметно выделялся среди флаг-офицеров. Слова его, сказанные даже вполголоса, выслушивались всегда с приличным вниманием (особенно в штабе Эссена). Полярный исследователь и гидрограф, ученик барона Толля и Фритьофа Нансена, Колчак для многих в ту пору оставался еще неясен как человек. О его политических взглядах никому не было известно. Неулыбчивый, с острым взором степного беркута, всегда в перчатках – узких, как тиски для пыток, Колчак казался нелюдим, чем-то внутренне огорчен и озадачен. Но близкие ему люди знали, что за этим флаг-офицером Эссена таится грозная, опасная сила – сила ума, злости, смелости, напористости. И сейчас было неясно, куда и в какую сторону будет повернута эта сила. Во всяком случае, по слухам флотским, следовало ожидать быстрого взлета Колчака…
Он встретил Артеньева расспросами об измене фон Дена.
– Вам пришлют нового командира – Гарольда Карловича фон Грапфа… Почему вы никак не реагируете на это?
Артеньев в некотором замешательстве отвечал «флажку»:
– Видите ли, Александр Васильевич, это опять… фон! А в нижних палубах обстановка накаляется. Матросы подозревают.
Колчак сказал на это сквозь стиснутые зубы:
– Да. Извещен. Предостаточно. На Минной дивизии вдруг стало неспокойно… Случайно вы не знакомы с командиром «Сильного», кавторангом Эрихом Бруновичем Фитингофом?
– Слабо.
– Слышали, что с ним случилась некрасивая история? При встрече с германскими эсминцами он под обстрелом стал реверсировать машиной, отрабатывая с полного вперед на полный задний. Он мог бы и не делать этого, смело вступая в дуэль, но… бог ему судья! Однако команда решила, что барон Фитингоф, симпатизируя германцам, сознательно изнашивает машины на быстрых реверсах, чтобы «Сильный» поставили на капремонт. И вот вам результат – бунт!
Артеньев слегка улыбнулся, что не скрылось от Колчака.
– Веселого тут ничего нет, – заметил он строго.
– Извините, Александр Васильевич. Но мой покойный командир был женат на баронессе Фитингоф. Сейчас вы поведали мне о Фитингофе, командире «Сильного», и я вспомнил, что старшим офицером на новейшем линкоре – «Гангут» – тоже барон Фитингоф… Не слишком ли много этих Фитингоф… на Балтийском флоте?
Колчак ответил – в раздражении:
– Топить их нам, что ли? Впрочем, эти бароны здесь ни при чем: просто матросам нужен повод для выступлений политических. Вот и хватаются они – то за гречневую кашу без масла, то за наших баронов! Присмотритесь внимательней к каждому такому бунту против засилья немчуры на флоте, и вы отчетливо разглядите в них явную большевистскую подоплеку.
– Я не политик, – сказал на это Артеньев. – Но, как я слышал от людей сведущих, большевики вообще против этой войны, которую они называют «империалистической».
– Верно. И они проводят свою политику хитро. Матросы-большевики воюют как раз хорошо. Они, как правило, на отличном счету у начальства. В каком-нибудь георгиевском кавалере, который «ест» вас глазами, трудно разгадать замаскированного ленинца. – Колчак поморщился, и при этом все лицо его, жесткое и энергичное, пришло в движение. – Да и что делать противнику войны, – спросил он с ухмылкой, – если на него наседают германские «байерны»? Остается одно – драться! И он дерется. Хорошо дерется…
Подойдя к Артеньеву вплотную, Колчак сказал проникновенно:
– Я должен проинформировать вас о неприятных подробностях. Вдова каперанга фон Дена, как вам известно, является близкой особой к государыне императрице нашей. А вы же знаете, что было сказано в предсмертной записке фон Дена?
– Волею обстоятельств держал ее в руках.
– Вас могут обвинить в насильственном устранении фон Дена из жизни. Не удивляйтесь, если из Петербурга на вас покатят бочку, способную раздавить не только скромного лейтенанта, но даже адмирала с богатым плавательным цензом. Однако Эссен на вашей стороне; я тоже считаю, что собаке собачья смерть… Впрочем, – неожиданно закончил Колчак, – вы мне сегодня и не нужны. Наш разговор возник случайно. Пройдите в соседний кабинет – там вас ждут…
В глубине кабинета, широко раскинув руки по столу, сидел неопрятный и унылый полковник армии, совершенно незнакомый. Не представившись, он сказал:
– Садитесь. Разговор у меня с вами будет весьма краток… Оставьте в покое эту женщину!
Артеньев сразу вспыхнул, наполняясь гневом:
– О ком вы говорите?
– Вы сами отлично знаете, о какой женщине я вам говорю.
– Простите, но с кем имею честь беседовать?
– Это вам знать необязательно. Достаточно, что вас ко мне направил флаг-офицер флота… Еще раз заявляю вам по-хорошему: эту женщину из либавской цукерни выбросьте на головы!
– Нет, – ответил Артеньев, возмущенный.
– Ваше дело. Но… А вы не боитесь, – спросил его полковник, – вместо службы на «Новике» вдруг проснуться где-нибудь на острове Нарген или на береговых батареях Даго?
– Это провокация!
– Не знаю, как это называется. Но, – повторил полковник, – вы уже стали мешать нам…
– Не понимаю, кому это – «нам»?
– Раскрываю карты: контрразведке армии и флота.
– Я с этой богадельней дел не имел и иметь не желаю.
– Вполне пристойное заведение.
– Сомневаюсь.
– Не советую. Вам придется иметь с ней дело, если вы…
– Пошли вы к черту! – вспылил Артеньев, поворачиваясь.
– Этим не испугаете. Мы и не такое слыхали…
Разговор велся на повышенных тонах, и в кабинет вошел Колчак. Кажется, он все слышал. И сейчас веско заметил:
– Я не вмешиваюсь в дела разведки. Но позволю себе заметить, что на эсминцах служат проверенные люди. Верные слуги монарха нашего… Сергей Николаич, разве это не так?
Артеньеву ничего не оставалось, как подтвердить.
– Именно так! – произнес он в сторону полковника.
Полковник устало вздохнул и вдруг засмеялся:
– Все это – высокие слова. А мы кормимся делом…
Из штаба Артеньев вышел в препоганейшем настроении. Что скрывается за прекрасной внешностью Клары? Отчего разведка всполошилась? И почему вдруг он стал мешать? Странно все это… На языке Артеньева тяжким жерновом уже ворочался вопрос, который завтра он задаст Кларе.
Первого мая Либава засыпала в тревоге: войска кайзера уже стояли в 26 километрах от города.
* * *
В эту ночь он плохо спал. Родные шумы корабельной утробы не успокаивали, как обычно, а – наоборот – раздражали его. Конечно, в его тридцать четыре года пить бром еще рановато, но под конец войны, очевидно, придется… В каюте было душно. Вентиляцию он не включал, чтобы не беспокоить соседей по каютам, встал и вышел под полубак подышать свежим воздухом.
Было тихо на рейде, и во всю ивановскую засвечивала над Либавой большая рыжая лунища. Артеньев стоял возле борта в одной нижней сорочке, размышляя, глядел на темную воду. В такую бесподобную майскую ночь, как эта, не хотелось верить, что второй год длится жестокая битва… Вдруг желтый свет луны исчез, рейд потемнел.
«Что такое?..» Артеньев поднял голову и увидел, что луну закрыла гигантская тень цеппелина. Выключив моторы, дирижабль бесшумно протекал над кораблями. Он надвигался. Ближе, ближе… Артеньев выбросил папиросу за борт. Вдруг прямо над собой он увидел освещенные окошки гондолы. Теперь он слышал над собой выкрики немцев. Вот раскрылась в гондоле дверь. В ярком растворе ее показался силуэт человека. Этот человек вытянул руку, держа на весу каплевидную бомбу. И разжал пальцы…
– Боевая тревога! – с опозданием крикнул Артеньев.
Бомба достигла воды, под бортом эсминца вздыбило гейзер кипящей влаги и пара. Оглушенного взрывом, Артеньева бросило на ростры, и он потерял сознание. Когда же пришел в себя, призрак цеппелина уже исчез, лишь где-то от берега глухо постукивали пулеметы… Острая боль прорезала плечо. Матросы раздернули на нем сорочку, и при свете фонаря Артеньев увидел, что на месте ключицы, разорвав кожу, торчит матово-розовая кость…
В госпитале ему сказали:
– Мы готовимся к эвакуации. Поезжайте в Ригу.
Ночь по-прежнему стояла над Либавой, а утренний поезд на Ригу отходил в четыре утра. С этим поездом Артеньев и отъехал, так и не повидав Клары. «Пусть ей снятся дивные сны…»
– Боже, – страдал он на полке вагона, – какая дурацкая история со мной… и какая дикая боль!
На нижней полке безропотно лежал раненый фельдфебель.
– Ништо, – говорил он, – видать, впервой чекалдыкнуло? Скоро привыкнете, ваше благородие. А уж потом и осерчаете вы.
– На кого? На кого мне сердиться? На графа Цеппелина?
– Я с графьями незнаком. Мы, слава богу, не какие-нибудь городские шпингалеты – мы воистину тамбовские…
8
Артеньев в госпиталь ложиться не пожелал, а снял для себя номер в гостинице «Петербургская». Даже в этом он остался верен своей любви к старине: гостиница «Петербургская» навевала на своих постояльцев настроения прошлого. Здесь не было и зачатков канализации; прислуга по вечерам зажигала свечи; горничные в жестких фартуках, чопорные и чистоплотные, разносили кувшины с водой для умывания; из кружев их стоячих воротников торчали надменные рембрандтовские подбородки. А из окон виднелись старые постройки, в узости переулков затаилась притихшая дремучая древность. Кстати, драли с постояльцев за привкус истории втридорога, но… это закономерно и вполне оправданно, ибо дух времени почти материален – его можно, как вещь, продать и купить.
Рига в эти дни была чутким барометром положения на фронте. Стоило немцам усилить натиск, как на улицах ты слышал немецкую речь. Отбросили немцев назад – и улицы снова наполнялись русским и латышским говором. Латыши в этой острой ситуации служили мощным противовесом в немецком засилье. Но влияние онемеченного русского двора было столь сильным, что национальные чувства латышей предавались в угоду прибалтийскому дворянству.
* * *
Артеньев однажды столкнулся с непревзойденной наглостью прибалтийских баронов. Ехал как-то в трамвае на очередной сеанс рентгена. Первые места в вагоне занимали инвалиды с костылями. На остановке вошел типичный рижский немец, откормленный на угрях, миногах и пиве. На чистом русском языке он сказал калеке:
– Ишь, расселся. А ну встань, ты здесь не хозяин…
Артеньев, забыв про боль, схватил его за жирную глотку, опоясанную гуттаперчевым ошейником воротничка, и стал трясти:
– У, морда хамская! Сейчас выброшу под колеса…
И на повороте вышиб бюргера – спиной вперед – прямо на булыжники мостовой. Потом в неуемном бешенстве наорал на инвалидов:
– А вы чего молчите? Возьми костыль и трахни по башке! Рига – русский город, и вы за него свою кровь проливали…
Как и каждый здоровый человек, верящий в силу своего организма, Артеньев избегал процедур, и лечение оттого затянулось. Он ходил по утрам завтракать в кафе на Бастионную горку, с высоты которой, попивая кофе, взирал на зеленеющий город. Два века назад здесь подавали не кофе с булочками, а ядра в петровские бомбарды… Петр I со шпагой в руке и сейчас стоял на Александерштрассе, в железной поступи ботфортов, обратясь свирепым взором на просвещенный Запад; темную бронзу, отлитую в мастерской Антокольского, поливали теплые дождевые шквалы, порывами налетавшие с моря.
Артеньеву было печально. «Неужели сдадим Либаву?» Но никогда не мелькала мысль, что можно сдать немцам Ригу…
* * *
Без корабля было тошно, и стала мучить тоска – почти зеленая, как раз под цвет мещанских обоев, затянувших стены номера непроницаемой лягушечьей скукой. Ночи были томительны. Но – странное дело! – думалось обо всем как-то хорошо, чисто и ясно.
В один из дней Артеньев решил вернуться на эсминец, не дожидаясь окончательной поправки. В конце концов, «дома и солома едома». С этим решением лег спать пораньше. За окном грохотал бурный ливень. Среди ночи он проснулся оттого, что ощутил на своих губах поцелуй. Перед ним, полусогнутая, вся в белом, словно привидение, склонилась фигура женщины. Сначала ему показалось, что он досматривает сон. Но влажные волосы женщины, коснувшись его лица, были теплы, от них исходил тонкий запах.
– Кто тут? – спросил Артеньев, растерянный.
Это была Клара – вся в порыве, в горячем стремлении куда-то вперед, только вперед, словно одержимая. Артеньеву показалось, что она слепа. Она глуха. Она почти безумна…
– Я спешу, – говорила женщина, – ты бы только знал, как я спешу. У меня осталась капля времени… на все!
– Включи же свет, – сказал он ей.
– Не надо. Не надо света.
В потемках комнаты он видел, как она разбрасывала вокруг себя белье. Тянула через голову вороха юбок. С треском отлетали крючки с корсета. Повсюду, словно сугробы девственного снега, свято и чисто сверкали холмы кружев. Белизна тела женщины вдруг резанула по глазам – почти болезненно, почти ослепляя. Рядом с собой он услышал ее прерывистое дыхание.
– Поезда на Либаву еще ходят, – страстно шептала она. – Ты слышишь? Я говорю тебе – поезда на Либаву еще ходят…
Он проснулся – уже одинок. Непостижимая и непонятная, Клара исчезла так незаметно, словно ее никогда и не было здесь. Будто не она, а бесплотная тень ее лежала вот тут, на этой подушке, источая запахи своих душных рыжеватых волос…
– Чудовищно! – произнес Артеньев, не зная, что думать.
Ни записки после нее. Ни следа туфель. Ничего.
И вспомнилась ее фраза: «Поезда на Либаву еще ходят…»
«Почему она мне это сказала?..»
Артеньев кинулся на вокзал, но было уже поздно. В окошечке кассы висела записка: «Поезда на Либаву не ходят».
– Почему нет либавского? – спросил он носильщика на перроне.
– А больше и не будет на Либаву… немец прется. Говорят, кавалерия ихняя крепко нажимает. Нашим не совладать.
Артеньев не мог (не мог!) оставить все так. Он должен был повидать Клару. Он добрался до Митавы, и там, в бывшей столице герцогства Курляндского, ему повезло: срочно формировался эшелон подкрепления из замызганных, крикливых стрелков. Затиснутый в тамбур, обкуренный махоркой, Артеньев к вечеру все же добрался до Либавы.
«Новик» уже покинул Либаву и – неужели навсегда? Корабли уходили на Виндаву; за их плоскими тенями, впечатанными в горизонт, отлетал прочь истерзанный ветром дым. Через опустелый город драпали батальоны ополченцев с крестами на шапках. А за Розовой площадью, в раскрытых дверях книжной лавки, гордо высилась, украшенная цейсовской оптикой, могучая грудь фрау Мильх. Издали через лорнетку она рассмотрела бегущего по улице Артеньева.
– О! Как вы и просили тогда, я отложила для вас второй том морозовского каталога… Война торговле не мешает.
Артеньев впопыхах, пробегая мимо, ответил:
– Благодарю, фрау Мильх, но я зайду… позже.
Почтенная матрона с издевкой произнесла ему вдогонку:
– Позже зайти вам уже вряд ли удастся…
В кофейне на Шарлотинской было пусто – столы перевернуты, витрины разбиты. Чья-то злорадная рука уже сорвала со стены карикатурный агитплакат, высмеивавший кайзера и принца Генриха… Ни души! Сергей Николаевич нанял коляску и велел погонять:
– На улицу Святого Мартина, дом госпожи Штранге!
Клара встретила его с удивительным спокойствием, как будто и не было никогда этой ночи в рижской гостинице. Артеньев с первого же взгляда заметил в ней перемену. Клара была разодета с вызывающей роскошью, в ней чувствовалась внутренняя собранность, даже некоторая настороженность. Он заговорил порывисто и бурно:
– Еще не все потеряно! Последний эшелон со станками заводов имеет три вагона для высших офицеров и их семей… Мы успеем! Бои сейчас идут пока на окраинах… Прошу, Клара… едем!
– Но я, – ответила женщина, – уже простилась с тобой. И ты знаешь… простилась очень хорошо.
– Не понимаю тебя. Почему ты так спокойна?
– Я не одна, со мною ребенок… квартира. Я остаюсь здесь.
– Выходит, мне лучше забыть тебя?
Клара шагнула к нему, крепко обняла, целуя.
– Да нет, нет… Я не хочу забывать тебя, а ты не забывай меня. Верь мне, дорогой: мы еще встретимся, но тогда все будет другое и я… я тоже буду другая! Иди же… не мешай мне сейчас!
– Мешать? Как я могу мешать тебе любовью своей?
– Ах, ну прошу – не мучай меня. Я совсем не думала, что снова увижу тебя… Я же простилась с тобой, уже простилась…
Город словно вымер. Со стороны парков слышалась стрельба. Последним прошел через Либаву штрафной матрос, отставший от своей части. Он волочил на сытом загривке пулемет «шоша». Матрос остервенело крыл по матери всех без разбору – офицеров, генералов и адмиралов, царя и себя самого. На Розовой площади матрос уставил сошки пулемета в землю, направил дуло его в ту сторону, откуда должны появиться немцы, и кричал в слепые окна домов:
– Смотрите на меня! Я вам, мать вас всех, покажу, как умирает русский матрос… Пусть только войдут!
Яркое весеннее солнце било ему в бритый затылок. Пробегая в сторону вокзала, Артеньев в вырезе форменки штрафника разглядел татуировку – жуткое тавро оскорбленной любви:
* * *
Итак, все кончено… Артеньев с трудом пробился в вагон. Поезд тронулся, дымя нещадно, он бежал сейчас мимо новой Либавы, и она прощалась тревожными гудками заводов и мастерских, в ответ паровоз прорезал рабочие окраины неистовым воплем.
«Либава, милая Либава… Как сказать тебе: прощай?»
В тесном коридоре вагона было не протолкнуться. Кавалерийский ротмистр с рукою на черной перевязи застрял в проходе с детской коляской, в которой лежали дети-близнецы. Ротмистра все ругали и все дружно сочувствовали ему. Он спас детей, но в суматохе поспешного бегства где-то потерял жену. Счастливцы, занявшие купе, дверей старались не открывать. Из тамбура торчали дула карабинов: там стерегли архивы какого-то штаба. Все было ненадежно и смятенно в этом поезде – последнем поезде из Либавы.
– Лейтенант Артеньев, – раздался голос, – идите к нам…
Каперанг Колчак, стоя в дверях, приглашал его в свое купе. Сергей Николаевич втиснулся в узкое помещение, где, кроме Колчака, сидели еще два представителя флотской элиты – контр-адмирал Бахирев и флаг-капитан князь Черкасский. В проходе стояли два громадных кофра, и Колчак пихнул их ногой:
– Вот единственное, что мне удалось спасти из своей квартиры. Сколько лет служил, обзаводился – и все пошло прахом… Хорошо, что успел заранее вывезти из Либавы жену с сыном! Садитесь.
Артеньев в этой компании чувствовал себя несколько скованно. И не только потому, что между плавсоставом флота и «флажками» всегда существовал некоторый антагонизм. Даже если отбросить это чувство традиционной неприязни, то все равно – Артеньев был ничто по сравнению с этими людьми, стоящими у пульта управления Балтийским флотом. Именно они, самоуверенные и настойчивые, планируют операции, посылая на смерть корабли и команды… И потому Артеньев решил помалкивать.
Страшным ревом паровоз покрывал крики отчаяния…
– Миша, – сказал Колчак князю Черкасскому, – доставай коньяк. Кто тут самый молодой из нас, чтобы открыть бутылки?
Артеньев извинился, что хотя и моложе всех здесь присутствующих, но открыть не может – ключица еще не зажила, каждое движение причиняет острую боль. Адмирал Бахирев, весь в молчаливой суровости, раскатал бутылку по полу, треснул ее дном по столу, и пробка вылетела, а коньяк зашипел, как шампанское.
– Наливайте, – сказал Бахирев, поворачиваясь к Артеньеву. – Ну, как вам нравится наше спасение примитивным бегством?
– Унизительно!
– Это верно, – согласился Колчак, раздергивая пуговицы на своем мундире. – Мы, русские, бегать от врага не приучены. Скажу больше: теперь, вслед за падением Либавы, можно ожидать и сдачи Виндавы… Две базы подряд! Кто бы мог подумать?
– А кто виноват? – тихо спросил Артеньев.
– Не я, не вы, – резко отвечал князь Черкасский. – Виноваты повыше нас… мерзззавцы! Россия настолько великая страна, что судьбу ее нельзя доверять бездарностям… Между нами, лейтенант, император у нас полный невежда. Это глубоко между нами. Россию могут спасти лишь бурные катаклизмы реформ.
– А я не против царя, – произнес Бахирев. – Но ему не хватает умного окружения. Кого он там слушает? Своего флаг-капитана Костю Нилова, который с утра до вечера не просыхает от выпивки?
– Дело не во флотском командовании, – отвечал Черкасский в раздражении. – Дело в управлении всем русским государством.
А за окном пролетала курляндская ночь, вдруг ставшая враждебной. Снопы искр из паровозной трубы отбрасывало назад горстями, иногда они прилипали к оконным стеклам. Колчак глушил коньяк на британский манер – не пьянел, только бледнее становилось его лицо, кстати отлично выбритое даже в панике эвакуации. Пробор на его голове был и сейчас идеален, как у лондонского клерка, дорожащего своей службой. Он пытался увести разговор от вопросов политики – переставить его на рельсы стратегии. Но за его оперативными рассуждениями, продуманными и обоснованными, лейтенант Артеньев невольно разгадал и угрозу изменений в политике.
– А дальше что? – спрашивал Колчак. – Дальше будут для нас Ирбены, в которые немцы скоро залезут. Мины вряд ли удержат их, партия траления у Хиппера опытная. Пройди они Ирбены, а там уже и Рига! Из Рижского залива прямой путь – на Моонзунд… Выпьем же, господа, за здоровье нашего адмирала Николая Оттовича фон Эссена, – пока старик у руля, флот еще себя покажет!
– Саня, – отвечал ему князь Черкасский, – все это так, но ты стрелял не с того борта… Каковы бы ни были у нас флотоводцы, но спасти Россию они не могут. Нужны люди, страдающие за всю Россию, люди, ищущие путей к повороту.
– Брось, князинька! – рассердился Бахирев. – Да и где ты собираешься искать этих людишек?
– Только не в Зимнем дворце, – ответил Черкасский. – Их следует искать в Таврическом дворце… Да, да! И они сыщутся. Такие, как Гучков. Такие, как Милюков. Наконец, даже думский хулиган Пуришкевич – он тоже понимает, что так жить дальше нельзя!
– Надо спасать монархию, – сказал Бахирев, сопя.
– Надо спасать Россию, – сказал князь Черкасский.
– И то и другое, – добавил Колчак. – А вы, лейтенант, чего не пьете? Или у вас какая-то иная точка зрения?
– Нет. Я просто устал. Извините, господа.
– Вы знаете, где сейчас ваш «Новик»?
– Наверняка проходит сейчас траверз Цереля.
– Верно. Утром он будет стоять уже в Больдер-Аа… Если устали, можете прилечь. Мы еще посидим, Рига не скоро…
Артеньев лег на полку, попутчики его перешли на шепот, словно заговорщики. До Сергея Николаевича иногда долетали их слова: «царь… дураки… флот… Эссен… Гучков… Распутин!» «Да, – размышлял Артеньев словами Гамлета, – не все благополучно в королевстве Датском… Либава еще не конец, Либава – это только начало». Много было разных ночей в жизни старшего лейтенанта Артеньева, но эта вот ночь (ночь бегства из Либавы) была почему-то для него самая ранящая, самая беспросветная. Она заставила его задуматься о судьбах России, которая – почти вся! – виделась ему с высокого мостика «Новика»…
* * *
На рижском вокзале нанял извозчика, и тот не спеша потащил его в Задвинье и еще дальше – в поселок Больдер-Аа, где размещалась крепость Усть-Двинск, которую офицеры флота привыкли называть на старый лад – Дюнамюнде… Артеньев отпустил коляску около станции. По спящим улочкам, мимо дачных домишек, в окнах которых буйно зацветали герани, он вышел, купая ноги в мокрой траве, к заводям речных проток.
Сиреневые кущи нависали над водою, ветви черемух брызгали ночную росу на палубы усталых тральщиков.
«Новик» издалека подымливал из труб – невозмутимо, будто ничего не случилось. Вахтенным на сходне дежурил сигнальный старшина Жуков, и он был, кажется, единственным человеком на замертво уснувшем после похода корабле. Отхлестываясь от комарья ольховою веткой, Жуков сказал:
– С прибытием, господин лейтенант. Ну, как? Вылечили?
– Вылечили, – ответил Артеньев, вспомнив разговоры в купе. – Ото всего сразу и… навсегда!
На тихих водах Больдер-Аа убаюкивало усталый «Новик». Сейчас в этих пресных водах на днище эсминца быстро отмирали едкие морские организмы. На их место – к стали бортов – жадно присасывались всякие пресноводные. Но и они вскоре умрут, попав в соль морских вод… «Новик» словно проходил дезинфекцию корпуса!
И, шагая по палубе, Артеньев думал, что хорошо бы и ему сменить стоянку, дабы с души безболезненно, как с корабля, отпали давние наросты обид, тревог и сомнений…
9
Гинденбург вытеснил русских из пределов Восточной Пруссии; гладенькие паркеты германских шоссе кончались почти обрывом – прямо в непролазную грязищу российского бездорожья.
Последний на штык насажен. Наши отходят на Ковно. На сажень человечьего мяса нашинковано… Пятый день в простреленной голове поезда выкручивают за изгибом изгиб. В гниющем вагоне на сорок человек – четыре ноги.Правда, в это время Брусилов занял на юге Перемышль, но… какой ценой? По слухам, на одно наше орудие отвечало 40 пушек дивизий Маккензена. На южных фронтах творилось что-то преступное по своей бестолковщине. Совсем уж дураками были, когда ввели новое генерал-губернаторство в Галиции со столицею в древнем Львове. Навезли туда всю шушеру столичных чинодралов, по углам расставили городовых… Зачем? Чтобы, показав галичанам всю мерзость жизни русской, тут же бежать обратно?
Теперь люди знающие не сомневались, что Львов будет сдан. А тогда под угрозой окружения окажется вся русская армия в Польше. Варшава уже в смятении. Никто толком ничего не знает, но зачем-то стали вывозить из Польши миллионы евреев. От этого 120 тысяч вагонов заняты под еврейские кагалы, а на фронте мрут солдаты, и нет эшелонов, чтобы вывезти в тыл раненых…. Абсурд, но это быль – жестокая быль! Министры утверждают, что вывозят евреев за то, что они пропитаны прогерманскими настроениями. «Если это так, – пишут газеты, – то не лучше ли всех евреев и оставить немцам в подарок?..»
Тремя клиньями, царапая зеленую землю, вторгалась в Россию кайзеровская армия. А пока Россия истекала кровью, добирая со складов последние портянки и вывозя из парков последние снаряды, Антанта неустанно накапливала свою боевую мощь. Быстрыми темпами во Франции и Англии развивалась военная индустрия. Борьба шла на истощение – сначала России, потом Германии…
Германские подводные лодки начали «неограниченную» войну: кайзер разрешил им топить всех. И сразу была взорвана «Лузитания» – эта кузина печально памятного «Титаника». Немцы отлично знали, что на этих лайнерах есть даже висячие сады Семирамиды, но зато безобразно налажена служба спасения пассажиров. Германская субмарина ударила торпедой в корабль, который спешил из Нью-Йорка, оглушенный музыкой своих баров; люди на «Лузитании» беспечно снимали кожуру с апельсинов, флиртовали, купались в бассейнах с теплой водой и дурачились на теннисных кортах. 1200 пассажиров, большая часть которых – дети и женщины, отправились на грунт, и мир вздрогнул от звериной жестокости расчетливого убийства.
К несчастью для немцев, в массе погибших на «Лузитании» было и 140 пассажиров американского происхождения. Среди них плыл в Европу и всесильный миллионер Альфред Вандербильд, что ускорило протест президента США Вильсона Германии…
На кораблях русского флота, которые уже не раз сталкивались с наглостью и безжалостностью германских подводников, офицеры рассуждали:
– Сейчас кайзер, конечно, отступит, ибо Германии опасно иметь своим противником страну с таким колоссальным экономическим потенциалом… Однако, господа, черт знает во что стала вырождаться благородная морская война!
* * *
Утром под струями обильного дождя в притихшую Либаву уже входили завоеватели. В зачехленных серым полотном шлемах «фельдграу», над которыми торчали воинственные шишаки, отлично одетые, с железной дисциплиной, войска кайзера упоенно распевали:
Суп готовишь, фрейлейн Штейн, дай мне ложку, фрейлейн Штейн. Ихо-хо-хо! Ихо-хо-хо! Очень вкусно, фрейлейн Штейн, суп готовишь, фрейлейн Штейн…На центральной площади города лежал мертвый матрос, убитый выстрелом в лицо. Его оттащили за ноги в сторону и бросили в траву сквера, чтобы не мешал торжественному проходу войск. Из подвалов завода «Линолеум», с крыши пробочных мастерских стучали по немцам редкие залпы – это стреляли рабочие-латыши, которые с молоком матери впитали в себя ненависть к германцам (ненависть ветхозаветную – еще со времен крестоносцев). В миготне прожекторов и грохочущем реве котельных вентиляций на Либаву уже двинулись германские крейсера – серые, будто их густо обсыпали золой и пеплом.
Вслед за передовыми частями въехал в Либаву заляпанный грязью автомобиль, в котором восседал принц Генрих Прусский, брат кайзера. Принц этот в чине гросс-адмирала командовал немецкими морскими силами на Балтике. Глаза у Генриха – как две электрические лампочки (такие буркалы – наследственная черта мужских представителей разбойного рода Гогенцоллернов). Автомобиль, визжа шинами по разбитым стеклам, завернул от Розовой площади – прямо в гавань. Пересев в катер, поданный к причалу, принц обошел корабли своей эскадры. С палуб крейсеров ему кричали экипажи, выровненные столь идеально, словно отбитые по шнуру вдоль черты горизонта:
– Хох-хох-хох! Хайль… хайль!
Принц Генрих со знанием дела осмотрел акваторию гавани.
– Отличный порт, – сказал он. – Теперь часть флота из Киля может перенести базирование непосредственно на Либаву: отсюда, из Либавы, мы имеем быстрый и решительный выход на стратегический простор Балтики… Русские ротозеи еще не раз всплакнут, вспоминая этот чудесный городок, в котором столь сильна германская культура. Я доволен… мой брат кайзер – тоже!
Флот кайзера сразу же начал сжиматься в бронированный кулак, чтобы – через Ирбены – таранить ворота Риги, сбить их с древних ржавых петель, и тогда… О, именно тогда перед германским флотом откроются ворота проливов Моонзунда, за которыми прямая дорога – на Петроград!
Войска кайзера волна за волною накатывали на Либаву, на улицах которой ликовало курляндское дворянство. Сколько вынесли бароны портретов Вильгельма II, сколько было возгласов во славу германской армии, сколько брошено цветов под ноги солдат, сколько роздано поцелуев либавскими бюргершами… Солдаты пели:
Лишь подвернись нам враг – перешибем костяк. А если не замолк – добавь ему разок… Ихо-хо-хо! Ихо-хо-хо!Впрочем, сама Либава со вступлением немцев мало изменилась. Дворники быстро привели улицы в порядок, стекольщики застеклили разбитые окна и витрины. Только известная в Либаве кондитерская кофейня «Под двуглавым орлом», сообразно политической ситуации, стала теперь называться на прусский лад – «Под одноглавым орлом». В витрине ее так же, как и раньше, были расставлены заманчивые корзиночки с марципанами. Прохожие невольно останавливались, чтобы обглазеть новое произведение искусных кулинаров: торт – портрет кайзера, целиком слепленный из кремов, с глазами и усами, сделанными из довоенных запасов бразильского шоколада… А на дверях цукерни появилась теперь броская табличка: «Здесь обслуживают господ германских офицеров».
Ихо-хо-хо! Ихо-хо-хо!* * *
Ганс фон Кемпке, лейтенант с крейсера «Тетис», появился в кофейне «Под одноглавым орлом» как раз в тот день, когда комендант Либавы приказал срочно убрать из витриры торт с изображением кайзера. Он был прав: любой прохожий, увидя этот шедевр кулинарии, забывал о величии германского императора, испытывая лишь одно желание – взять ножик, чтобы от левого уха до правого аккуратно расчленить кайзера на куски, согласно количеству гостей, а шоколадные усы Вильгельма оставить до рождества своим детишкам…
Лейтенант фон Кемпке, пройдя в гостиную, отцепил от пояса звенящую саблю. Лезвием десертного ножа постучал в поющую грань хрустального фужера. Он был нетерпелив и – как истинно прусский офицер – требовал к себе неограниченного внимания.
– Кельнер! – позвал он, еще раз осмотрев себя в зеркале.
Да, сегодня он великолепен, как никогда. Вряд ли какая женщина устоит перед его тевтонскими чарами. Еще на дредноуте «Прессер Курфюрст», где раньше он служил башенным начальником, фон Кемпке имел славу неотразимого обольстителя. Четыре триппера, залеченные на казенный счет в клинике Вильгельмсгафена, – это прекрасный показатель его успехов! Теперь следовало завоевать славу Дон-Жуана для кают-компании крейсера «Тетис». И сейчас, сидя в лучшей цукерне Либавы, лейтенант обжадавело вдыхал с кухни запахи булочек. После серых корабельных столов, накрытых (ради бережливости) клеенками, ему была – как когда-то и Артеньеву – приятна очаровательная белизна кувшина для сливок.
– Кельнер, черт побери! Долго ли я буду ждать?
За спиной лейтенанта жестко прошуршали кружева:
– Что угодно господину офицеру?
Кемпке обернулся и обомлел: перед ним стояла красавица кельнерша с выпуклой грудью. Губы ее трепетно улыбались. А глаза (ах, какие это были глаза!) оставались слегка печальны.
– Кофе, – сказал ей Кемпке в том повелительном тоне, каким он на крейсере приказывал подать боезапас на башню. – Конечно, с коньяком. И корзиночку марципан… как можно быстрее!
– Для немецких офицеров, – последовал приятный ответ, – у нас имеются и марципаны. А для русских свиней была только водка с пивом и селедка с огурцами.
– О! – воскликнул фон Кемпке, обрадованный. – Кажется, милая фрейлейн за что-то сердита на русских?
На глазах кельнерши висели слезы:
– Русские способны делать несчастными порядочных женщин…
Сейчас лейтенант даже пожалел, что поспешил отстегнуть от пояса саблю, которая так украшала его бесподобное мужество. Впрочем, сабля стоит рядом с ним, и красавица, кажется, уже ее заметила.
В разговоре она случайно назвалась Кларой Изельгоф.
– Вы немка? – умилился Кемпке.
– Наполовину. Но… знали бы вы, как я рада видеть в Либаве германские корабли. Поверьте, не только я, но и все порядочные люди, которые хотят порядка, давно ждали солдат нашего кайзера. Только босяки из предместий заодно с русскими… фуй! Я терпеть не могу латышей…
Коньяк привел Кемпке в воинственное настроение.
– Теперь эта земля наша, – говорил он так, чтобы его могла слышать вся цукерня. – Мы, крестоносцы двадцатого века, вернулись на землю своих пращуров. Всех русских – вон! Всех латышей – к ногтю! Где ступила нога германца, там уже начинается великая Германия… фрейлейн, – распорядился он, почти вдохновенный, – еще четыре килограмма сливочного масла, заверните его отдельно в пакет для отправки в Германию и можете подавать счет. Германский офицер понимает щедрость друзей, которых он освободил от ига русских варваров, но германский офицер никогда не ест и не пьет даром… Итак, счет. Счет, фрейлейн!
Клара Изельгоф выписывала ему счет, а он победно оглядывал гостей кофейни. Наконец счет был ему предъявлен:
Чашка кофе 70 марок,
коньяк 220 марок,
ложка сахару 40 марок,
марципаны 580 марок,
Итого – 910 марок + за масло
еще 1318 марок = 2228 марок
Неотразимый мужчина от такого счета сильно вспотел.
– Ну да! Я понимаю, – сказал он величаво. – Это ведь расчет на оккупационные марки… Иначе и быть не может! Такие цены! С чего бы такие цены, как в Германии?
– Я не виновата, – с милой улыбкой отвечала кельнерша. – Но цены с вашим приходом в Либаву страшно выросли. А наше кафе только для немцев, и мы берем только имперскими марками.
Позор был велик, и от прежнего величия ничего не осталось. Так хорошо сидел, так красиво говорил, так его внимательно слушали, и вдруг… счет! Убийственный, оставляющий победителя без штанов.
– Масло я уже не беру. Я раздумал… проживут в фатерланде и без масла. Должны дома понять, что я воюю, и мне, значит, не до масла. И кажется, – соврал Кемпке, – я забыл свой бумажник на корабле. Надеюсь, фрейлейн, вы не заподозрите германского офицера в сознательном уклонении от расплаты за выпитое и съеденное?
Он домчал на извозчике до гавани, взял жалованье за четыре месяца вперед и – взмыленный от поспешности – честно расплатился за свое бахвальство. По дороге до кофейни Кемпке тщательно обдумал ту фразу, которую он выложит перед госпожой Изельгоф.
– Фрейлейн Клара, – сказал он кельнерше, откровенно обозревая ее шею, локоны, руки, грудь. – Вы столь дорого обошлись мне за завтраком, что я теперь не могу не обложить вас дополнительным налогом за ужином.
– Каким же, герр лейтенант? – покраснела красавица.
– О! Вы и сами должны бы догадаться…
– Но я скромная провинциалка… мне догадаться трудно.
– Прошу у вас свидания. Немедленного!
– Благодарю вас, герр лейтенант, за честь, мне оказанную. Какая женщина в Либаве откажет в свидании доблестному германскому офицеру?..
Вечером они уже гуляли по улицам и паркам, оглушенным бравурной музыкой солдатских оркестров. Клара Изельгоф, удивительно нарядная и эффектная, не задержалась возле той липы, на коре которой, словно по живому телу, было вырезано ее имя в сочетании с именем лейтенанта Артеньева…
* * *
Будьте же счастливы, моя дорогая! У меня не поворачивается язык, чтобы назвать вас обычной портовой шлюхой.
Финал к Либаве
«Новик» стоял на рейде Аренсбурга – столицы провинции острова Эзель; открытый с зюйда рейд имел песчаный грунт, якоря отданы на глубине в восемь сажень за семь миль от берега. Неожиданно их навестил адмирал Трухачев, начальник Минной дивизии.
В каюте Артеньева он попросил себе чаю. Сказал:
– Вот так-то, дорогой мой… Я уж думал, что выйду в отставку, буду каждодневно шляться на угол Восьмой линии, знаете, на Васильевском острове такой шалманчик Бернара, где собираются по вечерам отставные адмиралы…
И замолчал, сосредоточенный. Помрачнев, Трухачев добавил:
– Там, в Ирбенах, как докладывают с моря, стали всплывать трупы с погибших кораблей. У вас скорость приличная. Сбегайте до Ирбен и обратно. Понимаю, Сергей Николаич, задание не из самых приятных, но… нельзя, чтобы они там болтались!
– Павел Львович, о чем разговор? – отвечал Артеньев с готовностью. – Если служба требует того, будет исполнено!
Пошли подбирать. Трупы плавали, как правило, лицами вниз, крестоподобно распластав руки и ноги. Руки мертвецов зачастую лежали на поверхности воды, будто усталые до изнеможения люди облокотились на стол. А ноги были уже объедены хищной корюшкой. Среди прочих трупов подобрали один – какой-то непонятный. На брезенте он стал расквашиваться, словно студень на сковородке. Чуть тронь – расползается, как мыло, долго пробывшее в воде.
– Да это не наш! – догадались на «Новике». – Видать, еще с прошлой осени немак с тральцов. Илом его засосало, а потом при взрывах заодно с нашими подняло… Наши-то – свежаки!
Чужого мертвеца лопатой, словно навоз, сгребли обратно за борт, а русских уложили рядком на корме – вдоль тех самых рельсов, по которым покойники не раз скатывали на своих кораблях мины. Накрыли убиенных парусиной. Дали полный ход. Спешили поскорее доставить их на базу, чтобы избавиться от неприятного груза.
«Новик» шел в Аренсбург с приспущенным флагом…
– Я уже не думаю, как бы мне хорошо прожить, – сказал Артеньев на мостике. – С некоторых пор я стал больше заботиться – как бы мне хорошо помереть…
На берегу мертвецов раскладывали по гробам. Ставили на дроги. Гарнизонный оркестр Аренсбурга сопровождал их до кладбища. В почетном карауле шагом мерным, с оттяжкою ноги назад (как ходят только моряки), следовали за гробами матросы и офицеры. Буйно зацветали сады. Дул ветер с моря. Дорога тянулась в гору.
Когда Артеньев вернулся с похорон, в каюте его ждало письмо. И он был поражен тем, что писала Клара… Из Либавы до Аренсбурга, через все фронтовые кордоны, через водные хляби Ирбен – она донесла свой тоскующий голос. Ничего в письме, кроме слов любви, а в конце письма, обведенные кружком, стояли ее слова: «Это место я поцеловала».
Перед глазами Артеньева еще тянулась долгая дорога на кладбище, и он медленно снял с рукава траурную повязку. Черная тесьма легла поверх письма любящей женщины…
Был как раз воскресный день. Со стороны бульваров Аренсбурга доносилась музыка. Это гарнизонный оркестр прямо с кладбища завернул в городской парк, где и начал солнечную мазурку.
Случилось ли что? А может, и ничего не случилось…
Часть вторая
Прелюдия к беспорядкам
…Скитальцы морей – альбатросы,
застольные гости громовых пиров,
орлиное племя – матросы,
матросы…
Вам песня поэта. Вам слава веков.
Влад. КирилловРанней весной 1915 года Эссен вывел линкоры из Гельсингфорса на практические стрельбы. В шхерах дредноуты громоздили перед собой голубые торосы льда. Комфлот держал флаг на «Императоре Павле I», финские буксиры, пыхтя от усилий, вытягивали на дистанцию боя плавучие щиты, обреченные артиллерией на разгром и потопление.
Эссен всегда был нетерпелив – флагарт Свиньин не успел и рта открыть, как адмирал уже велел залпировать главным калибром, лично скомандовав данные к прицелу. И вдруг, из «ласточкина гнезда» – от самых марсов, где над бездною качались дальномерные трубы, – послышался в телефонах голос матроса:
– Ой, неверно! Бери два кабельтова больше.
Эссен постервел после такой поправки, а башни линкоров уже изрыгнули лавину огня. Болванки снарядов унеслись к щитам.
– Недолет! – донеслось с мачтовых высот. – Давай, говорю, ставь на два больше… тогда не смажешь!
Возмущенно загалдели в рубках штабные «флажки»:
– Какой-то матрос и смеет так нагло… самого адмирала!
– Он прав, – сказал Эссен и велел внести поправку.
Башни линкоров снова извергли огонь, и служба на визирах сразу отметила накрытие. После отбоя стрельбам Эссен завращал рыжими глазами, крича дальномерщику:
– А ну, слезай сюда… корректор паршивый!
«Сейчас быть морде битой». Молодцеватый матрос с выпуклой грудью проворно соскочил с мачты на ходовой мостик.
– Как зовут? – рявкнул на него комфлот.
– Павел Дыбенко, ваше превосходительство.
Эссен взял матроса за ухо:
– Так вот что я скажу тебе, дорогой Дыбенко: или ты у меня в тюрьме насидишься, или… быть тебе на моем месте!
– Так точно, мы ведь способны и на то и на другое.
«Ну вот, сейчас врежет по уху…» Но Эссен, сердито сопя, раскрыл кошелек и подарил Дыбенке серебряный рубелек:
– Сукин ты сын! Хвалю за честность. Получи на гульбу…
* * *
Русско-японская война, столь неудачная для России, была, по сути дела, тем кремнем, на котором оттачивали свое флотское оружие все великие морские державы. Из печального опыта перевернутых кверху килями витязей-броненосцев, из геройской гибели «Стерегущего», из обороны Порт-Артура – немцы, англичане, французы (а также и сами русские) делали торопливые выводы, загружая работой свои верфи, заводы и лаборатории. Окончательно набрать боевую мощь исполина русский флот должен был по плану лишь в 1920 году, но… война не стала ждать, и все программы на будущее достались уже Советской власти.
Англия – из трагических выводов Цусимы – породила морское чудовище по имени «Дредноут» («Ничего не боящийся»), и это имя сделалось нарицательным для большинства линейных кораблей, в генеральной мощи которых мир тогда еще не сомневался. Однако, подобно тому, как автомобиль вытеснял на обочину дороги лошадь с телегой, так и подводная лодка уже выходила в атаку на дредноуты, чтобы торпедами подорвать непререкаемый авторитет «ничего не боящихся».
Все спорные проблемы, которые накопились в XIX веке, империализм разрешал в начале века XX, и первая мировая война стала для военных людей почти откровением, ибо штабная мысль не могла угнаться за бурным развитием сил материальных. Под палубами уже рокотали турбины, стучали клапаны дизелей, корабли сосали бензин и мазут, электротоки и гидравлика проворачивали башни орудий, а в душе адмиралов еще не умерло желание выстраивать эскадры в одну линию, как во времена Нельсона. Нельзя обвинять в отсталости русских адмиралов – ошибки англичан и немцев в борьбе на море порою были еще ужаснее, еще грубее. В Цусимской битве японский адмирал Того удачным маневром охватил «голову» эскадры Рожественского – и британские адмиралы теперь без конца будут повторять этот маневр, для исполнения которого в Англии изобрели даже особый класс кораблей – линейных крейсеров, вся задача которых – разбить авангард противника.
Русский флот по тем временам был передовым флотом мира, а жидкое топливо уже открывало перед ним обширные пространства океанов. Используя захваченные на «Магдебурге» германские шифры, русские заранее угадывали намерения врага и предупреждали о них союзников. Артиллерия флотов резко увеличила свою мощь, но… увеличились и дистанции боя. Наступило шаткое равновесие: количество попаданий в цель оставалось на том же уровне, как и в русско-японской войне. Три попадания из ста выпущенных снарядов – это считалось большой удачей (даже гордились!). В первой мировой войне уже обозначился кризис нарезной артиллерии, и этот кризис оформился лишь к концу второй мировой войны (весною 1945 года в битве за Берлин советская артиллерия исполнит торжественный реквием многовековой славе пушек).
Мировая бойня за передел мира еще не началась: не мог решиться на войну Вильгельм II в Потсдаме, боялся ее Николай II в Царском Селе – ее открыл из Гельсингфорса адмирал Эссен.
– Почему молчит царскосельский суслик? – рвал и метал он, разбрасывая мебель по каюте. – Пусть срочно сообщат мне о политическом положении. Если ночью не получу ответа, я утром начну вываливать за борт все мины, какие найдутся на складах флота…
Ответа не было (войны – тоже). Балтийский флот вышел в море и уже завалил минами пространство от Наргена до Порккала-Удд – от Финляндии до Эстляндии, когда Петербург дал Эссену телеграмму-молнию – вне всякой очереди: «Война объявлена, тчк быстро ставьте мины тчк».
– Я сам водрузил себе памятник… вот он, ни на что не похожий! – И адмирал Эссен указал с мостика на кипящие воды Балтики, в которых сразу стало тесно и жутко от густоты минных банок.
* * *
А теперь он умирал. В чине вице-адмирала. В возрасте пятидесяти пяти лет. Диагноз – крупозное воспаление легких. Эссен простудился на переходе от Ревеля… Николай Оттович лежал в бронированной глухоте флагманского крейсера «Рюрик» – на койке, зачехленной славным андреевским флагом. Годами не сходивший с палуб кораблей, он не пожелал умирать на берегу.
– Я не собака! Комфлот отдаст концы на своем флагмане…
Клокоча бронхами, адмирал подозвал к себе Ренгартена:
– Скажи хоть ты… правду… Где сейчас германский флот?
Ренгартен скрыл правду от умирающего и отвечал уклончиво, что эскадры принца Генриха лишь на подходах к Либаве.
– Ирбены под ударом, – прохрипел адмирал Эссен. – Как жаль, что я подыхаю. Теперь зубами цепляйтесь за Ирбены и Ригу, в бетон и сталь надо одеть мыс Церель… Держитесь! Иначе всех вас продует через трубу Моонзунда, как пушинку через воздуходувку…
Перед смертью Эссен настойчиво заговорил о своем преемнике, при этом он стал сильно волноваться:
– Никого, кроме Колчака… только Колчака можно ставить над флотом! Радируйте в Ставку: пусть срочно дают ему чин контр-адмирала и ставят на мое место… Он справится, я верю!
Император не решился поставить Колчака над флотом.
– Он же молод, ему всего сорок, – указал Николай II, – а есть на флоте люди с большим цензом, для которых подобное назначение покажется обидным… даже оскорбительным, господа!
Балтийским флотом стал командовать Василий Александрович Канин – неприметный вице-адмирал с лицом разочарованного в жизни учителя из провинции. В кают-компаниях кораблей (под рвущую нервы музыку Шопена) царило всеобщее уныние. Флаги эскадр были приспущены. На плоских корабельных ютах служили панихиды.
Офицеры негромко переговаривались:
– С кончиною Эссена флот осиротел, мы потеряли опытного стратега. Николай Оттович не виноват, что кайзер отодвинул нас к Ирбенам. В любом случае вторая военная навигация будет сложной…
А в нижних палубах – совсем иные разговоры:
– Братишка эссенский в Германии тоже флотом командует. Эссен ему все наши секреты и выдал за четыре тысчонки с походом.
– А мне, братцы, писарь сказывал, будто Колчак об измене Эссена в Ставку донес. Эссен со страху мышьяку крысиного в стакане с водкой развел – и хлестанул натощак без всякой закуски.
– Братва, я больше всех вас знаю.
– Ну?
– Колчак-то сам на эссенское место карабкался.
– Рази?
– Ей-ей…
Эссена не стало. Умер талантливый флотоводец. Именно Эссен из собрания кораблей различной классификации сумел выпестовать флот – как единую боевую организацию. Именно он приучил корабли ходить там, где никто не ходил раньше – из страха распороть днище о камни. При Эссене минное дело было поставлено как нигде в мире. Эссен добился того, что артиллерия русских кораблей накрывала противника почти с первого залпа…
Советская историография высоко оценивает заслуги Эссена как флотоводца. Любимый ученик адмирала Макарова, он «никогда не подавлял самостоятельности и инициативы своих подчиненных, к которым всегда относился с большим уважением…». Многое полезное из тактики Эссена позже было принято и на вооружение советским флотом.
* * *
Перед смертью он видел себе замену в Колчаке, но комфлот никогда не думал, что матрос, получивший от него рублишко на пропой, займет его флагманское место.
Смелость и разумная расторопность Павла Дыбенко стали притчею во языцех на флоте. Не было такого гиблого тральщика на Балтике, не было и такой островной «дыры», где бы не обсуждали столкновения матроса с адмиралом на мостике.
Популярность Дыбенки возникла как-то разом – грандиозная и стихийная. Дерзкий ответ его Эссену, что он способен не только в тюрьме сидеть, но и флотом может командовать, – этот ответ поражал воображение матросов.
Через два года эта популярность придется как раз кстати.
Эссен – не пророк, но перед смертью напророчил удачно.
Скоро! Уже скоро сядет Дыбенко в тюрьму.
Скоро он поведет флот за партией Ленина в Моонзунд…
Чудеса бывают только в революциях!
Беспорядки
Главной причиной всех беспорядков на флоте является недовольство матросов офицерами немецкого происхождения; недовольство это особенно усилилось после явной измены капитана I ранга фон Дена, который командовал крейсером «Новик»… Фон Ден вынужден был застрелиться. После же ареста матросов на «Гангуте» озлобление флота настолько усилилось, что на некоторых судах могут произойти случаи выбрасывания нежелательных офицеров за борт.
Из секретного доклада премьеруРоссийской империи И. Горемыкину(исходящий № бумаги 178383от 17.XI.1915 года).1
Гельсингфорс! Дыхание войны не коснулось столицы Великого княжества Финляндского… Магазины битком набиты отборными товарами, шумели по вечерам ярко освещенные «Карпаты», где по традиции моряки оставляли свое жалованье, рынки были завалены всяким добром. По чистеньким улицам шлялись разодетые, с пышными муфтами в руках, деловитые красотки, предлагая прохожим офицерам:
– Господин кавторанг, а разве вам не хочется поцеловать меня на сон грядущий?..
Подвластная Российской империи Финляндия не воевала. Финнов не брали на фронт, не облагали их военным налогом. Между тем в стране росло националистическое движение. Отношение же финнов к русским с войною заметно изменилось. На любой вопрос они отделывались кратким «неомюра» («не понимаю», и кончено!). Спиртные напитки были запрещены, но в пивных еще торговали крепким финским «кале», а денатурат шел из-под полы, как и в России. Флот – настороже! – стоял на рейдах Гельсингфорса, до весны закованный в панцирь льда. Всем своим грозным видом русские дредноуты как бы внушали финской столице, что Российская империя не собирается уходить отсюда подобру-поздорову… В морозной дымке рассветов с палуб кораблей виделся уютный город на скалах, золотился купол православного собора, с ранцами за спиной бежали детишки в русские гимназии… Флот линейный – флот чудовищных мастодонтов, способных в жарком дыхании башен оставить от Гельсингфорса пух и перья, прах и пепел!
А на ледовом рейде – своя, особая житуха. Дредноуты напоминают хутора заядлых единоличников, разбросанные подальше один от другого. Сосед, ты не мешай соседу! Для связи между ними протоптаны дороги, укрытые дощатыми настилами с поручнями, между кораблями-хуторами с раннего рассвета бегают заиндевелые лошаденки с санками: когда подвезут дровишки, свежий хлеб, почту, когда навалом тащат подгулявших мичманов с берега. Чтобы сберечь внутри промерзлых громадин тепло, броневые палубы линкоров на время зимы обшиты досками. В командных кубриках топятся печки – и уютно копошится над гаванью дымок. По утрам матросы с гоготом, играя силой, которую девать некуда, покалывают дровишки для камбузов…
Рай! Ну совсем как в родимой деревеньке.
Несведущего человека, попавшего на рейд Гельсингфорса, поражало обилие катков, окруженных веселыми елочками, воткнутыми в сугробы. Каждый дредноут считал нужным соорудить возле катка здоровенную снежную бабу с большими титьками: бабу любовно окрашивали клюквенным квасом, вместо глаз – две картошины, вместо носа – морковка. По вечерам, когда Гельсингфорс утопал в море огней, ревели над рейдом корабельные оркестры, играя трепетные вальсы и мазурки. Из предместий города – по мосткам – приходили стыдливые барышни, держа под локотками, как бальные туфельки, стальные коньки. В блеске разноцветных фонариков начиналось катание под музыку. Матросам выдавали тогда особые свитеры – из белой шерсти, и какой-нибудь баталер Шурка Сметанин лихо выкручивал фортеля на коньках в паре со смешливою финкою Кайсой…
Ах! Немало вспыхнуло романов на льду гельсингфорсского рейда, немало разбилось об лед сердец, сколько поцелуев-то было сорвано украдкой – за теми вон елочками! Все было так. Внешне прекрасно. Но не следует забывать, что во всем этом был заложен глубокий политический смысл… Читатель вправе спросить: а при чем здесь политика? Однако от нее в 1915 году никуда не уйдешь. В этом обилии сверкающих огней, в этих печальных наплывах грустящего вальса, в этих режущих лед коньках – политика. Причем политика эта – контрреволюционная.
Начало ей положил фон Эссен – отличный комфлот, но убежденный монархист. Канин продолжил ее. Адмиралы понимали, что запертый во льдах флот, лишенный с войною заграничных плаваний, которые всегда отвлекали матроса от нужд общественных, – такой флот способен в тягостные зимние вечера засесть за марксизм. В узкие, будто крысиные норы, отсеки (куда редко заглядывают офицеры) опять будут сползаться, словно ужи, и будут читать шепотком, обсуждать – готовить… бунты! бунты! бунты!
Официально же бунты назывались лукавым словом «беспорядок».
Если в дни мира поощрялось в матросах пьянство, тоже спасающее от политики, то теперь – в дни «сухого закона», войны – была найдена пьянству хорошая замена. Пышным букетом на Балтфлоте расцветали кружки самодеятельности, бренчали в кубриках балалайки «самородков», открытых офицерами в корабельных недрах, надрывались в пении глотки сигнальной вахты, приученной для лихости вообще орать, когда надо и не надо.
Но главное – спорт! Эссен премудро, аки змий искушения, залил катки возле кораблей, обсадив их елочками – ради изоляции тех же кораблей. На флоте насаждался культ грубой физической силы, которая издавна восхищает всех моряков. Порою матчи классической борьбы между крейсерами и эсминцами обсуждались с большей горячностью, нежели последние известия с фронта. Каждый корабль, каждый дивизион, каждая бригада имели своего чемпиона. Таких бугаев берегли и холили. Силачам давали по кольцу краковской колбасы в день: хоть тресни – только побеждай. Командование вешало на плечи чемпионов лишние лычки «контриков»… Еще бы не жить!
А чемпионом от 1-й бригады линкоров был гальванер Семенчук.
* * *
Страшно! Трофим Семенчук никогда не забудет этого дня.
Того памятного дня, когда в Крюковских казармах его раздели догола и гоняли от стола к столу. Из самых здоровых врачи выбирали отменно здоровущих – с ногами, словно чугунные кнехты для швартовки. И на спинах крепышей русской провинции цветным мелом писали две непонятные буквы: «Г. Э.». С этими то буквами он и попал в Гвардейский флотский экипаж.
Притихшие сидели новобранцы на нарах. Кто-то пустил слух, что домашние запасы сейчас отберут, а потому надо слопать все сразу. Из мешков сыпалась последняя родная благодать: пироги с треской, яйца печеные, соль в бумажке, сало бабкино, бутылки с топленым молоком, закрытые бумажными затычками. Стали матросы подминать все вчистую, чтобы не было потом жалко. Чавкали. Молча. Испуганно. Без аппетита. Вдруг откуда ни возьмись налетели шакалы-сверхсрочники со своими мешками.
– Ишь, расселись – быдто они в ресторанте. Всякую тут, знашь-понимашь, жратву не по уставу трескают. А ну! Сыпь сюды все, халява скобская… Или не знашь-понимашь, что от неказенной пишши на флоте крысы заводятся?
В жадно растопыренные мешки унтер-офицеров новобранцы покорно кидали остатки домашнего. А в торбе у Семенчука хранилась еще бутылка с водкой. На него и налетели как коршуны:
– Давай водку сюда, такой-сякой-немазаный.
– Да вить крысы-то, – отвечал Семенчук, робея (но со знанием дела), – крысы-то, говорю, от водки никогда не заведутся.
Только он это произнес, как ему врезали по зубам, а бутылку отобрали, внушив при этом:
– Эх ты, серость! Крысы не заводятся – это верно. Зато от водки клопы бывают, которых стерпеть на флоте никак нельзя…
А потом был Кронштадт и была Школа гальванеров. Два года в парня вбивали – безжалостно, как гвозди в стенку! – механику, электротехнику, математику и даже правописание. Гальванер на корабле – птица высокого полета. От самых марсов, с высоты которых «чечевицы» дальномеров прощупывают дистанцию до врага, и до самых нижних отсеков, где высокую алгебру боя в секунды отрабатывают бездушные автоматы, – во всем этом сложнейшем хозяйстве огня, стали, токов и оптики гальванер должен быть точен, неустрашим, проворен, смышлен, вездесущ… Наконец погнали всех – как баранов:
– На каталажку!
На «каталажку» – значит на корабли. Флот – штука странная. Сколько ужасов наслышится новобранец про железные коробки отсеков, похожие на тюремные камеры, про чудовищные взрывы погребов, возносящие корабли к небесам, как пыль, – идет молодой матрос на «каталажку» и трясется всей шкурой… Ать-два, ать-два! Но вот в просвете гельсингфорсской Эспланады яростно блеснет синева, а там зовуще и тревожно закачаются крестовины мачт, – и невольно парни усиливают шаг. Душа сама, будто ликуя, просится в эту синеву, ее влекут к себе своей неземной красотой чеканные профили кораблей, и уже не хочется думать о будущих тягостях. Как бы ни была сурова морская служба, но человек так уж устроен, что лучше пять лет жестокой романтики на море, нежели один месяц постылой жизни в вонючей казарме на берегу…
Трофим Семенчук выдержал – он прошел через все! Из 10 кандидатов на гальванную службу было по 7-8 человек отсева. Люди разбивались в люках, гробились об металл с высоты марсов, они сходили с ума в железных ущельях коридоров – среди горловин, автоматов и башен. Лучшие и выносливые оставались. И вот теперь (теперь-то!) Семенчук даже благодарен судьбе. Сам чувствовал, что выковался в человека, каким раньше и не мечтал быть. Приобрел знания, которые пригодятся и на «гражданке». Полюбил читать книги, а до флота думал, что это дело господское. Одного зуба лишился – это тоже так, но… Повидал Европу, посмотрел, как живут люди за границей, научился и мыслить пошире.
За год до войны Семенчук уже был большевиком…
Трофим – матрос крупный, видный, некурящий. После нелегкой жизни дома он отъелся на жирном корабельном пайке, когда в миске каждого среди кусков мяса ложка дыбом торчала. К французской борьбе он пришел случайно – не ради карьеры: шутя повалил одного, дурачась свалил второго и третьего – сразу началась слава чемпиона. Инструкторы из организации русских «Соколов» взялись за его сильное тело – с таким же напором, как брались когда-то в Школе гальванеров за его голову педагоги. По ночам кости стонали после тренировок. Натертая в схватках шея вздувалась бугром. Вешали ему на шею кранец с пятипудовым снарядом, и бегал Семенчук как угорелый от гюйсштока до кормового флага. А приятели подбадривали:
– Давай, Трошка, наяривай! Ежели Минную дивизию кверху лапками опрокинешь, мы тебе сообча бутылку чистой ханжи поставим…
Семенчук верил, что Минную дивизию он на ковре разложит. Но бригада крейсеров с Або-Аландской позиции растила и нежила под своей броней такого первобытного «лба», который – по слухам! – вручную, без помощи моторов, мог провернуть корабельную башню.
Честь своего линейного корабля «Гангут» гальванер защитил. Уже лежат на лопатках и не пикнут однотипные «Гангуту» линкоры – «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск». А вот дальше-то как? Крейсера, кажется, не шутили. Говорят, по литровой банке сгущенного молока выделяют на прожор своему чемпиону. Ходят по флоту нездоровые, панические слухи, будто этого быка офицеры даже с вахты сняли – лежит теперь кверху пузом на рундуке, силу копит.
– Как фамилия-то его? – дознавался Семенчук о сопернике.
– Безголовый!
Это тоже нехорошо: безголовые-то всегда сильнее головастиков…
А главою подпольной ячейки большевиков на линкоре «Гангут» был унтер-офицер Владимир Полухин[5]. Он возглавлял работу и дальше – на всей бригаде «линейщиков». Семенчук – по праву чемпиона – имел доступ на другие корабли, и Полухин частенько использовал борца для связи между партийными ячейками дредноутов. Конспирация соблюдалась строго, ибо политический сыск на флоте был доведен жандармами до идеального совершенства. Водились и «шкуры», которые по ночам в каюты офицеров стукали… Но Полухин, парень башковитый и ловкий, был всегда настороже.
– Сейчас самое главное, – внушал он товарищам, – ты на рожон попусту не прись. Этим ничего не докажешь. Большевик должен быть самым дисциплинированным по службе, самым смелым в бою. Важно, чтобы офицеры нас попусту не теребили. Пусть анархия на пуговицах да курении засыпается. А мы – образцы поведения!
Это верно: большевики на линкорах были примером для других, и почти все члены партии носили на плечах яркие «Контрики» унтер-офицеров. Война внесла в работу большевиков многие нелады. Подпольщики, как правило, с мобилизацией 1914 года потеряли самое главное в работе – связь. Кто не арестован, тот был мобилизован. Один занял патриотическую позицию, а другой просто пропал… Явки пустовали! Связь отсутствовала! А если связь и была, то, видать, струилась неслышными ручейками где-то в глубочайшем подполье, как глухие подземные воды, и было не узнать, где они, эти воды, вырываются на поверхность.
Вот об этом часто на линкорах говорили. Придумывали сообща различные ходы и выходы. Как попасть в Петроград? Невозможно. Даже сидящие в Кронштадте и те, словно замурованные, не могли дальше Ораниенбаума вырваться.
– Хорошо быть раненым, – размышлял Семенчук. – Конечно, чтобы не до смерти шлепнули, а только повредили по мясу… Тогда ты – кум королю: повезут тебя в тыл, вот и связь!
Линейные силы Балтфлота включены в систему главной обороны финского залива, дредноуты находились в повышенной готовности – война есть война, и долг есть долг…
– А в Питере побывать надо, – говорил Полухин. – Без новой литературы, без связи с партией мы заскучаем. Не огурцы же мы соленые, которым только и хорошо, пока они в родимой бочке квасятся… Конечно, есть еще один способ – дезертировать, но, я думаю, никто из нас на это не пойдет!
* * *
Незаметно теплое и приятное лето пришло в шхеры финские. Хорошо спится матросам на палубах под казенными рыжими одеялами. Глядя на чистые звезды, что рассыпаны над ними, допоздна мечтают матросы. О том о сем. О житье-бытье. Как дальше? После войны-то как будет? О любви немало сказано. О ней. Неизбежной…
Договорятся, пока склянки не отбубнят третий час ночи.
– Задрай все дырки, какие имеешь! Братва, спать, спать…
В июне месяце, когда «линейщики» вернулись от Ревеля на Гельсингфорс, приплыла к эскадре финская девушка, плохо знавшая русский язык. Она плавала среди дредноутов – неутомимая, как русалка, вызывая уважение моряков. Длинные желтые волосы, намокнув, венцом окружили ее голову, плавные взмахи рук были прекрасны и грациозны.
Девушка плавала среди дредноутов, везде вопрошая:
– Коля… кте мой Коля? Я люпила Коля…
Несчастная (и, кажется, отвергнутая в любви), она среди множества Николаев с эскадры искала своего. С покатых броневых палуб, сочувствуя ей, кричала разноликая матросня:
– Эй, фамилия-то его как? Николая-то твоего? Знаешь?
– Коля, – доносилось от самой воды до палуб.
Скоро к ней привыкли настолько, что даже тревожились, если она долго не приплывала к эскадре. «Не случилось ли беды?» – говорили тогда матросы. И вся бригада дредноутов волновалась: где же он, этот подлый мерзавец по имени Коля? Видать, соблазнил девку, а теперь прячется за броней казематов…
– Ну, попадись нам этот Коля-Коля-Николай! – злобствовали матросы. – Всю харю ему расколотим. Разве можно девку мучить?
Верная любви к одному, она плавала среди однотипных кораблей, похожих один на другой, как близнецы. Сердца матросов щемило от чужой и суровой трагедии любви.
– Башку оторвем! – ревели палубы на этого «Колю», который затаился на эскадре, уверенный в своей неизвестности…
Слово «пловчиха» тогда еще не привилось в русском языке. Офицеры прозвали эту финку Ундиной, а матросы окрестили ее Русалкой. Девушку часто призывали подняться на борт кораблей, и, кажется, если бы она взошла по трапу, вся бригада устроила бы ей овацию, а оркестры дредноутов, выстроясь на спардеках, исполнили бы для нее гимны всепобеждающей верности женского сердца.
Но этого не случилось.
2
Командиром «Гангута» был флигель-адъютант императора каперанг Михаил Александрович Кедров, который – при всех его знаниях и достоинствах – к службе относился шаляй-валяй. К тому же не любил ночевать на корабле, предпочитая общаться с женою на частной квартире Гельсингфорса. Как только завечереет над ковшом гавани Седрхамна, каперанг сразу на катер – прыг, мотор заторкал, и помотал к берегу на полных оборотах.
По сути дела, линкором владел, словно вотчиной, барон Ольгерт Брунович Фитингоф – старший офицер линкора. Вот как вспоминал о нем гангутец Дмитрий Иванов:
«– Это тебе не Тыртов – это немец. Он понятия не имеет о русском человеке. Ему бы, собаке, только выслужиться!
– У, мразь паршивая! У кайзера, видать, на службе…
Возмущение Фитингофом высказывалось открыто, даже в присутствии унтер-офицеров и кондукторов. Наверное, эти разговоры нижних чинов доходили и до старшего офицера, потому что он все крепче завинчивал гайки. На других кораблях наш «Гангут» снискал себе печальную славу плавучей тюрьмы…»
Фитингоф заменил кавторанга Тыртова, который не пожелал закручивать гайки дальше. «Можно сорвать резьбу», – говорил Тыртов. И это ведь правильно… У людей, которые воюют, нервы всегда на взводе. Можно быть героем в сражении, но потом станешь психовать из-за того, что тебе в миске с супом попался чей-то волос. Воюющие люди вообще, как доказано опытом, способны на свершение необдуманных поступков. За это их нельзя даже строго винить – логика в их поступках зачастую отсутствует. Из-за какой-нибудь ерунды люди способны расколошматить все вокруг себя и пойдут затем под расстрел, сами не понимая – за что?..
Но еще больше истрепаны нервы людей, готовых ежеминутно вступить в бой, когда их в бой не пускают. Боевая готовность невольно ищет себе выхода. Совсем уже плохо, когда таких людей донимают придирками, изнуряют тяжким трудом. Такие люди – как порох.
Фитингоф, кажется, этого не понимал. Или не хотел понимать. Ему было уже за сорок, однако по службе он не вылез дальше старшего лейтенанта. Правда, он занимал должность по чину кавторанга, притом – на «Гангуте», который всегда на виду штаба и Ставки, – здесь, казалось бы, только и делать карьеру… Вообще, это возмутительно! Это черт знает что такое, когда человек за сорок лет вынужден околачиваться в старших лейтенантах, тем более что при обращении слово «старший» зачастую отбрасывается и все говорят ему так (в уставном сокращении):
– Господин лейтенант…
Конечно, с годами характер Фитингофа не выравнивался, а надламывался. Ольгерт Брунович терпеть не мог всех этих «щенков» в лейтенантских чинах, которые с вечера наманжетятся, надушатся, нагладятся и уматывают к девкам на Эспланаду. А он, труженик, втайне страдающий запорами (пусть это останется глубоко между нами), вынужден вразумлять матросов к неукоснительному исполнению тонкостей корабельной этики. Громадный дог сопровождал старлейта на палубе. А вот тот скромный лексикон, который из сокровищницы русского языка был выбран бароном для житейского обращения с матросами:
«Рожа помойная… шпана лиговская… скважина прокисшая… шваль поганая… гнида жареная… Стерво́!»
Как уже догадался читатель, служение на «Гангуте» в повседневном соседстве с бароном Фитингофом не было сплошным удовольствием. Запоры же никак не улучшали настроения старшего офицера. Дог с клыками в палец тоже не умел забавлять команду, как милое, ласковое существо, а, наоборот, служил вроде жандарма…
– Только спокойно, – убеждал друзей Полухин. – И в кубриках настраивайте людей, чтобы истерик не разводили. Помните, что мы все время под прицелом калибра других кораблей. Тут история такая: время революционных выступлений еще не пришло…
* * *
Летом 1915 года якоря «Гангута» (весом в 400 пудов каждый) часто вбирались в клюзы, волоча с грунта на лапах многие тонны иловой грязи, в которой долго билась, не желая умирать, всякая придонная живность. Напором воды из «пипок» корабельных гидрантов боцманские команды тут же смывали с якорей обратно за борт разных каракатиц, червяков, морских тараканов и слизней. Начинались утомительные рейдирования до Ревеля и обратно, чтобы – за бастионами минных банок – сторожить устье Финского залива на случай прорыва к столице германских кораблей. Внешне же эти «ползания» через море представлялись матросам, несведущим в высокой стратегии штабов, бесполезными и дурацкими. Им казалось, что адмиралы лишь создают перед Ставкой видимость боевой службы, дабы оправдать свои чины и жалованье. От этого недоверия к высшему командованию флота в экипажах росло глухое недовольство…
Тяжко подминая под себя волны Балтики, тянутся в кильватер дредноуты. Вдоль бортов каждого раскинуты невода стальных сетей, ограждающих днища кораблей от попадания торпед. На длинных бамбучинах растянуты вдоль бортов радиоантенны, и эскадра держит связь далеко – вплоть до Питера, где круглосуточно пульсирует в реле и обмотках токами высокой частоты радиокоролева Балтики «Новая Голландия». Из Петрограда связь летит дальше – до самой верхушки Эйфелевой башни в Париже, где французы оборудовали на время войны свою главную станцию для связи со всей Антантой.
В раскаленных утробах линкоров нестерпимым жаром пышут 28 котлов, давая паровую мощь на блестящие цилиндры машин, работающих – в брызгах горячего масла – локтями гулливеровских шатунов. Кочегары валятся с ног. Здесь три стадии изнеможения: сначала течет липкая сладкая слюна, затем подкатывает к горлу желчь, а потом… потом уже кровь! Плевки кочегаров – как черные бриллианты, все в искристых точках, уголь забивает им уши и глаза, разъедает кожу в паху и под мышками. По ночам кочегары воют, словно собаки, от нестерпимой чесотни. А сверху над линкорами виснет солнце, прожаривая палубы, будто сковороды, из пазов кипящими пузырями выступает смола. В рубках и башнях – там тебе тоже не сахар: под накатом брони нечем дышать…
Ладно! Коли надо – так надо. И это стерпят матросы. Но вот бригада вернулась в Гельсингфорс. В угольной гавани уже высятся завезенные поездами с Донбасса гигантские терриконы угля. Того самого – проклятого! – который моряки в насмешку над собой зовут «черносливом»… Фитингоф уже тут как тут:
– Оркестру на ростры! Для начала марш из «Мефистофеля», оперы известного господина Бойто. Всем, всем на чернослив!
Стоном отзывалось тогда в нижних палубах. 75 000 пудов угля ждали их на берегу, и было страшно подумать, сколько пудов угля ложилось на плечи каждого человека из команды. Тут опять (исподволь) вспоминали, что, не будь бесплодного перехода до Ревеля и обратно, не был бы сожран в котлах бесцельно и уголь. Не пришлось бы тогда и грузить его снова…
– Предательство, братцы! Лодыри штабные очки на нос клеят и думают, что умнее всех стали. Мы же видим – зазря все это!
Люки, клинкеты, горловины – все задраено на винты, дабы сохранить внутренние отсеки от попадания разъедающей угольной пыли. Человеку спастись от нее труднее, чем линкору. Первым делом, конечно, нижнее белье с себя – долой. Хоть и казенное, а поберечь тоже надобно. На голое тело потянул робу. Она тебя, будто наждачной бумагой, сразу отшлифует: вжиг, вжиг, вжиг! Капельмейстер уже взмахнул на рострах палочкой, раздулись щеки «духовиков», и грянула над «Гангутом» музыка – веселая, вся из другого мира, брызжущая чужою, почти враждебной радостью…
До самых небес нависала черная пыль. В этой пыли, словно тараканы, обсыпанные черной мукой, сновали по трапам и сходням матросы. Визжали над их головами лебедки, и черные тросы тянули черные мешки. 75 000 пудов! Будет ли им конец? Но каждый раз конец аврала все-таки наступал, и тогда люди с очумелым недоумением замечали, что один из гигантских терриконов исчез с лица земли. Он уже весь покоился на глубине бункеров «Гангута». А музыканты, валясь с ног от усталости, на своих черных трубах, прильнув к ним черными измученными губами, хрипато доигрывали «Свадебный марш» господина Мендельсона…
Читатель! Ты напрасно решил, что это уже конец. Нет, теперь надо обмыть от угольной пыли весь линкор, всю махину его – от клотика до ватерлинии – с песком, с мылом, с содой. Конец наступит только тогда, когда с шелковыми платочками в руках пройдут через корабль офицеры и будут платочком тереть по броне, проверяя – чисто ли?.. На ходу срывая с себя гремящие робы, полторы тысячи человек из команды «Гангута», шатаясь, идут под души корабельных бань. Когда и они чистые – тогда конец!
* * *
По негласной традиции флота, учитывая тяжесть труда, после угольной погрузки матросам всегда (и непременно) вместо каши отпускались на ужин макароны. Запомни это, читатель. Макароны скоро войдут в историю «Гангута»… А каши бывали разные: рисовая, пшенная, гречневая. Но изредка – ненавистная ячневая!
Презрение к ней матросы выражали цифрой: «606».
Так и говорили тогда – с лютейшей ненавистью в голосе, словно о своем кровном враге, которого никак не убить:
– Опять нам шестьсот шесть… Давить бы этого Фитингофа!
– Ну зачем ты орешь? – отзывался на ругань Полухин. – Тебе чего? В тюрьме еще не сидел? Так за глотку свою и сядешь.
Но люди бывали ослеплены драчливою яростью.
– Я сяду… пусть я сяду! – орали в ответ. – А ты тоже хад хороший: лычки унтерские нацепил и ходишь здеся, учишь здеся. Ты што? Священник наш, што ли?
Полухин покручивал ус. Отходил. Парень был спокойный.
В один из дней он вернулся с берега задумчивый.
– Где был? – спросил его Семенчук, ворочаясь с гирями.
Полухин посмотрел, как вздуваются мышцы гальванера, быстрыми мышатами перебегают они под загорелой кожей… Ответил:
– До Брунс-парка сбегал.
– Чего там?
– А ничего. Братва наша ханжу по три рубля за бутылку хлещет да марусек разных треплет по подворотням… Вот и все!
Семенчук с грохотом опустил пузатые гири на палубу – даже «Гангут» вздрогнул, наполняясь долгим гулом брони.
– А в кухмистерскую по паролю заходил? – спросил друга.
– Да, был.
– Ну?
– Нет связи. Как в гробу живем…
В этот день Семенчук получил по зубам от лейтенанта фон Кнюпфера – рослого блондина тевтонской закваски, душа которого, еще молодая, была уже достаточно злодейской. Дал он гальванеру в зубы, и ко вкусу крови во рту примешался нежный аромат духов. Кулак офицера благоухал духами «Весенний ландыш»…
Семенчук, между прочим, сказал на это спокойно:
– Ваше благородие, не советую вам со мной связываться. Ведь я не только гальванный верхотурщик – я и чемпион по бригаде.
– Ничего, мой милый, – ответил Кнюпфер, – ты чемпион по борьбе. А я чемпион по боксу… тоже, брат, лучше не связывайся! Могу так треснуть, что не встанешь…
Близились бригадные соревнования по выявлению чемпиона во французской борьбе – борьбе классической. Заодно должен был состояться и день показа взращенных на эскадре самобытных дарований. Трофим Семенчук уже достаточно взмок. Безголовый чемпион с бригады крейсеров начал даже сниться ему. Приходил по ночам в кубрик «Гангута», брал спящего Семенчука в зажим «двойного нельсона» и корежил гальванера, безжалостно тушируя его в партере, отчего Семенчук в страхе и просыпался…
Однажды он тренировался, как всегда, в палубе гальванеров, когда по трапу скатился туда Полухин, возбужденный:
– Трошка, как же мы раньше-то не догадались?
– А что?
– Связь с питерскими будет!
– Откуда?
– Если положишь на лопатки этого… как его?
– Безголового с крейсеров?
– Ну да! Его, его… повали, и тогда тебя отправят в Питер на общефлотские соревнования. Считай, что связь уже имеется!
– Слушай, Володя, – отвечал Семенчук уязвленно, – вопрос в том, кто кого повалит?
– Ты должен, ты обязан повалить бригаду крейсеров!
– А ты слышал, что говорят о Безголовом? По ведру щей, паразит, съедает запросто и две буханки хлеба при этом сворачивает.
– Э-э, – отмахнулся Полухин, – плюй на сплетни. Ведь ты будешь бороться не за лишнюю лычку, а за наше общее дело…
Семенчук, конечно, принял это к сведению. Кубрик гальванеров теперь с утра до ночи громыхал под взлетами и падениями гирь. Со здоровенной болванкой снаряда калибром в 203 мм Семенчук бегал взмыленный вдоль всего корабля, жутко пугая встречных:
– Посторонись… не то – брошу!
Балтика шумела рядом. Гельсингфорс был прекрасен.
Раз-два. Вдох-выдох… Ого-го-го!
– Полундра… брошу!
3
Гарольд Карлович фон Грапф – новый командир эскадренного миноносца «Новик» – плотный белобрысый человек, выходец из культурной семьи с юга России… Грамотный. Сдержанный. Тактичный. После фон Дена осталось на столе салона кровавое пятно, случайно не стертое при уборке. Грапф вызвал к себе вестового, сказал:
– Пожалуйста, вытрите… вот это!
Артеньеву казалось (и вряд ли он ошибался), что фон Грапф придерживается сугубо монархических воззрений. Хотя – надо признать – Сергей Николаевич не слышал от командира и восхвалений монарху. Новый командир «Новика» невольно импонировал кают-компании и команде почти академической образованностью во всех тонкостях морского дела. И еще тем, что не залезал перчатками в самое рыло торпедным аппаратам, тщательно проверяя – не завалялась ли там пылинка? Когда палуба бывает забрызгана человеческими мозгами, перемешанными с мазутом, тогда к чистоте относятся как к дурной привычке мирного времени. Грапф это понимал…
Неожиданно он пригласил старлейта в салон:
– Я только что от начдива Трухачева. Сейчас я дал расписку в том, что буду расстрелян без суда, ежели распространю тайну совещания командиров кораблей. Вам, как старшему офицеру, имею право сказать… Садитесь же, Сергей Николаич.
Грапф сообщил, что 31 июня в Кильской базе состоится императорский осмотр всех германских сил в присутствии кайзера. А следовательно, часть немецких кораблей отводится с театра.
– Об этом нас информировала либавская разведка. Нетрудно догадаться, что наш флот использует эту выгодную ситуацию. Нами будет совершен набег крейсерами и эсминцами на… на…
– На Либаву?
– Нет. Дальше. На Мемель. Может, выпьем?
Артеньев пил вино равнодушно. Грапф смаковал его, лелея бокал в розовых ладонях. Под палубой прогревали механизмы, и «Новик» от работы котельных установок медленно наполнялся живым, почти ощутимым теплом большого железного тела. В свете ослепительных солнечных зайчиков, бегавших от переплеска воды за бортом, нежились на переборках безобидные тараканы флота его величества, которые непонятно откуда рождались – среди стали и меди, будто корабль это деревенская избушка с печкой и полатями.
– Сергей Николаич, у вас есть мечта?
Артеньев никак не ожидал этого вопроса и буквально напоролся на него всей душой, словно на острый нож. Подумал.
– Есть, – ответил. – Как и у каждого.
– Не секрет? – допытывался фон Грапф.
– Я хотел бы вернуться в Либаву.
– А что, – спросил Грапф, – остались вещи там? Мебель?
– Нет. Женщина.
– Не скоро вы ее повидаете. Не скоро мы вернемся в Либаву…
– Жаль! – вздохнул Артеньев, крутя липкий от вина бокал в узловатых приплюснутых пальцах.
– Да, жаль… У меня в жизни было так мало женщин, что она, кажется, это поняла. Не знаю, собственно, зачем я понадобился этой женщине. Но она сильно задела мое мужское воображение, весьма, очевидно, тусклое.
Грапф вдруг громко щелкнул языком, будто хлыстом:
– Завидую вам. А вот моя мечта почти неосуществима. – Он резко наклонил бутыль с вином, разлил по бокалам его остатки. – Выпьем, чтобы наша мать Россия, давно несущая большое пузо, не родила бы случайно анархии… Пусть что угодно, даже поражение, из которого будем вылезать на карачках, но… только бы не это! Революции хороши только в книжках… для дураков!
Разом стало для Артеньева ясно, каков есть фон Грапф.
Впрочем, офицеры на кораблях – это не супруги. Тут разводов не бывает. Приходится жить под одной палубой. Сейчас между ними не пробежала черная кошка, хотя Артеньев придерживался иных взглядов на судьбы отечества. Ему казалось уже давно, что все равно – каким путем, но Россию надо продуть ураганом насквозь, как засоренное сопло в машине. Если при этом царя вынесет в грязеотстойник, то и жалеть не придется…
* * *
Командовал набегом контр-адмирал Михаил Коронатович Бахирев, перед которым была поставлена задача: в связи с ростом в Германии недовольства затяжною войной, а также учитывая забастовки рабочих, которые всколыхнули всю Германию, следует дерзким налетом на Мемель оказать влияние на общественное мнение в немецком народе и в… рейхстаге!
Этим приказом русская Ставка надеялась убить сразу двух зайцев. Экономические забастовки в Германии – факт. Но политические забастовки в России – тоже факт. Набегом кораблей на Мемель высшее командование желало Германию устрашить, а Россию воодушевить, заодно гася недовольство русских стачечников боевой удачей славного Балтийского флота… Так-то вот политика властно диктовала свои условия тактике!
Отовсюду – от Гангэ и Ревеля, из Аландских шхер и прямо из рукавов Моонзунда – собирались корабли. Рандеву – возле банки Винкова; после соединения кораблей в эскадру через большие глубины близ Готланда выходить прямо на Мемель. Инструкция гласила: при случайном обнаружении противника (как бы он силен ни был) бой принимать… Операция строго секретна. Общение команд с берегом пресечено заранее.
Дни перед боем всегда торжественны, всегда священны…
Эсминцы – во главе с «Новиком» – снимались с якорей ровно в час ночи с рейда Куйваста. Вокруг нависала плотная пелена тумана. В надежде, что туман рассосется, 2 часа и 20 минут шли на малых оборотах, после чего вынуждены были встать на «плехт», и правые якоря хорошо задержали миноносцы за илистый грунт.
– Мне это не совсем нравится, – морщился фон Грапф. – Начало, во всяком случае, не сулит нам ничего путного…
Туман едва распался в половине пятого утра, и эсминцы тронулись дальше. Над водой плавало густейшее «молоко», которое, судя по всему, скоро собьется в «сметану». Бахирев по радио приказал: эсминцам отойти обратно на Куйваст, исключая «Новик», который, используя большую скорость, должен пытаться нагнать крейсера в тумане. Таким образом, игра началась, но эсминцы уже были выбиты из этого кегельбана… Грапф ворчал, что ему это все ужасно не нравится. Плюс к туману еще одна гадость – пошел дождь. Эсминец легко вспарывал волну, хотя с мостика «Новика» не было видно даже гюйс-штока. В такой «сметане» напороться днищем на что-либо – пара пустяков. Изредка туман чуть-чуть разрежало, и в один из таких моментов сигнальный старшина Жуков испуганно крикнул:
– По левой раковине мелькнула тень!
Вскинулись бинокли. Туман, туман… только туман.
– Ты не пугай нас, – заругались офицеры. – Скоро прямо по носу чертей зеленых усмотришь.
– Была тень. Зачем бы я стал ее выдумывать?..
Старшина не ошибся: почти впритирку бортами сейчас прошла курсом норд германская эскадра, вахта которой не заметила русского корабля, и к часу дня «Новик» благополучно обнаружил свои крейсера… Грапф неуверенно спросил Артеньева:
– Сергей Николаич, а ваш «Новик» когда-нибудь ходил, пристроясь в кильватер другим?
– Нет. Мы привыкли быть головными, за нами шли другие…
Артиллерист Петряев меланхолично заметил:
– Ах, боже мой! Вон же ползут «Богатырь» с «Олегом», наверняка они хуже слепых котят. На первом до войны была Школа юнг, а на «Олеге» гардемарины к девкам ревельским шлялись… Не понимаю, зачем волноваться? Мы не хуже их и как-нибудь в строю удержимся.
Грапф велел сигнальщикам отщелкать запрос на флагмана, чтобы тот указал им место. Скользкий луч прожектора с большим трудом пробивал туман, едва нащупывая мостик «Адмирала Макарова». Бахирев велел «Новику» держаться в струе за «Рюриком».
– Прекрасно! – воскликнул Мазепа-Щирый. – «Рюрик» ходил под флагом Эссена, а там штурмана – чистое золото. Держите, Гарольд Карлович, эсминец под самым хвостом «Рюрика», и пока он там будет нюхаться, нам бояться нечего…
Ближе к вечеру Бахирев указал всем по радио: «Время: 18.10 к исполнению поворота на циркуляции… исполнительный курс 133° в направлении Мемель». Все уже ясно, но Грапф еще сомневался:
– Если бы я шел головным, ведя других! А тут я должен вкатываться на циркуляцию поворота вслед за «Рюриком».
Артеньеву это наконец надоело, и он авторитетно сказал:
– Что вы так переживаете? Мы держимся за подол «Рюрика», «Рюрик» держится за хвост «Баяна», «Баян» – за кормушку «Богатыря», и эта старинная карусель еще никого не подводила…
Минут за десять до поворота на крейсерах были включены гакабортные огни, чтобы сосед лучше видел в тумане своего ведущего. Часы отщелкали нужное время, штурман велел:
– К повороту!
– «Рюрик» уже повалило в циркуляции, – доложили сигнальщики.
– Держимся в струе «Рюрика», – констатировал фон Грапф…
Но далее крейсер повел себя как-то странно: лежа в циркуляции, он уже не выходил из этого колеса; потом «Рюрик» зачем-то стал выписывать в тумане «восьмерку», а доблестный «Новик» старательно повторял за ним все его маневрирования. Наконец на крейсере вспыхнул прожектор, сигнальщики тут же прочли по проблескам:
– «Рюрик» – нам: «Я потерял эскадру на повороте».
– Ну, вот мы и в дураках, – отпрянул от телеграфа Грапф. – С этими крейсерами только свяжись, сам не рад будешь.
– Надо искать, – заволновался Артеньев. – Эскадра все-таки не иголка.
– В таком тумане нам ширинки не расстегнуть! – отвечал ему Грапф раздраженно. – Курс в сто тридцать три исполнительный. Но мы, следуя за этим эссенским болваном, потеряли свое место и теперь можем высадить «Новик» прямо на минную банку… Нет уж! Увольте. Я за чужую дурость идти под трибунал не желаю.
В десять часов вечера двое несчастных горемык, крейсер и эсминец, легли на обратный курс, кляузно обругивая один другого за случившееся. Наконец «Новик» своими упреками до того осточертел «Рюрику», что с крейсера передали на эсминец: «Прощайте. Ложусь на курс 08°, а вы как хотите…»
Грапф привел эсминец обратно на рейд Куйваста. Когда телеграф отработал в машины «стоп» и его закинули чехлом от сырости, Гарольд Карлович побрел к трапу, стягивая мокрую кожу перчаток.
– Стыдно, но что делать? Едва выбрали якоря, как я уже знал, что это добром не кончится. Боже, как матерится сейчас Бахирев!
* * *
Крейсера между тем продолжали движение на Мемель, все больше залезая в уплотненный туман. Даже матросы понимали, что операция проваливается, и Бахирев отдал приказ к отходу. А когда вернулись к Готланду, туман распался, вовсю брызнуло солнце. Штурмана, пользуясь такой счастливой минутой, тут же навели пеленгаторы на шведский маяк Фамунден, точно обсервировав свое место…
– Может, солнце так же наяривает и над Мемелем? – сказал Бахирев. – Господа, нам ли отступать? Ляжем вторично на исполнительный курс и оставим от Мемеля то, что остается обычно после съеденного яйца.
Опять крейсера пошли в направлении цели. Однако тут же снова погрязли в непробиваемом тумане. В три часа ночи Бахирев повернул крейсера домой. При этом сигнал о повороте «Баян» и «Олег» поняли неверно, сбившись в курсе. Пропажа их за горизонтом напомнила оставшимся, что давненько уже не видели и «Рюрика» с «Новиком».
– Ну, господа! – возмутился Бахирев (и был прав). – Мало еще нас с вами били… Это позор! Все разбрелись, как бараны…
А пока он там бушевал на мостике, радисты приняли радиограмму немецкого адмирала Карфа, который точно указывал свое место, свой курс и свою скорость. Бахирев сказал, потрясая немецкой шифровкой, что это «боженькин дар свыше».
– Господа, сейчас мы не только примем бой. Сейчас наш флот впервые в морской практике мира проведет научный эксперимент использования радиопеленга на противника…
Стеньговые красные флаги взлетели на мачты, оповещая всех, что корабли Балтфлота принимают бой. Рано утром с крейсеров России разглядели по курсу дымы множества кораблей противника. Дымы эти были отклонены ветром назад и закручены к небу дугой, словно хвосты у бродячих дворняжек. Адмирал Карф только что закончил очередную минную постановку на русских коммуникациях и теперь, кажется, тоже собирался домой… Был виден минный заградитель «Альбатрос», который уже немало напакостил русским морякам. Не найдя слов для выражения своего восторга, Бахирев стал ругаться.
– Этому минзагу здесь и конец! – сказал он внятную фразу, а остальные надо писать на заборе, ибо бумага не все сносит…
* * *
Сейчас под началом Бахирева было всего четыре крейсера – «Адмирал Макаров» (на нем он держал свой флаг), «Баян», «Богатырь» и «Олег». Это были далеко не лучшие корабли Балтийского флота, которые имели несчастье состариться еще на заводских стапелях. Но первоклассный «Рюрик», увы, где-то пропал…
– В кильватере поворот последовательно влево – для охвата головы противника. Огонь – правым бортом, когда дистанция обнаружится в сорок пять кабельтовых… Бог нам в помощь!
Германский адмирал Карф, почуяв неладное, велел выплеснуть нефть на форсунки котлов: черное облако копоти закутало немецкие корабли. На «Адмирале Макарове» тут же перехватили еще одну радиомолнию Карфа: он призывал себе в подмогу крейсера от Либавы – «Роон» и «Любек». Обстановка у Готланда сразу осложнилась. Немецкие корабли стали ходить на острых углах, чтобы сбить русских с наводки. Это не помогало: русские крейсера отлично держали их в своих накрытиях. «Богатырь», стуча машинами, уже гнался за «Альбатросом», чтобы отомстить за гибель многих своих товарищей. Минзаг спешно удирал в сторону Готланда, ища спасения в нейтральных водах. Немцы струсили – сам флагман, адмирал Карф, позорно бежал, в панике увлекая за собой и эсминцы. Будучи на отходе, немецкие эсминцы трижды бросили торпеды в «Богатыря», чтобы спасти свой минзаг. Но русский крейсер, весь в извержении огня, словно вулкан, трижды отгонял их прочь. Комендоры-балтийцы работали на славу. Давно сорваны ветром бескозырки. Давно сброшены бушлаты. Казалось, что мускулы людей, напоенные живой и горячей кровью, воедино слились с металлом корабля. Вот уже лопнула на «Альбатросе» палуба, раскрывшись изнутри, словно лопнул назревший нарыв. Вот уже прошили борт в носу. Полыхнули над минзагом первые факелы огня. Разбили немцам рубки. С треском, описав дугу, рухнула в море фок-мачта.
– Давай, давай, ребята! – кричали матросы у пушек…
«Альбатрос» сделал последнее усилие перенапряженными машинами. Вот и Готланд – в цветочках белых козьи выгоны, видна церковь и кладбище, мирно пасутся, далекие от войны, шведские коровы. Со страшным грохотом германский минзаг полез черным брюхом на камни. С русских крейсеров видели, как по его развороченной палубе пробежал в корму офицер и… флаг Германии, дрогнув, пополз вниз. «Альбатрос» сдался.
– Прекратить огонь! – перекатывалось по крейсерам.
На иных плутонгах офицеры силой оттаскивали комендоров от пушек. В горячке боя люди обезумели и желали продолжать эти заученные, сверхточные движения, которые вошли им в кровь, пропитали их плоть высоким искусством автоматики. Впрочем, битва у Готланда не закончилась – она еще только начиналась…
– Быстро, быстро! – порол горячку Бахирев. – Убрать все осколки. Пустые гильзы – за борт. Раненых – вниз. Подмести отсеки от стекол. Заменить лопнувшие лампы и разбитые плафоны…
Санитары бегом стаскивали раненых в кают-компании кораблей. Кидали их там на обеденные столы. В глаза стонущим от боли бил яркий свет абажуров. Эфирные маски… тазы с красными тампонами… Иногда в иллюминатор вылетает рука или нога… Вскрыта у одного черепная коробка, и в ней зябко дрожит, словно серый студень, безумный человеческий мозг… Раздаются ужасные взвизги хирургических пил, которые спешно вгрызаются в кость человека.
Здесь тоже порют горячку.
– Быстро, быстро! – кричали врачи. – Сейчас опять все начнется заново, и тогда топора не удержать – не то что скальпеля!
Через несколько минут русские крейсера опять засверкали, как перед императорским смотром. Ни пятнышка крови. Нигде ни стеклышка. Босые матросы, до колен засучив штаны, стремительно окатывали палубы из шлангов (на случай пожаров). С грот-марса «Адмирала Макарова» вахта уже докладывала флагману:
– Германские крейсера на подходе.
– Считайте дымы, – велел им Бахирев…
И опять перехвачена радиограмма адмирала Карфа: к месту боя он вызывал двух германских «принцев» – крейсера «Принц Адальберт» и «Принц Генрих». Судя по всему, катавасия предстояла солидная. Дымы наплывали с моря – вестниками опасности… Первым открыл огонь по противнику старенький крейсер «Баян», которому было не под силу тягаться с броненосным «Рооном». Но баяновцы проявили тонкое умение во всем находить выгоду для себя. Незаметно для немцев «Баян» так ювелирно «зигзагировал», что немцы, сколько ни старались, никак в него не попадали. Но зато первый же залп с «Баяна» своротил все радиоантенны на «Рооне», и тот на все время боя сделался глухим…
– Накрытие! Накрытие! – ликовали на дальномерах люди.
И все-таки один снаряд с «Роона» (один!) они получили.
Что такое одно попадание? Кажется, что это чепуха…
Вот точная картина одного попадания.
Сначала восьмидюймовая горячая кувалда рассекла борт правого шкафута. Она разбила там все, что могла. Снесла коечные сетки. Сбросила в море катер. Разорвала трубы мусорной лебедки в шахте кочегаров. Взломала командный камбуз. Покорежила вторую дымовую трубу на палубе… Конец?
Нет, снаряд с «Роона» на этом не успокоился.
Сам он уже исчез в ослепительной вспышке взрыва. Но снаряд пустил впереди себя свою головную часть. И «голова» снаряда продолжала крушить крейсер – уже отдельно от несуществующего «тела». Сея вокруг себя смерть, «голова» металась среди переборок, выгибая их, и только в бункере, зарывшись в кучу угля, она утихла, успокоенная своей чудовищной работой. Теперь корабельные воздуходувки, воя от небывалого усердия, старались как можно скорее вытянуть прочь из отсеков «Баяна» те ядовитые газы, которые принес этот одинокий снаряд… Нетрудно догадаться, что творится внутри корабля, когда в него попадает не один, а несколько снарядов сразу!
Вот «Роон» и получил от «Баяна» – сразу несколько, и потому, не выдержав, побежал… Радостно обнимались баянцы-матросы, а офицеры переживали этот бой как профессионалы:
– Господа, мы добились высокого процента попаданий. Отныне этот «Роонишко» может вставать на капремонт!
Бой крейсеров у Готланда продолжался.
* * *
Радиограмму с «Баяна», ведущего бой, запеленговал вдали от места сражения «пропавший» в тумане крейсер «Рюрик» и тут же на полной скорости кинулся обратно… Бахирев радировал ему свое точное место: «квадрат № 408».
А пока «Рюрик» спешил в битву, крейсера-противники уже разошлись после жестокой дуэли. Сейчас – и русские, и немецкие – они ползали возле отмелей банки Глотова, все в дыму, сильно покалеченные, прибирая изуродованные палубы. Издали каждый недоверчиво ощупывал соперника линзами своих дальномеров. Автоматы стрельбы не выключались, готовые в любой момент возобновить работу орудий…
Эскадры не расходились. Возникла лишь передышка.
– Стеньговых флагов не спускать! – приказал Бахирев.
«Рюрик» на подходе к банке ударил в колокола громкого боя. Горнисты на звонкой меди выпевали призывы к мужеству и неизбежным жертвам. «Рюрик» шел – как на парад, подняв над морем полотнище кормового стяга (громадное – как щит рекламы, какие вешаются на стенах зданий). С мостика «Рюрика» офицеры обозрели обширную панораму битвы, и тут же управление крейсером перешло в боевые рубки. По кораблю глухо и часто бухали стальные пластины дверей, запечатывая команду в бронированные коробки постов. Люди взирали теперь на мир через узкие просветы смотровых прорезей.
Кажется, можно начинать. Возле орудий комендоры торопливо рвут клочья ваты, чтобы заткнуть себе уши. Наружная вахта опоясывалась жгутами Эсмарха, готовясь к перевязке раненых конечностей. Носовая башня «Рюрика» сразу взяла под обстрел «Любек». Ответные залпы немцев давали такие высоченные всплески, что заливали палубу крейсера, вскидываясь до мостика. Горе тому, кого увлечет за борт этот певный смерч (подбирать тебя не станут)!
– Дальномер скис, – вдруг послышалось с высоты.
– Что случилось, черт побери? – спрашивали с мостика.
– Залило на всплеске… Линзы в воде!
Такие случаи уникальны: гейзер воды, поднятой взрывом, сумел добраться до мачт. Теперь оптика центральной наводки отражала корабли противника в дрожащей мути, словно рыбок в аквариуме, в котором давно не меняли воду. А в борт «Рюрика» уже вцепились прицелами два германских крейсера, словно клещи в собаку. Издалека – на трусливых зигзагах! – подкрадывался с моря и флагманский «Аугсбург», на котором размещался штаб адмирала Карфа.
Сейчас, конечно, «Рюрику» крепко достанется…
Прямое попадание большого калибра вызвало резкое содрогание корпуса. По отсекам шла дикая пальба – это лопались электрические лампы. Трепеща развернутым знаменем, «Рюрик» – как на параде! – проходил сквозь мглу порохового угара, вязко раскисавшего под волнами. Три новейших германских крейсера исколачивали его снарядами.
– Но это им дорого обойдется, – решили на мостике.
Всю силу огня «Рюрик» неожиданно перенес на «Роон», который уже побывал в нокауте после встречи с «Баяном». Неожиданно в боевой рубке «Рюрика» стал надрываться телефон:
– Носовая башня – мостику: у нас все полегли!
– Прошу точный доклад, – сказал командир крейсера.
– Есть. Кто не ранен еще, те валяются – отравлены газами. Все вповалку. Командир плутонга без сознания… Что делать?
– Очухивайтесь, – ответил им командир.
Густой дым уже валил от германского крейсера, выбиваясь через щели в броне, из пазов люков и горловин. Блеснуло желтое пламя взрывов – сначала в кормовой башне «Роона», затем рвануло перед грот-мачтой, дымовая труба, подскочив, рухнула в море. Затравленно огрызаясь, германские корабли стали ложиться на разворот для отхода. Они искали спасения в бегстве. Им не повезло. Не повезло и дальше: спешивший на выручку «Принц Адальберт» напоролся на русскую мину и едва догреб винтами до Либавы…
Михаил Коронатович Бахирев велел подать кофе на мостик.
– Кажется, конец, – сказал он, принимая чашку с подноса. – Шли на Мемель, а затесались к Готланду… Иногда это бывает.
* * *
Битва крейсеров случилась на тех самых путях, где издревле к легендарному Висби плыли, груженные медом, пенькой и воском, торговые гости Господина Великого Новгорода. От прежней славы острова с тех пор остались «розы и руины» Висби, а в жилах готландцев сохранилась горячая кровь пиратов. По давней традиции, донесенной из глубины столетий, островитяне начинали день молитвой о ниспослании свыше кораблекрушения, дабы поживиться добычей. Но на этот раз, глядя, как в пламени корчится сталь германского «Альбатроса», готландцы никак не могли воздать благодарность всевышним силам. Их «добыча» была ужасной – вся в рвущихся минах. Осколки разлетались над хуторами, раня шведских коров и ловко срезая тяжелые ветви дедовских яблонь.
Швеция выразила протест… России!
– Но при чем здесь мы? – смеялись на Балтике. – Мы на шведские берега не выскакивали. Наши корабли если гибнут, так они тонут в море. Это немцы взяли моду искать спасения от мокру по суху!
Так говорили офицеры. Матросы рассуждали проще:
– Швеция сама же к немцам липнет, весь хлеб с маслом кайзеру отдала, а перед нами хвоста задирает. Давно не воевали – вот с жиру и бесятся. Да и что с них взять, ежели у них даже селедка не соленая, а пиво не горькое – все сахаром посыпают. Им кажется, что война – это тоже вроде компота. Пусть лизнут!
4
Победа русских крейсеров вызвала на Балтике большое воодушевление. Кто бы ты ни был – сторонник войны или противник ее, – но мужество всегда есть мужество, и оно покоряет любые сердца. Участников битвы у Готланда встречали на базах с оркестрами, о них писали тогда газеты, матросы зазывали их в кубрики, чтобы крейсерские рассказали, как им было в бою.
И вырастала зависть – линкоров к крейсерам! Особенно остро чувствовали свою бездеятельность гангутцы – измученные частыми переходами через залив, закопченные от угольных погрузок.
– Хоть в мясорубку башкой! – говорили на «Гангуте». – Только бы не дохнуть на приколе, будто удавленники… Что мы здесь видим? Одного Фитингофа, чтоб его, гада, клопы сожрали!
* * *
Накануне лейтенант фон Кнюпфер, сатрапствуя на пару с Фитингофом, дал одной салажне такого хорошего тумака, что тот – задом, задом, задом! – так и въехал в открытый люк, после чего был демобилизован, ибо калеки флоту не нужны. Отличился на днях и юный мичман-механик Шуляковский: избил вахтенного кочегара до такой степени, что человека отвезли в лазарет… Копился гнев!
А завтра – праздник: будет смотр матросских талантов.
– Смотри же, Трошка, не подгадь, – убеждал Семенчука Лопухин. – Коли положишь Безголового, тогда в Питер смотаешься.
– Я все понимаю, – соглашался чемпион линейных сил Балтфлота, – но пойми и ты, что борьба… Впрочем, я, Володя, постараюсь.
С полудня на линкор «Севастополь» подваливали катера, доставляя гостей с других кораблей и с берега. Приглашено было много дам, дамочек, девиц – жен, подруг и дочерей офицеров. На трапах работали на приемке гостей ловкие мастера-фалрепные. Их задача в обычное время – принимать с берега пьяных. А сейчас выпало дело деликатное – бабы!
Дамы, конечно, не упустят возможности показать перед мужчинами свою слабую женскую сущность. У трапов начинаются вздохи, повизгивания, страхи, недомогания и прочие фокусы, рассчитанные на слабонервных. Тут фалрепный матрос должен проявить максимум умения, чтобы дама даже не заметила, когда Рубикон ею уже перейден. Так поступают опытные дантисты-экстракторы: не успеешь и вскрикнуть, как они уже предъявляют тебе клещи с вырванным у тебя зубом… На трапах идет веселейшая работа, о которой можно судить по звонким выкрикам фалрепных:
– Готово! Чья это жена? Принимайте…
– Матрющенко, хватай тонкую, а я толстячку приму…
– Петруха, куда девицу в зад пихаешь? Это не положено.
– Ах!
Фалрепные взмокли. Лбы у них – черные от загара. Одеты они в особые форменки – без рукавов, а тельняшки выпущены. Вообще, звери, пираты, скитальцы морей… Дамы, повинуясь их ловкости, так и порхают юбками над пропастью борта, под которым бьется упругая волна. И только на палубе, придя в себя, они начинают охорашиваться, наводить фурор на юных мичманов.
Между тем на пространстве юта, возле кормовой башни дредноута, под грозным навесом орудий, уже поставили беккеровский рояль. Ближние места занимали, как водится, дамы с офицерами. За ними толклись матросы – зубастые, смешливые. Издали от массы бескозырок рябило в глазах, будто палубу линкора щедро обсыпали зернистой икрой. На самом «шкентеле» – в конце – всегда привыкли расселяться (подальше от начальства) отчаянные пессимисты, и оттуда теперь орали:
– Давай показывай! Время… Чего тянуть-то?
Горны пропели «слушайте все». Встал под пушками, как под афишей, конферансье из флотских писарей, которого за кражу пяти фунтов персидской халвы вышибли с царского «Штандарта» на бригаду, и на линкорах о том все знали.
– А сейчас, – объявил он, – первым номером нашей программы выступает знаменитый чтец-декламатор с «Гангута», командир шестидюймовки носового плутонга – мичман Григорий Карпенко!
На крышку рояля облокотился, красный от смущения, мичманец.
Небольшого росточка, чистенький, он петушком исполнил под надрывные возгласы рояля:
Все суета. Один возможен путь – не сетовать, не думать, не томиться, в твоих глазах бездонных потонуть, к твоим устам приникнуть и забыться…Из задних рядов – самых озорных – вразброд орали:
– А кады бороться-то? На кой нам сдался стих этот?
Когда Гриша Карпенко, страдавший от внимания публики, уже возвращался на свое место, адмирал Свешников (солидный и непререкаемый) заметил ему с большим неудовольствием:
– И с чего это вы, мичман, под пушку вылезли? Поскромнее надо быть нашей молодежи, поскромнее… Учитесь у старших офицеров.
Однако мичману хлопали. Полухин тоже надсаживал ладони.
– А знаешь, – сказал он Семенчуку, – ведь этот мичманок совсем неплохой парень. Ты с ним никогда не разговаривал?
– Нет. С чего?
– А я говорил. Сомневается человек. Правды ищет. В случае чего, такого и на нашу сторону перетащить можно.
– Зачем?
– Мы с тобой хороши до какого-то момента, от «а» до «б», – шепотком пояснил Полухин. – А потом – шабаш и суши весла! Башню-то с дальномерами мы еще и провернем. А вот линкора нам в море не вывести. Сами же таких мичманцов на помощь себе позовем…
Суровому Свешникову не угодил и матросский хор, слаженно исполнивший песню в память павших в этой войне:
Спите, орлы боевые, спите с спокойной душой, вы заслужили, родные, славу и вечный покой…– Развели тут бодягу поминальную, – заметил адмирал. – Все настроение, какое было, к чертям испортили.
– А сейчас, – объявил конферансье, – перед вами выступит матрос Игнатий Безголовый с известным аттракционом на загадочную тему: «Что русскому здорово – то немцу смерть!» Слабонервных просим удалиться… Гы-гы-гы!
Семенчук толкнул своего соседа:
– Какой Безголовый? Уж не тот ли… чемпион с крейсеров?
– Он самый. Чичас от лыковых лаптей оторвет кожаные стельки.
Перед роялем вынесли носилки с кирпичами. Обыкновенными. Из каких на Руси дома строят, печи кладут. А потом явился и он – Безголовый. Голова у него, правда, была. Но малюсенькая, которую великая мать-природа приладила кое-как на гигантские плечи. Исподлобья взирал чемпион на публику. Так, наверное, в глубокой древности динозавры, будучи сыты, тупо смотрели в болотную даль, где жила, пыжилась и квакала всякая съедобная мелюзга… Безголовый снял бескозырку и долго крестился, шевеля при этом губами. Конферансье выскочил перед ним:
– Благородная публика! Которые тут сознательные, тех по совести спрашиваю – стоит ли рисковать артисту или не стоит?
В руках офицеров щелкали «кодаки».
– Пусть рискует. Просим!
Безголовый нагнулся, взял с носилок первый кирпич. Воздел его над собой – над самым темечком.
– Господи, образумь! – взмолился он тут.
И хватил себя кирпичом по башке. Только осколки посыпались.
Дредноут замер. В тишине щелкали «кодаки». Безголовый ахнул себя по башке вторым кирпичом. Пополам!
Не голова пополам, а кирпич разлетелся.
Надо отдать должное артисту: колол он кирпичи вдохновенно и весьма искусно – то на равные половинки, то вдребезги.
– Валяй дальше! Покрасуйся… – кричали из задних рядов.
Безголовый, когда носилки опустели, счел свой номер законченным и теперь наслаждал себя бурными аплодисментами.
– Конечно, – смеялись офицеры, – для Мулен-Руж такой аттракцион не годится. Но в нашем скромном кабаре вполне сойдет…
– Откуда ты такой чурбан взялся? – печально спросил Свешников.
Безголовый отряхнул известку с волос, нацепил сверху бескозырку и вскинул к ней руку, ответив адмиралу:
– У нас на «Громобое» все, почитай, такие…
В перерыве Семенчук отыскал Полухина:
– Ты видел, что он с кирпичами творит?
– Дурак он. Нашел, чем хвастать.
– А… сила?
– Не бойся. Ты же умней его. Помни, за что будешь бороться. Пусть тебя воодушевляет идея… Нам нужна связь!
* * *
На следующий день «Севастополь» даже присел в воде ниже ватерлинии, будто его загрузили сверх нормы боезапасом. Это привалила из Гельсингфорса громадная толпотня матросов, давно ждавших этого дня. Под раскатом главного калибра вместо рояля теперь развернуты пробковые маты, накрытые шлюпочным брезентом. Зрители уже повисали на вантах, на рострах, лезли на шлюпбалки. Вдоль стволов орудий сидели рядком человек по сорок, свесив ноги, а под ними гомонила, колыхалась братва.
– Время! Начинай… – волновалась палуба.
Опять прибыли гости с дамами. Соревнование накаляло азарт, ибо плавающие на линкорах кровно (почти страдальчески) переживали за свою бригаду, крейсерские же на руках носили Безголового, которого так любили, так уважали, что только медом еще не мазали.
Семенчук нервничал. Наконец с башни было объявлено:
– Внимание! Сейчас состоится схватка, которая решит, кому ехать на общефлотские соревнования… Выступают: от бригады линейных сил – гальванный унтер-офицер первой статьи Трофим Семенчук, призыва девятого года… (Не дали закончить – кричали «ура» свои ребята, с дредноутов.) От бригады крейсеров… (Опять буря восторгов.) От бригады крейсеров – кочегар второй статьи Игнатий Безголовый, призванный в четырнадцатом из запаса.
Ударила рында, заменявшая гонг. Матросня замерла, разинув рты, когда тяжкой поступью, слегка вразвалочку, вышли на ковер прославленные борцы. Как положено, сделали они друг другу четкое «лесалю». Встали в позу «ангард». Внаклонку. Левая нога при этом – вперед. А правая рука сразу начинает искать запястье руки противника – для захвата его.
Итак, борьба началась. Семенчук видел перед собой низенький лоб кочегара. Из-под опаленных возле котлов бровей на него – в зорком прищуре – глядела узкая щелка враждебных глаз.
– Семенчук, хватай его! – подбадривали линкорные.
Но собралось здесь немало и ребят с крейсеров.
– Безголовый, шмякни линейщика, как лягушку!
Офицеры призывали к порядку. Дамы лорнировали борцов.
Ура! Есть! Семенчук уже держал запястье Безголового. Доля секунды. Стремительный перехлест тела – бросок «тур-де-тет».
Громадная туша кочегара, издавая запах пота, скользит вдоль спины гальванера, ловко переводимая им в партер.
Так. Хорошо.
Теперь следует двойной зажим. Шея у Безголового – будто отшлифованное бревно. Никак не взять. Пальцы с нее соскальзывают, как с телеграфного столба. С колоссальным напряжением Семенчук все же умудрился собрать свои пальцы в замок на этой шее.
Дело сделано. Даже не верилось.
– Ломай крейсерского борова! – орут ему приятели…
Семенчук уже ощутил, что его противник начинает звереть. Дикая, первобытная сила его не сдавалась. Безголовый легко пришел на «мост». Перевел себя в «тур-де-бра», молотя по ковру ногами, словно мотылями паровой машины. Семенчук понял, что победа, если она и состоится, то лучший ее вариант – ничья. Но корабельная братва ничьей не простит… Здесь не та публика: или повали, или сам ложись! А ничьей не нужно. Не затем собрались.
– Игнатушка, не выдавай!
– Трошка, покажи класс!
Один прием за другим – призы, парады, скамейки. Семенчук хотел забить врага своей техникой. Но каждый раз его мастерство (и его немалая сила) встречали обратный натиск могучего опытного борца.
Из узких лезвий глаз Безголового струилась ненависть к противнику… Еще туше! Опять туше! Семенчук сумел бросить Безголового на ковер, тот стоял на четвереньках – нерушимый, словно Николаевский чугунный мост через Неву…
Борьба. Пот. Сила. Пыхтенье. Время.. Гвалт!
Эта галдящая братва, эти офицеры в первых рядах, эти нарядные красавицы в шляпах, украшенных гроздьями цветов, – никто из них не знает сейчас, во имя чего борется 1-я бригада линейных сил Балтийского флота… «И пусть не знают!»
От страшного напряжения на туловище Безголового вдруг с треском лопнуло трико, обнажив его существо с тыла. Семенчук по-прежнему стойко выдерживал соперника в партере, а тот выставил себя на всеобщее обозрение. Семенчук его не отпускал. Молодые ребята-мичмана – те просто катались от хохота. А солидные каперанги были искренно возмущены подобной картиной:
– Это… ни на что не похоже! Павиан какой-то… Уберите этот срам! Как можно? Здесь же находятся дамы…
Никак не ожидавшие такого афронта дамы деликатно отвлеклись, рассматривая благородную гладь моря. Только одна восторженная курсистка (кажется, дочь адмирала Свешникова) вперилась в корму Безголового как зачарованная…
– Давайте гонг! – приказал адмирал Свешников.
Ударила рында, объявляя вынужденный антракт. Перерыв в борьбе буквально обрушился на Семенчука, как бедствие. Он понимал, что вторично ему вряд ли удастся так ловко захлестнуть противника. Борцов увели в каземат противоминной батареи. Семенчук, слабо надеясь на свою победу, решил попробовать с другой стороны:
– Слушай, приятель, мне очень надо попасть в Питер…
– А! – одним звуком отозвался Безголовый.
– У меня там невеста… ждет… понимаешь?
– У? – вроде удивился тот.
– Надо… Как бы тебе объяснить? Надо…
– О!
– Уступи. Ста рублей с линкоров не пожалеем…
– Ы, – ответил ему Безголовый, пролезая в новое трико.
Гонг!
На этот раз он обрушил Семенчука на ковер плашмя, сразу на две лопатки. «Севастополь» содрогался от рева матросов:
– Подножка была! Не по правилам…
– Верно все! Ногу не тронул… – кричали крейсерские.
Семенчук встал с ковра и… заплакал. Плачущего борца повели к трапу дружки-приятели и поклонники. Публика еще долго неистовствовала, но уже ничто не спасет положения. Семенчук-то ведь лучше всех знал, что подножки не было. Все правильно!
* * *
Сильный ветер взмывал воду гельсингфорсского рейда. Рвало с голов бескозырки – колесами они долго еще катились по волнам, намокая, и утопали. Стучали на ветру, словно пушечные громы, брезентовые чехлы мостиков. Под бортами линкоров мотало и било на волне дежурные катера и вельботы.
Семенчук обратился к вахтенному офицеру, мичману Карпенко:
– Девка тут одна… финка, которая все Колю своего сыскивала. Заплыла за «Петропавловск» и… боязно за нее.
– Ах, наша прекрасная Ундина? Хорошо – в шлюпку!
Искали Русалку весь вечер, а ночью лучи прожекторов зловеще скрестились над рейдом. Нашли ее лишь под утро возле каменистого острова. Она казалась прекрасна и сейчас – даже мертвая. Но только теперь матросы заметили, что она уже давно беременна.
В глухую августовскую ночь на окраине Брунспарка в Гельсингфорсе восемь матросов, сняв с поясов ремни, стебали ими девятого. Тяжелые медные бляхи, насыщенные с испода свинчаткой, остро рассекали воздух над головами. Бляха матросского ремня – оружие страшное, делающее из человека рубленую котлету.
– Слышал, Володя? – спросил Семенчук. – Говорят, что вчера финская полиция мертвого с нашей бригады подобрала в парке?
– Ша! – отвечал Лопухин. – Это и был тот самый Коля…
* * *
В августе немцы через Ирбены рванулись на Ригу!
5
Колонны Гинденбурга маршировали отлично.
Сбежались смотреть литовские села, как, поцелуем в обрубок вкована, слезя золотые глаза костелов, пальцы улиц ломала Ковна.Варшава пала, Ковна пала, Митаву и Шавли немцы взяли…
Гинденбург нажимал на Ригу, на Ригу, на Ригу!
Войдя в Виндаву, немцы нашли там взорванные причалы, обгорелые руины вокзала. Русские миноносцы рыскали по ночам вдоль кромки берега, снимая персоналы маяков (с их детишками, картошкой с огорода, с блеющими козами), команды радиопостов, прислугу приморских батарей. Теперь уже вся Курляндия была оккупирована немцами, и Гинденбург нашел здесь много мяса и сала, молочные реки и сливочные озера, – принц Генрих Прусский просто лопался от зависти к армии, ибо германский флот никак не мог угнаться за германской армией… «Стыдно!»
Гинденбург наседал на Ригу, где спешно формировались батальоны латышских стрелков, и в добровольцах отказа не было: многовековая ненависть латышей к германцам не требовала даже агитации. Русские солдаты, плечо к плечу с латышскими стрелками, задержали военщину кайзера под самой Ригой, ну буквально под самыми ее пригородами – во мхах Тирольских болот, в гудящих соснами лесах возле чистого озера Бабите. «Что будет дальше?..»
– Дальше, высокий принц, – напутствовал Тирпиц гросс-адмирала Генриха, – ваш флот должен проломиться через Ирбены, чтобы подкрепить Гинденбурга с моря и пресечь господство русских в Рижском заливе… – Палец Тирпица плотно лежит на карте. – Это просто, – говорит он, – надо лишь выбить пробку из Ирбен. Я знаю, что у русских там собран хлам, а не корабли. Ни одного линкора! Смотрите сюда, мой принц…
В начале августа над Балтикой грохотал затяжной шторм. Старенький миноносец, из бортов которого волной выбивало заклепки, вернулся в Гельсингфорс с моря. С его борта сошел измотанный качкой и бессонницей контр-адмирал Адриан Непенин: этот офицер, помимо любви к авиации, обладал еще страстью к шпионажу. Непенин был главою всей флотской разведки на Балтике… На штабном «Кречете» пышные ковры глушили его тяжелые шаги. Срывая с плеч макинтош, Непенин почти вломился в каюту комфлота Канина.
– Думато! – заявил от комингса. – Они идут, и большими силами. В Либаве уже черт ногу сломает от обилия кораблей разной классификации. Команды наших подлодок валятся с ног… Дайте мне чего-либо выпить, Василий Александрович!
Канин измерил свою каюту точно по диагонали – из угла в угол. Остановился, посверкивая стеклами очков:
– Смешно сказать, но Рижский залив держат четыре канлодки, несколько эсминцев… Что там еще? Мусор. Остается одно – надеяться на богатырскую русскую силушку, которая все переможет.
– Да пошлите вы туда новейшие дредноуты из Гельсингфорса!
Канин еще раз отстукал по телеграфу в Ставку просьбу, чтобы ему позволили ввести в бой линкоры типа «Севастополь», иначе флот не уверен в обороне Ирбен и силам Рижского залива предстоит полный разгром и уничтожение, ибо немцы могут не выпустить его на север – через Моонзунд… Ставка ответила: нет!
– Видите, как с нами разговаривают? – спросил Канин. – Могу послать только обломок прошлого, музейную реликвию – линкор «Слава», который правильнее бы называть лишь броненосцем…
…Палец адмирала Тирпица заостренным ногтем рвал карту.
– Это же так просто, мой высокий принц! – говорил он.
* * *
Словно прекрасные жемчужины, нанизанные на одну нитку, тянутся вдоль пляжей, сверкая с моря, знаменитые курорты – Добельн, Ассерн, Кеммерн, Майоренгоф и Шлока. Вот за теми каштанами, что согнуты ветром, за пляжными киосками, где еще недавно торговали мылом и полотенцами, мороженым и шипучей водой «Аполлинарис», – сейчас здесь раскисли под дождями вдруг ставшие неуютными санатории и кургаузы, затихли хрупкие раковины павильонов для музыки, для флирта, для осторожных первых поцелуев… Все кончилось! И растеряны в панике игрушки детей на песке; море еще иногда бросает на берег забытые зонтики приезжих дачниц и шлепанцы петербургских сановников. Гинденбург уже рядом: спасайтесь, люди!
Пусто – и германский снаряд взрывает горячие пески штранда, гаснут с моря теплые искры купален… Спасайтесь!
Осыпана ночным дождем, «Слава», как безмолвная тень, вошла в Ирбены. Соратники молодых лет «Славы» давно опочили возле Цусимы, а линкор, сочась железными швами, дожил до расслабленной корабельной старости. Не так уже, как раньше, бьется его сердце – машины, побаливают котлы-желудки, в артериях магистралей не так уже бурно пульсирует кровь воды и пара… Старость – не в радость (даже нам, кораблям!). Механики каждодневно, словно больничную карточку, заполняют графы журналов – о повреждениях, о появлении течи, об ослаблении корпуса…
Тихо струясь корпусом между берегом и минными банками, «Слава» вступила в Рижский залив, словно рыцарь былой эпохи – вся из невозвратного прошлого. Слева по борту остался мыс Церель, справа – от Курляндии – ее засекли немецкие береговые посты. Со стороны залива, из ночной темени, старому кораблю – молодо и задорно – подмигнул молодцеватый юноша «Новик», и линкор ответил ему на позывные своим потухшим слезливым глазом:
«Я здесь… это я… я иду вам на помощь, молодежь!»
В это время к Ирбенам подходил германский флот в составе семидесяти боевых единиц. Случись так, что немцы ворвутся в Рижский залив, и тогда «Слава» обречена на гибель, ибо предательские отмели Моонзунда не выпустят линкор на просторы Балтики. Корабли всегда знают лицо своей смерти – вот оно, это смутное лицо забортной воды, что нехотя вскипает под натиском тупого форштевня. Впереди «Славы» легкой рысцой бежит «Новик» – он бежит легко, будто играючи, и это понятно: он еще молодой… С мостика линкора по раскатам четырнадцати трапов, блещущих медью, минуя множество люков и переходов, спустился командир «Славы», моложавый и симпатичный каперанг Сергей Сергеевич Вяземский (не князь!).
– Готовность прежняя, – напомнил он кают-компании. – В любом случае, господа, прошу объявить по команде, что мы пойдем на гибель, но не отступим. Нам отступать некуда. Сигнал первой же тревоги – возглас славы для нашей «Славы»!
Фамилия Вяземских на Руси была столь широко известна, что многие по ошибке называли его, как князя, «вашим сиятельством», на что Сергей Сергеевич всегда добродушно отвечал:
– Я ведь не сиятельный – я лишь старательный…
«Слава» бросила якоря, и тяжкие звенья цепей с грохотом побежали в море. Зацепились за грунт. Встали. В каюте Вяземского допоздна не угасал свет. Командир линкора вместе с флагманским артиллеристом флота, кавторангом Свиньиным, обсуждал весь трагизм положения. Оба участники русско-японской войны, они понимали друг друга с полуслова.
– Сережа, – говорил флагарт, – ты же не достанешь своей артиллерией до немца, который будет хлестать по тебе с дальней дистанции. У них руки длиннее твоих.
– Володя, я уже решил, что мы затопимся…
Над ночным рейдом, едва не задевая мачт «Славы», в небе могуче прогудел русский «Илья Муромец» – чудо XX века!
* * *
Армаду германских кораблей возглавлял прославленный немецкий флотоводец – адмирал Хиппер… На мостике «Зейдлица» он раскурил первую за день сигару, глянул в мутный рассвет:
– Вот он, русский коридор на Ригу, – Ирбены!
Ирбены… Одно это слово заставляет матросов вжимать головы в плечи, зорче осматриваясь. С тральщиков рассказывают (без вранья!), что в тихую погоду, стоит лишь застопорить машины, и тогда под водою проступают в Ирбенах черные головешки русских мин. Они только и ждут, чтобы корабль кайзера коснулся их страшных рогулек… Взрыв! Взрыв! Взрыв!
Началось траление Ирбенского пролива. Командиры германских тральщиков, после гибели своих судов мокрые – хоть выжимай их, с лицами – как гипсовые маски, докладывали Хипперу:
– Наши тралы загребают мины сразу по три-четыре штуки. Как в компоте вишня плавает отдельно от сливы, так и здесь, в этих Ирбенах, сварена в одном котле русская похлебка из различных мин… Мы же понимаем такие вещи и видим, что мины поставлены в разные сроки, они разных систем… Нам не справиться!
– Вперед! – отвечал им Хиппер…
С аэродромов Эзеля, косо чиркнув крыльями по воде, срывались русские самолеты и раскладывали свой бомбогруз на германскую партию траления. Чтобы сорвать работу врага, неустрашимо (на грани отчаяния!) сражались в Ирбенах канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый», «Сивуч» и «Кореец». Эсминцы, резкие и порывистые, как пантеры, помогали им своим огнем. Очень трудно сдержать врага. «Слава» стреляла своими пушками только на 90 кабельтовых, а германские крейсера легко ее накрывали из отдаления, сами оставаясь невредимы.
Немецкие тральщики, словно крысы, прогрызали в минных стенках узкие норы, через которые Хиппер рассчитывал протащить свои корабли прямо на Ригу. Он торопил, он спешил… Тральщики гробились на минном частоколе, их ломало в куски, их превращало в облака пара, их пожирало пламя, но Хиппер безжалостно посылал их вперед – только вперед! И они – шли, они шли по минам. Вот уже протралена первая линия заграждений, вот их тралы начали косить вторую линию… Немцы уже зацепили своими неводами и третью! Кажется, успех обозначился на горизонте, и утром эскадра может начать прорыв на Ригу.
Хиппер – успокоенный – сказал:
– Завтра на рассвете, когда станет светло…
Канин – обеспокоенный – сказал:
– Сегодня же, как только станет темно…
И в ту же ночь, презрев смерть, в Ирбены проник героический заградитель «Амур». В его высокой корме со скрежетом открылись ворота лоц-портов, в которые мог бы въехать трамвай, и оттуда посыпались в море мины. «Амур» снова завалил ночью минами те проходы, которые успели протралить немцы. На рассвете немцы сунулись в Ирбены… взрыв! взрыв! взрыв! Хиппер с саркастической улыбкой на устах вынужден был признать:
– Мы вернулись на ноль. Придется начинать все сначала, как вчера. Мы попали в ловушку замкнутой цепи: без Ирбен нет Риги, без Риги нет Моонзунда, без Моонзунда не бывать в русской столице. Кайзер смотрит на нас, вся Германия молится за нас…
Один за другим выбывали из строя подорванные эсминцы и крейсера кайзера, их выволакивали на буксирах, тащили обратно на Либаву и еще дальше – под Данциг. В устье Ирбенского пролива завязывался гремучий клубок жаркого боя. Русские канлодки в дерзком набеге разогнали по морю всю германскую партию траления. Обрубив тралы, как это делает рыбак с сетью, спасая свою жизнь, тральщики метались под огнем «Сивуча» и «Корейца» словно угорелые. Не слишком ли дорого обойдутся эти Ирбены?
– Продолжать движение, – распорядился Хиппер; он уже не призывал их на Ригу, лишь бы удался прорыв в Рижский залив…
В полдень из-за мыса Церель опять показался в Ирбенах тупой форштевень «Славы». Вяземский неразлучно был рядом с флагартом Свиньиным; через бинокли они отлично видели, как из башен «Позена» и «Нассау» взлетели пять красных шариков…
– В нашу сторону, Сергей Сергеич, нас они достанут.
Снаряды глухо взорвали глубину под бортом «Славы», и линкор качнуло на пенной воде. Вокруг – словно выросли прекрасные белые лилии: это поднялась кверху пузом оглушенная рыба. «Слава» была беспомощна – пушки ее имели предел до 90 кабельтовых.
– Не в лоб, так по лбу, – сказал флагарту Вяземский. – Я уже продумал этот вариант до конца… Затопимся!
Была сыграна «водяная тревога». По приказу с мостика трюмные машинисты раздраили кингстоны, впуская море внутрь корабля. Забортная вода быстро заполнила коридоры правого борта, из-за чего левый борт «Славы» круто вздернулся над морем. Орудия тоже вздернулись выше, и теперь русские снаряды «достали» противника. С резким креном, под красными конусами стеньговых флагов, русский линкор полным ходом пошел прямо на врага… Ох эти Ирбены! Битва за них шла на пределе возможностей – и людских, и корабельной техники. Балтийцы свершали невозможное, чтобы Рига осталась нашей. В ярости орудийных залпов, полузатопленная, «Слава» дралась одна за десятерых, и палуба линкора – как наклонный каток, по которому скользили ноги матросов…
Напрасно дымил германский флот, ожидая часа, когда откроются ворота Ирбен на Ригу. Что-то ломалось в сроках, трещали планы. Точная конструкция оперативных замыслов разрушалась раньше времени, и обломки ее выносило через Ирбены – горящими эсминцами, подбитыми крейсерами. Ближе к ночи на русских кораблях слышали, как экипажи германских дредноутов возносили к небесам молитвы.
* * *
После богослужения адмирал Хиппер вызвал к себе командиров номерных эскадренных миноносцев «V-99», «V-100». Из кромешной темени ночи возникли две плоские тени, низко прижатые к воде… Это подошли номерные эсминцы – новехонькие (последнее слово германской технической мысли). Оставляя на линолеуме цвета крепкого кофе мокрые следы от штормовых сапог, молодые командиры предстали перед Хиппером:
– Готовые ко всему, мы внимательны к вам…
– Используя тень Курляндского побережья, – приказал им Хиппер, – прожмитесь фарватером в русский маневренный мешок. Нам сейчас сильно мешает русский броненосец «Слава», который, очевидно, отсыпается на рейде Аренсбурга… Утопите его торпедами! В случае, если «Слава» в Аренсбурге не обнаружится, вот вам вторая цель, вполне достойная ваших номеров, – это минный крейсер «Новик».
«V-99», «V-100» были первыми кораблями кайзера, которые прорвались в Рижский залив. Шли с притушенными огнями, и ветер скоро донес до германских эсминцев запахи скошенных трав, ароматы плодоносящих садов Аренсбурга. Древняя столица Эзельской провинции мирно почивала в удушье цветов, до мостиков эсминцев однажды долетело громыханье колотушек ночных сторожей.
Эсминцы сошлись бортами на дистанцию голосовой связи. Командиры «номерных» решили ворваться на рейд Аренсбурга, внутри которого смутно брезжили очертания русских кораблей. Эсминцы не успели разойтись бортами, как вдруг, разрубая душистую тьму, перед ними опустились шлагбаумы прожекторов. Их заметили! Брандвахтенные миноносцы «Украйна» и «Войсковой» открыли огонь. Сбивая со своих надстроек взрывчатое пламя легких пожаров, номерные эсминцы побежали прочь…
В маневренном мешке русских они опять сомкнулись для разговора, и медные рупоры трубяще несли над морем голоса командиров.
– Что будем делать? – спросил командир «V-99».
– Покувыркаемся до рассвета в этом мешке. Может, нам еще и повезет… Но «Славы» и «Новика» я не разглядел на рейде.
– Да, в Аренсбурге их нет!
Взвыли турбины, и номерные эсминцы разошлись, быстро наращивая боевую скорость. До рассвета было еще далеко. В эту ночь кайзеру было доложено, что господство русских в Рижском заливе кончилось – «мы уже проникли в сферу недоступности».
6
Накануне на борт «Новика» прибыли сразу два адмирала. Начальник[6] Минной дивизии – Трухачев и начальник Минной обороны Рижского залива – Максимов. Оба были в рабочих кителях, от них слегка попахивало дрянным винцом. Вид они имели аховский – шумливые, невыспавшиеся, однако адмиралы были настроены оптимистически, как будто ничего страшного не произошло. Горнисты на эсминце сыграли в их честь «слушайте все», потом исполнили торжественный сигнал «захождения» адмиралов на борт корабля.
– Вольно! – в один голос рявкнули и Трухачев и Максимов.
Прямо от трапа – в салон. При разговоре присутствовал и Артеньев, как старшой. Фон Грапф в упор спросил у Максимова:
– Все-таки немцам удалось протралить нашу оборону в Ирбенах?
– Скажите спасибо, – со злостью отвечал Максимов, – что мы не сломали себе шею на отступлении флота следом за армией.
– Вы думаете, мы отступим? – насторожился Артеньев.
– Я этого не сказал… – последовал ответ. В салоне стояла нестерпимая духота. Иллюминаторы были раздраены, но это не помогало. Сытая благодать курортной провинции наполняла каюты необычной тишиной и запахами близкой осени.
– Немцы прорвались, – вступил в разговор Трухачев, – но их потери уже невосполнимы! Сейчас, по последним сведениям, три германских парохода, груженные булыжниками, ушли куда-то к черту на кулички. Только бы немцы не затопили их в Моонзунде, дабы задраить нам выходы в Балтику, тогда мы – как тараканы в банке!
Адмиралы, обутые по-походному в грубые солдатские сапоги, расхаживали по коврам салона, горстями кидали в рот крупную аренсбургскую вишню, выбрасывая косточки в иллюминатор. Они сказали, что сейчас пробегутся на «Генерале Кондратенко» к Церелю, чтобы глянуть на противника своими глазами, а на рейде останутся два эсминца в брандвахте.
– Гарольд Карлович, у вас котлы на подогреве?
– Постоянно. Мы готовы в любую минуту.
Начдив Трухачев потянулся к замызганной фуражке:
– Тогда вы тоже пробегитесь до кромки курляндского берега. Машинами особенно не форсируйте, ибо надо беречь топливо…
Максимов пошел на трап следом за Трухачевым.
– Да, – добавил он, прощаясь, – вы уж не поспите эту ночь, пожалуйста. Противостоять тралению в Ирбенах мы уже не в силах. Сейчас возникает новая проблема, почти гамлетовская: быть или не быть? Стоит немцам ворваться в эту кастрюлю Рижского залива, и мы можем оказаться отрезаны даже от Моонзунда…
Но, даже признаваясь в трагизме своего положения, адмиралы никак не выглядели унывающими. Артеньев спросил о «Славе».
– Бедная «Слава», – вздохнул Трухачев. – Немцы разворотили ей броню. Три попадания – для старушки это многовато. Ну, вы же знаете Вяземского – он держал «Славу» под огнем… Удачи вам!
Рассеивая за собой сизую гарь выхлопа, катер потащил адмиралов на другие эсминцы. Грапф не спешил сниматься с якоря. «Новик» лишь глубокой ночью оставил тишайший рейд. На малом пошли через мелководья. Долго еще виднелась громада замка псов-рыцарей да дымила над морем труба ликероводочного завода… Турбины глухо выли под палубой. Было неспокойно на душе.
* * *
Михайловский маяк с берега Курляндии давал во мрак ночи резкие короткие проблески, и было непонятно – для кого он работает. Штурман склонился над пеленгатором, но фон Грапф наорал на него, как последний гужбан, потом вежливо добавил:
– Голову же надо иметь. Зачем вы пеленгуете Михаила, если этот маяк давно уже занят колбасниками?
– Верно, – согласился Артеньев. – У вас нет гарантии, что сигналы эти не фальшивы… нарочно, чтобы сбить нас с курса.
Пошли дальше. Грапф насвистывал разные шансонье, каких он знал бесчисленное множество, и Артеньев по этому обилию мотивов пришел к выводу, что Гарольд Карлович смолоду, видать, немало путался по кабакам. Между прочим, командир продолжал оставаться очень внимательным. Если Грапф замечал, что один из шести сигнальщиков залезал биноклем не в свой сектор горизонта, он брал матроса за уши, заставляя его смотреть куда надо.
– Не отвлекайся! – говорил он почти ласково. – В чужом секторе не девки пляшут… такая же водичка, как у тебя!
Во мраке досыпающих Ирбен «Новик» пролетал, как бесплотный дух. Дейчман звонил из низов, любопытствуя:
– Что у вас там наверху, блаженные?
– Ничего, – отвечал Артеньев сухо. – Плохая видимость.
– А у нас – как в банях у Сандунова. Вентиляция обжаривает. Не продыхнуть. Вам-то там, на ветерке, благодать…
Артеньев защелкнул на щите трубку телефона. – Гарольд Карлович, а не отвернуть ли нам на Аренсбург? Со стороны норда на небе видны какие-то подозрительные зарницы…
Это был как раз тот самый момент, когда номерные германские эсминцы нарвались на русскую брандвахту Аренсбурга. Фон Грапф поднял бинокль, линзы которого (ночные) вспыхнули в темноте, как два фиолетовых тюльпана. Зарницы с норда уже погасли.
– Обойдется, – сказал он. – Поболтаемся еще в этом мешке.
Прошло еще полчаса. Петряев скатился на мостик с площадки дальномера, из кожаного портсигара достал папиросу:
– Кажется, эта канитель не кончится… У кого спички? Дайте прикурить… Я солидарен с мнением старшого: пошли на Аренсбург и как раз к открытию базара будем на рейде.
Старший минер Мазепа чиркнул под носом артиллериста спичкой и тут же загасил ее в ладонях.
– Сигнальцы! – гаркнул. – Я за вас буду докладывать?
И голос Щирого совпал с воплями сигнальной вахты:
– Прямо на нас… два силуэта… тип неизвестен!
Фон Грапф все же успел домурлыкать:
Она была вся в стиле ренессанс – мадам Люлю, бульвар де Франс…«Шашлыки» неизвестных эсминцев быстро вздергивались над морем, стали видны шесть дымящихся труб, на каждого – по три. На позывные они не ответили, и Грапф, почти успокоенный, сказал:
– Сергей Николаич, вы стоите ближе… Будьте так любезны, нажмите педаль колоколов громкого боя.
Нажали педаль. Тревога!
После чего фон Грапф обратился к вахте:
– Прошу запомнить: перед нами два немецких эсминца типа «V» новейшей конструкции. Спущены на воду лишь месяц назад. Противник достойный: их скорости и вооружение, как у нашего «Новика».
– Мама! – дурачась воскликнул Мазепа.
Петряев обезьянкой вскарабкался обратно на дальномер, через сильную оптику обозрел корабли противника:
– Нажимают зверски! Кареты у них богатые… с гербами!
– Сейчас проверим, каковы у них ямщики, – сказал фон Грапф…
«Новик» легко вспарывал водяную толщь плугом форштевня. В мощном пении согласных турбин копилась страшная сила скорости, необходимой для боя. Гальванеры уже трудились на автоматах стрельбы. Синие, желтые, красные проблески сигналов мигали трепетно, освещая молодые лица матросов. На первом же залпе (который, сколько ни жди его, всегда будет неожиданным) комендоров, приникших лицами к визирам, ударило аппаратурой в лицо, но каучуковая оправа спасала зрение. По секундомеру Петряев давал «отмашку», срывая педаль ревуна, и следом такие же ревуны яростно мычали на плутонгах, отмечая начало каждого залпа.
Бой начался. Весь на скорости. Весь в наскоке.
Один против двух вступил в неравную дуэль…
На бортах немцев уже видны литеры, намалеванные белилами от ватерлинии до срезов полубаков: «V-99» и «V-100». Наградив «сотый» двумя попаданиями, «Новик» теперь зашибал снаряды в «девяностодевятку». Точное маневрирование фон Грапфа сделало «Новик» почти неуязвимым – ни одного попадания!
– Право руль… еще правее… теперь – лево на борт.
Сбоку ему подсказывал штурман:
– Не увлекайтесь, Гарольд Карлович: там – мины!
– Я это знаю, но… помнят ли об этом колбасники?
На «V-100» снаряд разнес мостик, там уже загорелось. Запарив машиной, «сотый» быстро укрывался в тени берега.
– Пошлите ему… в разлуку! – сорванно крикнул Артеньев.
«Новик» послал вдогонку «V-100» снаряд, который начисто сбрил ему среднюю трубу, и было видно, как она соскочила с палубы в море, последним вздохом извергнув последний клуб дыма.
– Артисты! – раздался одобрительный возглас Грапфа; командир от телеграфа нагнулся к помощнику: – Стыдно сказать, но так хочу в гальюн, что спасу нет… Не знаю, дотерплю ли?
Половина дела была уже сделана: «Новик» уравнял свои силы.
Русские погнали перед собой «V-99» с такой яростью, как гонят по улице бешеную собаку. Эта «улица» вела прямо на минное поле. Петряев умудрился настичь врага ловким снарядом, разворотив ему корму. Очевидно, снаряд разбил дымовые шашки, и теперь убегающий «V-99» потянул за собой плотную полосу дымзавесы.
– Совсем некстати, – огорчились люди на «Новике».
За эту дымзавесу тут же, очень ловко, завернул и «V-100».
Грапф перетопнулся с ноги на ногу.
– Может, за это время, пока ветер отнесет дым в сторону, я успею сбегать до гальюна и обратно?
За полосою дыма, невидимые, уходили немецкие корабли. Ветер разорвал дымзавесу на волокна – как спутанную пряжу.
– Вот они!
– Петряев, работай дальше! – крикнул Грапф артиллеристу…
– До минной банки всего полмили, – предупредил штурман.
Прямо по курсу с гулом вздыбнулось море: «V-99» взорвался. Еще взрыв! – на инерции хода он взорвался и на второй мине. Эсминец быстро погибал, оседая в море кормой, оттуда ревели тонущие… «V-100» пытался спасать людей, но это было слишком рискованно. К тому же «Новик» взял его под обстрел. Тогда «сотый» сделал самое мудрое – он побежал!
– Ямщики у них дерьмовые, – рассуждали сигнальщики…
– Отныне, – объявил фон Грапф, – прошу не говорить, что тип этих кораблей неизвестен. Теперь мы знаем им цену… По отсекам осмотреться. Подсчитать убитых и раненых.
Обратный доклад постов был блестящим:
– Повреждений нет. Убитых нет. Раненых не имеем.
– Вот так и надо воевать! – сказал фон Грапф и, растолкав всех у трапа, бросился через люк в провал мостика с хохотом: – Не мешайте, не мешайте… У меня срочное дело в низах!
* * *
На Кассарском плесе, где собирались русские корабли, даже днем светили огни сигнальных буев. Вражеские крейсера уже прорвались в Рижский залив, на рейде Пернова немцы затопили пароходы, груженные булыжником. Рижский залив был пустынен – Хиппер не встретил даже шаланды. Только под самой Ригой, помогая солдатам приморского фланга, остались две канонерки…
Только две! Две русские канонерки, прикрытые мраком теплой августовской ночи, пробирались вдоль берега к своим кораблям. Отрезанные от Моонзунда, они шли… в Моонзунд. Одну канонерку звали «Сивуч», а другую звали «Кореец».
Крейсер «Аугсбург» срезал им курс и осветил их прожекторами. По радио сразу же были вызваны на подмогу мощные линейные корабли. В потемках немцы приняли канонерку «Сивуч» за русский линкор «Славу» и обрушили на нее всю ту мощь, которая способна раздавить даже дредноут. Командовал «Сивучом» кавторанг Черкасов – человек удивительной красоты, мягкий и душевный, любимец команды и кают-компании. Он принял бой!
Шедшая концевой канлодка «Кореец» удачным выстрелом разбила рубки «Аугсбурга». Прожектора погасли, и, пользуясь суматохой, «Кореец» скрылся в ночи. Вся ярость врага обрушилась на одного «Сивуча». Русским матросам терять было уже нечего, и «Сивуч» вышел на самую короткую дистанцию боя, стреляя в упор (и так же в упор били его враги). Это была адская ночь…
«Сивуч» был объят пламенем до клотика. Внутри канлодки рвались боезапасы. Его палуба стала красной, и подошвы сапог сгорали у матросов. Левый борт раскалился добела: броня, касаясь воды, яростно шипела, не остужаясь. Красивый человек стоял на мостике «Сивуча» – при орденах, при оружии, при перчатках. Вокруг него лежали мертвые. Скоро от рубок и надстроек ничего не осталось – все разбросало взрывами.
Но – нет! Это еще не конец, и они сражались. Из пламени и дыма было слышно, как густо чавкают замки пушек, запирая снаряды в каналах стволов. Из пламени пожаров вырывались фонтаны огня – они сражались. «Сивуч» медленно погружался в море, и все яростнее шипела раскаленная сталь бортов, не вынося холода пучины. В облаке раскаленного пара, в котором корчились обваренные тела матросов, «Сивуч» уходил из жизни с честью…
С моря пришло от них последнее известие, переданное без шифра, открытым текстом, – пусть знают об этом все, даже враги:
ПОГИБАЮ зпт НО НЕ СДАЮСЬ тчк
* * *
Корабли на Кассарском плесе приспустили флаги и снова вздернули их до места, ибо отчаиваться было некогда. Люди плакали. На тральщиках. На эсминцах. Рыдал в каюте старый командир «Славы» каперанг Вяземский… «Сивуча» не стало!
– Я хорошо знал кавторанга Колю Черкасова, – сказал Артеньев. – Это был красавец, каких редко встретишь.
– И жена у него, – добавил Грапф, – бесподобная женщина.
– Вдова на пенсии! – заключил Колчак, дергая скулами…
Опять заработало радио: командир «Корейца» сообщал, что он окружен намного превосходящими силами противника. «Если можете, окажите помощь…» Колчак тут же дал ответ:
– Радируйте обратно. Помощи не будет. Точка. Погибать, запятая, но не сдаваться. Точка. Подписал – Колчак. Точка…
И кроваво сочились огни Кассарского плеса…
– Я хочу спать, – сказал Артеньев; закрыв глаза веками, темными от усталости, как медные пятаки, он пошагал по рельсам палубы своего миноносца.
* * *
Адмирал Хиппер устал.
– Вы тоже устали? – спросил он офицеров.
– Команды измучены до предела, – отвечали ему.
– Я понимаю…
Казалось бы, вопрос благополучно разрешен. Ирбены – этот золотой ключик от Риги – уже попал в цепкие руки кайзера.
– Но, – заметил Хиппер, – ключ не проворачивается в замке. С другой стороны рижских дверей русские вращают ключ в обратную сторону… Увы, эти Ирбены обескровили нас!
Хиппер изменил планы и вывел корабли не к Риге, а к Аренсбургу. Со стороны моря немцы стали крушить снарядами сады, музеи, грязелечебницы, курорты, гимназии и приюты для инвалидов. Аренсбург, совсем беззащитный, молча выстрадал невыносимую боль.
Русская подлодка отомстила Хипперу, всадив торпеду в борт линейного крейсера «Мольтке». Сразу началась паника:
– Перископы! Вокруг нас – русские субмарины…
Пачкая дымом горизонт, германская эскадра заторопилась назад – на Либаву, на Данциг. И всюду чудились им перископы: немцы обстреливали каждое бревно, плававшее стояком: они топили теперь каждую вешку, торчавшую из воды. Минуя Ирбены (ох эти Ирбены!), корабли кайзера еще несколько раз коснулись днищами русских мин, и калек в Германии заметно прибавилось.
У страха глаза велики! А на самом-то деле, уж если сказать сущую правду, в Рижском заливе держали тогда позицию только три старенькие субмарины – «Макрель», «Дракон» и «Минога». Правда, была еще одна лодка, блиставшая удивительной новизной, – родной брат знаменитого «Барса» по имени «Гепард», который только вчера совершил прыжок со стапелей завода в пучину.
В кипящем котле Рижского залива немцам удалось продержаться всего один день. Это был постыдный провал! Что-то непонятное и трудно объяснимое! Ничтожными силами Балтийский флот нанес жестокие потери большим силам флота Германии. И только сейчас, когда все утихло, комфлот Канин получил разрешение Ставки на ввод в сражение новейших дредноутов из Гельсингфорса.
Ставка опоздала на целых полмесяца, и Канин сказал:
– Теперь эта бумажка – как мертвому припарки. Бросьте ее в архив флота и забудьте как неудачную интригу…
Усталые русские корабли тяжко мотало на мутных рейдах.
«Победа! Она – призывная, она – бодрящая!»
– …О чем разговор? – утверждал Артеньев за ужином, впервые насытясь за эти дни боев. – Ригу способен сдать только предатель. Но среди балтийцев предателей не сыщется…
Эти слова отзовутся болью сердечной через два года – в семнадцатом, в героическом.
7
В числе пострадавших при операции был и крейсер «Тетис», на котором башенным начальником служил лейтенант Ганс фон Кемпке, этот неотразимый кильский Аполлон в широченных брюках. Взрыв русской мины застал Кемпке за тарелкой супа из вермишели, причем тарелка взвилась кверху, а стул выбило из-под него, будто скамейку из-под висельника, и он пришел в себя, сидя на полу с вермишелью в идеальной прическе. Когда же страх после взрыва миновал и стало ясно, что «Тетис» на воде держится, Кемпке ощутил себя мужчиной не только обольстительным, но и достаточно мужественным… Кое-как, хромая разболтанной машиной, они своим ходом дотащились до Либавы и здесь приткнулись к стенке судоремонтного завода, который раньше обслуживал русские подводные лодки.
В кают-компании «Тетиса» офицеры договорились:
– После Ирбен нас уже никто не осудит, если мы три дня подряд будем пьянствовать, как грязные берлинские фурманы…
Закрылись и три дня подряд пьянствовали, пока не кончились три бутылки коньяку. Потом фон Кемпке по телефону просил станцию соединить его с цукерней «Под одноглавым орлом»; Кларе он восторженно сообщил:
– А теперь, моя прелесть, мы станем видеться гораздо чаще!
– В газетах пишут такие ужасы, – отвечала Клара. – Все вы настоящие герои… Вы не ранены, мой дорогой Ганс?
– Нет, я убит! Мой труп из Ирбен прибило к Либаве…
В самом деле, если задуматься, жизнь спасена от риска ровно на тот срок, какой понадобится для капитального ремонта крейсера. Слава богу, что дырка в борту большая и ее так скоро не удастся заштопать. Вынужденная стоянка «Тетиса» в Либаве ускорила роман, который развивался по всем правилам. Поначалу они больше гуляли, тем более что Кемпке можно было считать красивым мужчиной, но его никак нельзя было причислить к числу мужчин щедрых… Чашечка кофе и пирожок со свекольным повидлом – это было уже пределом его мотовства!
Ладно. Бог с ним. Гулять тоже хорошо. И даже полезно.
(Ах, милая моя Либава, ты ведь всегда чудесна… Увижу ли я еще раз твои тенистые парки, твои старые каштаны, которые сомкнули кроны над тихими улицами? Как хорошо мне было тогда входить под зеленые прохладные своды и видеть в конце туннеля, шелестящего листвой, голубино-сизое море. Как печально тогда вздыхали далекие валторны оркестров, донося смутную печаль, суля разрыв ладоней, обидную холодность женских капризных губ… О, нежная моя Либава! Вернусь ли я к тебе?)
Но парящий горизонт моря гладили тогда тяжелые утюги германских крейсеров, чистоту неба мазали сажей немецкие эсминцы. Гневный ветер налетал на Либаву, продираясь через ветвистые кущи…
– Кажется, будет дождь, – сказала Клара. – Я думаю, лучше нам вернуться, пока не поздно. Сегодня я приглашаю вас к себе.
Душа Кемпке взыграла: «Зовет домой… Ага, понятно!»
Сухо и жестко, словно пророча беду, над Либавою громыхнул гром. От Готланда – через всю Балтику, – наползали тучи, выблескивая над волнами острые сабли молний. Ливень настиг влюбленных как раз возле ателье фотографа, где они и укрылись. Здесь было даже интересно. На диво собраны бутафорские чудеса, чтобы поразить воображение обывателя. Сунь голову в дырку ширмы – и ты уже летишь на аэроплане, похожем на этажерку, а под тобой – под героем! – сиротливо снует всякая человеческая мелюзга. Пролезь головой в другую дырку – и ты уже поскакал на жеребце в самую гущу жестокого боя, а под ногами твоего коня разрывается ужасная бомба.
– Как смешно, правда? – спросила Клара, оглядевшись.
Владелец фотоателье проявил некоторое беспокойство.
– Прошу вас в Ниццу, – сказал он, отдергивая штору. – Здесь у меня отделения для благородной публики… Не желаете?
Фон Кемпке слегка подтолкнул Клару:
– В самом деле, а почему бы вам не сделать портрета?
Для «благородных» и бутафория была иной: в отдельном кабинете на фоне пальмы расцветала божественная Ницца; ты должен облокотиться на античную тумбу, и рука твоя, вся в томном небрежении, пусть держит полураскрытую книгу… Допустим, ты отвлечен. Ты задумался о судьбах мира. О, как ты великолепен сейчас!
– Нет, – тихонько не согласилась Клара, словно испугавшись.
– Но я очень прошу, – настаивал Кемпке. – Как раз идет дождь. Нам все равно некуда деться. Снимитесь для меня. Я ведь уже сказал товарищам по кают-компании, что вы удивительная красавица. Дайте мне возможность удостоверить эти слова вашим портретом…
– Нет, дорогой. Я безумно не люблю, когда меня фотографируют. Из этой черной дырочки, которую на меня наводят, кажется, так и вылетит какая-нибудь пуля… Я не хочу. Я не люблю.
Она решительно раскрыла зонтик и шагнула под дождь.
* * *
Попав на квартиру кельнерши, фон Кемпке невольно притих и даже ослабел. Его, сына скромного регистратора при уездном бургомистре, в семье которого подливка к картошке считалась лакомством, поразила обстановка. Золоченная через огонь старинная бронза на извитой, как крендель, мебели одернула Кемпке так, словно он предстал перед высоким титулованным начальством.
– Откуда у вас… вот все это?
Она даже не поняла его. Он объяснил.
– Ах, этот хлам! Боже, но такие вещи собираются трудом поколений. С жалованья кельнерши «мегагень» не покупают. Когда-то у нас были и свои дома… в Либаве, в Ковно. Мой дед владел гостиницей в Ревеле. Увы, все в прошлом. Вы наблюдаете, Ганс, лишь жалкие остатки прежнего… Вообще, – призналась Клара, – у меня жизнь сложилась крайне неудачно.
– Кто виноват?
– Не знаю. Очевидно, сама и виновата…
Кемпке с огорчением выяснил, что Клара уже мать – у нее маленькая девочка. С большой неохотой, едва цедя слова, женщина призналась ему в своем сожительстве с одним офицером флота.
– Флота? – переспросил Кемпке, начиная ревновать.
– А что тут удивляться? – Она предложила вина, с удовольствием выпила сама и, кажется, быстро пьянела. – Такова уж судьба почти всех либавских женщин. Еще гимназистками, едва пробудятся чувства, они ежедневно видят перед собой блистательных, ловких и богатых офицеров флота. В театре, в церкви, в парке – всюду они встречают офицеров с кораблей, которые пришли в Либаву сегодня, а завтра уйдут опять…
Кемпке стал осторожненько выспрашивать – кем был этот обожатель Клары? в каких чинах? где плавал? Она отвечала рассеянно:
– Я плохо в этом понимаю что-либо. Знаю только, что мой сожитель не плавал. Он, кажется, состоял при штабе адмирала фон Эссена, который недавно умер, если можно верить газетам.
– Фон Эссен? Сам командующий Балтийским флотом?
– Да. Он при нем что-то делал. По секретной части…
Далее она заговорила с явной горечью:
– У меня в роду все перепуталось. Столько наслоений, столько религий, трагедий. Одно колено враждовало с другим. И дед смотрел на Россию, а бабка на Германию… Одна из моих теток даже удрала в цыганский табор, там и пропала навсегда. Для девушки из такой семьи билет на бал в Морском собрании офицеров очень многое значил в жизни. Почти все…
Кемпке еще прошелся по комнатам. Вернулся с вопросом:
– Клара, не отрицай – ведь ты его любила?
Губы женщины, розовые от вина, задрожали:
– Очень. Но сейчас… ненавижу!
– Что он сделал тебе худого?
– Он подлец, как и все эти русские. Три года он скрывал от меня, что в Петербурге у него жена. Дети… куча детей! Но теперь, – заключила Клара, – все это кончилось. Я свободна теперь. И хорошо, что кончилось именно так: они ушли, а вы пришли…
Последнюю фразу женщины Кемпке истолковал на свой лад и попросил разрешения остаться ночевать. В нем даже проснулся юмор флотских кадетов времен герцога Каприви.
– Клара, – предложил он, стукаясь своими острыми коленями об ее круглые колени, – послушай, Клара, не закоптить ли нам стекла в этом чудесном домике?
– Возвращайся на свой «Тетис», бродяга, – отвечала женщина, охмелев. – Ступай… Да. И зашивай на нем пробоину… Боже, до чего это смешно – зашивать корабль, будто рваное платье. Нет, милый Ганс, – погрозила она ему пальцем, – только не сегодня. Мы еще будем вместе, но… потерпи, дружок.
На прощание она его поцеловала:
– Либава уже ваша, и вместе с Либавой вам досталось такое сокровище, как я… Ха-ха-ха! Я еще тебя осчастливлю.
Уходя от нее, Кемпке счастлив никак не был.
– Ты еще не забыла его? Скажи – мне не ревновать?
– Он бежал из Либавы, даже не простившись со мной. Иногда я натыкаюсь в своем доме на его вещи, и мне, поверь, противно.
– Ты мне потом покажи его вещи, – попросил фон Кемпке, ревнуя, однако. – Может, что-либо из этих вещей пригодится для меня. Тебе будет не жалко с ними расстаться?
– Милый Ганс, да забери ты хоть все!
Дверь закрылась. Женщина осталась одна. Она допила вино.
Потом долго бродила по комнатам, размышляя…
О чем?
* * *
В Либаву снова прибыл гросс-адмирал принц Генрих Прусский. Хиппер водил его, как туриста, по кораблям, принцу показывали сквозные пробоины бортов, он видел разрушения надстроек. В грудах искореженного железа еще подсыхала кровь, уже загнившая, и куски человеческих тел. Его высочество, почти помертвелый в недоумении, исследовал работу русских мин типа «08(15)», от взрыва которых гребные валы выбивало из дейдвудов, а плоскости рулей гофрировало в гармошку. Русская артиллерия еще раз подтвердила свой первый класс по самым высоким мировым стандартам: русский снаряд – страшный снаряд. Порою в борту зияла небольшая скважина, в которую с трудом просунешь кулак, но загляни внутрь – и ты увидишь, какой кромешный хаос произвел русский снаряд внутри корабля…
Впечатление было незабываемое. Принц Генрих поскучнел.
– Это катастрофа, – сказал он. – Отныне, пока господь бог не пошлет нам в дар Ригу, пока не десантируем на Эзеле и Даго, все крупные операции флота на Балтике я строго запрещаю. Отныне порядок таков: увидели один русский корабль в море – бейте его, если вас двое; увидели два корабля русских – удирайте на всех парах, даже если вас трое…
Так закончился прорыв германского флота через Ирбены.
В этот приезд гросс-адмирал останавливался, как и раньше, в доме своей давней знакомой – графини Тизенгаузен, один сын которой служил на русских подлодках, а другой плавал на германском крейсере «Мольтке». Мать этих офицеров до войны была хорошо принимаема как в Потсдаме, так и в Царском Селе… На этот раз внимание принца Генриха в доме почтенной старухи сосредоточилось на серебряных ложках времен польского короля Сигизмунда, которые он и увез в своем чемодане. Престарелая графиня, подзавив на висках букли и напудрившись, отправилась в штаб Генриха Прусского с упреком:
– Я бы подарила эти ложки его прусскому высочеству, скажи он мне хоть слово, но… зачем же увозить их тайно?
В штабе ее успокоили – не совсем-то логично:
– А вы разве не рады, мадам, что наш германский принц, брат самого кайзера, выразил симпатию к вашим ложкам?
Симпатия его высочества к ложкам и вилкам была настолько выразительна, что лучше этой темы далее не развивать. Из Либавы принц Генрих на автомобиле совершил инспекционную поездку вдоль Курляндского побережья. Черные скелеты расколоченных минами кораблей, которые торчали костями шпангоутов на отмелях, навевали мрачные мысли. Стоя на берегу перед Ирбенским проливом, гросс-адмирал видел в тумане затаенные тени – это русские корабли уплотняли свои минные поля, в которых Хиппер с таким трудом недавно прогрыз фарватеры. Возле мыса Домеснес принц в бинокль долго рассматривал даль.
– Даже не верится! Но, кажется, я вижу отсюда Церель – южный хвостик Эзеля, и конечно же, русские поставили там батареи. Азиаты нас переиграли в этом споре… Господа, – произнес он оперативную декларацию, – время активных действий нашего флота на Балтике кончилось: пора замкнуться в жесткой обороне и больше не рисковать… вплоть до лучших времен!
Под осень, когда над Балтикой уже потянулись караваны птиц, русский флот перешел к активным действиям.
8
Над рижским штрандом уже текли газы. Тыловые госпитали были завалены эшелонами искалеченных. Газеты рекламировали совершенные протезы: со снимков, устрашая обывателя, глядели люди – наполовину из железок, шарниров, кожи, проволоки и гуттаперчи; они позировали перед сапожными колодками или с рубанком в культе, словно пытаясь уверить других, что так жить тоже можно.
Много было слепых. У иных глаза выжгло огнеметами. Но были и слепцы, отравленные водою из курляндских колодцев. Были отравленные коровьим молоком на баронских мызах. Врачи предполагали действие больших доз атропина. Но после атропина зрение, как правило, со временем восстанавливалось. Однако для этих слепцов мрак оставался вечен… Они плакали:
– Мы же с ними по-божески – и деньги за молоко дали!
В этом году во всем своем ужасном безобразии стала понятна идея «двойного подданства». Потомки крестоносцев – псов-рыцарей, осевших в Прибалтике, – считали своей праматерью Германию, хотя зарабатывали чины и награды от России. Стало уже модой, чтобы один сын барона служил кайзеру, а другой царю (иногда, послужив в русской армии, они перекочевывали в немецкую). Сейчас, когда колонны Гинденбурга захватили Курляндию, бароны внятно заговорили об аншлюсе – присоединении Прибалтики к рейху.
Это были не пустые слова – бароны действовали. Нахально действовали. Средь бела дня в приемных министерств Петербурга они собирали пожертвования для инвалидов войны, а собранные денежки отправляли в Берлин… для строительства новых подводных лодок. Эзельский предводитель дворянства Оскар фон Экеспарре давал сигналы немецким кораблям о приближении русского флота к Ирбенам. Он был членом Государственного совета и гофмейстером – нерушимая фигура! Русская контрразведка все ногти себе в кровь изодрала, выцарапывая Экеспарре из Зимнего дворца, чтобы отправить его в Сибирь… Лифляндский предводитель дворянства барон Адольф Пиллар фон Пильхау тоже был гофмейстером и тоже членом Государственного совета, – главарь всего германского шпионажа в России, кандидат на пост кайзеровского гаулейтера в Прибалтике, когда идея аншлюса станет осуществима…
Русские подводные лодки теперь шатались возле берегов – выискивали подозрительные сигналы с прибрежных имений баронов. Курляндское дворянство ставило – нагло! – высокие маяки, по которым ориентировались германские крейсера и минзаги. Русские летчики, нацепив на крылья своих аэропланов германские черные кресты, кружили теперь над озерами Курляндии. На обширных дворах баронских усадеб для них раскладывали посадочные знаки. Они смело садились и – в ярости! – начинали пальбу из револьверов направо и налево: бей любого – здесь все предатели!..
В эти дни в Государственной думе, защищая российских немцев, выступил адвокат Керенский, и его горячо поддержали барон Гамилькарфон Фелькерзам (тоже думец).
– На лопату их… обоих! – реагировали балтийцы.
До самой осени 1915 года главнокомандующим в России был великий князь Николай Николаевич – родной дядя императора. Это была фигура жестокая, властолюбивая и чрезвычайно популярная в кадровом офицерстве армии и флота. Когда-то, занимаясь оккультным столоверчением, великий князь «вывел в люди» Гришку Распутина, тогда еще тишайшего хлыста, не носившего ярких кумачовых рубах и сапог с нахальным скрипом. Гришенька тогда ему длань целовал раболепно, а теперь… Теперь он говорил Николаю II:
– И что это, как ни послухаешь, всюду про дядю тваво говорят. А про тебя словечка путного не скажут. Нешто спустишь?
Не спустили. Николая Николаевича загнали наместничать на Кавказ, а император «возложил» на свои полковничьи плечи тяжкий груз главнокомандования. Чего он хотел этим добиться? Увы, вряд ли мы узнаем точно. Об этом надо было спросить у его жены Алисы Гессенской, которая внушала ему – пренастырно:
– Ники, ты должен быть как Иоанн Грозный…
К этому времени, под конец второй военной кампании, на флоте уже было принято презирать людей, которые хорошо отзывались об императоре. На верноподданных моряки смотрели как на последних идиотов. Это поветрие коснулось не только матросских кубриков, но и большинства кают-компаний (особенно на Балтике). Императора старались уже не называть «величеством», а говорили просто – «суслик», и всем было понятно, о ком идет речь. Офицеры рассуждали открыто, даже не стесняясь вестовых:
– Император у нас глупенький мальчик, но… что поделаешь? Ума ведь у приятеля не займешь и на базаре его не купишь. Дураков на Руси не сеют – они сами произрастают. И зачем он, дурак, ввязался в это главнокомандование? Или решил взять пример со своего друга – колбасника-кайзера?
Петербургские же газеты сообщали о царе почтительно:
ВЧЕРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛ ПРИЕХАТЬ
ИЗ СТАВКИ В ЦАРСКОЕ СЕЛО.
Проходило несколько дней, и следовало новое сообщение:
ВЧЕРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛ ПРИЕХАТЬ
ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА В СТАВКУ.
Между Могилевом и царской резиденцией, в бестолочи военных магистралей, где ревели на стыках расхлябанные эшелоны, император раскатывал, словно коммивояжер прогоревшей фирмы. Блиндированный салон-вагон, роскошно убранный изнутри, мотало по разбитым колеям… «Фирма» великой Российской империи имела большую и славную историю, но сейчас ее поджидал крах полного банкротства, и никакие радения Распутина не могли отсрочить ее гибель.
…В один из осенних дней крейсер «Россия» начал бунт.
– Долой всю немчуру с флота! – кричали матросы-российцы.
Большевики примкнули к восставшим. Только для того, чтобы сразу же погасить это стихийное выступление. Рано – еще не пришло время! Никого из бунтовщиков не судили, лишь нескольких «российцев» списали на сухопутье – в батальоны добровольцев под Ригу. Ушел в окопы «охотником» и Павел Дыбенко…
Близился конец кампании.
Похолодало. Иногда подмораживало.
* * *
Шкала Бофорта все предусмотрела: когда ветер от пяти баллов начнет поджимать к семи, тогда штурмана еще спокойны.
– Свежий ветер переходит в крепкий, – говорят они.
Чашечки анемометров начинают вращаться с такой быстротой, что не видны простому глазу. Жмет под восемь баллов.
– Очень крепкий, – говорят штурмана.
Скорость ветра уже за 20 метров в секунду, и – тогда:
– Шторм…
Эсминцы – как длинные скользкие рыбины, всплывшие подышать на поверхность моря. С мостиков видно, как под ударами волн они изгибаются изношенными телами стальных корпусов. Штормовые леера, протянутые над ними как бельевые веревки, то провисают над палубой в дугу, а то натягиваются в дрожащие гитарные струны.
– Ох и гнемся! – сказал адмирал Трухачев, глянув вниз.
– Шпангоута два нам сегодня сомнет, – согласился Грапф.
– Мы уже мятые, – невозмутимо заметил Артеньев…
Под палубой «Новика» засел эскадрон спешенных драгун.
– Ну, как там они? – интересовались на мостике.
– Да понемножку травят. Спрашивают у наших матросов, сколько за такую каторгу платят…
Мористее шла величавая «Слава», ветер теребил на ее пушках громадные парусины чехлов. Черпали воду низкими бортами канлодки «Грозящий» и «Храбрый». С палубы авиаматки «Орлица», словно короткие мечи, срывались в небо юркие «ньюпоры» на поплавках. В кабинах самолетов сидели рыцари без страха и упрека – с погонами мичманов на плечах кожаных курток; мамы у этих ребят были еще такими молодыми, что не грех за ними и поухаживать. Над кораблями запускали змея с наблюдателем, и змей парил в облаках, а в его четком квадрате виднелась фигурка человека – распятая, как Иисус Христос на кресте… Смелый дядька, ничего не скажешь!
– Вообще-то, – заметил адмирал Трухачев, зябко поеживаясь, – кажется по всему, что небесная проблема еще не разрешена: кто победит в этом споре – воздухоплавание или же воздухолетание?
За мысом Домеснес, прикрытые калибром «Славы», корабли сбросили на курляндский берег матросский десант. Пошли на берег и зеленые от качки драгуны, быстро оживляясь при виде твердой землицы. Вдоль побережья началась дикая битва на штыках, и немцы бежали. Балтийцы взорвали форты и батареи врага. Пулеметная команда добровольцев со «Славы» разогнала всех немцев по лесам и болотам. Гоня перед собой большое скопище пленных, десант вернулся на корабли… Отличная была операция!
Потом корабли ушли под Ригу и стали гвоздить оборону противника. Казалось, русский флот хотел возместить в войне то, чего не хватало армии, – снарядов они не жалели! «Слава» с эсминцами густо клала свои залпы в глубину. На семнадцать километров от моря корабли перемешали с землей и навозом немецкие блиндажи, в которых немцами было припасено на зиму все, начиная от дойных коров и кончая роялями.
Неожиданно для всех над рубками «Славы» фукнуло огнем (издали – словно чиркнули спичкой). Броненосец пошатнулся всей своей многотонной массой, а пушки его замолкли. Трухачев заволновался:
– Сигнальцы! Отщелкайте им: «Что у вас. Вопрос».
Мостик «Славы» не отвечал. Начальник Минной дивизии велел Артеньеву быстро смотаться на линкор катером – выяснить.
– Будет исполнено, Павел Львович…
Случайный снаряд, пущенный с берега наугад, оказался роковым. Он влетел через броневую прорезь внутрь боевой рубки. В самой гуще людей и техники он лопнул, опустошая все вокруг себя. При Артеньеве лопатой выгребали то, что осталось от людей. Одному матросу-визирщику срезало осколком лицо и влепило его в броню с такой страшной силой, что искаженное ужасом лицо – отдельно от человека – повисло на переборке, словно портрет в рамке из заклепок. Артеньев поднял из-под ног орден Владимира с мечами.
– Это флагарта, – пояснил сигнальщик. – Кавторанг Свиньин при орденах и кортике был. А наш… так. Он не сиял.
«Слава» потеряла своего отважного командира. И вспомнил тут Сергей Николаевич, как любил говаривать о себе скромный умница каперанг Вяземский: «Я не сиятельный – я старательный…»
Катером Артеньев быстро вернулся на свой эсминец.
– Ну, что там, старшой? – тревожно спросил его Трухачев.
– Как японская шимоза. Изрубило людей в сечку. Всех!
– Ну-у, так уж и всех? – не поверил фон Грапф.
– Всех, кто был в рубке. Восемь матросов еще живы. Но кто без руки, кто без глаз… Я же говорю вам – в сечку!
Адмирал снял фуражку, крестясь богомольно. Губы его, серые от холода, вытаптывали молитвы. Грапф от телеграфа крикнул:
– Павел Львович, накройтесь… простудитесь!
– Тут людей на лопате гребут, а вы мне о простуде. Воображения у вас нет, Гарольд Карлович…
«Слава» опять ожила и открыла огонь по врагу. Оттуда передавали, оповещая флот, что в командование линкором вступил лейтенант Марков. Никто этого Маркова не знал, но «Слава» стреляла при нем отлично – как и при Вяземском…
Над Балтикой летел ветер – то свежий, то крепкий.
Корабли возвращались, имея по левому траверзу Кеммерн.
– Курортный сезон закрыт, – печально произнес Трухачев. – А ведь еще недавно тут кипела жизнь. Боже, сколько здесь моя жена истратила денег на разную чепуху. А моя дочка перед войной первое свое стихотворение напечатала в «Кеммернском сезонном листке». Не думаю, конечно, чтобы из нее получилась новая Сафо… Гарольд Карлович, – сказал он, – я спущусь. Извините. Озяб.
Артеньев напутствовал начальника Минной дивизии:
– Осторожнее на срезе полубака, там моет волна.
– Кого учишь? – буркнул Трухачев. – Старого миноносника?
Под запотевшим стеклом кренометра неровными скачками гуляла стрелка. «Новик» широко мотнуло на очередной волне, и Трухачева всплеском воды из-за борта сорвало с переходного трапа. Даже на мостике услышали сочный шлепок адмиральского тела – будто кусок сырого мяса швырнули на прилавок.
Артеньев видел все это с высоты и сорвал трубку телефона.
– Док! – сообщил в лазарет. – С носилками под полубак!
– А что там стряслось? – спросил сонный голос.
– Обычная история на миноносцах…
Подхватив Трухачева с палубы, матросы затащили его в кают-компанию, положили на диван. В зрачках иллюминаторов колебалась сизая плоть воды. Доктор прибежал, растерянный спросонья, рвал на адмирале штанину, было видно – перелом ноги.
– Вам не повезло, Павел Львович: возле бедра!
– Боже, – переживал Трухачев. – В такое время…
Чтобы сдать адмирала в хороший госпиталь, «Новик» зашел в Ригу, зашвартовался прямо к набережной. Здесь уже поджидал их штабной автомобиль марки «рено», в котором сидел Колчак.
Когда мимо него проносили Трухачева, Колчак взмахом руки задержал санитаров с носилками. Нагнулся и поцеловал начдива:
– Павел Львович, желаю скорей поправиться.
– Минная дивизия… моя дивизия… кому достанется?
– Минную дивизию от вас принимаю я!
Новый начдив за боевые действия у Кеммерна заработал вскоре Георгиевский крест. Вокруг имени Колчака газеты подняли шумиху.
Россия начинала свое знакомство с Колчаком.
Пока что – как с джентльменом, как с кавалером.
Колчак еще не раскрылся…
9
«Гангут» вернулся в Гельсингфорс, когда прибрежные острова финской столицы уже накрылись одеялами первых снегов. К борту линкора буксиры сразу же подтянули баржи с «черносливом». Опять завыли трубы оркестра, залязгали медные тарелки, огромная дурында геликона бубнила свое: пуп-пуп… поп-поп!
Опять роба на голое тело, тряпками обмотаны шеи, полотенцами обертывались матросы в паху, чтобы спастись от разъедающей тело угольной пыли. Двенадцать часов подряд сновали по трапам люди, уже потерявшие человеческий облик… Черные, как негры!
– Бегом, бегом! – покрикивал на них Фитингоф, тоже весь черный, высматривая нерасторопных через стекла очков.
На днищах барж лопатами сыпали уголь в мешки, окантованные для прочности веревками. Вязали их в замкнутую цепь по двадцать мешков сразу, вроде конвейера. Вира! – и наверху мешки принимали на свои плечи матросы. Бегом, бегом, бегом… А в каждом таком мешке, как ни крутись, шесть пудов с гаком. Опустошенные баржи отошли, но к борту «Гангута» тут же подвалили еще четыре угольных лихтера.
– Дайте передых. Завтра перекидаем, – взмолились матросы.
– Начи-и-и… ай! – отвечал Фитингоф.
Наконец и эти баржи разгрузили. Люди валились с ног.
– Теперь авральная приборка… быстро, быстро!
Все этот день шло на износ души и тела. Нервы уже лопались. Приборку тоже закончили. Пошли по баням, срывая с себя на ходу черные хрустящие панцири роб. А в бане, как назло, углем засорило водостоки. Уровень грязной мыльной воды, в которой плавали мочалки, поднимался матросам до колен. Стали орать на трюмачей, чтобы прочистили фаны. Трюмные по оплошности дали в души забортную воду, которая обожгла голых людей холодом пучины. А горячей воды из котлов линкора совсем не дали. Приближался ужин…
После угольной погрузки – по традиции! – положены макароны.
Но сначала мы приводим точный исторический факт, закрепленный в анналах партийной истории флота.
Вот она, эта истина: ни офицеры «Гангута», ни зубодробитель фон Кнюпфер, ни сам барон Фитингоф – не они, а именно команда «Гангута» шла на все, чтобы в боевой обстановке не обострять отношений между низами команды и верхотурой кают-компании. Большевики, сколько могли, сдерживали стихию гнева.
Но всему есть предел. Предел терпению положила «606».
Вот теперь, читатель, мы начинаем бунт!
* * *
Флигель-адъютант Кедров как-то странно понимал свои обязанности командира. Отстоял положенное у телеграфа на мостике, а там… хоть трава не расти. Вывел «Гангут» в море, привел «Гангут» с моря – точка. Дальше пускай крутится барон Фитингоф…
Бывают дни в жизни человека, когда все идет кувырком, чтобы под вечер разразился жестокий скандал с битьем посуды и хорошим мордобоем. Такое же назревание страстей случается порой и с целым коллективом. Сегодня на «Гангуте» обстановка была явно раскаленной, но Кедров не заметил, что палуба уже обжигала пятки – снизу, от кубриков. Когда склянки отбили к ужину, каперанг стал собираться на берег – к жене.
– Катер – под трап! Иду в город…
Он готов к любви. Осталось лишь повязать под воротничком тесемки галстука, но тут заявился в салон старший офицер.
– Михаил Александрович, – заметил Фитингоф обеспокоенно, – я бы попросил вас сегодня ночевать на корабле. У камбуза растет недовольство, и… можно ожидать беспорядков.
– Глупости! А в чем дело?
– Бачковые отказываются разбирать кашу по бачкам.
– Кашу? Но после угольного аврала положены макароны.
– Нету макарон, – стонуще отвечал Фитингоф. – Сегодня опять ячневую сварили… Я опробовал. И одобрил к раздаче.
Галстук наконец завязан. Золоченые ножны кортика бились у лампаса штанов, нежно и тонко названивая, о любовном свидании. Лайка перчаток ласкала взор, сминаясь в ладони, как бархат. Боже, какое это счастье для мужчины, когда он спешит к жене каждый раз – как к любовнице, пылкой и ожидающей его…
– Не понимаю вас, Ольгерт Брунович, – сказал Кедров, берясь за фуражку. – Я же не баталер. И не стану открывать для них консервы из зайчатины. Когда мне в ресторане подают антрекот не по вкусу, я не ем его, но… я не делаю из этого трагедии!
Фитингоф настырно уговаривал каперанга остаться сегодня на корабле, а за дверями салона лаял дог, дожидаясь хозяина.
– Каша-то… ячневая! – говорил барон. – «Шестьсот шесть», от нее и в будни носы воротят… Это, простите, не антрекот! А наш «Гангут», покорнейше извините, это вам не ресторан!
Кедров взглянул на часы – жена уже изнылась в ожидании.
– Ах, ну что мне до этого? Каша ячневая, каша манная, каша рисовая… так можно без конца. Итак, барон, до завтра.
– Постойте, – плачуще позвал его старший офицер. – Вы хоть посоветуйте мне, что делать, если каша у нас заварится?
– Выбросьте ее за борт!
Под парусиновой пелериной капота катер с Кедровым помчался к городской пристани. Фитингоф огорченно вздохнул, а со стороны камбуза уже доносились возбужденные выкрики:
– Пущай «шестьсот шесть» сам Фитингоф трескает. Где он, сука немецкая? Я ему сейчас весь бачок на лысину выверну.
* * *
В жилой палубе гальванных специалистов стучали ложки голодных матросов. Осталось как-нибудь отволынить вечернюю молитву, разобрать койки с сеток и спать, спать… Полухин спросил:
– Кто у нас бачкует сегодня? Чего не идет?
– Ваганов бачковым. Там какая-то заваруха у камбуза…
С подволока кубрика спущены столы, и теперь они качаются на цепях, звеня мисками. В ожидании макарон гальванеры щиплют хлебушко, окуная его в казенные плошки, где – по традиции флота – томится нарезанный лук в растворе соли. Все молчат. В руках дрожня. Если что скажут – резко, отрывисто, будто бранятся.
– Какого хрена бачковой не идет? Сдох, что ли?
– Небось, гад, по дороге подливу с макарон слизывает…
Бачковой Ваганов вернулся от камбуза подавленный и с грохотом швырнул на стол медный бачок – пустой!
– Все не брали, и я не стал брать. Сегодня снова «шестьсот шесть», а макарон нету… Говорят – кончились.
А за столом гальванеров сидело немало большевиков.
– Сожрем и «шестьсот шесть», – отвечали. – Макароны эти – кошкам под хвост. Нельзя, чтобы макароны работу нашу губили.
Семенчук, угрюмый, быком вздыбнулся над столом.
– Это… вы! – сказал. – Вы понимаете. А команда того знать не желает. Из-за такого дерьма карусель-то уже крутится…
– Даешь макароны! – доносилось через люк. – Бей немцев!
– Слышите? – навострился Полухин. – Эти лозунги от желудка, а не от разума. Это от морды битой, а не от грамотности шибкой.
Трапы долго гремели под матросскими бутсами. Кубрик опустел, и долго в безлюдье, словно доска деревенских качелей, мотался на цепях железный стол, свергая на палубу миски, хлеб и соль с луком. В самый последний момент большевики договаривались:
– Влезать нам в эту кашу? Или… посторониться?
– Влезай, братва! – решился Полухин. – Но старайся, чтобы команда только от ужина отказалась. А дальше – удерживай…
Возле камбуза – толпа; здесь и Фитингоф – с увещеваниями:
– Я согласен, что масла можно добавить. Я согласен…
Но замаслить бунт не удалось. Из боевой организации команды, живущей, как в тисках, по регламентам вахт и приказов, вдруг выросла стихия, никому не подвластная.
* * *
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИГОВОРА СУДА
ПО ДЕЛУ ГАНГУТСКОГО БУНТА:
«…все кричали: „Бей немцев!“ Кузьмин кричал по адресу инженер-механика мичмана Шуляковского:
– Ребята, бейте Шуляковского по роже!
Мазуров кричал по адресу одного из офицеров, уговаривавших команду разойтись:
– Что вы его тут слушаете? Бей его, дурака, в рожу!
Посконный кричал по адресу лейтенанта Христофорова:
– Да что вы на него смотрите? Бей его в рожу!
При этом Макуев кричал по адресу старшего лейтенанта барона Фитингофа:
– Бей немцев! Не надо нам немцев и старшего офицера!»
* * *
Из коридора кают-компании телефонный шнур ползет на корму линкора, там он прыгает на бочку, которая качается на волнах заякоренная, от этой бочки провод бежит по дну залива – прямо в город, и тишину гельсингфорсской квартиры взрывает звонок:
– У нас забастовка! – сказал Фитингоф Кедрову. – Умоляю… Необходимо ваше присутствие на корабле.
– Дорогой Ольгерт Брунович, но я уже в халате. Я…
– Михаил Александрович, – не дал ему договорить Фитингоф, – сейчас команда должна видеть вас в мундире. И при оружии!
Когда бунтует эсминец – это бунтует лишь рота. Можно подавить восстание на крейсере – как в батальоне. Но гораздо сложнее с плавающей крепостью линкора, на котором за стенкою бронированных фортов во всеоружии засела целая дивизия.
– Господа, – заявил Фитингоф в кают-компании, – прошу оставить розовые надежды, что макароны могут исправить положение с ячневой кашей. У нас, если хотите знать правду, даже не бунт… Потемкинщина! Да, да. Та самая, которая однажды обернулась позором для России…
Фитингоф хотел что-то сказать еще, но махнул рукой:
– Поздно… разбирайте револьверы!
От пианино рванулась к нему тень мичмана Карпенко:
– Нет! – вскрикнул он, подбежав к барону.
– Что значит «нет»? – набросился на него старшой. – На ваших плечах, мичман, погоны или ангельские крылышки?
– Нет! – твердо повторил Карпенко. – Я говорю вам нет, ибо нечестно проливать русскую кровь на палубе русского корабля. Она должна быть пролита лишь в битве с врагами.
«Романтичный юноша…» Фон Кнюпфер положил на плечо Карпенко свою боксерскую лапу и дернул мичмана к себе:
– Врага вы и во сне видели. А он… здесь! Не прольете вы ему кровь, так он прольет сейчас кровь вашу… Выбирайте!
Ничего не понимая, что происходит сегодня, остервенело лаял на всех фитингофский дог. Дневальные обходили корабль, уже отсвистывая на дудках обычный призыв:
– Ходи все вниз – на молитву!
Семенчук мотался по трапам, исступленно крича:
– Давай все в церковь… ходи вниз!
– А что там будет? – спрашивали его.
– Не знаешь, дура, что в церкви бывает? Митинг будет…
Матросы всегда волокитничали, чтобы не отбывать повинности богослужения. Но сейчас церковная палуба – как переполненный трамвай. Жарко было. Теснотища адова. Стояли плотно – в стенку, и эта стенка живых тел слегка покачивалась (в такт раскачиваниям дредноута). Пришли и офицеры. В мерцании икон, перед ликом святых угодников сошлись – не для молитв, конечно же. Сошлись, чтобы драку продолжать. Обнажив головы, вразброд – через пень колоду – отбоярили молитву. Но, разрушая песнопение, летала над головами тяжкая брань и метались злобные выкрики:
– А макароны кады давать станут?
– Братцы, ой, дохну! Ноги не держат…
– Я голодным на царской службе спать не лягу!
Богослужение использовали для своей агитации большевики.
– Кончай эту баланду, – шелестел за киотами шепот Полухина. – От «шестьсот шесть» отказались, и крути машину назад. Помните, что царь не пожалеет лучшего линкора России – вас угробят торпедами, и кандалы всем обеспечены. Подумайте, что рано еще!
И на всю церковную палубу – словно по железу запустили стальной брусок – рвануло диким выкриком Семенчука:
– Братцы, не суйся башкой в петлю! Не пришло еще нам время!
Кто-то из матросов смачно харкнул ему в лицо:
– Шкура! За начальство выгребаешь? Мало тебе этих лычек? Шапку с ручкой захотел, чтобы пофорситься?
– Дурак, – вытерся Семенчук. – Я же тебя сберегаю…
Гангутский батька взмахнул кадилом – большим, как макитра.
– Которые тута верующие, – провозгласил трубяще, – теи да престанут лаяться. Иначе любого из вас, гавриков, вот шарахну по кумполу, чтобы бога – бога-то! – не забывали…
Отмолились во славу божию. После, как всегда, сигнал:
– Койки брать – всем спать!
* * *
– Не бери койки! – раздавалось. – Не ляжем спать!
Койки стоят на верхнем деке, свернуты в тугие коконы, согласно уставному стандарту. Стоят рядами, как шпульки в ткацких челнах, все пронумерованы. Койки ждут или разбора ко сну, или гибели корабля (каждый такой кокон держит матроса на воде двадцать минут). Но сегодня разбора не состоялось. В низах дредноута вспыхивали драки. Взявших койку заставляли тащить обратно и ставить в сетки. Кое-где уже блеснули потаенные ножи, разрезая на койках шкентросы, и под ноги бунтующих теперь сыпались пробковые матрасы, тощие подушки и рыжие одеяла…
– Не смей койки брать! Мы еще не ужинали!
Эти проклятые макароны породили бунт. Но бунт стал вызревать в восстание, когда по «Гангуту» разнесся призыв:
– Все – к пирамидам! Брать винтовки из кают-компании…
Полухин понял, что можно в кровь разодрать себе горло, убеждая людей, – ничто сейчас не поможет. В машинном кубрике отыскал своего товарища – электрика Лютова:
– Запахло жареным. Делать нечего – руби динамо!
– Подумай, Володька, – предостерег его машинист.
– Уже думал. Если рванутся наши к пирамидам, так коридор узкий… всех перестреляют из кают-компании. Руби свет!
– Когда стопить динаму?
– Давай на стоп, как рында жахнет…
С ударом склянок динамо-машины дредноута провернулись в последний раз, и, воя на гаснущих оборотах, роторы их прекратили подачу тока. «Гангут» сковало параличом. Гигантский комбинат техники замер – не провернешь орудий, лифты не подадут к ним снарядов, из автоматов вынута их душа – токи! Тускло и медленно, как в покойницких, где лежат мертвецы, под матовыми плафонами едва разгорелись лампы аварийного освещения – от батарей.
С мостика «Гангута», усиленный мегафоном, разносился голос:
– Эй, на «Полтаве», эй, на «Севастополе»! Братья-дредноуты, мы восстали… Говорит восставший «Гангут»: поднимайтесь и вы, встанем бригадой… Кровососов и скорпионов – за борт!
И неустанно гремела под мостиком рында. Но затемненные силуэты кораблей-братьев, кораблей-близнецов, порожденных одной матерью-верфью, от одного отца-народа, – эти силуэты не осветились сочувственным заревом. Безмолвие… там дрыхли, как окаянные сурки, замотав головы в казенные одеяла. Только по срезам палуб мерцали карманные фонари – это обеспокоенно расхаживали офицеры, загоняя случайных зевак обратно под настил брони казематов.
Кедров с берега еще не прибыл. Фитингоф – за него:
– Набьем карманы патронами и… с богом! с богом!
Грозя револьвером, он стал разгонять матросов по кубрикам:
– Расходитесь по низам… всем спать, спать, спать!
– А ты в рожу не хошь? – кричали ему, увертываясь.
И во мраке ночной взбаламученной палубы плясала перед бароном длинная фигура босого матроса в кальсонах, который выбрасывал в лицо Фитингофу слова, как плевки:
– Вот тока мне стрельни! Вот тока нажми… Я, хад, в аппарате мину по пистону шарахну. Взорву тебя с этой каталажкой!
Фитингоф задрал голову в сторону верхних рубок:
– Вахтенный офицер! Это вы, Королев? Наклоните же прожектор над палубой… осветите мне эту сволочь, которая сеет…
Кусок антрацита резанул над ухом старшого. С мостика брызнули на палубу осколки разбитого рефлектора – прожектор погас.
– К пирамидам! К оружию… доколе терпеть?
Паля из револьвера, Фитингоф отступал назад – в теплые закуты офицерских кают, где на худой конец можно защелкнуться на замок, и, пока матросы его ломают, он успеет выбраться через иллюминатор в море. Достигнув – раковым ходом! – комингса кают-компании, старлейт начал сколачивать оборону офицерского отсека. Робких он взбадривал матерщинкой…
– Почему все я, я, я? Действуйте же и вы. Задраивайте матросов в кубриках, как тараканов, чтобы они не расползались по линкору… Боже, да стреляйте же, господа!
Фон Кнюпфер внял этим мольбам и деловито стал затискивать патроны в барабан здоровенного «бульдога».
– В воздух стрелять не стану… надо бить под сиську!
Его намерения опередили матросы. Через всю длину офицерского коридора мотнулось что-то тяжкое, треснув в конце полета фон Кнюпфера прямо в лицо. Главный мордобоец «Гангута» выронил свой «бульдог», от боли стал ползать на четвереньках. Мичман Карпенко, весь желтый от нравственных страданий, лез к дверям на палубу впереди офицеров – просил только об одном:
– Господа, умоляю… не стреляйте, не стреляйте.
Он получил от матросов страшный удар по голове железной люковицей и тут же свалился, залитый кровью, но еще кричал:
– Только не убивайте своих… это подлость, господа!
Лавина матросских тел уже ломила через коридор. Полураздетые, грудью шли на штурм винтовочных пирамид. Затоптанный их ногами, с палубного коврика их убеждал Карпенко:
– Пусть и ваша совесть будет чиста… не надо, не надо!
Громадное полено с треском разбило плафон освещения. Второе полено, крутясь в воздухе, хватило по голове Фитингофа, но старшой устоял на ногах. Офицеры вдруг осознали, что еще один шаг – и свершится ужасное кровопролитие, которое не искупишь потом ни в каких молитвах… Они разом побросали оружие.
Теперь (безоружные) офицеры требовали у Фитингофа:
– Барон, дело за вами… бросьте и вы… слышите?
Фитингоф оказался лицом к лицу с матросами.
– Добро, – сказал он. – Я дам вам макароны…
Ему орали:
– А нам теперь плевать на твои макароны… Ты ответь, за сколько грошей нас предал? Почему армия отступает? Где снаряды для фронта? Почему… почему… почему?
Фитингоф отдал свой револьвер и вдруг разрыдался:
– Я больше не могу так. Пожалейте же и меня… Здесь, в этом коридоре, говорить невозможно. Я задыхаюсь… Пусть команда соберется на юте. Выслушаем вас всех… О-обеща-аю!
Внутри дредноута глухо провыли динамо, и отсеки наполнились ровным устойчивым светом. Электротоки, струясь по кабелям, осияли весь линкор, взбежали до клотиков мачт, наполняя светом топовые фонари. Офицеры смешались на палубе с толпою матросов.
– Мы вас слушаем, – говорили они. – Мы ведь тоже люди…
На них обрушилась целая Ниагара старых, затертых обид:
– Почто издеваются над нами? Мы служим по совести.
– Не хотим под немцем быть – Фитингофа в ж…!
– А фон Кшопфер… рази не пес? Он боксою нас бьет.
– Шуляковский – тоже хнида гнилая.
– Верно! На флоте без году неделя, а нас лупит.
– За что?
– Сколько можно?
– Нельзя так!
В окружении матросов горько рыдал мичман Гриша Карпенко:
– Я же за вас! Скажите, ну хоть однажды обидел ли я вас?
Окровавленным платком он вытирал себе разбитое лицо, а матросы, обступив мичмана, утешали его:
– Ну, огрели разок… не со зла же – по горячке!
– Хорошо бы вам примочку из арники сделать.
– Пятак приложить. У меня есть… Во!
– Спасибо. Я же за вас, ребята… за вас.
– Вы не серчайте. Мы тоже… за вас! Вы хороший…
Злоба остыла – русский человек отходчив. Усталость суточного аврала уже сковывала скулы зевотой. Теперь, кажется, и дай им макароны с подливкой, так никто к ним и не притронется. Полухин понял, что бунт дал самую яркую вспышку в коридоре оружейных пирамид – ярче этого уже ничего не будет! К нему подошел Семенчук.
– Кажется, пошабашили, – сказал тишком. – Наворотили будь здоров. Нас не послушались. Теперь в кандалах подумают…
Раздались свистки с вахты – прибыл с берега командир. Кедров не спеша поднялся на шкафут, негодуя:
– Кто мне объяснит, что тут случилось? Лучший корабль флота его величества… Могли бы обойтись и без этих историй с меню сегодняшнего ужина!
Горнисты затрубили сбор для построения на юте. Михаил Александрович Кедров заговорил не как честный моряк, а как обладатель флигель-адъютантского аксельбанта:
– В грозный час роковой опасности, нависшей над нашим отечеством, вы бунтом своим сыграли на руку врагу. Ваше поведение можно отнести к акту государственной измены, флот есть флот, и его назначение – бой на море, а подавать вам бламанже в сахарной пудре никто на флоте не станет. Вы только посмотрите на немцев – как они дисциплинированны, как они слушаются своих начальников. А вы разгильдяи тамбовские! Важно сейчас одно, юридически доказуемое: присяга вами нарушена, а что полагается с такими… вы раньше подумали? Зачинщиков прошу… пять шагов вперед – арш!
Вся многоликая команда линкора шагнула на него, жарко дыша, и, отсчитав пять шагов, замерла – будто вкопанная.
– Ольгерт Брунович, – смутился Кедров, – я так думаю, что пора кончать эту дурацкую канитель. Откройте им консервы и выдать сухари с чаем… Завтра разберемся!
* * *
Случайно или не случайно, но с торпедных аппаратов на миноносцах были сдернуты чехлы. Радиорубки «Гангута» взяты под крепкий караул. Весла со шлюпок убрали. Теперь многие горячие головы поостыли и уже добром вспоминали предостережения большевиков – не пришло еще время! А теперь жди беды…
Рано утром на рейде Гельсингфорса показался катер с «Кречета». Под флагом командующего Балтфлотом катер отвалил от стенки Седрхамна – развел белые усы пены в сторону «Гангута». На адмиральском трапе Канина приняли под локотки на этот раз не фалрепные матросы, а сами офицеры с линкора.
– Большой сбор, – объявил Канин, тяжко отдуваясь на палубе.
В дружном топоте ног сбежались на шканцы. Вздернув крутые подбородки, замерли. Черные хвосты лент обвивали крепкие шеи матросов. Блеснула медь горнов, оттарахтели сигнальные свистки, и наступила тишина (только шелестело кормовое знамя).
– Ну? – сказал Канин с видом разочарованного в жизни интеллигента. – Поздравляю вас, вы у меня молодцы! Отличились… мать вас всех! Сытная и здоровая каша вам не по вкусу? А забыли, как в родимой деревеньке соломку с крыши варили и… нравилось?
Над шеренгами матросов проплыл медный бачок, доверху натисканный знаменитой «606», и обрушился под ноги адмиралу. Канин через стекла пенсне обозрел синеватую глыбу вчерашней каши.
– Жри ее сам, дракон царский! – прозвенел юный голос.
Носком ботинка Канин, как футболист, отправил бачок за борт.
– Зажрались! – сделал он вывод. – Что ж, окопная чечевица вернет вам аппетит. А кое-кто в тюрьме и баланде будет рад.
Высоко взметнулся голос Полухина (он не выдержал):
– Сейчас не пятый год! не запугаешь… умней стали!
Линзы адмиральского пенсне пробежали вдоль бесконечного горизонта матросских рядов, выискивая нужную цель:
– Кто это кричал… прошу! Сюда…
Семенчук в ужасе увидел, как Полухин пошел прочь из строя. Пошел прямо на адмирала и, отбив, словно чечетку, отличный шаг на повороте, обратился лицом во фронт. Замер. Окаменел.
– Ты зачинщик бунта? – спросил его Канин.
– Я.
10
Еще в начале войны в столице и ее окрестностях заработали многие германские радиостанции, передавая информацию для кайзера. Как правило, шпионы использовали колокольни церквей или крыши высоких зданий Петербурга, – несовершенство тогдашней радиотехники заставляло их ставить антенны поближе к небесам.
Как раз кстати пришелся тогда Иван Иванович Ренгартен, который недавно изобрел для флота радиопеленгатор. С его помощью было снято с чердаков немало шпионов. Пеленгатором прочесали все каланчи и башни (говорят, на чердаке Главного штаба тоже не все было чисто).
Этот случай заставил Ренгартена о многом задуматься. Иван Иванович, хотя и носил немецкую фамилию, был искренним патриотом России, душевно страдал за ее неудачи. Он хотел помочь ей, но не знал как. В поисках выхода из монархического тупика, Ренгартен не пошел прямо. Ренгартен двинулся вкось и увлек по этой скользкой дороге многих.
* * *
Посыльное судно «Кречет», на котором размещался штаб Канина, укачивало под сенью причала, как дите малое в зыбке. Между бортом и стенкой надсадно поскрипывали кранцы, посыпая волны пробковой шелухой. Через черное очко иллюминатора в каюту притекал резкий и промозглый ветер Балтики.
Ветер конца 1915 года… День штабной сутолоки закончился.
Ренгартен решил принять ванну. Можно выбраться наконец из тесного саркофага мундира, облачиться в халат и позвонить вестовым, чтобы подали чай в каюту. Наконец, что особенно важно, можно остаться наедине со своими мыслями, мучительными мыслями… Присев к столу, Ренгартен записывал в дневнике:
«Революция неминуема! Я решительно не понимаю, каким образом правительство не принимает в расчет того обстоятельства, что и подавлять-то революцию будет некому и нечем… Можно говорить что угодно о святости присяги, но есть на свете столь высокие цели, ради которых многие согласятся продать душу дьяволу… Не знаю, чем все это кончится. Душа разрывается. И сюда перебросилась на флот по воздуху какая-то зараза. Вот где бедствие…»
Вышколенный вестовой, с осанкой британского лорда, подал ему чай. Японский халат, купленный по случаю в Нагасаки, был расписан ужасными драконами, и нежный шелк обласкивал тело. Ренгартен курил дамскую папиросу (надо беречь здоровье) и глядел в кругляш иллюминатора, за которым ему чудился загадочный синтез моря, звезд, космоса, неизвестности и мертвых душ прошлого.
Сейчас флаг-офицер флота чувствовал себя стоящим над кровоточащей пуповиной нового мира. Он зарождался, этот новый мир. Радиопеленгатор, который изобретен им, позволял кораблям брать пеленги с точностью до одного румба. Но гораздо труднее взять пеленг душой и сердцем – на верный курс в жизни. Ренгартена окружал сейчас мир отживший, в котором (надо быть честным до конца) ему, Ренгартену, жилось совсем неплохо… Даже хорошо!
Чай, тишина, халат и ванна разнежили его. Почти дремотно он перелетел в порхающий мотыльками вчерашний день своего «я», в который он вступил сытым, розовощеким и добропорядочным мичманом.
Резкий звонок телефона, и он не спеша снял трубку.
– Это я, Ваня, – сказал ему князь Михаил Черкасский (оперативник Канина). – Тут у меня Сережа Тимирев и Вася Альтфатер, приехавший из Ставки… Наш старик чего-то пылает из-за «Гангута», мы сейчас надираемся вдохновением, чтобы тушить его. Пришвартуйся и ты к нашему борту…
Адмирала Канина никак нельзя было причислить к натурам сентиментальным, но сейчас он, кажется, размяк. Во всяком случае, платок в его руке и смущенные глаза подтверждали слабость.
– Извините, господа, что обеспокоил вас, – сказал он «флажкам». – «Гангут» сделал из меня тряпку. Я уже немолод, чтобы выносить такое. Должен честно признать, что флотом я мог бы заниматься. Но флот превращается в политическую организацию. Здесь я немощен… Василий Михалыч, – обратился он к Альтфатеру, – вы имеете возможность видеть его величество в Ставке. Прошу вас: доведите до высочайшего сведения, что адмирал Канин просто старая дохлятина, которой впору на свалку. А вы, Сергей Николаич, – сказал адмирал красавцу Тимиреву, – собирайтесь в Петербург… – В руках Канина оказался конверт. – Вот мое письмо к морскому министру Григоровичу, в коем я настоятельно испрашиваю для себя абшида.
Тимирев посмотрел на Черкасского, князь воззрился на Ренгартена, тот косо глянул на могилевского Альтфатера, и все «флажки» дружно обступили стол командующего, на котором две фальшивые свечи в шандале освещались «пальчиковыми» лампами с подводных лодок. Они отвечали Канину, что Григорович выставит за дверь любого из ходоков, и будет прав. Нельзя же, говорили офицеры, минутную слабость обращать противу нужных дел флота.
– Ваше ли это дело? – отфыркивался Канин. – Положите письмо перед министром и закройте за собой дверь. Я вот сейчас часто вспоминаю покойника Эссена… Николай Оттович прочил на свое место Колчака, и сейчас я согласен, что такое назначение было бы выгодней для флота, нежели мое. Люди мы здесь свои, и скрывать нечего. Мы знаем, что Александр Васильевич обладает мертвой хваткой цепного пса – если уж Колчак вцепится, пардон, в чью-то ляжку, то зубов уже не разжимает… Именно такой человек и нужен для Балтики сейчас, чтобы варить для всех макароны!
– Я не повезу письмо, – отказался Тимирев.
– Я тоже против, – кивнул Ренгартен, собранный и рассудительный. – Но мне думается, что при нынешней ситуации нельзя брать старую гайку и закручивать ее на старом ржавом винте.
– Рабочие Петрограда бастуют, – включился в разговор Альтфатер. – Известно ли вам о целях забастовки? Она вызвана арестом матросов на «Гангуте». Как я осмелюсь доложить императору?
Старый адмирал обозлился на оперативника из Ставки:
– Пьянствуете вы все там с его величеством! Вы думаете, кавторанг, я не знаю, чем занимается моргруппа штаба в Могилеве?
– Всего один вагон вина от Адмиралтейства…
– Мало вам вагона? Еще цистерну пригнать?
Разговор этот замялся. Черкасский стал внушать Канину:
– Подумайте сами, Василий Александрович, что скажут на флоте, если ваш флаг спустить с «Кречета». В этом акте будет усмотрена всеобщая слабость власти…
«Флажки» уговорили Канина забрать рапорт обратно.
Покидая адмиральский салон, Черкасский спросил Ренгартена:
– Ваня, у тебя выпить ничего не сыщется?
– Зайдем. Что-то было…
В каюте князь выпил вина, рука его вздрагивала.
– Послушай, душа-князинька, – сказал ему Ренгартен, – а на кой черт мы, дураки, уговаривали Канина от этой отставки?
– Ну! А что делать иначе? И забастовки поехали…
– Все это не то, не то и не то. Канина пора на слом, как устаревший бездушный корпус. Он исплавался. Пора все флоты России брать в руки нам! А таких, как Канин на Балтике, таких плюгавцев, как адмирал Эбергард на Черном, – просто спихнуть за борт, и пусть они там барахтаются, пока сами не потонут…
– Я допью все, – сказал Черкасский, наклоняя бутыль. – И я удивлен, что ты так поздно заговорил со мною об этом.
– Третья военная кампания, – продолжал Ренгартен, – должна быть уже нашей кампанией. Как в вопросах стратегии, так и в проблемах политики. Нужна консолидация сил! Флот надобно сомкнуть с Государственной думой. На царя-батюшку надежды слабые, и заявок на его дальнейшее царствование от народа не поступало. Вылетит он за борт при резком повороте – туда ему и дорога. Мы останемся с мыслящей, страдающей Россией.
– Ты прав, – охотно согласился князь. – Будем работать, как работают большевики, из подполья. Из подполья же станем взрывать и хоронить карьеры не угодных нам лиц. Сейчас все простительно. Самое главное – довести войну до победы…
Штабной «Кречет» всю ночь шарахало о стенку пирса, его до утра трясло и качало.
* * *
Полухин сказал Семенчуку:
– В случае чего, вали на меня. Будут провоцировать – не верь: я товарищей по партии не предам. Выкрутимся!..
На палубу «Гангута» громоздились новобранцы с винтовками. Лопоухие парни, стриженные наголо, они были страшны сейчас своей непроходимой тупостью. В них – не суровая дисциплина, воспитанная годами службы, а рабская покорность, принесенная на флот из деревень и хибар предместий. Семенчук смотрел, как нелепо тычутся они со штыками на трапах, потерянные, сами же страдающие от услужливости и собственного страха, – и гальванер думал в этот момент, что ведь когда-то, наверное, и он сам был таким же бараном… «Спасибо флоту – излечился от рабства!»
Но вот на палубу «Гангута» горохом посыпали кадровые матросы с крейсеров – подтянутые, ловкие, собранные, и зарябило в глазах гангутцев от сверкания их ленточек с именами – «Громобой», «Россия», «Олег», «Рюрик», – вот этих можно бояться. Матросня с крейсеров не скрывала своих замыслов:
– Порядочек наведем. Мы оборонцы, чтобы, значит, война до победы. А вы… пораженцы? Держись теперь: сейчас мы вам кузькину мать показывать станем… Видели ее?
Дальше события на «Гангуте» развивались почти спокойно. Всех построили. К молчащим ротам вышли молчащие командиры корабельных рот. Карманы офицерских кителей отвисали неряшливо – от тяжести укрытых браунингов и смит-вессонов. Гриша Карпенко потихоньку, словно извиниться хотел, говорил своим матросам:
– Вы не бойтесь… теперь вас боятся.
Из кают-компании рысцой выбегал штабной офицер, запаренный, и предъявлял ротному записку с именами матросов:
– Этих вот… прошу… для выяснения обстоятельств бунта.
Так вызвали 95 человек (в том числе и Полухина), после чего засвистали дудки: «Разойтись по работам». Строй в недоумении рассыпался… На «Гангуте» заработала особая комиссия, во главе которой стоял брюзгливый контр-адмирал Небольсин. Комиссия никого не судила – она брала матроса за жабры, изучала его со всех сторон и потом бросала туда, куда хотелось комиссии. Дошла очередь и до Семенчука. Два матроса с крейсеров встали по бокам от него, и Семенчук пошел меж ними, помня наставления Полухина.
По дороге до кают-компании разговорились.
– Не вовремя вы, долбаки линейные, бунтарить стали.
– А когда надо? Ждать, пока на крейсерах поумнеют?
– На крейсерах, – отвечали ему, – народ побашковитей вашего. Мы тоже забастовку планируем… тока зимою!
– А летом-то… мухи мешают?
– Да нет. Мы же умные, – говорили крейсерские. – Зимою флот во льдах мерзнет и войны вроде нету. Тогда и бунтуй сколько влезет. Это войне до победы не помешает… Мы же умные!
Семенчук предстал пред ясные очи комиссии. И будто глас вышний, от бога идущий, разлился над гальванером, тая в розовом мареве абажуров, голос Небольсина – председательствующего:
– Тебя спасет правда, и только правда. Веруешь ли?
– Верую, – сказал Семенчук, перекрестившись.
– Это хорошо, – похвалили его. – Раскайся же искренне и скажи нам, какая сволочь подстрекала команду на захват оружия?
– Про макароны… это – да, слыхали.
– Ты большевик? – спросили его в упор.
– Я-то? Господи. Да мне некогда. Я борюсь. Все знают.
– Гальванер, – обозлился Небольсин, – ты нам тут святошу не выкобенивай. Комиссии уже известно, что в трансформаторной каюте собирались на сходки отъявленные большевики. Полухин и Ваганов уже сознались во всем… Говори, что вы там делали?
– Ваша правда. Делали. Извиняйте. Не утаю… Уж коли на то пошло, я вам всю правду скажу. Пусть меня судят.
– Ну, говори. Только правду.
– Истинно доложу… На Мальме пять бутылок чистейшей ханжи гальванные купили. Вот вечером, после горна, и тяпали обществом в трансформаторной. Был грех, в чем слезно меня извиняйте.
Между прочим, в членах комиссии восседал и каперанг Пекарский (кажется, сын историка). Весною он возглавлял десант матросов-штрафников на Мемель и Мемеля так и не запомнил – по причине беспробудного «залития глаз». Он, кажется, и сейчас не был абсолютно сухим. Вера во всесокрушающую силу российского пьянства никогда не покидала бравого каперанга. Мысль о тайнопитии чистейшей ханжи показалась Пекарскому весьма убедительной.
– Нет, не врет! – сказал убежденно. – А чем закусывали?
– Хамсой, – ответил Семенчук, прослезясь.
– Можно и хамсой, – согласился Пекарский, поразмыслив. – Но еще лучше запивать кефиром. Ты когда-нибудь пил кефир?
– Так точно. У финнов пробовал. Не шибает… Слабоват!
Небольсин согласился с доводами здравого рассудка:
– Допустим, что так. Допустим, что ханжу пили и хамсой закусывали. Но в момент бунта не ты ли, Семенчук, бегал по кораблю с криками? Вспомни, что ты кричал?
– Верно. Кричал я, – покаялся Семенчук. – Кричал, чтобы волынку эту кончали и ходили все вниз до церкви.
– Полухин нам другое показал. В церковь ты команду созывал, это так, но… «долой самодержавие» разве не ты крикнул?
Семенчук знал, что это провокация и Полухин здесь ни при чем. Он шагнул вперед, и над головой чемпиона в ярости возделись два кулака – громадные, как две тыквы.
– Морду бить за такие вещи! Полухин – ишь, барин какой нашелся: самому в тюрьме сидеть неохота, так он других загребает…
– Ладно, – сказал ему Небольсин. – Служить на «Гангуте» тебе не придется. Иди в писарскую на оформление. Тебя – во второй Балтийский экипаж, который определит судьбу твою дальше…
На вокзале в Ревеле, таская на горбу чемодан, Семенчук купил газету. В знак солидарности с «Гангутом» бастовали заводы столицы. Объявили посадку на петроградский. Вскинул чемодан и пошагал через толпу – громадный, весь в черном, с бескозыркой, которая нависала над вспотевшей от волнения челкой…
* * *
Прокурор шутить не любил. Он потребовал привлечения к суду и командира «Гангута» капитана I ранга Михаила Александровича Кедрова.
– Видите ли, господа, он виновен в том, что не сумел предупредить беспорядки, мало того, в ответственный момент бунта его не оказалось на корабле, и Кедров явился, так сказать, к шапочному разбору… Я такого мнения, господа! Послушаем же, что нам скажет на это сам флигель-адъютант его величества – Кедров.
Кедров тоже не собирался шутить на суде. За его эполетами и аксельбантами стояла сейчас дружба с таким легендарным алкоголиком, каким был контр-адмирал Костя Нилов. Прокурору не мешало бы знать, с кем этот Костя открывает бутылки. С самим царем! Потому-то Кедров смело заявил на суде:
– Матросов я не виню! Лично я уверен, что все эти каши и немцы – лишь повод для бунта. Причина недовольства кроется, если вам угодно, в другом. В общем тяжком положении России, которая в этом году не сдержала врага и отдала ему колоссальные территории. А также в отсутствии активных боевых действий для нашей бригады линкоров. Я, – улыбнулся Кедров, – не советую вам, господин прокурор, раздувать эту историю до громкого процесса…
Прокурор сник и даже назвал бунтарей-гангутцев «неразумными патриотами». После такого оборота и судить людей не совсем-то удобно… За что? За «неразумный патриотизм»? Обыватель слово «неразумный» отбросит и прочтет только одно – «патриотизм». А потом скажет: «Дожили… уже и за патриотизм сажать стали!»
Кедров, получив трибуну, с нее уже не слезал.
– Еще два слова… Почему команды кораблей не ставятся в известность о целях операций, которые корабли исполняют? Они плавают и воюют, иногда творя чудеса героизма, а кроме шаблонной фразы – «за веру, царя и отечество» – им ничего не сообщается. Я бы, – сказал Кедров, – просто спятил, ведя линкор в неизвестность… Сколько гнева в низах вызвали шатания линкоров между Ревелем и Гельсингфорсом! А если бы команда знала оперативный смысл обороны Финского залива, тогда, – закончил Кедров, – может, команда не возмущалась бы угольными авралами. Вероятно, не было бы и сегодняшнего суда…
Разобравшись с матросами, комиссия контр-адмирала Небольсина, заседавшая на «Гангуте», взялась за кают-компанию. Первым под ее неправедный гнев попал мичман Григорий Карпенко.
– Офицеры славного «Гангута» вряд ли отныне пожелают иметь вас за общим табльдотом.
– Разве я нарушил присягу? – спросил Карпенко.
– Вы повинны в слабости… да! В момент бунта вы не пожелали подавлять его оружием. Учитывая ваш возраст и неокрепший характер, мы вас спишем на «Славу». Именно там, среди боевых офицеров, вы научитесь реально смотреть на уставный порядок вещей.
– Переводом на «Славу», – ответил Гриша Карпенко, – вы оказываете мне большую честь. Лучше уж погибнуть со славой в Рижском заливе, нежели протирать штаны в гельсингфорсских «Карпатах»…
Был явлен и знаток бокса – фон Кнюпфер.
– Вы виноваты! – орал на него Небольсин, разъярясь. – Где ваш приятель Шуляковский, зовите и его сюда. Вот позорная каюк-компания… Где ваша совесть, наконец? Кто вам, лейтенант, давал право калечить матросов своим дурацким боксом? Или простецкий, всем понятный «лещ» вам уже не угоден?
Кнюпфер (хитрый) молчал, а Шуляковский оправдывался:
– Я не хотел… я не хотел так бить кочегара… Я…
– А как вы хотели бить его? Чтобы он радовался от битья вашего? К чертовой матери – на вонючий тральщик! А вам, лейтенант, тоже не место под флагом «Гангута». Комиссия ссылает вас в балтийскую тьму-таракань – на батареи мыса Церель. Можете жаловаться. Точка. Зовите сюда Фитингофа…
Фитингоф все это время жил в чаянии повышения. В конце концов, должны же люди понять, что он засиделся в чине старлейта. Сейчас ему как раз только и получить звание кавторанга. Вместо награды барон получил пинка не только с «Гангута», но и вообще с флота!
Вот этого он не понял. Уводя на цепи своего породистого дога, Фитингоф с трудом обрел сознание.
– Я же и виноват оказался? – спрашивал всех. – Но постойте, я никогда не придирался к матросам – это матросы ко мне придирались. Я был лишь неукоснителен, и только!
Прощай, «Гангут»! Дог в последний раз наклал кучу на палубе. Потом он повлек своего господина дальше – на берег, в отставку. Будущее покрывал мрак неизвестности. Где еще будут такие дивные мослы, увешанные махрами мяса, какие выуживал из гангутского котла для собаки барон Фитингоф? Это был крах…
– Долой собаку! – орали на прощание с «Гангута».
11
По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица…
* * *
Как взревет медноголосина:
«Ррррастакая миноносина!»
Вл. МаяковскийМиноносцы! Кто полюбил их, тот очарован навсегда.
Большие скорости – оттого резкие и смелые люди.
Укрыться в бою им негде – здесь брони не водится.
– Я по себе знаю, – говорил Артеньев, посмеиваясь. – Ну где там укрыться на нашем мостике? Одна защита – дрянь-парусинка. А когда рванет рядом, обязательно нырнешь под брезентик, и вроде ты уже стал бессмертен…
В маленьком коллективе трудно скрыть свои слабости. Это тебе не линкор, где человек теряется, словно прохожий на Невском. Тут любой подлец сразу заявит о себе, что он подлец…
Сергей Николаевич устал читать. Присел на краешек стола возле иллюминатора и видел, как из машинных низов Леонид Дейчман выбрался наверх; спецовка на механике давно не стирана, в руках – комок ветоши, и он вытирал грязные от мазута пальцы. Леденящий ветер налетал на бухту Рогокюль, из ковша которой уже виделась дряблая толщь Кассарского плеса и рукава Моонзунда, готовые закостенеть в морозах. Дейчман прошел на полубак, где возле «обреза» всегда собирались куряки. Тянул матросам свой кожаный портсигар с «душками»:
– Папиросочку, братцы… кому папиросочку?
Матросы неловко залезали корявыми пальцами в портсигар.
– Давай, што ли… хоть вертеть не надо.
Дейчман не уходил от «обреза». Стыл на жестоком ветру, вникал в пересуды матросов. И, дергаясь кадыком, жеребисто гоготал над похабными анекдотами… Тут к нему подошел рассыльный:
– Господин инженер-механик, вас просит старшой.
Артеньев встретил его в каюте – мрачный, черствый.
– Я нечаянно пронаблюдал эту сцену. Что она должна означать? К чему этот камуфляж под ложную демократию с «братишками»? Почему ты так одет? Брось ветошь… Ты думаешь их задобрить?
Дейчман стоял перед ним пристыженный и жалкий. Уже лысый мужчина, далеко не глупый, он был потерян – как человек.
– Ты же знаешь, – ответил тихо, – после того случая я боюсь.
– Кого боишься? – наступал на него старлейт. – Если матросов, тогда тебе не к лицу погоны. Такой страх можно излечить только вышибанием с флота, и тебя… да, держать не станут!
– Не кричи ты на меня, Сергей Николаич, не кричи. Неужели не видишь, что все идет к тому, чтобы бояться…
– Неправда. Офицер должен оставаться начальником, а не подхалимничать перед подчиненными. Ты не думай, что они будут тебя за это уважать. Твое разгильдяйство кончится очень плохо: ты отдашь приказ, а тебя пошлют к едрене фене, да еще папироску из портсигара выгребут.
– После «Гангута» многое изменилось, – сказал Дейчман…
Фон Грапф столкнулся с Артеньевым на трапе:
– Вы ко мне? А я к вам… Неприятная история. Приговором над «Гангутом» мы расписались в собственном бессилии. Приговор будто слеплен из теста, а раньше их ковали из чугуна, как якоря. Монархия уже не власть – это тлен… Не могли даже расстрелять для примера парочку! Смертную казнь заменили тачкой.
Артеньев отмолчался. Колчак вскоре собрал у себя командиров и старших офицеров Минной дивизии. Заявил отрывисто:
– Предстоят некоторые изменения на флоте. Заранее, чтобы пресечь вопросы, констатирую: изменения вызваны бунтом на «Гангуте». Смысл реформ – уступка матросским массам, чтобы далее бунтов не повторялось. Прошу принять к сведению и не обсуждать…
Особым приказом по флоту строго воспрещались рукоприкладство и брань по отношению к матросам. Офицерам советовали входить в нужды подчиненных, не отгораживать кают-компании от кубриков, терпеливо разъяснять матросам текущие события в мире и на флоте. Раньше сажали в карцер, а теперь наказание следует ограничить выговором или внушением… «Гангут» свое дело сделал!
Колчак в конце речи так и сказал, что дело сделано. Но тут поднялся во весь рост, словно распрямленная пружина, командир «Забияки» – кавторанг барон Косинский[7].
– Я не понимаю этой чепухи, – произнес барон звеняще. – Я родился и вырос в семье педагогов, где идеи Ушинского и Водовозова были сродни мне с детства. Довольно-таки стыдно, господа, что после славной истории русского флота, на втором году ужасной войны мы должны выслушивать подобные приказы, в которых нам столь премудро советуют не бить матроса по морде.
– Я, кажется, уже предупредил собрание, – недовольно заметил Колчак, – чтобы обсуждений приказа не было.
– Это не обсуждение, – отвечал Косинский, – это возмущение!
Командир «Забияки» был авторитетен среди «миноносников». Это он, еще молодым лейтенантом, на своем «Статном» дерзко проломился из Порт-Артура в Чифу, имея на борту знамена порт-артурских полков и Квантунского гвардейского экипажа, прихватив заодно и секретные архивы штабов, чтобы ничто не досталось японцам. Барона Косинского на Минной дивизии любовно называли: «Бароша».
Колчак попросил остаться офицеров с I и V дивизионов.
– Вырос новый зверь – радио! – сообщил он. – Лишь благодаря радиоперехвату, даже не видя противника, мы по одним пеленгам определили сложную систему германских дозоров у Виндавы. Предстоит, господа, проскочить через Ирбены и… атаковать!
Впервые за эти годы Артеньев выступил перед командой «Новика», рассказав матросам о целях операции:
– Теперь вы не слепые, которых ведут в бой за руку. Вы знаете, зачем идете на смерть. Раньше и гибель для вас была слепой. Вы не понимали до конца смысла своих жертв. Благодарите «Гангут»!
Отдавая швартовы от пирсов, матросы говорили:
– Видать, так и надо! «Гангут» первым понял, что словами ничего не добьешься. Бунт – вот это они понимают…
Цепенея на морозном ветру, семь эсминцев ночью пронырнули коридором Ирбенского пролива и возникли из темени под Виндавой.
* * *
За извечной тревогой брандвахты, что стелется по горизонту низкими тенями сторожевиков, далеко за волноломами гаваней и пустынями расхлябанных рейдов, там – уже в плеске вод и обжигающих ветряных визгах, – там люди живут особой жизнью, наполовину отрешенные от обыденной суеты берега.
По траверзу Виндавы эсминцы била волна, которая взметывалась от штагового огня до кормы. Крышки люков и пазы дверей обрастали инеем, на орудийных стволах повисли гирлянды сосулек. Полубак превратился в каток, покрытый льдом. На скорости ветер выжимал из глаз острые слезы, лица вахтенных на мостике – в коросте ледяных пленок, кровь сочилась с потрескавшихся губ.
Грапф протянул Артеньеву бинокль:
– Мой «цейс» сильнее вашего. Кажется, это крейсер.
– «Норбург», – определил Артеньев по силуэту.
– Сомневаюсь.
– Есть золотое правило: сомневаешься – атакуй!
Трижды эсминец взорвало изнутри колоколами громкого боя:
– Атака… атака… атака.
Сверху было видно, как на обледенелый полубак выскочил, полураздетый спросонья, старшина комендоров. Автоматы стрельбы в доли секунды уже разрешали сложные формулы, в которых царствовали высокая алгебра боя и точная тригонометрия поражения противника.
А внизу, под мостиком, старшина босыми пятками плясал на обледенелой стали. Артеньев с матюгами стал рвать со своих ног медные застежки штормовых сапог.
– Эй, раззява! Держи с левой ноги.
Его придержали – а как же выстоит он на мостике?
– У меня две пары носков из шерсти. Пентюх! Держи с правой…
Снизу, от пушки, донеслось – как вздох:
– Спасибо. Премного благодарны…
Штурман сбоку подсказал Артеньеву:
– А ведь такие вещи матросы не забывают…
На груди минера Мазепы – эбонитовый микрофон, который болтался, будто кружка у нищего для сбора подаяний. В эту кружку, полузакрыв глаза, он выпевал, весь в сладостной истоме боевого вдохновения, словно Леонид Собинов любовную арию:
– Первый аппа-а… то-о-овсь… залп!
Здоровенные рыла торпед, густо смазанные тавотом, не спеша стали выползать из труб аппарата, будто сытые свиньи из чуланов. И вот они, подпихнутые в зад газами порохов, поползли быстрее, быстрее, быстрее… Вильнув хвостами, торпеды плюхнулись в море.
– Все три… вышли! – поступил доклад на мостик.
И – пошли. Три торпеды пошли глотать пространство. Дистанция до «Норбурга» была почти «пистолетной», и в ночи всем казалось тогда, что до крейсера можно добросить камнем. Яркая вспышка ослепила всех на мостике. «Норбург» взбросило на волне – послышался грозный вой, переходящий в стон: это орали немцы…
– Сергей Николаич, – распорядился Грапф, – в такую ночь, как эта, люди на воде держатся считанные минуты.
– Ясно. Эй, боцман! Давай своих кулаков на полубак…
«Кулаки» – это матросы боцманской команды, которым сам черт не брат. Они приучены к швартовкам и аварийным работам, не боятся грохота волн, в любой темени они зубами способны распутать заковрижевший узел на тросах. Сегодня они работали дивно!
– Приходи, кума, любоваться, – сказал о них Петряев.
«Кулаки» далеко выбрасывали в море спасательные концы, и на этих шкертах гроздьями висли немцы. Шкерты – толщиной в мизинец взрослого человека, и они лопались, когда на них висли группами. Людей с «Норбурга» стремительно относило за корму «Новика». А там работой винтов их затягивало под воду – прямо под корму, под бронзовые лепестки винтов. Если б не ночь, то все увидели бы, как кипел за кормой «Новика» бурун – весь красный от крови изрубленных лопастями тел…
– Есть один офицер! – доложил боцман Слыщенко с палубы на мостик.
Пробили отбой. Старшина носовой пушки поднялся в рубку, сел на решетки, сковырнул со своих ног сапоги Артеньева.
– Еще раз спасибо, ваше благородие, – сказал он.
– На здоровье, – хмуро буркнул Артеньев, защелкивая на сапогах медные застежки. – А теперь, милейший, получи от меня впридачу еще три наряда вне очереди. Чтобы впредь успевал обуться!
На мостике все захохотали. Сергей Николаевич при этом даже не улыбнулся. Он был кадровый офицер, и у него была своя логика. Та самая логика, на которой позже, когда грянет гром революции, он станет ломать себе шею. Впрочем, тогда ему было не до эмоций. Когда от «Норбурга» ничего не осталось, а огни Виндавы погасли в отдалении, Грапф попросил старлейта навестить спасенного с крейсера немецкого офицера.
Сильно качало – I и V дивизионы проходили мористее Эзеля. В офицерской ванной, куда поместили пленного моряка, чтобы он поскорее согрелся, пахло озоном, мылом, полотенцами и еловым экстрактом. Пленный офицер с «Норбурга» сидел на срезе кадушки, уже получив первое в плену угощение – тарелку горячего супа, который он жадно схлебывал через край, а под ногами его гуляла да качке из угла в угол отброшенная ложка.
– Я… один? – спросил он у Артеньева.
– Из офицеров – да. Но мы спасли еще семнадцать матросов.
– Боже, вот уж никак не ожидали вас у Виндавы!
– Вы согрелись? – любезно осведомился старлейт. – Да. Благодарю. Еще бы папиросу… русскую.
Он получил от Артеньева папиросу и был искренне удивлен.
– Вы обязательно проиграете эту войну, – сказал немец.
– Но… почему? – удивился Артеньев.
– Главное в этой войне – планирование и экономика. А у вас? Смотрите на эту папиросу: половина табак, а дальше… мундштук из плотной бумаги. К чему он, этот мундштук? Так можно разорить страну. Зато у нас, – сказал пленный, чиркая спичку, – делают вот так… Обгорелую спичку он спрятал в коробок. – Видите? Потом все использованные черенки от спичек мы сдаем обратно на фабрики. Там к ним приделают новые серные головки, и ею можно пользоваться снова… Я вас рассмешил?
– Русских к этому не приучить. Экономия всегда хороша, но, экономя на спичках, Германии не спастись от разгрома.
– Вы развалитесь раньше нас, – ответил Артеньеву немец. – У нас есть порядок и убежденность. А у вас… революция!
– Неправда. У нас нет революции, – посуровел Артеньев.
– Нет сегодня, так она будет завтра.
Старлейт присел рядом с пленным на край ванной кадушки:
– А вы, немцы, должны бояться нашей революции. Ибо все революционные народы, как доказала история, дерутся еще храбрее…
Немецкий офицер спросил, куда шпарит сейчас русский эсминец.
– Если угодно знать, мы проходим к весту от Эзеля.
– Ой, – сказал немец, закрывая лицо руками. – Неужели мне в эту ночь суждено еще раз окунуться в эту балтийскую купель? Не скрою от вас, что мой «Норбург» при торпедировании радировал…
– Куда и кому?
– Три наших крейсера с самолетами на катапультах – «Любек», «Аугсбург» и «Бремен» – вышли с миноносцами на поиск вашего броненосца «Слава», чтобы уничтожить его… Сейчас они изменят курс и возьмутся за вас. Наверное, я поступил нехорошо?
Сергей Николаевич успокоил его, все поняв как надо:
– Вам тоже ведь купаться второй раз ни к чему. Я оставляю вам папиросы с длинными мундштуками и спички, которые вы можете не экономить… Вы в России, и война для вас закончилась!
Дивизионы сразу же изменили генеральный курс. Мощные дубины пушек германских крейсеров уже не могли наказать дерзких. Море опустело, и начинался затяжной шторм с обильным снегопадом. Через несколько дней «Новик» поставил минную банку, на которой погибли крейсера «Бремен» и «Любек», подорвались два миноносца и потонул сторожевик «Фрей». В зимнем море долго болтало сотни обледенелых трупов. В далеком Берлине, экономя на спичках, сухорукий Гогенцоллерн подсчитывал потери за минувшую кампанию.
– Балтика, – говорил кайзер, – это русская гидра, глотающая мои корабли. Мы очень богаты потерями, но мы очень бедны успехами. Гинденбург – бравый солдат, а фон Тирпиц – старая шляпа!
* * *
Колчак рвался к славе – широкой, всеобъемлющей, всероссийской… Начдив даже похудел, сделался сух и костист, как марафонский бегун, летал с эминца на эсминец, всюду резкий, нервный и требовательный. Колчак двигался стремительно, словно разрубая перед собой ветер длинным и плоским колуном своего носа. Белая лайка его перчаток позеленела, истертая медью траповых поручней. Мерлушка походной шапки – седая от соли, а каблуки на сапогах, никогда не просыхающих от воды, разбились вдрызг, скособочены, словно Колчак служил курьером на побегушках.
Минная дивизия творила чудеса, и этим укреплялась популярность Колчака, особенно среди офицерства и буржуазии. На флоте еще не догадывались, что Колчака выдвигает не только пресса столичных газет. Сейчас им управляла сильная рука из кулуаров Государственной думы. Давняя дружба начдива с Гучковым никому не бросалась в глаза, но эта связь издавна существовала, и Колчак сам понимал, что его взлет состоится… Скоро он взлетит высоко!
Кажется, сейчас он хотел заработать себе второго «Георгия», чтобы этим торжеством закончить навигацию перед ледоставом. В самый сочельник, когда всем на дивизии хочется посидеть за столом с выпивкой, помянуть родных и просто подзабыться, Колчак сорвал от стенок к походу три эсминца – «Новик», «Забияку» и «Победителя». Начдив был краток и возражений не терпел.
– Ночь как ночь, – объявил Колчак. – Сочельник встретим с минами на борту возле Либавы. Пойдем к черту на рога, уповая на божью милость. Мины брать, со швартов сниматься по готовности.
Первым отошел «Победитель», за ним отдавал гаванские концы «Новик». Случайно в машинах неверно поняли сигнал с телеграфа, и «Новик» с хряском насел на причал кормою. А там сияла монархическая эмблема, вся в тусклом золоте. Раздался треск бревен гнилого причала, от двухглавого орла пробками отскочили две императорские короны.
– Ах, какое несчастье! – воскликнул Грапф. – Примета дурная, как бы беды не вышло… Что делать? Пойдем некоронованы.
Мимо них, сотрясая вокруг себя воздух работой машинных отсеков, уже вытягивался «Забияка», и над эсминцем пластами ходил воздух – то горячий, то холодный, отчего лица людей на мостике «Забияки» расслаивались. Косинский окликнул их через мегафон:
– Эй, на «Новике»! Что посеяли с кормушки?
– Корону! – гаркнул в ответ фон Грапф.
– Хорошо, что не голову, – отвечал Бароша, и его «Забияка» медленно растворился в густеющем тесте близкой ночи…
Пошли. К черту на рога, уповая на божью милость.
Колчак держал флаг на «Новике». Офицерам эсминца он сообщил, прячась за козырьком от ветра, что если верить прогнозам Пулковской обсерватории, то зима будет исключительно суровой. Она уже и сейчас поджимает, возможны прочные образования льдов в тех районах Балтики, которые обычно не замерзают. Артеньев тоже спасался от ветра – за парусиновым обвесом мостика; он сидел на раскидном стульчике, сосал из кулака папиросу и… тосковал. Ему было не по себе в эту ночь, которая еще неизвестно, чем закончится. «Удивительно, – размышлял он под гудение ветра, – я, кажется, не тщеславен и лишен, таким образом, одного из главных качеств военных людей…» Но это его тоже занимало недолго. Сейчас он думал, что часов через пять, наверное, по левому борту обозначится легкое зарево над горизонтом. Это засияет с моря Либава, и не сожмется ли сердце у Клары? Ведь он будет рядом, почти рядом с нею – на дистанции приличного залпа.
Эсминцы шли хорошо, легко вынося волну, все время держа связь между собою. На свет их прожекторов летели из мрака ночи чайки, грудью они разбивались о стекла рефлектора и тут же, все в крови, с поломанными крыльями, падали под ноги сигнальщиков. Одну такую птицу, погибшую ради жажды света, Сергей Николаевич взял в руки и долго гладил ее скользкие перья.
– Глупая, – говорил он тихо. – Ну, разве же можно так? Вот ты и погибла, а ведь могла бы еще долго и долго жить…
Мостик «Новика» вдруг поехал в сторону, отчаянно кренясь. Артеньева сбросило на решетки, люди вокруг него падали во мраке, хватаясь за поручни, чтобы не унесло за борт. «Новик» с минуту лежал в крене поворота, потом резко выпрямился, сбросив с палубы воду. Тут стали подниматься упавшие, ощупывая себя и узнавая друг друга по голосам. Колчак рывком открыл ходовую рубку:
– Кто велел делать коордонат?[8]
На руле стоял опытный рулевой кондуктор Хатов.
– Не до приказов было, – спокойно отвечал он Колчаку. – Прямо по носу мина болталась, которую наши сигнальцы прохлопали.
Верно: в отдалении, уже за кормою, поплавком прыгала мина.
– Считай себя кавалером, – сказал начдив Хатову. – Спасибо!
Лейтенант Мазепа произнес в сторону Колчака:
– Ее, видать, сорвало с якоря. Вообще, мне это не нравится. Одну сорвало, а другие нет. Раньше мин здесь не было. Надо продумать курс. Здесь часто шляются германские подлодки… Что им помешало снести за борт дюжину яичек?
Колчак все понял. Мало того, дивизион сам шел с минами на борту.
Но – сквозь зубы – он сказал о другом, для Артеньева:
– На траверзе Дагерорта пусть штурман определится.
– Есть! Штурманец, где ты?
– В рубке, наверное, – глухо прозвучало во мраке.
Но в рубке его не было. Каюта штурмана тоже пустовала. Подождали еще минут пять – на тот случай, если штурман спустился в гальюн, потом фон Грапф сказал, ставя на штурмане крест:
– Боюсь думать. Но я суеверный. Герб разбили… беда!
– Думай не думай, – ответил Артеньев, – а человека не стало. Хатов, – окликнул он рулевого, – ты бы хоть крикнул о повороте. Из-за тебя штурмана вынесло к черту на коордонате.
– Если бы я крикнул, было бы уже поздно. Тогда бы вся команда криком кричала. Штурману смерть легкая, позавидовать можно…
– Болван! Нашел, чему завидовать, – выругался фон Грапф.
В самом деле, каково лететь вниз головой в пропасть кипящей воды, распластывая полы шинели, и вода тут же обнимет тебя властно и жестоко, а последний проблеск сознания отметит, что сейчас мимо тебя, мимо твоей судьбы проходит корабль, уже не твой, внешне безучастный к твоей гибели… После человека остался на карте легкий последний штрих курса, который он проложил до Либавы. Артеньев с линейкой в руках проверил прокладку:
– Все равно. Дальше прокладку буду вести я…
Нет, в эту ночь не поманили их теплые либавские огни – ночь расколота в грохоте: «Забияка» нарвался на мину! А как не сдетонировали мины на его палубе при взрыве – это уж один бог знает. Присев кормою в шипящее, как шампанское, море, которое посылало из глубины громадные пузыри, «Забияка» остался на плаву: «Новик» тронулся к раненому, подзывая сиреной «Победителя». Два верных товарища протянули к гибнущему спасительные руки прожекторов. Стала видна разбитая корма, а на мостике «Забияки» гордо реял широкий донкихотский плащ барона Косинского.
Переговаривались на мегафонах – борт к борту.
– Полно убитых, – сообщил Бароша. – Вода заливает. Насосы холостят… Если можете – тащите. Не можете – бросьте, только снимите людей. Я останусь с кораблем…
– Замудрил, – буркнул Колчак и, по совету фон Грапфа, велел сбросить за борт фальшивые перископы, которые эсминцы всегда имели при себе – на всякий случай…
«Победитель», обежав место катастрофы по кругу, поставил в море два фальшивых перископа. Длинные тонкие бревна с линзами на концах плавали стояком, точно имитируя появление подлодок. Теперь немцы сюда вряд ли сунутся, и можно спокойно заниматься спасением эсминца. Буксирные концы, поданные с «Новика», крепко натянулись над волнами, дернули «Забияку» и потащили его на малом ходу до базы. «Победитель» шел в охранении.
Колчак скрипел зубами от ярости:
– Плохо заканчиваем кампанию. Плохо…
Сочельник встречали на берегу совместно – три корабля сразу. Матросы шлялись с эсминца на эсминец, на «Победителе» выпьют, на «Новике» закусят. Рыдали в кубриках завихрястые гармошки:
Елки-палки, лес густой. Ходит Ваня холостой. Когда Ванька женится, Куды Манька денется?Офицеры трех эсминцев сошлись кают-компаниями вместе.
Артиллерист Петряев встал над столом с гитарой в руках:
Быстры, как волны, дни нашей жизни. Что час, то короче к могиле наш путь. Налей, налей…Разрушая песню, горько рыдал за столом барон Косинский:
– Двенадцать человек… как слизнуло. Спали вместе. На румпельных моторах. Там тепло. Ну, мне теперь похоронные писать. Где я найду слова для этих баб? Для маток, для вдов? За веру, за царя, за отечество… Но так же нельзя! Это не слова… профанация!
Вздрогнули певучие гитары – нет, не о смерти сейчас:
За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы раз…«Забияку» поставили на капремонт[9]. Вмерзли эсминцы во льды ревельских гаваней. Морозы стояли трескучие. Давно уже Балтика не знала такой суровой зимы, как эта. Три ледокола не могли пробиться в Рижский залив, а могучий «Геркулес» вернулся с моря едва жив – без заклепок в бортах, корпус его дал трещины от сжатия льдов. И до самой весны остался зимовать в Моонзунде линкор «Слава» (не сиятельный, а просто старательный).
* * *
Война была империалистической – это так. Она была войной за передел мира – так. На этой войне наживались капиталисты, барышники и спекулянты – тоже так. И не всем русским были ясны тогда эти истины, и они воевали с врагом не щадя себя.
Русская армия, русский флот и юная русская авиация сражались с высокой доблестью. Не они виноваты, что немцы наступали. Был подлинный массовый героизм народа, а зачеркивать его – это значит обеднять историю нашего государства.
В торжественных залах музея русской морской славы висят знамена тех кораблей, о которых я пишу вам.
Финал к беспорядкам
Что бы в мире ни случилось, буржуазная пресса привыкла оповещать читателя, что «весь цивилизованный мир содрогнулся». Эта шаблонная фраза сделалась настолько обыденной, что читатель уже не содрогался даже тогда, когда следовало бы ему и содрогнуться… Фраза была прилипчива как банный лист, и рука бойкого журналиста в заметке о попавшей под трамвай пьяной кухарке бестрепетно выводила, что «цивилизованный мир опять содрогнулся». К этому привыкли. Казалось, у цивилизации и нет других дел, как только содрогаться при каждом удобном случае.
Читатель! Твердою рукою я, твой современник, пишу здесь тебе, что весь цивилизованный мир – да, действительно – содрогнулся, когда немецкой субмариной была взорвана «Лузитания». В мире можно сосчитать по пальцам несколько кораблей, судьбы которых отметили некую грань в истории человечества. От колумбовой каравеллы «Санта-Мария» до русского крейсера I ранга «Аврора» пролегла слишком большая дорога, а на распутье ее легла костьми «Лузитания». Трагической гибелью своей она стала служить предупреждением противу варварства.
Именно этим она памятна всем нам и поныне!
В зале британского Ллойда иногда поет колокол, поднятый из глубин с погибшего корабля. Один удар – нехорошие вести: судно не пришло в порт назначения. Два удара – значит радость: пропавшее судно все же дотянуло до берега. Три удара – конец, можно писать некролог. Да, на смерть кораблей пишут некрологи, как и усопшим людям, отмечая их жизненные заслуги перед человечеством. «Лузитания» была даже похоронена (аллегорически).
Улицы Лондона в тот день были заполнены манифестантами. Лошади в траурных попонах влекли громадный катафалк, на котором – в стеклянном гробу – покоилась большая модель «Лузитании». Толпа несла лозунги против жестокостей войны, и особенно выделялся один плакат: «Да будет прощено это преступление в небесах, но никогда не будет забыто на земле». Международный трибунал заочно приговорил к смертной казни командира германской подлодки – Швигера, который торпедировал «Лузитанию».
Русский художник С. Животовский тогда же написал символическую картину: «Лузитания» тонет, а под нею, похожая на камбалу, плывет субмарина, из торпедных аппаратов которой в пучину вперились буркалы Гогенцоллерна. Глаза кайзера, почти безумные, пронизывают мрак моря, наблюдая за тонущими людьми. Тонут обнаженные матери с грудными младенцами. Тонут старики и прекрасные девушки. И глубже всех ушел в мрачную бездну великий писатель Лев Толстой… Не будем этому удивляться – художник нарочно сделал Толстого пассажиром «Лузитании», словно желая сказать, что кайзеровская военщина – погубительница всеобщей культуры.
Кайзер Вильгельм II тоже отметил этот мрачный юбилей. В честь потопления «Лузитании» Германия отчеканила памятную медаль. Я видел ее, и она поразила меня своим неслыханным цинизмом… С реверса медали изображена только «Лузитания» и дата ее потопления (больше ничего). Но зато на лицевой стороне – целая картинка: пассажиры выстроились за билетами на очередной рейс «Лузитании», а в окошечке кассы торгует билетами сама смерть с косою за плечами. Чтобы сомнений не оставалось, на медали представлен и мрачный господин в котелке, держащий щит с надписью: «Осторожно – подводная лодка!..»
Война на море вступала в новый период – законы человечности были отброшены, ничто уже не смущало души убийц в элегантных флотских мундирах. И только на востоке русский флот еще придерживался растерзанных правил кодекса гуманизма.
«Лузитания» лежала на грунте жестоким упреком живым.
Корабельные судьбы – иногда как людские.
Их можно изучать. Они достойны монографий.
* * *
Судьба линкора «Гангут» не трагична – она овеяна романтикой и героикой революции. «Гангут» пережил вместе с народом две великих войны и две революции.
Он первым начал борьбу на Балтике за человеческие права и в новую эру человечества вошел под грохочущим сталью именем – «Октябрьская революция».
«Октябрина» – так ласково называли его в нашей стране.
Этого линкора уже давно нет.
Он умер. Он умер на посту.
Часть третья
Прелюдия к заговору
…в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
Вл. МаяковскийНе пора ли нам разложить перед собой карту?.. Вот она – Балтика, колыбель флота российского, вся в раскачке порывистых шквалов, взлохмачена резким скольжением крейсеров. Петроград! Два часа ходу на утлом пароходишке финской компании – и над водой покажутся бастионы Кронштадта. Впрочем, сейчас не следует относиться к нему с почтением. Эта традиционная база давно устарела, а форты ее – музей отживших реликвий – в плесени прошлой славы. Тыловой Кронштадт больше похож на свалку кораблей неплавающих и людей невоюющих. Редко сюда зайдет с позиций боевой корабль, быстро залатает пробоину в доке, набьет утробу углем и снарядами, снова исчезая в гневном просторе.
Мимо, Кронштадт, мимо! Плывем дальше, пока справа по курсу не откроется Гельсингфорс – главная цитадель линейных сил флота. Дредноуты, словно маятники, регулярно качаются между Ревелем и Гельсингфорсом. Ревель на юге огражден с моря батареями острова Нарген; Гельсингфорс на севере стерегут батареи мыса Порккала-Удд, а водное пространство между ними Эссен завалил минами. Лишь вблизи берегов оставлены для прохождения своих кораблей узкие лазейки фарватеров. Оттого-то германский флот не может войти в Финский залив, ибо напорется на минные банки. А сунется кайзер через фарватеры – его раздавят батареи Наргена и Порккала-Удд. Вся эта система обороны столицы на морских ее подступах носит название – Крепость Петра Великого.
Финский залив кончился – справа по борту за мысом Ганга (который в старину звали Гангутом) нам откроются острые шпицы древнего Або. Здесь, между Гангэ и Або, базируются в шхерах наши подводные силы. По ночам, стуча дизелями, отсюда выходят легендарные «Гепарды» и «Ягуары», «Ерши» и «Акулы», «Миноги» и «Барсы», которые сеют смерть врагу в четких квадратах карт, размеченных литерами засекреченных цифр. А за Або уже вырастают пред нами угрюмые скалы Аландского архипелага. Это и есть Або-Аландская позиция Балтийского флота, которую не прочь захватить немцы, но шведы тоже зарятся на нее.
От устья Ботники снова навестим берега Эстляндской губернии. С открытого моря страну эстов ограждают два больших острова – Эзель и Даго, между ними и землею материка струится в отмелях и плесах Моонзундский пролив. В ту пору штурмана, подвыпив, любили горестно мурлыкать под гитару:
В Моонзунд идем, наверно, – В Моонзунде очень скверно…Да, это так. На мутном Кассарском плесе кораблям не разгуляться, а рукава Моонзунда не пропускают линкоры с глубокой осадкой. Выход один: землечерпалкам надо спешить, поднимая с грунта тонны камней и придонной грязи. Враг не ждет – торопитесь!
А если от самой Риги, читатель, поплыть вдоль песчаных пляжей курортов, мы попадем в Ирбены – узкое горло между Эзелем и Курляндией. Ирбены, как ты знаешь, невпроворот завалены минами – гуще, нежели фрикадельками суп в кастрюле щедрой хозяйки. Курляндия уже захвачена оккупантами, зато с мыса Церель (от Эзеля) Ирбены сторожат русские дальнобойные батареи.
Все эти позиции вместе взятые вкупе с кораблями и составляют именно то, что принято называть Балтийским флотом, сложное хозяйство которого обслуживали тогда 100 000 человек. Среди них не было кавказцев, мусульман Средней Азии, инородцев Севера и Сибири и лиц иудейского вероисповедания. В основном на флот брали русских, украинцев, белорусов, латышей, эстонцев и поляков. Среди офицеров были разные люди: начиная от потомков мифической царицы Савской, пленившей мудрого Соломона, и кончая каким-нибудь захудалым офицериком из студентов-технологов, который до флота бутерброду с колбасой бывал рад-радешенек…
После бунта на «Гангуте» авторитет большевиков на Балтике сильно возрос, и весь 1916 год Балтика уже не ведала стихийных выступлений. В глубоком подполье шла партийная работа. Наступила скользкая пора безвременья, в котором удобно устраивать заговоры – за революцию или против нее!
* * *
Европа кровоточила. На забрызганном кровью ринге появились еще два бойца – Болгария (на стороне Германии) и Италия (на стороне Антанты). К труду в тылу привлекались теперь женщины, старики и дети, а в Германии – противу международных законов – даже военнопленные. Германия выстраивалась по утрам в длинные очереди, чтобы помазать сухую сковородку кусочком эрзац-маргарина, чтобы заткнуть детям орущие рты мармеладиной из кормовой свеклы. Карточки, купоны, талоны… Продуктовая карточка немца, по иронии судьбы, стала оперативной картой Германии. Здесь царил не просто голод, а – как выразился В. И. Ленин – «блестяще организованный голод»! Антанта, вступая в 1916 год, заранее договорилась, что летом Россия перейдет в наступление, а французы ударят по немцам на реке Сомме. Кайзеру об этом сразу же доложили:
– Силы России истощены, однако наступать дальше в глубь варварской страны – значит утопать в области безбрежного. Несокрушима лишь Англия, мощь которой растет постоянно. Ваше величество, выход для Германии один: опередив планы Антанты, ударить по Франции, и этот удар болезненно отзовется на Англии…
На германских картах жирно выделили Верден – вот он, неслыханный жернов, на котором предстоит перемолоть французскую армию. Обрушился ураган чугуна, стали, горящей нефти и ядовитой химии. На сорок верст вокруг Вердена сразу все опустело. Но… Франция была жива! Французы быстро строили шоссе Париж – Верден. Собрав все такси, реквизировав все частные машины, Париж рассадил в них солдат и срочно бросил в мясорубку Вердена. Стоя друг против друга, две армии уничтожали одна другую. Верден заканчивал свое пиршество на цифре в миллион павших солдат.
В самый разгар битвы Франция обратилась к России с просьбой ускорить наступление. Наспех, в неряшливой небрежности, без парков и обозов, по весенней распутице русские солдаты пошли на немца у озера Нарочь, чтобы выручить Францию.
Генералы в утешение говорили солдатам:
– Вы не бойтесь – нас больше, нежели фрицев… Пройдем!
И потонули в крови и болотах. Каждая верста обходилась России в 7800 жизней, а взяли всего 10 верст. Если эти цифры перемножить, мы получим точную стоимость Вердена для России… Увы, кончилось время, когда Россия считалась непобедимой, когда в городах Польши
на улицах, как стих поэмы, клики вокруг сливались в лад, и польки раздавали хризантемы взводам русских радостных солдат.Кончилось это время. Теперь силен немец:
Он расскажет своей невесте о забавной живой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей, как пленительные полячки посылали письма ему…Бои шли уже под Двинском, от которого рукою подать до Пскова, а от Пскова… страшно даже помыслить: Псков – ключ от столицы. До самой оттепели русские самолеты забрасывали немецкие позиции открытками с картин В. В. Верещагина, на которых отображен весь ужас зимы 1812 года, героического для России. Но вряд ли открытки общины св. Евгении могли устрашить немцев…
– Россия не была готова к войне, – говорили одни.
– А что тут удивительного? – отвечали им другие. – Разве Россия когда-либо была к чему-либо готова? Это же ведь естественное ее состояние – быть постоянно неготовой.
* * *
Казалось, что море по весне снимало с себя зимнюю шубу, беспечно бросая ее на пески заснеженных пляжей. Громадные глыбы серых льдин выпирали на дюны, море толкало их дальше, и они с треском, давя новорожденных тюленей, лезли на опушки прибрежных лесов, срубая под корень вековечные сосны, льдины выбривали на плоских дюнах жесткие щетки кустарников.
После крепких морозов лишь в середине марта, задерживая действия флота, началась подвижка тающих льдов. Мощные пласты льда плотно забивали устья Финского и Рижского заливов – ледоколы ломали в торосах винты и рули, их бочкообразные борта трещали от безнадежных усилий проломиться через заторы. Над Балтикой кружили самолеты, высматривая полыньи и трещины.
Лишь к 1 мая флоту удалось закончить развертывание боевых сил. В ярком сиянии весеннего дня, поблескивая бортами, прошла героическая «Аврора» – тогда еще рядовой крейсер российского флота, сам не знавший своей судьбы.
…Весна! Как хочется жить – весной.
Громче из сжатого горла храма хрипи, похоронный март.Заговор в безвременьи
В час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются темные воды над их трупами, мы возвышаем свой голос. С уст, сведенных предсмертной судорогой, мы поднимаем последний горячий призыв… Да здравствует справедливый и общий мир!
Из призыва балтийцев1
Обводный канал за Лиговкой – тут «парадизом» и не пахнет. Быстро растущая столица раздавила дачную тишину и нежные рощицы. Петербургские предместья уничтожили акварельные краски природы, измазав окраину буднично-серо, – вот и похилились набок дощатые заборы; словно намокшие червивые грибы, глядятся на мир хибары, вылупясь мокрыми глазницами подвалов.
По утрам режет ухо залихватский рожок от казачьих казарм: желтолампасные, с опухшими от безделья мордами, а в глазах – жуть и похоть, едет на водопой лейб-казачье… Невесело здесь человеку, а Невский с его приманками – словно заграница чужая: туда от Лиговки на трамвае катишь, катишь. И жизнь на Обводном у людей – тоже серенькая, убогая, страстишки тут мелкие, никудышные, словно дети, не доношенные во чреве.
Но в юности все кажется хорошо! Даже зловонный Обводный канал – словно рай… И с гамом бежали мальчишки, оповещая:
– Витька Скрипов идет… Витька с флоту приехал!
Шел он по откосу канала сказочным принцем. Бушлат на нем до пупа (подрезан для лихости), а косицы лент бескозырки до самого копчика (подшиты для бравости). Клеши – хлюсть да хлюсть, так и мотаются слева направо, словно юбки. А чтобы мотались они пошире, в стрелки штанов свинчатка вделана. Смотрите, люди (особенно вы, бабы!), какой красавец прется в вашу захудалую житуху. Да, хорош парень – Витька Скрипов, юнга последнего выпуска из школы Кронштадта по классу сигнальной вахты…
Пришел он домой – под родную сень, из-под которой вырвался на флот, чтобы не жить постылой жизнью мастеровщины. Мать при виде своего сокровища всплеснула руками:
– Сыночек мой… Надолго ли? Боже, вот радость-то…
Отстранил он ее легонько. Убожество домашнее оглядел.
– Привет, мамашка! Чего это лампочку в пятнадцать свечей под потолок закатила? Аж клопа не видать, как ползет…
– Экономлю, сынок. Ныне все подорожало.
– Зато вот на флоте, мамашка, лафа нам всем! По тыще свечей сразу над башкой вворачивают… во такие лампы – с арбуз! И за свет платить не надо – у нас все казенное…
Мать робко тронула на рукаве сыновьей фланелевки «штат», в круге которого красным шелком вышиты два скрещенных флажка.
– Это зачем же? – спросила. – Для красоты небось?
– А я, мамашка, по сигнальному делу в люди выхожу. С адмиралами запросто. Без меня они как котята слепые. Даже семафора прочесть не могут. Тут, мамашка, перспективы на все случаи жизни огромные… через эти вот самые флажочки!
В окна с улицы пялились дворовые дети, его разглядывая, разевали рты. Помылся Витька из рукомойника, фыркая, спросил:
– Ну, а ты, мамашка, каково поживаешь?
– Ныне я цапкой стала, – отвечала мать.
– Цапкой? Это… Ага, понимаю. Цапаешь, значит?
– Цапаю, сынок, – смущенно призналась мать. – У нас на Обводном все бабы цапать стали. Когда возы с сеном на базар везут, мы бежим за возами и сено с них цапаем. Когда горсточку. Когда и боле сцапаешь. И кнутом огреть могут… А к вечеру, глядишь, на хлеб-то себе и нацапаю. Теперь по-людски живу. У меня селедочка есть. Шкалик держу с осени. Не писал-то чего? Изнылась.
– Не писал, мамашка, потому как человек я ныне секретный…
Прослышав, что к Марье Скриповой сын приехал, потянулись к ней подруги и товарки, соседки по домам на Обводном канале. Открыли форточку – повеяло весною в подвал. Мать, помолодев, скатертью стол застелила – повеселело тут. Бабы-цапки пришли не пустые: кто с огурцами, кто с пирогом. Появилась и бутылка денатурата. Дворничиха Аниська, баба лет сорока пяти, плоскостопая, сисястая, с бесенятами в глазах, Витьку щипала:
– Ой, и хлебом меня не корми – только дай флотского!
– Анисья Ивановна, – отвечал ей Витька с достоинством, – ты флотских еще не знаешь. Вот возьму тебя в оборот да башкой об печку как хрястну… Мы, кронштадтские, тонкости эти понимаем!
Орудуя возле плиты, смущалась мать:
– Витенька, – да что ты Аниське нашей говоришь-то?
– А ничего! – напирала баба на парня. – Я вить вчера с мужиками бревна с баржи таскала. Я таких, Марья, как твой Витька, сама расшибу об печку…
Сели за стол. Юнга стал разливать цапкам денатурат по стопкам, рыжим от старости. Бабы жмурились, отнекивались:
– Ой, куды мне стока… домой не дойду! – Но пили исправно.
Витька гитару свою настраивал. Аниська его коленями жаркими толкала под столом и заводила безутешно:
Эх, загулял, загулял парень молодой-молодой, в синей рубашоночке – хорошенький такой…Витька и сам спел – такое, чего не поняли цапки:
В Кейптаунском порту – с какао на борту – «Жанвета» выправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж…Мать сухонькой рукой трогала «штат» на его рукаве:
– Скажи, сынок, а это опасно или нет?
– Чего, мамашка? Флажками-то махать… Не, это даже полезно. Физически развиваюсь. Умственно тоже.
Аниська сбегала к себе в дворницкую и, шмыгая большими красными галошами, натянутыми поверх валенок, шлепнула на стол еще одну бутылку.
– Ну, ин ладно! – сказала вся в запарке. – Приберегла до пасхи, а уж коли на нас такой парень свалился… пейте! Ну, Марья, тебе повезло. Не думала, что из сопляка твово такой матрос получится…
Мать ревниво следила за тем, как ее сын лихо глотал денатурат, как ронял с вилки на пол селедку и лез за ней под стол.
– Ничего, мамашка! В нашем ресторане завсегда так положено, что, не поваляв по полу, в рот не кладут…
Она держала на коленях его бескозырку, водила пальцем по золотым буквам ленточки, прочла надпись: «ВОЛКЪ».
– Витенька, а не опасно ли это?
– Волки-то? Не, мамашка! Аниська тута волков опасней…
Был он не похож на иных обитателей Обводного – весь в добротном сукне и трикотаже, с упругим и сытым подбородком. К хлебу относился не как они – корки отламывал и бросал, избалованный. За столом бабы уже не веселились, а больше выли, опьянев, со стеклянными глазами. У одной – похоронная дома на комоде лежит, другая второй месяц с фронта вестей не имеет, похоронную ждет.
Витька, сильно окосев, утешал их:
– В этом годе непременно немчуру доконаем. Имею на этот счет самые точные калькуляции. Быть всем нам в ореоле… Ученые уже высчитали. Выходит так, что у русских кишки на два метра длиннее, чем у немцев. От этого им с нами никак не совладать!
Ночью Витька осторожно, чтобы не разбудить мать, вылез через окно на улицу и постучался в дворницкую.
– Кто там? – сонно спросила баба.
– Это я, тетя Аниська… открывай.
– Чего тебе, молокосос? Вот я матке твоей скажу.
– Говори кому хошь, а сейчас открой. Ты с кронштадтскими не шути. Я к тебе не лип – ты сама навинчивала…
Брякнула щеколда. В потемках предстала перед ним в нижней рубахе прекрасная дворничиха с Обводного канала.
– Тише… ведро тута стоит. Не сковырни.
– Ладно, – сказал Витька (и ведро с грохотом покатилось).
– Соседи-то, господи, што обо мне подумают? – испугалась Анисья, ставя ведро на табуретку (и еще больше создавая шума)…
И стала она его первой женщиной в жизни. Витьке не было тогда и семнадцати лет – скоро стукнет.
* * *
На следующий день наступила пора прощаться. Мать прихорошилась, платок повязала. Надела кофту «козачок» с пышными рукавами, узкую в талии. Смотрела рассеянно, была она суетлива от волнения. Вот и вырос сынок. Вот и уходит.
– Ты уж скажи мне, Витенька, вернешься-то когда?
– Не знаю, мамашка! Вот всех немцев перетопим… жди!
На дворе им встретилась дворничиха Аниська с метлой и железным совком, в котором дымились теплые лошадиные катыши. Прощаясь с Витькой, стала она пунцовой, глаз не смела поднять.
– Спасибо за компанию, – буркнула парню.
– Приятного вам здоровьица, – отвечал ей Витька…
Пошли к остановке трамвая; бежали следом мальчишки:
– Витька уходит… Витька Скрипов на флот пошел!
Вот и поезд, на вагонах которого еще старые таблички: «С.-Петербург – Ревель». Едут больше военные, много сестер милосердия. Иные поверх халатов держат наопашь дорогие шубы, отбывающих сестер окружает родня, слышен французский говор. Мать в суматохе растерялась, хватала Витьку за рукав, на котором пестрели флажки сигнальной службы. Рядом с пассажирским на Ревель грузился воинский эшелон на Двинск. Ревели и стонали трубы духового оркестра, поселяя душу в печаль и разлад своим прощальным «На сопках Маньчжурии». Наперекор благородным флейтам визгливо вздрагивали в теплушках гармоники:
Ах, на што мне жизнь, Ах, на што мне чин?..Матерились солдаты, волокли по теплушкам пьяных, а они кочевряжились, шинели на себе разрывая, кресты показывая. Было на вокзале пестро, дико, бравурно и как-то страшно.
Разлука, ты, разлука, чужая сторона…Войдя в купе, Витька распахнул окно, высунулся наружу:
– Ничего, мамашка! Вот выслужусь, тебе, может, и полегчает. На этих самых флажках большую карьеру можно сделать…
Мать, пригорюнясь, стояла на перроне, затолканная, со слезою в глазах, просила писать почаще, не пить и не курить. Брякнул гонг, вещая отбытие, суля разлучение. Витька вдруг подумал, что не поедет она в трамвае, а, пятак экономя, побредет до дому пешком, через всю длиннющую Лиговку. А завтра снова побежит за возами и будет цапать сено. Цапать до самого вечера. А мужики с возов будут взмахивать над ней кнутовищами…
– Мам, – неожиданно для себя сказал ей Витька, – ты уж меня прости. Я не всю правду тебе сказал… Я ведь, мам, добровольцем на «Волка», на подводную лодку, мам… буду под водой плавать!
Лязгнули колеса, и состав потянуло – как в бездну.
Через окно видел Витька Скрипов, как заметалась мать с ее последним напутствием, дрожащей щепотью крестила его издалека. Прорезав окраины ревом, паровоз уже прокатывал вагоны через мост над Обводным каналом – обителью Витькиного детства. Вагоны, вагоны, вагоны…
Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели.А мать такой и запомнилась ему навсегда – с открытым в ужасе ртом. Только за Ямбургом Витька пришел в себя, осмотрелся среди попутчиков. В купе был еще один флотский – матросище здоровенный, на котором трещала по швам тесная форменка. Был он хмур и больше помалкивал. А на рипсовой ленточке его бескозырки написано вязью: «2-й Балтийский флотский экипаж».
– Второй, – хмыкнул Витька ради знакомства. – А я через первый в Кронштадте проходил. Теперь на «Волке», знаешь?
– Знаю. Есть такая лодка.
– Мы – подводники, – похвастал Витька, – у нас и жратва лучше вашего. Какавы этой – хоть ноги мой… И крестов у нас много!
– Что-то я на тебе крестов не вижу, – буркнул матрос.
– Не успел надеть. Эвон в чемодан свалил их… Ну их к бесу! Обвешаешься кады, так даже носить тяжело.
– Трави дальше до жвака-галса… салажня ты паршивая!
– Это как сказать, – соловьем заливался Витька, наслаждая себя вниманием попутчиков. – На подлодках дураков не держат. Хотите закурить папиросу первого сорта «Пушка»? Пожалте…
Старичок напротив газетку «Вечернее время» отложил и спросил у матроса-атлета:
– А вы, сударь мой, с какого же парохода будете?
– Мы гангутские… линейные! Сами будем в полосочку.
– О! Как это приятно, что вы нам встретились, – обрадовался старичок. – Ну-кась, расскажите, что у вас там было. По газетам трудно судить, да и наврано порядочно…
Стал матрос говорить. Кратко. Обрывками фраз. О бунте «Гангута». И сразу померкла Витькина слава – уже никто и не смотрел в сторону юнги. Пришли послушать гангутского из соседних купе солдаты. Витька от зависти усидеть не мог на месте. Крутился. Дымом балуясь, вклинился в паузу разговора.
– Одно вот плохо, – сказал печально, – от баб этих самых ну прямо отбою не стало. Так и липнут, стервы, так и кидаются! Письмами тут закидали. Я, конешно, не отвечаю… ну их! А коли в Питер явлюсь, так по всему Обводному (я на Обводном живу) девки сами, как дрова, в штабеля складываются. Любую бери – не надо!
– А вы бы, молодой человек, – недовольно заметил старичок, – шли бы «пушки» свои на тамбур смолить… здесь и дети.
– Верно, – поднялся матрос с «Гангута», задевая широченными плечами спальные полки. – Пройдем-ка… недалеко тут.
В тамбуре гангутский открыл дверь, молча взял Витьку, как щенка, за шкирку и на вытянутой руке выставил его из вагона наружу. Держал так в могучей клешне, а Витька семафорил там, ногами дрыгая, и визжал от страха… Неслась под юнгой темнущая эстляндская ночь, вся в подпалинах снега, в искрах и звездах, далеко впереди истошно орал локомотив, а прямо под Витькой чернела высокая насыпь путей, с грохотом отлетающая назад.
– Ой, дяденька, пусти… ой, уронишь! Пропаду ведь…
– Сукин ты сын, – отвечал матрос, встряхнув его над ночью, как тряпку. – Будешь еще заливать? Будешь о бабах трепаться?
– Ой, не буду больше, дяденька… только не вырони!
Матрос втащил его обратно в тамбур и захлопнул дверь:
– Ступай в купе и заяви при всех, что наврал. Из-за такой сопли, как ты, девки в штабеля не складывались… Поди вот и сознайся честно, что бригады подплава ты и не нюхал!
Витька Скрипов жалобно всхлипнул:
– Не могу я так… что хошь, только не это!
– Почему не можешь правды сказать?
– Потому что я правду сказал… Я действительно на «Волка» направлен. Вот и документы могу показать… добровольцем!
Матрос с «Гангута» молча пошел в купе. Витька потянулся за ним. Этим гангутцем был разжалованный унтер Трофим Семенчук.
* * *
– Господин старший офицер, штрафованный гальванер первой статьи Трофим Семенчук, призыва девятого года, для прохождения службы на эскадренном миноносце «Новик» – прибыл!
Артеньев сидел на круглой вертушке в центропосту автоматической наводки, весь опутанный телефонными шнурами от ПУАО[10], и слушал доклады с мостика. Отмахнулся: мол, не мешай.
– Проверь первую фазу, – кричал он в телефон. – Ну, что у вас там, Мазепа? У меня контакта нет… Ищите дальше.
Семенчук свалил чемодан на палубу, одернул шинель. Кажется, все в порядке. Застегнут. По форме. При галстуке. Старшой занят. Даже не глянул. О чем они говорят?.. Опытный гальванер, он из перебранки центропоста с мостиком понял, что офицеры ищут разрыв в цепи между автоматом и дальномером. Дело знакомое…
Выбрав момент, Семенчук вежливо вставил:
– Ваше благородие, позвольте заметить?
– Ну, заметь, – неласково глянул Артеньев.
– У нас на линейных такая чехарда бывала. Легче дом в бутылке построить, чем разрыв в синхронности обнаружить. Ежели была у вас тряска хорошая, то отдались на пятом щитке дальномера два левых зажима: красный и зеленый… Извиняйте на этом!
Артеньев поглядел с подозрением и сказал в телефон:
– Игорь, тут один охломон прибыл… без лычек уже, ободрали. Кажется, дельное говорит. Я пришлю его к тебе наверх. – И сердито велел Семенчуку: – Отвертку в зубы и скачи на дальномер. Подожми синхронные клеммы… Подсоединишься на меня с мостика телефоном. Понял?
– Есть.
На мостике Семенчук сорвал жесткие чехлы с дальномерных труб. Плюхнулся спиной в кресло наводки, и тубусы пружин глубоко просели от тяжести массивного тела. Щиток снять легко, хотя винты его в шторм засолились. Сунулся отверткой в разноцветную неразбериху достаточных контактов. Поджал красный и зеленый. Потом нацепил на голову наушники.
– Мостик – на ПУАО: даю отклонение педалью, следите за синхронностью. Начал! Угол – десять, двадцать, тридцать. Как у вас?
Дальномер, журча, словно весенний ручей, своим роликовым барбетом стал разворачиваться трубами-гляделками, и – вровень с ним – пошли по горизонту все четыре пушки «Новика», пробирая жутью наводки пустынный рейд бухты Куйваста…
– Молодец, – похвалил его с днища корабля старший офицер. – Теперь переключи телефон на старшего минера Мазепу.
Мазепа выслушал Артеньева и повернулся к Семенчуку:
– Штрафной? Как фамилия?.. Ясно. Проваливай в первую палубу. После ужина возьмешь у баталеров хурду для спанья.
– Я еще не доложился по форме, ваше благородие.
– Ладно. Да зайди на камбуз. Скажи кокам, чтобы покормили…
Такого отношения к себе Семенчук никак не ожидал. Все-таки что ни говори, он с «Гангута» разжалован и на подозрении – теперь, думал, зашпыняют. А вместо этого – койку получи, на камбузе покормят, и дела до тебя нет… Волоча по ступеням трапа парусиновый чемодан, зашнурованный по всем правилам флотской науки, он спустился в первую от носа корабля палубу.
– Какой-то еще гусь к нам прется, – встретили его матросы.
– Я не гусь… с «Гангута» мы будем. Вот дали по шее – теперь на эсминцы перескочил. Здорово, ребята!
Это сообщение сразу все изменило: подходили, трясли руку и хлопали по груди, которая гудела от ударов, посадили в красный угол кубрика – под икону и под бачок с кипяченой водой.
– Большевик? – спрашивали. – Ты не бойся. Шкур нету.
Помня о конспирации, Семенчук отвечал уклончиво:
– Не. Мы так… шумим помалости.
Пошел на камбуз. Там коки уже отмывали баки под ужин.
– Слушай, – спросили, – мы Семенчука знаем, не ты ли был чемпионом от бригады линейщиков в Гельсингфорсе?
– Я.
– От обеда одни помои. Так мы тебе с табльдота…
Навалили с гарниром, сверху офицерскую вилку воткнули.
– Трескай! Теперь за Минную дивизию будешь бороться?
Отвечая своим потаенным мыслям, Семенчук сказал:
– Отчего же? Можно и Минную дивизию в люди вывести…
Стоял на политой мазутом палубе, смотрел на рейд, ел. Тут к нему пришвартовался кондуктор со «штатом» рулевого на рукаве, в котором был штурвал вышит. Был он при «Георгиях» многих.
– Хатов я… А ты с «Гангута»? Чего вы там психовали?
– Да так. Завинтили нас. Макаронами обидели.
– Мало вас завинчивали. Ну ладно. После потолкуем…
Лучше бы он не подходил. Лучше бы с ним не встречаться. Хитрый и осторожный службист, кондуктор Хатов был отъявленным анархистом. Это он сейчас кресты зарабатывает, у начальства верным и хорошим считается. Погодите, придет время, и он зубами глотки рвать станет… Страшны черти из тихого болота!
2
Экипажи подводных лодок комплектовались исключительно из добровольцев. Принуждения не было: не хочешь под воду полезать – и не надо, тут же списывали без истерик. Бросалось в глаза резкое несоответствие в возрастах: офицеры, как правило, отчаянная молодежь, а команда – из людей, уже обвешанных шевронами за долголетнюю службу. Люди на подплаве быстрее надводников продвигались по таблице чинов. Здесь матрос, хороший специалист, имел возможность выслужиться в первый офицерский чин – прапорщика по Адмиралтейству. Многих привлекали и материальные выгоды, высокое жалованье. Столы команды и офицеров почти соприкасались, и на них стояли открыто – свежие яйца, мандарины, сгущенка, какао, шоколад, а каша была рисовая, да еще с изюмом.
В основном же служить под водой шли грамотные патриоты, любящие свое дело и отлично знающие, что ожидает их при малейшей оплошности. Офицерский состав лодок отличался от офицеров флота надводного. На субмаринах между начальниками и командой можно было наблюдать дружбу, скрепленную железной дисциплиной. Офицеры подлодок были намного образованнее офицеров-надводников. Среди них встречались не только отпетые головы, но и выдающиеся инженеры-изобретатели. Сама служба, полная отваги и риска, толкала их мысль к выдумке и рационализации. «Теория тут же проверяется практикой и… какой практикой! Ум человеческий на подлодках изощряется до предела. Приходится постоянно помнить, что на карту ставится своя и много других жизней» – так писал неизвестный офицер с подлодки «Волк», который укрылся под псевдонимом «Лейтенант Веди».
Русские подводники очень много писали. Они даже издавали журналы. Писали же не только мемуары, но даже учебники. Германия пристально следила за ними еще до войны. Б. А. Мантьев разработал теорию оптики перископа настолько, что фирма Цейса, украв патенты, строила перископы для германских лодок по его проектам. М. Н. Никольский «ударился» в чистую химию, работая над проблемой кислородного голодания экипажей и дизелей; он создал двигатель замкнутого цикла… Посмотришь на них – холостые лейтенантики, безусые мичманята, а как много они сделали для развития русского флота! Вот эти молодые люди от прогресса технического закономерно перешли потом к прогрессу социальному, и подплав почти целиком встал на сторону Советской власти…
Самая трагичная судьба выпала на долю геройской «Акулы». Командир ее, лейтенант Николай Александрович Гудима, изобрел дыхательный хобот, чтобы субмарина могла «дышать» и работать дизелями под водой. По сути дела, это изобретение было настоящей революцией в подводной практике, но… Последний раз «Акулу» видели возле берегов Эзеля. Пережидая сильный шторм, лодка отстаивалась на отмелях в секторе обзора наших постов. Имея на борту четыре мины для постановки их возле Либавы, она снялась потом с отмели и ушла в море. С тех пор прошло много-много лет, но до сих пор мы ничего не знаем о судьбе «Акулы» и ее ученого-командира.
В 1943 году дыхательные хоботы – под названием «шнорхель» – появились на гитлеровских подлодках Деница, и весь мир воспринял это событие как чрезвычайно важный фактор в войне на море. А в нашем флоте изобретение Гудимы было безжалостно забыто. Жаль, и даже очень жаль! Ведь еще в 1915 году три русские подлодки уже ходили в море под слоновьим хоботом «шнорхеля».
Сейчас Колю Гудиму вспомнили. Подтянутый и ловкий, нервный (даже на фотографиях это чувствуется), лейтенант Гудима весь в напряжении глядит вперед по курсу. На груди его – значок русского подводника, очень схожий с нагрудным знаком почетного подводника советского флота… Где ты, «Акула»?
В XX веке уже не верится в чудеса, но иногда мне кажется, что мы еще услышим с моря стук дизелей, и бесплотные тени прошлого молча, без суеты подадут на берег швартовы с «Акулы», корпус которой будет крошиться от ржавчины и коррозии.
* * *
Командир бригады подводного плавания контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский[11], абсолютно лысый, с глазами навыкате, человек умный и упрямый, открыл офицерское собрание:
– Итак, я вас огорчу. Швеция передала для нужд германского флота трехмильную полосу вдоль своего побережья. Используя эту полосу как безопасный коридор, кайзер сейчас выкачивает из шведов уголь, сталь, крупу, сало, машины. А мы не имеем права войти в эту трехмильную зону.
– Почему? – заговорили подводники.
– Чтобы не нарушить нейтралитет нейтрально.
Вполне академичный ответ Вердеровского:
– А мы, русские, нарушать не станем. В пору всеобщего безумия, охватившего мир, русский флот должен сохранить гуманные принципы военного благородства. Уже известны случаи варварства, когда спасенных из воды немцев британские моряки, наши доблестные союзники, подвергали пыткам на своих кораблях…
Возле Вердеревского – его флагманский минер, щеголеватый Кукель-Краевский[12], который щедро подлил масла в огонь.
– Хочу предостеречь, – сказал он. – На Балтике обнаружился новый фронт. Шведские корабли взяли на себя недостойную обязанность конвоировать немецкие корабли вблизи своих берегов, и теперь противник идет под охраной флага нейтрального государства.
– И это вы называете нейтралитетом?
– Да, – чеканил в ответ Вердеревский, – Россия будет сохранять нейтралитет, невзирая на явное его нарушение шведами…
Встал дерзкий командир «Барса» – Николай Ильинский:
– Известно ли моему адмиралу, что подводная лодка «Сом» погибла со всем экипажем, протараненная шведским кораблем? У меня немало примеров, когда шведы, идя на таран, в гармошку закручивали наши перископы. Может, и гудимовская «Акула» нашла себе гроб благодаря заботам нейтральной Швеции о желудках подданных германского кайзера?..
Трехмильная зона – это больше пяти километров, насыщенных богатой добычей, и Вердеревский не давал своим подчиненным ворваться в этот зверинец, где за вольером робкой дипломатии бегают жирные немецкие звери… Заговорил самый юный участник собрания – старший офицер «Волка», лейтенант Бахтин[13].
– Германия варварски топит детей и женщин, немцы взрывают наши госпитальные суда, а мы разводим с врагом сопливый гуманизм. Если в Германию плывет даже щепка, – говорил Бахтин, – надобно топить и щепку! Союзом гамбургских судовладельцев руководят не бюргеры, сейчас не время Ганзы, их кораблями двигает германский генштаб, повинный в порабощении славянского мира. Разве не так?
Вердеревский, сверкнув лысиной, повернулся к флагману:
– Сергей Андреич, скажи хоть ты… я устал!
Кукель-Краевский, нетерпимый в споре, заключил:
– Подплав должен исполнить долг даже в том случае, если ваши руки связаны дипломатией. Старайтесь выманить противника из нейтральной зоны, чтобы торпедировать его…
– Чем выманить? Пряником?
– Расходитесь, господа. Вопрос решен…
«Волк» качался под сенью пирса, готовый сняться со швартов. Командир был болен, и лодку уводил старший офицер Бахтин. На сходне его встретил боцман, представив нового сигнальщика:
– Во, салажня! Семнадцати нет, а уже под воду лезет.
– Я добровольцем, – торопливо сообщил Витька Скрипов. – Уж сколько юнг хотело на подлодки, а уважили одного меня.
– За что же такая честь?
– Лучше всех семафорю. За мной не угнаться.
– Ладно. Полезай в люк, – улыбнулся Бахтин.
Саше Бахтину был тогда 21 год – недалеко от юнги ушел. Отличный возраст! Именно в таком возрасте флаг-капитаны Нельсона решали судьбу Трафальгара и всей Англии… У лейтенанта железная воля, острейший разум, реакция в риске стремительная. И потому солидные, все в крестах и шевронах кондукторы, которым уже на пятый десяток, тянутся перед юношей в нитку… От этого лейтенанта с детскими пухлыми щеками зависит их жизнь, их судьба.
– Открыть напиток храбрецов – шампанское… Снимаемся!
* * *
Итак, им предстояло побеждать, строго выполняя нормы международного права, которые уже давно не признавались противником. Ловить врага на сложных фарватерах в те редкие моменты, когда он вылезет из нейтральной зоны. Задача совсем непростая, если учесть, что маркировка бортов и труб германских кораблей была нагло фальшивой. Немцы – в нарушение всех правил – ставили на себе маркировку нейтралов или, закрасив марки, шли в Германию, вообще не имея никаких опознавательных знаков.
«Волк» стал проворачивать дизеля, сильно чихавшие до разогрева, матросы завели граммофон, и над уходящей из Ганга лодкой, душу всем надорвав, жалобно пропела Плевицкая:
Ох, и грошики – вы мои медные! Ох, ребятушки – вы мои бедные!3
Хороший сигнальщик – это драгоценность.
Лейтенант ВедиИз дизельного отсека летела отчаянная пальба, будто целый полк стрелял из винтовок, – это громыхали клапаны прогревшихся дизелей. Из выхлопных клапанов лодки четко выбивало зловонную пульсацию отработанных газов. «Волчица» (как любовно называли моряки своего «Волка») ныряла в волнах, пронзая их узким акульим телом. С мостика свалился по трапу, отряхивая реглан от воды, Саша Бахтин:
– Идем в квадрат Ландсорта… поругаемся со шведами!
Витька Скрипов, безмерно счастливый оттого, что не стал на качке блевать, как худая кошка, нес вахту на мостике. Бинокли заплескивало морем, «чечевицы» быстро мутнели; бинокли на шкертиках часто спускали с мостика в рубку, где их протирали, крича: «Готово! Тащи…» Вблизи шведских берегов Бахтин приказал:
– Принять десять тысяч литров в цистерны.
«Волчица» долго не отрывалась от поверхности, словно жалея расставаться с солнцем, а потом круто вошла в падение на глубину. Юнга впервые осознал по-настоящему, что такое пучина моря. В круглых пузырях смотровых стекол сначала возникла игривая желтизна. Потом вода, отяжелев, сделалась зеленоватой, но солнечные лучи еще пробивали ее насквозь. Постепенно она становилась свинцовой, и черный бархат мрака совсем задернул рубочные окна.
– Надо выспаться в тишине, – сказал Бахтин, сладко зевнув.
Тишина… На лодке все уснули, кроме дежурного. Им-то хорошо спать, а каково Витьке, который не может опомниться при мысли, что валяется на дне моря. «Вот бы мамашка посмотрела… ух, и вою же было бы!» А ему ничего, даже приятно. На столе пялится труба граммофона, расписанная лазоревыми цветочками. Юнгу поразило, как его встретили на лодке. Будто родного сына.
Часа эдак через три Бахтин был уже на ногах и шел от носа лодки, неся в руке никелированный электрочайник, фыркающий паром.
– Эй, ребята! – будил он команду. – Кто стащил у меня из каюты книгу «Подарок молодым хозяйкам»? Надо бы к обеду какой-нибудь салатишко соорудить… чтобы помудреней!
Над хвостами торпед, готовых втянуться в трубы аппаратов, зябко помигивала «пальчиковая» лампа-свеча перед образом Николы-угодника (иных святых на флоте не признавали, а этот служил по водной части). Подвсплыли. Бахтин провернул перископ:
– Норчепингская бухта… Начинаем охоту.
Корпус лодки, как хорошая мембрана, чутко воспринимал все подводные шумы. Где-то в отдалении кромсали воду винты чужих кораблей. Звуки были различны, и боцман сказал юнге:
– Слышишь? Хрю-хрю-хрю… Будто свинья жизни радуется, когда ее утром из хлева выпущают на гулянку. Это тяжелогрузные пароходы. А вот визг такой, будто тарелки мокрые протирает кто-то. Это, братец, наши враги злейшие – эсминцы где-то шныряют…
Первым в объектив перископа залез «швед», и Бахтин его пропустил мимо. А вскоре линзы отразили черный борт корабля. Без флага. Без маркировки. Провыл мотор – перископ на стальных тяжах уполз внутрь лодки, словно обожравшийся удав в потаенное гнездо.
– Продуть балласт… к всплытию!
Сейчас там, наверху, весь в солнечных брызгах, вырывался над морем стальной нос «волчицы».
– Александр Николаич, – спросил боцман, – а кто там?
– Купец.
– Худой?
– Нет. Жирный. Едва тащится…
Витька Скрипов вязал к шесту андреевский флаг, а ниже его – флажок «како», что по Своду означало: «Имею для вас важное сообщение». Многое было непонятно для Витьки. Лодка еще не откачалась балластом, палуба «Волка» была еще под водой, а люк уже поспешно раздраили, и здоровенные комендоры прыгали с мостика прямо в море. Да, прямо в волны, под которыми ноги их привычно находили погруженную палубу. Из такого гиблого положения, чуть ли не до пояса в воде, они ловко открыли огонь из пушки.
– Предупредительным! Бей, ребята, под нос…
На мачту «купца» взлетело черно-красное полотнище с орлами.
– Открылся, фриц, – усмехнулся Бахтин. – Скрипов, вздымай на шест: «Возможно скорее покинуть судно». Немцы народ дисциплинированный, иметь с ними дело – сущее наслаждение…
Это верно: немцы быстро заполнили шлюпки и отвалили. Сами жестокие с врагом, они не ждали милостей и от противника.
– Левой торпедой… пли! («Левая вышла», – перекатывалось на лодке.) Правой… пли! («Правая вышла», – сообщали минеры.)
«Волчица» при этом подпрыгнула из воды, потеряв на залпах две тонны своего веса. Серебристые тропинки от следа торпед вытянулись вдаль. Грянул взрыв, очень близкий. Рискованно пронесло обломками. Корабля не стало. Витька пялил глаза на чистое море.
Бахтин через мегафон подозвал к себе шлюпки с немцами:
– Капитан… кто капитан? Какой был у вас груз?
– Железная руда. Порт назначения – Гамбург.
– Отлично, – повеселел Бахтин. – Вот у Гинденбурга сразу убавилось пушек… Кэп, прошу вас к себе на борт с судовым журналом. Остальные свободны. Берег здесь недалек. Желаю удачи.
Оставшиеся в шлюпках немцы, как по команде, учтиво привстали со скамеек и дружно подняли над головами фуражки. Бахтин в ответ тоже салютовал им своей «фуранькой» – мятой, как у британского марсофлота. «Волчица» опять начала пальбу дизелями, вспахивая море дальше. Немецкий капитан достал трубку, но дымить не разрешили. Бахтин протянул ему пачку жевательного табаку:
– У нас не курят, кэп. Вот, можете пожевать…
Капитан заплакал, с яростью закусив сразу полпачки. Желтая слюна потекла по его подбородку. Пленного увели в нос, снабдив стаканом горячего чая и большим куском ситного хлеба.
Второй германский корабль носил нежное имя «Бианка», и с ним пришлось повозиться. Открыв огонь из замаскированных пушек, немцы рванулись в сторону шведского берега. «Волк», напрягая дизеля, погнался следом. Витька ошалел от увиденной им картины… Нос «волчицы» то взлетал высоко, то рушился в пропасть, волна стегала через пушку, срывая за борт ящики с унитарами. Волна за волной, выстрел за выстрелом – на сильной качке не попадали! Старшину смыло от пушки, но он схватился за штаг и уцелел. Казалось, еще один рывок машинами, и «Бианка» укроется в спасительной зоне. Удачным снарядом под винты комендоры ее застопорили. Плененный капитан оказался непокладист и стал орать:
– Я требую декларации с заходом в нейтральный порт для заверения нотариусом бандитского нападения в нейтральных водах.
– По возрасту я гожусь вам в сыновья, – отвечал ему Бахтин. – Вы же серьезный человек, кэп, и поверьте, что мне неловко выслушивать от вас подобные глупости…
Навстречу шли сразу три корабля – два шведских охраняли один немецкий, тяжко просевший в море ниже ватерлинии. Наверное, опять руда для заводов Круппа в Эссене. Дали команду – к пушкам. Бахтин решил топить немца на глазах конвойных судов. Риск был страшный: шведы могли накинуться и затоптать лодку килями.
– Но… пусть попробуют, – озлобленно выругался Бахтин.
Дерзость русских подводников ошеломила шведов: они застопорили машины и в отдалении пронаблюдали, как русские мгновенно разделались с рудовозом. На этот раз в шлюпках оказались две женщины, а рядом с ними, обнимая сразу обеих, качался капитан рудовоза «Кольга».
– Я вас умоляю, – взывал он к подводникам. – Это моя жена… У нас медовый месяц… Умоляю – не разлучайте.
– Здесь две жены. Какая ваша?
– Вот эта.
– А вы, фрейлейн? – окликнул Бахтин другую женщину.
– Я горничная…
Капитан был еще слишком молод, и он горько рыдал.
– Желаю счастья в семейной жизни! – крикнул ему Бахтин и захлопнул над собой крышку люка. – Принять балласт!
Ушли на глубину, продвигаясь на ровном движении электромоторов. Дизеля, отдыхая, медленно остывали от горячей работы боевого дня. Витьке тоже пришлось сегодня немало поработать, таская шест с флагами, меняя сигналы, и Бахтин похвалил его:
– Старайся и дальше. Главное – точность исполнения…
Крейсерство продолжалось. Но немцы теперь шли точно в канале, почти касаясь бортами шведских берегов, и трогать их там нельзя, чтобы не нагнать паники на министерство иностранных дел… Вечером германская подлодка, забравшись под тень берега, выстрелила в «Волка» торпедой. Следа ее не заметили, но при погружении слышали, как торпедные винты прошелестели совсем рядом. Это хорошо поняли и пленные капитаны – они завертели головами, глядя над собой, как это бывает с людьми, когда над ними жужжит шмель. Батареи скоро израсходовали энергию, и Бахтин велел перейти на режим «винт – зарядка», при котором один дизель толкал лодку вперед, а второй работал на динамо, питавшее аккумуляторы. При появлении самолета опять нырнули. На запуске моторов ударило рычагом в живот старшину, но он успел дать лодке движение, а потом замертво свалился на кожух. Аэроплан сбросил бомбы, которые словно выстегали «волчицу» плеткой: чух… чух… чух!
Витьке все было очень интересно, и он наслаждался. За вечерним чаем, когда лежали на грунте, команда крутила граммофон, и матросам пела на дне моря Настя Вяльцева: «Захочу – полюблю», «Нет, шалишь!», «Гайда, тройка» да «Ветерочек».
– Вот это баба! – восхищались матросы. – Посуду господам мыла, а теперича сорок мильонов нахапала и мужа отхватила… куда там! Я видел ее… худуща, стерва! Одна кожа да кости.
– Ей мильона не жаль, – рассудительно отвечал боцман. – У нее талант, штука редкая. Зато вот питерских гадов, которые с бензином да селедкой шахер-махеры делают, их давить надо…
– А теперь – мою любимую, – попросил из каюты Бахтин.
Его уважили, и отсеки «волчицы» наполнились, словно гибельной водой, роковым басом Вари Паниной:
Я грущу, если можешь понять мою душу, доверчиво-нежную…Бахтин чиркнул спичкой. Она разгорелась. Следя за ее ровным пламенем, юный командир сказал:
– Дышать пока можно. Утром продуемся… Спать, спать!
* * *
Утром спичка пшикнула серой и не загорелась.
– На всплытие! Проветримся…
Через перископ Бахтин увидел перископы неизвестной лодки. Воздетые «карандаши», сверкая на солнце оптикой, двигались почти рядом. «Кто она? Наша? Немецкая?» Лучше не выяснять, а то бывали случаи, когда свои врежут торпеду с испугу – потом разбираться поздно. Боцман лодки рассказал при этом, как перед войной на маневрах Черноморского флота нашлись идиоты-шутники: на катере подплыли к перископам, накинули на линзы мешок и… завязали.
– То-то хохоту было в Севастополе, – закончил он свой рассказ и мрачно добавил: – А командир лодки… поседел! Как лунь…
Вблизи финских берегов встретили миноносец, с мостика которого «волчицу» тремя свистками просили остановиться.
– Умники, – ворчал Бахтин. – Немцы ведь тоже свистеть умеют. Скрипов, подними позывные. Да отмаши им на флажках: «Волк. Точка. Идем на Гангэ. Точка. Чего надо. Вопрос».
С миноносца предупредили, что где-то здесь поблизости прошмыгнул германский сторожевик – пусть на лодке поберегутся.
– Всем вниз! Бери снова балласт… опять ныряем.
Витьке надоело таскаться по трапам с флажками, и он решил их спрятать на мостике. А чтобы они не всплыли при погружении лодки, он свернул их в трубочку и засунул под настил рубок.
– Прыгай! – сказал ему Бахтин, последним спускаясь с мостика.
Над головой командира с сочным прихлопом упала тяжелина люка. Стоя на трапе с покрасневшим от натуги лицом, Бахтин задраивал последние кремальеры винтов. Лодка погружалась, и палуба уходила из-под ног, словно людей спускали в быстроходном лифте.
Все было как надо. Как всегда, так и сейчас…
– Вода! – закричали вдруг. – Клапан не провернуть!
Через шахту вентиляции вода хлынула в машинный отсек. «Волчица», перебрав балласта, ускорила свое падение. Палубу уносило стремглав, и душа расставалась с телом. Никто не понимал, что случилось с исправной лодкой. Она падала, падала, падала… Вода вливалась в нее – бурно, гремяще. Если звук «щ» продолжать без конца, усилив его во много раз, то это и будет шум воды, рвущейся внутрь корабля. И вот лодка мягко вздрогнула.
– Легли, – перевел дыхание боцман.
– Грунт? – спросил Бахтин штурмана.
Быстрый взгляд на карту:
– Вязкий ил…
По шуму воды трюмные установили, откуда она поступает. Бахтин сорвал с себя китель и подал пример команде, засунув его в трубу вентиляции. Потянул с себя штаны – туда же! Теперь все раздевались, с бранью пихали в трубу фланелевки, тельняшки, бушлаты, свитеры. Давлением моря эту «пробку» вышибало обратно в отсек. Кальсоны облипали тела разноликих людей, которые, блестя мускулами, облитыми маслами и водой, ожесточенно дрались за жизнь. За жизнь корабля, которая была их жизнью.
– Почему холостят помпы? – надрывно спрашивал Бахтин.
– Не берут, мать их… не сосут воду. Замкнуло…
– Кидай жребью, – изнемог в борьбе боцман, – кому первому в люки выбрасываться. Ломай спички, чтобы судьбу делить. А эвтого сопляка (он прижал к себе Витьку, как отец родной) без жребию первого выкинем. Молод еще – жить да жить…
Море уже подкрадывалось к электромоторам, коллекторные щетки которых сильно искрили в воде. Бахтин вмешался в жеребьевку:
– Да не сходите с ума! Или не знаете, что на выкидке два-три из вас живыми останутся? Это не выход из положения…
Вода вдруг заплеснула ямы аккумуляторов. Седые волокна газа потекли над головами людей, которые хватали себя за горло от резкой боли, ползли на четвереньках.
– Хлор, братцы… Выбрасывайся, пока не сдохли!
– Назад, – зловеще произнес Бахтин. – Прочь от люков!
Свет в лодке погас, и только из рубки брезжило сияние лампады от иконы Николы – хранителя всех плавающих. Бахтин, задыхаясь, приник к воде, с поверхности которой обожженными губами хватал последние остатки воздуха. Сейчас на лейтенанте пучком сошлись взгляды всего экипажа «волчицы». Только он! Один лишь он может спасти их… «Спасешь ли ты нас, Саша?» Сбившись плечами в плотную стенку, матросы ждали приказа. Отравленные падали между ними, и товарищи поддерживали их головы над водою, чтобы они не захлебнулись. Штурман сказал Бахтину, что им уже никогда не всплыть…
Надрываясь в кашле от хлора, Бахтин хрипато выдавил из себя:
– Не пори ерунды. Отдавай подкильный балласт.
Со времени постройки «Волка» как укрепили балластные чушки под килем, так и плавали с ними. Даже забыли, что такой балласт существует. В нужный момент Бахтин вспомнил… Под килем лодки неслышно освободились от корпуса свинцовые пластины и легли на грунт. Выпучив глаза от напряжения, Бахтин прокричал:
– Весь воздух… весь!.. весь на продутие!
С ужасным помпажем, похожим на взрывы, сжатый воздух баллонов стал выбивать воду из цистерн. Насколько хватит его? Справится ли он с водою? Ведь лодка полузатоплена изнутри…
Стрелка глубомера слабо дрогнула под запотевшим стеклом.
– …Восемьдесят… семьдесят шесть… всплываем!
Всплывали! Всплывали! Всплывали!
– Как только всплывем, – простонал Бахтин, – первым делом выяснить, отчего в шахту поступала вода…
В раскрытом люке показалось чистое небо, и к лейтенанту, кашляя со свистом, подошел боцман:
– От всей нашей команды… велено мне вас поцеловать.
Бахтин был близок к обмороку. Поддерживая спадавшие кальсоны, которые пузырями провисали на коленях, он вдруг захохотал:
– Ну, если лучше барышни не нашли, то… целуй!
Его поцеловали, и лейтенант вроде ожил:
– Вентиляцию на полный… отравленных – наверх сразу.
Их складывали на палубе, как трупы. Вдали был виден тающий дым миноносца, и тут все поняли, что катастрофа длилась считанные минуты. Причину аварии искали недолго. С мостика резануло воплем, почти торжествующим:
– Нашли причину… флажки!
Бахтин взобрался по трапу наверх:
– Где нашли?
Ему показали под настил рубки. Флажки были засунуты прямо под клапан вентиляции. От этого клапан не сработал, и вода при погружении беспрепятственно хлынула внутрь лодки.
– Где… этот? – спросил Бахтин.
Витьку Скрипова наотмашь треснули флажками по морде:
– Твои? Ты их засунул туда, мелюзга поганая?
Только сейчас Витька понял, что случилось.
– Братцы! – упал он на колени перед людьми. – Убейте меня, только простите… братцы, не хотел я такого…
Боцман тряс его за глотку:
– Да мы ж семейные люди… у нас дома дети… внуки имеются! Гаденыш паршивый, я тебя научу, как флажками кидаться…
Витька принимал удары как должное возмездие.
– За ноги его и – за борт! Даже щепки не бросим…
– Тока бы до Гангэ добраться, а там, дома-то, мы тебе, паразиту, все руки и ноги повыдергиваем…
– Снять его с вахты, – велел Бахтин, и в корме с грохотом провернули дизеля («волчицу» уже проветрили от хлорки).
Витьку пихнули вниз, загнали его в носовой отсек.
– Вот тебе приятели! – И за спиной бахнула дверь.
Пленные капитаны, кажется, догадались, что их новый компаньон – виновник аварии. Они сердито жевали табак. Присесть возле немцев юнга не решился, а прилег, как на бревне, на теле запасной торпеды. Дизеля стучали, стучали, стучали… Потом они разом смолкли, и отсек заполнило ровное звучание тишины. Было слышно, как разорались матросы при швартовке, подавая концы на берег.
Конец всему. «Волчица» уже дома – в Гангэ.
– Вылезай, – позвали сверху.
Немецкие капитаны тщательно проверили – все ли пуговицы на их мундирах застегнуты, и пошли к дверям, где долго препирались между собою – кому идти первому. Следом за ними, задевая ногами за комингсы, боясь поднять голову, поплелся и Витька Скрипов.
– Списать его к черту! – приказал Бахтин. – Как непригодного к службе на подплаве… нам такие щибздики не нужны.
На причал выбросили его шмотье, которым еще вчера он так гордился. Форменка в обтяжку, брюки клешем. Теперь все белье было мокрое, насквозь пропиталось удушливым запахом хлора. Витька уже не плакал. С причала он низко поклонился команде:
– Только простите. Я уйду, но… простите меня.
– Иди, иди, салащня худая… Проваливай в Або!
* * *
В городе Або нет флотского экипажа – есть полуэкипаж. Попав в него на переформирование, юнга Скрипов в первую же ночь прокрался в умывальник, перекинул через трубу веревку и сунулся шеей в удавку петли. Красные флажки заплясали в его глазах…
Так закончился первый выход на боевую позицию.
4
Теперь все чаще слышал Артеньев среди машинной команды: «Ленька да Ленька!» Кто этот Ленька? Выяснилось, что так стали называть инженер-механика Дейчмана – дослужился!
– Я потомственный дворянин, – заметил старлейт при встрече, – и я могу бояться гнева низов, случись революция. Но ты, несчастный конотопский огородник… чего ты завибрировал раньше срока?
Дейчман на этот раз озлобился.
– Ты сухарь, – сказал он. – Ты обставил свою жизнь портретиками покойников, и они заменяют тебе общение с живыми людьми. А я не могу так… Я рад, да, я рад, что вырвался из круга ложных кастовых представлений.
– И после этого стал для своих подчиненных «Ленькой»?
– Время идет, и смотри, как бы тебе тоже не пришлось измениться. Но тогда будет поздно, – с угрозой произнес Дейчман.
– Мне изменять себя не придется. Будет у нас революция или не будет ее – безразлично. Я стану требовать дисциплины и порядка в любом случае. И пусть меня лучше поднимут на штыки, но «Сережкой» я для матросов не стану. Жалеть придется тебе, а не мне!
«Новик» пришел в Або – город, который любили русские моряки. Каждый город на Балтике имел свое незабываемое лицо. Гельсингфорс, созданный на замшелых скалах, был целиком устремлен в будущее. Ревель еще струился узкими улицами в прошлом средневековой Ганзы. Або оставался для Артеньева непонятен, и он всегда приглядывался к нему с удвоенным вниманием. Конечно, после пожара 1827 года здесь не осталось той древности, которая способна восхитить человека. За один день пламя уничтожило не только дома, но даже планировку старинного города. Або возродился уже в новом виде – с характером города почти российского. Было в нем что-то даже от Петербурга – гранит строгих набережных, мосты с чугунными решетками, а протекающая через город Аура напоминала петербуржцам о родной Фонтанке; река текла не по-фински смиренно. Здесь еще при Елизавете Петровне граф Брюс заложил русскую верфь. Она разрослась в большой завод, и на всех морях и океанах часто встречались российские корабли с корпусами и машинами знаменитой фирмы «Вулкан»…
Здоровая, с полными руками и ногами девушка, опоясанная красным корсажем, встретила Артеньева в гостинице поклоном.
– Год моргон, – сказала по-шведски.
На вопрос Артеньева, где остановился лейтенант по фамилии Паторжинский, она отвечала с четким книксеном. По удобной лестнице с резными перилами старлейт поднялся в номер «софкамморы». Его встретил симпатичный шатен.
– Паторжинский, Вацлав Юлианович, – назвался он.
– Очень приятно. Вы назначены штурманом к нам? Добро. У нас штурмана смыло, когда легли в циркуляцию коордоната…
– Кофе? – любезно предложил Паторжинский.
Поляки всегда аккуратны, как будто с утра готовы к любовному свиданию. Отогнутые лиселя на воротничке Паторжинского были идеально открахмалены… За кофе они разговорились.
– Сейчас газеты пишут о пане Пилсудском, который в Австрии создал польские легионы, воюющие против нас. Вы лучше меня знаете истину… Скажите, что нам, русским, ждать от поляков?
– Я никогда не одобрял Пилсудского, – ответил штурман. – Поляки имеют немало поводов для обид на Россию, но они исторически будут не правы, примкнув к немцам… Когда мы говорим о самостоятельности Польши, это не значит, что мы враги России и русского народа.
Артеньев поморщился от резкой боли в ключице.
– Я понимаю, – сказал он, кивнув.
– Перед самой войной, – охотно продолжал Паторжинский, – я провел свой отпуск на торжествах юбилея Грюнвальдской битвы. Вы, русские, почти не заметили этой даты. Но мы помним, что среди польских знамен были и русские хоругви… Вы морщитесь?
– У меня болит… вот тут. Не обращайте внимания.
Этот разговор о самостоятельности Польши они продолжили в кают-компании эсминца, и неожиданно возник скандал. За минером Мазепой иногда водился грех «хохлацкой автономии», но Артеньев никак не ожидал, что он ляпнет грубую фразу:
– Польша – такого государства я не знаю.
– А поляков, как нацию, знаете? – спросил Паторжинский.
– Что-то слышал, – с презрением ответил минер.
Артеньев встал между ними – как старший офицер корабля:
– Господа, кают-компания эсминца – не говорильня для политических диспутов… Прошу прекратить! Иначе я прикажу завтраки, обеды и ужины подавать вам в каюты…
Вскоре из сообщения британского посольства в Стокгольме русское Адмиралтейство установило, что на днях Швеция отправляет в Германию 84 000 тонн железной руды для фирмы Круппа, – и эсминцам снова нашлась боевая работа. С костылем в руках прибыл адмирал Трухачев. Дивизия встретила его криками «ура», и под желтой кожей на лице Колчака нервно передернулись острые скулы… Трухачев испытал неловкость.
– Дети мои, – сказал он матросам, – я тогда с трапа низко упал да высоко поднялся – меня перевели на крейсера. У вас теперь новый отличный начальник – Александр Васильевич Колчак…
Трухачев хотел, наверное, чтобы Колчаку тоже крикнули «ура». Но флаг Колчака в полном безмолвии вспыхнул на мачте.
– Пошли! – сказал начдив фон Грапфу.
* * *
Спасибо покойнику Эссену – приучил флот плавать в шхерах, где сам черт ногу сломит. Конечно, Паторжинский был весь в поту, словно мешки таскал, но зато и шли великолепно. Два дивизиона – нефтяной и угольный – ловко срезали повороты среди подводных скал и рифов. Матросы с любопытством озирали финские хутора, сравнивали их красоту и благоустройство с русскими деревнями. Артеньев, стоя на полубаке, вмешался в их разговор:
– Вот вы финским мужикам завидуете. А чем завидовать, взяли бы да у себя дома такой же порядок завели.
– Нет, у нас такого не будет, – с грустью отвечали матросы. – И сами не знаем – почему, а только нам в таком порядке не живать. У нас и отхожие в деревнях… покажи их кому порядочному, так он лучше до крапивы сбегает!
Авторитетно вступил в беседу боцман Слыщенко.
– А вот немчура, – сказал он, – она так считает, что вся эта самая культура с гальюнов начинается.
– Вранье, – не поверили матросы. – В унитазах не тесто месить к празднику. Вся культура от мыла происходит. Кто на душу больше мыла в году употребит, тот и культурнее.
Артеньев повернул к мостику, сказал на прощание:
– Тоже неверно. Статистика говорит, что больше всего мыла на душу употребляют медные эскимосы в Канаде. Но они мылом не моются – они мыло едят. Культура нации заключена во всеобщей грамотности населения и в высокой образованности интеллигенции…
На мостике его встретил запаренный Паторжинский, перебегавший, как резвый конь, от главного компаса до путевого.
– Хронометры что-то барахлят у вас, – сказал он. – Но сейчас эта волокита кончится: выходим в открытое море…
Вышли! Облокотясь на обводы мостика, Артеньев смотрел, как из-под скулы «Новика» откидывается на сторону волна за волной. Вода была темной, и над ней парило, словно какой-то бес со дна моря доводил ее до кипения. При этом Сергею Николаевичу нечаянно вспомнилось памятное еще со времен гимназии:
Когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил…Волны… неумолчный рев вентиляции… волокна тумана… одинокие заблудшие чайки. Немало забот доставляли тюлени, которых издали сигнальщики часто принимали за всплывшие мины. Шли на противолодочном зигзаге, чтобы сбить субмарины противника с угла атаки. Пушки русских эсминцев были заряжены ныряющими снарядами, способными взрываться лишь на глубине, чтобы контузить подлодки. Идти на зигзаге – это мотня надоедная, повороты следуют влево-вправо, килевая качка перемежается с бортовой, тут всю душу тебе вымотает. Погасли огни последних напутствий с угольных «Внушительного» и «Внимательного», надвинулась ночь, и легли на прямой курс – без зигзагирования.
– Слава богу, мотня кончилась, – радовались на эсминцах.
Трухачев отводил свои крейсера на Готланд, чтобы обеспечить прикрытие с зюйда, а Колчак повел «новики» на Норчепингскую бухту. Быстро темнело, но горизонт был чист.
– Можно форсировать ход, – разрешил Колчак.
Внутри кораблей нефть брызнула на форсунки, быстро сгорая.
«Новик», «Победитель» и «Гром» рывком набирали скорость.
На мостиках, где люди скользят на мокрых решетках, где они запутываются, словно в ночных кустах, среди фалов и телефонных шнуров, таились сейчас напряжение, бодрость, сосредоточенность.
Артиллерист Петряев нащупал в потемках плечо Артеньева.
– А штрафованный гальванер с «Гангута» совсем неплох.
– Вы с Мазепой заметьте его в бою и, если окажется хорош, представьте к кресту…
– Вижу огни! Много огней, – доложил старшина Жуков.
Но с огнями могли идти и шведы. Быстро совещались:
– Придется пожертвовать внезапностью атаки и прежде выяснить национальность каравана…
– Впереди крейсер неизвестного типа! – выкрикивали с вахты.
Колчак велел сделать один сознательный «промах» под нос концевого корабля. Этим выстрелом эсминцы спровоцировали караван на ответные действия. Крейсер и конвойные суда развернулись на русский дивизион, открыв судорожный беглый огонь, а рудовозы бросились искать спасения возле берегов Швеции.
– Теперь все ясно – немцы! Начинаем бой…
Первый залп.
– Хорошо, но недолет.
– Второй залп – накрытие! Раньше за такое давали водку!
– Дадим и сейчас. Огонь по крейсеру! – приказал Колчак.
Немцы побежали за своими рудовозами. Четыре орудия крейсера – на отходе – молотили пространство перед эсминцами. Высокие всплески заливали палубы эсминцев – узкие, как тропинки.
– Нужна соль на хвост, иначе они уйдут в зону!
– О чем тут думать? Торпедные аппараты – то-о-овсь…
Откачнувшись бортами на залпах, дивизион выбросил торпеды. Одна из них, вырвавшись из труб «Победителя», резко отвернула и пошла, целя в борт «Новику». Но точные гироскопы, почуяв неладное, сработали внутри ее хищного тела, и торпеда, вильнув хвостом под водой, взяла направление на крейсер. В наушниках фон Грапфа был слышен стон – это стонал Мазепа от напряжения: ответственный момент в жизни каждого минера – попадут или нет?
– Башку оторву, – закричал он гальванерам, – если расчеты дали неверные!..
Германский крейсер взорвался.
– Мелочь добить огнем, – распорядился Колчак.
На черной плоскости бухты догорали скелеты кораблей. При повороте на обратный курс три эсминца оказались рядом, и Колчак прогорланил мостикам «Победителя» и «Грома»:
– Прекрасно! Молодцы!
Рев машин и относной ветер скомкали и разорвали его слова. По сигналу отбоя закончив работу, с верхних площадок спрыгивали гальванеры и дальномерщики. Мокрые, усталые, возбужденные. Приборы ПУАО работали на славу. Под градом осколков, укрытый от них только бескозыркой, Семенчук проявил в бою ловкость, бесстрашие, великолепно повелевая техникой. Его представили к «Георгию».
– Штрафной, знаешь ли, за что тебя награждают?
– Догадываюсь. Приборы не подгадили.
– Ты тоже, – сказали ему. – Служи, брат, дальше…
Семенчук понимал, что «Новик» – это тебе не «Гангут». Здесь люди обожжены свирепым огнем войны, и они поверят большевику лишь тогда, когда он будет смелым в бою. Только заслужив уважение воинское, можно говорить о делах партийных…
Вечером, когда пришли в Моонзунд, матросы собрались курить у «обреза». Сюда же приволокся и Дейчман со своим портсигаром:
– Папиросочку, товарищи… Кому папиросочку?
Матросы загребали из портсигара офицерские папиросы (одну в рот, другую за ухо), а потом говорили с пренебрежением:
– Липнет к нам этот Ленька, словно смола худая. Вы с ним поосторожней, ребята… Может, он, глиста, шпионит за нами?
Семенчук пока больше помалкивал. Присматривался.
– А вот старшой? – выведывал осторожно. – Каков он?
– Этот прессует. Не до крови, так до поту. Однако греха на душу не возьмем: он справедлив… С ним жить можно!
На Минной дивизии никто не догадывался, что этот поход с Колчаком был последним и больше они Колчака не увидят. Да и сам Колчак не подозревал, что его судьба уже решена в глубинах офицерского «подполья» Балтики…
* * *
Грапф спросил с присущей ему любезностью:
– Сергей Николаич, что вы за грудь держитесь?
– Ключица у меня была разбита… не залечил. Опять побаливает. Да и нервы – словно мочалки.
– Надо бы вам дома побывать. Сейчас с готовностью эсминцев не поймешь, что творится. То первая, то последняя, хоть котлы остужай. По слухам, германские крейсера отходят с нашего театра. В верхах поговаривают о возможной встрече германского флота с английским. Давно пора! Может, и отпустим вас в Питер…
– Благодарю, Гарольд Карлович, это не помешало бы.
За эти годы Питер стал далек, как мир неразгаданных галактик. Сестра, правда, писала ему, но… глупо писала! Душевный мир девицы-курсистки был несравним с его миром острых ощущений. Кажется, они перестали понимать друг друга. Когда он был гардемарином, а Ирина гимназисткой – тогда все казалось проще и понятней. Вот кому бы он сам написал с удовольствием, так это Кларе… в Либаву!
Общение со старым русским искусством давало ему сладостное отдохновение от тревог. Портрет прошлого утешал и нежил загрубевшее сердце. Казань ему ответила, что в связи с нехваткой бумаги в стране путеводитель по выставке «Сокровища Казани» выйдет нескоро. Жаль! Что там, в Казани? Наверное, пропасть неизвестных портретов. От нечего делать раскрыл каталог антикварной торговли господина Н. В. Соловьева, стал проглядывать. Совсем неожиданно попался какой-то Дейчман…
Заглянул в каюту инженер-механика, заинтересованный:
– Леон Александрович, какой-то Дейчман продается в лавке Соловьева… Гравюра пунктиром. Подскажи, кто бы это мог быть?
– Прошу вас, – ответил механик, – впредь обращаться ко мне только по служебным делам. Я не желаю поддерживать далее отношения с такими черносотенцами, как вы.
– Благодарю, – ответил Артеньев и трахнул дверью.
5
Напрасно упрекают испанских грандов за их длинные титулы. Суховатые англичане тоже умеют на целую версту выстраивать громоздкие имена любимцев своей нации. Вот, например, одно из таких имен: Дэвид Битти, виконт Бородэйл-оф-Бородэйл, барон Битти-оф-Норт-Си-энд-оф-Бруксби. Весь мир выговаривал это имя просто и кратко – Битти. Это слово звучало в сознании моряков как резкий удар перчаткой боксера – «битти»!
Россия еще не забыла того пышного карнавала, который дали балтийцы Битти и его супруге перед самой войной, когда они прибыли в Кронштадт с крейсерами. Гостеприимство россиян развернулось во всю ширь: Битти угостили всем, что имели, начиная блинами с икрою и кончая царь-пушкой в Кремле московском. Аккуратный, неулыбчивый человек с короткими рукавами мундира был доволен. В Народном доме для британских матросов пел Шаляпин, а они сидели – в ряд с русскими матросами – и перед каждым стояло по бутылке водки и по дюжине пива. На закуску – селедочка с луком и колбаска простонародная. За столами слышалось:
– Рашен а вэри гуд феллоу… Уыпьем уодки!
– Выпьем! Тока скажи как на духу: ты меня уважаешь?
Перепились крепко и потом гуляли по Петербургу в обнимку.
Редкостный случай в истории встреч флотов – драк не было!..
Битти пришел – Битти ушел. Битти был достаточно известен во всем мире, и потому весь мир затаил дыхание, когда близ Ютландии четкая линия британских дредноутов врезалась в броневую фалангу германских крейсеров. Наконец-то дерзкий Гохзеефлотте сцепился с надменным Гранд-флитом… Шеер и Хиппер, эти мордатые мужланы, рискнули схватиться с элегантным джентльменом Битти! Два зверя, старый и молодой, отгрызали друг другу лапы, опрокидывали один другого на спину и безжалостно топили, наседая сверху на тонущего противника. Ютландское сражение – беспримерная во всей истории человечества битва двух наций на море, которая по силе и мощности армад не имела себе равных никогда (таких побоищ на море не знала и вторая мировая война, которую уж никак нельзя назвать войной бескровной!).
В грохоте башен решался престиж «владычицы морей». Германия впервые пробовала силы своего флота на самом рискованном оселке – на английском! О, надо ведь знать, чего стоит немецкому народу этот день! Сколько лет кайзер заменял масло маргарином, сколько лет Гогенцоллерны приучали своих верноподданных быть сытыми от сосиски с пивом, чтобы создать флот, способный встретить в море великолепный и тщеславный Гранд-флит… Азарт этой небывалой схватки легко понять: кто кого?
Русские моряки были разочарованы: Ютландская битва закончилась как бы вничью. Вряд ли можно считать англичан в выигрыше, вряд ли были поражены и немцы. Невзирая на численный перевес англичан, битва иногда шла на равных. Противники не раз повторили ошибки Цусимы, совершая такие маневры, от которых русский флот давно отказался. Репутация британских адмиралов была подмочена. Мало того! В разгаре боя выяснилось, что немецкие корабли намного лучше кораблей английских. Уже заполненные водой до середины, они были способны продолжать битву. На «Зейдлице» британский снаряд проник прямо в погреб. Немецкий порох сгорел не взорвавшись! Вместе с ним с быстротой пороха сгорели и 180 матросов двух башен. Но сам «Зейдлиц» остался в строю. Зато англичане при таких же попаданиях превращались в облако пыли, и корабли исчезали в этом облаке, как будто их никогда и не было в Англии…
Неохотно, еще ворча друг на друга с дальних дистанций, Гохзеефлотте и Гранд-флит разошлись, зализывая свои раны. Битти получил от короля в награду 100 000 фунтов стерлингов.
– Гип, гип, гип… ура! Англия на морях непобедима!
Шеер с Хиппером, кажется, ничего не получили от кайзера, известного скупердяя, но воплей в Берлине было достаточно:
– Хох, хох, хох… хайль! Германия непобедима в океанах!
Отставного адмирала Тирпица попросили выйти на балкон.
– Мы должны топить всех, – декларировал он народу.
Кто победил? Ответ, самый точный, дает биржа: после Ютландского сражения английские акции упали в цене. Россия была обескуражена, а газеты США открыто восхваляли победу германского флота. Рейхстаг, воодушевясь, решил потуже затянуть и без того подведенные животы нации и вотировал на нужды войны еще 12 миллиардов марок… Кайзер сиял своей каской, возвещая:
– Нет в мире бога, кроме бога германского!
* * *
Теперь немецкие крейсера, отозванные на время битвы с Балтики, возвращались обратно в ее мутные воды, опять приткнулись к либавским причалам. Башенный начальник с крейсера «Тетис» лейтенант фон Кемпке на радостях выпил полрюмки коньяку и стал необыкновенно воодушевленным. В самом деле, как приятно жить, сознавая себя германцем.
Кемпке увлекся Кларой серьезно и, кажется, помышлял вывезти ее после войны в Германию как жену.
– После войны, – убеждал он женщину, – наступят новые времена. Германия будет лопаться от сала. Ты не бойся: карточек на продукты не станет… мы, немцы, заживем лучше всех!
«Тетис» иногда выходил на обстрел в Ирбены. Стволы его калибров, украшенные верноподданническими цитатами по-латыни, не раз осиялись тевтоно-гневным пламенем. Из походов крейсер опять возвращался в Либаву. Однажды, придя с моря, фон Кемпке застал свою пассию за приборкой квартиры. Чистенькая, в белом передничке, женщина была особенно очаровательна в этот солнечный день.
– Сейчас я закончу возиться с этим, – сказала она. – Мне осталось лишь разобраться с хламом…
Носком туфельки Клара пихнула кучу вещей, предназначенных для помойки, которые фон Кемпке не решился бы назвать «хламом». Присев на корточки возле ног возлюбленной, он стал перебирать вещи, и его душа возмутилась:
– Как можно выкидывать? Нельзя же быть такой небережливой.
К удивлению своему, фон Кемпке извлек из мусора мужской несессер с набором – почти джентльменским, где было все, начиная от щипцов для завивки усов и кончая запасом презервативов.
– Вот это, например… выбросить легко, а где достать?
– Ах, боже мой, да не нужно мне это.
– Я понимаю, что тебе это не нужно. Ведь ты не завиваешь себе усов? Тогда объясни, как мужские вещи попали в твой дом?
Тут она призналась, что несессер остался от него. Клара долго потом шарила в шкафах, лазала на антресоли.
– Что ты потеряла? – спросил Кемпке.
– Я вспомнила, что после него остался еще портфель. Он не успел забежать за ним, как вы пришли в Либаву. Портфель совсем новенький. В нем масса карманов, он очень красив. Я знаю, Ганс, что портфель тебе очень понравится…
Огорченная, она оставила поиски:
– Ума не приложу, куда он делся. Но я хорошо помню, что он был! Я обещаю, Ганс, что найду его для тебя… обязательно!
Утром фон Кемпке случайно встретил владелицу дома на улице Святого Мартина, в котором жила Клара, – госпожу Штранге.
– Фрау Штранге, поверьте, что я испытываю самые нежные чувства к фрейлейн Изельгоф, но хотел бы спросить вас… Вот этот русский офицер, что бывал у Клары до меня, он…
– Ужасен! – охотно отвечала домовладелица, перебивая его. – Боже, что тут творилось, когда он появлялся со своей компанией. Как пьют русские – вам рассказывать не надо. Но они потом так плясали, что у меня от люстры отвалилась хрустальная подвеска, а люстра старинная, таких теперь не делают, и вот уже два года я ищу мастера, который бы смог…
– Благодарю вас, фрау Штранге.
* * *
Русские газеты писали тогда об Австрии – с язвой:
Австро-Венгрия – двуединая монархия, которая с одной стороны омывается Адриатическим морем, а с другой стороны загрязняется императором Францем-Иосифом…
Миру никогда не забыть пышных усов Франца-Иосифа; он помнил еще Меттерниха, а пережил Бисмарка и дождался – из прошлого кабриолетов – шестиместных «паккардов» на бензиновом ходу; над головой императора залетали аэропланы, а потом завыли сирены, возвещая нечто новенькое, чего не мог знать Меттерних, – воздушную тревогу! Вокруг Франца-Иосифа постоянно кого-либо убивали – то жену, то племянника, то сына. Ничто не смутило покоя величавого Габсбурга – самое главное: не терять хладнокровия! Теплые воды Адриатики не успевали обмывать империю, загрязненную императором, которого не брала даже пуля и бомба анархиста.
Австрийская армия была очень сильной, и сейчас она поставила Италию на колени. Русская Ставка решила спасать союзников от унизительной капитуляции. Начался знаменитый Брусиловский прорыв. От Пинских болот до румынской границы шла на Австрию, вскипая кровью, волна мощного наступления.
Вздувается у площади за ротой рота, у злящейся на лбу вздуваются вены. «Постойте, шашки о шелк кокоток» вытрем, вытрем в бульварах Вены!»Русские железные дороги не успевали вывозить эшелоны пленных. Военный престиж России поднялся как никогда высоко.
Газетчики надрывались:
«Купите вечернюю! Италия! Германия! Австрия!»Франц-Иосиф хладнокровно заболел и более уже не вставал. Его «лоскутная» империя пережила неслыханный разгром, какого Габсбурги не знали в веках. Италия вновь ожила, гордясь петушиными перьями своих берсальеров, а на юге зашевелилось непомерное честолюбие боярской Румынии. Теперь, после Брусиловского прорыва, румыны тоже пожелали кинуться в общую драку.
Русская Ставка пребывала сейчас в смятении, там рассуждали:
– Если Румыния выступит на стороне Германии против нас, России потребуется 30 дивизий, чтобы ее разгромить. Если же Румыния выступит против Германии, нам также понадобится 30 дивизий, чтобы спасать ее от разгрома. В любом случае мы, русские, ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем 30 дивизий!..
Сразу выросло военное и политическое значение Черноморского флота, которым командовал бездарный адмирал Эбергард. Тот самый Эбергард, о коем еще адмирал Макаров говорил: «Я бы ему щенка не поручил, не то что миноносцем командовать…» Эбергард же командовал не миноносцем, а целым флотом. И каким флотом!
В этот исторический для России момент сразу пришли в действие потаенные пружины, топя одних, выдвигая других.
6
Мало кому известно, что, наряду с революционным подпольем, на русском флоте существовало еще одно «подполье» – тоже глубокое, тоже закопавшееся в конспирацию. Эти заговорщики имели столь респектабельный вид, что никто бы и не заподозрил в них карбонариев. Они постоянно держались на виду у властей предержащих, имели высокие чины, на императорских смотрах и в дни тезоименитств они сверкали, как иконостасы, орденами и оружием.
Это подполье тоже имело свою историю. Цусима не прошла для России бесследно, оставив на сердце многих болезненные шрамы. Немало тогда офицеров флота очертя голову кинулось в пропаганду, твердя о значении флота для России. Агитация велась широко и весьма умело. На добровольные пожертвования строились эскадры, возводились новые гавани. Идеи морской пропаганды глубоко проникли и в русскую провинцию, и в эти годы новобранец охотнее шел на флот, нежели в армию. От вопросов чисто специальных офицеры постепенно перешли к вопросам политики. Так зародилось это подполье. И если подпольщики-матросы смыкались с ленинской партией, работавшей в условиях эмиграции, то заговорщики-офицеры тесно смыкались с тем крылом Государственной думы, которое предвидело неизбежность краха монархии. Мало того, когда самодержавие падет, думцы решили взять власть над страною в свои руки.
Это был заговор, но не слева, а – справа… Душою его были флаг-офицеры штаба Балтийского флота – Ренгартен, князь Черкасский, Федя Довконт, Щастный, Альтфатер и Костя Житков – редактор «Морского сборника». Собирались они келейно, причем беседы свои стенографировали. Штабной «Кречет» – под флагом адмирала Канина – давно трясло и качало.
– Странный кораблик, – посмеивались заговорщики. – Не броненосец, не миноносец, а просто каютоносец, на котором полно в экипаже рогоносцев и желудконосцев.
– Но мы, – заявлял Ренгартен, – отъявленные идееносцы. Итак, вернемся на фарватер. О чем речь? Опять на повестке дня будущая революция. Вопрос: что делать, если она произойдет завтра?
Молчали. Черкасский встряхнул Довконта:
– Феденька, отвечай – что ты будешь делать?
– Очевидно, поддерживать существующий режим.
– Ах, как это неправильно! – воскликнул Ренгартен.
– Да, ты сглупил, Феденька… В такие моменты, как революция, важно сохранить полную ясность мышления. Важно не свершать поступков, глубоко не обдумав их раньше. Помни, что погибнуть от шальной пули идиота довольно непроизводительно.
– Главное, – добавил Ренгартен, – наше массированное воздействие на командующих флотами. В случае революции мы должны разбиться в лепешку, но сделать все, чтобы решения комфлотов шли исключительно к спасению России. Мы люди здесь свои и будем откровенны до конца: за монархию держаться – это глупо. Держались уже триста лет за Романовых, но… хватит!
– Ну, хорошо, – сказал Костя Житков. – Монархия – анахронизм, с этим я согласен… А как быть без нее?
– Костя, – отвечал ему князь, – ты же не маленький. Не задавай вопросов из области холостых понятий о женатом монахе.
Ренгартен упрямо выводил разговор в нужное русло:
– Итак, в связи с тем, что Румыния ввязывается в войну, надо подумать о Севастополе… Эбергарда – на свалку! Над Черноморским флотом будем ставить своего человека. Канина мы тоже не пощадим – подыщем замену. Жаль, что нет здесь сегодня Васи Альтфатера, он бы проинформировал нас о начморштабе адмирале Русине. Человек этот имеет «железный клюв», и он, кажется, будет клевать наше зерно… Итак, господа, Севастополь! Надо плеснуть мазута на форсунки Государственной думы. Мы готовы действовать…
* * *
Колчака из Моонзунда вызвали в Ревель, где его поджидал Канин. Комфлот вынул из ящика стола новенькие погоны вице-адмирала и сердито шлепнул их перед начальником Минной дивизии:
– Обскакиваете нас, стариков… Дарю! Носите.
– Василий Александрович, как понимать ваш подарок?
Канин вручил ему телеграмму из царской Ставки, в которой черным по белому сказано о назначении Колчака командующим флотом Черного моря с производством в чин вице-адмирала.
– Выезжать сегодня. Знаете, где находится Ставка?
– Этого не знает никто. Кажется, она на рельсах.
– Она… в Могилеве. Желаю удачи.
В ревельской гостинице Колчак навестил жену с сыном. Жена – из фамилии Омировых, он женился на ней в Иркутске, когда его осенял венец полярного путешественника.
– Ты сегодня странный… Что с тобою?
– Ах, Соня! Ты даже не знаешь, как высоко я взлетел.
Между ними, неуютно и печально, стояли два чемодана, наспех вывезенные из Либавы: последнее, что у них осталось.
– Саня, я тебя не совсем понимаю, – растерянно сказала жена.
Тогда он выбросил перед ней погоны с двумя орлами:
– Собирайся! Мы едем… в Севастополь! Принимать флот…
Но прежде он завернул в Петроград, поехал на Фурштадтскую, в дом № 36. Царская лестница под коврами. Лакей долго вел Колчака через длинную анфиладу комнат. И всюду в адмирала всматривался похожий на цыгана премьер Столыпин (портреты Столыпина, бюсты Столыпина, фотографии Столыпина). Покойный премьер властно – даже после смерти! – заполнял эти роскошные покои. Чьи они, эти комнаты? Кто здесь живет?.. Лакей довел адмирала до тихой спальни, и шторы отдернулись. На высоких подушках, бледный, весь в поту, лежал изможденный человек. Это был Александр Гучков.
– Кажется, – сказал Колчак, пожимая вялую влажную руку, – я обязан именно вам своим столь высоким назначением?
– Не только мне. Вашу кандидатуру поддержал и Родзянко. Наконец, московский голова Челноков – тоже за вас. Ваше назначение – победа кругов, обладающих разумом и капиталами. Довольно блуждать! Мы видим в вас, адмирал, человека, который способен бороться не только с «Гебеном» и «Бреслау». Мы уверены, что Севастополь в случае переворота будет салютовать нам! Садитесь…
– Вы опять болеете, Александр Иваныч?
– Меня отравили… С тех пор, – отвечал Гучков, – как я пришел к политической деятельности, я постоянно принимаю колоссальные дозы ядов… от царя, от жидов, от большевиков, от поляков! Сейчас я отлеживаюсь после приема яда от Гришки Распутина.
Гучков принял из пузырька столовую ложку противоядия.
– Адмирал, пусть это останется между нами… После боев под Сольдау я от Красного Креста был у немцев в Пруссии. Я имел приватное поручение вывезти от них труп генерала Самсонова. Возле проволочных заграждений меня встретил германский обер-лейтенант, отлично говоривший по-русски. Между прочим, он сказал: «Александр Иваныч, я ведь немало штанов протер в вашей Думе, выслушивая всякие речи. Вы не можете меня вспомнить, это верно – военная форма меняет облик человека. А ведь мы лично знакомы!» Это меня чрезвычайно потрясло, ибо в своих думских речах я не раз касался государственных секретов России, и я спросил немца: «А кто нас знакомил и где?» На что получил ответ: «Нынешний премьер Штюрмер». Обер-лейтенант затем рассмеялся. «Вы тогда, – сказал он мне, – решали с премьером вопросы обороны… о запасах вооружения для войны с нами!» Я спросил немца, кем он считался в России, и обер-лейтенант, ничуть не смутившись, ответил: «Я состоял в охране Распутина от вашего эм-вэ-дэ…»
Гучков замолк, и Колчак веско заметил:
– Распутина нельзя терпеть далее.
– Скоро его не станет, – спокойно отозвался Гучков.
– Вы его уберете, но… где же твердая власть? Не боитесь ли вы, что вас и ваши начинания захлестнет и закроет волна общенародной революции? В море ведь проще: стихия не политика, и мы научились ловко маневрировать.
– Александр Васильич, – перебил его Гучков, – отныне вы должны позабыть, что вы только моряк. Отныне вы должны – и даже обязаны – быть политиком. Если не сумеете сманеврировать в политике, вас захлестнет, как в шторм. Кстати, – добавил Гучков, – политика не такая уж сложная штука, как о ней принято думать. Главное – учитывать настроение людей. Я уверен – вы справитесь!
Вечером Колчак уже отъехал в Могилев… Он любил повторять: «Меня выдвинула война!» Но, кажется, адмирал и сам не заметил, когда и как он целиком отдал себя на служение финансовым тузам, политическим воротилам страны. Сейчас за их мощью, за их думскими трибунами Колчак угадывал силу – ему близкую, ему понятную, его же – Колчака! – ласкающую.
Поезд остановился. Могилев – Ставка – царь – Колчак.
* * *
Его встретил начморштаба адмирал Русин, по прозвищу «железный клюв», ибо любое дело он доводил до конца. Возле Русина ласково улыбался Вася Альтфатер, которого Колчак терпеть не мог за его прогерманские настроения.
– Мы вас вытащили, – намекнул Русин на свой «клюв».
На улице возле кинематографа Колчака встретил Кедров:
– Тебя ждет Алексеев, а потом наверняка примет и государь. Ну, учить тебя не стану. Если есть сабля – нацепи. Ордена не нужны, если нет орденов с мечами. Фуражка обязательна. Для тех, кто представляется впервые, необходимы перчатки…
Разговор с косоглазым М. В. Алексеевым, который был начальником штаба при верховном главнокомандующем, состоялся сразу же. Два часа он инструктировал Колчака, открыв перед ним, как перед комфлотом, многие секреты Антанты и России. Разговор касался Румынии и «Гебена» с «Бреслау», пробравшихся в Черное море.
– Вы должны их выжить! – требовал Алексеев. – Эбергард размазня и плакса. Он окружил себя льстецами… гнать всех в три шеи! Сейчас важно общерусское стремление на Босфор и Дарданеллы… поняли, адмирал?
Николай II проживал в губернаторском доме. Скороход в лаковых сапожках проводил Колчака до охраны его величества.
– Сдайте оружие, – велели Колчаку в вестибюле.
– Огнестрельного не ношу, а саблю не сдам…
В карауле стояли конвойцы, каждый из них застыл на отдельном квадратном коврике. Собутыльник царя адмирал Нилов дружески подхватил Колчака, увлекая его дальше. Обеденная зала была обклеена белыми мещанскими обоями. Постаревший Николай II (говорят, он много пьянствовал в Ставке, вдали от Алисы) вышел из дверей, ведя за руку наследника, который баловался по-детски. За ним шел грудастый, как баба-кормилица, матрос со «Штандарта» Деревенко – тоже персона, «дядька» наследника. Мальчик-цесаревич, подобно старичку, ходил с тросточкой, сияя солдатским «Георгием».
– Господа, – объявил император тускло, – сегодня у всех нас большая радость. Из Троице-Сергиевой лавры нам прислали икону явления божьей матери Сергию Радонежскому. Алексис, – сказал он сыну, не изменив тона, – не надо баловаться…
При разведении гостей к столу кто-то жесткими пальцами схватил Колчака за плечо – это был обер-гофмаршал.
– Фам сюта, – показал он Колчаку стул (отдаленный).
Удивительно было изобилие разных водок и закусок. За столом же, после выпивки, подавали: суп с потрохами, ростбиф, пончики с шоколадным соусом, фрукты и конфеты, квас в серебряных кувшинах, вина текли – красные, портвейн и мадера. Наследник вел себя за столом крайне неприлично. Деревенко дергал его сзади за вихор. Царь молчал и много пил. Ставка считалась на походе, а потому вся посуда была металлической (золото, серебро, платина).
– Разрешаю курить, – сказал потом царь, закуривая.
Колчак не был свитским офицером, за одним столом с императором он сидел впервые. Его, человека дела, крайне поразило, что Николай засунул его в дальний угол стола, сам же воссел между Ниловым и сыном, которых и без того каждый день видел. А ведь, казалось бы, сегодня царя должен интересовать только он, новый командир Черноморского флота… Лишь после кофе, когда дворцовые лакеи, одетые по случаю войны в солдатскую форму, стали убирать со стола, император вспомнил о Колчаке.
– Александр Васильич, – сказал он ему, – прошу в сад…
В саду он, как попугай, повторил – слово в слово – все то, что Колчак уже слышал от Алексеева. От солдатской шинели царя неприятно разило карболкой, и этот запах мешал Колчаку, который на флоте привык к духам. В завершение царь сказал:
– Мне о вас так много говорили, что я стал подозрителен. Мне известно, что вы недостойно якшаетесь с этим… как его… с этим Гучковым, это нехорошо. Они, эти думские горлопаны, желают мне зла, это тоже нехорошо. Я могу нажать кнопку на столе, и их не станет. Но я этого пока не делаю, что уже хорошо…
Колчак вернулся в свой вагон, который ждал его на путях и который сразу же прицепили к составу, идущему на Севастополь.
– Саня, – спросила жена, волнуясь, – ну что там?
Поезд тронулся. Колчак проводил глазами халупы могилевских окраин, которые показались ему даже красочными из-за обилия садов и цветущей зелени обывательских огородов.
– Ничтожество! – ответил он жене. – Нужны другие люди…
Поезд летел через великую страну в солнечный Севастополь.
Колчаку было тогда 43 года – не только в России, но даже за рубежом не было такого молодого командующего флотом!
* * *
Пресса буржуазных газет работала на него. Адмирал был эффектен, как герой авантюрного романа, и газеты подняли Колчака на щит славы… Севастополь встретил его оркестрами, цвела огромная свита штабов и начальства. В приветственной речи была выражена надежда, что скоро воды Черного моря увидят его вымпел.
– Увидят! – сказал Колчак, словно облаял всех. – Через полчаса уже все увидят мой флот в море…
Прямо с вокзала – в гавань, и через полчаса вымпел был поднят над флагманской «Императрицей Марией».
– Карту, – потребовал Колчак. Орудуя параллельной линейкой, он проложил курс эскадре:
– На Босфор!
Возле турецких берегов в русские прицелы попался «Бреслау» и был вынужден спасаться. Его загнали в гавань, как крысу в нору. Колчак вызвал по радио минный флот и завалил Босфор минами так же плотно, как это делал Эссен, его учитель, на Балтике.
По возвращении с моря Колчак обратился к черноморцам:
– Мы провели только смотр. Завтра начинаем воевать…
Он не был похож на других адмиралов. Помня об указании Гучкова, вице-адмирал стал доступен матросам, он беседовал с ними запросто. На Николаевском судостроительном заводе комфлот стал кумиром рабочих, когда выточил на станке сложную деталь.
– Не удивляйтесь моему умению. Я провел детство на Обуховском сталелитейном заводе среди пролетариев и всегда знаю их нужды!
Так он говорил, и Черноморский флот носил его на руках:
– Ура! Да здравствует наш славный адмирал Колчак… С нашим адмиралом умрем за веру, за царя, за отечество!
Это была политика – очень дальновидная. Но зато и скользкая – как каток. Рано или поздно, но шея будет свернута.
7
Минную дивизию на Балтике принял от Колчака контр-адмирал Развозов. Почти весь июль (жаркий, удушливый) эсминцы базировались на Моонзунд. Тоска смертная… Июль был богат событиями, которые язвили сердца каждого россиянина. Ходили темные слухи, что Протопопов, товарищ председателя в Думе Родзянки, заезжал специально в Стокгольм, где вел беседу с немецкими дипломатами о путях к заключению мира. Тем людям, у которых была голова на плечах, становилось ясно, что самодержавие – в чаянии грядущих потрясений – спешит избавиться от войны, чтобы развязать себе руки для борьбы с растущей революцией. Кают-компания «Новика» стала наполняться политикой, и Артеньев, как старший офицер, вмешивался в споры.
– Оставьте же эту политику! Это не наше дело. Еще Козьма Прутков сказал: «Специалист подобен флюсу – полнота его односторонняя!» Что-либо одно – или флот, или политика… Я – за флот. Больше внимания к службе!..
Он снова тронул болевшую ключицу, и фон Грапф это заметил:
– Поезжайте-ка в Питер, развейтесь. Заодно и дело – штурман жалуется на хронометры, которые не мешает выверить в навигационных мастерских… Из Кронштадта наведаетесь в Питер.
– Мне ящиков с хронометрами не дотащить. Тяжелые.
– Возьмите первого попавшегося матроса…
Артеньев так и сделал: вышел на палубу и окликнул первого попавшегося, которым оказался Семенчук:
– Оденься как следует, гальванер, чтобы на патрули не напороться. Поедем сначала в Кронштадт, а потом в Питер…
Ему одеться было гораздо сложнее, ибо существовала громадная таблица для 32 форм одежды флотского офицера – на все случаи жизни. Ошибаться нельзя… Поехали. С хронометрами.
* * *
Политика преследовала даже в пути. Ехали поездом через Финляндию и всю дорогу разговаривали. Причем нельзя сказать, что были неискренни. Дорога, она ведь тоже сближает людей…
– Ты не думай, – говорил Артеньев, – что мы, офицерство, лыком шиты. И многие из нас отлично чувствуют все российские неустроенности. Но… молчат! Вы свои пяток лет оттабанили – и домой поехали. А у нас другое дело… присяга, долг, честь. Наконец, и пенсия. Она, как ни крути, а языки тоже защелкивает…
Близость Кронштадта обоих насторожила: при сатрапии губернатора адмирала Вирена здесь не пахнет раздольем флотской удали. Город-крепость, город-тюрьма, весь в камне, и даже мостовая из чугуна – уникальнейшая в мире.
– Сдадим вот хронометры и… поскорей бы отсюда!
Сдали они хронометры, ночь переспали, наутро опять пошли в мастерские. Шли они, как заведено в Кронштадте, по разным сторонам Господской улицы – Артеньев шагал по правой («бархатной»), а Семенчук по левой («суконной») – таковы здесь порядки. Откуда ни возьмись выкатился на Господскую серый в рыжих подпалинах жеребец, а в коляске с открытым верхом сидел сам Вирен.
– Стой, – заорал он Семенчуку. – Чего руки в карманы сунул? Давай бляшку с номером… Я тебя научу, как держать руки надо!
С «бархатной» стороны Артеньев перешел на «суконную»:
– Господин вице-адмирал, это мой матрос, мы с «Новика», только что с позиций Моонзунда, приехали с хронометрами…
– А, – сказал Вирен, – с эсминцев? Разболтались вы там, вдали от дисциплины флотской. Я вас проучу… Что за ботинки?
Ботинки на ногах Артеньева, правда, были не форменные.
– Казенные жмут, – сказал он. – Извините.
– Казенные уже и жать стали? Может, и мундир вам мешает? Сейчас же отведите своего разгильдяя на гарнизонную гауптвахту, а затем сами ступайте на офицерскую – арестуйтесь!
Жеребец тронулся дальше, и Господская вмиг стала пустой, будто вымерла. Одиноко маячили офицеры, заранее становясь во фронт. Дамы – при виде Вирена – спешили переждать его проезд в подворотне, чтобы не нарваться на оскорбление. Зато свободно шлындрали, бесстрашны и ненаказуемы, кронштадтские проститутки…
Артеньеву было стыдно перед своим гальванером:
– Пойдем, Семенчук, я тебя посажу, а потом и сам сяду…
Отсидели они два дня, забрали из мастерской хронометры.
– Бежим! – сказал Семенчук. – Ноги в руки и бежим…. Вот уж несчастная братва, кто здесь по пять лет загорает.
* * *
Со двора флотского Экипажа, как в далеком детстве, пела труба. Ирины дома не было, Артеньев открыл квартиру своим ключом:
– Входи. Как-нибудь устроимся переночевать у меня.
Вошли. В квартире было страшное запустение.
– Не дай-то бог иметь такую жену, как моя сестрица. Правда, она еще глупа… Что взять с дуры-бестужевки?
Семенчука поразил вид огромных пустых комнат с отодранными по углам обоями. Кривоногая жалкая мебелишка, почти сиротская, кособочилась по углам квартиры – неприютно и одичало.
– Небогато живете. А я-то думал…
– И думать нечего, – сердито отвечал Артеньев. – Тебе кажется, если дворянин, так уже особняк, рысаки, лакеи, а сам дворянин кровь сосет из народа. Че-пу-ха!.. Мой батюшка сорок лет вставал ни свет ни заря, чтобы всяких оболтусов латынью насытить. Надорвался и умер… до пенсии! – Старлейт вернулся с кухни явно смущенный. – Хоть шаром покати, – сказал. – Самая противная девка – это ученая девка… Извини, брат, ужин не состоится.
Пили голый чай с сахаром – в молчании. От канала Круштейна тянуло ночной сыростью. Старенький абажур, весь в пыли, освещал над пустым столом четкий круг, рукава от стола запылились.
– Ляжешь вот тут. Я тебе постелю.
– Спасибо, – ответил Семенчук. – Мне бы приткнуться.
Ближе к ночи вернулась Ирина. Рослая, стройная. Ее сильно портил долговатый нос – такой же, как у брата. Моложе его на десять лет, она как-то запоздало развилась, и Артеньев с непонятной для себя неприязнью отметил ее груди, торчавшие дыбком.
– Не понимаю тебя! – с укоризной сказал брат сестре. – Когда ты возьмешься за ум? Почему такой кавардак в квартире? В доме – ни куска хлеба… И почему ты пришла так поздно?
– Да, я задержалась сегодня… Так было интересно! Мы, все девушки, ездили в Калинкину клинику – изучали там венеричек. Ты можешь гордиться сестрой. Я недавно так идеально отпрепарировала лягушку, что ее оставили на курсах как учебное пособие.
– Я восхищен, – хмуро процедил Артеньев. – «Тебе с подругой достались препараты гнилой пуповины, потом был дивный анализ выделенья в моче мочевины…» Дура ты! – врубил он в лицо ей. – Тебе замуж надо. И сразу повыскакивают из головы все лягушки. Готовь себя не к вивисекциям, а к семейной жизни.
– Ты отсталый консерватор, – возразила сестра. – Впрочем, все офицеры флота всегда славились своей реакционностью.
– Пусть я отсталый. Но ты со своим прогрессом тоже далеко не ускачешь. Нужен дом. Нужен муж. Нужны дети… Кухня, наконец!
– Боже, ты разговариваешь, словно черносотенец. Сейчас, когда все вокруг кипит, когда наука…
– Оставь ты эту ерунду! – Он рывком распахнул дверь, спросив у темной комнаты: – Семенчук, ты спишь?
– Сплю. Сплю. Я ничего не слышу…
Разговор с сестрой он продолжил, когда она уже легла.
– Я постарел… да? – спросил Артеньев.
– Ты ужасно нервный. А я так счастлива…
– Влюблена?
– Что ты! – возмутилась Ирина. – Это было бы глупо…
Она призналась ему, что профессор Пугавин, это научное светило, выделил ее среди всех бестужевок для постановки психологических опытов. Пугавин нашел у нее рациональный ум.
– Профессор сейчас занимается этим… Распутиным!
– А при чем здесь ты со своим рациональным умом?
– Пугавин нашел, что я гожусь для разгадки секрета влияния Распутина на женщин. Опыт, конечно, будет поставлен строго научно. И под наблюдением самого профессора…
– Вот так и знай, – сказал Артеньев, – если я твоего профессора-психолога встречу, я самым простонародным способом набью ему морду. И пусть он жалуется потом городовому!
– Пугавин – прогрессивная личность, – обиделась сестра.
– Тем лучше. За этот прогресс я ему еще добавлю. И посоветую, чтобы опыты с искушением от Распутина он ставил над своей женой.
Сестра замкнулась. Взяла у него папиросу.
– Социология тоже наука, – сказала она, неумело прикуривая. – И наука с большим будущим. В науке всегда были герои-мученики. Не станешь же ты отрицать подвигов врачей, которые сознательно прививают себе микробы чумы, холеры и сибирской язвы.
– Спи. Я гашу свет. Герои науки так и останутся героями. Но я еще посмотрю, какой микроб тебе достанется от Распутина…
На следующий день явился профессор Пугавин; светило был в сером костюме и в серой шляпе, день был тоже серый.
– Молодой человек, – сказал профессор, беря Артеньева за пуговицу мундира (чего Артеньев не мог выносить), – как же вам не стыдно? Ирина Николаевна мне все рассказала… К чему ваши сомнения? Я же стану следить за вашей сестрой, как Цербер. У меня холодный, аналитичный ум, как у римского патриция.
– У вас он холодный. Но у сестры может оказаться и горячим.
– Сережка! – вспыхнула Ирина. – Как ты можешь говорить обо мне такое? Мы ведь ставим только опыт… только психологический опыт для науки!
Семенчук проявил деликатность и, присев на корточки, перебирал книги на этажерке. Артеньеву он сейчас мешал своим присутствием, но… не выгонять же на улицу! Пускай слушает.
– Распутин, по-моему, это просто гнусный кал, который недостоин вашего просвещенного изучения. Его надо подцепить на лопату и выбросить. А вам хочется его понюхать.
– Э-э, нет! – убежденно отвечал Пугавин. – Когда человек смертельно болен, врачи изучают и его кал, дабы спасти человека… в данном случае речь идет о больном русском обществе.
Тут Сергей Николаевич возмутился:
– А кто вам сказал, что русское общество больно? Вон, посмотрите на моего бугая… Семенчук, встань! Ты разве болен?
Гальванер вырос над этажеркой – всей своей гигантской фигурой чемпиона по классической борьбе.
– Не, – засмеялся, – мы не больные. А с господином старлейтом я согласен: всю заразу жизни русской – на свалку надо, чтобы она здоровым жить не мешала.
– С таким оппонентом я не желаю дискутировать… Ирина Николаевна, вы готовы? Григорий Ефимыч будет ждать нас, я уже договорился через баронессу Миклос.
Артеньев прицепил к поясу золоченый кортик:
– Я пойду тоже. У меня не десять сестер, чтобы я бросался ими по всяким Гришкам… Можете мне, как реакционеру, не признаваться. Лишь один вопрос: где живет эта скотина?
* * *
На Гороховой – пустота, лишь возле дома № 64 заметно некоторое оживление, возле подъезда стоят два легковых автомобиля. На площадке лестницы первого этажа, примостившись на подоконнике, играют в карты скучные филеры. Скучные и трезвые.
– Вам куда? – спросили они Артеньева.
– Господин в сером с молодой дамой уже проходили?
– Да. Только что.
– А я с ними… тоже к Григорию Ефимычу.
«Штаб-квартира Российской империи» имела электрический звонок. Артеньев в бешенстве как нажал его кнопку, так уже и не отпускал пальца, пока ему не открыла горничная.
– А вам назначено? – спросила она, словно о визите к врачу.
В прихожую вышел костистый мужик в шелковой рубахе с малиновым пояском, в английских полосатых брюках, на босых ногах его шаркали шлепанцы. Он воззрился на Артеньева, и старлейт хорошо рассмотрел его старческое лицо, клочковатую бороду, из путаницы которой пробивались землистые мужицкие морщины. Даже никогда не видев Распутина, Артеньев догадался, что это он… он!
– Ты што звонишь, будто полицья какая? – наорал Распутин на офицера. – Всех в дому перепужал. Я тебя звал, что ли? Ты, флотский, на кой ляд сюды приперся?
– Просто так. Посмотреть на вас.
– Кого смотреть-то?
– Да вас, Григорий Ефимыч.
На лице Распутина выразилось крайнее удивление:
– У тебя и дела до меня нетути?
– Нет. Нету.
– И просить ништо не станешь?
– Не стану. Вот посмотрю и уйду…
Распутин взмахнул длиннейшими руками гориллы:
– Таких у меня ишо не бывало. Кажинный прыщ лезет, кому – места, кому – чин, кому – орденок. А тебе ништо не надо, быдто святой ты!
Он распахнул двери в гостиную, наполненную дамами, и объявил своим гостям во всеуслышание:
– Это ничего. Какой-то хрен с флоту приволокся…
Древнеславянское слово сорвалось с языка Распутина легко и безобидно, почти не задевая слуха, как обычное разговорное слово, и все дамы восприняли его с удивительным спокойствием. Пугавин с сестрой были уже здесь. Артеньев сел в уголку комнаты, осмотрелся… От круглой печки, несмотря на летнюю пору, разило жаром. Посреди комнаты, обставленной дешевыми венскими стульями, громоздился стол. На нем – ведерный самовар. Вокруг самовара навалено всякой снеди. Масса открытых коробок консервов. Горка неряшливо накромсанной осетрины. Надкусанные калачи. Луковицы. Черный хлеб. Баранки. Мятные пряники. Четыре роскошных торта от Елисеева, уже початых ножами с разных сторон. Соленые огурцы. Очень много бутылок с вином, а под столом – пустые бутылки…
– Ну, кто новый-то здеся? – спросил Распутин, но тут опять задребезжал звонок. – Тьфу, бесы, и время провесть не дадут.
Ввалилась пожилая особа в кружевах и ленточках, с порога она рухнула на колени, хватая Распутина за подол рубахи:
– Отец, бог, Саваоф… дай святости, дай, дай!
Распутин рвал от нее подол рубахи, крича:
– Ой, старая, не гневи… отстань, сатана, или расшибу!
– Сосудик благостный, бородусенька, святусик алмазный…
Распутин развернулся, треснул даму кулаком по башке и отшвырнул ее, словно мешок, к печке.
– Всегда до греха доведет, – сказал, оправляя рубаху. – А ежели ишо раз полезешь, вот хрест святой, так в глаз врежу, что с фонарем уйдешь… как пред истинным!
– Бог, бог… освяти меня, – взывала дама от печки.
– Ну, не сука, а? – спросил всех Распутин и повернулся к Артеньеву: – Сидай к столу, флотской… Небось мадеру лакать любишь?
И вдруг он вперился взглядом в Ирину Артеньеву:
– А ты пошто без декольты пришла? Или порядку не знаешь?
Поднялся с продавленного дивана Пугавин:
– Ирина Николавна явилась, чтобы побеседовать с вами.
– О чем?
– О смысле жития, конечно.
– Дуня! – позвал Распутин, и мгновенно явилась горничная. – Вот эту новенькую, котора без декольты… в боковую веди.
Артеньев конвульсивно дернулся, но Пугавин шепнул ему:
– Что вы! Ваша сестра культурная, передовая девушка…
Компания за столом росла, появились пьяные. Дирижировал за столом закусками секретарь Распутина – ювелир Аарон Симанович. Смеялась, подъедая торт с вилки, будто купчиха, баронесса Миклос – красавица, каких Артеньев никогда не видывал. «И эта туда же?..» Было много аристократок, но скромному офицеру с «Новика» они были далеки и… противны! Респектабельная баронесса Икскуль фон Гильденбандт, которую Артеньев знал по портрету Репина («Дама под вуалью»), невозмутимо разливала чай. Разговор за столом шел странный – больше о концессиях Мурманской железной дороги.
Дверь из боковой комнаты открылась, вышел Распутин с сестрой. Держа ее рукою за шею, он продолжал незаконченный разговор.
– Грех – это хорошо, – ласково внушал он Ирине.
Артеньеву показалась дикой простота его убеждений. Никаких высоких материй: «Грех – это хорошо!» – и этого достаточно, чтобы дуры бабы слушали его так, будто мед пили.
– Пора уходить, – шепнул Артеньев Пугавину.
– Но мы присутствуем лишь при начале опыта…
Распутин сел за стол, а красавица Миклос поднесла ему кусок хлеба, поверх которого положила соленый огурец. Скрипач Лева Гебен настроил свою скрипку, и грянула «величальная»:
Выпьем мы за Гришу – Гришу дорогого, Свет еще не видел Милого такого…Балетмейстер Орлов плясал на столике, телефон звонил неустанно. Распутин хлестал все подряд, что наливали, мешая портвейн с квасом, а пиво с хересом. В какой-то момент Артеньев, абсолютно трезвый, испытал тревожное чувство, какое бывает в море ночью, когда вдоль горизонта брызнет светом вражеский прожектор… Почти физически он ощутил взгляд Распутина, устремленный на сестру, как клинок. Под этим взглядом Ирина вдруг окаменела, дернула плечами. И вдруг она вырвала из прически гребенку, тряхнула головой, рассыпав волосы по плечам, как делают женщины, ложась в постель. Распутин смотрел на нее, как удав на кролика. А потом… Потом над объедками стола протянулась вдруг жилистая рука. Распутин, заворожив, стал гладить сестру по щекам.
Артеньев толкнул Пугавина, Пугавин нажал под столом на туфлю Ирины, и она вдруг истерично взвизгнула:
– Ай! Не сметь так обращаться со мною…
Рука убралась, и глаза Распутина медленно потухли:
– Ишь ты… заноза. Ну-ну. Ладно. Ты приходи опять. Я ничего. Это так… Кады придешь? Мы поговорим… Не бойсь!
Артеньев даже не заметил, когда в комнате появилась Лили Александровна фон Ден. Вдова командира «Новика» принесла цветы, вручив их Распутину, и тот отбросил их от себя:
– Мне? На кой? Ладно. Баловство…
Артеньев не стал дожидаться, когда его увидит г-жа фон Ден, и поспешил к выходу. Шепнул сестре, чтобы шла домой. В пустой квартире слонялся по комнатам Семенчук, поджидая его:
– Ну, что там, господин старший лейтенант?
– Я ничего не понял, – сказал Артеньев. – Если и верны все те слухи о влиянии Распутина на государственные сферы, то я никак не возьму в толк, каким образом Россией может управлять этот темный и жуткий мужик… Как? Я не обнаружил в Распутине даже тени той непосредственности, какая характерна для простонародья. Это ярко выраженная преступная натура, место которой на каторге, а он гуляет… Гуляет так, словно бандит, которому подфартило в добыче!
– Не один же он там, – заметил Семенчук.
– Вот и беда для России, что он такой не один…
– А я билеты взял. Поедем?
* * *
Билеты у них были до Пернова – до самого Моонзунда. Вечером, сидя в купе, Артеньев говорил Семенчуку, словно оправдываясь:
– В доме только черной гадюки не хватает. Кастрюли в копоти. А она опыты ставит… Но она же чистая хорошая девушка. Она все понимает. Я знаю, что она больше туда не пойдет.
Было ему как-то неловко и мучительно. Семенчук отмалчивался, и Артеньев вдруг с отчетливой ясностью понял, что Ирина еще не раз пойдет на Гороховую, 64… Он стал копаться в бумажнике:
– Где мы сейчас?
– Скоро Ямбург.
Сергей Николаевич шлепнул на стол последнюю четвертную:
– На первой станции… разгонись за бутылкой.
– Ваше благородие, да ведь бутылки-то сейчас… сами знаете какие! Только черепа с костями на этикетках не рисуют.
– Плевать. Тащи. Не рассуждая. Выживем.
После выпивки он сознался:
– Лучше б не ездить. Чего мы там не видели? А на войне, брат, лучше. И люди честнее… Ох, какая сволочь!
– Кто сволочь?
– Да все вокруг… Петербурга нет – помойка!
…Он ведь очень любил Санкт-Петербург.
8
Клара встретила фон Кемпке, сияя радостью:
– Ганс, у меня для тебя подарок… вот он! Я сегодня нашла портфель, о котором тебе говорила… Помнишь?
Портфель был из крокодиловой кожи – прекрасный. Массивные замки из бронзы. Их немного тронула морская соль, но это легко отчистить. Кемпке, очень довольный, сунулся внутрь портфеля. Он не был пуст – его наполняли какие-то бумаги.
– Я их даже не трогала, – сказала Клара.
Кемпке поспешно выгребал на стол карты и планы, на которых – в предельной ясности – проступила схема минных постановок Балтийского флота за 1914 и 1915 годы… Фон Кемпке ошалел.
– Клара, – сказал он, отирая пот со лба, – я понимаю, тебе этот портфель может быть неприятен, как память о том негодяе. Мне, честно говоря, он неприятен тоже. Но я могу взять его… В нем можно хранить хотя бы носки для стирки.
– О чем ты говоришь? Я тебе его уже подарила. Ты куда?
– На крейсер.
– Разве ты не останешься ночевать?
– Сегодня никак не могу. У меня вахта. Ночная…
Он убежал, прижимая портфель к груди, в которой билось сердце от волнения небывалого. Вот она, судьба! Вот она, карьера!
9
Газетные трепачи спешно сооружали для России нового героя:
«Среднего роста, хмурый, слегка прихрамывающий, герой производит впечатление испытанного в боях воина. Лицо его выражает непоколебимую волю, мужество и спокойствие. Живые проницательные глаза особенно располагают к нашему герою, столько претерпевшему в скитаниях по вражеским землям…»
Кто он такой? И почему он скитался по вражеским землям?
Россия начинала свое знакомство с генералом Корниловым, о котором она до осени 1916 года, как говорится, «ни ухом ни рылом». Новоявленный Наполеон в самом деле был неказист, даже безобразен, но свою внешность он прекрасно обыгрывал, как ловкий актер, превращая все недостатки в достоинства. Корнилов возвещал в интервью, что он «сын народа – из простых казаков». Славу он приобрел не в боях, а в побегах из плена. Сейчас Корнилов драпанул через Австрию в Румынию, выдавая себя на всем пути за глухонемого нищего. Герой был готов, и Николай II дал Корнилову целый корпус.
К осени мясорубки Вердена и Соммы перемололи столько народу, что его хватило бы для основания целого государства. Одна лишь битва на реке Сомме выжрала из арсеналов Антанты такую массу снарядов, что Россия могла лишь завистливо ахнуть.
– Мы, – говорили в Ставке генералы, – не истратили этого количества снарядов даже за все два года войны. Если бы союзники уделили нам хотя бы треть этого расхода на Сомме, то, будьте покойны, Россия уже давно была бы в Берлине!
Наступление Брусилова постепенно выдыхалось. Русская армия замедляла темп движения, как усталый паровоз, в топках которого догорали последние огни. Австрия уже не могла оправиться от поражения, но Германия оставалась еще очень сильна; оказалось, она стала еще сильнее, когда к управлению войной пришел маршал Гинденбург – новый кумир германской военщины. Сразу прекратились бесплодные атаки под Верденом: внимание Гинденбурга властно занимал Восток, его бескрайние леса и поля, ему была нужна Россия.
Германия обещала Румынии русскую Бессарабию, но Россия посулила Румынии австрийскую Трансильванию, и это решило дело – Румыния вступила в войну на стороне Антанты.
– Теперь, – докладывал Алексеев царю, – наши дела пойдут намного хуже. Отныне румыны садятся на нашу шею, а Россия, и без того залитая кровью, получает в дар от новых союзников еще полтысячи верст непрерывного фронта…
Румыны широко оповестили весь мир, что завтра «Мара Румени» (Великая Румыния) будет пировать в Берлине. Заявка сделана! Первыми побежали от немцев генералы – на автомобилях. За ними утекли с фронта офицеры – на лошадях. За офицерами припустились и солдаты, у которых еще оставались целы ноги. Вся эта орава дезертиров стекалась к Бухаресту. «Мара Румени» была разгромлена в рекордный срок, и Россия кинулась спасать Румынию, которую спасти было уже невозможно. Пришлось ввести туда целую армию и воевать за «Мара Румени».
На Балтике в эти дни геройски сражались силы Рижского залива. В узостях Моонзунда денно и нощно гремели ковши старательных землечерпалок. Бурая придонная грязь, грохоча поднятыми со дна камнями, текла в разъятые лохани лихтеров. Баржи подхватывали раствор грунта, уходили далеко в море и топили его на глубине… Надо спешить! Наконец канал Моонзунда дочерпали ковшами до критической глубины в 26,5 фута. Критический – потому что линкор «Слава» прополз через Моонзунд почти на брюхе, царапая себе днище о камни грунта, но другие корабли, с более глубокой осадкой, пройти за «Славою» уже не могли…
В могилевскую Ставку царя явился английский посол.
– В прошлом году, – заявил в своей речи сэр Бьюкенен, – правительство моего короля вручило вам, ваше величество, великобританский фельдмаршальский жезл – как дань восхищения английской нации перед героизмом русской армии. Сейчас мы вручаем вам знаки первой степени ордена Бани – в знак восхищения перед доблестью ваших флотов – Черноморского и Балтийского.
– Я тронут, – отвечал император.
* * *
Флот сражался, не щадя себя, он нес страшные потери, по волнам Балтики неделями носило трупы, раздутые, как бочки… Матросы говорили о войне. О войне говорили в кубриках. Внешне казалось, что им сейчас не до политики – только о войне они помышляют.
Зато усиленно политиковало «подполье» штабного офицерства.
– Нам легко доказать, – утверждал князь Черкасский, – что командующий не справился в эту кампанию. Балтфлот мог бы стать гораздо активнее, если бы не Канин.
– Наши друзья в Думе, – поддержал князя Ренгартен, – такого же мнения. Флот должен дерзать, а Канин похож на чиновника…
Опять пришли в действие потаенные пружины, работа которых укрыта от обывательского глаза российских сограждан. Князь Черкасский, интригуя, отписывал в Ставку к адмиралу Русину:
«Искренно считая, что старый режим ведет к новой Цусиме… я написал В. М. Альтфатеру письмо, в котором подробно изложил все дефекты командования (т. е. комфлота Канина) и указал на адмирала Непенина…»
В один из дней Федя Довконт столкнулся на трапе «Кречета» с контр-адмиралом Непениным. С умом дурачась, кавторанг подчеркнуто вежливо сошел с трапа, уступая дорогу, и отдал честь.
– Не ломайся, Феденька, мы же друзья, – сказал Непенин.
– Адриан Иваныч, ломаюсь с выгодой на будущее. Ходят слухи, что Канина выкинут на пенсию, а в комфлоты тебя назначат.
– Думато ли? – спросил Непенин, чуть не упав с трапа.
– Думато. Крепко думато…
Канин об этом ничего не знал и плакался тому же Непенину.
– В чем меня обвиняют? В малой активности? Но, помилуй бог, не сама ли Ставка хватала меня за хлястик каждый раз, когда я хотел вытащить из Гельсингфорса новейшие дредноуты. Я дошел до крайности, желая облегчить «Андрея Первозванного». Снимали броню, пересыпали уголь в бункерах, перекачивали воду, но… фокус не удался! Моонзунд пропустил только «Славу».
Наконец стало ясно, что на его место садится Непенин. Если спокойно разобраться в этом назначении с чисто военной точки зрения, то оно было «продумато» заговорщиками. Флот получал образованного офицера, который долго возглавлял морской шпионаж на Балтике и был в курсе дел – своих и чужих… Николай II пожелал видеть нового командующего Балтийским флотом.
– Колчак на Черном справляется неплохо, – сказал Непенину император. – Мне только не нравятся его поблажки нижним чинам. К чему этот приказ, разрешающий матросам шляться по главным улицам? Почему он разрешил им бывать в театре? Вообще Колчак порою для меня непонятен… Возможно, что его подзуживают из Думы, где сидят люди, желающие мне зла. – Николай II подошел к адмиралу вплотную. – Вас я знаю, Адриан Иваныч: вы поблажек флоту давать не станете. И вы способны раздавить гадину революции, если она станет заползать на балтийские корабли…
Император хотел еще что-то сказать, но никак не мог решиться. Вопрос был слишком щекотлив. Лишь после ужина, подвыпив, Николай отчаялся на откровенный разговор:
– Адриан Иваныч, я не против вашего назначения на высокий пост командующего Балтийским флотом. Но только ответьте мне честно – зачем вы облаяли мою жену?
Непенин, мужчина откормленный и плотный, стал медленно наполняться кровью: вот-вот его хватит кондрашка.
– Ваше величество! – воскликнул он, зашатавшись. – Видит бог, что я не был тогда виноват. Позвольте объясниться…
Непенин и в самом деле не виноват. Он никогда не помышлял лаять на царицу, верноподданным которой по праву считался. Короче говоря, была у Непенина любовница – вполне приличная дама средних лет. Непенин пребывал тогда в чине каперанга. Перед войной лукавый попутал, занеся его вместе с любовницей на лето в Ливадию. Однажды вечерком они договорились встретиться. Над Ливадией опускался царственный вечер, быстро темнело. Еще издалека Непенин заметил свою пассию, которая шла ему навстречу. Решив побыть в числе остроумных кавалеров, Непенин заранее опустился на четвереньки и, громко лая, поспешил навстречу… Белое платье женщины приближалось, а каперанг, радуясь своей выдумке, лаял – все громче и громче. Наконец они сблизились, и – о, ужас! – это была сама императрица. Хозяйка всея Руси в удивлении обозревала лающего капитана I ранга. От великого же смущения, как это бывает с людьми при полной растерянности, Непенин с четверенек уже не вставал. Продолжая лаять, он завернул мимо царицы – в калитку дома своей возлюбленной. Придворная полиция, конечно, сразу выяснила, кто этот дерзкий пес…
– Ваше величество, – с чувством прослезился Непенин, – я не хотел. Видит бог, я тогда ошибся. И пьян не был. Но лай собачий, помимо воли, так и вырывался из груди моей.
Император высочайше соблаговолил его простить, и Непенин стал командовать славным Балтийским флотом.
* * *
Империя существовала. Империя была великой, и все, что называлось «русским», высоко котировалось на мировых биржах и рынках. Казалось, что империя Российская нерушима… Эта империя производила:
булки и жандармов, расчески и дипломатов, самовары и канонерки, дворников и облигации, икру и подхалимов, мудрецов и спички, идиотов и примусы, адвокатов и аэропланы, клизмы и торпеды, генералов и абажуры, поэтов и балалайки… Несть числа всем произведениям этой империи, история которой теряется неразгаданно в берложьих буреломах ветхозаветной древности мира.
Мир еще не знал, что эта империя доживает последние дни.
Колчак?.. Непенин?.. Корнилов?.. Протопопов?..
Отчего они вставали к штурвалам именно сейчас?
Контрреволюция сплачивала свои силы. Производилась почти шахматная рокировка фигур. Они, эти люди, выстраивались сейчас один к одному, чтобы принять встречный бой…
Схватка близилась!
10
Один из самых больших в мире органов – орган Троицкого собора в Либаве – рыдал над городом о страдании. Древние липы, помнившие еще магистров Ливонского ордена, давно отцвели. Возле вросшего в землю домика, где в 1697 году, поспешая в Голландию, останавливался для ночлега юный Петр I, теперь расхаживали, посверкивая моноклями, завоеватели – надменные, властные и жестокие. Либава медленно умирала в нищете, унижении и безработице.
Оккупанты нанесли ей удар мечом; всегда цветущая, она сейчас переживала экономический упадок; богатый и оживленный город уже не пил целебных соков из России, он потерял торговые связи с Европой, и теперь Либава влачила жалкое существование. Ей осталось одно – обслуживать германский флот…
В угольной гавани весь день вставали под погрузку германские пароходы. Артель грузчиков из латышей и русских, под надзором шпиков и портовой полиции, работала быстро и неутомимо. Вагонетки с углем плохого качества (штыбом) одна за другой опрокидывались над распахнутыми люковицами трюмов.
В середине дня заканчивала принимать уголь «Стелла» под флагом кайзеровского Ллойда. В минуту передышки рослый либавский докер последней спичкой раскурил на ветру дешевую папиросу. Встряхнув в руке спичечный коробок, он убедился, что тот пуст, и небрежно бросил его в вагонетку – в завал штыба. Корабельная стрела тут же подхватила вагонетку и опустошила ее над своим бункером. «Стелла» отошла на рейд, а на ее место встала у причала под погрузку «Латиния».
Загрузку «Латинии» докеры закончили уже под конец смены. Тот же рослый докер, устало распрямив спину, раскурил папиросу. Серые глаза его смотрели настороженно, в зрачках чуялся жадный блеск риска. Пустой спичечный коробок опять полетел в груду угля и навеки затерялся в бурой трухе среди редких кусков антрацита. «Латиния» потянулась за волнолом. Над гаванью брякнул колокол, и артель грузчиков, срывая с себя робы, пошабашила.
Ближе к вечеру рослый докер, обходя полицейских, тащил между домов старой Либавы мешок украденного в гавани угля. Оккупанты ввели строгие нормы на топливо, осень была холодной, люди мерзли – уголь был дорог. На улице Святого Мартина докер поднялся на второй этаж дома г-жи Штранге, дверь открыла ему Клара Изельгоф.
– Мадам, сегодня с вас триста марок. Куда свалить?
– Вот сюда… Триста так триста.
Свернув деньги, грузчик сунул их в кармашек.
– Рюмку коньяку? – предложила Клара.
– Не откажусь, мадам.
С отчетливым шиком он приударил перед ней каблуками своих раздрызганных сапог и вдруг как-то сразу изменился.
– Удачен ли был день, господин штабс-капитан?
– «Стелла» и «Латиния»! По шесть тысяч брутто-тонн, порт назначения – Данциг. Активные воспламенители в бункерах. Самовозгорание угля случится далеко в море… А у вас? – спросил он.
– Я жду решения гросс-адмирала, чтобы закончить эту историю.
* * *
В кильской гавани кораблям тесно, словно в консервной банке. Может, поэтому кайзеровские моряки называли себя «кильскими шпротинами». Киль с его гаванями виден и сейчас – из окон кабинета Генриха Прусского; под локтем принца лежал портфель – тот самый, а перед гросс-адмиралом, обличая свою готовность к службе, стоял фон Кемпке.
– И вы хорошо знаете эту женщину? – спросил Генрих.
– Настолько, насколько можно знать женщину.
– Как она относится к Германии и к нам?
– Она согласна быть моей женой, и этим все сказано.
– Кемпке, вы даже не представляете, какая блестящая карьера ожидает вас, если… все это (принц тронул портфель почти любовно) окажется правдой! До сих пор мы были озабочены возможностью прорыва в Рижский залив, а сейчас перед нашим доблестным флотом открывается… Финский залив.
Русские карты с планами минных постановок подвергли тщательному анализу в штабах. До сих пор считалось, что эссенские минные постановки устроены столь мудро, что в Финский залив не проскочить даже мышке. Вскоре принцу был сделан доклад:
– Мы не обнаружили, при всем нашем старании, ничего такого, во что нельзя было бы не поверить. Все разумно и логично. Именно так Эссен и мог загородить Балтику… На этих картах из портфеля обозначены секретные фарватеры, которыми пользуются русские корабли. Можно считать, что нам повезло!
Даже не верилось, что проблема, над которой столько бились, столько калечились и погибали, отныне разрешается так просто: вот они, карты и планы, лежат перед тобой… Переноси на кальку, вручай копии штурманам, и германский флот прорвется сразу до Ревеля, сразу до Гельсингфорса, сразу до Кронштадта.
Секрет «Крепости Петра Великого» отныне – дешевый миф!
– Именно тут, – говорил принц Генрих, лаская портфель в руках, – заложен наш прорыв к подступам русской столицы. По сведениям агентуры, в России сейчас не так уж спокойно, как это кажется внешне. И надеюсь, русский император будет лишь благодарен Гохзеефлотте, который, раздавив его флот на Балтике, заодно расплющит и русскую революцию в самом ее зародыше!
«Лампочки» гросс-адмирала светились тусклым огнем.
– Все ясно, – заключил принц. – Пусть штаб обработает эти данные, и операцию по прорыву можно начинать. Эту честь я особо доверяю моей славной Десятой флотилии…
Десятая флотилия состояла из новейших эскадренных миноносцев типов «S», «G» и «V», которые можно было приравнять к высокому классу минных крейсеров. Спущенные на воду в прошлом году, они по скорости и вооружению были равноценны русским «новикам».
Недоверчивый штаб гросс-адмирала придержал операцию:
– Пошлем для начала только два корабля. Если они проскочат благополучно и вернутся из мышеловки целы, пустим всю флотилию!
Принц согласился и вызвал капитан-цур-зее Виттинга.
– Храбрец! – сказал он ему. – Бери два эсминца с подогрева и ступай в пасть смерти – в Финский залив. Вот тебе карты… Ты будешь как брандер, чтобы собственным днищем проверить, есть ли мины в проходах, указанных на этих картах… Радиосвязь не держать, чтобы не прослушали тебя русские. Иди, мой добрый Виттинг, и Железный крест остается за мной… Прощай!
– Прощайте и вы, мой смелый гросс-адмирал…
Два корабля ушли и вскоре вернулись – невредимы.
– Карта не врет! – доложил Виттинг. – Мы струились в указанных фарватерах, как масло по раскаленной сковородке. Финский залив – чудо: мы часто видели русских с непогашенными огнями, будто война их не касается. Этими же проходами я берусь провести всю Десятую флотилию. Мы – первые германцы, которые побывали в этой российской придворной луже Романовых…
Вечером 10 ноября – в стужу – Десятая флотилия уже покидала Либаву. Куда идут эсминцы, командам не сообщали. Одиннадцать безголосых теней стремительно вылетели в бурю – за волнолом.
Плотный, как тесто, ветер летел им навстречу.
* * *
В вахтенном журнале записано:
«…воздух ужасен (спичка не загоралась). Даем 400 ампер на вал, днище лодки скрипит по грунту. Внутри корпуса давление поднялось настолько, что стрелка барометра вышла за пределы шкалы (свыше 815). Команде дышать затруднительно… Выходим на продувание балласта».
Осенняя хлябь воды разъялась. Из моря выскочил, словно жирный, лоснящийся тюлень, корпус подлодки. Над рубкой, взвизгнув тугими пружинами, откинулась крышка люка, из которого стали вылезать жадно дышащие люди. При свете луны на бортовой скуле субмарины можно было прочесть славянскую вязь из пяти плоских букв: «Волкъ»… «Волчицу» вел на этот раз командир Мессер[14], а Саша Бахтин шел при нем старшим офицером. Внутри лодки с трудом провернулись дизеля, цилиндрам которых, как и легким людей, было тяжело «дышать» испорченным воздухом. Ночь наполнилась мерной стукотней клапанов, и вскоре показался берег.
Бахтин нагнулся над люком, откуда несло испарениями.
– Штурманец, всплыли точно. На берегу виден огонь с хутора. Нам уже сигналят… А какой здесь грунт?
– Песок, – донеслось до мостика изнутри лодки.
– Камней нет?
– Не гарантирую.
– Утешил. Можно пропороться…
«Волчица» с шипением раздвинула днищем плотные пески пляжа, на котором росла высокая осока, и села носом на грунт. Команда еще не знала цели этого странного для лодки подхода к Либаве, и Бахтин коротенько объяснил:
– Сейчас уйдем. Шпиона снимем. И уйдем сразу.
Боцман зябко поежился в своем бушлате:
– И не боятся же люди шпионить… в экую погодку!
От хутора, едва видного в темноте, отделилась фигура человека. Он добрался по воде до борта лодки, матросы вытянули его на палубу и только сейчас поняли, что это женщина.
– Уходите скорей, – сказала она. – Здесь вдоль берега все время шныряют кавалерийские разъезды. Могут заметить…
Чтобы углубить работу винтов, Мессер велел перекачать в корму четыре тысячи литров воды, и дизеля, едко чихнув, сдернули «волчицу» на чистую воду. Дойдя до приличных глубин, сразу же погрузились. На смену отчаянному грохоту дизелей в симфонию подводных звуков влился ровный, почти усыпляющий гул электромоторов. Мессер передал женщине пакет, в котором были купоны литера «А» на проезд в мягком вагоне до Петрограда.
– Рижский поезд отходит утром. Если с нами ничего не случится, то вы на этот поезд не опоздаете… Спокойной ночи, мадам.
Бахтин провел женщину в свою каюту. Желание пассажирки переодеться смущало юного офицера. Он открыл свой шкафчик:
– Мадам, извините… Выбирайте что вам угодно.
– Благодарю. Еще попрошу чаю… Водится у вас таковой?
– Только чаем и держимся, мадам. Чаем сохраняем себя.
– И даже такой приятный цвет лица, как у вас?
– Это уже не от чая, мадам. Обычно мы, подводники, бываем в море бледно-зеленые, как ростки картошки в подвале. Мой цвет лица сегодня – лишь румянец восхищения перед вами…
Со стоном моторов «волчица» падала и падала в разъятую под ней пустоту. На глубиномере было девяносто футов, когда командир задержал ее падение. Подлодка, словно торпеда, стала пронзать перед собой плотный мрак пучины. Что-то заскрежетало за бортом противно и гнусно, словно ножом провели по сердцу каждого.
– Наверное, прорвали сети, – сказал Мессер, морщась. – Вряд ли рыбацкие, нам повезло… Легла эта стерва? – спросил он потом у Бахтина, когда тот протиснулся в боевой пост.
– Почему вы так ее называете? Она хорошая женщина.
– Хорошие спят дома, а не шляются черт знает где.
– Она вполне приличная женщина.
– Приличная не станет заниматься шпионажем. Только подзаборные шлюхи способны на это ремесло… Грязная работа даже для мужчин, а про женщин и говорить не приходится.
– А вы не подумали, – спросил Бахтин, – что она проделала грязную работу ради высоких идеалов любви к отчизне?
– Ну, это фантастика! Как бы эта пассажирка не накликала беды на нашу лодку. Я успокоюсь лишь тогда, когда спихну ее на рижскую набережную… Добавить оборотов на вал!
* * *
На глубине в 90 футов Клара Изельгоф (это не настоящее ее имя) уже крепко спала. Впервые за последние дни… Сейчас ей снились ромашки и чужой ребенок, оставленный в высокой траве.
11
Крейсер «Страсбург» довел одиннадцать эсминцев до траверза Гангэ.
Последний проблеск узким лучом фонаря Ратьера: «Желаю удачи», и крейсер тут же отвернул, быстро исчезая в ненастье.
Десятая флотилия – строем клина, как топор, – разрубала перед собой мрак осенней балтийской ночи. Кованые форштевни кораблей, снабженные бивнями для таранов подлодок, легко разламывали волны. Виттинг держал флаг на головном; мостик «V-72» стал тесен для множества штабных специалистов. Ветер Балтики, негодующий, разметывал над палубами эсминцев черные хлопья сажи.
– Приближаемся, – разом отметили штурмана.
Да, они приближались к минным банкам.
– Перестроение, – скомандовал Виттинг. – В кильватер!
Когда суда идут в нитку – это безопаснее при узости фарватера. Штабные офицеры придирчиво сверяли точность штурманской прокладки с пометками на русских секретных картах. Видимость была скверной – не больше шести кабельтовых, и капитан-цур-зее, оборачиваясь, видел в одном створе лишь три ближних эсминца – остальных поглощал ревущий мрак…
Три замыкающих кильватер по оплошности отстали.
Отставший «S-57» вдруг выпрыгнул из моря – мина ударила его под крамбол, и сталь корабельного борта, словно кровельный толь, стала закручиваться в уродливый рулон. Виттинг передал по радио на «V-75», чтобы тот принял команду. Эсминец, во исполнение приказа, начал снимать экипаж, но тут дважды рвануло взрывами… «V-75» разбросало на три части, которые стали плавать отдельно одна от другой, – эсминец налетел сразу на две мины!
Штабные специалисты на мостике «V-72» заволновались:
– Туда ли мы идем? Может, лучше и не соваться?
– Перестаньте! – возразил капитан-цур-зее. – Я уже проходил здесь. Это просто роковая случайность, как при игре в карты… «G-89» приказываю подойти к «V-75» и забрать обе команды.
«G-89» принял на себя экипажи двух погибших эсминцев, и в отсеках стало не повернуться от тройного состава команды. После чего командир «G-89» уже не хотел рисковать:
– Мы уходим… обратно… на Либаву!
Под флагом Виттинга осталось 8 эсминцев, и он благополучно вывел флотилию в Финский залив. Вот она, заколдованная минами и батареями, русская зона «абсолютной недоступности».
– Конечно, – радовались на мостиках, – два прискорбных эпизода не следует брать в расчет. Это просто роковая случайность…
Теперь, когда они забрались в чужой сундук, надо поскорей выбрать из него добро. Но в четких панорамах отличной германской оптики виделась только ночь… ночь, волны, безлюдье!
– Что случилось? – поражался Виттинг. – Когда я прорвался сюда в прошлый раз, здесь было оживленно, как на швейцарском курорте… Полно огней! Я же видел их…
Финский залив словно вымер – ни лайбы! Десятая флотилия резала курсы на острых углах, выискивая цель для торпедирования. Они были извещены, что именно здесь, между Ревелем и Гельсингфорсом, шатаются могучие русские великаны-дредноуты. «Где же они сегодня?» В задраенных рубках стучали одографы, стрелки тахометров плавали по голубым табло датчиков, отмечая порывы скорости – небывалой. Пакерортский маяк давал во тьму отрывистые проблески…
– Ляжем на Рогервик, – решил Виттинг, чтобы не уходить из этой сокровищницы с пустыми руками.
Рогервикский залив был пустынен. Возле острова Оденсхольм Десятая флотилия видела, пробегая мимо, разваленный остов крейсера «Магдебург», погибшего в начале войны на камнях в бесславье. А в глубине залива покоился Балтийский Порт[15].
Курортный городок уже спал. Лишь издалека пыхтел паром коптильный заводик, известный на всю Европу прекрасной выделкою шпрот. С вокзала немцам гугукнул паровоз, отходящий на Ревель.
– Бразильское танго, – сказал Виттинг, навострив ухо.
Да, со стороны климатической водолечебницы Десятая флотилия уловила музыку: танцевали полуночники. Виттинг приказал:
– За гибель двух наших эсминцев – огонь по бездельникам!
Снаряды протыкали плотный занавес ночи и уносились вдаль с тихим шелестом, словно опадающие с дерев листья. На спящий город обрушилась смерть. В грохоте рушащихся зданий трупы людей вместе с кроватями проваливались в погреба. Полуголые женщины в ужасе метались по улицам. Кричали дети. Никто из них не мог понять – откуда пришла смерть? Виттинг велел включить прожектора, и в их мертвящем свете город ослеп совсем.
Был 1 час 20 минут ночи на 11 ноября 1916 года…
Музыка отзвучала. Виттинг послушал тишину, разрываемую криками раненых. По его приказу шарахнули по городу еще осколочными, чтобы побольше угробить народу, и стали выбираться из бухты. Десятая флотилия, закидывая чехлы на горячий калибр, уже ложилась на обратный курс…
– Как пойдем обратно? – говорили на мостиках.
– С песнями! По уже проверенным каналам.
Пошли. Флагманский «V-72» первым приблизился к минному полю, и страшный удар потряс его мостик. Виттингу доложили, что четыре отсека уже в воде. «G-90» подвалил к борту флагмана, начал снимать с него команду. Счастье их, что море к утру потишало. Раненых передавали на узких, как байдарки, носилках, в которые матросы были ввязаны шкертовкой, чтобы не вывалить их за борт. Виттинг удачно перескочил на палубу «G-90», не замочив ног.
– Добейте моего флагмана, чтобы затонул поскорее!
На эти самоубийственные выстрелы развернулись другие эсминцы, решив, что напали русские. Когда они подошли ближе, то рядом с флагманским «V-72» тонул и «G-90», задирая в небо корму. А из воды вытащили и капитан-цур-зее Виттинга. Лязгая зубами от нестерпимой стужи, он перешел на мостик «S-58». Теперь он уже не говорил, что это роковая случайность.
– Но иного выхода у нас нет. Продолжать движение!
Власть над флотилией была им потеряна. Словно волчья стая, напуганная облавой, эсминцы стали кидаться в разные стороны. Ночь превратилась в ад, а вода в клокочущий кипяток. Взрывы мин порождали в отсеках кораблей газы. Спасенные люди, забившись в кубрики, уже безвольно поддавались размахам качки, и волною их швыряло с борта на борт, как пустые бездушные мешки. Среди них появились первые сумасшедшие, и они радовались взрывам, как дурачки. Корабли были контужены близкими взрывами, стальные листы бортов едва держались на расшатанных заклепках. Из цистерн началась утечка пресной воды, от морской же котлы быстро засолились, и эсминцам стал угрожать машинный паралич…
В четыре часа утра взрыв «S-58» оповестил флотилию о гибели еще одного корабля. Виттинг опять тонул; мимо него как раз проходил «S-59», и капитан-цур-зее из череды волн, качавших его, пронзительно кричал, чтобы его приняли на борт:
– Не уходите… это я – ваш флагман!
Его спас эсминец «S-59», который тут же напоролся на мину. Не успев обсохнуть, Виттинг опять плавал в воде. И опять его вытащили. Капитан-цур-зее остался в живых, но… какой ценой? Утром, когда прояснело, Десятая флотилия застопорила машины… идти было некуда! Эсминцы качало на пологой волне, а первые лучи солнца пробили сизую морскую толщь.
– Смотрите! – кричали с мостиков. – Смотрите…
Под ними, возле их бортов, качались на глубине черные шары. Они виднелись слева и справа, за кормой и прямо по курсу. Виттинг отстранил от телеграфа командира и сдвинул рукояти:
– Мы все погибнем. Но… не стоять же здесь! Кто-нибудь из нас да останется жив. Пусть Германия знает…
Досасывая из цистерн последние литры пресной воды, вышли к Либаве только три, трясясь корпусами в контузии, полностью деморализованные. Десятой флотилии – гордости германского флота – более не существовало. В одну только эту ночь кайзер потерял восьмую часть всех своих эсминцев, погибших за время войны, которая длилась 1600 ночей…
– Что это было? Колдовство? – спрашивали себя немцы.
Русская столица провела эту ночь спокойно. Не спал только флот, из радиорубок которого выплескивало в морзянке каждый вопль гибнущей Десятой флотилии. Русские отомстили за все!
* * *
«Лампочки» буркал гросс-адмирала медленно погасали.
– Теперь, – сказал принц, – дело за нашей разведкой…
Адрес известен: улица Святого Мартина, дом г-жи Штранге. Кинулись туда, чтобы схватить очаровательную кельнершу, но обнаружили только оставленную ею на столе фотографию… кайзера!
– Узнаете ее почерк? – спросили фон Кемпке.
– Да, узнаю.
– Прочтите, что она пишет вам на прощание…
Кемпке прочел посвящение ему на портрете кайзера: «Я так и не удосужилась снять портрет с себя, но думаю, что изображение славного Вильгельма утешит вас. Вы, конечно, неотразимый мужчина, Ганс, но вы такой же дурак, как и ваше начальство…»
– Итак, вы работали на пару с этой шпионкой?
– Простите, но я знал ее за кельнершу. – Кемпке решил спасать себя и даже осмелел: – Я ведь мужчина опытный, и меня не проведешь. Она лишь притворялась скромницей. Но я сразу понял, что она низка, порочна, корыстолюбива. В сердце этой мегеры уже не осталось места для женских добродетелей…
Его разуверили – все не так. Клара Изельгоф – опытная русская разведчица, проходившая под кличкой «Ревельская Анна», которая всегда отличалась удивительным нахальством в своей работе. Она много лет занималась только германским флотом.
– И она изучила дела нашего Гохзеефлотте, будто это ее кухня. Пока мы не отыскали других виноватых, вам придется побыть в роли главного виновника этой трагедии германского флота.
Неотразимого мужчину лишили сабли. С плеч опытного обольстителя женщин с мясом выдрали офицерские погоны.
– Но в чем же я провинился? – горько рыдал фон Кемпке.
– Солдат Кемпке, вас ждут грязные окопы под Ригой! Марш…
12
Корабли – как и люди. Среди них тоже бывают бездельники, которым выпадают многие почести. И есть корабли – старательные труженики-скромники, о которых помалкивают. Кажется, они уже привыкли, что лавры не украшают их мачт. Только по ночам, когда затихнет суета рейдов, обидно слезятся желтые глаза их прожекторов. Корабли жалобно всхлипывают в ночи придонными помпами…
«Слава» тоже была кораблем обиженным. Линкор с честью проносил свои знамена через войну, а жирный паек и уважение Ставки доставались громадным верзилам-тунеядцам из Гельсингфорса, которые и пороху-то не нюхали. Ладно, история нас рассудит… После трагической гибели каперанга С. С. Вяземского командовать «Славой» прислали кавторанга Л. В. Антонова. На левой стороне его кителя неизменно болтался Владимир 4-й степени (без мечей). Человек среднего роста, с проседью в волосах, немногословный. Под его салоном грузно проседали в пучину моря 13 500 тонн путиловской брони, насыщенной живыми людьми и мертвой техникой. А над водой вырастали, словно этажерки с полками, мостики, рубки, марсы и площадки дальномеров. Скоро подморозит. Из широких труб старого линкора растрепывало рыжий дым…
– Господа, – сказал Антонов за чаем в кают-компании, – зима предстоит опять суровая. Кажется, нашу «Славу» оставят на зиму в Моонзунде. Надо утеплиться перед морозами. И надо закрасить весь линкор белилами – для маскировки от авиации противника… Кстати, кто у нас сегодня стоит the dog watch[16]?
Из-за стола вскинулся юный мичман Гриша Карпенко:
– Я заступаю после «собаки», сменяя лейтенанта Иванова.
– Простите, господа, я еще не освоился… Иванов – какой?
– Вадим Иванович, командир кормовой башни.
– А вы, мичман?
– Стажируюсь на носовую башню, – ответил Гриша Карпенко.
– Благодарю. Спокойной ночи. Спокойной вахты…
Холодом тянуло от Ботники, линкор укачивало. «Слава» по-старушечьи устраивалась на зиму. Верный страж Рижского залива и Моонзунда, она уже сроднилась с этими краями. Пусть счастливчики уйдут зимовать в яркие, ослепительные города, где льется вино в ресторанах, где на улицах млеет сердце от женских улыбок, где звучит танго по вечерам, – «Слава» останется здесь. Надо только забить все щели в броне, чтобы холодные вьюги не мешали команде жить и бороться. Надо еще до ледостава выстроить над тамбурами люков дощатые будки для сохранения внутреннего тепла…
В четыре часа ночи Гриша Карпенко заступил на вахту. Ветер гудел в громадных чехлах, под которыми мерзли орудия главного калибра. Что ж, скоро он станет командиром носовой батни. Что ж, наверное, к весне и в лейтенанты произведут. Прежняя служба на «Гангуте» представлялась теперь кошмарным сном. Зато на «Славе» было ему хорошо… Здесь лучше! Летом они побывали в огне, а боевая обстановка раскрыла перед мичманом характеры матросов – прямодушные, смелые, откровенные. Теперь о «Гангуте» даже вспоминалось с неприязнью, как о тюрьме, в которой пришлось отсиживать срок.
Перед побудкой к «Славе» подвалил буксир из Рогокюля, доставив команде два мешка писем. Буксир сразу отошел, а на палубе линкора сиротливо осталась темнеть фигура вновь прибывшего матроса с чемоданом. Карпенко с мостика окликнул его в мегафон:
– Отпускной?
– Нет. Для прохождения.
– Поднимись сюда…
В синем маскировочном свете рубки предстал перед мичманом стройный юноша в коротком бушлате. Стал докладывать:
– Сигнальный юнга Виктор Скрипов для прохождения службы…
– А раньше где плавал? – спросил его Карпенко.
– На подводках.
– Под водку хороша только селедка с луком.
– Простите, ваше благородие, буквы «л» не выговариваю.
– А долго был на подлодках?
Витька Скрипов снял бескозырку, как на похоронах:
– Один поход отломался. Списали!
– Один? И… да ты никак седой?
– Не от страху – совесть замучила.
Карпенко закинул над смотровыми окнами рубки броневые пластины, врубил яркий свет. Вещи и юнга сразу ожили.
– Сейчас-то ты прямо из экипажа к нам? Из какого?
– Я к вам на линкор из госпиталя.
– Болел?
– Нет. Вешался…
Карпенко в раздумье потянул из кармана портсигар:
– Если куришь, бери. Я не спрашиваю, что у тебя там в жизни стряслось. Но напрасно ведь люди веревкой не давятся. Пусть горе твое будет последним горем. А на «Славе» люди хорошие…
До побудки он велел юнге посидеть на диване:
– Чтобы ты не шлялся по кораблю, еще все спят. А когда ты Школу юнг закончил? Последнего выпуска? А правду говорят, что большевики в этой школе вашей юнгам мозги давно чистят?
– Не знаю, – отвечал Скрипов. – Я политикой не занимался. На одних флажках намотаешься. Да еще Трехфлажную книгу назубок знать надо. Опять же морзянку, как «Отче наш»… Не. Не знаю!
В пять утра тишину взорвало горнами и матюгами суетливых боцманов. Мичман отправил юнгу вниз. Сказал, как отыскать сигнальную палубу. Витька спустился в преисподнюю линкора, где было удивительно светло, тепло и чисто. Нарядно сверкали поручни и медные рожки пожарных «пипок». Все переборки, как в добротной гостинице, выкрашены под орех или разведены полосками – под мрамор. Словно ухарские дьяволы, летали мимо него матросы, стегая подошвами по ступеням трапов. Витька ошалел от их беготни, запутался в лабиринте коридоров, люков, переходов и лазов.
– Эй, седая башка! – окликнули его. – Чего разинулся?
– Я заблудился, – честно признался Витька.
– В какую тебе палубу? Ну, сигай за мной…
Только успевай. Будто на американские горы попал. Возносило по трапам наверх, швыряло в провалы люков, било в тупиках коридоров, возносило опять ввысь. Даже взмок. Пихнули в спину..
– Эй, сигнальные… к вам новенький!
Витька поспел как раз на мурцовку. Вокруг столов сидели сигнальщики, будущие его товарищи по вахтам, и было их человек с полсотни (не меньше). Все они в отстиранных робах, выпущенных поверх штанов. Потеснились за столом, освобождая место:
– Садись. Какавы до субботы не будет. Хлебай наше…
Мурцовка с холодрыги была хороша. В крепкий чай кладут сухарную крошку, обдав ее предварительно кипятком, чтобы убить червяков; затем коки валят туда коровье масло и крошат лук репчатый, – мурцовка, считай, готова. Пойло горячее, густейшее, сытное. Даже балдеет матрос, как от пива… За столом разговорились.
– На подлодках-то как? Велик ли сектор обзора?
– Да всяко, – отвечал Витька. – Когда с офицером на мостике стоишь, тогда горизонт пополам делим. Каждому по шестнадцать румбов приходится. А снизу люди просятся наверх – подышать. Коли кто поднялся, без дела не оставят. За чистый воздух ему кусок от горизонта, как кусок от торта, отрежут и – смотри. Тогда мне уже легче. Вообще-то глаза устают… А как у вас?
– У нас для начала тебе дадут для наблюдения градусов тридцать от горизонта, вроде крысиного хвостика, и – стереги!
Из каюты сверхсрочников, где мурцовку заменяют офицерским кофе, явился сигнальный старшина – кондуктор Городничий:
– Ты тут новый? А-а, юнга… Ну-ну! Люди свои, так не бойся, скажи по совести: небось еще со школы ты большевик?
– Я в политику не лезу. Мне бы так… Попроще.
– Ты нам тут не конспирируй, салажня худая, – обиделись сигнальщики. – Мы-то знаем, что все юнги как раз грешат политикой.
Кажется, они решили, что он не признается. Кажется, Витька Скрипов проспал в Школе юнг политику. Кажется, ему предстоит нагонять… Вообще, вопрос сложный. С чего она, эта политика, начинается? И что будет с нее иметь юнга Витька Скрипов?
Решил на всякий случай молчать.
– Кто не был сегодня на молитве? – грозно вопросил Городничий. – Батька наш перед кавторангом Антоновым опять свару устроил. Обижается поп – не ходят сигнальные в церковную палубу.
– Да мы все были, – загалдел кубрик.
– Я был! – гаркнул Городничий. – Но вас там не видел…
Десять горнистов вышли уже на спардек. Разом исполнили «движение вперед», призывая к работам. Линкор опять наполнился грохотом трапов. Витька Скрипов боялся вторично заблудиться…
* * *
Балтика бывает разной. Удивительно разной бывает она!..
До чего же ласково это море в летние дни. Сколько света и музыки изливается от его пляжей, окантованных драгоценным ожерельем из пены. Как солнечны и прозрачны в такие дни тела женщин, когда они сбегают в теплые волны…
Усталые эсминцы – под флагом адмирала Развозова – добирали последние обороты винтов. Скоро Ревель, скоро конец кампании. И сегодня Балтика совсем иная: брезенты сорваны со шлюпок, над люками виснут шапки инея, антенны обледенели. Неистовствует в шторме, празднуя последние дни свободы, предзимняя Балтика. Скоро ее волны скует морозами, и с последним стоном оцепенения она, уже тихая, примолкнет до весны.
«В терновом венце революций» 1916 год заканчивался.
В канун Нового года начались рождественские бои под Ригой. Латышские и сибирские стрелки повели наступление на Митаву – городишко неважный, хотя и славный в истории. Митава была сейчас плацдармом, с которого немцы нажимали на рижские ворота. В одном строю со стрелками шагали матросы-добровольцы.
Держа винтовку наперевес, покуривая не спеша, шагал в атаку невозмутимый красавец, который никогда не думал, что его могут убить. Мороз стоял крещенский, солнце сияло вовсю, кровь на снегу была ярко-алой. Красавец матрос выделялся среди всех товарищей по фронту своим бесстрашием.
Это и был Павел Дыбенко…
Наступление на Митаву, плохо подготовленное, провалилось. Возле озера Бабите войска засели на Пулеметной горке, громоздя бастионы из трупов павших. Над ними сияло ярчайшее зимнее солнце, над ними рвалась шрапнель, немецкие «фоккеры» закидывали их с небес отравленными конфетами в красивых хрустящих бумажках.
И плыли газы…
Павел Дыбенко первым воткнул винтовку в землю.
* * *
Неужели все ушли, а «Славу» оставили в Моонзунде?
…Владимир Ильич Ленин знал этот линкор. Мало того, у него была давняя дружба с этим кораблем. Началась она незадолго перед войной, когда Ленин проживал в эмиграции. Королю Черногории исполнялось как раз 50 лет, и отметить этот юбилей русское правительство послало «Славу». Но «линейщик» уже был немолод для таких дальних прогулок по гостям. В пути возле Гибралтара потекли в котлах «Славы» трубки, и линкор был вынужден зайти для ремонта в Тулон.
Именно отсюда, из Тулона, большевики «Славы» установили связь с Владимиром Ильичом. Это был тяжелый период для партии. «Организации нет, – просто плакать хочется!» – писал тогда Ленин. И вот «Слава» начала сколачивать свою организацию. Первым на флоте «линейщик» стал воплощать в своем подполье мысль Ленина о четкой конспирации. О связях с центром. О разделении подполья на засекреченные «тройки». Пусть арестуют «тройку» – трое знают лишь трех, остальные продолжают работу за броней линкора.
Владимир Ильич очень дорожил тогда дружбой со «Славой». Но скоро в партийную организацию линкора проникли эсеры. Стали они баламутить команду, всегда излишне речистые. Они провалили конспирацию. «Славу» выгнали из Тулона обратно на Балтику, пошли в команде аресты. Наверное, не обошлось и без провокатора. С тех пор минуло не так уж много лет, и теперь матросы говорили:
– Зубы-то нам вырвали, это верно, но корни остались!
Мело, мело над Моонзундом – пургой, вихрями, метелями…
Год 1917-й – для «Славы» последний. Корабли – как и люди, они не ведают, когда умрут.
Финал к заговору
Россия входила в 1917 год с критическим креном… Финансы ее были расстроены, товарообмен внутри империи нарушен, коррупция торжествовала, Ставка и правительство создали в стране неразбериху двоевластия. Урожай 1916 года был грандиозным, почти сказочным, запасы хлеба намного превышали потребности народа и армии, но многоэтажная система закупок и спекуляция сгноили зерно еще в мужицких амбарах. Зима же выдалась небывало снежная, пуржистая, на путях образовались заносы; 60 000 вагонов с топливом, продовольствием и фуражом для фронта и тыла застыли под снегом, неспособные пробиться к столицам. А в самый канун 1917 года куда-то пропал Распутин…
Найти «святого старца» помог артист Струйский, проживавший в «Убежище престарелых сценических деятелей», которое размещалось на берегу Малой Невки. Издавна страдая хронической бессонницей, Струйский в ночь на 17 декабря, в задумчивости сидя у окошка, видел, как на мост въехал автомобиль и трое неизвестных «что-то бросили в воду». Водолазы извлекли со дна реки труп Распутина, туго запеленатый в роскошную шубу. Судебная экспертиза насчитала на теле варнака шесть огнестрельных ран, а в желудке мертвеца обнаружили цианистый калий. По мнению экспертов, Распутин (уже расстрелянный, уже отравленный) продолжал жить – под водой! – еще целых семь минут. Это убийство, совершенное монархистами, явилось как бы узловой станцией, которая перевела стрелки русской Истории на новые пути – уже революционные…
Впрочем, внешне империя сохранила величественное спокойствие. Монетный двор, как и раньше, был завален работой – самой нужной, самой спешной. Многопудовые чеканы, рушась с цеховых потолков, штамповали продукцию. Один за другим вылетали из-под чеканов ордена, кресты и медали. Они были еще горячие, словно свежие блины со сковородки. Каждодневно Монетный двор плавил для производства наград 12 пудов чистого серебра и по 8 пудов золота.
Не успевали. Не хватало времени. Качество орденов заметно снизилось. В наградах не стало того идеального блеска, какой был раньше. Да и мастера научились халтурить…
После рождественских боев под Ригой матросов не наградили.
– Пулю им в лоб! – сказал Непенин.
Павел Дыбенко начал на фронте агитацию против войны.
Когда против войны выступает трусишка – его презирают.
Когда против войны выступает герой – его уважают…
В конце февраля Дыбенко выехал из Гельсингфорса в столицу. Мерзли под снегом безлюдные финские станции. Состав ошалело рвался на Питер, в вагонах – бушлаты, клеши, ленты, сверкают пуговицы и ботинки. Из окон виден на поворотах локомотив, глотающий заснеженные версты. Вот и Белоостров – граница империи.
Промелькнул жандарм. Ехала куда-то заиндевелая лошаденка. От лотка с конфетами и папиросами сыпали матросы к отходящему поезду, висли на ступенях вагонов. Их втаскивали за воротники. Сейчас и Питер – скоро, уже скоро… Устало вздыхая, паровоз вкатился на Финляндский вокзал. Было пустынно. Ни оживления, ни публики. Городовой у выхода на площадь предупредил:
– Вы бы, флотские, полегше… на Невский нельзя.
– Чего там?
– Говорю – нельзя, и ты меня слушайся.
Павел Дыбенко услышал отдаленные выстрелы. Палили пачками, не жалея патронов. Он убыстрил шаги, спросил у дворника:
– Эй, дядя! Что у вас тут случилось?
– У нас революция, а у вас?
Дыбенко еще раз послушал выстрелы.
– Революция, говоришь? А… какая революция?
– А какую тебе надо, сынок? – отвечал дворник, сморкаясь в сугроб. – Наше дело сторона. Какую сделали, такая и вышла.
Это была революция Февральская – революция буржуазная.
Чрезвычайно рискованная штука! От нее голова в дурмане.
Часть четвертая
Прелюдия к побудке
Буржуазная революция – вещь легкая, ослепительная, ненадежная, веселая… Хряск шел по городу: машины сталкивались.
Викт. Шкловский. Жили-былиРодзянко, председатель Государственной думы, с трудом умолил государя об аудиенции. Получил ее… Во время доклада, когда разговор пошел о скверном снабжении армии и городов, председатель Думы был прерван нервным возгласом царя:
– Нельзя ли короче? Меня ждут пить чай…
Родзянко с достоинством поклонился:
– Ваше величество, меня гнетет предчувствие, что эта аудиенция была моей последней аудиенцией перед вами.
– Почему? – удивился Николай, оживляясь.
– Направление, по которому следует правительство вашего величества, не предвещает ничего доброго… Результатом безобразия в министерствах будет революция, которую мы не удержим.
Николай ничего не ответил и отправился пить чай. Родзянко, оскорбленный, собирал свои бумаги. Доклад вышел скомканным. На листы его доношений капнула сердитая старческая слеза.
* * *
Рабочие-путиловцы с трудом добились аудиенции у Керенского. Они предупредили его, что Путиловский бастует и забастовка их может стать основой для потрясений страны. Потрясения будут грандиозны – ни с чем ранее не сравнимы… Керенский их не понял, а ведь они оказались пророками!
Было очень холодно. На улицах Петрограда полыхали костры. Толпы студентов и прапорщиков распевали «Марсельезу». Никто еще ничего не знал, и по дворцу ходила, ломая руки, бледная, вздрагивающая императрица. «Ах, как бы я хотела повесить Гучкова!» – говорила она. С улиц кричали: «Хлеба!»
Если хочешь иметь хлеб, возьми ведро, пробей гвоздем в днище его дырки, насыпь горячих углей и с этим ведром ступай вечером стоять в очереди. Ты, голубь, на ведро сядь, и снизу тебя, драгоценного, будет припекать. Так пройдет ночь, так наступит утро. Если хлеб подвезут, то его получишь… Хвосты превращались в митинги. Изысканный нюх жандармов точно установил, что выкрики голодных идейно смыкаются с призывами большевистских прокламаций. Громадные сугробы с улиц не убирались.
Двадцать третьего февраля работницы вышли из цехов, и фабрики остановились. «На улицу! Верните мужей! Долой войну!» К женщинам примкнули и мужчины, забастовка охватила всю столицу. Керенский выступал:
– Масса – стихия, разум ее затемнен желанием погрызть корочку черного хлеба. Массой движет острая ненависть ко всему, что мешает ей насытиться… Пришло время бороться, чтобы безумие голодных масс не погубило нашего государства.
В следующие дни к рабочим колоннам присоединились студенты, офицерство, интеллигенция, служащие. Городовых стали разоружать. Их били, и они уже тогда стали бояться носить свою форму. Вечером 25 февраля, когда на улицах постреливали, ярко горели огни Александринского театра – шла премьера лермонтовского «Маскарада». В последнем акте зловеще прозвучала панихида по Нине, отравленной Арбениным. Через всю сцену прошла белая согбенная фигура. Публика в театре не догадывалась, что призрак Нины, уходящий за кулисы, словно призрак смерти, предвещал конец всему.
* * *
Родзянко встретился с премьером – князем Голицыным:
– Пусть императрица скроется в Ливадию, а вы добровольно уйдите в отставку… уйдите все министры. Обновление кабинета оздоровит движение. Мы с вами живем на ножах. Нельзя же так дальше!
– Вы хотите, чтобы я ушел? А знаете, что в этой папке?
В папке премьера лежал указ царя о роспуске Думы, подписанный заранее, и князь в любой момент мог пустить его в дело. Думу закрыли. По коридорам Таврического дворца метался Керенский:
– Господа, нужен блок. Ответственный блок с диктатором!
– И… пулеметы! – подчеркнул Шульгин. – Довольно терпеть кавказских обезьян и жидовских вундеркиндов, агитирующих за поражение. Лучше пожертвовать монархом, дабы спасти идею монархии!
Дума решила не «распускаться». Но думцы не хотели нарушить и указа царя об их роспуске – зал заседаний был пуст, депутаты боязливо слонялись по коридорам. Керенский неистовствовал:
– Умрем на посту! Дать звонок к заседанию…
Увы, кнопку звонка боялись нажать. Керенский сам нажал:
– Господа, всем в зал. Господа, будьте же римлянами!
– Я не желаю бунтовать на старости лет, – говорил Родзянко. – Я не делал революции и не хочу делать. А если она сделалась сама, так это потому, что раньше не слушались Думы… Мне оборвали телефон, в кабинет лезут типы, которых я не знаю. Все спрашивают: что делать? А я тоже спрашиваю себя: что делать? Можно ли оставить Россию без правительства? Тогда наступит конец и России…
В этот день Николай II, будучи в Ставке, записал в дневнике: «Читал франц. книгу о завоевании Галлии Цезарем… обедал… заехал в монастырь, приложился к иконе Божией Матери. Сделал прогулку по шоссе, вечером поиграл в домино». Ближе к событиям была императрица, она сообщала мужу: «Это – хулиганское движение; мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба… Если бы погода была еще холоднее, они все, вероятно, сидели бы по домам». Она поехала на могилу Распутина. «Мне кажется, что все будет хорошо… солнце светит так ярко, и я ощутила такое спокойствие и мир на ЕГО дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас…»
Наконец до Николая дошли слухи о беспорядках.
Он распорядился: «Дать хлеба!»
И вот тут правительство схватилось за голову:
– Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочие хлеба уже не просят. На лозунгах написано теперь другое: долой самодержавие!
Сообщили царю, и он ответил – а тогда надо стрелять!
* * *
Адмиралтейство установило на башне флотский прожектор, который, словно в морском сражении, просвечивал Невский во всю его глубину – до Знаменской площади, и в самом конце луча рельефно выступал массивный всадник на лошади. Подбоченясь, похожий на городового, сидел там Александр III и смотрел на дела рук сынка своего…
Звучали рожки – сигналы к залпам, и солдаты стреляли куда придется. Рикошетом отскакивая от стен, пули ранили и убивали. Мертвецкие наполнялись трупами. Иногда офицеры выхватывали винтовки у солдат и сами палили в народ.
– Кто хочет жить – ложись! – предупреждали они толпу.
Родзянко советовал пожарным командам поливать публику водой:
– В такой мороз, мокрые-то, долго не выдержат, разбегутся.
Он склонялся к идее «министерства доверия». Царь не отвечал на его телеграммы. Войска отказались выполнять приказы. Из Мариинского дворца министры расходились по черной лестнице. С опаской и бережением. По одному. Посмотрят налево, поглядят направо, а потом бегут… Власть в стране забирала Государственная дума, и к Таврическому дворцу повалили толпы рабочих, солдаты. Шли полки, чтобы защищать Думу… от царя! Думских воротил спрашивали:
– Научите нас, как уберечь свободу. Сделайте что-нибудь.
Неустанно звонили телефоны из полков – войска требовали из Думы ораторов. Родзянко, взмокший, кричал в трубку:
– Какой полк? Мы же прислали вам… Милюкова!
– Давай нового… левее! – отвечали полки.
В этих условиях большевики не смогли создать своего центра и примкнули к массам, спешившим в Таврический дворец. «Пахло кожей, солдатским сукном, хлебом. Всюду вдоль стен спали вповалку солдаты…» Эта публика особенно досаждала полотерам и швейцарам.
– Ишь, развалились! Натоптали здесь, нагаверзили, насвинячили. Теперь в неделю не отмоешь… Хоть бы скорей эта революция кончалась!
Под крылом Государственной думы уже образовался Совет рабочих депутатов. Но как было еще далеко до ленинского призыва:
– Вся власть Советам!
* * *
– Хорошо, – решился Родзянко, хрястнув об стол мясистым кулаком, – я беру на себя полноту власти, но требую абсолютного подчинения. Александр Федорович, – погрозил он Керенскому, – это в первую очередь относится к вам, милейший… Вы склонны играть роль примадонны! Откуда у вас эти завихрения?
До царя наконец дошло, что в Петрограде не мальчишки с девчонками бегают по улицам и не хлеба они там просят. Сейчас за ним, за царем, остался только отрядик, засевший в Адмиралтействе: сидит там и посвечивает… Ставка не ведала истины до конца: генералы говорили о «безобразниках», а правительство жаловалось на удушение от «революционеров». Наконец на сторону народа перешел гарнизон Петропавловской крепости! Но это еще не все…
Николаю II пришлось испить чашу до последней капли.
– Ваше величество, – доложили ему, – старая лейб-гвардия… Невозможно выговорить, но это так: Преображенский полк примкнул к восставшему гарнизону столицы и порвал с вами.
– Как? И офицеры?
– Ваше величество, мужайтесь – офицеры тоже.
– Кто же там остался мне верен?
– Один лишь Гвардейский флотский экипаж, посланный вами в Царское Село для охраны вашего семейства…
Четко печатая шаг, к Таврическому дворцу уже подходил Гвардейский флотский экипаж, который вел великий князь Кирилл Владимирович – двоюродный брат императора, и на шинели его высочества колыхался красный бант. Великий князь доложил Родзянке, что его экипаж переходит на сторону восставших. Родзянко содрогнулся:
– Только снимите этот бант, вашему высочеству не к лицу.
Слепящий глаз прожектора на Адмиралтействе погас, и канул во мрак истукан царя-миротворца, до конца досмотревшего всю бесплодную тщету своего сына…
Балтийская побудка
Гигантская мелкобуржузная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику.
В. И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 31, с. 1561
А на «Кречете» все спокойно, и Непенин рассуждал:
– В столице началась вибрация. Опять что-то с жратвой… Результат дезорганизации всей нашей похабной системы. Но это рабочие! – отмахнулся он, кривясь. – Флота, надо полагать, это не коснется. Слава богу, прошлая кампания так вымотала людей, что они как тряпки сейчас… отсыпаются, отъедаются. Балалайками мне все уши прозвонили. Сейчас командам не до политики.
Осторожный князь Черкасский подсказал командующему:
– А вы про крейсер «Аврору» забыли?
– Она… где сейчас?
– У стенки Франко-Русского завода… в самом пекле.
– Ты, Михаила Борисыч, – наказал князю Непенин, – отстучи командиру Никольскому, чтобы пресек общение команды с берегом. На причалы не вылезать. Пусть тихонько пересидят это время…
Эскадры – в серой облицовке брони – стыли во льдах Гельсингфорса. Мощные динамо-машины насыщали их утробы теплом и светом. Город едва угадывался вдали, тая в розовой дымке. Был тихий, спокойный вечер. Хотелось съехать на берег, взять финские санки и чтобы рядом, под локтем, хохотала доступная барышня…
Адриан Иванович Непенин сладчайше зевнул:
– Чего-то спать хочется. Мне тут вчера попалась одна. Странная вещь! Блондинка, когда она раздевается, так не возбуждает, как брюнетка… Вообще-то я не люблю женский товар в упаковке.
Видать, эта блондинка попалась ему с изюминкой, а человеку в сорок пять лет такие забавы оплачиваются излишней сонливостью.
– Пойду-ка я, – сказал Непенин, – лягу пораньше. Стану аккумулировать энергию на батареи души и тела…
Каперанг Черкасский подпихнул Довконта в спину:
– Проводи, Федя. Поставь перед адмиралом мышеловку и подвесь большой кусок нашего сала… Может, он хапнет сразу?
Непенин жил под бдительным негласным надзором заговорщиков. Не затем же, черт побери, они ставили Непенина над флотом, чтобы он лишнего орла получил себе на погоны. Нет, друг ситный, теперь ты поездишь в нашей демократической упряжке…
– Феденька, тебе чего? – спросил Непенин, раздеваясь.
– Не все продумато, – отвечал кавторанг в духе адмирала. – Вас разве не удивляет легкомысленное спокойствие Ставки? Известно из истории, что престолы не терпят на себе монархов, которые осмелились проиграть большую национальную войну.
– Думато, Феденька, думато. Но спроси хотя бы Мишу Кедрова, он не дурак, к царю вхож. Он мне сказал, что путь к сердцу монарха – это единственно путь придворной интриги. Ты смотри, Феденька, что получается. Адмирал Нилов, будучи флаг-капитаном императора, два раза царя-батюшку на рифы сажал… со всей фамилией! Так трескал «Штандартом» в банки, что великие княжны кверху пятками из-за стола вылетали вместе с компотом. А… ничего. Потому что Нилов – не мы с тобой: он знает, с кем старку пить!
Довконт развернул перед комфлотом письмо.
– От кого?
– От Гучкова… в Ставку! Копия – через Костю Житкова.
– Дай сюда. Не терплю чтецов-декламаторов. Я сам…
Адмирал прочел письмо и вернул равнодушно.
– Это детский плач, – сказал Непенин, взбивая под собой подушки кулаком, поросшим рыжеватой шерстинкой. – Если хочешь, я тоже тебе покажу. Открой вон тот ящик стола. Это мне жандармы присылают, как командующему. Раньше-то я вроде святого жил. А теперь, слава богу, жандармы меня здорово искушают…
Довконт листанул секретные бумаги. Стенограмма речи Чхеидзе… вырезка из английской «New statements», где Протопопов назван провокатором… шпионаж императрицы в пользу Германии доказан… шведская статья о Распутине… проскрипционные списки на очередность убийств: за Распутиным – царица, потом Вырубова…
– Вот и скажи: как с таким барахлом побеждать?
– Династия дискредитирована, – начал вешать сало на мышеловку Довконт. – Победить можно, но… обязательно ли с царем?
Непенин на демократические приманки не кинулся.
– Непенины руку Грозного лобызали – даже когда он им башку с плеч рубил. Я монархист потомственный и заслуженный. Моя вера настояна на чистейшей дистиллированной водичке… Гаси свет!
* * *
Среди ночи его разбудил дежурный по штабу Ренгартен.
– Ну, что там у вас стряслось?
– «Аврора»!
– Читай…
Ренгартен ознакомил его с рапортом командира крейсера каперанга Никольского. Из толпы рабочих, подстрекавших команду к бунту, были вырваны три человека и посажены в бункер крейсера. Офицеры «Авроры» сделали при этом несколько выстрелов из револьверов. Настроение команды нервное. Ручаться за матросов нельзя.
– Давай обратно, – сказал Непенин, скидывая сонную одурь. – Значит, так… Никольскому. Точка. Ваши распоряжения правильны. Точка. Команде надо разъяснить, запятая, что их задача, тире, боевая готовность. Точка. Добавь сам, Иван Иваныч, что у нас все в порядке… Больше не буди. Дай выспаться.
* * *
Утром он вышел к завтраку в кают-компанию «Кречета».
– Было что-либо за ночь?
– Было. Из главморштаба – от графа Капниста. Зачитываю:
«Весь город в руках мятежников… Единственная надежда на то, что образованный Государственной думой комитет восстановления порядка…»
– Какой комитет? – возмутился Непенин. – Что за слово?
«…сумеет порядок восстановить. Необходимо применить все усилия, чтобы удержать порядок и дисциплину среди войск и флота, тогда, даст бог, все образуется…»
– Паникеры! – сказал Непенин. – Упаси бог, если такая галиматья дойдет до эскадры… Не надо объявлять. А как «Аврора»?
– Пока все тихо.
– Ну и правильно. Пошумят и разбегутся. Никольского я знаю: он револьвер всегда в кармане таскает…
Воодушевясь, комфлот велел Ренгартену заменить матросов-радистов офицерами связи. Завтрак проходил в скучности. В развращающей роскоши стола. Драгоценный хрусталь тонко вздрагивал. Серебро горело. Все были сытые люди и бросались кусками. Роскошные омлеты – шириной в лапоть – только ковырнули. Парниковая редиска никого не радовала. Мысли оперативников занимали события в Петрограде. Об этом же, конечно, думал и Непенин, но старался не говорить…
– А что пишут в иностранных газетах?
– Союзники всегда пишут, что «русских трудно понять».
– Боюсь, что когда поймут нас, то будет уже поздно.
Неожиданно в кают-компанию «Кречета» вошел жизнерадостный Костя Житков. Свеженький – прямо из Петрограда. Потирая замерзшие руки, молодой кавторанг отделался общим поклоном (особо Непенину) и вкусно разгрыз на зубах хрусткую редиску.
– Не приведи бог, – сказал он, садясь за стол и заливая яйца соусом «крутон-моэль», – не дай-то бог, говорю я вам, ежели бы этот ваш стол питерским показать… Растрепали бы нас!
Его обступили с вопросами: «Как? Что? Не тяни…»
– Спокойно! – сказал Костя, затыкая за воротник кителя салфетку, украшенную якорями и короной с орлами. – Революция в Питере продолжается полным ходом и… У кого соль? Вестовой!
Непенин, рассвирепев, хлопнул перед ним солонку:
– Держи! Но если еще хоть раз услышу от тебя слово «революция», велю фалрепным спустить тебя без штанов на лед…
Житков отбросил вилку, и она грустно звякнула среди хрусталя.
– Вы разве ничего не знаете? – изумился он. – А я ведь прибыл к вам за советом… в надежде, что вы извещены достаточно.
– Чего ты хочешь?
Кавторанг Житков вытянулся, заговорил уже официально:
– У меня, господа, сверстан и готов к выпуску февральский номер «Морского сборника».
– Так что? – спросил Непенин. – Есть интересное?
– Есть. Две статьи: «Нельсон и его капитаны» – Сашки де Ливрона, «Место командующего эскадрой» – Овандера… Хочу спросить вас: как быть? Давать мне уведомление от редакции о том, что творится в Петрограде, или… Извините меня, Адриан Иваныч, но революция не такая штука, чтобы ее можно было замолчать.
– Опять революция? – Непенин стал багровокрасным.
– Приношу извинения, но все-таки это – революция…
Непенин, кося широкими плечами, выбирался из-за стола.
– Адриан Иваныч, – задержал его Житков, – я, как редактор «Морского сборника», ответствен за точную информацию. Какими глазами я буду смотреть в глаза читателям, если скрою от них то, что они сами ежедневно наблюдают?
– Ничего не давай в февральском номере… Не верю! Это бунт. Взнуздают всех опять и побегут к победе, хвостами помахивая.
Он ушел. Костя Житков взялся за вилку.
– Командира «Авроры» уже убили, – сказал он.
– Как убили?
– А так и убили. Он со своим револьвером совался по стенке, стал с рабочими драться. Ну, его и хлопнули из толпы. А за компанию с ним ранили и старшого с крейсера – Ограновича…
– Кто пойдет сообщить Непенину? – поднялся Черкасский.
– Костя, ты первоисточник. Сходи ты, – просили Житкова.
– Мне? А ты видел? Адмирал уперся, как баран в новые ворота. Замалчивание революции перед флотом может обернуться трагично для флота. И это грозит трагедией для самого Непенина…
Крутя на пальце ключик от секретного сейфа с шифрами, князь Черкасский шагнул на трап. Постоял, обдумывая:
– Ладно. Я скажу…
Непенин выслушал от князя, что командир «Авроры» убит.
– Я ж его предупреждал, чтобы с оружием поберегся.
– После драки кулаками не машут, – ответил князь. – Для нас сейчас важен факт: «Аврора» начала первой!
– Лучше бы она погибла в Цусиму, – осунулся Непенин.
– Будут у вас приказания, Адриан Иваныч?
– Нет…
Черкасский спустился в кают-компанию:
– Адмирал ослабел. Как раз момент, чтобы нажать на него. Мы за два дня выбьем из него веру в монарха, как выбивают пыль из мешка… Господа, мы, сторонники либеральной демократии, кажется, выходим на фарватер, проложенный нашими друзьями в Думе.
– Ура! – воскликнул, дурачась, Костя Житков. – Но какими глазами я буду смотреть на своих читателей?
* * *
– Мы сильно запоздали, – рассуждал Ренгартен. – Теперь события следует нагонять… Главное сейчас – сохранить флот как боевую единицу и не допустить матросов дальше тех кавычек, в которые будет заключена политика Временного правительства.
– Крах распутной системы самодержавия наступил, – подхватил князь Черкасский. – Теперь все зависит от нашей гибкости.
Федя Довконт на ладони показал виляние рыбьим хвостом.
– Это… вот так надо делать? – и фыркнул.
– Феденька, ты у нас прекрасный, но глупый инфант.
– Кавторанг, хватит чудить! – обозлился Ренгартен. – Когда ты ведешь корабль в шхерах, ты же не режешь курс напрямую через рифы и банки. Ведь ты хочешь жить… Хочешь?
– Хочу, – согласился Довконт.
– Потому ты и лавируешь между опасностей. Надо лавировать и сейчас, если не желаешь иметь свое драгоценное манто в дырках.
– Ладно. Я вам славирую. А вот как… адмирал?
– С ним у нас разговор особый, – помрачнел Черкасский.
Заговорщики вошли к Непенину в каюту – все разом.
– Адриан Иваныч, – сказал Ренгартен, благоухая духами, – известно ли вам, что вы у нас в долгу?
– Я? У вас? Какой долг?
Ему прямо в лицо грубейше втолковали, как он стал командующим Балтийским флотом и кому должен быть за это благодарен. Непенин потускнел. Разговор велся заговорщиками напористо, без жалости к монархическим сантиментам адмирала.
– Сейчас, – внушали ему, – вы должны облокотиться в своей власти на власть Временного правительства… Монарха оставьте!
– Не могу, – отбивался Непенин. – К чему вы меня принуждаете? Это бесчестно, господа… Я ведь не Родзянке нанимался служить, а царю. Ца-а-арю… понимаете вы или нет? А на что мне сдался этот хохол? Такой же дворянин, как я, только богатый, а я бедный!
Заговорщики его породили – они могут его и убрать.
– Вопрос решен! – наседали на комфлота. – Теперь выбирайте: без царя, но с флотом или с царем в голове – без флота.
– Как вам не совестно? Где же ваша присяга?
– Это все старинные благоглупости. Садитесь. Пишите.
– Чего писать? Куда писать?
– Царю в Ставку. Телеграмму. Пишите, – диктовали ему, – чтобы его величество пошел навстречу Думе, без влияния которой на события внутренние и внешние немыслимо сохранить на флоте не только боевую готовность, но и повиновение.
– Не могу… я монархист!
– Вот и хорошо, что вы не Гучков и не Милюков. Вам, как монархисту, государь скорее поверит.
Непенин написал. Сидел, держась за голову:
– Что будет? Вы о России-то хоть подумали?
– Думато, – ответили ему.
Раздался бряк в дверь – явился рассыльный матрос:
– Из аппаратной. Только что получили.
Ренгартен взял квитанцию и буквально зашатался.
– Да что вы? Читайте же…
Черкасский перехватил квитанцию из его пальцев, быстро пробежал ее глазами. Оглядев всех, князь произнес только одно слово, и оно прозвучало в тиши салона, как треск рвущейся петарды:
– Кронштадт…
* * *
Непенин радировал адмиралу Вирену – выйти с флотом, чтобы распять Кронштадт на кресте, никак не может:
– Лед, мы во льду… всюду лед. Ледоколы беспомощны!
В трескучей россыпи морзянки, в искрах реле, четко пульсирующих в передачах на эфир, билось сейчас трепетно и жарко, словно живое человеческое сердце, только одно всеобъемлющее слово:
КРОНШТАДТ
2
Начинается он с Ораниенбаума, куда подвозит столичный поезд. Веселая публика на вокзале, прекрасный парк с ресторанами, и, казалось, ничто не может смутить души. Зимою ползает на Котлин ледокольчик, пробивая во льду канал, а рядом с бортом корабля (так забавно!) бегут лихие рысаки, скачут в тройках, звенящих бубенцами, офицеры с дамами. Слышен смех женский, и прекрасны женские лица, – разве так уж страшен Кронштадт?
Кронштадт… Трудно себе представить более величественное, более славное и более уродливое. Тогда было все равно, где провести пяток лет жизни, – или тачку возить на Сахалине, или здесь высидеть, на всем готовом, во всем казенном… К тому времени Кронштадт устарел уже настолько, что, появись германский флот, фортам крепости вряд ли удалось бы отстоять столицу от нападения. Это тыловая база по ремонту кораблей, по внедрению железной, бессловесной дисциплины, по обучению молодых кадров.
Новобранцев здесь гоняют, как зайцев, по плацам дворов 1-го Балтийского экипажа. Внедряют в них твердый шаг. Учат почтению к начальству. С пяти утра слышны над Кронштадтом рык и рявк боцманматов. Дают тут «кубаря», суют «баньку». Вешают на спины ранцы, в которые заботливо уложены кирпичи. Чем больше – тем лучше. Винтовку в руки – и стой с этим ранцем. Стой, собака, прямо! А за Толбухиным маяком, словно зачумленное, околачивается брандвахтенное судно «Волхов» – плавучая тюрьма. Вот если ты, братишка, влипнешь на этот «Волхов», так тебе и Кронштадт раем покажется!
Кронштадт выстелил трубы водопровода по дну Финского залива и сосет воду прямо из моря. Дунет ветер с востока – Кронштадт пьет сдобренную хлоркой заразу столичной канализации, из которой извергаются вулканы экскрементов и помоев. Задует вдруг западный ветер – и тогда Кронштадт, прильнув к Маркизовой Луже, подсасывает в свои форты солоноватую воду Балтики, усердно подслащивая ее казенным сахарком…
В окантовке заводов и доков, из которых корабли торчат верхушками мачт, стоит Кронштадт уже два столетья – в броне, в чугуне, в камне. Форты – как казармы, а казармы – как форты; в окнах (это не окна, а бойницы) – решетки железные. Повиснув на них, пять лет подряд глядится не узник, а слуга царю и отечеству. Видит он дымы заводские, золотится купол Морского собора, там Якорная площадь, а на площади в шинели распахнутой стоит адмирал Макаров, возле ног его – доска с надписью: «Помни войну». Екатерининский канал медленно обтекает зеленые от плесени стены казарм-тюрем, звериную тоску бастионов. По вечерам в переулках мерцают красные фонари домов терпимости. Проститутки (самая дрянь, самая дешевка) – с глазами, почти безумными от кокаина и водки, – шляются по «суконной» стороне, ищут клиента с шевронами.
– Отцепись, салажня паршивая! – кричат они новобранцам…
Кронштадт – здесь один царь, один бог и один начальник.
Вирен! Роберт Николаевич женатый человек, прекрасный семьянин. Когда-то был командиром «Баяна». Даже не понять, как из боевого офицера мог выродиться такой сатрап. Это не губернатор Кронштадта – террорист, облеченный монаршей милостью. Гнев его распространялся широко – даже на каперангов, поседевших на службе. Даже на их жен! Лютый царский опричник, Вирен считал, что Кронштадт – его вотчина, данная ему царем на «кормление»…
Один праздник – на Рождество. Тогда весело, и корабли в фонариках. Рубят во льду проруби. Над ними кресты возводят, тоже изо льда, перед рассветом обольют их свекольным соком. Ярко-красные, кресты светятся – будто окровавлены. Гремят торжественные салюты фортов. Несут меж кораблей купель со святою водой. Попы кропят матросов с метелочки. Освящаются на весь год казематы и башни, аудитории минные, водолазные, подводные и сигнальные. А на Пасху сам Вирен с лукошком крашеных яиц подъезжает к Морскому собору на Якорную площадь. Расположится там на паперти, будто торговать собрался, и начинает зазывать к себе прохожих матросов.
– Срочной службы Мордюков… явился по вашему приказанию.
– Ну-ка, братец, сними штаны, – говорит Вирен. – Да не стесняйся. Свои люди. Военные. Бабы не смотрят – привыкли. Молодец, метки у тебя на кальсонах исправно нашиты. Возьми… как тебя?
– Мордюков, ваше высокопревосходительство!
– Ишь ты! Ну, ладно, вот тебе яичко… похристосуемся.
Адмирал Вирен изволит панибратски лобызать матроса.
Матрос почтительно целует адмирала Вирена.
Якорная площадь опустела – все разбежались…
Макаров глядит с памятника, как Вирен с лукошком яиц возвращается в коляску. Он отъехал. Площадь снова оживает. «Помни войну».
* * *
Утром 28 февраля Вирен посетил судоремонтный завод. До рабочих уже дошли столичные газеты, они стали подступаться к адмиралу:
– Чего скрываете от матросов? Вы же большой начальник, так выступите… Раскройте гарнизону глаза на революцию.
Вирен отказался говорить, но предупредил рабочих:
– Завтра, первого марта[17], обязательно приходите на Якорную площадь. Обещаю вам, что всю правду-матку узнаете…
День прошел спокойно. В столовой Морского собрания адмирал Вирен сидел под картиной Ткаченко «Прибытие на Кронштадтский рейд императора Вильгельма II». Адмирал Бутаков со Стронским сиживали под картиной Гриценко «Прибытие на Кронштадтский рейд президента Французской республики Феликса Фора». Две картины – две эпохи в русской политике. Но сейчас политика другая… Стронский был командиром 1-го экипажа – зверь сущий! А Бутаков имел несчастье быть очень грубым человеком. Как осатанелый от службы матрос драит суконкой медяшку, так и адмирал Вирен – с таким же остервенением – надраивал свое сердце лютейшей злобой к завтрашнему митингу.
Заявился комендант Кронштадта – контр-адмирал Курош.
– Пулеметы я расставил в подвальных окнах собора, – доложил он Вирену. – Огонь пойдет по земле… Всех без ног оставим! Пусть только они соберутся…
Адмирал Бутаков (честный грубиян) вздохнул – с надрывом:
– Не слишком ли вы увлеклись? Всех не перестрелять.
– Смотря как стрелять, – возразил ему Стронский. – В моем экипаже полно вислоухих новобранцев, которые едят меня глазами. Скажу им слово – всех переколют штыками. Они не рассуждают!
– Но мы-то, господа, должны рассуждать. Может, лучше отпустить вожжи и… пусть кони вывозят, куда хотят?
– Александр Григорьевич, так нельзя, – сказал ему Вирен.
– Роберт Николаевич, – отвечал на это адмирал Бутаков, – да ведь пойми, что в старости умирать на штыках тяжко… У меня же – дети! У меня – внуки…
Ярко досвечивало вечернее солнце. На рейде посверкивали бортами учебные корабли – «Океан» и «Африка», «Воин» и «Верный», «Николаев» и «Рында»; мрачно дымил в отдалении, словно покуривая перед сном, старенький дедушка флота «Император Александр II». Все было спокойно. «Женатиков» сегодня домой не отпускали. Экипаж и школы затворили свои ворота. И вдруг над Кронштадтом брызнула затяжная очередь из пулемета – сигнал к восстанию… Учебно-минный отряд поднялся первым. Вмиг разобрали винтовки, офицеров арестовали.
На Павловской улице гремела бурная «Марсельеза».
1-й Балтийский экипаж – гроза морей, главный в стране.
Ворота его заперты изнутри. По-хорошему не открывают.
– Ломай!
Минеры навалились гуртом – слышался хряск костей. Рота за ротой давили, давили, давили в ворота. Первые ряды матросов, уже полузадохшихся от натиска, проломили кованое железо – перед ними открылся двор! А во дворе, покрытые щетинкой штыков, стыли новобранцы. Без ленточек. До ленточек они еще не дослужились.
Тогда старые матросы сказали этой салажне слова вещие:
– Вот, хрест святой… Ежели хоть одна паскуда стрельнет, мы вас, быдто щенят, об стенку расшибать станем!
Посыпались окна канцелярии – в острые проломы стекол высунулись руки в манжетах. Дергались при выстрелах, и пули запрыгали, как кузнечики, по булыжникам двора. Большевики кричали:
– Не поддавайся на провокацию! Не отвечай на огонь…
Матросы с матерщиной выстояли под залпами офицерских револьверов. К ним вырвались из подъезда матросы «переходящей роты»:
– Мы с вами! Мы с вами…
– Бери канцелярию! Вы тут двери и трапы знаете. Обезоружьте своих офицеров… А где Стронский? Подать нам Стронского…
На Николаевском проспекте ярким факелом уже горел подожженный участок охранки: жандармы спешили уничтожить следы своего тайного сыска, чтобы революция никогда не узнала имен провокаторов, шпионов и доносителей… С треском горело! И, ликуя на трубах, «Марсельеза» звала в будущее. Рейд, как на Рождество, украсился красными фонариками. Это зажигали клотиковые огни корабли.
– Арсенал, арсенал! Арсенал бери, братва…
– Валяй на радиостанцию. Даешь на весь мир правду!
– Штаб крепости. Товарищи, берите штаб…
Из окон домов терпимости орали им пьяные проститутки:
– К нам, матросики, к нам. У нас цены снижены…
Точными выстрелами матросы рассаживали фонари притонов.
Духовые оркестры шли по «бархатной» стороне улиц. С крыш горящих домов шумно оползали лавины снега и рушились на тротуары.
Ночью был митинг в Морском манеже. Над гвалтом людских голов, над скрещенными в лязге штыками, над чернью кружков бескозырок, над папахами солдат и зимними малахаями рабочих-судоремонтников взметнулась рука матроса-большевика Пожарова:
– Братишки, ша!
И стихло. Только в углу кто-то елозил сапожищами по полу.
– Кто там елозит? Или невтерпеж стало?
– Да он раненый, – ответили. – От боли-то… мучается!
– Раненому прощается. Открываем наше первое собрание в первый день кронштадтской свободы. Вопрос первый – о делегатах Кронштадта в Петроградский Совет рабочих, солдатских и матросских…
– Матросских, а потом уже солдатских! – ревели из зала. – Матрос пять лет табанит, а солдат два годка. Мы, флотские, умнее!
В окна манежа пялились зарницы догоравших домов, от Ораниенбаума доносило стрекотню выстрелов – там тоже начали.
– Уже рассвет, – заволновались. – Сегодня все сделать и точку поставить… Кончай речи! Еще не со всеми расправились.
Здоровенный матрос с «Азии» взял за воротник шинели гарнизонного солдата и встряхнул его в могучей лапе:
– Вот что, серый! Ты как хошь, а Вирена я тебе не отдам.
– Вирен наш, – ликовали матросы, расходясь.
– Где Стронский? Найти Стронского…
– Бутакова – за жабры… Бутакова тоже!
Расходились. Взвинченные. С глазами, красными от недосыпа.
Шли скорым шагом, охватывая Кронштадт в кольцо.
* * *
– Двадцать кирпичей… не могу поднять!
– Ништо, – отвечали. – Он и больше клал. Вали еще…
Ранец с кирпичами взвалили на спину Стронского. Вывели изверга на Якорную площадь – к памятнику Макарова, велели:
– Стой! Как и мы стояли…
Неизвестно, спал ли в эту ночь Вирен. Но когда к его дому подошли матросы, он сам отворил им двери – уже в кителе. На панели он оглядел толпу и, покраснев от натуги, вдруг заорал:
– Смирррр-на-а!
Раздался хохот. Очевидец пишет:
«Вирен весь как-то съежился и стал таким маленьким и ничтожным, что казалось – вот на глазах у всех человека переменили. Поняв, что ему не вывернуться, адмирал попросил разрешения сходить одеть шинель… Этого разрешения ему никто не дал, а предложили идти немедленно с собравшимися на Якорную площадь…»
– Я вам скажу, товарищи, – твердил Вирен по дороге, – я ничего не скрою. Скажу все, что знаю о событиях в Питере… правду!
– Иди, иди. Мы и без тебя все уже знаем…
На Якорной площади валялся, оскалив рот, полный загустевшей крови, экипажный командир Стронский, а из ранца убитого рассыпались кирпичи. Вирена поставили так, чтобы его видела площадь – та самая, на которой он сегодня хотел перебить весь гарнизон.
Вирен всегда был хорошим семьянином и сейчас просил:
– Я не простился с женою… дозвольте. По-христиански.
Ему не дозволили: поздно! И сорвали с него погоны с орлами.
Вирену было сказано – со всей ответственностью:
– Ты своим диким, варварским режимом превратил наш Кронштадт в каторжную тюрьму… Разве не так?
– Так! – надрывалась толпа. – Кончайте его!
– Ты приготовил вчера пулеметы, чтобы расстреливать нас…
– Не тяните! – стонала площадь. – Бей, и дело с концом!
– Ты не думал, что сегодня умрешь. А ты умрешь…
Вирен (кто бы мог ожидать?) опустился на колени:
– Братцы, сам знаю – виноват… Верьте мне – я искренен. Пожалейте меня, старика. Я исправлюсь… Пощадите меня!
На остриях штыков, испустив дикий вой, Вирен взвился высоко над людьми. Теперь его видели все – даже из самых последних рядов. Он висел на штыках. Он скреб их пальцами, которые скользили по мокрым от крови лезвиям. Голова адмирала склонилась на грудь – он умер… Но матросы со штыков его не снимали.
Так и понесли. Через город. На штыках. Мертвого.
И сбросили в овраг, куда кидали дохлых собак и кошек…
– Не умел помереть как надо. Погано жил и погано сдох…
Адмирал Бутаков принял смерть с большим достоинством.
Вышел на казнь по форме одетым, перекрестился и сказал:
– Прощайте, братцы. Я готов…
Его убили, а потом вспоминали с уважением:
– Не цеплялся за житуху свою. Помер вполне благородно…
Ночь расплаты – «варфоломеевская» ночь Кронштадта. Никто не был забыт, хоть единожды нанесший обиду. Но «мордобойцев» убивали не всех – иных арестовывали. По дороге в тюрьму один такой лейтенант (которому сам бог велел молчать) стал ругаться.
– Мерзавцы! – говорил он матросам.. – Сегодня ваш день, вы пируете в крови нашей. Но завтра придет пулеметный полк…
Этих угроз матросы не стерпели:
– Мы с тобой по-людски, думали – исправишься. Ах ты…
И его убили. Рано утром повели на расстрел одного мичмана. Молод он был, но держался молодцом. Виноватый, он и сам знал это. А когда вскинулись матросские карабины, к залпу готовые, мичман вдруг стал плакать, как ребенок.
– Расхлюпался? – сказали ему. – А раньше собакой грызся?
– Собака так собака! – ответил мичман. – Мне себя уже не переделать. И не оттого плачу. Не хочется мне сейчас умирать. Хотел бы пожить в новой России, чтобы знать, как будет.
Это был честный ответ, и потому карабины матросов разом опустились к ноге.
– Проваливай, – сказали ему. – Живи, смотри и наслаждайся!
* * *
В эту ночь немало матросов дали на Якорной площади страшную клятву: не пить, не курить, не сквернословить, блюсти себя в целомудрии. Революция должна свершаться чистыми людьми.
В эту ночь Керенский возненавидел Кронштадт, и ненависть будущего премьера отразится на судьбах Балтийского флота.
3
В этом году царю исполнилось 304 года – три столетия русской истории лежали за плечами Романова-Голштейн-Готторпского. И расстаться с этим наследием было не так-то легко… Николай II существовал, и никто еще не сказал ему, чтобы он собирал манатки. Алиса Романова, красивая и злая, была далеко от мужа, запропавшего в Ставке, – она слышала, как под окнами дворца пели:
Надо Алисе ехать назад. Адрес для писем – Гессен-Дармштадт. Фрау Алиса едет «нах Рейн». Фрау Алиса – ауфвидерзейн!Не теряя надежд, императрица писала мужу: «Два течения – Дума и революционеры! – это две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы, – это спасло бы положение. Я чувствую, что бог что-нибудь сделает для нас…» Она была совсем не глупая женщина и сумела разгадать секрет возникшего в стране двоевластия.
Да, двоевластия!
Необозримая и великая Российская империя жила еще царскими указами. 28 февраля, в пять часов утра, еще затемно, от перрона могилевского вокзала отошел блиндированный салон-вагон – царь тронулся на столицу. В городах и на станциях к «литерному» выходили губернаторы с рапортами, выстраивались жандармы и городовые. Колеса вертелись, пока не подъехали к столице. Здесь график движения сразу сломался. Все так же безмятежно струились в заснеженную даль маслянистые рельсы, но… революция затворила стрелки перед «литерным», и Николай велел повернуть на Псков.
В 8 часов вечера 1 марта 1917 года царский вагон загнали в тупик псковского узла. Сыпал мягкий снежок. Император вышел из вагона глянуть на мир божий. Он был одет в черкеску 6-го Кубанского полка, в черной папахе с пурпурным башлыком на плечах, а на поясе царя болтался длинный грузинский кинжал… Его друг, контр-адмирал Нилов, уже успел споить императора, и мешки под глазами, вялая дряблость кожи, дрожь в пальцах – это, читатель, не от потрясения революцией, это от алкоголизма!
Но когда человеку 304 года, он становится уникален, как археологическая древность, и это «сокровище» решили спасать.
* * *
Спасать Николая – значит, спасать монархию, старый режим. На спасении особенно настаивал Родзянко. Совет рабочих депутатов следил за Родзянкой: «Как бы этот мордатый в Псков не уехал!»
Думцы сообща решили: к царю ехать Гучкову и Шульгину.
– Александр Иваныч, и вы, любезный Василий Витальевич…
Те поднялись, готовые. Вопрос в паровозе. Где взять паровоз?
– Украдите, – мудрейше посоветовал находчивый Родзянко.
Воровать паровоз, чтобы мучиться потом в угольном тендере, не пришлось. Для «борцов за свободу» уступили вагон со спальнями. Тронулись! Шульгин, как монархист, особенно был взволнован:
– Я небритый, в пиджаке, галстук смялся. Ах, какая ужасная задача перед нами: спасать монархию России через отречение монарха!
Ярко освещенный поезд царя и темный Псков – все казалось призрачно и неестественно, когда они прыгали через рельсы. Гостиная царского вагона была обита изнутри зеленым шелком. Император вышел к ним в той же черкеске. Жестом пригласил сесть. Гучков заговорил. При этом он закрылся ладонью от света. Но у многих создалось впечатление, что он стыдится смотреть на царя. Он говорил о революции… «Нас раздавил Петроград, а не Россия!» Слова Гучкова горохом отскакивали от зеленых стенок. Император встал.
– Сначала, – ответил он спокойно, – я думал отречься от престола в пользу моего сына Алексиса. Но теперь я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца?
Гучков подал Николаю набросок акта отречения.
– Наш брульон, – сказал он.
Николай вышел. Министр двора граф Фредерикс спросил:
– Правда, что мой дом в столице подожжен бунтовщиками?
– Да, граф. Он горит уже какой день…
– Ссссволочи! – просвистел министр и замкнулся в себе.
Возвратился в гостиную вагона Николай-последний:
– Вот текст…
Отречение было уже переписано на штабной машинке:
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание…»
Далее он отрекался. Часы показывали близкую полночь. Отрекшегося (!) императора Гучков и Шульгин стали упрашивать, чтобы он начертал указ в правительствующий сенат:
– О назначении председателя Совета Министров.
За чем дело стало? Бывший император охотно согласился.
– Кого вам надо в презусы? – спросил, присаживаясь к столу.
– Князя Львова.
– Львова так Львова, – согласился Николай: ему-то что?
Написал указ. Шульгин откровенно поделился с царем:
– У нас в Думе сейчас – ад кромешный. Скоро нам, благонамеренным, предстоит принять решительный бой с левыми элементами…
На лице бывшего императора было написано злорадное: «Я уж с ними достаточно повозился, теперь возитесь вы, господа…» Акты государственной важности всегда подписываются чернилами. Николай же подписал акт отречения не чернилами, а – карандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку.
* * *
Вернулись в Петроград рано утром. Оказывается, шила в мешке не утаишь, и лидеров Думы на вокзале встречали. Всем было интересно, какого кота они привезли в темном мешке. Гучкова сразу же отодрали от Шульгина и увели под локотки – для речеговорения.
Шульгина тоже поволокли от перрона:
– Войска уже построены. Скажите им… скажите!
Помещение билетных касс Варшавского вокзала стало первый аудиторией, где русский народ услышал об отречении Николая. Войска стояли в каре «покоем», а не заполненное ими пространство забила жарко дышащая толпа. Стоя внутри каре, Шульгин вырыдывал из себя:
– …Он, отрекаясь, подал нам всем пример… богатые и бедные, единяйтесь… спасать Россию… о ней думать… война… раздавит нас… один путь – вместе… сплотимся все… вокруг нового царя… царя Михаила… урра-а!
Его выхватили из каре штыков, потащили к телефону:
– Милюков! Милюков просит вас… срочно.
В телефонной трубке перекатывался профессорский басок:
– Все изменилось. Не объявляйте отречения.
– Я уже объявил. Я сказал… всем, всем, всем!
– Кому, черт побери?
– На вокзале. Войска… народ. Я им – про Михаила!
– Ляпнули… как в лужу, – отвечал Милюков. – Пока вы ездили в Псков, здесь закипела буря. Восстановление монархии почтут за оскорбление… Нас раздерут на сто кусков. Нас четвертуют. Не царь нужен сейчас, а Учредительное собрание… Вот несчастье!
– Сейчас побегу, – сказал Шульгин, – Предупредить Гучкова.
– Да, да. Пусть не делает глупости. И с вокзала поезжайте на Миллионную, двенадцать. Квартира князя Путятина…
Шульгин отыскал Гучкова на митинге в цехе железнодорожных мастерских. Через закоптелые стекла крыши падал грязный свет. На помосте «эшафота», сколоченного из досок, стоял Гучков – и молчал. Вместо него выступал рабочий:
– Правительство? А кто в этом правительстве? Может, от народа? Как бы не так… Вот князь Львов – премьер. А кто по финансам? Не те, кто нужду познал. А сам господин Терещенко – миллионер. Одних сахарных заводов штук десять, а то и больше… Сладкая жизнь!
Шульгин коснулся шубы рядом стоящего инженера:
– Именем свободного отечества… заклинаю… вот этот пакет… выходите спокойно… и донесите до Думы. Поняли?
Инженер вовремя вынес акт отречения Николая, ибо вскоре, как и предугадал Шульгин, с трибуны раздался голос:
– Закрыть все выходы! Гучков и Шульгин привезли… а что они привезли? Мы разве просили их в Псков ездить? Не от Совета рабочих поехали – от Думы своей. А кто в Думе? Помещики. И потому я, товарищи, советую душевно, чтобы Гучкова и Шульгина обыскать.
Шульгин дотянулся до помоста – до Гучкова.
– О царе Михаиле, – шепнул, – ни звука… Растерзают!
Он сам вскочил на трибуну и заговорил:
– Именно сейчас, в этот исторический момент, должна состояться встреча Думского комитета с Советом ваших депутатов… с вашим же Советом, товарищи! Как вы можете нам не верить? На этом совещании все решится. Все будут довольны. А вы двери запечатали…
Их выпустили. На площади перед вокзалом думцев ждал автомобиль под красным знаменем. Человек, весь в коже, с большим наганом в руке, распихивал перед собой толпу:
– Дай пройти! Товарищи, идут облеченные доверием народа…
Шульгин сказал кожаному владельцу нагана:
– Велите шоферу ехать: Миллионная, двенадцать…
Трамваи не работали. День был солнечный. Магазины закрыты. Никто не ходил по панелям – толпа перла посереди улиц. Половина людей была вооружена. Трехсоттысячный гарнизон столицы растворялся в этой толпе, празднующей свободу. Два «архангела» из охраны Гучкова и Шульгина лежали животами на крыльях автомобиля. Выдвинутые вперед штыки пронзали воздух ожесточенно.
– Не выколите глаза людям! – кричал из кабины Шульгин.
* * *
Миллионная, 12 – особняк князя Путятина, где затаился от толпы новый император всея Руси. Здесь же собрались и все члены нового кабинета: Родзянко, князь Львов, Милюков, Керенский, Некрасов и прочие… Милюков говорил так, словно накаркивал беду:
– …ваше высочество… не откажите! Если не вы, то Россия пропадет… такая история… бурная, великая… Что ждет нас без царя? Кровавое месиво… анархия… хаос…
Михаил покорно слушал. Терещенко зашептал Шульгину:
– Не могу… я застрелюсь. Что делать? Рядом со мной Керенский, он весь дрожит… его колотит. Боится… надежных частей нет.
Керенский обрушил на великого князя лавину слов:
– Я против монархии, я республиканец. Как русский русскому, скажу правду. Недовольство народа против монархии… нас ожидает война гражданская… как русский русскому… если нужна жертва… примите ее… в любом случае за вашу жизнь я не ручаюсь!
Михаил подумал и отрекся, оставляя престол бесхозным.
За ученической партой в классной комнате дочерей Путятиных писали опять акт об отречении. «Мы, Божией милостию Михаил, Император и Самодержец Всероссийский…» За партой поместились: Шульгин, Набоков и юрист Нольде; возле них учителем прохаживался Михаил.
– Что вы пишете? – возмутился он. – Я же еще не царствовал… Триста четыре года начались Михаилом – Михаилом и закончились.
С высоты скоротечного величия мнимого трона Михаил послал благословение новому Временному правительству и осенил Русь надеждой на ниспослание власти Учредительному собранию.
К нему подошел князь Львов, и Михаил обнял его:
– Благословляю вас на премьерство…
Тут к великому князю судорожно подскочил Керенский:
– Мы донесем драгоценный сосуд вашей монаршей власти до Учредительного собрания, не расплескав из него ни единой капельки!
Долго спорили, как писать о рождении Временного правительства.
От кого родилось оно – от Думы или от «воли народа»?
Керенский неистово вопил:
– От имени Совета рабочих и крестьянских депутатов я торжественно заявляю о создании нашего правительства лишь через волю народа!
Родзянко сожмурился в едчайшем сарказме:
– Только воля народа! Тем более в презусы князя Львова сам государь император назначил… Выбросьте «волю народа»! Все равно никто не поверит, только шум будет лишний. А нам и без того ругни хватает. Или не слышали, как орут на улицах: «Долой Родзянку!»
Ходили средь парт. Средь разбросанных детских игрушек.
Шульгин говорил, страдальчески дергая плечом:
– Как жалобно зазвенел трехсотлетний металл драгоценной короны, когда его ударили об грязную мостовую…
Над Невой горел закат. По Миллионной, заворачивая на Мошков переулок, прошла рота матросов; они распевали:
Ешь ананасы, рябчиков жуй – День твой последний приходит, буржуй…Слова незнакомые. Расходясь, министры молились:
– Да поможет Господь Бог нашей России!
* * *
Актом своего отречения Николай на время парализовал ярость монархистов. Мало того (и это, пожалуй, самое главное), армия и флот теперь оказывались автоматически освобождены от присяги на верность царю. Отныне офицер не будет вступать в конфликт со своей совестью – он может открыто переходить в стан революции.
Долг, честь, присяга – это ведь не пустые слова!
Нельзя их закидывать под лавку…
4
Фон Грапф (сегодня небритый) хрустнул костяшками пальцев:
– Я бы отдал десять лет жизни, только бы эта гадость не увидела света. Какой мерзавец догадался подложить под русскую армию и русский флот такую свинью?
– Позвольте глянуть и мне, – сказал Артеньев.
Это был «Приказ № 1» Петроградского Совета. Вставание во фронт и отдавание чести отменялись (переживем!). Теперь его назовут не «благородием», а «господином старлейтом» (тоже плевать!). Офицер должен обращаться к матросу на «вы» (что ж, это не страшно).
Но зато дальше Артеньев был не согласен:
– Кто будет командовать флотом и кораблями? Выборные депутаты? Вон Сашка Платков тарелки для нас моет к обеду – его выберут, а ты его слушайся? Это грязная провокация… Что остается нам, офицерам? Сидеть по каютам? Мусолить книжки? Может, это отменят?
– К сожалению, – отвечал Грапф, – бомба уже взорвалась. Осколки ее разлетелись широко, и голыми руками их не схватить… Однако если мы будем отсиживать революцию по каютам, то революция пойдет не так, как нам хотелось бы. Нужна консолидация мыслящего передового офицерства. Надо противостоять хаосу и анархии. Я отъеду в Гельсингфорс, там пока спокойно, хочу переговорить кое с кем…
«Новик» за зиму обшаркался бортами у стенок ревельской гавани. Глазу моряка неприятно видеть пятна сурика, заляпавшего ржавь и копоть электросварки. Ревель, засыпанный снегом, дремал в отдалении, струясь в небо дымами, и казалось: так было, так есть и так будет бесконечно – даже через века.
Артеньева навестил штурман Вацлав Паторжинский; за зиму они успели сдружиться, и старлейт был рад этому приятельству, ибо прежняя близость с Дейчманом окончательно развалилась.
– Не помешаю? – спросил Паторжинский, входя. – Кажется, в Финляндии не все благополучно… Я уж не говорю о революции, но финский сенат заговорил о самостоятельности. Польша под немцем, я здесь, на русской службе, и вообще… ничего не ясно!
Разговор обещал быть серьезным, непростым. Но Ревель вдруг наполнился ревом гудков, кричали с вокзала паровозы, и Артеньев взялся за грудь, где часто-часто забилось сердце:
– Забастовка! Только этого нам сейчас не хватало…
К нему пришел Семенчук, одетый по всем правилам формы:
– Разрешите увольнение на берег?
Артеньев был против шлянья в такое время, но тут он сорвал с доски личного состава медную бляшку с номером гальванера:
– Разрешаю. Ты дисциплинированный матрос, и… только поэтому. Но ты мне скажи, на кой черт тебе сдался сегодня берег?
– Не берег, – ответил Семенчук. – Теперь революция, и могу вам честно сказать: я большевик. Иду по делам. Запретить не можете.
Артеньев вспомнил о «Приказе № 1».
– Вы очень много на себя берете, – сказал с неудовольствием. – И почему вы решили, совсем не мудро, что только простонародье может верно страдать за Россию и будто только вы, рабочие да крестьяне, способны быть вершителями ее исторических судеб? Это уже большое нахальство – считать себя умнее других людей… А впрочем, катись на берег. Что я тут с тобой спорю?
Потом с папиросой он вышел курить под срез полубака. Надоел этот ремонт, этот Ревель, поскорей бы в Ирбены и в Моонзунд – там люди проще и все понятней… Через леера прямо на причал лез кондуктор Хатов с чемоданом. Отличный служака, и вдруг такое дикое нарушение флотской дисциплины. Моряк никогда не полезет через леера. Артеньев строго окликнул Хатова, но кондуктор – будто и не слышал: ушел. Старшина Жуков, стоя у сходни, видел эту сцену:
– Да он чокнутый… анарха! Только помалкивал. А теперь пришло его время. Пошел к дружкам своим… дров наломают, балбесы.
В коридоре кают-компании между кают шатался Петряев:
– Старшо́й! Кто мне ответит, где сейчас место офицера?
Артеньев печально сказал артиллеристу эсминца:
– Дорогой мой, склянки отбили девять, а ты… уже пьян?
Ревельские заводы стонали во мгле морозного рассвета.
– Я не пьян. Я только потерял чувство юмора. Что же дальше-то будет? Ведь Россия занялась революцией некстати… война! Немец не станет ждать и попрет нас дальше за милую душу.
– Наш долг – не пропустить его.
– Долг? – усмехнулся Петряев, и клок волос болтнулся на его лбу (так жалко его стало!). – Это слово из какого лексикона? Все кричат: свобода… равенство… братство. О долге не слыхать!
– Ну, так я скажу тебе: долг, как и совесть, существует.
В спину старшего офицера Петряев произнес глухо:
– Как бы тебя за это не убили первым…
* * *
Неподалеку, приткнувшись к стенке, стояли еще два эсминца – «Охотник» и «Пограничник». В середине дня, проломив ворота порта, громадная толпа рабочих манифестаций с фабрики Лютера и с завода Беккера тронулась прямо к кораблям Минной дивизии… Грапф перед отъездом в Гельсингфорс приказывал – чужих на борт не принимать, и Артеньев, чуя беду, велел наружной вахте:
– Сходню… убрать!
Сходню выдернули из-под ног манифестантов. Рдеющая знаменами толпа остановилась возле эсминца, подняв на руках оратора:
– Товарищи моряки, в этот великий день… в это празднество наступившей свободы… сбросьте тиранов, омытых в вашей крови! Идите в наши колонны… всему миру мы… вознесем… правду.
– Вон отсюда! – кричал Артеньев. – Здесь вам не место!
Из другого конца гавани – так, словно быстро чиркали и тут же гасили спички, – вспышками бился прожектор на мостике «Москвитянина». Артеньев, прищурясь, прочел по проблескам:
«Мы командира уже убили. Расправляйтесь и вы…»
Сходня вдруг поехала обратно на причал.
– Назад сходню! – и в этот момент Артеньев ощутил, как тяжело провисла пола его кителя: кто-то, зайдя сзади, опустил в карман ему пистолет; обернулся – перед ним стоял минер Мазепа. – Игорь, это ты? Только не вздумай стрелять – погоди… обойдется…
Офицеры стали уговаривать матросов не уходить с рабочими. Уговаривали пылко, страстно, настойчиво и любезно:
– Ну, ребята, ну, не надо. Посидите дома… завтра пойдете.
С мостика гаркнул сигнальщик вниз – в самую заваруху:
– Семафор от начдива Развозова: по двадцать человек с каждого эсминца можно отпустить, чтобы далее порта не ходили…
Сергей Николаевич махнул рукой:
– Двадцать человек, но не больше… Подайте им сходню!
С грохотом она двинулась на причал – побежали.
На эсминцах осталось по… двадцать человек. Плюс офицеры.
– Куда они пошатались? – спросил Мазепа.
– Мне их намерения неизвестны.
– Будут участвовать в революции, – вставил Дейчман.
Артеньев с презрением оглядел инженер-механика:
– А вы даже не участвуете – вы только устраиваетесь в революции, как в неудобной комнате. Комната плоха, но другой нет, и потому заранее приживаетесь к ней, как клоп к тощей перине…
Мимо эсминцев, гремя сапогами, бежали еще матросы.
– Это уже с крейсеров… тоже пошли!
– Я еще раз спрашиваю, – сказал Петряев, – где сейчас место русского офицера? Может, и мне шагнуть через леер?
– Иди в каюту. Закройся. И проспись до обеда.
Офицеры разбрелись по каютам. Кажется, там шло тишайшее, осторожное пьянство. До нормы, чтобы не терять головы. Быть пьяным, но только не качаться. Артеньев прохаживался вдоль минных рельсов. Надоел хлам ремонта… Мимо него продефилировал на сходню и Дейчман, одетый под матроса – в бушлатике, только фуражка офицерского покроя прикрывала голову. Глупую голову!
– Куда, мех? Назад!
– Сейчас свобода… не имеете права.
– Назад! Вы мне противны в таком виде…
Дейчман хотел что-то возразить, но не успел. Жесткий кулак Артеньева свалил его со сходни обратно – на палубу, на рельсы.
– Оденьтесь по всей форме, как офицер, тогда отпущу…
Это был второй случай за время службы, когда Артеньев ударил подчиненного. На этот раз ударил своего же – офицера. Резко повернувшись, старшой уходил под полубак – тоже закрыться в каюте.
* * *
Мистическая корпорация шварцгауптеров не думала, что доживет до таких времен. Сейчас старшины этого древнего братства наблюдали из окошек Дома Черноголовых, как валит мимо толпа – прямо к «Толстой Маргарите». Матросы с эсминцев и рабочие-ревельцы уперлись в башню «Маргариты», а через Большие морские ворота их подпирали крейсерские – запоздавшие. «Толстая Маргарита» – вся в старой кладке, четыреста лет отстояла она, и никто еще не решался штурмовать ее первобытные стены.
– Сымай караульных!
Караул и сам брякнул наземь винтовки.
– Братцы, да знаете ли вы, кто сидит в «Маргарите»?
– Открывай!
– Здесь же матросы… еще по бунту на крейсере «Память Азова». Сколь годочков. А открыть не можем – ключей у нас нет.
Крейсерские, работая локтями, продирались вперед:
– Полундра, полундра, тебе говорят… не мешай!
За ними тянулся длинный телеграфный столб, вывернутый из земли. Раскачали его матросы, и, как таран, он бился в ворота. Ворвались внутрь. Там, внутри, даже в нос шибало. Крысами, плесенью, мылом, хлебом кислым. Бравый надзиратель, звякая ключами, отворял камеры. Заживо погребенные обретали жизнь.
– Выходи… вылезай… и ты, приятель: срок вышел!
Вот они – выходят, шатаясь. И сразу притихла толпа на улице.
Шли, как тени. Матросы. Революционеры 1905 года.
Потухли глаза их, а время выпило из них морскую синь. Все было. Все было раньше… Седые, старые, они идут.
– Амнистия или што тут? – спрашивали.
– Революция! – отвечали им.
Они плакали:
– Отсидели, как по звонку: от революции до революции…
Узники шли по городу, губами ловили снежинки:
– Смотри-ка, снег… снежок какой… мяконький.
Их беззубые рты источали страшные улыбки.
Ближе к ночи прибыл с берега Семенчук, вернул бляшку.
– Так, так… Значит, и ты был возле тюрьмы?
– Был.
Сергей Николаевич скинул китель, возле раковины стал полоскать горло раствором марганцовки. Сквозь бульканье прорывались слова:
– Это хорошо, что сознался… Теперь хоть буду знать, что ты за фрукт. Опасный ты… А с вашим приказом номер один не согласен!
Семенчук подумал о чем-то и вскинул руку к бескозырке:
– Есть!
Ловко придумано на флоте с этим коротким и бравым «есть!». Ругают матроса – он говорит «есть!». Хвалят его – тоже «есть!». На все дается один ответ, все до конца исчерпывающий… Эсминец уснул. За плюшевым пологом спал в каюте Артеньев. На узкой откидушке, вмонтированной в борт корабля, как тюремная койка в стену камеры, спал гальванер Семенчук… У каждого была своя правда.
* * *
Теснота феодального Ревеля всегда утешала душу. Было что-то милое в узости переулков, в лабиринте дворов и ворот. Сегодня ему повезло: роясь в книжной лавке на Бубличном проходе, Артеньев из рухляди извлек почти новенький каталог портретов московского архива министерства иностранных дел… Как и все книголюбы, Сергей Николаевич не удержался, чтобы не полистать книгу на улице.
Он шел сейчас по улице Пикк через Гильдейский проход, и в коридор стен сверху падал сумеречный свет древности. Каталог очень интересный. Канцлеры, дипломаты, консулы… Ага, вот самое любопытное: портреты частных лиц! От волнения даже придержал шаги. Гильдейский проход кончался, он вышел на улицу Лай, а там высоко в небе уже купалась стрела Олай-кирхи, всегда видная с моря… Акулина Евреинова, дети Демидовых, жена Гундорева с грушей в руке, пьет чай с блюдца, а перед нею лимон.
Черной тенью заслонило ему глаза – матросы! Не с крейсеров и не с Минной дивизии. Улица Лай – щель, где не пропихнешься. Может, отступить? Это ясно, что они ждут, когда он приблизится. Стояли шагах в десяти, ноги в клешах расставив. Посмеивались:
– Ну, ползи, ползи… Чего встал?
И тогда он пошел прямо на них.
– Дай пройти офицеру! – заявил матросам, а в горле что-то жалобно пискнуло, и тут ногой поддали ему по книге…
Он нагнулся, чтобы поднять ее, но сверху двинули по затылку кулаком. Артеньев упал, и его стали бить. Он выпрямился рывком, уже без фуражки. Запонки отлетели, манжеты сползли и торчали теперь из-под рукавов несуразно-ослепительной свежестью.
– Нет! Нет! Нет! – вскрикивал он при каждом ударе. Наконец бить закончили.
– А за что? – спросил их Артеньев, сплюнув кровью.
– Вас всех, офицеров, к стенке надо.
– За что?
– Еще спрашивает! Скажи спасибо, что живым отпускаем…
– За что?
– Холуй ты царский, – влепили на прощание, как пощечину…
Ушли. Он отцепил манжеты, отбросив их от себя. Книга лежала в стороне, затоптанная сутолокой ног. И вот тогда он заплакал. Но слез этих себе не простил. Ожесточась, быстрым шагом вернулся в гавань. Прямо от сходни приказал вахте:
– Большой сбор – все наверх!
Грянули звонки. Буцая в палубу, сбегались матросы. И застывали на корме, лицами внутрь эсминца, двумя фалангами. Ветер мусолил ленты, гремели на ветру жесткие робы.
– Слушай все! – сказал Артеньев. – Сейчас в городе меня избили… матросы. Матросы флота избили офицера флота. За что? Но, кажется, они сами не знают. Меня назвали «холуем царским». И я здесь, перед всей командой, заявляю, что ничьим холуем никогда не был. Я не политик и революций не делаю… Я только строевой офицер. Кадровый. Меня в корпусе вашим «измам» не обучали. Но, как офицер, я знаю, что без дисциплины нет флота. Без флота не будет победы. Слушайте все… Вы знаете, я был строг. При царе. Но я никогда не завинчивал гаек. А теперь стану! Да… И чем больше расхристаетесь, тем круче я стану требовать с вас порядка.
Он потрогал разбитую губу и закончил как обычно:
– Ррразойдись по работам!
– Не расходиться, – послышался голос Хатова, который соизволил вернуться из отлучки и теперь, как последняя скотина, лез через леера на борт эсминца. – Не расходись! Теперь я говорить буду…
Кажется, он был пьян, но говорил складно:
– Братва, слышали, что старшой заливал нам тута? Мало вчера ихнего брата угробили – надо бы и нашего прихватить за компанию. Вы слышали голос платного наймита буржуазии? Это к чему же он всех нас призывает? В старые времена? Дисциплинки ему хочется?
Хатов осекся – прямо на него в упор глядела жуткая дырочка револьвера. Когда Артеньева били, он про него забыл. А вот теперь вспомнил. И навел.
– Убирайся. Или прихлопну. Как муху…
5
Вице-адмирал Андрей Семенович Максимов, начальник Минной обороны флота, ступил на палубу посыльной «Чайки». Ни тебе фалрепных у трапа, ни тебе «захождения» на горнах, ни тебе вахтенных, отдающих честь, – разболтались! Окружили его с карабинами:
– Вскинь руки! Ребята, хватай браунинг у него…
Скрутили адмиралу руки, потащили его в корабельный карцер. В дверях он уперся ногой, не давал себя закрыть:
– Стой! Один только вопрос: что я вам худого сделал?
– Все вы одним лыком шиты. Давай посиди тут, а мы за это время судьбу твою порешим как следует… по справедливости!
Сбили ногу адмирала с комингса – дверь задраили.
* * *
Непенин обвел флаг-офицеров суровым взглядом:
– Колчак-то, господа, мерзавцем оказался… На митингах треплется. Всю полицию разогнал, а в Ливадии великим князьям обыск устроил. Вскормили мы с вами змия у груди своей…
По салону обеспокоенно расхаживал князь Черкасский:
– Революция пошла с креном на левый борт. Метацентр высоко поднялся, и Россия может опрокинуться кверху килем…
На столе комфлота лежали груды бумаг, разложенные стопками. Рука адмирала Непенина, мягкая и розовая, парила над этнами и везувиями восстаний, как над раскаленными плитами:
– Вот Кронштадт… вот Ревель… в Або пока спокойно.
Ренгартен почти не спал эти дни, взвинченный до предела. Время от времени, наглотавшись новостей и слухов, он забегал в каюту, торопливо доверяя впечатления своему дневнику:
«Жалко смотреть на Непенина – так он устал, бедняга, так он травился и с таким трудом сдерживался… Провокация по радио: смерть тирана… Развал полный! Опять надо рассчитывать на Бога, на чудо… Дал мысль Непенину снять везде царские портреты. Уже приказано им… Депутаты к Адриану (к Непенину. – В. П.) приходили – он выслушал их. Велел для них в столярной мастерской дать чаю с хлебом… Неужели все погибнет?..»
Офицеры-заговорщики были обеспокоены.
– Только бы наш комфлот не вздумал выступать с речами перед матросами. Так, келейно, он еще держится в рамках демократии. Но случись митинг команд, он же гавкнет… обязательно гавкнет!
Революция шла по флоту зигзагом: побывав в Кронштадте, она навестила Ревель, а теперь подкрадывалась к Гельсингфорсу.
На совещании флагманы стали терзать Непенина упреками.
– Это преступно! – кричали из зала. – Это несовместимо с понятием о чести… Разве можно порывать с династией так легко?
Красный как рак, Непенин отбивался от флагманов:
– А что мне прикажете делать, если вся Россия отшатнулась от престола… вся! С царем порвали люди, знавшие его от самых пеленок. У нас, господа, сейчас уже нет иного выхода, как идти в струе за новым кабинетом России…
Поднялся адмирал Бахирев, заявивший конкретно:
– Остаюсь верен его императорскому величеству.
– Михаил Коронатович, – с горечью ответил ему Непенин, – неужели ты думаешь, что я монархист меньше твоего? Ты же меня знаешь. Но сейчас война. Верь, как я верю, что после войны государь снова займет престол. А теперь флагманам нельзя разбегаться. Бороться нам предстоит не только с немцами. Но и здесь… в своем доме!
С флагманами он справился. Но общения с командами не избежать, и Непенин был вынужден выступить перед матросами с дредноутов. Свой монархизм он запечатал в душе, как недопитое вино в бутылке, и держался на митинге идеально. Заговорщики-офицеры перевели дух. Но тут из команды «Полтавы» адмирала спросили:
– А кады мыло дадут? Кады белье грязное сменят?
Непенин сорвался. В одну кучу адмирал свалил революцию и грязное белье с мылом. Наполняясь гневной кровью, он кричал:
– Страной управляет черт какой-то! Кронштадтцы – сволочи и трусы. Красные фонари на клотиках зажигают, предатели… бордель развели на флоте! Спрашивайте еще – я вам отвечу!
Его спрашивали об уважении к матросу, чтобы разрешили курить на улице, чтобы честь не отдавать офицерам. Непенин распалился:
– А вы и не нужны мне со своей «честью»! Хотите по улицам с цигарками шляться – ну и шляйтесь… Только полезьте ко мне на «Кречет», не суйтесь в мои дела, тогда худо будет!
Кажется, он и сам понимал, что его занесло. Занесло в безудержности лая, помимо воли его, как тогда в Ливадии, когда он без передышки лаял на императрицу. Императрица его простила, но революция может не простить. В командах слышался ропот:
– Слыхали? Дракон был – драконом и сдохнет…
Неожиданно выручил Керенский – обратился ко всему Балтийскому флоту со строгим приказом к матросам, чтобы во всем повиновались Непенину, власть которого признана Временным правительством… Адриан Иванович даже обмяк от удовольствия:
– Охранная грамотка мне… спасибо этому адвокатишке.
Обращение Керенского размножили, офицеры с «Кречета» объезжали корабли, зачитывали его на больших сборах. Казалось, поддержка комфлоту обеспечена. Однако примитивный Непенин не настолько был изворотлив и хитер, как Колчак, – прямой и грубый, с повадками мужлана, он, низко опустив голову, хотел бодать революцию рогами, словно бык, увидевший красную тряпку…
Вечером 3 марта, выписывая зигзаг над Балтикой, молния революции достигла Гельсингфорса, она ударила в клотиковые огни, и клотики загорелись красным пламенем… Что ни день, то новая база революции: 1 марта – Кронштадт, 2 марта – Ревель, а сегодня она уже в главной гавани линейных сил флота.
* * *
«Император Павел I» вздернул на стеньгах боевые флаги – красные треугольники. Носовая башня его пришла в движение. Мрачная жуть стволов катилась вдоль рейда, словно не находя цели, пока «Павел» не уставился в борт «Андрея Первозванного», – сигнал! Бурно расплескивало морзянку: «Товарищи, не верьте тирану Непенину. От вампиров старого строя не получим свободы. Арестовывайте неугодных офицеров. Мы своих уже арестовали». Над рейдом вспыхивали огни клотиков – огни всегда тревожные, всегда зовущие…
В штабе комфлота – суета, нервность.
Командир второй бригады адмирал Небольсин убит…
– Боже, опять убийства! – воскликнул Довконт. – Ну, когда это все кончится! Делайте же что-нибудь… надо делать.
– Что делать? – спросил Непенин.
Радиорубки эскадры посылали в эфир проклятия адмиралам. С «Павла I» строго предупредили: «Ораторам в атмосферу не говорить – немец подслушает!» Между линкорами – по льду – сновали депутации. Уже темнело, и рейд горел красновато, как при пожаре. С мостика «Кречета» наблюдали, как группками сходились, судачили, снова разбегались по тропкам между тяжких бортов, палили в небо.
Команда «Кречета» обратилась к Непенину:
– А мы чем хужее? Почему у нас нет красного флага?
– Поднимайте, – разрешил комфлот. – Мне все равно…
Сидя под красным флагом, он дал радиограмму Родзянке: «Балтийский флот как боевая сила не существует что могу сделаю». Засыпанный снежком, прямо в шинели, ворвался к нему Черкасский.
– Сюда идет толпа… матросы! Кажется, арестовывать. Анархия на эскадре полная, вы, слышите – они стреляют. Убивают всех без разбору… Максимов задраен матросами в карцере…
На это Непенин ответил кратким:
– Хорошо. Будем ужинать…
Над столом нависло молчание. По дну тарелок надсадно тренькали ложки. И вдруг Непенина – словно ошпарило. Он задергался и, будто забыв о присутствии вестовых, обратился к штабистам:
– Начал сегодня «Павел»… тэ-экс! А какой из дредноутов по диспозиции может открыть огонь по зачинщику «Павлу»?
Никто ему не ответил – все уткнулись в тарелки.
– Нет, – сказал Непенин, не найдя ни в ком поддержки, – я не стану проливать кровь на рейде. Пусть уж лучше льется моя…
Толпа матросов уже ломила со льда по трапам на «Кречет», напором тел расшибали двери. Бежали по коврам… ближе, ближе…
– Непенина! Где адмирал?
Комфлот поднялся. Нет, это не убийцы. Это пока депутаты.
Он не сразу понял, что они сейчас хотят от него. Матросы просили дистанционные трубки для кормовых орудий:
– Дайте! По льду движется пехота, чтобы усмирять флот. Мы эту крупу раздробим картечью… Кто посмел вызвать солдат с берега?
– Я не вызывал. А трубки возьмите…
На прощание депутаты ему заявили:
– Вы не волнуйтесь. Возле погребов – усиленные караулы. Мы и сами боимся провокаций. Служба у нас продолжается по уставу…
На крейсерах волнения перешли в бурные взрывы патриотических ликований. Там кричали «ура России» – и даже качали офицеров. Они взлетали на матросских руках, с высоты палуб виделся им рейд, молчаливые остовы дредноутов, на которых офицеров никто не качал. Там их убивали, там штыками загоняли их в норы казематов.
Непенин сказал, растирая в ладонях лицо:
– Когда закончится эта галиматья?
К ночи уже вся эскадра примкнула к восстанию.
– Утром начнем подсчитывать убитых, – распорядился Непенин. – Попытаемся воздействовать на матросов, чтобы освободили офицеров из-под ареста. Неужели в Питере власть – голая фикция, неужели не могут нажать на флот? Вот Керенский… прислал! Филькину грамотку о доверии масс к моей особе… подтереться ею!
Всю ночь шла стрельба и гудели палубы от митингов.
Под утро вошел к комфлоту Ренгартен – серый, небритый.
– Вот последнее, что мы имеем, – сказал и вышел…
Непенин взял брошенную им квитанцию:
«Вся команда судов, потерявшая к Вам доверие, требует временного прекращения издания Ваших приказов и телефонограмм, которые будут только двоить и ухудшать создавшееся положение. У команды (эскадры) временно организуется Комитет, который и будет управлять впредь до установления полного порядка…»
В это утро комфлот встал над самым провалом пропасти.
Он заглянул в ее черноту и смрад, и ему стало плохо.
* * *
Андрей Семенович Максимов, сидя под арестом на «Чайке», догадывался, что творится сейчас на эскадре. В любую минуту могла распахнуться дверь, оттуда выставится дуло винтовки – и грянет завершающий выстрел… Максимов в эту ночь – честнейше! – спрашивал у себя: «Правильно ли я жил? Был я виноват или не был виноват?»
Ну, вот. Кажется, за ним идут… Слышны шаги. Сочно бряцают по трапам винтовочные приклады. Значит, сейчас будут убивать. Адмирал встал. Подсобрался. Застегнут. Пальцами он поправил воротник. Что у него тут? Портсигар. Бумажник. Деньги. Все это уже стало чужим, далеким и ненужным… «Ну что ж!»
Взвизгнули дверные задрайки. Провернулись дог-болты. Резиновая прослойка, отсырев на море, громко чмокнула, будто целуя входящих, и станина двери с грохотом откатилась в сторону.
Высоко задрав ногу над комингсом, вошел… Павел Дыбенко.
На адмирала смотрел люто. В руке – наган. За пазухой – «смитт-вессон». На ремне – две бомбы. Офицерский кортик сбоку.
– Прошу, – сказал. – На митинг.
– С каких это пор митинги стали лобным местом?
– Балтийский флот оказал вам особое доверие…
– Что вы сказали? – спросил Максимов.
– Резолюция такая от эскадры, чтобы вы флотом командовали. Прошу на митинг, а потом… смещать Непенина станем!
На палубе «Чайки» было не протолкнуться – полно матросов, солдат, офицеров разных, которых Максимов и в глаза не видел.
– Это ваши избиратели, – сказал Дыбенко, размахивая наганом. – Дорогу адмиралу! Первому адмиралу революции… ура, ребята!
– Уррра-а! – захлестывало и другие корабли рейда.
Оркестры исполнили для бодрости «Янки дудль дэнди», потом рейд заполнило торжеством «Марсельезы». Андрей Семенович сделал под козырек, его прошибла слеза.
Дыбенко указал ему наганом, где встать:
– Говорите.
Адмиралу было сейчас не до слов, но он собрался с духом:
– Не вы ли арестовали меня? Вы… А теперь голосованием вознесли на высокий пост. Я надеюсь, что это не стихийный порыв, но обдуманное решение. Если я выбран народом, я – адмирал народа! – исполняю волю его. Я не злопамятен. Не сержусь, что мне скрутили руки и повели под арест… Дело свободы дороже всего. Я с вами. Был вчера. Есть сегодня. И буду завтра!
На автомобиле – под красным знаменем – его везли по городу. За спиною Максимова, принимая на себя приветствия толпы и грозя всем наганом, ехал мрачный, как сатана, Павел Дыбенко. Замкнул лицо в безулыбье, бескозырка – на ухо, бушлат нараспашку, грудью на мороз, а на ленточке Дыбенки – краткое «Ща», которое издали читалось всеми как «Ша!».
– Дорогу адмиралу! – покрикивал. – Эй ты, рыжий, задавим! Береги свою жизнь – еще пригодится.
* * *
– Итак… – начал Максимов, всходя на «Кречет».
– Итак, – прервал его Непенин, – я уже обо всем извещен. Что ж, поздравляю вас, Андрей Семеныч… выдвинулись на революции!
– Стоит ли язвить, Адриан Иваныч?
– Я не язвлю. Вчера вас арестовали. Сегодня поставили комфлотом. Смотрите, как бы завтра они вас не повесили!
– Выборных не вешают, – круто вмешался Дыбенко.
Дыбенко вел себя в кают-компании «Кречета» как у себя дома – на военном транспорте «Ща». Цыганским глазом подмигнул вестовым:
– Эй, Вася или Петя, чайку бы мне с песком и булкой!
Из портсигара Ренгартена он угостил себя папироской:
– «Эклерчик»… На что дамские курите?
– Чтобы поберечь здоровье. В них меньше никотина.
Дыбенко через весь стол прикурил от зажигалки Довконта.
– Надо бы и мне, – сказал, – тоже о здоровье подумать…
Он резко повернулся к соперникам-адмиралам:
– Непенин – дела сдать! Максимов – дела принять!
Непенин подошел к нему со словами:
– Судя по хамству, с каким вы себя ведете, я имею честь наблюдать самого господина Дыбенко?
– Угадали. Но я – не хам. Я просто искренен…
Непенин отвернулся от матроса к Максимову.
– Меня не так-то легко свалить. Вот вам – читайте…
Максимов прочел и передал бумагу Дыбенко. Временное правительство предотвратило удар по Непенину – Гучков, на правах военного и морского министра, забирал комфлота к себе в канцелярию на должность помощника своего по морделам.
– Чисто сделано, – не удивился Дыбенко…
Временные правители гасили пожары на Балтике: увещевать Кронштадт ездил сам Гучков. Ревелем занимался Керенский, а теперь в Гельсингфорсе ждали двух делегатов сразу: кадета Родичева – от Думы и меньшевика Скобелева – от Совета. Офицеры ждали приезда их с нетерпением. Кому не втолкует кадет, того проймет до печенок социал-демократ. Убитых уже не вернешь, но взаперти под караулом еще сидели многие. Поезд с делегатами опаздывал. Флотская типография тысячами выпускала на эскадру стенограммы телеграфных переговоров матросов с Керенским. Офицерам было заявлено, что желательно видеть их на демонстрации с красными бантиками. Многие из них влились в манифестации. Одни – душевно, желая понять и осмыслить. Другие – из трусости, внутренне негодуя. Началось расслоение кают-компаний, и кадровые «спецаки» вдруг заговорили о политике, о тезисах, о партийных платформах. Было непривычно слышать от почтенных каперангов (даже резало слух), когда они заявляли о своей принадлежности к эсерам:
– Так уж случилось. Давно эсер. Немало рационального…
Теперь все ждали, что будет с Максимовым.
– Провалится, – говорили. – Разве можно на такие посты выбирать? Это сдуру ведь… пьяные все были!
– Говорят и хуже, будто на митинг затесались тогда германские агенты, одетые как матросы. За Максимова горло и драли!..
Наконец приехали в Гельсингфорс депутаты от столицы, чтобы утихомирить балтийские страсти. Офицеры с надеждой взирали на Родичева – тверской помещик, голова ясная, этот матросам салазки загнет. Но помощь к ним пришла неожиданно от… Совета: меньшевик Скобелев дал приказ, на какой не мог решиться сам Непенин:
– Матросов не распускать – пусть сидят на кораблях. И впредь до особого распоряжения никого на берег не увольнять.
«Вот – умно!» – записал в дневнике Ренгартен кратенько…
Последним убили командира эсминца «Меткий» старлейта фон Витта. За что убили? Никто не знал. Но стали арестовывать офицеров и на «Кречете». Когда их уводили, они держались хорошо:
– Мы надеемся, что последние. Скоро все образумится…
Максимов издал свой первый приказ. Осадное положение отменить. Орудия с улиц убрать. Стеньговые флаги спустить. Арестованных восстановить в прежних обязанностях. Приступить к обыденной службе. «Император Павел I», который вчера и начал восстание, вдруг заартачился, стал «писать» по эскадре, что прежние приказы Непенина были вполне разумны и впредь только Непенину павловцы и будут подчиняться… Непенин с улыбкой сказал Максимову:
– Андрей Семеныч, давайте я подпишу ваш приказ.
Подписались оба.
В середине дня Непенин собрался уходить. Надел шинель, обвязал шею легким белоснежным кашне. Долго ерзал в коридоре, натискивая на ботинки галоши.
– Лейтенант Бенклевский, сопроводите меня до вокзала…
Вместе с дежурным по штабу лейтенантом он пошел пешком. Снег хрустел под ногами. Светило солнце. Слегка подмораживало.
– Скоро весна, – со вздохом сказал Бенклевский.
– Будет и весна, – неохотно отозвался Непенин.
Флот у него отняли. Он уходил к Гучкову.
– И не жалею! – сказал Непенин с яростью. – Флот уже развален. Его можно сдавать на свалку. Корабли небоеспособны…
Они дошли до ворот порта. Группкой стояли матросы. А за воротами плотной стенкой сгрудилась толпа обывателей. Когда Непенин обходил гельсингфорсцев, раздались два выстрела – в спину!
Он упал. Смерть была мгновенной.
Теперь пули посыпались в Бенклевского…
Но тут матросы кинулись вперед, загораживая его:
– Стой, собаки! Кто пуляет? Лейтенант-то при чем?
Из открытого рта Непенина, сильно пульсируя, толчками выхлестывала кровь. Адмирал был здоровяк, полный телом, и кровь обильно заливала снег. Бенклевский был бледен, его трясло.
– Спасибо, – сказал он матросам. – Вовек не забуду.
– Иди, иди. Ныне шляться опасно.
И, плача, он пошел через лед обратно – на «Кречет».
Издалека накатывало «ура» – это Максимов объезжал корабли.
6
Матросы не стреляли из-за угла: они имели достаточно мужества расправляться с врагами лицом к лицу. Эскадру всколыхнуло подленькое убийство Непенина; резолюция экстренного Совета рабочих и воинских частей Гельсингфорса выражала «возмущение и крайнее негодование» убийцам адмирала Непенина.
Финская столица была битком набита германскими агентами. Пули в Непенина посыпались из автомобиля, который вынырнул из-за толпы гельсингфорсцев. Непенин раньше возглавлял русскую морскую разведку на Балтике, и не исключено, что немецкая агентура разделалась с ним за все сразу. Тем более что вину за убийство все равно припишут революционным матросам…
…Эссен – Канин – Непенин – теперь Максимов! Первый выборный командующий флотом заступил свой пост.
– Глас народа – глас божий, – говорил Максимов.
Выборный адмирал шел в ногу с флотским Советом.
– Товарищи, – сказал Дыбенко, – объявляю заседание открытым. Наш Совет – Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов…
Ренгартен сразу взвился на дыбы:
– И… офицерских! Мы, офицеры, тоже здесь.
– Офицеры могут выступать как матросские представители. Просим в президиум нашего адмирала товарища Максимова.
Андрей Семенович говорил:
– Я готов умереть за счастье народа вместе с вами. Поклянемся же, что ничего, кроме республики, в России отныне не будет!
Очевидец пишет:
«…Максимов дает волю всему тому, что у него накопилось в груди за эти первые дни революции. Без лести и без страха он все это произносит. На его лице нет хитрости или подхалимства. Но он (Максимов) не учел другого: его искренность, его откровенность не понравились многим присутствующим здесь офицерам… Этого они ему не простили. Не простили не только при Временном правительстве, но даже при советской власти»[18].
Черкасский горячо зашептал на ухо Ренгартену:
– Получена телеграмма из Ставки, командующие фронтами и главный штаб требуют убрать выборного комфлота и назначить другого. Кого ты думаешь? Бахирева? Или Вердеревского?
– Чепуха, – возразил Довконт. – Бахирев известен как отъявленный монархист, а Вердеревский станет заигрывать с матросами. Я скажу, кто нужен Балтфлоту – Колчак!..
И скоро потянулось – от корабля к кораблю:
– Колчак! Только тихо, господа, никому ни слова… Люди уже работают, чтобы раздавить анархию. Колчак из Кронштадта сделает то же, что сделал он с Севастополем, а рептилию Максимова удавим!
«Колчак… Колчак… Колчак… приди к нам, Колчак!»
Максимов глубоко страдал от недоверия офицерства.
– Господа, – убеждал он колеблющихся, – перестаньте бояться революции, а постарайтесь понять ее… Ближе к массам!
– Это верно, – согласился находчивый Ренгартен, – он правильно сказал, что офицерам надо смелее входить в этот революционный кагал, чтобы крутить машину событий своим реверсом…
Офицеры-заговорщики объявили себя яростными демократами. Ренгартен стал товарищем председателя Гельсингфорсского исполкома. Он разрывался – между службой и между политикой. «Меня сжигает любовь к родине! – выступал он. – Я весь принадлежу ей, только ей…» Еще не все было ясно людям, и митинги качало, как корабли, то влево, то вправо. Керенского то крыли матом, то считали за счастье пожать ему руку. Вскоре Керенский стал появляться в публике с рукою на черной перевязи. «Я не ранен, нет, – объяснял он. – Но моя рука парализована от миллиона братских пожатий. Я самый доступный для народа…»
Молния революции заканчивала зигзагировать над Балтикой. Чем дальше от столицы, тем слабее и глуше были раскаты грома. На отдаленных базах уже не убивали. Но в отсеках кораблей долго оставалась едкая гарь восстаний, и офицеры – без погон, без кокард – полиняли, говорили шепотом:
– Неужели все повторится? Нужен Колчак… Александр Васильевич нашел ключ к матросам. У него на Черном, мне товарищ по корпусу рассказывал, и честь отдают, и офицеры там – кум королю!
На заседаниях Гельсингфорсского Совета они спрашивали:
– Когда у нас будет порядок?
– Смотря какой вам нужен, – отвечал из президиума Дыбенко. – Ежели старый, то его не будет… А вообще-то порядок обещаю. Вот скоро вернется из эмиграции товарищ Ульянов-Ленин, он всем нам порядок устроит.
* * *
Навигация запаздывала. Лед лежал ровным толстым пластом, затягивая даже южные районы Балтики, которые обычно не замерзали. Над Финским заливом иногда пролетали колбасы цеппелинов, из гондол которых немцы внимательно осматривали муравейники русских эскадр, возмущенные революцией. Над Ирбенами парили русские аэропланы, ведя ледовую разведку… Лед, лед – всюду лед!
Витька Скрипов с новой жизнью на «Славе» освоился. Но мучила его слабость, не проходившая с детства. Еще в Школе юнг стыдился вставать по утрам, боясь насмешек. На подводной лодке – еще ничего: приткнешься к торпеде, замерзнешь и сам вскочишь. А на линкоре гамаки подвесушек качаются в кубриках, и греха никак не скрыть: на парусиновой койке, пробивая пробковой матрас, позорно мокнет большое желтое пятно…
Балтийские рассветы! По утрам, в темени этих рассветов, весь флот (десятки тысяч человек) остервенело вяжет свои койки, и десятки тысяч коек похожи одна на другую, как бобы с одного поля. Сгорая от стыда, вяжет свою койку и Витька Скрипов. В кубриках стоит суровое молчание, раздаются зевки и свистят в руках матросов упругие хлысты шкентросов, шнурующих койки через дырки люверсов… Чья-то теплая большая рука легла на плечо юнги Скрипова: обернулся – это был сигнальный старшина Городничий:
– После мурцовки – ко мне зайди… побалакаем.
– Есть!
А в сердце дрогнуло – не беда ли? Вспомнился Обводный канал и матка, которая живет с цапания. Не хотелось Витьке залезать в эту поганую житуху обратно. На флоте ему нравится – сыт, одет. Если б не эта слабость, за которую могут списать, как негодного к службе флотской… Мурцовку даже не допил, нахлобучил бескозырку. Кондуктор жил отдельно от своих сигнальщиков – в каюте для «шкур» (сверхсрочников). Носил он мундир почти офицерский, фуражку офицерского образца. Городничему давно было за сорок, Витька – пацан перед ним. В теплой «пятиместке», где пять «шкур» помещалось, шуршали в газетах тараканы, на столе – консервы рыбные и лимон в дольках на блюдце. Кондуктор брился у зеркала.
– Садись. Как живешь? – спросил для начала.
– Хорошо живу. Спасибо…
«Издалека подбирается», – подумал Витька, весь замирая.
– Расскажи-ка, что у тебя на подлодке стряслось.
Кондуктор был один в каюте, и говорить не стыдно – даже душу облегчало. Городничий хлестал бритву золингеновской стали по истертому ремню, и лезвие вспыхивало при отточке… страшно!
– Дурак ты, – четко определил кондуктор.
– Сам знаю, – скромнейше согласился юнга.
– Учиться бы тебе надо, мазурику!
– Я ученый. По первому разряду из школы выпущен.
– Флажками-то махать и обезьяна научится, только покажи ей… Ты учился скверно. Первым разрядом не хвастай, – внушал кондуктор. – Юнги за большевиков идут, а ты настоящую учебу прошляпил. Размахался флажками, а политику в угол закинул.
– Да на што она мне? Есть и постарше. И поумней меня.
– Это верно. Мы, постарше да поумней, скоро уйдем с флота…
Кондуктор жил вроде барина. После бритья освежил себя ароматной водой «Вежеталь» и Витьку издали малость побрызгал:
– Во, как завонял ты… Небось нравится?
– Ага.
– Отец-то твой кем был? – спросил Городничий душевно.
– Сцепщиком на дороге. Вагоны скреплял. С похмелюги пошел на станцию. Башка у него еще дурная. Не успел отскочить – его буксами в лепешку расплюснуло. Так блинком в гробешник и запихачили. Матка потом пенсию от дороги выхлопотала.
– Много ль?
– Тыщу.
– О!
– Да нет. Сотню получили. Девятьсот адвокат закарманил.
– А старая ли матка у тебя?
– Совсем уже старая. Тридцать шестой год шарахнул!
– Такими старухами прокидаешься. Да я бы за ней еще поухаживал. Ей, матке-то твоей, еще жить да жить хочется…
– Куда ей! Сено с возов цапает, тем и кормится.
Городничий хлебнул остывшего чаю, сжевал ломтик лимона.
– Вот видишь, как оно получается, – сказал. – Политика тебя, сукина сына, прямо в морду с детства хлещет, а ты… мимо!
– Где уж тут политика? Это так… мы привыкшие.
– Адвокат вас ограбил?
– Обчистил. Это верно.
– Матка цапает?
– Вовсю! Бежит и цапает.
– Кнутом ее мужики стегают?
– Лупят. Ничего. Она живучая.
– Вот это все и есть политика… Чаю не дам! – неожиданно заключил разговор кондуктор. – Ты до нашего чаю еще не дослужился. Доживешь до моих лычек, будет тебе и кофий, будет тебе и какава.
– Не спорю, – согласился Витька. – Только вот опять про эту политику… Я – ладно, согласен! Но где ее взять, книжку бы какую. А то вокруг кричат, я тоже ору, что от других слышу…
– Ладно. Просветим твою серость. Дадим учителя.
– Какого?
– Тот человек, который тебя ночью разбудит, чтобы ты до гальюна сбегал, тот человек – помни – твой лучший товарищ…
Среди ночи кто-то снизу сунул кулаком в гамак, и подвесушка стала раскачиваться под броневым настилом подволока.
– Вставай, попиґсать надо… – сипло сказали из мрака.
Кубрик наполнен храпом. Витька насунул на босые ноги громадные, как кувалды, бутсы. Потопал в них по трапам, по трапам… по трапам… до гальюна! Вернулся обратно, в палубу – там все спали. «Кто же мой товарищ?» С этим снова заснул как убитый.
Утром, по сигналу с вахты, взяв на плечо рулон своей койки, как и весь полуторатысячный гарнизон корабля, мчался Витька наверх, взлягивая на трапах ногами, чтобы поставить койку в сетки. Возле него приладил свою сигнальщик Балясин.
– Ну как? – подмигнул. – Сухой нынче? После обеда поднимись в прокладочную… Подзаймемся с тобой азбукой.
До обеда Витька был наряжен на работы в рефрижераторе. Там, в страшной стуже, покрыты инеем, висели на крючьях, поддетые под ребра, серебряно-красные бычьи туши. Шмыгая от холода носом, с гордой радостью Витька пластал топором туши напополам. Изобилие мяса на линкоре приводило его в умильное обалдение. «Вот бы питерским показать… жратвы-то сколько! Хорошо на флоте табанить: и оденут тебя, и покормят». Он потел во льдах рефрижератора…
После обеда на мачте заполоскались треугольники белых флагов, исчерченных черными полосами (сигнал отдыха). Витька поднялся на мостик «Славы» – в прокладочную. Здесь душа обмирала от обилия инструментов для навигации. Тончайшие приборы показывали все, что надо для кораблевождения, – курс, погоду, скорость, глубину под килем. Громадные комоды для карт занимали половину рубки.
Витька удивился, что здесь же и офицер Карпенко; мичман незадолго до революции получил лейтенанта, но погоны надеть не успел и таскал их в кармане. Вроде бы с погонами человек. Вроде бы и без погон… Юнга послушал, что говорит офицер Балясину:
– Ну, ладно. Допустим, я согласен с вами, что война эта лишь бойня ради прибылей капитализма… Допустим! Отбросим гордые слова «Вторая Отечественная» и проставим новое определение – «империалистическая». Но скажи мне, сигналец, куда же деть жертвы народа и героизм народа в этой войне?
– Жертвам вечная память, – отвечал Балясин, – а героизм пусть так и остается в памяти народа.
– Боюсь, не получится ли так, что наш героизм будет проклят большевиками заодно с войной и вместе с подвигами…
– Так история-то России не кончается… начинается! Садись ближе, – повернулся Балясин к юнге. – А вам, господин лейтенант, я принес, что обещал… о Циммервальдской конференции.
– Спасибо. Прочту. С удовольствием.
Балясин начал прощупывать Витьку в присутствии офицера:
– Вот сейчас Америка, небось слышал уже, тоже в войнищу эту ввязывается. Скажи, как ты к этому акту относишься?
Витька не рубил сплеча – сначала подумал:
– А что? Это дело… У мериканцев свинины – завались!
– Лопух ты, – сказал Балясин. – Уж ты не смеши нас.
– А простой народ так и понимает… желудком, – вступился за юнгу Карпенко. – Нельзя же винить за безграмотность. Вот, помню, когда юбилей консерватории был, так в народе тоже говорили, что теперь консервы подешевеют… Учите его: поймет, не дурак ведь!
Политическую азбуку Витька Скрипов начал проходить с буквы «а». Бедняга, до буквы «я» он не доберется. Где-то между буквами «в» и «г» в азбуку понимания жизни войдет беспощадный Моонзунд.
* * *
Командиром носовой башни он стал. Это большой успех. Гриша Карпенко дружил с лейтенантом Вадей Ивановым[19], который управлял огнем главного калибра с кормы. Из мичманов дружил с Деньером – внуком известного на Руси фотографа. Вот этот мичманец иногда замудривал – хоть стой, хоть падай. Когда убийства офицеров кончились, Деньер иногда выдвигал сложные проблемы:
– Теперь все для народа. А в чем заключены великие завоевания революции для офицеров? Как выяснилось после революции, царь был жестокий сатрап и мучитель – он заставлял офицеров флота носить усы. Революция избавила нас от гнета, и Временное правительство вполне демократично разрешило нам усов более не носить… Ура!
В самом деле, многие после отречения царя усы сбрили. «Теперь, – говорили, – можно хоть сморкнуться при дамах, не обязательно выбегать в прихожую…» Командир «Славы» каперанг Антонов в разговоры молодежи не вмешивался. Из предохранительных целей. Исходя из той же осторожности, он даже подумывал – не записаться ли ему в эсеры? Правда, дома скандал будет, но… Яркий пример перед глазами: кавторанг Ильюшка Ладыженский, командир «Андрея Первозванного», стал заядлым эсерищем и в судовом комитете уже председателем. Теперь у него матросы как наскипидаренные, по струнке бегают… Офицеры запирались с ножницами в каютах, выпарывали из фуражек белые (монархические) канты. Появилась несносная мода на мятые «фураньки». Погоны припрятывали. Может, еще повернется колесо истории? На то ведь колесо и существует, чтобы оно вращалось…
Скучая, в кают-компании поговаривали о конце войны:
– Выдохлась Россия-голубушка, да тут еще и «товарищи» подгадили. Бить за пораженчество надо, но при свободе нельзя уже бить! Говорят, в стране голодают. Что за чушь? Чтобы обжорная Россия да голодала – эту сказку про белого бычка в Берлине придумали. А те, кто вопит о нуждах народа, это германские агенты… Вообще, если бы не революция, в этом году были бы уже в Берлине! У немцев нехватка во всем. Я вон читал: даже трубы траншейных минометов они стали делать из прессованной фанеры.
– Быть того не может! Как же из фанеры?
– По окружности проволокой обмотают и… палят!
Лейтенант Карпенко иногда вступал в споры:
– На флоте не принято говорить о собственных жертвах. Но послушайте хоть раз речи матросов… Есть деревни, где мужики сплошь на костылях бегают. И это – женихи! Есть волости, где мужиков подчистую забрали, а бабы на себе пашут и живут с мальчишками… за гармонь, за конфеты, за бутылку водки. Господа, надо не радоваться чужой кривизне, а на себя обратиться. Война страшна еще и тем, что нравственно калечит чистоту русского человека… Это осквернение коснулось и самого чистого – крестьянства!
– Гришок, – сказал мичман Деньер, – ты как большевик. Тебя бы на эшафот исполкома, чтобы с Дыбенкой рядом… вот сюжетец.
Каперанг Антонов, осторожничая, решил подать голос:
– У вас, господин Карпенко, какие-то лишние, напрасно отягчающие вас знания… К чему они вам?
На что получил ясный ответ:
– Знания человеку двигаться не мешают – это ведь не грыжа…
– От недовольства войной можно прийти и к пораженчеству.
Гриша Карпенко извлек из кармана кителя свои новенькие погоны и приставил их к плечам.
– Вот они! – сказал. – Как был, так и остаюсь офицером русского флота. Не поражения жду, а победы… Вы неправильно меня поняли, господа. Если «Слава» пойдет в бой, я об одном буду мечтать, чтобы погибнуть за отечество, как погибли мой отец, мой дед, мой прадед… Карпенки уже сто лет качаются на палубах русских кораблей, и я своих предков не подведу…
…Уже началось дезертирство с флота. Первыми побежали монархисты-офицеры, не желавшие служить «хохлу» Родзянке. Под шум митингов утекали и матросы, которым, как они говорили, «надоело».
7
Третьего апреля на Финляндском вокзале собралось много народу.
– Скажите, а когда приходит поезд номер двенадцать?
– Гельсингфорсский сегодня опаздывает…
В двенадцатом часу ночи паровоз прикатил финские вагоны. Вдоль платформы выстроились матросы 2-го Балтийского флотского экипажа. Из третьего класса вышел Владимир Ильич Ленин, поднял над головой круглую шляпу. Раздалась команда морского офицера:
– Смирррр-на! На-а кррра-а-а… ул!
Крепкие ладони матросов отбили прием, винтовки блеснули и замерли, блестя штыками. Ленин спросил у Бонч-Бруевича:
– Это зачем? И что я должен делать в таком случае?
К нему, печатая шаг, уже подходил офицер флотского экипажа. Отдав рапорт Ленину, он произнес приветственную речь, в конце которой искренне выразил горячую надежду видеть Ленина членом Временного правительства, товарищем Керенского, Гучкова и Родзянки. Конечно, политическая инфантильность офицера флота была слишком очевидна, но Ленин вступать с ним в спор не стал. Он обратился с краткой речью к матросам, закончив ее призывом:
– Да здравствует социалистическая революция!
Коллонтай вручила Ленину цветы.
– Куда мне теперь идти? – спросил он.
Его провели в «царские комнаты» вокзала. Здесь его поджидал черный и мрачный, как ворон, Чхеидзе (одет под рабочего). Чхеидзе прочел Ленину нотацию, как должен вести себя Ленин в революционной России… Ленин обратился к собравшимся товарищам, закончив свою краткую речь теми же словами:
– Да здравствует социалистическая революция!
Площадь перед вокзалом была заполнена народом, который его ждал. Загремели оркестры. Люди пели «Интернационал».
На площади стоял броневик.
– Владимир Ильич, народ просит вас сказать…
Ленин поднялся на броневик. Он выкинул вперед руку и начал говорить – в века!
* * *
На следующий день выступал в Таврическом дворце. Тезисы Ленина так и вошли в историю как «Апрельские тезисы». Власть должна перейти в руки пролетариата. Отказ от всяких аннексий – не на словах, а на деле. Полный разрыв с интересами капитала.
– И никакой поддержки Временному правительству!
Против него выступили меньшевики.
Чхеидзе брякнул в колокольчик:
– Политическая линия Ленина ясна. Он долго не был в России и, естественно, не знаком с нашей действительностью.
– Бред! – орали из зала. – Позор марксизма…
– Долой Ленина! Он заговорился!
– Это бунтарство, ведущее в трясину анархии…
Поздно вечером Ленин, усталый, вернулся домой:
– Надя, сегодня я был в меньшинстве. Неприятное положение. Меня поддержала только одна женщина – Коллонтай…
Чхеидзе в эти дни говорил: «Вне революции остается один только Ленин…» Ах, это колесо истории! Как оно иногда забавно вращается. На одном из его поворотов далеко в сторону отлетел сам Чхеидзе и остался «вне революции».
Сейчас колесо будет раскручиваться… влево, влево, влево!
8
Артеньев получил телеграмму: сестра Ирина покончила с собой. Уже давно. И долго лежала мертвой в квартире, соседи догадались по запаху, взломали дверь с дворником… Просят выехать.
Он не успел заплакать, как дверь каюты раскрылась: явился Хатов с Портнягиным, оба с револьверами.
– Это как понимать? – бушевал кондуктор. – Все личное оружие сдали, один вы не сдали… Или вам особые указы нужны?
Давясь слезами, Сергей Николаевич сказал:
– Идиот… Сдали – у кого чести нет. У меня есть! Понимаешь, у меня есть честь… Убирайся вон, шантрапа несчастная.
Плача, он вышел на палубу. Его трясло. С мостика заметили:
– Наш старлейт ревет… чего это он?
Артеньев задрал лицо кверху:
– Сигнальцы! Не отвлекаться от рейда…
К нему подошел Семенчук и ничего не спрашивал.
– Помнишь Ирину? Ее уже нет…
Подбежал рассыльный, звеня на груди цепкой дудки:
– Господин старлейт, вас просят… командир просят.
Грапф все уже знал. На столе командира «Новика», рядом со служебными делами, лежали бумаги комитетов, офицерских комиссий и резолюции собраний… Политика задавила службу!
– Сочувствую вашему горю. Наверняка лед сойдет только к маю. Да еще в битом наплаваемся. Езжайте смело… на недельку.
В судовой канцелярии получил жалованье и отпускные из расчета по 45 копеек на день (матрос в командировках получал 5 копеек).
– На что ж я жить стану? – спросил Артеньев. – Самый последний дурак знает, что один день в Питере обходится в десять рублей. Это – без коляски, если буду на трамвае ездить…
Писарь с красным бантом поверх робы вмешался:
– Жрете вы много! В тарелку все денежки и вылетают.
– Это ты жрешь. На тебе клопов уже давить можно…
– С революционным народом так не разговаривают, – обиделся писарь.
– А как с ним надо разговаривать? Как Дейчман?
Поехал в Петроград, имея при себе оружие. Заодно повез домой первую связку книг. Сейчас на дивизии неспокойно: не немцы, так свои… на цигарки свертят! О, господи…
* * *
Петроград! – большинство петербуржцев презирало это слово, которым из побуждений квасного патриотизма заменили гордое выражение «Санкт-Петербург». Казалось, что в столице, потерявшей с приставкой «санкт» свою святость, поселилось что-то дикое и безобразное. И никогда еще Петербург – Петроград не был так порочен и продажен, как в эти дни – после февральской революции. В подвалах – притоны, кабаре, шантаны с раздеванием женщин; на улицах – ворье, жулики, спекулянты, малолетние проститутки с подмалеванными глазами, которые так и хватают тебя за рукав… «Грех – это хорошо» – вспомнились слова – Распутина.
Скорее прочь – в квартиру! Закрыться, как в каюте.
Сестра не ушла из жизни без последнего слова к нему. Артеньев как только глянул в записку ее, так сразу все понял. «Социальные» опыты окончились поганым осквернением. Он спустился к соседям ниже этажом, где жил запуганный статский советник. Попросил разрешения позвонить от него по телефону. Соединил себя с квартирой профессора Пугавина. Абсолютно спокойным голосом, и сам дивясь своему спокойствию, Артеньев пожелал Пугавину:
– Прогрессивная личность, с вами говорит известный мракобес. Я не могу сдержаться, чтобы не пожелать вам от чистого сердца: завтра же попадите под колеса трамвая со всеми своими отпрысками! Вам, как светилу, наверное, не понять, что люди есть люди, и они не подопытные лягушки… Мерррзавец!
Повесив трубку, старлейт повернулся к растерянным хозяевам. Извинился за этот разговор. Его стали расспрашивать о флоте:
– Говорят, всех убивают… это правда? Говорят, в Кронштадте проститутки теперь заседают в президиуме Совета… это правда?
– Нет, это неправда. Всего на Балтике убито сто сорок офицеров. Что же касается проституток, то Кронштадт в первую же ночь восстания занялся их выселением из крепости…
– И куда же? Куда их выселили?
– Известно куда – к вам, в столицу…
Поднявшись к себе, долго стоял в прихожей, размышляя. Вопрос отныне не стоял для него так: «Когда кончится война?» Вопрос был погружен в глубину: «Когда закончится все?» По улице прошел какой-то пьяный, раздрызганный юнкер, громко распевая:
А-афицер выходит в ямбургцы, в ямбургцы! в ямбургцы!«Не вовремя ты выходишь в ямбургцы», – подумал о нем Сергей Николаевич. Из громадной квартиры еще, кажется, не выветрился сладковатый запах тления. Он открыл все форточки и ушел. На улице спросил солидного господина-прохожего:
– Очевидно, вы истинный петербуржец. Я тоже… Сейчас в городе все смятено. Все непонятно. Я с флота… Хотел бы немножко встряхнуться. Забыться. Подскажите, где это можно сделать?
Господин (истый петербуржец) взмахнул тростью:
– Встряхнуться сейчас на старый лад допустимо только в «Астории». Поверьте моему опыту, что только там еще знают толк в пулярке, обжаренной в хрустящем горошке. Наконец, в погребах от мсье Террье, кажется, еще остался портвейн, который родился в тот год, когда мой прадед участвовал в Венском конгрессе.
– Благодарю, – откланялся Артеньев.
– Поспешите, юноша! Жизнь столь скоротечна, ее сладкие мгновения считанны. Пейте до дна веселия чашу, пока старость еще не охладила ваших членов…
Сразу видно, что это старый петербуржец!
* * *
Как будто кто-то шаловливый передвинул стрелки времени – назад, через годы войны, через дни потрясений и убийств…
Сиянье люстр и зыбь зеркал Слились в один мираж хрустальный, И веет, веет ветер бальный Теплом душистых опахал…– Как же дальше? Я забыл. Все забыл… Нет, помню:
Похолодели лепестки Раскрытых губ, по-детски влажных, И зал плывет. Плывет в протяжных Напевах счастья и тоски…Он осмотрелся. На гноище старого мира Петербург сохранил красоту женщин. Не женщины – королевы плыли перед ним, зажмурив глаза, в сиянии бриллиантов, в искрометных мехах. Это не его королевы. Он смотрел на них вполприщура, как глядят на чужую пищу, чтобы не оскорбить аппетита людей, поглощавших ее!
Моя королева далеко… в Либаве. А ведь я там был счастлив. Почему в жизни всегда так: прожитый день, обыденный и серый, по прошествии времени вдруг обретает яркую красочность?
Он опьянел. Одинокий, он разговаривал сам с собой. Иногда это очень полезно – поговорить с самим собой. Вслух, как идиот… Мимо него протиснулся коренастый господин в штатском, которого Артеньев узнал сразу. Это был тот самый полковник-хам из разведки, который два года назад сказал ему, что он, Артеньев, стал мешать. Рядом с ним, вся в нежных муслиновых шелках, храня на губах ангельскую улыбку, прошла мимо его королева…
Артеньев резко встал. Артеньев резко сел.
– Любезный, – подозвал он официанта, – мне чрезвычайно нравится эта дама. Рядом с нею какой-то… муж, что ли? Передай эту записку даме. Незаметно, чтобы только ей, только ей…
Клара что-то ела. Что-то пила. Далекая. Недостижимая.
Официант вскоре вернулся, принеся карточку вин.
– Сейчас открыли марсалу. Удостоверьтесь на третьей странице.
На третьей странице – почерком Клары:
«Не вздумай подходить. Ты будешь мешать. Завтра к шести. Каменноостровский. Большая аллея, 14. Не надо раньше. Целую. К.»
Он допил вино и покинул ресторан.
– Эй, извозчик! Вези меня в каюту… закрыться!
На следующий день поехал на Каменный остров. Особняк был отстроен в стиле модерн, с узкими софитами окон. Двери открыла горничная. Молча, сунув руки под фартук, проводила на второй этаж. От большого камина в нижнем холле истекало приятное тепло. Пушистый ковер устилал пологую винтовую лестницу.
– Здесь, – сказала горничная и удалилась, не любопытная.
Клара сидела на полу. Учила пить молоко с блюдца маленьких котят, у которых мелко тряслись тощие хвостики. Не спеша женщина поднялась с ковра, прошла к креслу и села.
– Проходи… Сегодня я выступаю в несколько иной роли. Уже не кельнерша, как ты видишь, а богатая дама.
– Отчего ты здесь, в столице? И почему ты стала богата?
– Я получила большое наследство. Чтобы пресечь, дорогой, твои неизбежные вопросы, сразу же сообщаю, что это наследство в корне изменило всю мою жизнь. Впрочем, хуже я не стала…
– Как дочь? Она здорова?
– У меня нет никакой дочери.
– Не понимаю. А разве в Либаве…
– Какая дочь? Разве ты видел у меня дочь?
Артеньев пожал плечами. Спорить не стал. Он, действительно, слышал о дочери Клары, но никогда не видел девочки.
– Скажи, тебе понравился мой особняк?
– Вот уж никак не думал, что он твой.
– Я его купила. По случаю. А сейчас покупаю имение.
– По какой губернии? – вежливо спросил Артеньев.
– По Виленской. Здесь живет одна графская семья поляков-беженцев. Они дали в газете объявление… Я решила взять!
– Там, в Виленской, немцы, – сказал Артеньев.
– Не вечно же они там будут. Меня немцами не испугаешь. Садись. Хочешь, я покажу тебе зимний сад? Мы поужинаем в саду…
Она ловко подхватила с полу котенка, нежно его лаская.
– Клара, ты – шпионка!
– Какое милое создание, – забавлялась Клара с котенком.
– Клара, ты разве не слышала, что я тебе сказал?
– Слышала. А разве это дурная профессия?
Сергей Николаевич был поражен, что она согласилась с ним и даже не стала допытываться – как он это установил. На самом же деле он проанализировал связь между событиями и сегодня утром окончательно уверился в этом…
– Ты разве уходишь? – спросила Клара, отшвырнув котенка.
– Я, моя милая, человек военный. Привык иметь дело с врагом лицом к лицу с ним, и… Прости, но я считаю, что шпионаж – это дело нечистое. Я ухожу не от Клары Изельгоф, я покидаю женщину, имени которой не знаю.
– Значит, я грязная? – спросила Клара, приближаясь.
Удар пощечины ослепил его, как вспышка магния.
– Получи ты, чистый воин! – сказала женщина. – Вы, – с презрением заговорила она, – вы хвастаетесь, если вам удается добиться накрытия. Три процента попаданий – об этом вы болтаете, как о подвиге. А теперь посмотри на меня. Я, слабая женщина, в одну ночь могу послать на грунт эскадру кораблей… А вы так можете? – спросила Клара на высоком крике. – Нет, так никто не может… Только я могу, я… грязная тварь!
Она вернулась в кресло и произнесла спокойно:
– А теперь ты сядь. И больше не дури.
Сергей Николаевич покорился, говоря:
– Но могу ли я верить, что ты сохранила себя в чистоте и святости за это время нашей горькой разлуки?
Неожиданно Клара бурно разрыдалась:
– Клянусь богом, сейчас я чище, чем когда-либо…
Артеньеву вдруг стало безумно жаль ее:
– Клара, я осатанел за последнее время. Я устал. Прости меня, Клара, я сам понимаю, что спросил глупость. Не мне тиранить тебя. Но, если ты хочешь, чтобы я чувствовал себя свободным, поедем ко мне…
– Тебе здесь не нравится?
– Пойми меня правильно и не обижайся: я верю, что ты купила этот особняк, он твой, но ты в нем какая-то не моя…
И была у них ночь в пустой квартире, где в тишине потрескивал паркет. Было очень холодно, Клара с ужасом забралась под ледяное одеяло, и среди ночи Артеньев не раз вставал, чтобы подбросить дров в печки. Красные отсветы бродили по комнатам…
– Я тебя все время бужу? – извинялся он.
– Ой, что ты! Буди. Мне нравится, когда печки топят дровами. А в Либаве, знаешь, торф или уголь… так надоело!
Он приник к ее уху и спросил тихо:
– Скажи, Клара… как тебя зовут?
– Называй как угодно. Все равно ошибешься…
Утром промерзлая квартира наполнилась уютным теплом. Когда человеку за тридцать, ему необходимо жениться, и Артеньев испытал огромное удовлетворение от того, что квартира не пуста, на его кровати сидит прелестная полураздетая женщина, закручивает волосы на затылке и роняет шпильки на пол… Он спросил ее:
– А во имя чего ты жертвуешь, Клара? Ты думала?
– У меня один идол – Россия, которой я служу. Сейчас все словно помешались. Кричат о партиях, блоках. Мне это смешно. Я признаю только одну партию – русский народ!
– Таких, как ты, теперь называют националистами.
– Мне это безразлично. А чем плохо любить народ, к которому принадлежишь? Ты меня еще мало знаешь, Сережа. А ведь я способна на любое преступление, могу пойти на любую низость, только бы России было выгодно… На плаху тоже! – сказала она, уронив шпильку.
Артеньев лазал в печные трубы, закрывал гремящие заслонки.
По самый локоть испачкал он руку в саже.
* * *
Случайно встретил на улице Колчака.
– Его вызвал к себе Гучков… Мы поговорили с адмиралом вполне доверительно. Он меня знает по дивизии. Я сказал ему о своих осложнениях с командой. Колчак предложил мне перебраться в Севастополь. Обещал сразу дать кавторанга и сделать флаг-офицером…
– Не нужно, – охладила его Клара. – У вас на Балтике все кончается, а на Черном все еще только начинается.
Артеньев послушался ее, как муж слушается жену:
– Тогда остается Балтика… и мне завтра уезжать.
– Сейчас в Ревель?
– Да. Затем и дальше – до рейда Куйваст в Моонзунде…
– Моонзунд, вот проклятый Моонзунд! – неожиданно пылко произнесла Клара. – Я чувствую, что проблема этого пролива будет разрешена в нынешнюю навигацию.
– Ты что-нибудь знаешь точно?
– Отчасти догадываюсь. Это нетрудно… На флоте анархия, мы ослабели, в Финский залив немцы уже не рискнут сунуться после гибели Десятой флотилии. Для них один выход – стремиться через Моонзунд… А меня, кажется, опять пошлют туда. По всем правилам, меня бы не должны направлять к немцам, но людей не хватает. Надо ехать. Я и сама знаю, что надо…
Был хороший вечер, уже повеяло весной, когда она его провожала на вокзале. Он стоял в тамбуре, и Клара сделала несколько шагов за уходящим поездом.
– Мы еще встретимся, – торопливо говорила она…
Артеньев возвращался в Ревель как из сладкого сна. На «Новике» было как-то одичало-пустынно. У трапа попался Хатов.
– У-у, приполз, долгоносик, – вонзилось в спину Артеньева.
9
Колчак провозглашал в Севастополе здравицу за свободу и демократию грядущего мира… Куда там до него Вирену или Непенину! На революции он еще больше укрепил свой авторитет среди черноморцев. И флот пошел за ним – слепо и глухо. Здоровенные бугаи-братишки на своих руках выносили Колчака из автомобиля. Перли его на трибуну. А после речей несли обратно в автомобиль, крича во всю глотку: «Весь мир насилья мы разрушим… во мы какие!» Колчак обратил комитеты флота в придатки своей канцелярии. Черноморский флот посылал проклятья флоту Балтийскому. «Предатели, – доносилось из Севастополя до Кронштадта, – в этот грозный час… не бунтовать, а воевать надо!»
Адмирал прибыл в столицу, когда здесь назревал кризис. Политический – после речи Милюкова. Историк в ноте своей, обращенной к Антанте, заверил союзников, что Россия остается верна прежним договорным обязательствам. Особенно Милюков нажимал на Босфор и Дарданеллы – «глотку», воспетую даже поэтами:
Олег повесил щит на медные ворота столицы цезарей ромейских, и с тех пор Олегова щита нам светит позолота и манит нас к себе недремлющий Босфор…Столичный гарнизон сразу взбурлил: «Долой Милюкова!»
– Кто кричит? – вопрошал Гучков. – Сто двадцать тысяч негодяев, которые окопались в тылу столицы и боятся войны!
– Так отправьте их на фронт, – рассудил Колчак.
– Не можем. Они взбунтуются. Лучше уж пусть кричат…
Гучков опять болел, и на частной его квартире решались судьбы войны. Здесь же собиралось для совещаний и все Временное правительство – у постели Гучкова. Народ демонстрировал перед Мариинским дворцом – пустым. Протесты сыпались в окна, за которыми их никто не выслушивал. Требование убрать Милюкова, как говорил тогда Ленин, было «противоречивым, несознательным, ни к чему не способным привести…». Но кризис уже определился, осложняя в стране обстановку, и без того архисложнейшую и запутанную…
– Александр Васильич, – говорил Гучков адмиралу, – наше правительство чрезвычайно довольно вами. Отлично вы справились с черноморцами! Теперь мы желаем, чтобы вы взяли под свое начало и Балтийский флот… Вы уже имеете опыт общения с массами.
– Я готов хоть сегодня поднять флаг в Гельсингфорсе, – сказал Колчак министру. – Но я не выдержу борьбы с большевиками. Я охрип от митингов Севастополя, здесь я могу изойти в крике – в успех не верю. Офицеры говорят, что надо ожидать рецидива резни…
В спальню министра вошел контр-адмирал Кедров. Бывший командир «Гангута» и флигель-адъютант, Михаил Александрович состоял теперь помощником по морделам при Гучкове.
– Прибыл комфлот Максимов с делами по Балтийскому флоту. Море стало освобождаться ото льда… Прикажете допустить?
– Нет! – вскрикнул Гучков. – С адмиралами, которые поддерживают демагогию ослепленных масс, я иметь дел не желаю.
Кедров в смущении перетопнулся, развел руками:
– Что ему сказать?
– Скажите, что министр отбыл… придумайте что-либо.
Кедров умоляюще глянул на Колчака, но тот отвернулся.
– Александр Иваныч, неудобно. Выборный или назначенный адмирал, но флот-то открывает сейчас военную навигацию.
– Видеть Максимова не могу! – заключил Гучков.
Кедров вышел в прихожую, где с папками «к докладу» поджидал приема командующий славным Балтийским флотом.
– Андрей Семеныч, министр дома. Но велел мне соврать, что его нету… Не осуди меня. Гучков не верит тебе.
Максимов сердито запихивал свои папки в портфель.
– Знаю. Мне вредят. Я перешел на сторону народа. Меня уважают матросы. Сейчас флот исходит в вопле: «Долой министров-капиталистов!» Я молчал. А завтра буду кричать это вместе с ними…
После его ухода Кедров приник к двери спальни. Послушал.
– Вам будет трудно, – говорил Гучков. – «Декларация прав солдата» учит солдата, как быстрее развалить армию. Флот уже в брешах. Немцы лезут. Мы задыхаемся. Я болею… Не хотите спихнуть Максимова, мы сами его спихнем. Ладно, езжайте в Севастополь, и мы будем уверены, что хоть черноморцы сохранят флот.
– Конечно, трудно, – соглашался Колчак. – Кто-то пустил слух, будто я богатейший хлебный помещик. Босфор нужен для меня, чтобы я имел прямой вывоз зерна за границу. Пришлось мне взять два чемодана, которые я вывез из Либавы, и выйти с ними на митинг. Перед всем флотом я открыл чемоданы, откуда посыпались тряпки жены, игрушки сына, семейные фотоальбомы и прочая ерунда. «Вот, – сказал я Севастополю, – любой из вас имеет больше моего!» Я дал им представление, как у Чинизелли, и пожар на время потушен.
– А что вам сказал Родзянко при встрече?
– Он посоветовал мне обратиться к Плеханову. Но я сомневаюсь, стоит ли мне общаться с лидером Второго Интернационала?
– Вполне стоит… Георгий Валентинович здравомыслящая единица. Сейчас он вернулся из Италии, где залечивал свой туберкулез, и он примет вас… примет! Он очень недоволен большевизмом, особенно его возмутили тезисы, которые выдвинул Ульянов-Ленин.
– Итак. Плеханов? – спросил Колчак; было слышно, как скрипнул под ним стул, и Кедров отскочил от двери; Колчак вышел из спальни министра, сказал: – Миша, не дашь ли ты мне свой автомобиль?
– Бери, Саня, – ответил Кедров. – Желаю тебе удачи…
Плеханов тоже болел – так уж случилось, что Колчак все время встречался с людьми нездоровыми и сам чувствовал себя прескверно. На пустынной холодной даче в Царском Селе, кутаясь в халат, Плеханов встретил Колчака.
– Я счастлив видеть вас, мой доблестный адмирал! Знаете ли вы, какое историческое значение имеет ваша активность в борьбе за проливы? Отказаться сейчас от Босфора и Дарданелл – все равно что жить с горлом, которое зажато вражескими руками. Садитесь. Что вас привело ко мне?
Колчак объяснил: против большевистской агитации флот нуждается в контрагитации, выводящей корабли из череды митингов в череду сражений за победу. Насильственным методам борьбы еще не пришло время. Пока требуется слово, переворачивающее в черепе мозги, и слово за вами, знаменитый маэстро, прославленный в политических деяниях, а я – не политик, я послушаю, что вы скажете…
– Увы, – сказал Плеханов, – я изжил самого себя. Приехал вот. Говорю: «Плеханов», а на меня глядят, как на покойника. Иные же спрашивают: «Плеханов? А какой это Плеханов?» Меня забыли… я чужой. Сейчас другие имена. Их знают. Им верят… Чем же я могу помочь вам, если события управляют правительством, а не министры событиями? Говорят, опять протестация. Опять стреляют… Кризис! Не успели обогреть гнездышка, как птенцов уже разбрасывает буря. Масса стала требовать обновления кабинета в сторону левизны…
Колчак убедился, что Плеханов действительно помочь флоту не сможет.
В автомобиле Колчак долго думал, потом сказал шоферу:
– Обратно – на Мойку.
В столице уже вовсю трудился командующий столичным округом генерал Корнилов. Недавно он лично пришел арестовать царицу и этим доказал свою «демократичность». А сейчас по приказу Корнилова выкатывали на площади пушки, чтобы расстреливать народ. Надо думать, что и в этом деле он останется «демократом». Колчак проезжал мимо бунтующих толп, клаксон ревел, никого не пугая. В окна автомобиля заглядывали разные прохожие.
– А это еще кто такой? – спрашивали.
Вид адмиральских эполет был необычен (уже отвыкли).
– Я адмирал Колчак, – говорил Колчак. – Пропустите меня. На Черном море погоны не сняты, у нас такого хамства не знают…
У Гучкова собрались министры, явился генерал Корнилов.
– Пушки готовы, дайте только согласие, и я начну!
Керенский возвышенно объяснил Корнилову:
– Наша сила в моральном воздействии на массы. Применить вооруженную силу – значит вступить на прежний путь насилия…
Итог подвел Милюков:
– Мы можем говорить и решать здесь что угодно, но закончится все тем, что наша корпорация очутится в Крестах или в Петропавловской крепости… Там мы, господа, запоем иные романсы!
Керенский обещал Колчаку своих агитаторов.
– Но и вы, адмирал, прилагайте посильные старания…
Колчак смотрел всем прямо в глаза – как беркут на солнце, не мигая. Древняя кровь ногаев еще просвечивала в смуглоте адмиральских скул. За спиною Колчака чудилось хищничество Батыя, слышались пения татарских стрел в давних сечах. Колчак, по сравнению с этими болтунами, был человеком действия. Ничто не дрогнуло в лице его, энергичном и гладко выбритом, но в запавших глазах сквозило явное презрение к сладкоглаголящему Керенскому…
– Господа, – призывал Гучков, – прошу вас к моему столу!
Стол был первогильдейский: сочные балыки и розовые ломти семги; грибки соленые и маринованные; аппетитно пузател бочонок с икрой, под водку охотно ели министры селедку. Колчак выпил стопку рябиновки и, не закусив, ускользнул… С улиц кричали: «Долой Милюкова!» Милюков перетащил к себе на тарелку балтийского угря.
– Александр Иваныч, – спросил у Гучкова, – но вы-то, голубчик, понимаете, что без Босфора нам нельзя? Нельзя нам без Босфора!
– Я вас понимаю, Павел Николаич: никак нельзя.
– Тогда нам придется уйти из кабинета… Где Колчак?
Колчак ушел по-английски – ни с кем не попрощавшись.
* * *
Севастополь бурлил: кадетские газеты сообщили, что Ленин, «разложив» флот Балтийский, собирается в Севастополь, дабы начать «разложение» флота Черноморского. Московская городская дума надеялась, что «лозунги черноморцев спасут Россию от гибели». Буржуазия носилась с черноморцами как с писаными торбами. Отличившихся в боях награждали уже не деньгами, не крестами, – им вешали на грудь кулоны, бриллианты, сапфиры и яхонты.
Колчак еще в поезде обдумал, как из Севастополя удобнее ломать шею Кронштадту. Для начала он выступил на митинге:
– Германия смотрит на русских, как на навоз для удобрения германских полей. Я читал Трейчке, я знаю… Сентиментальности в политике не существует, – Милюков был прав, когда подтвердил верность старым договорам. Если немцы победят, Россия будет расплачиваться не только унижением. Хлебом, салом, спиртом, золотом! Гинденбург вернет нашу страну в первобытное состояние Московии, когда вокруг Москвы ютилось несколько городов… так уже было! Балтийцы – негодяи, продались немцам за деньги, а вы, бравые черноморцы, должны делом заставить балтийцев воевать.
Он был зорок, и он присматривался. Флаг-офицеры брали нужных людей на заметку. Скоро Колчак составил громадную (в 300 человек) делегацию от Черноморского флота, и матросы-ораторы поехали по всем фронтам, разнося боевой клич к переходу в наступление. Адмиралу особо понравился студент Федя Баткин, он его приласкал:
– Вам бы жить в Древней Греции… в Афинах, юноша! Но у нас тоже завелись Афины. Я говорю о Кронштадте… Не рискнете?
– Я же не матрос. Меня кронштадтские освищут.
– Зачисляю вас в Черноморский флот… матросом!
Федор Баткин (лжематрос) поехал на Балтику, ближе к «Афинам». Момент для погромной агитации был удобный. Ленина как раз стали открыто обвинять в том, что он тайный германский шпион.
Делегацию черноморцев встретил сам Керенский.
– Вылечите от безумия Балтийский флот, – истошно призывал он колчаковцев, – и родина никогда уже вас не забудет!..
Керенский верил в магическую силу словосочетаний, брошенных навзрыд в орущую и приседающую в истеричности толпу. Ему казалось, что на словах только и держится вся революция, и отними у нее слова – революция распадется, как дом бабы-яги, из-под которого выдернули куриные ножки. Керенский расщедрился: агентам Колчака выдали 25 миллионов рублей. Каждому – по «Георгию»: красуйтесь на здоровье. Их пламенно целовал плачущий Родзянко:
– Ваши лозунги – это святые слезы поруганной отчизны…
В цирке Чинизелли была устроена проба голосов. Для затравки на арену выпустили послов Франции и Англии – Палеолога и Бьюкенена. Говорил Керенский – с истерикой, Брешко-Брешковская – с плачем, министр-социалист Вандервельде – с тигриными воплями, Алексинский – с клеветой на Ленина. Матросы толкнули Баткина:
– Федька, твоя очередь… прыгай!
Баткин черной пантерой выскочил на арену. Экзальтированный. Худущий. Крикливый. Хитрый. Вот именно таких ораторов и просил Колчак у Плеханова… Баткин заговорил. Один матрос-большевик с крейсера «Диана» вспоминал позже о Баткине: «Надо отдать ему должное – говорил он здорово, оратор был – хоть куда!»
Выдержат ли балтийцы этот натиск? Не пойдет ли Балтийский флот на поводу у Колчака? Неизвестно… Но черноморские делегаты осмелились задеть имя Ленина, и это решило их судьбу.
* * *
Гельсингфорс, – волна речей нахлынула на базу линейных сил и разбилась, откатившись назад, вся в черных помойных брызгах.
Ревель, – лавина клеветы опрокинулась на минно-крейсерскую базу, разлилась над причалами и улицами, мутно вскипая и пузырясь, и отошла с шипением – обессиленная.
Кронштадт… Ну, тут просто кричали Баткину:
– Где ты «Георгия» отхватил? Пройдись-ка по трапу…
По трапу Баткин спускался задом, а не лицом к крутизне, как делают все моряки. Он был фальшив насквозь и погубил себя окончательно, когда благородный морской гальюн назвал… уборной. Черноморцам-колчаковцам в Кронштадте кричали в лицо:
– А тебе все мало? Или больше других Босфору с Дырданеллами захотелось? Могим по блату устроить… и в бумажку завернем!
Кончилась «агитация» потасовкой – на кулаках…
Резолюция Балтфлота: «Обратиться к матросам Черноморского флота с просьбой расследовать действия своей делегации и те пути, по которым она идет в своей агитации…»
Колчак потерпел от большевиков свое первое поражение.
Павел Дыбенко рассуждал в эти дни:
– А теперь мы отправим свою делегацию на Черное море. Матрос с матросом всегда столкуются, самое же главное – Колчака надо разрушить! Ох и хитер адмирал… Голыми руками печку горящую по флотам таскает, и даже не обжегся ни разу.
* * *
Россию трясло, било и мотало, как корабль, работающий машинами «враздрай» (левая машина – вперед, правая машина – назад).
Финал к побудке
В середине мая дредноуты еще раскалывали в Финском заливе глыбы битого пузырчатого льда – лето выдалось запоздалое. Потом как навалилось над Балтикой солнце, плавя серые льдины, расквашивая смолу в пазах корабельных палуб, – и началось жаркое лето, лето 1917 года…
Через Галерную на Английскую набережную вышли матросы. Хорошо они шли и красиво. Мотало клеши врасхлест, ветер взвивал над шеями косицы ленточек, в ладонях – крепких и сильных – покойно, как в люльках, лежали приклады винтовок. И гудела мостовая от их дружного шага, – Нева текла мимо, дома мимо, прохожие мимо.
– Ать-два… ать-два!
И вдруг, раскинув руки, перед колонной встала женщина:
– Стой, матросы… стойте! Выслушайте меня…
Брякнули приклады на торцы мостовой, и стало тихо.
Женщина умоляюще протягивала к матросам руки.
– Спасите, – просила она, – только вы… одни вы можете!
На улице говорить о своей беде она стыдилась. Матросы привели женщину на корабль. Собрались всей командой в жилой палубе, сверху были откинуты люки, и невские чайки кричали в синеве.
Женщина сказала им, рыдая:
– На вас моя последняя надежда! Сколько я ходила, сколько слез выплакала, была и в синоде святейшем – отказывают. Измучилась я со своим извергом-мужем… не люблю его! – выкрикнула она с лютостью. – Терпеть его не могу… ненавижу, слюнявого!
Председатель ревкома корабля поднялся над столом:
– Товарищи, тонкая деликатность вопроса вне всяких революционных сомнений. А впрочем, мадам… что вам от нас нужно?
И женщина ответила, глотая слезы:
– Только вы, матросы, способны развести меня с мужем!
Никто не удивился – к просьбе этой отнеслись серьезно.
– И только-то? Вот чепуха… Это мы вмиг обтяпаем.
– Эй, рассыльный! – позвал председатель. – Тащи сюда из писарской корабельный бланк, чтобы по всей форме…
Женщина с благоговением наблюдала, как ползет перо по бумаге, вырисовывая на ней, коряво и неказисто, но искренне, долгожданные слова:
СПРАВКА.
Дана в том, что гражданка… разводится с мужем, которого она терпеть не может. В дни назревшей лучезарной свободы не потерпим издевательства над свободою личности, тем более – женщины. И заверяем этой справкой все российское население, включая сюда и родственников пострадавшей, что тиран-муж может быть вполне спокоен. Ему жены не видать как своих ушей. Жена его вполне уже созрела для свободной любви нового мира. Да здравствует революция! Смерть угнетателям и поработителям!
– У кого печать комитета? – спросил председатель.
Бац – печатью по справке: готово!
– Держи, гражданка. Ты тока не пугайся, отныне ты от постылой любви избавлена. Посмотри на нас, красавцев, и выбирай любого.
Она плакала от радости, а матросы ее утешали:
– В случае, если он снова к тебе под борт причалит, ты его к нам присылай. Мы твоего паразита навек от любви отучим!
– Чего уж там! Мы ему, гражданка, так по шее накостыляем, что он своих не узнает. Будь спокойна – мы не трепачи какие-нибудь.
И верили, что способны быть справедливы и мудры:
– Мы все можем!
По солнечной набережной уходила женщина, прижимая к своей груди бумажку с ярко-синей корабельной печатью.
Ветер был чист и прохладен. Пьянило. Дурманило…
* * *
Буржуазная революция – вещь легкая, ненадежная.
Как и та справка, которую выдали этой несчастной женщине.
Часть пятая
Прелюдия к кризису
Кронштадт… он был какой-то новенький, совсем не такой, как раньше, в дореволюционное время, словно ему надо было пролить кровь нескольких сот человек, чтобы обновиться, помолодеть, расцветиться радужными надеждами.
И. Ясинский. Роман моей жизни«Виола», легкая как скрипка, посвечивая бортами, купается в усыпляющем плеске. 1 мая 1917 года над кораблем подняли красное полотнище, в центре которого два скрещенных якоря, а по углам – четыре буквы: «Ц», «К», «Б» и «Ф», что означает – Центральный Комитет Балтийского Флота (сокращенно – Центробалт). Это был искристый кристалл в насыщенном растворе, который притягивают к себе все активные элементы…
В президиуме – Павел Дыбенко, матрос с транспорта «Ща».
– Ну, вы меня все знаете, – говорит он при знакомстве и сует цепкую клешню руки, прожигая насквозь своими глазищами.
Двоевластие в стране – Совет и Правительство.
Двоевластие на Балтике – Центробалт и Командование…
По ночам на трепетной «Виоле» – писк, визг, беготня по спящим людям – это крысы, в которых Дыбенко швырнет ботинками.
– Стрихнину вам мало, что ли? – кричит он.
В составе Центробалта 33 депутата, только 12 членов РСДРП(б). Остальные – эсеры, меньшевики, анархисты. Есть и офицеры, которые желают добра, видят это добро в революции, но еще многое неясно для них. Они скользят по поверхности революции, боясь окунуться с головой в ее бушующие недра. Они только «сочувствующие», и спасибо им за это сочувствие…
Флот раскололся на куски, как перезрелый арбуз, который трахнули об мостовую, – каждый корабль вырабатывает на митингах свои местнические решения. Центробалт должен, как пуповина, связать воедино разорванные артерии Балтики, насыщенные бурной кровью, которая вскипает от сумбура событий. Взволнованная страна ждет созыва Учредительного собрания, которое, казалось, разложит по полочкам все чаяния народа. Центробалт мечтает о созыве первого общебалтийского съезда… Как при этом поведут себя офицеры?
Ревель – столица кораблей быстроходных, часто рискующих. Они принимают на палубы и мостики тонны воды; жестокие ветры съедают кожу, наливают одурью глаза. Порывисты и резки, крейсера и эсминцы накладывают отпечаток и на свои команды. Может, оттого-то ревельские офицеры стали действовать активнее других. Там верховодил Дудоров, начальник Балтийской Воздушной дивизии. Дыбенко еще раз перечитал резолюцию съезда офицеров Ревеля:
«Под влиянием неправильно понятой проповеди борьбы с буржуазией, которую ведут среди матросов идейные люди, все офицеры, несмотря на то, что большинство из них фактически принадлежит к интеллигентному пролетариату, считаются буржуями, против которых надо бороться…»
В какой-то степени так: сыновья врачей, педагогов, мелкотравчатых чиновников – вряд ли они станут врагами народа. Но выборности не признают и грозят Центробалту бойкотом. «Выборное начало командного состава в армии и флоте вообще ведет к разрушению военной силы, во время же войны проведение этой реформы является изменой…» Крепко загибают крейсера и эсминцы!
Большие черные крысы скачут через Дыбенку. Среди ночи он вынимает из-под подушки громадный наган, открывает пальбу:
– Надоели вы мне…
* * *
Как дети малые, играли матросы со свободой, и эти игры становились порой опасны. Опасны для них же – для самой революции! За бастионами фортов, отрезанные морем, кронштадтцы варились в собственном соку, и сок бродил, грозя закваситься микробами анархии, вредными бациллами самочинств и самостийности.
Арестованных офицеров Кронштадт держал в тюрьме. В листовках писали: «Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет…» Все это так. Но комендант тюрьмы, выбранный из матросов, каждодневно обучал офицеров пению революционных песен. Какой-нибудь каперанг, прошедший через Цусиму, по первому приказу коменданта вскакивал и услужливо запевал:
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут…А в глазах стояли слезы. Это было уже издевательство над человеком, но кронштадтцы, ослепленные днями свободы, этого не понимали.
– Мы же пели для них «Боже, царя храни», пусть и они теперь стараются.
Кронштадтцы «драили» свой город, как медяшку перед смотром, как поясную бляху перед любовным свиданием. Город засверкал! Попался ты пьяным – всыплют так, что забудешь опохмелиться. Алкоголиков наказывали полной конфискацией имущества. Плачь не плачь, а последний стул из-под тебя выдернут и в клуб утащат. По вечерам, в море разноцветных огней, подсвеченная с моря прожекторами, Якорная площадь кишела митингами, где каждый говорил что хотел. Чтобы пресечь вздорные слухи в народе, Кронштадт (впервые за всю историю свою) открыл ворота, приглашая к себе гостей.
И потянулись паломники, как пилигримы ко святым местам. Город-крепость поражал людское воображение. Но порядок был идеальный. И при посещениях тюрьмы арестанты в офицерских мундирах дружно пели – по приказу коменданта:
Вставай, проклятьем заклейменный Весь мир голодных и рабов…Прибывшие в Кронштадт экскурсанты дружно подхватывали…
Это была уже профанация.
* * *
Линейный корабль «Республика» – (бывший «Император Павел I») прибыл в Ревель под красным знаменем. На бортах его был растянут лозунг: «Вся власть Советам!»
Словно того и ждали крейсерские – кинулись на линкор с кулаками, сорвали с мачты «Республики» красный флаг и, вместе с лозунгом, разодрали его в мелкие клочья.
Здесь, на крейсерах, были сильны авторитеты не только эсеровские. На крейсерах чтили Плеханова с его «Единством», крейсерские Керенского за брата считали:
– Сашка-то сказал… А наш Сашка Федорыч не так учит!
Когда откроется Общебалтийский съезд, из Ревеля придут на рейд Гельсингфорса серые, будто обсыпанные золой, крейсера – «Олег» и «Богатырь» с «Адмиралом Макаровым». Защитники министров-социалистов, они сдернут чехлы со своих орудий.
Ты, товарищ, с докладом своим выступай. Ты, товарищ, декларируй себе в удовольствие. Ты резолюцию пиши, конечно. Но все-таки в окно поглядывай… Вот они – крейсера! Вот их калибр!
…Согласия не было. Его предстояло завоевать. В драках. В спорах, когда от ярости из глаз сыплются искры.
Близился кризис.
Кризис
Вердеревский: Я вижу, что развал идет полным ходом. «Петропавловск» вынес резолюцию с ультиматумом Временному правительству убрать 10 министров в 24 часа и постановил бомбардировать Петроград, если это требование не будет выполнено… «Слава» отказывается идти в Рижский залив… Я уже не говорю о доверии к себе. Теперь, в таких серьезных событиях, личности тонут…
Протокол беседы адмирала с Центробалтом1
Опять они уходили – «Новик» отдавал концы… Дунуло ветром слегка. Качнуло эсминец справа. Вот и море!
– Слава богу, – перекрестился Артеньев. – Здесь митингов нет, и брататься корабли еще не умеют. Это тебе не солдаты.
Сунул в карман кителя блокнот, обошел нижние отсеки:
– Товарищи, подписывайтесь на «заем свободы»… Ну? Кто даст? Портнягин, тебя на пять рублей подписать можно? Не похудеешь?
Качнуло еще раз, и матрос уперся сапогами в палубу.
– Чего, чего? – спросил, потускнев лицом.
– Ну, три рубля. Будешь подписываться?
– Нет. На кой?..
Поход продолжался. От носа до кормы. Никто не жертвовал денег на продолжение войны. Артеньев вернулся на мостик, уже весь мокрый от брызг, косо взлетающих из-за борта, и там отряхнулся.
– Хоть бы дали мне кавторанга, и уйти с этой собачьей должности. Визгу много, а шерсти мало, как от поганой кошки…
Балтийский флот вступал в новую полосу испытаний, для многих неприятную: стали тасовать офицерские кадры. Для офицеров чистка кают-компаний была как жупел… Куда денешься?
«Новик» пролетал за Гангэ, берега едва белели вдали.
– За себя я спокоен, – зевнул Грапф. – Меня чистка не коснется, ибо я вступил в демократический союз офицеров… А вы?
Артеньев поднял к глазам бинокль, чтобы не отвечать сразу. В панорамах линз серебристо струилась морская тишь, косо и безнадежно мазнуло по горизонту клочком паруса. Над рыбным косяком кружили чайки – словно пчелы над банкой с вишневым вареньем.
– Какой я политик? – ответил старшой. – Впрочем, если меня выбросят с флота, это станет трагедией всей моей жизни. Буду на Невском, весь в орденах, продавать спички… поштучно!
Неожиданно он вспомнил того пленного немца с крейсера «Норбург», который советовал экономить на спичках. Черт побери, а ведь он был прав тогда – спички на Руси пошли на вес золота, а дрова в Питере ценились чуть ли не в бриллиантовых каратах.
– Пусть вышибают, – сказал Мазепа, – меня примет Колчак! Черноморский комплектуется из украинцев, и над его флагманом скоро уже взовьется желто-блокитное знамя великой Украинской Рады.
Из штурманской рубки с юмором откликнулся Паторжанский:
– Рада и сама не рада, что она Рада!
– Не смешно, – злобно отвечал Мазепа. – Украина способна стать великой мировой державой. Она засыплет всю Европу дешевым хлебом, даст свой уголь, свое железо, свой интеллект Пилипенок…
В белом кителечке скатился по трапу артиллерист Петряев:
– Мало вам политики, так вы еще в этот щербет навоз мешать стали. Я вот русский и знаю только одну Раду – Переяславскую!
Грапф подтянул на руках истертые старые перчатки:
– Одно могу сказать: раньше, в так называемое проклятое царское время, русский флот подобных вопросов не ведал…
Минер, поняв свою отверженность, с вызовом нырнул в люк.
– А мы вот посмотрим, – выпалил снизу, – как запоет великая Россия, когда миллион солдат-малороссов откажется за нее воевать и ногою не ступит дальше своей Украины…
«Новик», легко кренясь, шел на среднем. Артеньев машинально глянул в репитер гирокомпаса, спросил Паторжинского:
– Вацлав Юлианович, отчего мы изменили курс?
– Не меняли – сто восемнадцать.
– А на румбе – тридцать четыре.
– Может, гирокомпас у нас скис?
В низу корабля, в кардановых кольцах, гудел ротор гирокомпаса. Возле него вахтенный электрик читал Дюма.
– Ты его не ударил ли? Или перегрелся ротор?
– Нет. Точно держимся в меридиане…
На руле, невозмутим, стоял кондуктор Хатов.
– Хатов, – спросил его Артеньев, – какой был дан тебе курс?
– Сто восемнадцать.
– А на румбе?
– На румбе – тридцать четыре.
Сергей Николаевич не находил слов:
– Под монастырь нас подводишь? Куда гонишь?
– На базу, и не кричи на меня.
– Кто тебе приказывал?
– Команда устала шляться без толку, – ответил Хатов. – А ревком «Новика» плевать хотел на ваши приказы. Гоню в Гангэ…
Кулак Артеньева ловко перехватил сзади фон Грапф:
– Спокойно, Сергей Николаич, спокойно… Или вы не знаете, какие сейчас настали счастливые времена?
Артеньев в яростном бешенстве наблюдал, как наплывает на корабль финский берег. Его похлопал по плечу штурман:
– Хочешь, развеселю последним анекдотом?
– Вот самый веселый анекдот, – показал Артеньев вниз.
На шкафуте стоял механик Дейчман и подхалимски подхохатывал в окружении матросни. Было в его фигуре что-то мерзкое.
– А ведь был человек, – сказал Артеньев. – Вот до какого скотства может довести подленький страх за свою шкуру.
– Зато наш мех понимает, что тебя вот с «Новика» выкинут, а он останется. Потому что ты – сатрап, а он – демократ…
Едва зашвартовались в Гангэ, как Артеньев сразу спустился в каюту, нажал педаль на расблоке. Явился рассыльный.
– Гальванера Семенчука… быстро!
Семенчук явился. Сесть ему он не предложил, но, учитывая новые времена, и сам не садился. Расхаживал, словно зверь в клетке:
– Это ваша работа? Комитетчиков? Можно ли до такой степени разорять дисциплину? Самовольно снялись с дозорной линии и обнажили перед врагом громадный кусок моря…
Семенчук шагнул на середину каюты:
– А разве я развернул эсминец на Гангэ?
– Ты большевик, – ответил ему Артеньев. – Это ваше влияние. Кто, как не вы, замудриваете лукаво насчет ненужности войны… Вот и результат! Чего ваша левая пятка еще пожелает?..
Семенчук, не дослушав, хлестанул за собой дверью.
* * *
Жилую палубу забили матросы. Пришли офицеры, подавленные, одетые на новый манер – английский: без погон, с нашивками на рукавах, без кантов на фуражках. Сейчас их жизнь, их судьба зависят от этих зубастых и вихрастых парней, которые раньше по ниточке у них бегали, а сейчас – господа положения! – бросают окурки в иллюминаторы, кричат весело, будто собрались в цирке:
– Начинай! Кто первым номером у нас?
Заслуга Артеньева, как старшего офицера, что «Новик» не знал мордобоя, – это обстоятельство, которому раньше даже не придавали значения, сейчас, после революции, стало весьма существенным. Судя по настроению матросов, офицеры поняли, что сегодня их семья кого-то лишится… Знать бы – кого? Артеньев даже не удивился, когда поднялся Хатов и доложил собранию:
– Итак, братишки, всю нечисть, доставшуюся нам в наследство от Николая Кровавого, покидаем сегодня за борт. Чего молчите? Выдвигай кандидатуры на удаление с флота… – И сам бросил в галдеж кубрика, как бомбу: – Старлейт Артеньев – рази не деспот? Доколе же терпеть мы его тиранство станем?
– Постой, – встал Семенчук, – о старлейте потом. О нем разговор особый. Сначала профильтруем спецаков…
Грапфа не тронули как «демократа». Дружно перетирали кости минеру и артиллеристу. Решили не вышибать. Только продраили с песком и с мылом за привычку не «выкать» матросу, а «тыкать». Ладно, еще молодые – исправятся. Дейчман демонстративно отошел от трапа, возле которого собрались все офицеры эсминца. Инженер-механик решил окончательно «слиться с народом»; забился в самую гущу своих машинных да котельных, дымил оттуда (вполне демократично) козьей ножкой, даже покрикивал на офицеров:
– Ничего. Этих можно. В случае чего – поправим!
И вот тут поднялся Портнягин.
– А вот наш мех! – сказал про Дейчмана. – Как его прикажете обсуждать – за матроса или за… офицера? В котельных у нас беспорядок, только жабы еще не скачут. Кочегары изленились. Холодильники текут. А мех из нашей же махры цигарки себе крутит…
– Хоб што ему! – раздался голос. – Бессовестный!
– Верно, ребята. Зачем нам такого? Мы раньше тридцать два узла давали играючи. А сейчас? Двадцати пяти не вытянем.
– Я думаю, – сказал Семенчук, косо посмотрев на Артеньева, – такие, как Дейчман, не нужны. Флот без порядка – не флот, а шалтай-болтай. Приятелев разных мы и сами себе сыщем. Не за тем ты офицером сделан, учился стока, чтобы покуривать с нами…
Веселые скрипки запели в душе Артеньева. Он крикнул:
– Встаньте, мех! Это ведь про вас говорят…
Дейчман поднялся, крутя в пальцах бескозырку. Кителечек раздрызган, без пуговиц, без воротничка, весь в маслах едучих. Чувство золотой середины дается не каждому, нужен для этого талант. А бездарные актеры всегда переигрывают.
– Я же за вас, братцы! – провозгласил он плачуще.
И тут раздался хохот. Страшный. Издевательский.
– Гляди-ка! Он за нас… Ну, комик-зырянин! Сченушил!
– Долой его с эсминца, чтобы пайка даром не трескал. В стране бабы сидят голодные, детишки. А он жрет здесь… за что?
– Убрать с флота! Сами справимся.
– Я с вами, – взывал Дейчман, – как матрос с матросом!
– А коли матрос ты, – отвечали разумно, – так валяй в боевое расписание по графику. К форсункам вставай!
Дейчман поплелся к трапу, и офицеры расступились перед ним, как перед прокаженным. Один вылетел из их компании. Что ж, решение справедливое. А сейчас будет несправедливое, и Артеньев уже внутренне сжался в комок, беду предчувствуя.
– Теперь о старлейте, – настырно тащил за собой собрание Хатов. – Ведь он, когда послабление всем нам от революции выпало, гайку эту самую взял и… крутит, крутит, крутит. – Исказив лицо, Хатов показал, как Артеньев крутит гайку. – Ведь он – садист! Ведь он наслаждается, когда мы с вами дисциплинированны!
Кубрик надсаженно орал сотнею здоровых глоток:
– Давай контру за старшиґм, чтобы по всей важности…
– Контра будет! – пообещал Хатов, поворачиваясь к Артеньеву. – Вот вы нам и обрисуйте в красках свое отношение к борцу за народную свободу – министру Керенскому… Пожалте!
Артеньев скупо кашлянул в кулак.
– Видите ли, – начал с сердцебиением, – Александр Федорович – это в моем понимании – как политик пока не дал ясных решений. Он отделывается речами, которые способны удовлетворить каждого в принципе, но никого на практике. Что же касается моего личного – я подчеркиваю это – отношения к нему как к военному деятелю, то… пока он себя не проявил в этой области.
– Во! – расцвел Хатов, довольный. – Видели, как он гнусную контру плетет? Такого голыми руками за хвост не поймаешь.
– А ты бы за шею хотел его? – спросил Хатова Семенчук.
– Ответ давай, – ревела палуба, – конкретно о Сашке!
Артеньев позеленел от гнева. Стоит ли осторожничать?
– Даю ответ по существу, – объявил он команде. – К вашему Сашке Керенскому я отношусь как к жалкому фигляру… Политическая проститутка! Вот я сказал, а теперь вышибайте меня с флота!
Ему сразу стало легко. В палубе наступила тишина.
– Опять гайку законтрил, – вздохнул кто-то, будто сожалея.
Подал голос боцман эсминца – «шкура» Ефим Слыщенко:
– А чего вы в Сашку-то вклещились? Нам с Керенским не воевать, не плавать. Старшой здесь фигура, вот о нем и рассуждайте.
Неожиданно завел речь больной матрос из минной команды. Лежал он на втором ярусе стандартных коек, говорил тихо с высоты:
– Старшого-то как раз и надобно поберечь. А за гайки евоные спасибо надо сказать. Крутит, и верно делает, что крутит. У него такая собачья должность. Нам волю дай, так мы в два счета все тут раздрипаемся… Не понимаю, – говорил больной, – чего вы так дисциплины пужаться стали? Не волк же – не сожрет она вас…
– Замашки старорежимные, – начал было Хатов наседать снова.
Но тут Артеньев бросился от трапа в контратаку:
– Врешь! Дисциплина воинская – это не замашка тебе. Режим старый, режим новый, а дисциплина всегда будет основным правилом службы… Я не против революции, но я враг разгильдяйства, которое некоторые прикрывают именем свободы! Что за дурная появилась манера? Если я говорю, что палуба грязная и ее надо прибрать, вы устраиваете митинг. На тему: убирать или не убирать? Я ненавижу ваше словоблудие. Морду бы вам бить за такие вещи…
– Слышали? – спросил Хатов. – Он еще вас закрутит.
– Закручу! – открыто признался Артеньев и взялся за поручни трапа. Следом за ним поскакали наверх и другие офицеры.
* * *
Артеньев не любил споров на политические темы, но после этого собрания он разговорился…
– Я не совсем понимаю, как мыслят себе большевики дальнейшее. Оттого, что они провозглашают конец войне, война ведь сама не закончится. Иной раз финал войны гораздо труднее ее прелюдии. И что будет? – спрашивал Артеньев. – Что будет, если немец пойдет на большевика со штыком наперевес?
– Он побежит, – огорчился Петряев.
– Да! А за ним, увлеченные его пропагандой, побегут и другие. Вот что страшно, вот что преступно!
– Маркс учит, – заметил Грапф, – что у пролетария нет отечества, нет любви к родине. Патриотизм коммунисты причисляют к серии буржуазных извращений ума и сердца…
Вестовой Платков сбросил с плеча полотенце, навестил Хватова.
– А там опять… контрят! До чего мне надоело посуду для них перемывать. Петряев-гад сейчас сразу две тарелки испачкал. Хлеба кусок возьмет – давай под него тарелку. Ведь скатерть чистая. Взял бы да положил хлеб на стол, как все порядочные люди делают. Так нет, ему еще тарелку подавай. Мне уж так опротивело, что я плюну, бывает, полотенцем по тарелке, плевок разотру и подаю к столу – «чисто, ваше благородие!».
Хатов собирался ехать в Петроград. Набрав в рот сахарного песку, он разжевывал его до сиропного состояния, потом клейкую жижицу искусно размазывал языком по своим ботинкам. Обувь на глазах преображалась – становилась лаковой, как из магазина.
– Еду по делам, – сообщил. – Князь Кропоткин, наш вождь, из эмиграции возвращается. Сорок один годочек не бывал дома человек. Большевики Ленина своего на ять встречали. Мы тоже не подгадим… вот, еду! Ежели не приду встречать – старикашка обидится.
2
Солнце плавило гельсингфорсский рейд, на котором в томительном зное застыли раскаленные утюги дредноутов. Броня палуб обжигала матросам пятки. Купались много: прямо с мостиков в воду – бултых. Потом лезли на корабль по балясинам штормовых трапов; голые, плясали на шкафутах, вытряхивая из ушей воду. Когда солнце уходило за античную храмину финляндского сената, над рейдом свежело.
Вечерами эскадра отдыхала от митингов, от ораторов и резолюций, от которых команды уставали гораздо больше, чем раньше от вахт, боев и приборок. Заводили граммофоны. Каждый корабль имел свою любимую пластинку. Ее гоняли часами, радуя себя и досаждая другим. О, российские граммофоны, вас никогда не позабыть!..
С учебной авиаматки «Орлица» жалобно выстрадал Морфесси:
Вы просите песен – их нет у меня, На сердце такая немая тоска…А затем и полилось… До глубокой ночи рыдала на дредноуте «Петропавловск» Настя Вяльцева:
Дай, милый друг, на счастье руку, Гитары звук разгонит скуку…На посыльной «Кунице» дурачились в грамзаписи популярные клоуны Бим и Бом, а на благородной «Ариадне», борта которой были украшены красными крестами, гоняли по кругу, как шахтерскую лошадь, еврейского куплетиста Зангерталя:
Армянин молодой рядом в комнате жил, и он с Саррой моей шуры-муры крутил…Из кают-компании элегантной яхты «Озилия» слышался изнуренный надлом Вертинского:
К мысу радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц…Эсминец «Эмир Бухарский» обожал Надю Плевицкую:
Средь далеких полей на чужбине, на холодной и мерзлой земле…Разведя высокую волну, прошел «Поражающий», изо всех иллюминаторов которого, словно воду через дырки дуршлага, выпирало глуховатый цыганский басок Вари Паниной:
Стой, ямщик! Не гони лошадей, Нам некуда больше спешить, Нам некого больше любить…А из отдаления, с захудалых и грязных тральщиков, обиженных пайком и жизнью, проливался на рейд Гельсингфорса, широко и свободно, сладостный сироп голоса Лени Собинова:
Слезами неги упиваться, Тебя терзать, себя томить, Твоей истомой наслаждаться – Вот так желал бы я любить……Разом смолкли граммофоны. Дредноуты провернули башни.
* * *
Дмитрий Николаевич Вердеревский из начальников бригады подплава стал пятым комфлотом на Балтике с начала войны. Неглупый человек, он понимал, как будет ему трудно.
– Андрей Семеныч, – сказал Вердеревский, поблескивая лысою головой, – я должен исполнить свой долг.
– Сейчас, – ответил ему Максимов, – помимо долга воинского, существует еще и понятие долга революционного. Как-то воспримут на эскадре Гельсингфорса мое «повышение» и ваше назначение?..
Ставка не простила балтийцам выборности комфлота. Сам принцип голосования приводил в ярость генералов из Могилева, еще вчера пивших-евших на походном серебре императорского двора. Ставка нажала на Керенского, и он назначил в командующие Балтийским флотом контр-адмирала Вердеревского; Максимова же, чтобы не остался человек на обсушке мели, перепихнули в начальники Морштаба.
Вердеревский щелкнул себя перчатками по ладони:
– Обойдем корабли эскадры… вместе.
На катере, стоя рядом, два адмирала (приходящий и уходящий) выкрикивали в мегафоны обращения к эскадре.
– Будем работать рука об руку! – обещал Вердеревский, проплывая мимо дредноутов, тяжко лежащих на воде, словно черепахи.
«Андрей Первозванный» отвечал ему:
– Долой Вердеревского… вернуть Максимова!
– Андрей Семеныч, что мне ответить на это?
– А лучше промолчите…
Вердеревский опустил бинокль, обеспокоенный:
– По антеннам «Петропавловска» пробежала искра передачи…
Линкор по радио оповещал «всех, всех, всех», чтобы министры признали за балтийцами право избирать для себя начальников. 78 кораблей гельсингфорсской эскадры поднимали флаги, тут же голосуя в реве сирен за выборное начало. Адмиральский катер пролетал, весь в брызгах пены, под стволами главного калибра линейных сил, грозивших Вердеревскому полным непризнанием, и новый комфлот покорно выслушивал брань с корабельных палуб.
– Труднейшие времена, – сказал он на пристани. – И подскажите, как мне выгнать эти линкоры в море?
– Даже «Слава», – печально ответил Максимов, – даже «Слава», столь геройски воевавшая, не желает больше держать позицию. Чтобы сдвинуть линкоры с места, надо будить в матросах самолюбие и гордость. Я верю: они встанут на позицию, когда будет затронута честь революции и ясен оперативный план.
– А если затронута честь России?
– Сейчас им на это плевать с фок-мачты…
Два адмирала еще раз окинули панораму рейда. Незабываемая картина – оскорбляющая одного и ставящая в неловкое положение второго. На мачтах линкоров не был спущен флаг Максимова (вице-адмиральский), а делегация матросов пыталась сорвать с «Кречета» флаг Вердеревского (контр-адмиральский).
– Познакомьтесь с Дыбенкой, – советовал Максимов. – Он человек сильной воли, ловко схватывающий суть любой мысли. Но предупреждаю, что Дыбенко – человек с капризами и крайне честолюбив. Понравитесь ему – будет верить и поможет. Если не понравитесь, тогда…
– Простите, а что тогда? – спросил Вердеревский.
– Тогда он станет пожирать вас на каждом углу. Именно так он поступает сейчас с Керенским, и нет врага для Дыбенки более страшного, чем наш министр. Он его жрет ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, и вся эскадра слышит хруст костей Керенского… Челюсти же у Дыбенки необыкновенно здоровые, как у негра!
* * *
Керенский совершал массу глупостей… Зачем-то сделал своим помощником лейтенанта Лебедева, которого флот совсем не знал. Да и откуда знать, если этот Лебедев был лейтенантом французской службы! Матросы крайне возмущались этим и говорили так:
– Ну, разве можно чужака к нашим секретам подпущать?
Офицеры вполне соглашались с матросами.
– Уважающий себя человек, – рассуждали флотские эстеты, – не станет носить черный мундир при белых штанах. Когда смотришь на Лебедева, испытываешь лишь одно желание: перевернуть его с ног на голову, чтобы черное – внизу, а белое наверху…
Первый съезд Балтфлота собрался, и грызня началась сразу же. Партийные распри – это тебе не дележ бачка с кашей. Бой для большевиков слишком неравен: поджимают эсерствующие товарищи, анархиствующие и прочие. Павел Дыбенко совершенно спокоен за Гельсингфорс, за Кронштадт, даже за Або и Аренсбург.
– Но зато Ревель ведрами мою кровь пьет!
Ох уж эти ревельцы… На высоких скоростях носятся по морю как ошалелые. Для них Милюков – авторитет (профессор, как же!). Резолюции свои Керенскому пересылают, он для них – непогрешим.
– Где Лебедев? – спрашивал Дыбенко на собрании.
Нет Лебедева. Устав Центробалта утвердили (со скрипением стульев) без него. Слово взял Дыбенко – как берут быка за рога:
– Предлагаю лейтенанта Лебедева вычеркнуть из списка почетных председателей. Семеро одного не ждут, а эскадра, когда она движется, не станет волокитничать, ежели один тралец отстал…
Выбросили Лебедева! Заодно и Керенскому наука.
Приехал опоздавший Лебедев, сразу поперся на трибуну:
– Утверждение устава Центробалта в таком большевистском виде есть предательский акт, означающий непризнание правительства.
Дыбенко, мрачный, шлепнул перед Вердеревским устав:
– Ваша очередь… перышко есть? Подпишите.
– Не могу, – отвечал комфлот.
– Чернил нет, что ли?
– Министр еще не подписал – Керенский!
– Вы же клялись, что «рука об руку».
– И будем работать дружно, но… не могу, Павел Ефимыч! Поймите и меня: Керенский подмахнет, тогда и я «добро» спущу.
В середине съезда на трибуну поднялся матрос. Седой. С тиком на лице. Еще не обсохший.
– Я прямо со дна моря, – сообщил он. – Пролежала наша лодка на грунте в шхерах пять часов. Затонула! На глубомере тридцать два показывало. Воздух кончился. Амба пришла. Тогда жребий бросили: кому какая судьба? Восемнадцать ребят остались лежать на грунте. А пятерым лафа выпала… по жребью через люк всплыли мы! Пятый – это я. А те восемнадцать, может, и сейчас стоят на цыпочках, в воде по уши. Добирают с подволока последние граммы воздуха. Пятеро нас… поседел вот некстати. Братцы! – выкрикнул подводник. – Уж вы постарайтесь общим решением: кончайте войну…
Вердеревский склонился к уху Максимова:
– А я хотел ее начинать.
* * *
Керенский прибыл. На перроне Гельсингфорса выли оркестры.
Дамы просили своих кавалеров поднять их, чтобы взглянуть на «министра-социалиста». «Ах, душка! Как он демоничен…»
Керенского уже завинчивало в гулком зените славы:
Пришит к истории, онумерован и скреплен, и его рисуют – Бродский и Репин.Вердеревский был со штабом и скомандовал Дыбенке:
– Центробалт – в кильватер… ходу!
С рукою на черной перевязи, в гетрах и бриджах, во френче британского покроя, жестковолосый, Керенский шел не улыбаясь, а за ним из вагона сыпало, сыпало, сыпало… как из дырявого мешка мусор! Это его адъютанты. Изредка, встретив просьбу или заметив непорядок, министр бросал уголком скептического рта:
– Адъютант, запишите… – и шествовал дальше.
Павлу Дыбенко он сказал с угрозой:
– Ну, хорошо. Я приду на «Виолу». Адъютант, запишите…
Встретили его на «Виоле» честь честью. Как министра. За Керенским по трапу просигналили белые штаны Лебедева. Министр сказал:
– У меня двадцать три минуты свободного времени.
– Ничего. Справимся, – утешил его Дыбенко.
И подсунул для подписи устав Центробалта.
Керенский даже не глянул – подписал: «Утверждаю».
Лебедев, которого перед употреблением надо было переворачивать с ног на голову, был удивлен.
– Но я своих решений не отменяю. Адъютант, запишите…
Дыбенко, радуясь, что так обошлось, объявил Центробалту:
– Слово для приветствия народному министру…
Поговорить Керенский любил, и двадцать три минуты прошли.
– Вы же уходить собрались. Не опоздайте…
Керенский растерянно замолчал. Повернулся к свите:
– Состав Центробалта пересмотреть. Адъютант, запишите!
Вдогонку ему гаркнул Дыбенко:
– Состав Временного правительства тоже пересмотреть… Адъютант, запишите!
И записали.
* * *
Анархисты собирались встречать князя Кропоткина. О широте их натуры можно было судить по ширине клешей. Шестьдесят пять сантиметров – это еще не предел анархических возможностей.
– Могим и больше, да тряпок не нашли… Обедняла Русь!
Хатов с «Новика», готовясь к церемониалу встречи, повесил на грудь себе кулончик из сапфира (между нами говоря, в Ревеле одну дамочку вечерком обчистил, потому как – свобода!). Золотой, браслет с сердоликом крутился на волосатой руке котельного машиниста с эсминца «Разящий». Пили денатурат из графина хрустального, который в 1813 году забыл в Митавском дворце король Франции Людовик XVIII. Закусывали хамсой, разложенной на газетке.
Хатов, между прочим, в газетку посматривал.
– Во! Адмирала Колчака, пишут здеся, надо всенародным диктатором сделать, чтобы он всем нам деру задал хорошего.
– Черноморцы у него, – сказал котельный с браслетом, – сырком в маслице катаются. Жри – не хочу! Добавку за борт отрыгивают.
– Хохлы там. Они привыкли. Сало с салом. Хутора имеют. Хозяйственные. Коли кто в дезертирство ударится, так обязательно пушку или пулемет до жинки прут… в хозяйстве все сгодится!
Явился главарь кронштадских анархистов.
Очевидец пишет:
«Черный длинный плащ, мягкая широкополая шляпа, черная рубашка взабой, высокие охотничьи сапоги, пара револьверов за поясом, в руке наотмашь – винтовка, на которую он картинно опирался. Не помню лица, только черная клином борода всем врезалась в память. Карбонарий! Заговорщик!»
– Пить хочу, – сказал он голосом капризного ребенка.
– Не дать ли, миляга, водички из-под крантика?
– Ходят по миру злостные слухи, – отвечал главарь, – что в мире существует такая жидкость – вода, которую употребляют обычно для стирки белья. Но мы ведь не белье стирать собрались…
Ему налили денатурату, и он успокоился. Поправил шляпу:
– Пошли! С песнями…
За князем Кропоткиным, ученым с мировым именем, человеком чистейшей души и сердца, волочился шлейф грязной накипи. Он уже знал по газетам и слухам, какие появились у него «последователи» на родине, и сердито посматривал в сторону декольтированных матросов…
Князь сказал им:
– Анархизм совсем не то, что вы думаете. Надо вам учиться. На одном мне свет клином не сошелся. Без знаний не будет свободы!
– Да мы знаем… мы же читали, – ответил ему Хатов.
– Вы и мою «Пошехонскую старину» читали?
– Ну как же! Только ее и прорабатываем.
– А мою книжку «Господа Головлевы» тоже читали?
– С нею и спать ложимся. Почитай, у каждого под подушкой.
«Историю одного города», выяснилось, они законспектировали.
– Врете! – И князь пошагал от них прочь.
Анархисты шли за ним, поплевывая семечки.
– Дурит старикашка. Цену себе набивает. Не на таких напал…
В зале ожидания вокзала Кропоткин встал на лавку и заговорил с вокзальной публикой, как говорят люди сами с собой:
– Я глубоко верю в образование безначального коммунистического общества. Верю в организацию коммунистических общин в крестьянстве. А сейчас России надо лечь костьми, но – никакого братания с гуннами и вандалами… Где же слава Плевны?
Мимо него таскали мешки спекулянты и перли на перроны дезертиры с винтовками, визжали бабы… Плевать на Плевну!
3
Балтика своим крылом задела и солнечный Севастополь. Большевики-балтийцы переломили черноморцев на митингах – в их же базах! Черноморский флот развернулся на борьбу с контрреволюцией, и пришел последний час Колчака. По каютам эскадр гремели выстрелы – не убивали, нет, это офицеры сами кончали с собой.
В этот последний свой час Колчак сбросил маску демократа. На флагмане «Георгий Победоносец», вокруг которого собралась эскадра, покраснев от натуги, Колчак кричал в мегафон:
– Вы не свободные граждане, а бунтующие рабы. Вас не вразумить словами – вас надо стрелять как собак!
Эскадра ревела:
– За борт его! Эй, на «Георгии», – хватайте за ноги…
Флаг Колчака дрогнул, сползая вниз по мачте броненосца.
– Сдать оружие, – приказали ему.
Колчак выхватил свою саблю, сломал ее на колене и обломки вышвырнул за борт. Сбежав с мостика, прыгнул под капот катера, и мотор сразу заторкал, быстро доставив его на Графскую пристань. Придя домой, он сказал жене:
– Соня, моя карьера сегодня кончилась навсегда.
– Нет, – ответила жена. – Ты посмотри, что пишут о тебе в газетах: тебя прочат в диктаторы всей России…
В дверь постучали, и (как в сказке) появился долговязый американский адмирал Глэнон, прибывший в Севастополь с миссией.
– Мы прибыли, чтобы учиться у вас. Америка – страна богатых возможностей, и она сумеет расплатиться с вами…
Колчак был очень сдержанным человеком, но иногда он взрывался, как бешеный огурец, и тогда сам себя не помнил:
– Убирайтесь к чертовой матери… все, все, все!
Вечером Колчак уже покинул Севастополь, и едва исчезли окраины города, как в купе к нему просунулась голова Глэнона.
– Адмирал, – сказал он, – Штаты нуждаются в таких людях, как вы. Поверьте, здесь вы уже никому не нужны, а в Америке…
– Закройте дверь. Я устал, – ответил ему Колчак.
– Чего он хочет от тебя, Саня? – спросила жена.
Колчак открыл окно. Бурный поток воздуха ворвался в купе, и запахло степью – мятой, чебрецом и навозом.
– Американцам нужны наши секреты минного дела. Ты же знаешь, что в этом вопросе мы, русские, обскакали флоты всего мира. За океаном – детские игрушки, а не минные постановки…
На вокзале в Петрограде опять подкатился Глэнон:
– На досуге, адмирал, поразмыслите над нашим предложением. Мы не пожалеем золота. В случае согласия – вот мой адрес: Зимний дворец – миссия адмирала Глэнона…
В Мариинском дворце Колчак выступал перед министрами.
– Вы слабые люди, – заявил он правительству. – Вы замусорили Россию высокопарными словами, когда требуется только кулак…
Ему предложили ехать обратно в Севастополь и поднять на флагмане свой вымпел – тогда якобы все уладится.
– Мой вымпел разорван в клочья… Вам этого не понять!
– Может, примете на себя Балтийский флот?
– Из огня да в полымя? – спросил Колчак, кося глазами.
На выходе из дворца за адмиралом вдоль тротуара следовала машина под звездным флагом Штатов… Глэнон помахал рукой:
– Адмирал, садитесь. Я подвезу вас… Кстати, опять об Америке. Вы напрасно так относитесь к поездке за океан. Вы, русские, плохо представляете страну, которая вас отлично знает.
Колчак, не отвечая, развернул столичную газету. В глаза бросилось крупное клише. Плакат. Не русский плакат – американский! Дядя Сэм в шляпе квакера строго указывал на Колчака пальцем, а под плакатом – броская надпись:
I WANT YOU FOR US ARMY
(ВЫ МНЕ НУЖНЫ ДЛЯ АРМИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ)
Колчак в раздражении перевернул страницу… Стихи. Кому сейчас, в такое время, нужны стихи? Он пробежал их глазами:
Америка – могучая страна возможностей необычайных, ты расточительнее сна о творческих вещаешь тайнах…«Похоже, будто все сговорились с адмиралом Глэноном!»
– Остановите здесь, – сказал Колчак. – Благодарю.
Софья Федоровна пристально вглядывалась в лицо мужа.
– Саня, у тебя какие-то изменения? К лучшему?
– Сейчас я опять встретил этого прилипалу Глэнона. Я отправлю тебя с сыном в Париж, где будешь ты жить, пока в России все не изменится. Я понял одно: без помощи Америки, Англии и Франции нам с революцией не справиться.
– Ты решил ехать в Америку?
– Пока нет. Я жду…
– Чего, Саня?
– Я очень многого жду от своей судьбы.
Он ждал момента, когда реакция призовет его в диктаторы: нужен Наполеон, нужен кулак! Но… Колчак просчитался, ибо в диктаторы уже нацелился сам Керенский. Адмирал сейчас ему просто мешал, и, кажется, он был не прочь спровадить его от себя подальше – за океан…
Колчака навестил французский легионер Зиновий Пешков:
– Адмирал, имею до вас поручение Пуанкаре – вас ждет высокий пост, если вы согласитесь взять на себя командование…
– Постойте. Не торопите меня. Я жду…
Лига георгиевских кавалеров (самая отпетая, самая монархическая) вручила Колчаку золотое оружие. Колчак почти с яростью схватил его в свои костистые пальцы. Бледными от волнения губами он истово целовал мерцающее лезвие. Он задыхался:
– Клянусь! Все свои силы… единая и неделимая… триста лет династии… А Руси – восемьсот… стояла, стоит и стоять будет! Я, адмирал Колчак… торжественно… клянусь при всех…
Глэнон первым поздравил его с высокой наградой:
– Завтра об этом будут писать наши газеты. Вас там ждут, а чего ждете здесь вы? Британская «Интеллидженс сервис» уже взяла вас под негласное наблюдение. О, пусть это вас не пугает: просто британской разведке стало известно, что германская агентура готовит на вас покушение в Петрограде. А вот за океаном…
Временное правительство выдерживало Колчака на льду, чтобы он сохранился в лучшей форме для боев с революцией. Оно требовало от адмирала жертвы. «Принесите себя в жертву… ради нас!» – так прямо и заявляли ему министры. Но ради них он не хотел идти на заклание, как глупый агнец. Разговоры и слухи о его диктаторстве не прекращались. Суворинские газеты декларировали открыто:
«Пусть все сердца, которые жжет боль об армии, будут завтра на улице… Пусть князь Львов уступит место председателя в кабинете адмиралу Колчаку. Это будет министерство победы!»
Германские подводные лодки, шныряя по Северному морю, задерживали для обысков корабли, идущие в Англию. Шла проверка документов – немцы искали Колчака. Под измененным именем, с подложным паспортом в кармане, одетый в статское платье, Колчак благополучно прибыл в Америку как почетный гость США.
…Революционная Россия на время рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с ним уже в сибирских снегах. Именно там, поддержанный всесильной Антантой, он и станет тем Колчаком, которого знает наш народ. Россия забудет, что он был прекрасным минером и талантливым флотоводцем, что он был полярником и гидрографом, – отныне и во веки веков адмирал Колчак останется памятен как враг народа – самый опасный, самый коварный и самый сильный.
И это верно: если бы Колчак занимался только тактикой и только гидрографией, он мог бы принести большую пользу своему народу. Многие его товарищи служили в советском флоте, воссоздавая его, усиливая и совершенствуя, и умерли в высоких чинах и всенародном почете.
Но не иная земля у плеча и не акулье скольженье у клюзов: путь мой искривлен рукой англичан, бег мой направлен рукою французов…* * *
Под шпилем Адмиралтейства – суетня, хлопанье дверей, звонки телефонов, авральная работа по спасению флота от революции.
Ревельский Дудоров – теперь помощник Керенского по морделам, а Лебедев – заместитель по морделам. Первый – контр-адмирал, а второй лейтенантик, но это дела не меняет. Ребята они еще молодые, горячие, хваткие, нахальные, верткие.
Петроград бурлит за окнами. Путиловцы идут, как шли 9 января к Зимнему дворцу, но теперь демонстрация заворачивает к Таврическому. Рабочие идут с женами и детьми – как шли когда-то к царю, чтобы сказать о нуждах своих. Толпы перегородили мосты, ревут грузовики с пулеметами. Министры-кадеты вышли из кабинета (опять кризис власти). Коалиция разваливается – революция строится. А впрочем, подобная обстановка не радует и большевиков. Члены ленинского ЦК призывают Петроград к спокойствию. Нельзя начинать. Еще рано. Демонстрации преждевременны. Не допускайте, товарищи, призывов к свержению Временного правительства…
Стихия – не машина, ее не остановишь.
– Задвигался Кронштадт, – сообщил Лебедев. – Если он войдет в Петроград, набережные захлестнет… все погибнет.
– Кронштадт удержать! – бесновался Дудоров. – В конце концов, мы не остановимся перед торпедированием кораблей…
Кронштадт звонил в ЦК партии, просил к телефону Ленина, но к аппарату подошел Зиновьев.
– Выступление Кронштадта, – доложил Кронштадт, – совершенно неизбежно, и отвратить его мы, большевики, не способны.
– Подождите у аппарата, – сказал Зиновьев, – я сам не решаю. Я посоветуюсь с Владимиром Ильичем…
Кронштадт ждал. Зиновьев снова взял трубку:
– Ленин нездоров и сам подойти не может. ЦК рекомендует Кронштадту превратить демонстрацию в мирную манифестацию.
– У нас все вооружены до зубов. Мы хотим драться!
– Ленин – против. Пусть демонстрация будет вооружена, но Кронштадт должен демонстрировать лишь с мирными намерениями…
Адмиралтейство связалось с Гельсингфорсом. Дудоров наказал Вердеревскому выставить на путях к Петрограду подводные лодки: команды их охотно повинуются своему бывшему начальнику. Ревель уже ощетинился против большевистского Центробалта. Накануне пришли и бросили якоря в Гельсингфорсе крейсера «Олег», «Богатырь» и «Рюрик». Посверкивая пушками, прилетели эсминцы «Внимательный», «Выносливый», «Орфей», «Самсон», «Меткий». Затаенно перемигиваясь, словно заговорщики, подкрались к Центробалту три субмарины: «Рысь», «Пантера» и «Тигр».
На «Кречете» раздумывал над приказами Вердеревский:
– Как быть?
На «Виоле» Дыбенко тоже думал:
– Как фуганем по «Кречету» парочку снарядов – пустое место останется, и даже галоши комфлота не всплывут…
Завтра, завтра… Завтра поворот: или мы – или они!
4
Читатель! Я понимаю – об этой июльской демонстрации, которая вошла в историю нашего государства, ты уже читал не однажды. Ты знаешь о ней еще со школьной скамьи, и написано об этой демонстрации столько, что можно составить целую библиотеку… Писать сцену собрания трудно. Еще труднее описать демонстрацию. Даже когда она несет через улицу идею. Ибо движение людской реки многолико и однолико, многоголосо и одноголосо. У демонстрации нет героя – здесь один герой. Это сама демонстрация… Я смотрю сейчас на старые фотографии, запечатлевшие июльскую демонстрацию, я знаю, что ее ждет сейчас не победа, а поражение, и я чувствую, как сам незаметно сливаюсь с этой толпой. Изнутри ее, растворившись в ней, я описываю ее – молодой и красивый!
* * *
…Я всю ночь не спал, как и братва. Всю ночь не спал Кронштадт, не спал Гельсингфорс. А небо над Балтикой было в тучах. Моросил теплый дождик. В Маркизовой Луже нас встречал буксир, на котором был член Исполкома Петроградского Совета, и он нам через матюгальник долго мозги вкручивал:
– Убирайтесь к чертовой матери назад… Предатели! Подлецы! Вас никто не просил в столицу, в которой все спокойно…
Корабли входили в Неву, подруливали прямо к Английской набережной. Здесь нас встречали большевики, предупреждая:
– Не стрелять, товарищи! Демонстрировать мирно.
Напротив университета стоял автомобиль. Когда подошли ближе, из машины встала в рост с речью Маруся Спиридонова. Что она кричала нам – я не помню, наши колонны шли скорым маршем. Тысячи были нас, многие тысячи, и мы шли ко дворцу Кшесинской. Вот и садик, голубели в небе пасмурном эмали татарской мечети.
– Ленина! – стали просить матросы. – Давайте сюда Ильича!
Выступал с балкона Луначарский, говорил с нами Свердлов.
– Ленина! – просили мы у них с улицы…
Ленин вышел на балкон. Ильич извинился, что сегодня не в настроении говорить, потому что болен. Его речь – два слова, не больше. Никаких программ. Никаких призывов к свержению. И мы пошли дальше… Он тогда словно предчувствовал, что ждет Балтику впереди, и – стойкость, выдержка, вера! – лишь к этому он призывал.
Военные оркестры трубили уже на Троицком мосту. Прохожие глядели на нас с ужасом. Особенно на Невском нашего брата боялись. На углу Литейного посыпались пули. Я шел в голове колонны, а те, что шагали в хвосте ее, даже не слышали выстрелов, – столь велика была наша сила. Пули бились под ногами, многие даже не сразу поняли, что по ним стреляют. Первая кровь брызнула на панель. Колонна расстроилась. Я укрылся в подворотне, видел, как ползут раненые. Вокруг меня сдергивали с плеч винтовки, стали палить по окнам и чердакам. Я выпустил всю обойму, вставил новую…
– Стройся! – раздалась команда, но построить нас снова в порядке было уже невозможно.
– Не нервничай! – орали вокруг.
Мы шли дальше уже стенкой, забив не только мостовую, но и все тротуары. Помню, как при нашем приближении с визгом опускались железные шторы на витринах магазинов. «Кронштадт идет!..»
Вот и Таврический, здесь вдоль Шпалерной, за решетками садовой ограды, теснились рабочие. Рядом со мной шагали два матроса, один с «Авроры», другой со «Штандарта», они разговаривали:
– Свернем шею сразу всем, и… даешь Советы!
Кто-то сказал, что арестовали министра Чернова – он был эсер, по земледелию, кажется. Все кричали по-разному, и мало кто понимал, что происходит и зачем сюда пришли.
– Стой, братцы! Декабристы так же стояли.
– Ого! Много они выстояли?
– Пальнут с чердака… пропадай молодость!
– Стой, говорю. Ленин уже прибыл…
Из толпы стали выкликать имя Церетели:
– Церетели! Пусть он скажет, что происходит…
Вышел из дворца Свердлов:
– Вместо Церетели сегодня – я!
Мы засмеялись. Я протиснулся через ораву матросов к рабочим. На руках женщин спали дети. Звякали кружки с водой, за которой бегали куда-то далеко. Я спросил одного мастерового:
– Отец, а давно вы здесь загораете?
– Второй дён на земле… не пимши, не жрамши.
Тут и другие вступились:
– Вы-то, кронштадтские, еще первачи. А мы вот ночь здесь околевали. Дюже озябли. Неужто так и уйдем ни с чем?
– А чего добиваетесь? – спросил я. – Лозунг у вас есть?
– Эй, Локтарев, покажи малому лозунг наш…
Один рабочий вскинул над садиком красное полотнище, на котором я прочитал: «Вся власть Советам!» Все ясно. Я вернулся.
– Долго будем стоять? – у дружков спрашивал.
– Да хто его знае… Народу уйма, а толку нет.
– Делегатов-то к Ленину послали?
– Были уже. Там вциковские о нас совещаются…
Неожиданно раздался возглас:
– Всем, всем, всем… всем можно разойтись!
Нас было тысяч сорок в бушлатах, и, когда мы разом заревели, казалось, обрушится купол Таврического дворца.
– Это почему же разойтись? А на что шли?
Вциковские стали нам разъяснять:
– Товарищи, своей солидарностью и своими большевистскими лозунгами вы цели уже достигли… Подумайте о ваших братьях рабочих, которые сидят тут давно. Дайте им уйти в уверенности, что вы их защитите. Ваша воля не пропала для революции даром!
Надо возвращаться. Часть наших ребят оставалась в Питере – кто в охране дворца Кшесинской, а кто попал в гарнизон Петропавловской крепости. Я встретил тут приятеля с миноносца № 217, который у стенки завода трубки в котлах менял, и на этом эсминце переночевал. Вот, кажется, и все, что можно кратенько сказать об этой исторической демонстрации.
Утром я проснулся на чужой подвесушке, стал во фланелевку головой пролезать, еще босой на линолеуме стою, а ребята (с этого «минаря» № 217) и говорят мне:
– Ты, приятель, поживи у нас.
– А чего?
– На улицу не совайся.
– Это почему?
– Наших братишек в городе лупцевать стали…
Так я узнал, что дела наши – швах. Балтику брали к ногтю.
Я бы и больше вам рассказал, но я – только матрос, мне тогда из колонны мало что виделось. А документы того времени сохранились. Ежели их пошерстить, они расскажут, что положение было гораздо сложнее, нежели я тогда думал… Молод я был!
* * *
«Правда» была разгромлена первой. Матросов, которые остались в столице, разоружали. Мало того, балтийцев теперь били все кому не лень. Почтенные дамы и милые барышни тыкали их зонтиками.
Адмиралтейство ликовало. Дудоров сиял:
– Кронштадт замкнуть в блокаде. Не давать мяса и хлеба.
Гельсингфорс в смятении. Загнали на вокзальные пути три цистерны со спиртом – появились пьяные. Центробалт почуял: в городе – безвластие. Советчики Гельсингфорса бились над вопросом: как угодить Временному правительству и «стравить пар» возмущения в рабочих и матросах… Крысы выживали Центробалт с «Виолы», и Павел Дыбенко перенес свой флаг на царскую яхту «Полярная звезда». Лучи от этой «Звезды» расходились по флоту – пугающе, как острые клинки. Многое было еще неясно. Здесь, вдали от событий…
Дыбенко приказал:
– Караулу – на «Кречет»! Занять радиорубки. Посадить своих людей на аппараты береговой канцелярии штаба комфлота…
Власть на эскадре целиком перешла в руки Центробалта. Гельсингфорс запрашивал Кронштадт: «Сообщите точно, что у вас случилось и нуждаетесь ли в помощи?..» В этот момент, когда бушуют политические страсти, а на главные калибры уже сочится по лифтам боевая сила из погребов, – в этот самый момент:
– Шифровка! Из Моргенштаба… вам, господин адмирал!
Вердеревский вчитался в приказ Дудорова, который требовал от комфлота срочно прислать XI дивизион эсминцев:
– Одиннадцатый дивизион: «Победитель», «Забияка», «Орфей» и «Гром». Требуют подать их в Неву – к стенке Зимнего дворца.
Сейчас в руках адмирала – судьба кризиса правительства, судьба будущего русского флота. Клочок бумажки: плюнь да брось!
Аппараты стучат, опять шифровка – строго секретная:
Временное правительство, по соглашению с Исполнительным Комитетом Совета трудящихся и солдатских депутатов, приказало принять меры к тому, чтобы ни один корабль без вашего на то приказания не мог идти в Кронштадт, предлагая не останавливаться даже перед потоплением такого корабля подводной лодкой…
– Ну да! – сказал Вердеревский. – Расчет на то, что я командовал бригадой подплава, а подводники, если я им прикажу, не станут сентиментальничать и всадят торпеду даже в боженьку.
Вердеревский встретился с членами Центробалта.
Это был самый рискованный шаг в жизни адмирала. За многие столетия рода Вердеревских были они стольниками, были воеводами, сидели в думных дворянах. Но еще никакой век и никакое время не порождало перед ними таких вопросов, которые предстояло разрешить сейчас их потомку. Дмитрий Николаевич сказал матросам:
– Вот сугубо секретная шифровка. Там, в Петрограде, под влиянием последних событий совсем уже сдурели (адмирал выразился еще грубее). Приказывают мне выслать дивизион «новиков». Мне рекомендуют не останавливаться даже перед потоплением кораблей.
Дыбенко сказал:
– Ох и положение, адмирал! Надо бы огласить по флоту.
– Не размахивайтесь на весь флот. Будет вредно для дела.
– Но все шифрованное слишком волнует команды кораблей. Люди подозревают в оперативных распоряжениях контру.
– Я, пардон, служу не людям, – отвечал ему Вердеревский, – я служу только отечеству. И если флот вовлекают в политическую борьбу, то я… – он передохнул, – не исполню приказа. Да! Что же касается подводных лодок, то я сейчас же отошлю их от греха подальше – пусть лучше держат в море позицию…
Центробалт сразу потребовал ареста Дудорова и Лебедева.
Резолюцию об их аресте вызвался отвезти в Петроград сам Дыбенко:
– Лично в руки Керенскому… я ему покажу!
Ровно в полдень 6 июля «Гремящий» ворвался в Неву, тяжело дыша котельными отсеками. Когда Дыбенко с товарищами сошли на берег, их замкнули в кольцо штыков. Юнкера взметнули над ними приклады винтовок:
– А, собаки! Большевистское отродье… продались?
Дыбенко, отбиваясь от ударов, упал на мостовую:
– Стой, сопляки… Кому продались? Дыбенку не купишь…
Избитого в кровь, юнкера потащили его в Зимний дворец. Тащили и били. Побьют, снова тащат… Церетели вышел из дворца с портфелем, пошагал куда-то. Важный. Социалист!
– Эй, министр-социалист, – позвал его Дыбенко, – это как понимать вашу демократию? Так и надо, чтобы нас лупцевали?
Следом за «Гремящим» в Неву залетел и эсминец «Молодецкий» под флагом контр-адмирала Вердеревского. Комфлот сошел на берег, и его тут же обступили офицеры из Адмиралтейства:
– Сдайте кортик… вы арестованы!
– В чем я, командующий флотом, провинился?
– Измена родине и революции, – отвечали ему.
– Это лишь красивые слова, а где же факты?
– Секретный приказ товарища министра Дудорова вы огласили перед большевиками-матросами. Разве это не есть измена?
Тут же, на набережной, Вердеревский вывернул карманы:
– Чист, аки голубь. Ведите.
* * *
Они встретились в Зимнем дворце – избитый Дыбенко, которого отвозили в «Кресты», и общипанный, без нашивок адмирал Вердеревский, которого сейчас отвезут в Алексеевский равелин.
– Веселенькая у нас с вами история, – сказал Вердеревский Дыбенко. – Прямо мухи дохнут от непонимания… Сколько можно быть глупцами? Комфлот и Центробалт встретились, и… где?
5
Эссен – Канин – Непенин – Максимов – Вердеревский… Теперь начальник Минной дивизии контр-адмирал Развозов, получил приказ сдать дивизию контр-адмиралу Старку, а самому заступить пост комфлота. С чего начать и за что браться?..
– Я за старые порядки, – предупредил Развозов. – Флот распустился, он потерял боевые качества. Вернем ему божеский вид…
Керенский, став премьером, публично объявил балтийцев германскими агентами, сознательно разрушающими русский флот. Центробалт переизбрали заново, и Развозов взял его в свои руки, как когда-то Колчак держал в руках вожжи черноморских ревкомов.
– Товарищи! – убеждал Развозов. – Только поменьше политики, только побольше дела. Пишите мандаты, обсуждайте резолюции, но не суйтесь в оперативное руководство флотом…
На Сенатской площади Гельсингфорса, на крутых маршах лестницы финляндского сената, с утра до вечера толпились матросы.
– Сашку долой! Почто он Балтику матеряет?
– Товарищи, никакого доверия временным!
– Слыхали… А чем тебе Керенский не угодил?
– Это ты брось, а то и в ухо могу заехать.
– Крейсерские, валяй сюды… тут большак затесался!
– Бей его, дай в зубы шпиону.
– Это ты кого бьешь? Да я кавалер «Георгия».
– Видали мы таких… отфорсился!
А на рейде дымят, стоя близехонько один к другому, два враждующих линкора: «Республика» – партийный флагман большевизма, и «Полтава» – мощная цитадель эсерства; катеров с «Республики» полтавские даже не принимают под трапы.
– Отчаливай по-хорошему, а то все зубы тебе по палубе раскидаем. Ишь, бойкие какие… им Керенский не пофартил!
В море деловито вышел крейсер «Адмирал Макаров» – под черным пиратским флагом: с черепом и костями, как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Костями загремели они не от анархизма – это от милюковского патриотизма. Крейсер объявил себя «кораблем смерти», беря пример с женского «батальона смерти». По радио с крейсера оповещали: «Умрем за Россию!» (а умереть за революцию уже не хотели). Кризис не прошел даром для флота. Даже такие твердыни большевизма, как Кронштадт и Гельсингфорс, и те дали трещины. Матросы «переписывались» в эсеры, в анархисты, сваливались в беспартийное болото, где быстро и закисали.
Теперь слышались и такие разговоры:
– А разве при царе плохо жилось? И кормежка была лучше. И по стопке давали. От этих революций только башка трещит, ну ее!
Немцы наступали по всему фронту, и сложный вопрос о братании заглох сам по себе. Куда же там брататься, если брат-немец своего брата-русского на штык сажает и радуется… Кайзер забрал Тарнополь, наши войска оставили Галич и Станислав, все рушилось в наступлении, к которому призывал Керенский, и наступление обратилось в беспорядочное бегство и дезертирство. Русские войска разложились! Не желая воевать, они мародерствовали, занимались грабежом, насиловали женщин. Это была уже не та победоносная армия России, какую знали раньше, – это был деморализованный сброд… Ленин был прав, когда эту армию распустил и стал создавать новую армию – на новых началах.
А сейчас наши дела плохи, читатель!
* * *
Вскоре дезертировал минер «Новика» – лейтенант Мазепа. Вещички свои он оставил в каюте, чтобы они его в бегстве не связывали. Бежал в лучезарное сияние желто-блокитной хохлацкой автономии. Неожиданно к Артеньеву явился с рапортом Паторжинский.
– Я тоже ухожу, – заявил он.
– Дезертируете, – поправил его Сергей Николаевич.
– Нет. Я ухожу. Минер удрал на мотив «Ой, не ходы, Грыцу», а я ухожу по мотивам благородного полонеза Огинского…
Артеньев жестоко изодрал в клочья рапорт штурмана:
– К чему это? Бегите уж так. Без официоза…
С вахты доложили:
– От Куйваста подходит «Гром»…
Мягкий толчок корпуса, скрип кранцев, хруст швартовых канатов – и «Гром» прильнул бортом к своему старшему брату. В дверь каюты Артеньева сразу же постучали – вошел артиллерист с «Грома», совсем молоденький лейтенант Владимир Севастьянов[20].
– Садись, красно солнышко, – невольно обрадовался Артеньев свежему человеку. – Откуда пришли и куда уходите?..
В разговоре о том о сем Севастьянов сказал:
– А я по делу… У меня сразу три гальванера сбежали, Сергей Николаич, не пожертвуешь ли для «Грома» одним? А то ведь случись – противника встретим, нам даже не отругаться от него. Со Старком мы договоримся: перепишет. Не скупись – дай!
Артеньев долго молчал, соображая. Потом сказал:
– Дам. Вот, ознакомься с этой светлой личностью…
Просматривая бумаги гальванера, Севастьянов спросил:
– Нет ли подвоха, Сергей Николаич, с твоей стороны? Ты сам был артиллеристом, как же можешь отдать такого специалиста?
– Ты просишь. Я уступаю. Чего не понять?
– Да ведь гальванер этот сущее золото для ПУАО.
Артеньев решил быть честным с товарищем:
– Володя, отдаю потому, что он большевик… Забирай!
Севастьянов пожал плечами, засмеялся, наивный человек:
– А у нас на «Громе» уже четырнадцать большевиков. Я с ними вполне лажу. Ладно, давай заберу и пятнадцатого…
На вечерней поверке Артеньев прочел команде приказ верховного главнокомандующего генерала Брусилова:
– Слушай: «Воспретить всякого рода митинги и общие собрания… считать их незаконными сборищами, направленными против родины и свободы, и рассеивать их силой оружия. Пункт второй: означенное запрещение считать боевым приказом, не подлежащим никакому обсуждению…» Надеюсь, в связи с этим вопросов у вас не возникнет.
– А кем подписан приказ? – раздалось из команды.
– Подписал генерал от кавалерии Брусилов.
– Так мы же на лошадях не ездим.
– Все равно, – сказал Артеньев, сворачивая бумагу. – По кавалерии, по инфантерии, по дизентерии – это безразлично. Важен приказ и суть приказа… Семенчук! – вдруг резко выкрикнул он. – С вещами. Быстро. Перейти на «Гром»…
Два эсминца стояли, тесно прижавшись один к другому, словно предчувствуя скорую разлуку. В страшной тишине, нависшей над двумя кораблями, Семенчук перекинул свое барахло на «Гром». Перепрыгнул и сам. Артеньеву помахал рукой с мостика Севастьянов:
– Отдайте нам кормовые… благодарю!
«Гром» наполнился теплом, мелко задрожал и оторвался от «Новика». В какой-то момент Артеньеву показалось, что Семенчук вот-вот перескочит обратно. Но «Гром» уходил все дальше и дальше, весь в ослеплении бурого заходящего солнца.
– Ррразойтись! – скомандовал Артеньев (дело сделано).
* * *
Мало было охотников в дни революции занимать полицейскую должность старшего офицера: чуть-чуть перегнул палку – и пулю в лоб заработал! Команда «Славы» своего старшо́го спровадила подальше. И сейчас матросы были удивлены, что на это вакантное гиблое место нашелся смельчак… Кавторанг Лев Михайлович фон Галлер.[21]
– Фо-он? – насторожились все. – Этого нам еще не хватало…
Вообще, Галлер не вызывал симпатий. «Фон» он имел мало привлекательный: хмурый взгляд, пронизывающий насквозь, голос звучит резчайше – будто обжигает кнутом, рыжеватая щетка усов тоже не украшала кавторанга. Этот человек, специалист флота высокого класса, начал наводить порядок в «славянстве». Казалось, Галлер с луны свалился и не знал, что офицеров убивали. Он требовал! Не выносил обсуждение приказов на митинг для голосования, не ждал, когда выпадет ему резолюция, – нет, он совершал почти непростительную дерзость: Галлер приказывал, а отдав приказание, он зорко следил – исполнено или нет?..
Большевики «Славы» собрались в корабельной прачечной, где было прохладно от цементного настила палубы. Городничий сказал:
– Все, братцы, меняется. Сейчас положение такое – никакого пораженчества, даже не моги думать. О братании забудь, скоро драка начнется. Иначе нельзя: конец России – конец революции… А к старшому уже присмотрелись: мужик дельный. Приказы его исполнять!
Время было трудное. «Слава» до середины лета не стронулась с антивоенных позиций: штабы и уговоры не могли снять ее с рейда. Старая заядлая обида на дредноуты из Гельсингфорса, которые всю войну канителились в Финском заливе, сейчас прорвалась. Люди устали. Тогда и большевики на митингах выступали так:
– Где же справедливость? «Слава» – туда, «Слава» – сюда, а эти биндюжники-дредноуты загорают и купаются, будто дачники. Дадут нам, славянам, отдых или нет? У нас же больных полно в команде. Психами многие стали… Почему нас, как будочников, на зимней стоянке в Моонзунде держат? Мы же подыхаем здесь. А деньги дают, будто в насмешку, русские. Финскими марками не платят. Придешь когда в Або или в Гангэ – хрен в тряпке купишь!
«Слава» была отличным кораблем, испытанным в боях, и лишиться броненосца командование не хотело. Всю команду подвергли медицинскому осмотру. Просветили рентгеном. Выстукали каждого, как на курорте. Психованных списали. В отпуск ездили «славяне» по белому литеру «А», будто аристократы. Заплатили им финскими марками. Они себе накупили конвертов, расчесок, помазков для бритья, пива выпили… Повеселели! После чего им была объявлена особая благодарность по флотам, и они выбрали якоря с грунта.
«Слава» снова вошла в Рижский залив. Командир ее, каперанг Антонов, осунулся за эти дни, жаловался на нервы. Старший офицер фон Галлер ни на что не жаловался. В пять часов утра, вместе с горнистами, он был уже на ногах. Правда, без улыбки и без вежливостей, но от старших офицеров никто и не ждет нежностей.
В команду «Славы» прислали сто человек салажни последнего набора. Пахло от новобранцев еще казарменной карболкой. Сами лопоухие, стриженые, прожорливые. От вида сытной казенной пищи, за которую и платить не надо, они словно одурели. Позавтракав, обеда ждут. Пообедав, об ужине гадают. Поужинав, крестятся и зевают. Валят в церковь, молятся. Очень подозрительны ко всему на свете.
– Где война-то у вас здеся? – спрашивают. – Небось страшно по воде воевать? Дома-то речка… там вольготно!
Раньше, когда такой молодняк попадал на корабли, их брали в оборот «шкуры» – всякие унтеры, боцмана, боцманматы и кондукторы. Брали их круто, учили «по бельмам» и «по мордасам», но зато из любого сельского теленка в месяц делали порхающего по трапам дьявола. А сейчас вся салажня из-под контроля сверхсрочников выпала. Центробалт, исходя из революционных побуждений, распорядился всех «шкур» с флота выгнать. Это была непростительная ошибка. Шкура шкурой, но все-таки флот держался на боевом опыте сверхсрочников, занимавших на кораблях положение между кубриками и кают-компаниями. Среди демобилизованных были и очень нужные люди, крепко любившие флот и знавшие свое дело досконально. Их не стало теперь, в службе сразу что-то хрустнуло…
Правда, ушли не все. В один из дней в сигнальную палубу спустился кондуктор Городничий, бросил на рундук свои чемоданы.
– Принимайте, – сказал, – к своему корыту…
Китель он оставил в «пятиместке», оделся в матросскую робу. Пил по утрам мурцовку, а не кофе. Человек уже немолодой, возле губ скорбные морщины, и Витька Скрипов ему посочувствовал:
– Жалко мне вас. Табанили-табанили, и все маком!
– Сопляк ты еще, – отвечал бывший кондуктор. – Я бы тоже ушел. С превеликим удовольствием. Думаешь, не надоело мне по звонку вставать? По звонку уже сколько лет ем, как пес подопытный. А только, брат, сейчас с флота никак нельзя уходить. Раньше служил за погоны, а сейчас буду служить за партию.
– Вся власть Советам – так, что ли? – умудрел Витька.
– Этот лозунг уже снят.
– Как же так? Выходит, временных признать надо?
– Костиґ их, как и раньше. Но свергать погоди…
Витька слышал, как Балясин однажды сказал Городничему:
– Дыбенко сплоховал, скрыл – от матросов правду. Ему-то сейчас в тюрьме хорошо, и думать не надо, а мы вот тут – давай выкручивайся как знаешь…
* * *
Дыбенке в тюрьме хорошо, конечно, не было. Человек сильной воли и выдержки, Дыбенко допустил ошибку… Когда Вердеревский принес ему секретную телеграмму из штаба флота, Дыбенко скрыл от матросов истину. Он свалил всю вину на министров Временного правительства. Личная ненависть к Керенскому затмила ему глаза.
Он хотел спасти честь Советов, а… спасать-то и не стоило!
Гнев Ленина сейчас был направлен не только против министров-капиталистов и министров-социалистов. Казалось, в равной степени ненавидел Владимир Ильич и… Советы!
Партия временно сняла лозунг «Вся власть Советам!».
Ленин писал: «В данную минуту эти Советы похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат». Потому-то Ленин и считал, что «лозунг перехода власти к Советам звучал бы теперь как донкихотство или как насмешка…».
6
«Новик» покачивало на двинской воде, зеленели лужайки Больдер-Аа, паслись задумчивые коровы на травке, а вдали смутно брезжила Рига… Рига! Неужели с ней можно расстаться? В улицы лифляндской столицы уже вступил царь-голод, уже стреляли по ночам, и кого-то казнили там – было не понять. Смутно! Нехорошо!
Фон Грапф утром спустился в кают-компанию – благоухающий, даже без погон, он был элегантен. В руке каперанга, украшенной перстнем, хрустела свежая газета. Попивая чай, обратился к Артеньеву, явно вызывая его на откровенность:
– А знаете, политика все-таки капризна, как испорченная женщина. Вы напрасно ею пренебрегаете – иногда она доставляет острейшие пароксизмы удовольствия.
– Назовите мне самое острое удовольствие.
– Пожалуйста, – охотно согласился фон Грапф. – Сейчас, после бурной вакханалии, я, как и многие мыслящие личности, стою за… Только не пугайтесь, – предупредил он. – Сейчас я сторонник поражения России в этой войне.
С грохотом отодвинув стул, Артеньев встал:
– Если вы хозяин на мостике, то здесь, в кают-компании эсминца, хозяином я! И я, Гарольд Карлович, не позволю…
– Постойте, – остановил его фон Грапф, – я же не сказал ничего постыдного. Это мнение многих. Все логично. Большевики были пораженцами при царе. Мы становимся пораженцами при революции. В этом заключен большой смысл, почти гениальный.
– Я не вижу смысла в поражении, и мне противно.
– Конечно, присяга не допускает военных людей до мысли о поражении, – толковал фон Грапф, – но зато политика допускает… Представьте, что кайзер вступил в Петроград. Что он делает? На безжалостном блюминге своих первоклассных дредноутов он в тончайший блин раскатывает русскую революцию… Кому польза?
– Германии, – ответил Артеньев с озлоблением.
– Ошибаетесь. Польза России…
К завтраку вышел артиллерист Петряев; в жизни этого молодого человека, бабника и запивохи, давно уже что-то сломалось. Сейчас он развернул газету, отброшенную каперангом, вчитался в нее.
– Вот герой моего плана – Корнилов! В конце концов, стране нужен Наполеон… Если же нет Наполеона, пусть придет и владеет нами хотя бы Наполеончик. И он предстал во всей красе! Пусть у него лицо калмыка, неказист и кривоног, но в нем что-то есть…
Артеньев через плечо лейтенанта глянул в газетный лист (это была кадетская «Речь»). Корнилов требовал смертной казни на фронте, никакой болтовни – только дело. «Довольно!» – восклицал Корнилов в конце своего интервью.
– Я тоже за это, – согласился Артеньев. – Но почему Корнилов, едва став главковерхом после Брусилова, сразу же оголил фронт под Ригой? На что рассчитывает этот ваш Наполеончик?
Петряев в раздражении отшвырнул газету:
– Да пусть он сдает эту Ригу, пусть немцы прутся до самого Урала… Мы дошли до конца веревки, и так жить дальше нельзя!
Фон Грапф глянул на часы:
– Пожалуй, мне пора… кой-кого навестить, кое-что сделать. Я так занят, так занят… Кстати, сейчас в Москве готовится всенародное вече Государственного совещания, от штаба флота едет князь Михаил Борисович Черкасский. Центробалт нового состава, который столь удачно изнасилован адмиралом Развозовым, также посылает в Москву делегата. У меня имеется гостевой билет. Но ехать, кажется, не смогу: держит готовность.
– Дайте его мне, – неожиданно попросил Артеньев.
Каперанг с удивлением передал ему свой билет:
– Странно! Вы же политикой пренебрегаете.
– Мне интересно знать, что может сказать совещание, которое носит громкое название «государственного»… Благодарю. Съезжу!
Уходя, фон Грапф задержался в дверях, добавив веско:
– В дополнение к прежнему разговору – о пораженчестве. Прошу не думать, что в этом вопросе имеется примесь прогерманских настроений. Хотя и «фон», но я считаю себя русским патриотом[22].
– Это все равно, – ответил ему Артеньев. – В случае возникновения на мостике «Новика» подозрительной ситуации я вас, любезный Гарольд Карлович, просто застрелю и выкину за борт…
Грапф, криво усмехнувшись, вышел. Петряев спросил:
– Из чего ты его думаешь застрелить? Из пальца?
Сергей Николаевич сунул руку в карман кителя:
– Оружие – дело чести, и я не сдал его команде.
– Ох, как ты играешь своей головой!
– Что ж. Это моя профессия. Мы же миноносники… За эту вот «игру» я и деньги от казны получаю!
* * *
Москва, – петербуржец Артеньев никогда не любил этого города, азиатски вылупившегося на мир каланчами и куполами, расписанными, будто ярмарочный пряник, с его диким хаосом кривых переулков и проездов, немыслимых и пестрых. Душе петербуржца всегда ближе строгий порядок расчерченных линий еропкинских перспектив, колоннады храмов, почти античных, идеальная прямизна улетающих на Острова проспектов. Он считал, что Петербург – голова всей России, а Москва – ее жирное брюхо, плотоядно отвисшее…
Все московские извозчики, словно сговорившись, отвозили офицеров на Александровский вокзал. Артеньев тоже не избег общей участи; с трудом он пробился к перрону. Дороговизна в Москве была страшная, но почти все дамы и даже прапорщики несли букеты цветов. В накрахмаленной толпе буржуазии, в серятине фронтовых гимнастерок Артеньев высматривал темно-синие пятна флотской одежды. «Или я здесь один?» Князь Черкасский тоже отыскивал балтийцев и властно вытянул Артеньева за шеренги оцепления.
Приближался поезд с генералом Корниловым.
– Я слышал, князь, будто Керенский запретил главнокомандующему покидать Ставку… в такой трудный час!
– Разве Корнилова кто удержит? – ответил каперанг. – Сейчас этот человек взлетает на гребне народной популярности…
Застыли оркестры, готовясь рявкнуть приветственным тушем. За четкою полоской юнкерских штыков строился бабий батальон, жестоко обтянув свои груди ремнями портупей. Тысячи глоток раскрылись разом и заглушили дыханье усталого паровоза. Прямо над ухом Артеньева бились звончатые медные тарелки. Корнилов стоял на ступеньке вагона, и Артеньев внимательно рассмотрел главковерха… Мундир на нем – генерала по Генштабу, через плечо хлестко закручен серебряный аксельбант, два «Георгия» тряслись на груди. Маленький человек (явно слабого здоровья) надвигался на Москву, как бронебойный снаряд. Было что-то литое в щупленьком теле генерала, похожего на стального кузнечика.
Цветы… цветы… цветы – они выстелили дорогу Корнилова.
Генерал шагал по цветам, давя каблуками потных солдатских сапог нежные лепестки орхидей. К нему, почтительно сняв котелки, приближались Родзянко с Родичевым.
– Гряди, наш вождь, и спасай Россию от погубления!
Только сейчас, затисканный справа женщинами, исколотый локтями георгиевских кавалеров спереди, Артеньев понял, что имя диктатора найдено, – вот он, идущий по трупам цветов. А за ним двигалась плотная стенка стройных, похожих на боксеров, энглизированных офицеров со стеками, которые своими воплями во славу Корнилова напомнили Артеньеву театральных клакеров, бисирующих купившего их бездарного солиста. И по настилу перрона, дергаясь коленями на жестких досках, ползла, ползла, ползла… как в финале трагедии с убийством, разряженная фабрикантша Морозова.
– Спаси нас, голубчик, – призывала она Корнилова.
«Где я видел все это?» – невольно задумался Артеньев, и память подсказала: ведь такое же исступление, такое же кликушество он уже наблюдал однажды на Гороховой, 64… у Распутина!
Наконец клакеры подхватили Корнилова на руки и понесли, как триумфатора, через толпу – на выход из вокзала, крича:
– Дорогу спасителю Руси! Дамы, господа… дорогу!
С улыбкой на маске серого лица Корнилов качался над Москвой, над ее несуразными колокольнями, – казалось, в этот момент он способен воспарить даже над Иваном Великим.
– Спаси нас от супостата и хама! – призывала его толпа…
Потом, когда людей разредило, Артеньев с Черкасским вышли на привокзальную площадь. Стали щупать отодранные с мясом пуговицы. Поправляли измятые воротнички и манжеты. Оба даже вспотели.
– Ну, старлейт, что скажете? – довольно спросил князь.
– Могу сказать одно: здесь не обошлось без талантливого режиссера. Кто это был – Санин, Мейерхольд или Станиславский, того я не знаю. Но режиссура спектакля была блестящей. Я – вовсе далекий от политики человек, и то у меня екнуло сердце.
– Погодите, еще не то будет! – посулил Черкасский.
К ним подошел незнакомый матрос – делегат Центробалта.
– Это как понимать? – спросил он, вконец обалдевший.
– Теперь у нас главный кто: премьер Сашка или главковерх Корнилов?
Черкасский сильными пальцами держал локоть Артеньева:
– Между нами говоря, я за Корнилова… А вы?
* * *
Государственное совещание! Было немало офицеров и солдат с фронта. Серая вшивая «кобылка» (как звали окопников) не определяла лица этого вече. И сам Керенский, открывший совещание, невольно стушевался… Внешне все выглядело прекрасно и даже респектабельно. В толпе делегатов мелькали визитки господ Гучкова и Милюкова; дыбилась на всех разлопаченная надвое борода князя Кропоткина; седая старуха Брешко-Брешковская хлопотала за кулисами, непрестанно жуя конфеты; были и «советчики» – Чхеидзе, Гоц, Дан; в длиннополом сюртуке, очень похожий на купца из Зарядья, похаживал психиатр Бехтерев; шлиссельбуржец Морозов был растерян; с виноватой улыбкой, словно попал в неприличную компанию, из которой никак не выбрался, бродил по коридорам знаменитый гидрограф-океанолог Шокальский с «Георгием» на шее…
Артеньев закрыл глаза, и в уши хлынули слова оратора.
Говорил профессор Соколов:
– …после ленинского бунта в Петрограде, после тяжелого поражения на фронте мы опомнились в этом зале (зал Московского университета загудел). Яд ленинства разлагает нашу национальную политику и ее главную опору – армию. Самого Ленина еще не было в России, а его идеи уже оказывали разрушительное воздействие на нашу общественную жизнь… Ленинство в армии пошло у нас от приказа номер один. Ленинство остается, как учение, целостным и законченным. Оно до сих пор верно лозунгу коммунистического манифеста: «У пролетария нет отечества!» Однако братства народов ленинская проповедь нам не принесла, и результатом разлагающего влияния большевизма явилось новое торжество германского милитаризма… Наша революция, – возвысил пафос Соколов, – была прекрасна, пока она была революцией народной, а сейчас величавый ее поток разделился на множество мутных, грязных ручьев. Если мы хотим спасти революцию, – закончил профессор, – мы должны вернуть ее к чистым национальным истокам…
– Вы почему не аплодируете? – спросил князь Черкасский.
– Из этой речи я не сложил выводов…
В перерыве Артеньева перехватил в коридоре корреспондент.
– Моряки помалкивают, – сказал он. – А нашей газете было бы любопытно установить, о чем думает офицер Балтийского флота.
– Я не расположен говорить, – помялся Артеньев. – Политика не моя сущность. И я запутался в дельте революции, где к морю выводят протоки различных партий, больших и мизерных.
– А что вы думаете о спасении России? Конкретно.
– Россия – не Франция, наш век – не век Людовиков, и Наполеона страна отрыгнет, как плохо переваренный кусок гнилого мяса. Но мне, как офицеру эсминца, всегда спокойнее, если на мостике стоит один адмирал, нежели их будет толпиться сразу десять. Пусть уж на Руси останется одна партия, как один адмирал, чтобы больше мы не вихлялись на путаных курсах революции.
– Одна? – засмеялся корреспондент. – Но одна партия при демократии невозможна. У вас какие-то черносотенные взгляды…
«Опять меня назвали черносотенцем… За что?»
Все ждали, что скажет Корнилов.
* * *
Гремела бурная овация – Корнилов уже стоял на трибуне.
Зал поднялся, кроме левой части его, где сидели солдаты-окопники. Вот только они не встали, и тогда – справа:
– Солдатам – встать! – кричали негодующие.
Справа перекинулось налево, как смачный плевок, одно только слово – презрительное:
– Холопы…
И это слово вдруг так обожгло Артеньева, что он сел.
Начинался самый ответственный момент государственного совещания. И начинался самый ответственный момент в биографии старшего лейтенанта Артеньева, выходца из обедневших дворян, сына питерского учителя… Итак, читатель, – слово Корнилову:
– Враг стучится в ворота Риги, и если неустойчивость нашей армии не удержит нас на побережье Рижского залива, то дорога на Петроград будет для немцев открыта…
Шум. Керенский. Колокольчик. Взвизгивающий голос премьера:
– Не мешайте сказать истину первому солдату Республики!
Корнилов продолжал – отрывисто, словно стрелял из пулемета, когда враг наседает, а патронов почти не осталось. Корнилов расстреливал сознание людей короткими очередями:
– …солдаты пятьдесят шестого полка отказались держать позицию!.. Полковник Стрижевский, звавший в атаку, был поднят на штыки!.. Смертной казни на фронте еще мало! Я предлагаю ввести смертную казнь и в тылу!.. Враг угрожает хлебным провинциям!.. Мы потеряем Молдавию с Бессарабией!.. Упразднить все ревкомы и советы!.. Иначе я за сохранение Риги не могу ручаться!..
Артеньев вдоль рядов уже пробирался к выходу.
– Куда вы? – свистящим шепотом задержал его Черкасский.
– Я все понял, – ответил старлейт и покинул зал…
В жизни каждого человека бывают минуты прозрения. Так влюбленный супруг, боготворящий красавицу жену, вдруг с ужасом узнает об осквернении ею брачного ложа. Так – перед смертью – иногда вдруг начинают видеть слепцы, и жизнь в последние мгновения дает им счастье увидеть лица близких.
– Хватит! – сказал Артеньев на улице. – Я уже не мальчик…
Однажды в порту Либавы ему пришлось наблюдать за работой американского бульдозера. Было странно видеть, как под натиском железной мощи раскрывается почва, рушатся в ров громадные камни и птичьи гнезда, в которых трепыхались птенцы… Безжалостная работа! Все под откос, – и так же вот сейчас прошел через сердце корниловский бульдозер, отбрасывая в овраг все лучшие чувства Артеньева – веру в долг и страсть патриотизма… Сергей Николаевич понял, что тарнопольское поражение сделало Корнилова главнокомандующим.
А когда он сдаст Ригу – он станет диктатором.
Наполеон создал себя на победах.
Корнилов создает себя на поражениях.
В этом гигантская разница!..
И четко оформилась окончательная мысль Артеньева: «Вашему позору я более не слуга…»
– На Рижский? – спросил извозчик, расправляя вожжи.
– Нет. На Николаевский. Еду в Петербург…
* * *
Рано утром он был уже на Невском. Раскрыл в руке коробок спичек и заговорил без смущения, а даже с наглым вызовом:
– Господа прохожие! Вот перед вами заслуженный офицер бывшего императорского, а затем республиканского флота. Если желаете купить спички, то покупайте у него… Только у него покупайте!
А рядом расположился со спичками обтерханный солдатишко, ноги которого в английских обмотках, и они обтягивали эти тощие ноги солдата, как лента изоляции перепрелые старые шнуры.
– Ты заслуженный, а мы, выходит, и не заслужили?
– Помалкивай. Тебе офицера не понять…
Тогда солдатишко распахнул шинель на себе, а оттуда блеснуло золотом и мишурой былого мира. Мундир полковника лейб-гвардии с регалиями такой первостепенности, какая Артеньеву и не снилась.
– Извините, – буркнул он и отодвинулся от конкурента…
Был ранний час. Разбредались по домам проститутки. С похмелья жадно хлебали воду из дворницких кранов, которые все они открывали, но ни одна не закрутила обратно, и вода текла по панели. Прохожие были редки еще. Один из них, одетый под Макса Линдера, в котелке и при тросточке, удивленно присвистнул. Артеньев тупо смотрел на него, и не сразу понял, что перед ним штурман.
– А вот это, – сказал Паторжинский, – уже срам… От кого угодно, но от вас я никак не ожидал подобного падения…
Артеньев рассыпал спички по земле и горько зарыдал. Паторжинский отвез его на Фонтанку, 24; остановились перед дверью, на которой медная табличка свидетельствовала о хозяине квартиры: «Берсонъ». На звонок им открыла обворожительная женщина в трауре.
– Янина, – сказал ей штурман, – это мой товарищ по флоту.
За скромной табличкой «Берсонъ» укрывалось подлинное великолепие. Готический зал вел в залу концертную, устроенную по образцу Веймарского дворца, и еще был зал – для собрания саксонского фарфора. Множество картин висело на стенах, часть из них уже была скатана в рулоны… Паторжинский сказал:
– Наше коло провело здесь польскую выставку, чтобы привлечь внимание русской общественности к нуждам поляков.
– Но я вижу здесь Венецианова, Брюллова… – осмотрелся Артеньев. – Бог мой, но при чем здесь Репин и Серов?
– Сознательно! Родство двух великих славянских культур не подлежит сомнению… Ну, Семирадским тебя не удивишь. А вот, посмотри: это Бакалович. Кстати, ведь ты обожаешь портреты, вот – оцени Лампи… Остатки сладки былого вернисажа. Ладно. Тебе, я вижу, сейчас даже не до этой прелестной миниатюры.
– Да. Тяжко. Бог с ней, с миниатюрой…
Паторжинский уселся в готическое кресло.
– Старшо́й! – сказал он Артеньеву, как на корабле. – Пятнадцать лет я посвятил русскому флоту, и не раскаиваюсь. Но, кажется, ты стал в этом раскаиваться… Яниночка, можно кофе?
Женщина, вся в черном, бесшумно подала им кофе: подходя, она поправила эскиз Баччиарелли и удалилась, ступая бесплотно, как дух порабощенной Польши… Паторжинский посоветовал Артеньеву вернуться обратно на флот и придвинул ему сахарницу.
– Я могу вернуться, – натужно произнес старлейт, – только ради единой цели: чтобы погибнуть на флоте! Но служить на флоте я больше не желаю… Я устал от угроз и оскорблений.
– А я вам даже завидую, – вздохнул Паторжинский. – У нас ничего нет, кроме прошлого. Будущее пока в неясных программах, и мы живем на Рембрандтах, вывезенных нами из тех замков, где пируют сейчас наглые тевтоны… Мы ужасно одиноки!
– Но у вас цель, а я свою цель потерял. У меня всегда были маленькие потребности, – признался Артеньев. – Раньше они выражались в желании отлично служить, а по вечерам ковыряться в каталогах. Сейчас… какая служба сейчас? Разве это служба? Это горе наше. Кругом вопли, суматоха… предатели! – сказал он, вспомнив о Корнилове. – Я согласен подставить себя под пули, но только под вражеские. Ждать, когда тебя убьют свои, противно.
– Россия, – заговорил Паторжинский, – вообще такая страна, в которой к людям всегда относились с беспощадной черствостью. И нигде так не оскорблялось человеческое достоинство, как в России. Поверь, я-то, поляк, это хорошо знаю. Но… возвращайся!
– На флот?
– Да. Вы, русские, сами не знаете своего счастья.
– Мы тоже в трауре, как и ваша прекрасная Янина.
– Траур легко снять.
– Но мне больно… вот здесь!
Он коснулся груди и, поникший, ушел.
Спичек на Руси не было. Чести не стало. Как быть?
7
Немцы везли в обозах мармелад и оркестры, маргарин и виселицы. Они устраивали спевки народных хоров и отличные концлагеря. Планы кайзера были таковы: всех балтов из Прибалтики выдавить в Россию, словно крем из тюбика, а взамен потребовать от России всех немцев Поволжья, Волыни, Херсонщины и Кавказа, которые и должны колонизировать новые германские земли на Востоке.
Чуткое ухо Берлина было повернуто в сторону трибун России, на которых выступали думцы, министры и генералы. Речь главковерха Корнилова на государственном совещании в Москве была для немцев как сигнальный звонок, приглашающий войти. Именно так ее и поняли в Берлине: «Рига открыта!»
Германские войска двинулись на город. Им удалось форсировать Двину возле станции Икскуль, и под угрозой окружения оказалась XII армия – самая мощная, самая упорная, самая революционная. Из «мешка» Гинденбурга, сочась кровью через грязные бинты, армия вывернулась, но Рига пала. Получив приглашение от Корнилова, кайзер не заставил себя ждать. Русские моряки все же успели взорвать форты крепости Усть-Двинска, их корабли, спешно набирая обороты, уходили в мелководные теснины Моонзунда.
Берлин в эти дни ликовал:
– Следующий удар рапирой под сердце – в Петроград!
Но прежде на Петроград тронулся не кайзер, а сам Корнилов. Смерть становилась популярна, и корниловцы несли на рукавах ее эмблему – череп с костями. За корпусом Корнилова шли на Петроград английские броневики, за рулями которых сидели британские офицеры, ради приличия переодетые в русскую форму. Антанте уже надоел болтунишка Керенский – нужен диктатор с волевым лицом, с железным кулаком, из которого рассыпаются горсти пуль.
Керенский в панике метался по Малахитовому залу царского дворца. Премьер понимал, что спасти его могут только большевики, но для этого надо их легализовать. Выпустить из тюрем арестованных. Даже своего личного врага – Павла Дыбенко.
– Охрану себя я могу доверить не бабам, а матросам!..
В Зимний дворец вступила рота матросов с крейсера «Аврора».
Не надо удивляться парадоксам революции, ее удивительным изгибам: в дни корниловского мятежа «Аврора» с пушками встала на защиту Керенского. Исторически это было правильно, и логика революции не страдала: Корнилов с генералами хуже Керенского с его министрами. ЦК ленинской партии призывал сплотиться для борьбы с корниловщиной. Начала создаваться Красная гвардия – предтеча будущей Красной Армии. Лозунг «Вся власть Советам!» обретал новую силу, новое значение…
Приказом по армии Керенский сместил Корнилова с поста верховного главнокомандующего. Мало того, он сам заступил этот пост. Мрачный фанатик массовых убийств – Гинденбург – никогда в жизни не смеялся. Но, говорят, он хохотал до упаду весь день, когда узнал, что Керенский взял на себя управление фронтами.
– Вот Россия и кончилась, – сказал Гинденбург. – Просто удивительно, что эта гигантская империя много столетий была обманчивым миражем. Как мало ей надо, чтобы она развалилась!
Керенский не был главнокомандующим, недаром его прозвали «главноуговаривающим».
Но уже разгорались огни Смольного…
* * *
Раньше на кораблях били морду, если кто оговаривался словом «оборона». Считался предателем тот, кто осмеливался произнести слово «наступление», – таких арестовывали и посылали на фронт, кормить вшей в окопах… Падение Риги заставило о многом задуматься: враг целил на Петроград! Теперь уже не боялись этих слов – «оборона» и «наступление». Изменился сам язык резолюций. Благоглупости кончились. Уже не стали до хрипоты требовать, чтобы созвать Учредительное собрание непременно на Якорной площади в Кронштадте. Гельсингфорс уже не пылил над Балтикой мусором требований особо почтительного отношения к матросам…
И очень хорошо (на пользу революции) проболтался Родзянко:
«Петроград в опасности… Я думаю, что бог с ним, с этим Петроградом. Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения. На это я возражаю, что очень рад буду, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли. Со взятием немцами Петрограда флот все равно погибнет, но жалеть о нем не приходится – там есть суда совершенно развращенные».
Балтийский флот опять просеивал своих офицеров через мелкое сито недоверия. В кают-компаниях брали расписки в том, что они против Корнилова, не пойдут за Корниловым, проклинают Корнилова! Кто отказывался – убивали… Лучше подписаться. Пусть Корнилов сам воз вывозит – без нас. И все чаще на флоте слышалось, передаваемое отрывистым шепотом, словно засекреченный пароль:
– Моонзунд… Моонзунд… Моонзунд!
Корнилова били политически. Кайзера резолюцией не хлопнешь.
– Товарищи, только кровь, только жертвы, только смерть наша остановит Вильгельма на подступах к столице революции. Мужайтесь, товарищи: близится наш смертный час, и вечную память потомства заслужим мы в веках. Мы согласны погибнуть, чтобы не погибла наша революция, наша Россия! – вот как заговорили на митингах…
В эти дни, далекий ото всего, Артеньев проснулся рано утром весь в холодном поту. Кто-то звонил с лестницы, и пустая неприбранная квартира наполнялась пугающим звоном. Спросонья ему показалось, что это снова забили, как по тревоге, колокола к бою.
– Кто там? – спросил он перед дверью.
– Обыск. Открывай…
Корнилов был побежден. На окраинах столицы уже разбирали баррикады. Под нажимом корниловщины «правительство спасения» само развалилось, и на его руинах Керенский создал власть Директории из пяти человек (во главе с собственной персоной). Непостижим был выверт судьбы адмирала Вердеревского: прямо из застенков Петропавловской крепости он вошел в состав Директории как один из правителей Российской республики… Вот именно к нему и решил обратиться Артеньев со своим делом. Из кризиса надо вылезать!
…Кстати, при обыске личное оружие у него забрали.
* * *
Республика была названа «Российской», но «демократической» ее не назвали. В ответ на это балтийские корабли стали протестовать поднятием стеньговых флагов. Их красные конусы колыхались рядом с флагами андреевскими, белизна которых означала воинскую честь и доблесть, а синий крест был символом верности долгу…
Ренгартен навестил комфлота Развозова:
– Матросы заявляют, что красные флаги на стеньгах эскадру не опрокинут. А ваш адмиральский флаг они перевернули «крыжем» книзу. Так и болтается…
– Передайте выборным от команд, что флаги никак не могут служить для выражения протеста. Не нравится им буржуазная республика, так не я ее делал! Но зачем же оскорблять меня, оборачивая мой флаг кверх ногами?
Конечно, когда адмиралу 38 лет, когда его флаг осрамлен, перевернутый «крыжем», можно и взбелениться. Но, кажется, Александр Владимирович Развозов решил не обострять отношений с флотом. Его сейчас волновал созыв второго Всебалтийского съезда.
– Съезд необходим, – соглашался командующий.
– Но съезд будет исключительно большевистским, – предупредил адмирала Ренгартен. – После разгрома корниловщины большевики окрепли. Эскадра строится за ними в кильватер. Вы посмотрите: эсеры толпами, буквально целыми командами кораблей перебазируются в партию ленинцев… Что можно ожидать от такого съезда?
– Очень многого.
– Разве вам было мало анархии? – заметил Черкасский.
– Предостаточно, – парировал комфлот. – Но большевики организованны. Они способны выправить кривизну и шатания эскадры.
– Большевики, – припугнул его Ренгартен, – носятся сейчас с идеей, чтобы поставить на мостики кораблей своих комиссаров. А это – уже хамское вмешательство в наши оперативные дела, в которых комиссары разбираются, как свинья в парфюмерной лавке.
– Пусть! – сказал Развозов, поднимаясь из кресла легко, как мальчик. – Да, пусть… Я уже изнемог от всяческих безобразий. И сейчас я соглашусь подписаться под любой большевистской резолюцией, лишь бы большевики вывели флот из гаваней в сражение…
Еще раз он поглядел на свой оскорбленный флаг.
– Очевидно, мне следовало бы сдать флот другому человеку. Но ежечасно притекает обилие оперативной информации. Новому комфлоту будет труднее… Я решил остаться. Едем, Иван Иваныч!
– Куда прикажете, Александр Владимирович?
– В Директорию – к Вердеревскому.
– Что мы скажем ему? Он только что из тюрьмы, а мы…
– А мы… хоть в тюрьму! Но я скажу то, что думаю. Съезд нужен. Пусть большевистский. Когда гром грянет, креститься будет уже поздно. Всегда надо креститься заранее…
* * *
Возле дверей кабинета Вердеревского его придержали:
– Член русской Директории занят.
– И надолго? – спросил Артеньев.
– Подождите. Сейчас у него комфлот Развозов с Ренгартеном и Демчинским… Дела неотложные – дела политические. А у вас?
– У меня, по сути дела, вопрос личного устройства.
– Тогда не спорьте и подождите.
Сергей Николаевич вскоре предстал перед Вердеревским. Гладкая голова адмирала лоснилась при свете люстр, и не хотелось верить, что адмирал только что вышел из того Алексеевского равелина, где были навеки погребены лучшие умы России.
– Как видите, я бодр, здоров, деятелен. О моем заключении и моем возвышении в истории сообщат, как о забавном анекдоте…
Артеньев напомнил адмиралу, что начинал службу на «Новике» в должности артиллериста.
– «Новик»! Краса и гордость флота российского, – перебил его Вердеревский, явно взволнованный этим напоминанием. – Никогда не забуду, что имел честь быть его первым командиром. Заранее обещаю, что исполню любую просьбу офицера с «Новика»…
Артеньев щелкнул каблуками, выпрямился:
– Я желаю погибнуть за отечество.
Вердеревский отступил – даже в некотором разочаровании:
– Я думал, ваша просьба сложнее. А погибнуть так легко. Но я вам обещаю… даю слово… вы будете иметь случай для этого!
8
После Питера меркло в глазах от изобилия даров земли, и Артеньев даже размяк душою, когда перновский буксирчик высадил его в Аренсбурге. Пустое серое Море обнимало отцветающую землю Эзеля. На эстонском базаре даром, буквально за гроши, ведрами продавали шпанскую вишню; сливы – величиною в кулак – еще хранили в себе ночную прохладу. Бергамотовые груши лежали перед ним – такой сочности, что боязно в руки взять.
Однако напрасно старлейт пытался купить что-либо, предлагая «керенки»: эстонцы отворачивались, делая вид, что по-русски не понимают. И какой-то разболтанный солдат сообщил дружелюбно:
– И не проси – не продадут. Все они тут с фрицами похимичились. Любого бери и вешай – не прошибешься: агент германский!
При этом солдат поглощал вишни, груши укладывал в шапку.
– Но тебе-то они ведь продали?
– Мне? Не… Я подошел и отнял. Имею право?
– Не имеешь. Потому они и не желают по-русски разговаривать.
На шпалерах заборов дозревал эзельский виноград. Из шумящей зелени тополей краснели черепицы угловатых крыш. Возле купален лежал опрокинутый санаторный щит-плакат. Артеньев поправил его, проходя мимо, и прочитал на нем: «Дамы! Избегайте морских процедур при беременности и кормлении грудью». Из калитки вышел человек интеллигентного вида с портфелем, и Артеньев попросил его показать, где находится дом Емельяна Пугачева.
– Вы хотите сказать – дом родителей славного бунтовщика, которые были сосланы сюда, в Аренсбург? Тогда спуститесь по Лангштрассе на косую Шлоссштрассе. Пугачевские дома (их здесь три) вам покажут. А в замке вы были?..
Он навестил и замок, ибо страсть к прошлому никогда в нем не угасала. Замок Аренсбурга был засыпан зерном, служа амбаром для горожан. На третьем этаже Артеньев постоял в зале тайного судилища, где инквизиторы-фрейшепфы пытали узников. Вековым ознобом несло из ледяной скважины провала в львиную яму; осужденного бросали туда, и долго потом слышался грозный рык – львы поедали осужденного… С тихим шорохом через щели древних камней просыпалось сытное зерно. И, как зерно, был рассыпан здесь прах незабвенной давности. Горели в этих лесах костры пирующих пиратов, а корабли их качались на рейде. Господин Великий Новгород приходил сюда с несметными полчищами ушкуйников. В свирепых сечах новгородцы убивали и полонили светловолосых разбойников. Вот тогда эсты с почтением произносили имя русского. Сергей Николаевич через узкую бойницу глянул на море: наверное, вот тут стояла в 1188 году новгородская эскадра в пять тысяч лодей под парусами, отсюда русские (заодно с эстами) пошли от Моонзунда, чтобы уничтожить разбойничье гнездо на Балтике – шумный и расточительный Сигтуну, столицу пиратов.
Сыпалось мирное зерно, и рычали львы, поедая людей.
«Минувшее проходит предо мною…» Артеньев вдруг услышал, как противно скрипят шарниры колен и локтей на панцирях меченосцев. Псы-рыцари замешивали известь своих замков на крови рабов, на белках куриных яиц – ради мистической прочности. Епископы топили язычников в прорубях; магистры рассекали младенцев языческих плоскими мечами. Струились века, как это зерно, и наконец вспыхнул над Аренсбургом флаг русских каперов. Иван Грозный отправлял отсюда свои караваны, груженные медом и пенькою, рыбьим зубом и мехами, жемчугом и дегтем, слюдою и поташом. Но только в 1711 году Россия властною ногою ступила на острова, и флаг эскадры Наума Сенявина заполоскало в проливах Моонзунда – победно! А теперь вот эстонцы ждут немцев… «Обидно, еще как обидно!»
Сергей Николаевич вышел из замка, в глаза брызнуло солнцем. Неподалеку стояла коляска на дутых шинах, запряженная парой добротных лошадей. На диванах коляски сидела женщина, и Артеньев едва поверил своим глазам. Это была Лили Александровна фон Ден, урожденная баронесса Фитингоф. Дама из свиты Распутина заметно осунулась, но лицо ее было свежим и румяным от спокойной жизни в провинции. Она узнала Артеньева, и он подошел к ней сам:
– Добрый день. Как вы оказались, здесь, сударыня?
Прошлое не отступило от женщины, умевшей ненавидеть.
– А где мне быть? На Эзеле наша старинная мыза Веренкомпф, которую я принесла в приданое мужу… Посмотрите на этот замок Аренсбурга: разве он не высок?
Артеньев невольно обернулся: да, высок!
– Какие тяжелые и дикие камни, верно? – спросила Лили Александровна. – Эти вот камни шесть столетий назад на своей спине таскали мои предки, бароны Фитингофы, и после этого вы еще осмеливаетесь спрашивать меня, почему я здесь?.. Эта земля испокон веков наша, – произнесла она с глубоким значением и зонтиком ткнула в спину эстонца-кучера: – Форвертс, Яган!
Сытые лошади, кормленные овсом, вымоченным в пиве, легко покатили вдовицу в гору, и долго не могло улечься облако душной пыли… Артеньев за лечебницей снова поправил, втыкая в землю, пошатнувшуюся рекламу от прошлых времен, которая возвещала: «Для писателей – членов Литературного фонда ванны у нас бесплатно!» Конечно, это смешно… Разве найдется женщина, кормящая грудью, или писатель, беременный романом, которые бы рискнули сейчас навестить эти края? Приезжают смертники – вроде Артеньева!
* * *
Он уже знал, где примет смерть, это место называлось Церель. Он ехал на батареи, стерегущие от немца Ирбены. Ехал на телеге с солдатами, свесив ноги между колес, а вокруг расстилались поляны, на которых по-русски колыхался неубранный лен, доцветала тимофеевка. Проплывали вдали от дорог мрачные, как заброшенные форты, баронские мызы – с башнями, кирхами, с кладбищами.
– Эк, устроились! – рассуждали солдаты-попутчики. – Намеднись самолет германский летал, так бароны простыни свои сушить стали. Разложат на траве и сушат… Сигналят, а не придерешься.
– А близ нашей батареи они эдак-то нахально пруток поставили на кирхе и стучат… по радиву, значит. Крейсерам своим знаки делают. Вобче, гроб нам здеся с крышкой и с гвоздями. И живым не знай, как выбраться. Море стережет. Одно слово – остров!
– Дома-то помирать легше: там по-русски разговаривают.
– Верно: в России б укрылся. А тута пропадем все…
Артеньев долго терпел, потом не выдержал и сказал, чтобы прекратили свое нытье – не скулить надо, а готовиться к бою, не щадить себя и крови своей для защиты отечества, для славы!
– У-у, куда заехал, – смеялись солдаты. – Завел волынку, будто в старые времена. Ты нам по совести ответ дай: на што мне война? на што мне Эзель? Я же весь изранетый да еще трипперный. Мне домой хоца – там меня баба заждалась!
– К бабе не спеши… с триппером, – посоветовал Артеньев. – А речи мои не старого времени, а нового – революционного.
Солдаты сошли на какой-то батарее, долго виделись среди картофельного поля, болотистый лесок укрыл их в вечерних сумерках. Когда их не стало, возница-эстонец придержал лошадь российским «тпрру-у», достал бутыль с самогонкой, наваренной из гнилой картошки, извлек на сумки две копченые камбалы. Стал угощать.
– И что за свинский народ пошел, – говорил он. – Ни стыда ни совести! Раньше воин российский крепче был…
Артеньев выпил. Обожгло горло. С утра крошки во рту не было. Жадно вцепился он зубами в пахучий и жирный бок камбалы.
– Спасибо, приятель. Сам-то ты кто будешь?
– Я, господин офицер, природный русский матрос. Цусиму на себе испытал. Минный машинист первого класса – Тынис Муога. Соседи наши с Даго больше в каботаж уходят, а нас, эзельских крестьян, к морю привычных, на военный флот забирают… Дать салаки?
– Дай. Ты на каком служил?
– На «Авроре». Нам повезло: «Аврора» из Цусимы своим ходом вырвалась… Разве такие огарки, как эти солдаты, прибавят славы? А мы были орлами. Восемь лет оттабанил, как по склянкам: от и до! Смотрю я сейчас вокруг, и многое мне не нравится.
– Кому тут понравится… Женат? – спросил Артеньев.
– Попалась тут мне одна… рыжая да богатая.
– Удачно пришвартовался?
– Как сказать… не деремся, и то ладно. – Тынис Муога тронул вожжи, и лошаденка потащила телегу, отчаянно визжавшую колесами по мокрому песку. – Неужели вы уйдете? – спросил он с тревогой.
– Уходить-то некуда: за Моонзундом – Петроград, самый умный город в России… Постараемся костьми разлечься! Хочу верить, что доблесть еще не умерла в людях. Что еще сказать тебе?..
С моря эзельскую ночь рассекло прожектором. Исчезли вдруг сладкие запахи торфяных мхов и клевера – море властно несло свои ароматы, всегда волнующие: рыбы и водорослей, йода и соли. Уже слышался ропот волн, и Тынис Муога сказал:
– Вот и Церель… шумят Ирбены! Прощайте…
Утопая в сыпучем песке разношенными ботинками, Артеньев побрел в темноту, и Церель встретил его гробовым молчанием.
* * *
Тогда он стал кричать. Он кричал не потому, что ему было страшно за себя. Артеньев звал караул, которого не обнаружил:
– Эй, люди! Кто-либо живой… отзовитесь!
Скрипнула дверь землянки, вылез матрос в кальсонах:
– Кто здесь раззевается, спать не дает?
– Где охрана? Где дневальные?
– Ну, я тебе дневальный… Чего надо?
– Дрыхнешь, скотина? – не выдержал Артеньев.
Матрос сунулся в провал землянки, вытащил винтовку:
– Гробану сейчас в доску без проверки документов… Чего разорался на все Ирбены? Ты кто таков?
– Командир Цереля. Встань, как положено.
– Но-но! Разбудил, да еще стоять я тебе буду… Ха!
На батарейных плацах, между орудий, даже во мраке угадывался хаотичный развал. Под ногами катались брошенные снаряды, а между дулами пушек, глядящих в Ирбены, были растянуты бельевые веревки.
– Караульный, объясни мне свои обязанности.
– Могу! Братву разбужу, и она тебе глотку заткнет…
Артеньев ударом ноги выбил из рук матроса винтовку, и она прочеркнула мимо лица его, взлетая кверху острием штыка.
– Вот так, – сказал ему Артеньев. – А теперь нажми педаль колоколов громкого боя: я объявляю на батарее тревогу…
По боевой тревоге никто (никто!) не встал к орудиям. Но бешено работающие звонки и мычанье сиплых от сырости ревунов способны поднять мертвецов. Крутя цигарки и тут же справляя нужду в кустах, замелькали по батарее потревоженные тени людей.
– Какая стерва нас будит? Поспать не дают, сволочи…
Артеньев спросил – есть ли на Цереле ревкомитет?
– Найдется. Выбрали тут одного гаврика.
Гаврик был тоже предельно возмущен.
– Кака така тревога? – орал он на офицера. – Ты что, с потолка свалился? У нас коли тревога, так об этом надо людей за сутки предупредить. И ты здесь свои порядки не разводи…
– Скажи, гаврик, а немцы тебя тоже за сутки предупредят?
– Плевать мы на немца хотели! А ревком действует в согласии с командиром всех укреплений Сворбе – каперангом фон Кнюпфером. Ишь ты, баламут! Прискакал средь ночи. Людей с кроватей рвешь, будто при старом режиме… Это ты брось!
Телефон на батарее Цереля не работал.
– Почему зуммер скис?
– Не скис. Это, видать, местные бароны опять обрезали…
Штаб по обороне полуострова Сворбе размещался невдалеке от Цереля, в рыбацкой деревушке Менто. На рассвете высокие травы были мокрыми от росы. В командном блиндаже – стол после ужина. Початая бутылка превосходного коньяку. Вскрытые банки сардин. Печенье. На стуле валялась пара боксерских перчаток. Застегивая на себе мундир, вышел фон Кнюпфер:
– Как устроились? Позавтракаем вместе?
Выяснилось, что фон Кнюпфер раньше служил на «Гангуте».
– Знаете, там была эта история с бунтом. Меня огрели поленом по голове и еще сделали виноватым. Сослали в эту тьмутаракань, как в ссылку. Но я, как видите, за два года стал капитаном первого ранга. А те, хорошенькие и чистенькие, что под суд не попали, так и громыхают до сих пор в чинах лейтенантских…
– Когда начнем приводить Церель к бою? – спросил Артеньев.
– А никогда… Никогда, – поправился он, – батареи Цереля к бою нам не привести, ибо анархия революции все разлагает.
– Но так же нельзя, черт возьми! Перед нами – Ирбены!
– Можно, – не мигая, отвечал фон Кнюпфер. – Так-то оно и лучше: если генералу Корнилову не удалось раздавить Петроград, так пусть это сделают Гинденбург и Хиппер. Мое благословение им и благословение всей мыслящей России: может, немцы избавят нас от этого позора большевизма… Почему вы не едите?
– Не хочу.
…Он очень хотел есть.
* * *
Днем прибыл на батареи крепыш-матрос. Пришел он босиком от самого Аренсбурга, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки. На ленточке бескозырки его горело золотом – «Самсонъ». Возле пояса болтался маузер. Клеши раздуло от бомб-лимонок, рассованных по карманам, как яблоки. Без церемоний он сунул руку:
– Ты за командира? Ну, здравствуй. Я – Скалкин, прислан на Церель по приказу Центробалта… комиссаром. Не испугал?
– Да нет. Страшнее того, что здесь творится, не будет.
– Это мы исправим. Сейчас перво-наперво своих поищу.
– Земляков, что ли?
– Да ну их к бесу, земляков этих! Вот когда закопают нас за милую душу, тогда все мы, старлейт, земляками станем. А сейчас пошукаю большевиков. Не может так быть, чтобы в эдаком раю не сыскалось хоть одного с мозгами…
В этот день кто-то стрелял в Артеньева из винтовки. Пуля вжикнула под локтем, едва не задев руки, он обернулся к кустам:
– Эй, как тебя?.. Это же подлость – стрелять в спину!
Скалкин, ботинок не надев, босой гонялся по землянкам и баракам, кулаками и лозунгами выгонял прислугу на построение:
– Товарищи! Время не такое, чтобы прохлаждаться… Ты никак косой? А ну, дыхни… Два пальца в рот и вытрави, что выпил… Товарищи, говорю я вам, враг не ждет: кровью нашей обмоем дорогу до Моонзунда… Ходи все наверх! Кто там валяется, словно падло худое? Встать! Встать по приказу революции… Сейчас, в этот исторический момент, ты плетешься, будто вошь в баню…
Артеньев потянул босяка-комиссара за рукав форменки:
– Слушай, мне жалко твоих трудов. Я уже пытался…
– Держись на товсь, – отвечал Скалкин. – Никогда не теряй хладнокровия… Большевики обнаружились. А тебя, коли ты за порядок и дисциплину, я отныне буду считать сочувствующим. Ты сейчас встань сбоку и наблюдай, как я печатать всех стану. Не бойсь: я на «Самсоне» не такие номера прокручивал!
Толпа, сброд, шантрапа (иначе не назовешь) построилась. Мимо комиссара здоровущий матрос протащил на своем сытом загривке пулемет «шоша». На вопрос, куда он его тащит, ответил честно:
– На пропой братишкам. На мызе с бароном договорились…
– Стой! Именем революции – не ползи, гнида!
– Иди ты…
Блеснул огонь из маузера. Пулемет, рушась сверху на убитого, раздробил ему череп возле уха. Все было так неожиданно, что Артеньев даже растерялся… Гарнизон притих, строй выровнялся.
Скалкин дунул в черный глазок маузера.
– Сам не понимаю – отчего, но вот эта железная штучка, – он показал маузер, – когда нажмешь на эту пипочку, она стреляет… Товарищ Артеньев, подойдите сюда и отдайте команду.
Сергей Николаевич тихонько спросил его:
– Какую команду?
И так же тихонько ответил ему комиссар:
– Кричи громчей любую, пока они по шею обкакавшись…
– Смиррр-на! – с удовольствием рявкнул Артеньев.
– А команды «вольно» теперича не будет… вольная житуха кончилась! – объявил Скалкин, запихивая маузер в кобуру. – Вот перед вами командир, приказы которого буду проверять я, ваш комиссар. Если командир сплохует – я его шлепну в патоку. Если кто приказа командира не исполнит – его тоже шлепну в повидло. Революция ждет от нас жертв, товарищи. Сейчас весь мир смотрит на нас… Или мы только за царя умели сражаться?
Он шагнул к строю, прошелся вдоль шеренг:
– Кому что на данном политическом этапе неясно, прошу заявить открыто. Есть у вас насущные вопросы или мировые проблемы?
Ни вопросов, ни тем более проблем уже не возникло.
– Ваше молчание есть верный указатель того, что вы люди с башкой и сами до всего допираете…
Артеньев потом подошел к Скалкину и пожал ему руку.
– Спасибо, друг, – сказал он с чувством. – Если бы не ты, они бы меня тут, как солому, сжевали.
– Мы хладнокровия не теряем. У тебя вопросы есть?
– Пока нету.
– Вот видишь, как хорошо. Душа радуется!
* * *
Вечером к отмелям Цереля прибой выбросил матроса. Словно умирающий краб, раскинув руки и ноги, вцеплялся он в рыхлый песок. Полз и полз к зеленеющим далям Эзеля, уже тронутым осеннею желтизной, чтобы – прочь от воды, которая еще пыталась оттащить его обратно в Ирбены… Артеньев перевернул матроса на спину, Скалкин глянул на карман его робы, где нашит боевой номер.
– Из минеров он… боевой пост – два, спал на восьмой койке в четвертой палубе… Эй, приятель, ты с какого?
Выброшенный морем разлепил глаза, уже изъеденные солью:
– С миноносца «Охотник»… наскочили на мину…
– Ты, браток, один спасся?!
– Там… другие… умираю…
Финал к кризису
Взрыв настиг эсминец под южным берегом Эзеля. В разрушенный корпус «Охотника» море сразу вошло тоннами воды. Командир эсминца старлейт Фоков приказал с мостика:
– Внимание! Осталось минут десять, не больше… Раненых – в шлюпки. Команду я благодарю за службу, и сейчас, прощаясь с нею, я скажу, что всегда гордился такой командой… Повторять не стану: все по шлюпкам, а я остаюсь на корабле… с кораблем!
Фоков отбросил мегафон и, пожимая наспех руки встречных, сбежал с мостика в кают-компанию. Он слышал, как шлюпки отошли, гремя уключинами и веслами. С палубы спустились в кают-компанию старший артиллерист и минер «Охотника», оба молодые.
– Господа, почему вы не покинули корабля?
– Мы с вами. Сейчас придут и другие. Переодеваются…
Во всем чистом, при кортиках, с чистыми лиселями воротничков, в кают-компании сошлись все офицеры. По низам «Охотника» с ревом наступала вода, и взгляды невольно обращались к стрелке кренометра. Командир распечатал бутылку вина, и каждый, выпив, разбивал свою рюмку вдребезги. Механик открыл портсигар и оставил на столе раскрытым – уже навсегда. Он сказал, закуривая:
– Еще минуты четыре, после чего, я думаю, поедем…
Командир встал:
– Отдраим иллюминаторы, чтобы меньше мучиться…
Да. Пусть они лягут на грунт с кораблем уже мертвецами. Чтобы не страдать на глубине моря, вбирая губами последние глотки воздуха из спрессованных воздушных «подушек» под потолком… Что-то лязгнуло наверху, и все побледнели.
– Открыли люк! Кто-то еще ходит по кораблю… Кто?
Дверь в кают-компанию распахнулась – матросы.
– Решением ревкома боевая вахта «Охотника», которую взрыв мины застал на постах, решила эсминца не покидать…
Офицеры встали. Они заплакали. Командир сказал:
– Ну, что же вы там? Идите сюда, товарищи…
Матросы вошли в кают-компанию и сели среди офицеров.
Теперь их было 52 человека. Все молчали, прощаясь друг с другом взглядами. Вода, глухо ворча, вышибала под ними крышки горловин. Вода выпучивала своим напором стальные переборки. Она разрывала металл перекрытий, словно бумагу… Вода приближалась к ним, и кренометр показывал уже близкий предел.
Командир встал:
– Ну… готовьтесь. Так умирали и наши деды!
Эсминец, словно в изнеможении, стал прилегать на борт. Одна из его труб еще поливала волны клубами черного дыма. Изнутри котельных отсеков доносилось яростное шипение, словно клубок змей поместили в машинах, – это под ледяным гнетом воды отдавали свой нестерпимый жар котлы системы Бельвиля…
– Начнем прощаться, – сказал командир и крепко, очень старательно загасил папиросу в старинной бронзовой пепельнице.
Плача и целуясь, люди обнимали друг друга. Никогда еще в жизни не были они так нежны и искренни в своих чувствах.
– Ты прости меня, – слышалось. – Я не хотел…
– А тогда? Помнишь? Я был не прав…
– Прости и ты меня…
Над столом, как разбитое стекло, прозвенел голос:
– Поторопитесь!
Вода раскрыла двери – легко, без усилия, и вот оно, море…
Брызжущее, грохочущее, ликующее, море ворвалось внутрь, оно перевертывало столы и стулья, бросало людские тела к переборке.
Смерть всегда не нужна. И всегда сладки мгновения жизни.
Кое-кто встал на диваны – головами к потолку. Через раздраенные иллюминаторы толстыми бивнями, как из широких брандспойтов, врезались морские воды. Холодна вода, до чего она холодна!
Очень холодна вода Балтики 1917 года…
Свет померк. Больше они никогда не пройдут Моонзундом.
* * *
Гибель эсминца «Охотник» не просто исторический факт.
Команда эсминца – в своем презрении к смерти – показала высокий воинский дух. Балтийский флот был готов… Да. Балтийский флот был готов к самопожертвованию.
Лучшие традиции русских моряков оказались живы.
Кают-компания и боевая вахта матросов легли на грунт.
Рядом. В обнимку.
– Начинайте, товарищи… без нас!
Часть шестая
Прелюдия к Моонзунду
У Вильгельма Гогенцоллерна
размалюем рожу колерно.
Вл. Маяковский. Военный лубокЧитатель! Если ты не щедр на радости жизни и тебя не волнует гневное кипение моря, если твоя хата с краю и остальное ничто уже тебя не касается, если ты никогда не совершал диких безумств в любви и тихо, никому глаз не мозоля, укрываешься в кооперативной квартирке от уплаты алиментов, если тебе, как ты не раз заявлял, «все уже надоело» и ты не ходишь в кино смотреть военные фильмы, если закаты отполыхали над твоим сердцем, сморщенным в скупости чувств, – тогда я заявляю тебе сразу:
– Оставь эту книгу! Можешь не читать ее дальше…
В самом деле, стоит ли тебе напрасно мучиться?
Возьми с полки справочник, раскрой его на букве «М», отыщи слово «Моонзунд», и там, из десяти скупых строчек, ты вкратце узнаешь все то, что поведано мною на последних страницах книги…
* * *
В один из дней к особняку русского посольства в Стокгольме подъехала в коляске стройная женщина с траурной вуалеткой на лице; она позвонила с крыльца, секретарь проводил ее к морскому атташе кавторангу Сташевскому; в кабинете женщина откинула вуаль, и кавторанг заметил, что она красива.
– Я не уполномочена обращаться в посольство, но обстоятельства вынуждают меня рискнуть, – сказала женщина. – Запишите: четыре линкора типа «Насау» уже в Либаве, появились «байерны». Наблюдается активность немцев возле Виндавы. На платформах идут из Германии подозрительные баржи с откидными бортами. Много лошадей, масса мотоциклов! Сообщите в Адмиралтейство срочной шифровкой: двадцать восьмого в четверг ожидается неизвестная мне операция немцев в районе архипелага Моонзундских островов… Записали?
– Информация исходит от… вас? – спросил ее Сташевский.
– Эти сведения сообщает вам Ревельская Анна…
Да, именно на 28 сентября 1917 года была запланирована самая громоздкая операция кайзеровского флота. Однако началась она на день позже, потому что немецкий педантизм напоролся на русские мины… Атташе проследил через окно, как женщина, выйдя из особняка, торопливо прошла через улицу к своей коляске. А из-за поворота медленно выполз черный лимузин германского посольства и поехал за русской шпионкой, словно конвоируя ее… «Провал?»
* * *
Из Ватикана за проливами Моонзунда следили зоркие глаза папы Бенедикта XV. За счет военного поражения революционной России папа хотел сепаратно сосватать мир Англии с Германией. Но для этого необходим пустяк: чтобы флот кайзера ворвался в Петроград… Мешал Моонзунд!
Лучший дипломат римской церкви, нунций Эудженио Пачелли, отбыл в Мюнхен для совещания. Крупп в Мюнхен не приехал – промышленный милитаризм Германии представлял Гуго Стиннес. Договорились, что, когда немцы пойдут в Моонзунд, Англия и Франция мешать немцам не станут.
* * *
Лондон, Уайтхолл… За столом обширного кабинета сидит человек, которого хорошо знают в нашей стране. Тогда ему шел всего сорок третий год. Он и тогда уже был с солидным брюшком. Неизменная сигара и бутылка с виски не мешали ему трезво оценивать обстановку. Сейчас к нему явился русский военно-морской атташе, предельно взволнованный, и волнение его можно понять.
– Германия посылает на Балтийский театр две трети своего флота. Семьдесят процентов всего Гохзее-флотте скопилось у берегов Курляндии. Назревает неслыханная по масштабам операция. Если союзный флот Великобритании не оттянет часть германских сил с Балтики активными действиями здесь, то…
– Мой друг, – отвечал Черчилль, – что вы говорите? Верить ли этому? Однако если ваши сведения справедливы, то я призову в свидетели адмирала сэра Джелико. Пусть он подтвердит, что британский флот, всегда верный союзническому долгу, уже начал демонстрировать возле германского побережья…
Джелико сказал, что это все чепуха: Гранд-флит забрался в спальню его величества и дрыхнет, а в помощь русским болтунам он не даст даже подлодки, – хватит! Черчилль энергично сосал потухшую сигару. «Разве можно быть таким откровенным нахалом?»
– Ну, все равно, – сказал он, любезно пожимая руку российского атташе. – Вы не волнуйтесь: Уайт-холл сделает все возможное, чтобы оттянуть жар от больной части вашего фронта…
На самом же деле, согласно сговору в Мюнхене, они ничего не сделали. Для них было важно одно: пусть тевтонский кулак раздавит сердце русской революции – Петроград… Ленин писал:
«Не доказывает ли полное бездействие английского флота вообще, а также английских подводных лодок при взятии Эзеля немцами, в связи с планом правительства переселиться из Питера в Москву, что между русскими и английскими империалистами, между Керенским и англо-французскими капиталистами заключен заговор об отдаче Питера немцам и об удушении русской революции таким путем?
Я думаю, что доказывает».
* * *
Вильгельмсгафен… Здесь проводится подготовка операции, которая закодирована под шифром «Альбион». Никогда еще за все время войны флот кайзера не выставлял столько боевых сил. Рейхстаг требовал победы – только победы! Смысл высказываний министров и депутатов был примерно таков:
– Революция России сдвинула и Германию… Кровопускание в Моонзунде будет благодетельно для нашей нации, у которой закружилась голова от русской анархии. Моонзунд дает нам двойной выигрыш: мы убиваем русскую революцию и ликвидируем германскую в самом ее начале. Победа пойдет далеко: массы не обладают правильной оценкой времени и пространства, а посему этот Моонзунд произведет на всех внушительное впечатление… С нами бог!
Революция уже стучалась в броню германских дредноутов. На «Вестфалене» вспыхнул бунт, матросы швырнули командира за борт. Команда «Нюрнберга», следуя примеру «Потемкина», арестовала офицеров и пыталась укрыться в норвежских фиордах. Кронштадтские ночи в пламени выстрелов освещали доки и гавани Вильгельмсгафена.
– А сейчас, – говорил гросс-адмирал принц Генрих, – экипаж «Принца-регента Луитпольда» объявил голодовку, как в тюрьме, а на «Пиллау» – стачка, будто на заводе. Моонзунд спасет нас…
Над разворотами оперативных карт операция «Альбион» обретала свою плоть, насыщалась теплом и животворилась от крови, которая скоро прольется. В пунктуальности немцам отказать никак нельзя. С точностью до минуты было разграфлено, выверено и зафиксировано – куда, когда и в каком состоянии подойдет корабль, сколько человек втащат пулемет на горку возле хутора Лыо, кто в среду в 03.47 обстреляет колокольню на перекрестке Тюрио-Ямма.
– Самое главное, – рассуждали оперативники, – заслать как можно больше агентов для муссирования паники! Все говорящие по-русски агенты должны слиться с гарнизонами Эзеля и Даго…
Адмирал Эргард Шмидт поднял свой флаг на «Мольтке».
– Мне оказана честь… мой кайзер… моя Германия…
Сначала один германский эсминец пробежал далеко вперед и расставил в море плавучие маяки, которые, чадя ацетиленовыми горелками, освещали дорогу эскадре, словно вечерний проспект большого города. 11 дредноутов, во главе со всемогущим «Байерном», взрыли море своими мордами. 47 эсминцев (сразу несколько флотилий) пробороздили горизонт. Германская армада в 300 вымпелов задымила Балтику, висли над мачтами «фоккеры» и «альбатросы» с ястребиным оперением на хвостах, гудяще плыли над эскадрами флотские цеппелины. В тесноте трюмных стойл било на качке войсковых лошадей, на палубах крейсеров стояли тысячи мотоциклов и велосипедов самокатных отрядов. Русские мины стерегли эскадры кайзера в глубине, и сроки начала операции задерживались кропотливой работой тральщиков. График «Альбиона» сразу затрещал, и адмирал Шмидт рискнул:
– Ну-ка! Пусть они убираются к черту со своими сетками. Мы не можем ждать, пока они расчистят весь огород от картошки…
Эта задержка с тралением и была причиной тому, что Моонзундское сражение началось с опозданием на сутки – не 28 сентября, а 29 сентября по старому или 12 октября по новому стилю.
* * *
Гельсингфорс – второй Всебалтийский съезд. В руке председателя Дыбенко вздрагивает лист бумаги, а по щеке сурового богатыря (что это?) скатывается одинокая слеза. Он читает обращение флота «К угнетенным всех стран».
– «Братья! – звеняще произносит Дыбенко. – В роковой этот час, когда звучит сигнал смерти, мы, балтийцы, возвышаем свой голос, мы посылаем вам предсмертное завещание. Атакованный превосходящими силами, наш флот погибнет в неравной борьбе. Но ни один корабль от боя не уклонится, ни один матрос не сойдет с палубы побежденным…»
Дыбенко отложил лист и выкрикнул исступленно:
– Оклеветанные и заклейменные, мы, флот Балтики, исполним свой долг перед великою русской революцией!
Двери – вразлет, а в дверях – адмирал Развозов. От самого порога зала он пошел на Дыбенку, вопрошая его еще издали:
– Отвечайте! Сейчас, когда разгорается битва, могу ли я быть уверен, что флот исполнит мои приказы беспрекословно?
Дыбенко поднял руку, и зал съезда помертвел в тишине.
– Приказ адмирала в бою – закон для всех. Кто не исполнит его, тот именем революции будет расстрелян. Но мы никогда, – возвысил голос Дыбенко, – уже никогда (!) не исполним ни одного приказа Временного правительства… Ваши же приказы, адмирал, – обратился он к Развозову, – нравится вам это или не нравится, будут проконтролированы комиссарами Балтики.
– Хорошо, – нервно отвечал Развозов. – Я согласен. Я согласен даже на это…
Дыбенко с трибуны протянул адмиралу руку.
– Но если мы увидим, что флоту Балтики грозит гибель, вас мы повесим… первого… и на первой же мачте!
Развозов пожал руку большевистского вожака Балтики.
– Боюсь, – сказал с усмешкой, – что меня вам вешать не придется. Я хочу верить, что флот исполнит свой долг…
Делегаты съезда прямо с трибун уходили на корабли комиссарами. Они поднимались на мостики, вставая рядом с командирами.
За рубежами Моонзунда открывалась новая революция – ленинская, и корабли шли в бой за нее, только за нее!
Швартовы отданы:
Прощайте, товарищи, – с богом! ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, Что нынче умрем под волнами, Не скажет ни камень, ни крест, где легли Во славу мы русского флага…По местам стоять!
Внешне, на первый взгляд, дело обстояло так: германский флот неожиданно предпринял атаку большими силами на острова Моонзундского архипелага… Русский флот защищал их… это было вполне естественно и закономерно. Не случайно все историки Моонзундского сражения рассматривали его как один из эпизодов первой мировой войны.
Между тем такой взгляд неправилен!
А. С. Пухов. Моонзундское сражениеЧерез узкие глотки Ирбен и Моонзунда, через пролив Соэлозунд и Кассары, словно через чудовищные трубы завывающего в тоске органа, продувало черные сквозняки смерти.
Первой выбрала якоря «Слава». Почти касаясь винтами грунта, она тронулась через роковые фарватеры Моонзунда; следом за «Славой», взбаламучивая ржавчину ила, пошел «Гражданин» (бывший «Цесаревич»), – и эти два эскадренных броненосца были единственными, кого флот мог противопоставить эскадрам германских «байернов». По традиции от прошлых времен мы эти броненосцы будем по-прежнему величать «линкорами».
Сорвались со стоянок крейсера – «Баян» и «Диана», за ними шагнул в революцию крейсер смерти «Адмирал Макаров», спустивший со стеньги флаг с черепом и костями (тоже поднял красный).
Минная дивизия под началом адмирала Старка блуждала по шхерам, дивизионы строились и разбегались по морю, отрабатывая дымы прогоревшего угля и мазута, а возглавлял эту дивизию славный первенец – «Новик»!
Его сейчас догоняли братья и сестры – «систершицы», порожденные на верфях России по тем же чертежам, что и «Новик».
Молодой, хорошо подкованный, легко рысил по волнам XI дивизион: «Победитель», «Забияка», молниеносный «Гром».
Отбрасывая крутую волну, пролетал XII дивизион: «Десна», «Самсон», «Лейтенант Ильин» и «Капитан Изылметьев».
Раздувая белые усы пены, кроил море форштевнями XIII дивизион: «Изяслав», «Автроил», «Гавриил», «Константин».
Больше нефтяников не было – следом шли угольные «Генерал Кондратенко» и «Пограничник», «Эмир Бухарский» и «Туркменец Ставропольский». А дальше, словно отбивая лихую чечетку, замелькали по Кассарскому плесу забубенные имена: «Стерегущий», «Страшный», «Гремящий», «Дельный», «Разящий», «Сторожевой», «Прыткий», «Лихой» и прочие.
Нелюдимы и затаенны, прошелестели во тьме брезентами навесов сторожевики на посылках: «Барсук» и «Выдра», «Горностай» и «Хорек»; за ними пробежала осторожная тихая «Ласка», обнюхивая воздух широкими ноздрями своих вентиляторов.
Бродяги-тральщики проутюжили море в рискованном отдалении, имена их были взяты словно из учебника по минному делу: «Ударник», «Капсюль», «Запал», «Минреп».
Вот пронесло за мыс Патерностер дивизион канонерских лодок, которых страшно боятся немцы, а сами они, дерзкие, всегда презирают смерть: «Хивинец», «Храбрый», «Грозящий» – родные братья «Сивуча» и «Корейца», павших неподалеку отсюда еще в пятнадцатом.
Настораживая людей, проплыла госпитальная «Лава». Красный крест на ее борту, а в иллюминаторах – круглые женские лица.
– Эх, сестрички! Не дай бог попасть на вашу «Лаву»…
Шли заградители – сетевые и минные, имена которых взяты с географической карты России: «Амур», «Волга», «Зея», «Бурея» и «Припять».
Тащили для нужды эскадры уголь транспорта, названные по буквам церковнославянского алфавита: «Буки», «Веди», «Глаголь», «Иже», «Како», «Люди», «Живете» и другие разные…
Мало выставил Балтийский флот. Безбожно мало!
Казалось, дредноуты кайзера насядут на этот жидкий строй кораблей, и стальные груди «байернов» в слепой ярости разрушения будут крушить и ломать хрупкие ребра шпангоутов на эсминцах, они просто опрокинут кверху килем старую «Славу», как броневик переворачивает кверху колесами неосторожную телегу…
«Товсь!»
Моонзунд продувало гибельными сквозняками.
* * *
Вдогонку спешащим на смерть крейсерам и эсминцам густо харкнул Керенский таким приветствием, которое больше смахивало на проклятье… Вот текст его радиограммы:
НАСТАЛ МОМЕНТ, КОГДА БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
ЦЕНОЮ СВОЕЙ КРОВИ ДОЛЖЕН ИСКУПИТЬ
СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И СВОИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РОДИНОЙ.
Гельсингфорсский съезд матросов дал ему ответ:
ТЕБЕ ЖЕ, ПРЕДАВШЕМУ РЕВОЛЮЦИЮ
БОНАПАРТУ-КЕРЕНСКОМУ, ШЛЕМ ПРОКЛЯТИЯ
СВОИ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА НАШИ ТОВАРИЩИ
ГИБНУТ И ТОНУТ В ВОЛНАХ МОРСКИХ…
Впрочем, еще никто не гибнул и никто не тонул. Флоты противников разворачивались, совершали перестроения. Искали оперативных выгод в средоточиях гаваней, рейдов и виков.
Все русские силы, собранные сейчас в Моонзунде, на обширном рейде Куйваста, в Аренсбурге и в Рижском заливе, возглавлял Михаил Коронатович Бахирев, флаг которого колыхался над военным транспортом «Либава».
Из кают-компании транспорта разбрызгало по рейду гитарным звоном, офицеры завели старую песню старого флота, порожденную в тоске зимних стоянок у Вердера или подле ремонтных цехов Рогокюля:
С теплых коек оторвавши заспанных господ, в бардаках людей собравши, гонят их в поход.И дружно подхватили – почти в озлоблении:
В Моонзунд идем, наверно, В Моонзунде очень скверно. Моонзунд, Моонзунд! Нам бы лучше в Трапезунд…Большинство офицеров здесь – корниловцы.
* * *
В прохладном салоне «Либавы» их трое: сам Бахирев, начмин Георгий Старк и молодой контр-адмирал Владиславлев, начальник подводного плавания. Старк, как «миноносник», любил выпить. Темно-бордовое вино текло в рюмки, словно мазут с «новиков», – тягуче, маслянисто и совсем не прозрачно.
– Нектар чертей! Попробуйте, Михаил Коронатович, а потом совместно занюхаем цикорием, чтобы от нас не пахло.
Бахирев и Старк пили, но Владиславлев отказался.
– Эти большевики навели порядок, – сказал он. – Подумать только: ни одного пьяного… На «Рюрике» офицерская вахта с горя накачалась денатуратом, чистейшим, как слеза младенца… Так что? Ревком вынес решение: одели ханжистов в робы и заставили нести кочегарную вахту возле котлов…
Старинная мадера была великолепна.
– Откуда она, Георгий Карлович? – спросил Бахирев.
– Это еще из погребов Эссена… не допил покойник! Как бы эта мадера не стала последней нашей мадерой в жизни…
На рейде Куйваста было спокойно: под бортом штабной «Либавы» тихо подремывал «Новик», у пристаней дымили тральщики, «Гром» держался за бочку… С вахты доложили в салон:
– На рейд входит «Победитель» под брейд-вымпелом!
– Это вымпел Пилсудского[23], – заметил Владиславлев. – Он ходил на «Победителе» под Аренсбург на разведку.
Старк любовно наклонял бутылку над рюмками:
– Передайте, что я даю «добро» Пилсудскому на вхождение.
Все – как надо. Обычная суета рейдов и гаваней.
– Пилсудский, – сказал Бахирев, – отбоярился перед ревкомом за свою фамилию. Он и в самом деле псковский дворянин, его мать из рода Аничковых. А вот командира «Храброго» выкинули.
– За что?
– Родственник главковерха Корнилова… было не скрыть!
Бутылка взвилась над столом, выплеснув мадеру на скатерть. Рюмки, жалобно звеня, рассыпались осколками. Старка швырнуло со стула на Бахирева, Бахирев головою влетел в живот Владиславлеву, – адмиралы покатились по коврам, хватаясь за мебель. Шторы на дверях вытянулись полого – «Либаву» качало с треском корпуса, хрустя рвались швартовы с соседнего «Новика», тральщики волной отрывало от линии причалов.
– Черт бы побрал этого лихача – Пилсудского!
«Победитель» не сбавил оборотов на рейде, и разводная волна, выбегая из-под его винтов, раскачала спокойную воду Куйваста. Старк с огорчением поднял пустую бутылку:
– Не дал допить… На мостике! Дать матом на «Победителя»: начмин Старк выражает Пилсудскому неудовольствие. Запятая…
– Поставьте точку без продолжения, – подсказал Бахирев.
– Точка! – крикнул Старк в амбушюр переговорной трубы.
Рейд затихал. «Либаву» качало все меньше и меньше.
Над мачтами «Победителя» вспыхнул дерзкий сигнал:
ФЛОТ ИЗВЕЩАЕТСЯ тчк НАЧМИН СТРАДАЕТ ОТ КАЧКИ тчк
Эскадра начала репетовать сигнал, и от корабля к кораблю переходило известие, что адмирал Старк испугался большой волны. Бахирев при этом сказал:
– Издеваются! Как угодно, а я подаю рапорт, об отставке.
– Я тоже, – сказал Старк. – Ну их всех к черту! Сколько можно терпеть? А ты, Петр Петрович?
Владиславлев был и хитрее, и вреднее обоих.
– Не дурите, – отвечал. – Еще не все пропало…
На краю стола, забрызганного мадерой старого флота, Бахирев писал: «Прошу освободить меня от командования Рижскими силами залива, так как, несмотря на мои крепкие нервы, постоянные трения мешают мне отдать все способности на оборону залива, и я начинаю терять надежды на боевой успех…»
Когда саботажники отложили перья, Владиславлев выругался:
– Донкихотством грешите? Да кому оно нужно сейчас? Если сопротивляться большевикам, так надо делать это иначе…
Вошел начдив-XI кавторанг Пилсудский.
– Осмелюсь доложить, за Аренсбургом все спокойно.
– Зато у нас не все спокойно, – отвечали ему.
Владиславлев решительно выволок Пилсудского из салона:
– Жорж, как настроение?
– Отличное. Такой ветер, такая волна…
– Я о другом. Ты бежать не собираешься?
Пилсудский был удивлен, неуверенно хмыкнул:
– Бежать? Но… куда бежать, если завтра бой?
– Ах ты, наивное дитя! За кого драться? За большевиков? Неужели твоя дворянская кровь не бунтует?
Пилсудский щелкнул, как пижон, золотым портсигаром, на котором от минувших времен сохранилась витиеватая гравировка: «За отличную стрельбу въ Высочайшемъ присутствии Ихъ Императорскихъ Величествъ». Постучал папиросой об ноготь, дунул в нее.
– Ты же контр-адмирал, – сказал начдив-ХI. – Я думаю, что «адмирала» можно теперь откинуть, останется только «контр»…
Удар пощечины отбросил Пилсудского к переборке. Начдив раскурил папиросу и прищурил острый глаз на Владиславлева:
– Субординация связывает меня… отвечу потом!
Не удалось. Ответ за него дали другие.
* * *
Политическая болтовня, когда человека хлебом не корми, только выступить ему дай, – это наследие буржуазной революции. И это наследие, будь оно трижды проклято, висло гирями на ногах, висло камнем на шее – и только один язык был свободен, ничто ему не мешало болтать, болтать и болтать…
На ревельском вокзале – шум, толкотня, гвалт. Мосальский пехотный полк ночью поднят с квартир, сейчас митингует:
– Куды посылают? На Эзель? А я не хочу! Ежели революция, так я понимаю – свободы много…
По теплушкам воровато шныряют типы с бутылями, в которых фиолетово светится райская ханжа. Пьяные солдаты вышибают офицеров из вагонов, сами занимают купе. Офицеры же, затюканные до последней степени, размещаются в теплушках. Колеса крутятся. На прощание по окнам Ревеля солдаты рассыпают пули:
– Прощай, Ревелёк! Нас убивать повезли…
Попутно разграбили станцию Шлосс-Лоде. Очевидец сообщает, как было: «Озверение дошло до того, что куриц даже не резали, а разрывали да части руками, свиней не кололи, а исполосовывали штыками». Про мебель и говорить не приходится: крушили все подряд страшными гранатами системы Новицкого.
Напрасно сознательные призывали буянов:
– Товарищи! Имейте же совесть наконец…
– А у них совесть имеется, чтобы нас убивать?
– У кого – у них, ты подумал?
– А вот у этих, которые нас посылают…
По баронским мызам – словно чума прошла. А где не было усадеб, там врывались в дома эстонских крестьян, грабили имущество. Так доехали до курорта Гапсаля, Моонзунд уже дышал в лицо солью. Здесь совсем распоясались: тащили свиней на заклание, а свинарник оказался собственностью бригады крейсеров. Матросы с «Адмирала Макарова», примкнув штыки к карабинам, пошли в атаку на мосальцев, спасая своих свиней. Солдат лупцевали прикладами:
– Давай на Эзель, крупа худая! Революцию защищать…
– Ой, не бей! Нам бы митинг еще провести!
– Крути митинг на полный. Война не ждет…
Мосальский полк от революции усвоил самое худшее. Сейчас (в кольце матросских штыков) солдаты избирали президиум. Крейсерские топтали под каблуками окурки, покрикивали:
– Не тяни кота за хвост! Голосуй за победу…
– Братцы, – призывали ораторы, разрывая на себе шинели, – за што кровь наша льется? Поклянемся во имя революции, что насилию флота подчинимся, и в немца стрелять не будем…
А к берегам Моонзунда уже подкатывали в Гапсаль свежие эшелоны полков Козельского и Данковского. Пять битых часов они сообща размусоливали вопрос – воевать им или не воевать?
– Не хотим! – была резолюция.
Большевики Центробалта осипли от уговоров. Кое-как под утро уломали этих баранов, и панургово стадо начали грузить на пароходы для отправки на Эзель. Демонстрируя полное отсутствие морской культуры, солдаты высунулись из иллюминаторов, вертели головами слева направо. А когда вдали показались эзельские берега, опять закрутился на палубах митинг.
– Братцы, на повестке дня исторический вопрос: сходить нам с кораблей на берег или не сходить? Чай, мы не скоты худые, чтобы самим добровольно на убой иттить. А потому предлагаю собранию – с места не двинуться, а, ежели немец придет в организованном порядочке, без шуму и паники, сдадимся в плен…
Матросы прикладами гнали их с кораблей на берег:
– Кончай резолютить, а то, видит бог, башку расшибу!
С берега (обиженные) данковцы и козельцы орали:
– Тока б до первого немака добраться – мы лапки кверху!
Еще не сделав по врагу ни единого выстрела, они уже запланировали сдачу в плен. Пусть имена этих негодяев останутся в истории Моонзунда как грязное пятно. Вот они:
Мосальский полк – Козельский – Данковский.
…Лучше бы их сюда и не присылали!
* * *
Полуостров Сворбе – длинный язык Эзеля, он вытянулся далеко в море, и, казалось, истомленная за лето земля жадно припала к Ирбенам и сосет из них воду, пронизанную взрывами мин. А на самом кончике языка – узенькое жало Цереля.
Сейчас на Цереле тишина, только ночное море лопочет в камнях. От рыбацкой деревни Менто подвывают сиреной эсминцы и доносится музыка. Там шумит эстонская свадьба, вводят в дом к жениху невесту с цепями на бедрах; вся в лентах, в бусах и пряжках, пьяная от крепкого пива, что она знает?.. Возле брачного ложа ее четыре двенадцатидюймовки Цереля, развернув жерла, глядятся в хмурую даль Ирбен. Через ночные светофильтры дежурные дальномеры прощупывают плоские берега Курляндии…
Артеньев оторвал листок календаря:
– День кончился. Завтра двадцать девятое сентября… Ты, комиссар, садись поближе. Разговор у нас будет непростой.
Скалкин сел перед секретной картой. Моонзунд вычурен в своих изгибах, будто на синьку моря плеснули из чернильницы и кляксами расползлись по воде острова: Эзель, Даго, Моон и прочие.
– Смотри сюда, – толковал Артеньев. – Между Эстляндией и Эзелем лежит небольшой остров Моон, слева от него – пролив Малый Зунд. Пролив этот пересечен проезжей Орисарской дамбой, соединяющей Моон с Эзелем. Справа от Моона – Большой Зунд, и по нему плывут корабли на Кассарский плес. По сути дела, комиссар, это пока детская география, но без нее не понять дальнейшего… Кассарский плес мелководен, – продолжал старлейт. – Кораблям тут нелегко маневрировать. Но стратегически он важен для нас, ибо с его простора открывается сам Моонзунд, дающий выход нашим кораблям к Финскому заливу и далее – к Петрограду…
Палец комиссара влезает в узкий просвет между островами Эзелем и Даго, где по мелководьям струится пролив Соэлозунд.
– Дырка?.. Разве немцы не могут забраться сразу сюда? Тогда амба всем нам; мигом отрежут эскадру от Моонзунда.
– Теоретически это допустимо, – согласен Артеньев. – Ты прав: Соэлозунд выведет противника сразу на Кассары. Но не забывай, что с Даго пролив к Моонзунду стерегут батареи мыса Серро, а с Эзеля немца также не пропустят батареи, Соэлозунд запечатан!
Скалкин оказался учеником недоверчивым:
– Дай мне, старлейт, любую бутылку, и я тебе ее распатроню от пробки. Оставь теорию – гляди в практику: будь я на месте немцев, я бы батареи наши с землей перемешал, и тогда…
– Тогда – да! – подтвердил Артеньев. – Тогда флот вынужден принять бой от немца на Кассарском плесе. И бой этот будет жесток. Посуди сам: за Кассарами все наши главные маневренные базы. Тут и рейд Куйваста, и Вердер, и Гапсаль, и цеха Рогокюля…
– Это все? – спросил его Скалкин.
– Нет. Еще не все, – построжал Артеньев, глянув на часы. – Уже первый час ночи… Как быстро бежит окаянное время. Слушай меня дальше. Только слушай внимательно. Сейчас я открываю тебе секрет Цереля – секрет нашей судьбы…
* * *
Эскадра в 300 боевых вымпелов как раз проходила на траверзе Цереля. Впереди дредноутов Гохзеефлотте рыскали во мраке юркие искатели подводных лодок. Но русских субмарин они не встретили: контр-адмирал Владиславлев не дал «добро» своим лодкам на выход.
Чуткие антенны «Мольтке» уловили трепетные дуновения эфира: это заговорил большевистский Гельсингфорс, передававший миру открытым клером – без шифра. Молодцеватый матрос вручил на мостике Шмидту квитанцию радиоперехвата:
– Свежая, герр адмирал! Перевод занял одну минуту…
Шмидт поднес бланк к узкому лучу света, который стелился из-под колпака нактоуза. Перед глазами побежали строчки:
…МЫ ИДЕМ В БОЙ НЕ ВО ИМЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НАШИХ
ПРАВИТЕЛЕЙ С СОЮЗНИКАМИ, МЫ ИДЕМ
К СМЕРТИ С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА УСТАХ.
МЫ, БАЛТИЙСКИЕ МАТРОСЫ, ИСПОЛНЯЕМ
СЕЙЧАС ВЕРХОВНЫЕ ВЕЛЕНИЯ НАШЕГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ…
Эдгард Шмидт просунул квитанцию в узкую прорезь боевой рубки, словно в щель почтового ящика. Ветер сразу вырвал бумагу из корявых от холода пальцев флагмана.
– Обычная большевистская болтовня. Не стоит внимания…
Тишина ночного моря вздрогнула от яростного рева: это на палубах крейсеров батальоны самокатчиков стали опробовать свои мотоциклы. В мрачных ущельях трюмов заржали пугливые кони. Ветер кружил над Балтикой квитанцию большевистского призыва, и она вздергивалась порывами шквалов – все выше, выше, выше… Ее унесло в небеса, пропитанные дымом сгоревшего угля, который добыли шахтеры Рурского бассейна.
* * *
– А теперь главное, – сказал Артеньев, – только не болтай другим… Церель с нашими батареями выползает прямо в Ирбены. Ты видишь – здесь на воде густая штриховка. Это минные поля. Кусок моря перед ними умный Эссен велел оставить незаминированным. Образовался маневренный мешок для развертывания наших кораблей от Аренсбурга. Мины, мины, мины… десять тысяч мин! И все это пространство простреливается нами с Цереля. Мы с тобою, Скалкин, по сути дела, бережем не только Ирбены и Рижский залив – от нас зависит судьба Моонзунда. Не люблю произносить высоких слов, но это справедливо, что от стойкости нашего Цереля зависит сейчас и судьба русской революции…
Скалкин ребром ладони отсек полуостров Сворбе от Эзеля, будто отламывая его напрочь, как ломоть хлеба от каравая.
– А ежели немцы… вот так? Ежели они с тыла зайдут?
– Ты прав, – вздохнул Артеньев. – Наши батареи на обратных директрисах стрелять не могут. Пушки развернуты фронтально в Ирбены… только в Ирбены! Но могу утешить: с тыла нас бережет эзельский гарнизон. Другие батареи. По соседству аэродром Кильконд с героями-летчиками. Наконец, флот же нас не оставит…
Артеньев собрал карты, уложил их в сейф церельского штаба. Бетон, заквашенный в зимнюю стужу прошлого года, за лето так и не прогрелся, – под землей церельской цитадели людей знобило.
Скалкин царапнул себя пятерней в затылке.
– Эх, – сказал, – что-то тут еще не продумано… Ну, ладно. Сдюжаем! – Бронированная дверь каземата туго подалась под его плечом; в штабную комнату донесло стуки дизелей, ровно урчали динамо-машины, насыщая током сложное хозяйство батарей. – Сдюжаем, – повторил комиссар, нахлобучив бескозырку. – Самое главное в таком деле, как драка, сохранить хладнокровие. А за секреты спасибо. Только я поделюсь ими с двумя – Купаем и Журавлевым.
– Доверяешь?
– Как не доверять? Они же партийные.
– Ну, смотри сам…
Разговор закончился. Все было просто. А сколько стреляли из-за этого. Сколько офицеров летело за борт. Сколько самоубийств. Вообще, сколько познал флот трагедий только из-за того, что офицеры не допускали матросов до тайны оперативных планов!
Рубикон был перейден…
* * *
Мыза Веренкомпф глядится в море своими окнами, в которых стекла велики и чисты. С башни старинного имения видна вся бухта Тага-Лахт. Словно длинные руки, обнимая бухту, тянутся в море два мыса – Хундва и Ниннаст; в конце этих мысов Тагалахтскую бухту стерегут батареи… Окна мызы Веренкомпф смотрят на запад, в сторону Швеции, и столетья назад взирали отсюда на морской простор бароны Фитингофы, как и она сейчас, вдова Лили фон Ден, наследница былого величия.
Погрев возле камина руки, женщина подошла к телефону (Эзель был густо опутан проводами: в медных струнах текли разговоры местных баронов, управляющих мызами и военных гарнизона.)
– Это аэродром Кильконд? – спросила госпожа Ден. – Ах, это вы, мой милый мичман… А полковник Вавилов далеко ли от вас? Если он еще не лег спать… Что? Никак не может? Жаль…
Она дала отбой, но трубку не повесила: редукция мембран доносила до нее голоса из штаба авиастанции Кильконд:
– Опять эта баронесса тут вяжется. Что ей надо, старой лахудре? Спала бы себе… Кстати, мичман Сафонов еще не улетел?
Лили Александровна поднялась по витой лестнице на башню мызы. Тага-Лахт теперь бурлила внизу, окантованная белой вышивкой прибоя. Жутью веяло от гудящих во тьме лесов. Вдова каперанга распахнула окна, и внутрь башни ворвался ветер. За спиною женщины стоял плоский щит, затянутый черным покрывалом. Она отдернула штору напрочь, и… обнажилось зеркало. Большое зеркало!
В этот момент за несколько миль от мызы, в клокочущих бурунах пены, из моря упруго выпрыгнула германская подводная лодка. Со скрипом отдернулся тубус люка, на мостик вылезли офицер и матрос, который сбил заглушки герметизации на прожекторе. Вода, колобродя, еще гуляла у них под ногами.
– Проведи вдоль горизонта, – приказал офицер.
Узкий луч с подлодки пополз вдоль берега. Тьма… тьма…
И вдруг в конце луча ярко вспыхнуло – это прожектор уперся в зеркало на башне мызы Веренкомпф. Теперь этот «маяк» был виден далеко с моря, и на эскадре его устойчивый свет сразу заметили с марсов флагманского «Мольтке»… Адмирал Шмидт сказал:
– Прекрасно! Мы вышли точно в Тага-Лахт…
Эскадра занимала исходные рубежи как раз в точке, закодированной под именем «Вейс». На германских дредноутах команды в сорок человек с трудом стягивали с башенных орудий громадные чехлы. Их тащили с пушек, как стаскивают с ног длинные чулки.
Стволы германских орудий были украшены личным клеймом кайзера Вильгельма: W. При неярком свете луны на корабельных пушках можно было прочесть надписи из латинской мудрости: «Ultima ratio regis» («Последний убедительный довод»).
Было четыре часа ночи. Якоря они отдали.
* * *
В эту же ночь Владимир Ильич Ленин закончил работу над своей статьей «Кризис назрел».
Глубокий анализ событий приводил Ленина к мысли, что настал момент для свершения революции социалистической.
Это был его последний убедительный довод.
* * *
Дежурный по штабу в Ревеле проснулся от звонка:
– У аппарата батарея Серро, говорит мичман Лесгафт…
– А где эта батарея? – спросил дежурный, зевая.
– Это на самом юге Даго, в проливе Соэлозунда.
– Дагомейцы, а как у вас погода?
– Туманно, – ответил мичман Лесгафт. – Шла изморось. Видимость дрянь. Слабый зюйд-вест. На море – один-два балла… У меня вопрос: вы что там? В шахер-махер играете? Если флот посылает корабли к Эзелю, так предупреждайте, а то шарахнем по своим!
Сонную одурь выбило из головы дежурного. Индукция слабых токов струилась сейчас от Даго по кабелю, брошенному в илы Кассарского плеса, токи тревоги по флоту влетали в коммутатор Гапсаля, текли над землей в эту черную трубку – прямо в ухо:
– Алло! Ревель – Даго: флот кораблей не посылал.
– Даго – Ревелю: чтоб вас всех черт побрал… Прощайте!
* * *
«Дагомейцы» первыми открыли огонь, и грохот орудий перелетал через Соэлозунд, будя эзельских крестьян. Деревушка Серро засветилась окнами, в хлевах жалобно замычали коровы.
Прямо в пасть пролива Соэлозунда впирало линкор «Кайзер», вокруг которого шмелями жужжали моторные тральщики. Крейсер «Эмден» и 15 эсминцев противника стали взрывать батареи с моря. Снарядные чушки подкашивали прибрежные сосны, осколками перебило все телефоны и переговорные трубы. Одно орудие село на катки, как раненая лошадь садится на землю избитым крупом. Второе орудие батареи Серро – в дымном чаду – работало и работало.
– Есть накрытие! – кричал Лесгафт. – Давай еще…
Два германских эсминца мотало между берегами пролива, как пьяных между стенками в узком коридоре. Казалось, их рвало над туманной водой рыже-зеленой блевотиной нефтяного пламени… Когда мичман Лесгафт спустился с вышки, живых уже не было: трупы защитников разбросаны среди перевернутых орудий, словно неряшливые узлы с жалким барахлом. Лесгафт стал выкручивать из пушек замки. Задыхаясь, он таскал их к воде – топил в море.
Немцы уже выбросили пробный десант. Германские матросы, словно голодные волки, кинулись прямо в деревню Серро, тащили оттуда за уши на корабли орущих свиней, а следом за ними – растрепанные, патлатые – бежали старухи эстонки.
Мичман Лесгафт слышал голоса немецких матросов.
– Реквизит, реквизит! – кричали они, а свиньи нестерпимо визжали, когда их грузили в шлюпки и катера.
…Как неожиданно все началось.
* * *
Но главный удар был нанесен в самую подвздошину Эзеля.
Прямо по бухте Тага-Лахт (точка «Вейс»), из ковша которой тропинки древних эстов и дороги, укатанные еще крестоносцами, петляя и расходясь по лесам, опутывали весь Эзель…
Батарея на мысе Хундва огнем своих пушек геройски отогнала в море германские эсминцы. В поединок огня и железа вступил рыкающий бас главного калибра дредноутов, и тогда батарейцам стало плохо. Удачным выстрелом под основание немцы своротили батарейную вышку, она разобралась по бревнышку, словно держалась на жидком клею, и в развале бревен умерли все наблюдатели. Огонь башенных платформ противника перемешивал в одну скользкую кашу все подряд – людей, пушки, животных, деревья, песок, тину и рыбу. Надо знать, что такое главный калибр дредноутов, залпы которых способны вскрыть землю, как банку консервов…
Адмирал Эргард Шмидт воткнул в уши гуттаперчевые пуговицы, чтобы не оглохнуть. Неожиданно с батареи Хундва, которая уже погибала вся в красном зареве пожаров, флагманский «Мольтке» был взят в губительную вилку. Русские сумели определить место флагмана (хотя «Мольтке» стоял в конце авангарда).
– К развороту! – приказал Шмидт: он не желал погибать…
И вдруг прославленный «Байерн», махина в 25 000 тонн, подпрыгнул на воде, словно лягушка, и линкор стало сильно раскачивать. Его качало, качало, качало… черный дым струился к небу. «Подорвались на мине», – писали с «Байерна» на «Мольтке».
– Лучший линкор Германии, – огорчился Шмидт.
«Гроссер Курфюрст» лежал в пологом развороте, громя своими башнями уже не батарею, а просто свет божий. Могучий кулак минного взрыва ударил его под днище, и «Курфюрста» тоже качало, качало, качало… второй линкор был подорван.
– Минус два, – заволновались на мостиках «Мольтке». – А мы ведь еще только пять минут как начали свой бенефис…
Шмидт нетерпеливо махнул рукой:
– Вперед десанты… ошеломляйте натиском!
Горел лес (страшное зрелище). Мертвая батарея Хундва посылала к небу длинные гейзеры шипучего огня, словно там открывали бутылки с адским шампанским, – это рвало погреба с зарядами. Тага-Лахт наполнилась кораблями: шли транспорта, на палубах которых в четких каре, недвижимы под чехлами «фельд-грау», стыли на ветру саксонцы, баварцы, голштинцы, бранденбуржцы и гессенцы. Десантные суда, скрежеща днищами, вползали на каменистые отмели, их борта откидывались на берег, подобно сходням, – по ним гнали настегнутых лошадей, и они тащили на Эзель пушки, походные кухни, бомбометы, минометы, огнеметы и санитарные двуколки.
Порядок был образцовый. По берегу бегали штабные офицеры. В рыхлые пески пляжей вкалывали шесты с номерными плакатами. Теперь каждый полк еще с моря видел, в каком месте ему высаживаться. Тральщики волокли через бухту свои громоздкие сети, но вычерпать все мины они не могли. Громадный транспорт «Корсика», плотно забитый солдатами и техникой, взорвало у берега, и «Корсика» пошла брюхом на берег, с грохотом раскидывая из-под киля своего обомшелые камни.
Эзель вздрогнул от нестерпимого треска. Это разом заработали тысячи мотоциклов, и лавина моторов, извергая из себя зловоние газов, покатила по дорогам, давя все живое:
– На Аренсбург! На Орисар! С нами Бог!
…Как все быстро произошло. Даже не верится.
* * *
– Где мой протез, я вас спрашиваю? Куда его засунули?
Одноногий летчик, лейтенант флота Прокофьев-Северский скакал по бараку команды, хватаясь за столы и койки. В окне полыхало зарево, мимо авиастанции Кильконда, низвергаясь с лесной горы, словно гром, неслась мотоциклетная саранча противника…
– Кто видел вчера мой протез?
Мичман Сафонов вылез из-под кровати, волоча скрипящую ногу, которая сверкала от обилия планок из никеля:
– Вот она! Пристегивай… бежим на гидро!
В дверях барака – ас морской авиации полковник Вавилов:
– Скорей, ребята! Сжигать ангары… взлетайте сразу!
Культя туго влезла в протез. Застегнуть ремни было некогда. Прокофьев-Северский с ремнями в руках ловко прыгал по жухлой траве, залитой маслами и бензином. Гидросамолеты уже выгоняли из ангаров на воду. Механики быстро прокручивали винты лопастей. Моторы, как назло, барахлили – не брали «завод». Прокофьев-Северский рывком завалился на крыло, бросил протез в кабину, уселся и сам. Брызгаясь горячей касторкой, мотор сорвал машину с воды на взлет. Делая круг над авиастанцией Кильконда, летчик видел, как с факелом в руке бежит через поляну полковник Вавилов. Вот он упал… нет, поднялся. Факел дымно чадит… Самолет ложился на Аренсбург, а под ним несло грохочущую лавину мотоциклов.
Одновременно с налетом самокатчиков три германских миноносца зашли в бухту Папенхольм, стали разбивать авиастанцию снарядами. Телеграфные столбы наклонились, в разорванных проводах безнадежно запутался самолет Сафонова и рухнул в кустарник.
– Боря, – позвал его Вавилов, – сюда… ко мне!
Сафонов выбрался из обломков. По летному полю, среди снующих мотоциклов, металась с включенной сиреной санитарная машина Кильконда. Из кабины автомобиля летчиков звал шофер авиастанции:
– Лезьте в кузов… бросайте все к черту! Скорее…
Вавилов успел зашвырнуть факел в ангары, оба офицера прыгнули в кузов, машина, ревя клаксоном, сорвалась под пулями.
– Костя, куда ты жмешь? – спросил Вавилов шофера.
– А куда надо? Дорога одна – в Аренсбург…
– Немцы! – выкрикнул Сафонов, показывая вперед.
Прямо перед ними, посреди моста через речку, крутился на лошадях взвод германских кавалеристов с карабинами.
– Прыгай! – заорал Костя. – Прыгайте оба…
Вавилов распахнул дверцу – грузно выпал на обочину. Молодой Сафонов прыгнул удачнее, как на тротуар с подножки трамвая. Он видел, как пляшут кони на мосту. Он видел, как «санитарка» врезалась в крупы лошадей, давя кавалерию буфером. Он видел, как обрушились перила моста и Костя полетел вниз головой – прямо в реку, а сверху его раздавил рухнувший автомобиль… Поддерживая тяжелого полковника, с хрустом ломая кусты, Сафонов уходил.
– На Аренсбург! На Аренсбург!
Но то же самое кричали и немцы. Они были всюду. Главный аэродром Эзеля перестал существовать в первые же минуты сражения.
…Действительно, в организации немцам отказать нельзя.
* * *
Аренсбург – столица провинции, и царем здесь был контр-адмирал Свешников. Был! Но сейчас власть над Эзелем он делит с комиссаром своим от Центробалта – матросом Женькой Вишневским[24], на лбу которого золотом горит античное: «ДIАНА». Власть у адмирала большая – она обнимает все позиции Эзеля и Даго, забирается на рейды Куйваста, контролирует все зунды и вики архипелага.
Непререкаемый авторитет Свешникова был хорош до какого-то момента. Но авторитет адмирала сразу стал переходить к комиссару, когда выяснилась пикантная подробность: все телефоны молчали.
– Обрезали опять, – сказал Женька. – Мало морду шпионам били. Цацкались вы тут с баронами да графьями местными!
Комиссар говорил адмиралу: «Дмитрий Александрович».
Адмирал говорил комиссару: «Евгений Иванович». В общем-то пока они ладили. Притирались. Но глаза Свешникова уже стали покашиваться в окно.
– И чего это вы покашиваетесь? – спросил Вишневский.
– Ваше большевистское величество, у вас ноги еще молодые. Вы далеко убежите. А вот мне, покорному слуге вашему, свыше не дано бегать… Гляньте-ка и вы в окно: разве это не страшно?
По улицам Аренсбурга, неся винтовки, как палки, уже брели в сторону пристаней первые дезертиры… Комиссар сказал:
– Пехтура ноги в руки взяла. Наши, флотские, не бегают…
В раскрытое окно штаба доносился гам голосов:
– У фрица машина, а у нас телега… не совладать!
– Опять же, я с винторезом сколько разов стрелю? Ну, пяток. А у немца фитюлька такая в руках железная. Он ее к пузу приставит и поливает меня, как дождиком. А где наши фитюльки?
– Товарищи! – раздался с улицы голос, почти проникновенный, маслено влезающий в душу. – Доколе нас предавать будут? Гляньте в листовки германские: они верно пишут, что нас предали. Свешников-адмирал полмешка в золоте взял, а не керенками…
– Да вмешайтесь же наконец! – возмутился Свешников.
Вишневский с бранью выбежал на улицу, там грянул выстрел. Провокатор смолк. Комиссар вернулся обратно в кабинет адмирала, долго и жадно глотал воду из горлышка графина.
– Таких много тут, – сказал. – По-русски знают не хуже нашего. Пристроятся к любой части и панику нарочно наводят…
Связисты сумели наладить связь с Куйвастом – и на другом конце провода сразу взорвался адмирал Бахирев.
– Не нуждаюсь в подробностях! – орал он на Свешникова. – Морская авиация с аэродромов Вердера известила меня достаточно. Немцы идут по Эзелю в две колонны. Одна – прямо на вас, на Аренсбург, а самокатчики противника рвутся к Орисарской дамбе – к острову Моон… Вы способны их задержать или нет?
– Тут все бегут, – оправдывался Свешников. – Впрочем, передаю трубку комиссару…
Бахирев поперхнулся на ругательстве в отношении комиссаров, Женька Вишневский уже докладывал ему в трубку:
– Это Куйваст? Привет… Окажите поддержку с моря в зундах, а за нас не волнуйтесь. Пусть на пристани побольше беглых соберется, тогда я своих агитаторов подброшу, они их развернут в нужном направлении. Тут масса паникерских слухов. Шпионов и паразитов будем стрелять. Самое главное – Церель, а там спокойно.
Бахирев вдруг замолчал, и комиссар вернул трубку адмиралу:
– Дмитрий Александрович, послушайте вы… он молчит.
– Куйваст, Куйваст! Что вы затихли?
– Не кладите трубку. Там что-то стряслось…
Свешников дождался, когда Бахирев вдруг сорванно крикнул:
– Беда! Германский эсминец уже прорвался в Кассары.
Свешников со стоном схватился за седые виски:
– Боже милосердный! Кто бы мог ожидать? А почему бы этого не ожидать? Ведь против Соэлозунд (между Эзелем и Даго) короче всего выводил германские легкие корабли на просторы Кассарского плеса…
Связь Аренсбурга с базами снова прервалась.
– Опять обрезали!
* * *
Рогокюль – ремонтная база кораблей на Эстляндском побережье, сейчас здесь стояли у пирсов «Припять» и эсминцы. На «Самсоне» принимали боезапас в кормовой погреб. На «Громе» проворачивали машины. Стояли борт к борту, и через провал воды между эсминцами переговаривались земляки и приятели.
Семенчук тоже приметил земляка на «Самсоне» – комендора Василя Купревича[25].
– Василь, ходи на бережок, – поговорим, а?
– Добро. Только догрузим…
Прогретый машинами воздух, слоясь, вздрагивал над эсминцами. Известие, что немцы уже прорвались в Кассары, натянуло нервы командам. Большевики «Грома» – в основном артиллеристы, гальванеры и машинные. Командир у них выборный – Ваксмут, молодой и толковый офицер в чине лейтенанта. К нему уже подступались:
– Господин лейтенант, команда просится в бой. Радируйте на Старка, что одиннадцатый дивизион стоять не может.
– Не засидимся, – отвечал Ваксмут. – У нас еще два часа свободных. Погуляйте по берегу. В случае чего я дам сирену…
На берегу – тощища смертная, но иногда не мешает пройтись по травке. Сорвать ветку бузины. Посидеть на земле. Отдать в эту землю из тела корабельные токи. Бушлаты матросов серебрились от измороси. Семенчук с Купревичем гуляли вдоль железнодорожной ветки, которая от города тянулась до пирсов. Купревич по силе и выправке под стать Семенчуку; гладкое розовое лицо самсонца было красиво, как у девицы. Ресницы длинные…
– Полундра, – вдруг сказал Купревич, предупреждая.
Прямо на них катились товарные вагоны. Паровоз, который толкнул их к морю, теперь поспешно удирал обратно на всех парах. Вагоны мчались в тупик – на инерции, которая не погашена… Мимо матросов, стуча колесами, бежали одна за другой теплушки, и вдруг под ними, откуда-то снизу, выбилось едкое пламя. Купревич кошкой вцепился в поручень заднего вагона, повис на нем и поехал в тупик, крутя тормозной кран. Что-то кричал, быстро удаляясь…
Казалось, что катастрофа неминуема: рельсы вели состав прямо на пирсы, в самую гущу кораблей. Но тут от гавани ринулся навстречу составу маневровый паровозик. Набирая скорость, он грудью решил задержать вагоны. Машинист жертвовал собой, чтобы спасти корабли. Семенчук закрыл глаза, когда паровоз в реве встал на дыбы… Передний вагон, треща досками, задрал свои колеса над будкою машиниста. Следующие вагоны с грохотом наползали один на другой, и буйное пламя с шипением охватывало их…
Когда Семенчук добежал до состава, он в ужасе остолбенел!
Между развороченных досок вагонов торчали взрыватели шаровых мин с навинченными на них колпаками. И огонь весело, словно радуясь, лизал их черные лаковые бока, смазанные тавотом.
Купревич понесся на эсминцы, крича во все горло:
– Отходи все! Давай в море… Мины! Мины! Мины!
Семенчук остался, начал выламывать горящие доски вагонов. Но как мины не сдетонировали при ударе – это уж секрет производства.
* * *
Это был как раз тот рискованный момент, когда первый германский эсминец прорвался на Кассарский плес. Дерзко выскочив из-за мыса Памерорт, он долго бежал на полном, стеля черный дым из косо поставленных труб. Потом резко сбавил обороты, и два матроса в его носу стали кидать по отмашке лоты (промеряли глубины).
В воротах Соэлозунда дежурил сейчас один «Генерал Кондратенко». В его котельных гремели заслонки котлов, кочегары в изнурении швыряли лопату за лопатой в бушующее пламя топок, чтобы набрать запас пара. «Кондратенко» на пересечке курса открыл частый огонь, и противник кинулся обратно. В азарте погони за ним русский эсминец чуть не выскочил на мыс Памерорт, в укрытии которого затаился линкор «Кайзер», и где ползал среди отмелей, словно железная каракатица, четырехтрубный крейсер «Эмден».
С калибром «Кайзера» эсминцу лучше не связываться, и потому «Кондратенко», отбежав назад, как хороший вратарь, снова занял место в воротах пролива, чтобы охранять Кассарский плес. От берега к нему летел гидроаэроплан, причем летел он так низко, что миноносники решили – свой! Но это был немец, который, тоже впав в ошибку, принял «Генерала Кондратенко» за германский эсминец, посланный для промера фарватера. Летчик сбросил над русским кораблем холщовый мешок с кайзеровским флагом. В мешке оказалась фотокопия карты позиций Моонзунда, а на ней рукою летчика были сделаны пометки о путях русского отступления на Эзель.
Карта пошла гулять по рукам матросов и офицеров.
– Скажи на милость, – все, подлецы, знают!
– Орисар… Смотрите, куда они метят – прямо на Аренсбург и точно на Орисар. Неужели с ходу возьмут дамбу?
Орисарская дамба – отличный мост, по которому германская армия может сразу перейти с Эзеля на Моон, а с Моона легко ударить по флотской базе рейдов Куйваста… Нехороши дела! С плеса показался эсминец, резво идущий под брейдвымпелом. Издали было не угадать – чей вымпел полощется на его мачте.
– Наверное, Пилсудский катит нам в подмогу…
Но это выскочил на позицию сам начмин адмирал Старк, который еще издали горланил в мегафон трубяще:
– Удержите плес от прорыва немцев хотя бы часок!
«Кондратенко» подошел ближе к флагману.
– Удержим! – заверили Старка с шаткого мостика.
– Я иду на Куйваст для доклада Бахиреву… Слышишь меня, «Кондратенко»? На Куйваст, а потом в Рогокюль, и вышлю вам подмогу!
Из-за мыса Памерорт торчали массивные набалдашники башен «Кайзера» и «Эмдена», и когда они открывали огонь, то казалось, будто проснулись над морем давно вымершие ихтиозавры, слышится издалека чудовищное бурчание их адских желудков…
Матросы-кондратенковцы говорили о башнях с презрением:
– Кастрюльки поставили и фасонят! А нам плевать…
* * *
Семенчук и Купревич первыми встретили огонь… Стальные колпаки минных рогулек, укрывавшие внутри себя стеклянные пробирки взрывателей, оказались такого высокого качества, что минные рога насквозь прободали доски вагонов; при столкновении с паровозом мины разрушили своим весом перекладины вагонов, но колпаки не деформировались. Это чудо спасло корабли!
Но теперь вагоны с минами горели, подожженные рукой диверсанта… Пожар! На пристанях! Возле кораблей!
Мины раскалились докрасна…
И никто не ушел!
Не ушла даже «Припять». Она не ушла, и краска на бортах минзага сгорела вся, пузырясь и вскипая, как кожа человека при смертельном ожоге. Не снялись в море и эсминцы, хотя близкое пламя рассыпало в прах их сигнальные снасти фалов…
Человек не знает пределов мужеству, на какое он способен!
В пламя кинулись два офицера: с «Победителя» – Виктор Штернберг и с «Грома» – Володя Севастьянов (молодежь!). Когда корабельные помпы стали подавать воду на берег, то пар над составом с минами поднялся до неба. Казалось, мины не выдержат сначала огня, а потом резкой стужи моря, и сейчас в одном бурном возмущении они вознесут к облакам все пристани Рогокюля, все цеха, все дома в городе, все корабли базы, все людские команды…
Матросы забивали пламя чем могли: мокрыми бушлатами, одеялами с коек, фланелевками, иные даже брюки сняли с себя и хлестали клешами по огню, который облизывал многие тонны раскаленного тринитротолуола. И пожар медленно отступил от мин. Рогокюль спасли. Обожженные люди возвращались на корабли. Семенчук в одной руке тащил обгорелый бушлат, другой обнимал Купревича.
– Погуляли, – говорил он. – По травке.
– Бережок – что надо, – отвечал Купревич…
Скоро на «Припять» – приказ: мины брать.
«Самсону» – вытягиваться на Кассарский плес.
«Грому» – перетянуться на Куйваст и ждать.
Вот когда всем не стало хватать времени!
* * *
Пришла беда – отворяй ворота… Сразу семь германских эсминцев рвались на просторы Кассарского плеса, прикрытые от Соэлозунда крейсером «Эмден». «Генерал Кондратенко» и «Пограничник» ходили перед врагом на зигзагах; между отмелями качало растрепанные ветром голики вех – то черные, то красные. А канлодка «Грозящий», у которой осадка была меньше, чем у эсминцев, рванулась с лихостью прямо напересечку кайзеровским кораблям.
Командовал ею опытный кавторанг Ордовский-Танаевский. Отстранив гальванера, он сам прильнул к дальномеру: линзы выпукло приблизили к нему противника. Откачнулся в кресле и сказал:
– Пусть немцы залезут подальше, где фарватеры узкие. Там, между отмелей, имеются аппендиксы, как в слепой кишке: туда носом всунутся, а вылезать придется кормою…
Время: 16.25… Дистанция: 70 кабельтовых.
– Правым бортом – огонь!
В извилинах канала немцы запутались, как котята в клубке ниток. Отвечали они с большими недолетами. Но сзади германские миноносцы подпирал своей мощью, словно страхуя робких мальчишек, здоровенный дядька «Эмден» и гулко ухал калибром.
– Накрытие!.. Накрытие! – радовались на «Грозящем».
Два германских эсминца вильнули хвостами корм.
– Отбегались, – скупо заметил Ордовский-Танаевский.
Немцы спасались за дымовой завесой. Соэлозунд быстро заволакивало черной пеленой. От Куйваста спешил миноносец «Разящий», окрикивая все корабли подряд:
– Где пакет с немецкого самолета? Бахирев просит…
С борта «Кондратенко» перебросили пакет на «Разящий», и тот, преследуемый с моря вражескими снарядами, бодренько побежал на Куйваст.
Пять эсминцев противника наседали теперь на «Грозящего». Весь огонь врага пучком сошелся на канонерке. Минута, вторая, третья… Фарватер кончился, расширяясь, как воронка: из этого раструба канала немцы выскочили на плес.
– Ах, мерзавцы! Воевать они умеют…
Теперь из кильватера немцы быстро (очень быстро) перестраивались в строй пеленга. Дистанция боя часто менялась – от 40 до 60 кабельтовых. На разворотах противник, как правило, вставал всем бортом, давал частые залпы, а затем отскакивал назад… Стреляли немцы отлично, целик у них был прекрасно выверен, а залпы ложились кучно – горсткой.
Удар! «Грозящий» наполнился дымом, из кормы выхлопнуло огнем. Ордовский-Танаевский видел с мостика, как побежали с «минимаксами» в руках палубные матросы, забрызгивая пожар огнетушительной пеной. Первый покойник, крутясь руками и ногами, плюхнулся за борт канлодки, долго не хотел тонуть.
– Отставить! – приказали с мостика. – Мертвых не выкидывать, а складывать в баню… Мы их погребем с честью!
Второй удар. На этот раз – подводный. Броня канонерки выдержала, хотя от нее отскакивали куски, словно от раскрошенного бетона.
Еще удар, и кто-то дико закричал от боли…
– На этот раз хуже, – решили на мостике. Ордовский-Танаевский ждал, когда ветер разбросает густой дым над рострами.
Из этого дыма медленно проступали руины шкафута и вентилятор кочегарок, который продолжал работать, затягивая в кочегарки угарный газ взрыва и дым пожара. Катер отлетел за борт и повис на бакштовах, полузатоплен. Лежали ничком мертвецы, один матрос без ноги рывками полз по палубе, вскрикивая в шоке безумия:
– Не больно! Не больно? Не больно!..
Рука кавторанга Ордовского-Танаевского вскинулась кверху, и все увидели, что антенны разорваны. Нет гафеля. Вместе с рангоутом унесло за борт и флаг корабля. Знамя укрепили на стеньге, и бой продолжался. Из плесовой мглы вырвался эсминец «Десна» под вымпелом начмина Старка. Почти касаясь винтами близкого грунта, эсминец дерзко застопорил машины и включился в сражение.
– Есть… врезали! – доложили с дальномеров.
Третий эсминец врага запарил машиной, отползая прочь с плеса. Пристрелка немцев сбилась, они снова выпускали из труб черно-бурые шлейфы дымового прикрытия… От Рогокюля уже спешили эсминцы «Новик», «Изяслав», «Забияка» и «Гром». С мостика «Забияки», отчаянно картавя, адмирала Старка вопрошал кавторанг Косинский:
– Мои мат’осы ‘вутся в с’ажение. Дайте нам дело!
«Забияку» и «Гром» оставили на ночь в Соэлозунде.
– Стоять крепко! – наказывали им с отходящих кораблей.
Флот не пропустил врага на Кассарский плес.
Но зато армия пропустила врага к Орисарской дамбе.
* * *
Немецкая агентура постоянно размыкала связь между частями эзельского гарнизона. Но диверсанты обязательно (!) вновь соединяли телефоны баз, когда ожидалась передача известий, неприятных для русских. Так они усиливали разброд, сеяли недоверие даже к честным офицерам, в умы даже храбрейших людей они вносили впечатление полной безнадежности сопротивления. Надо было обладать железными нервами, чтобы выстоять нерушимо под гнетущим шквалом панических выкриков, под лавиной мрачных слухов…
Около шести часов вечера в штабе Аренсбурга зазвонил телефон, и комиссар Вишневский жадно схватил трубку… Голос:
– Сообщаем адмиралу Свешникову, как начальнику обороны островов, что немецкие самокатчики уже вышли к Орисарской дамбе.
Свешников молча перевел взгляд на карту района:
– До чего быстро они шагают… А куда вы, комиссар?
– Я пошел. Сейчас главное – дамба! А вы, адмирал?
– Я еще посижу. Может, позвонят… как знать…
Вот теперь, когда комиссара под боком не стало, Свешников облегченно вздохнул. Этот матрос с «Дианы» не сводил с него глаз и все время спрашивал: «А это зачем? А что выйдет из этого?..» Сейчас адмирал тишком созвал секцию Эзельского исполкома.
– У меня на руках, – сказал Свешников потрясенным людям, – имеется решение о переводе моего штаба в Гапсаль… Решение это принято уже давно, но, знаете, все как-то было не собраться, чтобы переехать. Сейчас вы сами видите, что творится вокруг. Связи нет. Все бегут. Я отдаю свое последнее распоряжение: всем частям отступать к Орисарской дамбе и удерживать тет-де-пон, заграждающий подступы к этой дамбе, после чего… можете переходить в решительное наступление! Желаю успеха вам, дорогие товарищи…
На случайном миноносце он выбрался в тыловой Гапсаль.
Хороший курортный городок с прекрасным климатом.
Вечером адмирал уже принял горячую грязевую ванну. Показался врачам курорта. Сердце ему прослушал немец. Нервы он доверил шведу. Ухо-горло-нос осмотрел еврей. Какой врач скажет человеку, что он абсолютно здоров? Таких врачей не бывает. А когда их сразу трое, то человеку остается только одно – срочно заболеть.
И адмирал Свешников серьезно «заболел»…
Оборона всех островов была брошена. Предательски!
Свешников затих в Гапсале – больше о нем ни слуху ни духу. Так, словно этого адмирала никогда не числилось в казенных списках российского флота. Вишневский остался комиссаром при несуществующем начальнике. Вот этому матросу с «Дианы» и выпала честь – оборонять дамбу, ведущую с Эзеля на Моон.
* * *
В 1309 году море прорвало топкую перемычку, и от Эзеля отделился большой кусок земли, ставший самостоятельным островом Мооном. Но древним эстам не понравилось вмешательство стихии в их личные дела, и там, где море разрушило землю, они проложили искусственную насыпь. На Мооне много следов активной былой жизни, в глинтах немало черепов и мечей, но сейчас жизнь острова замерла в нескольких деревеньках, тощие коровенки крестьян вяло перетирают на зубах сухонькие моонские травки… Вся жизнь Моона – на рейде Куйваста, там залечивали легкие ранения корабли, именно там сходились самые свежие вести с моря.
– Где адмирал Владиславлев? – бушевал Бахирев. – Его бригаде нужно срочно выслать в море подлодки. Без торпедного удара по дредноутам из-под воды мы… мы просто задыхаемся!
Вечером Бахирев созвал совещание флагманов и командиров судов первого ранга. Для начала адмирал сообщил:
– Не в утешение – ради информации: немцы вывалили мины у Штоппель-Боттенского буя – нас уже стали запечатывать в Моонзунде, как пауков в банке. Неприятно, но знайте!
Старк, издерганный горячкой событий, заявил:
– Минная дивизия будет сражаться до конца. Хотя машины у нас истрепаны на переменных реверсах. Сегодня мои эсминцы не раз уже чиркали днищами по грунту. Не однажды мы бились о грунт винтами. Появилась, черт побери, опасная вибрация корпусов… Не понимаю, – закончил Старк, – но команды, которые саботировали войну, сейчас проявляют чудеса героизма и отваги. Прекрасно воюют!
Начдив-XI кавторанг Пилсудский хмыкнул:
– Как же не понять? Раньше они воевали за царя…
– А теперь, выходит, за Керенского?
В разговор вмешался командир «Славы» Антонов:
– При чем здесь Керенский? Сашку Федоровича они забыли. Они сражаются за какую-то свою революцию, и я не могу понять – за какую? Одна революция уже была… Господи, неужели закрутят и вторую? У меня нервы, знаете… второй не вынести!
Бахирев позвонил с «Либавы» в службу лоций.
– Сейчас стемнело, – сказал он. – Вырубайте на каналах и плесах все маяки, все створные огни и буи…
Угас маяк Папилайд, и Моонзунд погрузился во мрак.
– Кто видел Владиславлева? – снова спросил Бахирев.
Флагманы пожимали плечами: не видели они его!
– Итак, – закрепил разговор Бахирев, – сегодня флот может приписать себе в плюс недопущение врага на Кассарский плес. Завтра борьба за обладание маневренным пространством плеса продолжится. Все «новики» – в дело. Канлодки – к бою. В проливе Соэлозунда затопим пароход «Латвию», загрузив ее предварительно камнями… Кстати, заградитель «Припять» здесь?
– Есть! – поднялся командир минзага Медведев-2.
– Мины приняли? Завалите пролив Соэлозунда.
– Есть!
Бахирев еще раз, обеспокоенный, оглядел собрание:
– Черт возьми, но куда же провалился Владиславлев с его подлодками? Куда он делся? Может, напился и спит? Где он спит? Найти и разбудить… Нужны подлодки! Нужен торпедный удар!
* * *
Папилайд мигнул последний раз в черноте Моонзунда, и на катер надвинулась кромешная тьма. Владиславлев, подняв воротник шинели, сидел под капотом, воспринимая всем телом удары корпуса о водяные ухабы моря. Дробно стучал мотор. Катер шел через пустынный канал Моонзунда – прямо на север. Слева проплыл лесистый Даго, справа пропал берег Эстляндской губернии с ее слабо освещенными Рогокюлем и Гапсалем, впереди показался остров Борис, а за ним лежала Штоппель-Боттенская банка.
Дальше не было ничего, кроме моря – открытого моря.
Через Балтику, следуя строго на север, Владиславлев дезертировал, чтобы укрыться на базе подлодок в Гангэ. Берега Финляндии, почти нелюдимы, шумели стройными лесами. Возле пирсов качались рыбины субмарин, всегда готовых нырнуть в глубину, ударить врага торпедой и затем всплыть в суровом ненастье моря…
Владиславлев на пирсе резко обернулся.
– Кто идет за мной? – крикнул в испуге.
Ветер донес глухие голоса:
– Мы с «Пантеры»…
– А мы с «Миноги»…
– Это идет «Ягуар»…
Темные тени матросов замерли. Он тронулся дальше, и тени неотступно двинулись за ним. Владиславлев снова остановился:
– Что вы меня преследуете? Ступайте на подлодки…
– Сейчас пойдем! – И сразу затрещали выстрелы.
Пинками матросы перекатили адмирала до причального среза, и под телом мертвеца бурно всплеснула вода, обдав подводников холодными брызгами. Матросы разошлись по лодкам.
Бездействие подводных лодок нуждалось в отмщении!
* * *
Немцы раскусили Эзель как орех возле бухты Тага-Лахт, а потом два клыка мотопехоты вонзились в тело острова, и кровь брызнула двумя струями – в направлении к Орисару (чтобы отсечь русским отступление на Моон через дамбу) и на Аренсбург (чтобы отрезать полуостров Сворбе, где до времени затаилась страшная для Гохзеефлотте угроза батарей Цереля).
Ночью стал усиливаться ветер. К трем часам он достиг четырех баллов. А к рассвету уже забирал под девять. Это был зюйд – ровный и устойчивый, который тянул через Моонзунд, как через вытяжную трубу. Над Кассарским плесом летела сочная лохматая пена, и в ней кувыркались корабли русской брандвахты.
«Забияка» и «Гром» – два дерзновенных.
Революция оставалась в опасности!
* * *
Линкоры «Слава» и «Гражданин» были подняты среди ночи по тревоге… Что случилось? Ничего страшного – митинг.
На барбете аэропушки выступал комиссар Вишневский:
– Революция в опасности… Линейные, помогите!
Команды строились во фронт, выкликали охотников. Витька Скрипов видел, как шагнули вперед его соседи по кубрику, большевики-сигнальщики, и он ступил за ними.
– Давай я тоже пойду, – сказал юнга.
Вот его и взяли в десант, а всех других сигнальщиков затолкали обратно в строй. Старший офицер фон Галлер крикнул:
– Сигнальные, без шуму! Пусть юнга идет на берег один, а если и вы уйдете в десант, то кому вахту нести на мостике?
По железным трапам, бряцая прикладами, шли матросы-линейщики. На черных водах качало паровые баркасы, плыли стоя, плечо к плечу, через Малый Зунд – к дамбе, и Эзель засвечивал им слева, весь в ярких вспышках боев, весь в трескотне минометов…
Дамба, – так вот ты какая! Глянув на нее, Витька только сейчас понял, что такое дамба. Вишневский показывал во тьму:
– Светится вдали огонек – это пост Орисар на Эзеле, там уже немцы кудахтают. Самокатчики слева, за тет-де-поном. Ихние мотоциклисты уже заскакивали на дамбу. Хотели нас на испуг взять. Навоняли тут, натрещали, а не прошли…
Витька Скрипов нечаянно сложил стихи:
Цыкал, цыкал мотоцикл, Не доцыкал и уцыкал!– Ты у нас вроде Пушкина, – похвалил его комиссар…
Задача была понятна: сбить врага с предмостного укрепления.
– По-олу-ундра! Даешь дамбу…
В черной ночи – как большие черные кошки. Неслись!
Витька мчался за ними – вприскок. Дамба кончилась. С хрустом рвались штаны о цепкие прутья кустарников, оголенных к осени. Прямо в лицо крошил темноту пулемет. Немцы, не выдержав натиска, растаяли в ночи, оставив матросам пять мотоциклов. «Линейщики» заняли тет-де-пон, ведущий на дамбу с Эзеля, а из темени, со стороны Моона, сердито фырча, подошли броневики в подкрепление.
На рассвете возле дамбы заполоскало лентами и клешами – линкоры сбросили еще один десант. Матросам безо всякого слюнтяйства было объявлено, чтобы стояли насмерть. Стоять до тех пор, пока из Ревеля не подойдет «батальон смерти революционной Балтики».
– Он уже формируется. Ждать недолго…
Начинался день. Второй день битвы за Моонзунд.
* * *
Еще не рассвело, когда из Аренсбурга вышли в разведку, чтобы обшарить Рижский залив, два «новика» – «Автроил» и «Лейтенант Ильин». Сильный свежак, дувший навстречу, сломал на «Ильине» фор-стеньгу, порвал антенны. Эсминцы – под флагом Зеленого-3 – развернулись на остров Руну, где обычно проживали 700 шведских семей, нелюдимых и замкнутых, сидевших на картошке и салаке, но копивших деньгу. Навстречу эсминцам с Руну взлетели два германских самолета, и стало ясно, что остров уже захвачен врагом.
От Руну Зеленый-3 направил корабли к мысу Домеснес, но там ничего не обнаружили, и в 11.15 они бросили якоря на рейде Аренсбурга. От берега к ним сразу стали подруливать по воде гидросамолеты. Заглушив моторы, аэропланы легкими поплавками качались на пологой зыби возле самых бортов эсминцев.
– Аренсбург брошен, – доложили летчики. – А мы улетаем сейчас на Куйваст… Драпаем дальше – от самого Кильконда!
Моторы взревели: шесть аппаратов нехотя расстались с водой и разом окунулись в стихию воздуха. Город уже помертвел, захлопнув ставни домов. Одинокий лейтенант флота, весь в ожогах и копоти, с глазами почти безумными, докладывал Зеленому-3:
– Жгу и взрываю все, что можно. Осталось рвануть электростанцию и автомастерские… Помогите мне!
Матросы с эсминцев помогли ему в разрушительной работе. Сыпали в море крупу и муку со складов, лили с пристаней подсолнечное масло из бочек, поджигали ангары и казармы. Топорами изрубили городской телефонный коммутатор, безжалостно оборвали все провода. Миноносцы приняли на борт последних инженеров и интендантов, забрали иностранных подданных и отошли на Куйваст. С этого момента, как дымы их погасли за горизонтом, судьба Цереля уже покатилась в пропасть трагедии…
Отход миноносцев из Аренсбурга был неоправдан и тактически: ведь немцы еще не взяли города. Уйти можно было и позже: толкни на мостиках рукояти телеграфов – и пошли!
* * *
Дороги отступления! О них всегда тяжело писать…
Масса смятенных людей, запутанных слухами и враждебными наговорами, валила через Эзель – к дамбе, на Орисар. По обочинам торчали брошенные двуколки, снарядные фуры, иногда пушки и даже броневики. На телегах ехали с домашним скарбом женщины с детишками – в гарнизоне Эзеля многие переженились на эстонках, немало было и семей, выписанных из России. Лошадей загоняли до такой степени, что они, бедные, уже не могли двигаться. Рассупоненные, они стояли, низко опустив головы, на том месте, где их оставили. Посреди дороги горел грузовик, ветер раздувал из его кузова обгорелые бумаги какой-то канцелярии. В толпе отступающих заметно выделялись данковцы, козельцы и мосальцы: не стыдясь честного народа, эти полки в открытую тащили белые флаги, и кто кричал им: «Позор!», а кто и одобрял: «Правильно!»
Не было начальника – не было человека с сильной волей, который бы с презрением поднялся надо всеми и сказал: «Хватит! Командую здесь я, а кто не подчинится – тот слопает пулю…» Правда, находились офицеры и матросы, которые уговаривали не бросать оружия, призывали построиться и быть готовыми к бою. Но они только уговаривали, а надо было жестко распоряжаться. Иногда возникали ложные тревоги: «Немцы!» – и лодки заворачивали в лес, опрокидывались телеги со скарбом, ржали беспомощные кони, сыпались из фур снаряды в канаву, плакали дети, а жены в этой суматохе теряли своих мужей. Начиналась беспорядочная пальба, при которой убивали друг друга слепо и зверино, с потухшими взорами… Сколько в этой толпе было германских агентов! Сверху отступающих и беженцев не раз поливали огнем пулеметов германские «фоккеры». Иногда же самолеты врага начинали забрасывать людей сверкающим дождем нарядных и вкусных конфет.
– Не ешьте… не давайте детям! Конфеты отравлены…
Доводы разума подействовали, и конфеты хрустели под ногами, такие красивые, такие вкусные. Потом самолеты стали раскидывать на путях отхода к Орисару головки крепкого душистого чесноку. Люди охотно ели чеснок, ибо это дар природы – не фабричное производство, и не знали того, что немцы насытили чеснок холерными бациллами. Голодные дети просили у матерей конфетку…
А за несколько верст от Орисара толпа застряла как вкопанная: ни вперед, ни назад. Слышалась стрельба. Легкой рысцой, запаренные и полураздетые, пробежали куда-то пограничники. Несколько штабных автомобилей развернулись обратно на Аренсбург (кажется, поехали сдаваться в плен). Пошел дождь. Стало сумрачно, как ночью. Из-за леса взлетали немецкие ракеты. Они фукали дымом и трещали то слева, то справа, сзади и спереди, отчего казалось, что спасения уже нет: окружены! Горел на опушке сарай с сеном, бежали лошади, волоча под брюхом сбитые седла. В колонне не сразу поняли, что идет бой. Он возник стихийно, и люди бились, чтобы проломиться на Орисар. Матросы отбирали оружие у трусов, спешили в сражение. Из боя их выносили обратно в колонну – простреленных насквозь, иногда уже мертвых, клали на землю и тут же забывали о них.
– В атаку! В атаку! – призывали смелые робких.
Колонна прорвалась через немецкий заслон, но перед самой дамбой ее опять словно врыли в землю: ни вперед, ни назад. Моон уже виднелся за взвихренным от ветра Малым Зундом, но…
– Не пущають! – визгливо кричали данковцы.
– Кто не пущает?
– Матросы держат.
– Ломи их… Кирюха, не выдавай! – надрывались козельцы.
В этот гвалт въехал на рыжей кобыле, мокрой от дождя, сам мокрый, хоть выжимай его, комиссар Балтфлота – Вишневский.
– На дамбу пропущу только женщин с детьми. Но, если хоть одну белую тряпку увижу, всех перекалечу… здесь же!
Данковцы орали, что поднимут его на штыки.
– Попробуй, – перегибался с седла комиссар. – Ты меня приколешь, а… линкоры видел? Они за мою шкуру тебя из «кастрюлек» своих под орех разделают. Где оружие твое, паразит? Бросил?
И рыжая кобыла комиссара перла грудью, давя и топча. Над папахами козельцов и мосальцев Вишневский потрясал кукишем:
– Вот вам всем дамба! Воевать надо, сволочи…
На Орисаре, возле пулеметов, сидели матросы-линейщики. Витька Скрипов, освоясь и гордясь, похаживал с винтовкой, грозя:
– Ну, куда прешься? Осади назад… дамба закрыта!
Среда людей, заламывая руки, бродила молодая женщина:
– Кто видел моего мужа? Он с ребенком… прапорщик Леша Романов, худенький такой… шинель еще у него без хлястика.
Отступающим объявили, что корабли брать их не будут.
* * *
Из Менто фон Кнюпфер позвонил на Церель – Артеньеву:
– Аренсбург оставлен. Эсминцы отошли. Подумайте об этом.
И бросил трубку. Напрасно Сергей Николаевич крутил ручку зуммера, вызывая штаб обороны Сворбе, – фон Кнюпфер не отвечал. Плюнул в душу и замолк… Скалкин переломил бескозырку пополам, словно лепешку, сунул ее за отворот бушлата.
– А над Менто уже белый флаг, – сказал тихо.
Они пошли на митинг. По рельсам ползал маневровый паровозик, который обслуживал подвоз к батареям погребных зарядов. Машинист высунулся в окно будки, крикнул Артеньеву:
– Я вольнонаемный… на што мне погибать с вами?
Митинг начался страшно: по соседству с красным знаменем революции мерзавцы уже развернули белые флаги.
– Не совладать! – кричали они. – Сдаваться надо…
Скалкин сказал Артеньеву:
– Буду ломать гадов, правда за нами… Товарищи! – обратился он к прислугам батарей. – Вы, сорок третья, и вы, сорок четвертая. Правда за нами, и вот она, правда, поганее которой не выдумать, но зато… зато это правда: Церель отрезан! Вечером немец уже сядет в Аренсбурге и покажет нам кулак с тыла. А наши батареи обратных директрис не имеют, пушки наши глядят только в Ирбены… Не хочу говорить о долге. О нем еще при царе Горохе немало сказано. О совести говорить стану. Совесть, товарищи, это тебе не шлынды-брынды! С нею, братцы, жить и умирать. У кого глаза бесстыжие, тот пускай свои портянки заберет и уходит. А у кого совесть чистая, пусть встает под наше красное знамя…
Артеньев, подавая пример, шагнул первым под красное знамя, за спиной офицера ветер раскачивал Ирбены, старлейт вчеканил подошвы в серый бетон бастионов, и под раскатом калибра в двенадцать всесокрушающих дюймов он понял, что стоит прочно. Никто его отсюда не собьет, а вокруг него собирались другие:
– Стоять насмерть! До последнего снаряда…
После митинга Артеньев сказал комиссару:
– Послушай, что я написал для передачи адмиралу Старку:
«Гарнизон Цереля просит прислать несколько миноносцев. Когда снаряды у нас кончатся, нам предстоит спасаться морем…» Добавишь?
– Нечего добавлять. Правильно. Отправляйте…
С рейда Куйваста корабли дружески радировали на Церель:
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, БУДЬТЕ СТОЙКИ
ДО ПОСЛЕДНЕГО, МЫ С ВАМИ. НАДЕЙТЕСЬ
НА НАШУ ПОМОЩЬ. БРАТЬЯ.
– Флот не предаст, – заулыбался Скалкин. – Дышать легче…
Артеньев с комиссаром сработались как две шестеренки, которые, цепляясь зубьями одна за другую, прокручивают механизм. Никаких конфликтов, даже мелочных, между ними не возникало. Да и какие могут быть разногласия у людей, решивших вместе погибнуть?
Скалкин с уважением говорил Артеньеву:
– Вот ты человек – не болтаешь, а делаешь… Все бы так!
Среди дня он с охотниками пробрался до самого перешейка Сворбе, чтобы выяснить, чем там пахнет от Аренсбурга. Их ждала новость: одна рота Каргопольского полка заняла перешеек, чтобы ограждать от немцев Церель с тыла. Ротой командовал контуженный, наполовину оглохший поручик. Заикаясь, он искренне выпалил перед батарейцами:
– Кля-не-немся – мы не уйдем, пока всех нас не выбьют до-до одного! Де-держите связь: в случае чего пусть ваш Церель лупит прямо по перешейку – мы принимаем огонь на себя.
Скалкин крепко обнял геройского заику.
– Милый ты мой, – сказал он ему с чувством, – тобой любоваться можно. А только убивать вас мы не способны.
– Бейте по нам без жалости: все равно уж пропадать!
Обратных директрис на Цереле не предусмотрено.
Фон Кнюпфер молчал весь день, словно сдох.
* * *
Но вот что достойно особого внимания: 107-я пехотная дивизия, под командованием генерала Иванова, вообще никуда не ушла.
Ни к Сворбе, ни к Орисару!
Эзельские леса наполнялись грохотом боев – это в глубине острова беспощадно сражалась с врагом 107-я дивизия.
Честь ей и слава!
* * *
Кассары разгулялись сегодня – эсминцы захлестывало. За ночь они добрали нефти в свои трюмные ямы. Воздушные лифты заранее подали на орудия пристрелочные снаряды. Теперь эсминцы шли торжественно и гневно, обмытые мыльною пеной шторма. «Гражданин» бросил якоря возле Шильдау. Таясь за тенью Моона, он покрывал главным калибром пространство Кассар и пролив Малый Зунд, не допуская врага с моря до дамбы.
Одномачтовые тральщики немцев, дымя из высоченных и тонких карандашей труб, старательно ползали через Соэлозунд, выскребывая случайные мины. «Гром» с дистанции в 55 кабельтовых стал бить по ним. Семенчук, прильнув к панораме дальномера, отчетливо видел, как началась беготня матросов на палубах тральщиков, как близкие всплески обрушились на их мостики.
Командир «Грома» – Ваксмут – крикнул ему снизу:
– Осмотрись за Памерортом!
Семенчук погнал дальномер в развороте. Был виден гибнущий тральщик: от него разметало черную угольную пыль, а столб дыма напоминал бокал – с узкой ножкой внизу, расширенный кверху. В хрустальные кристаллы оптики, за которыми колебалась сизая мгла ненастья, медленно въехал бронированный борт германского крейсера, укрывавшегося за мысом Памерорт.
– Трехтрубный типа «Грауденц», – доложил Семенчук.
– Руби до него дистанцию, – велел с мостика Севастьянов…
Старший артиллерист Севастьянов трудился на автомате ПУАО, и сверху Семенчук видел его юношеский затылок, весь мокрый от брызг, с вихрами давно не стриженных волос. Дуэль началась невыгодно для эсминцев: броня крейсера не пропускала снаряды, а сам «Грауденц» давал отличные накрытия. Семенчук невольно сжался под свистом осколков. Что-то стегануло его по спине, словно розгой, и он боялся подумать, что ранен. Но это сбило на «Громе» радиосеть – гальванера выстегало сзади разорванной антенной.
«Изяслав» и «Самсон» проходили в отдалении, еще не различая цели, по которой бил «Гром». Из туманной проседи вывернулся решительный «Константин», тоже ввязался в дуэль с крейсером. За мелкой сеткой дождя пропадали берега Эзеля и Даго, моросистые шквалы сбивали наводку эсминцев. Адмирал Старк велел выходить из огня по способности и вставать на якоря – тоже по способности. Минная дивизия исполнила разворот при бортовой качке и, переменив курс, подверглась оглушительной – килевой, от которой гудели сочленения их узких корпусов. «Новики» кувыркались в мутных кассарских водах. На палубах перекатывались расстрелянные гильзы унитарных патронов. Комендоры – ноги циркулем! – заботливо укрывали замки орудий чехлами. Прицелы захлестывало водой, дождь бил в лицо… Ничего страшного: все как положено!
Адмирал Старк объявил по дивизии: «Командам обедать!» Обед в этот день на «Громе» был непохож на обычные. Даже наружная вахта, продрогшая на знобящих ветрах, вниз не спускалась. Офицеры тоже не пошли в кают-компанию. Вся команда глотала порции возле боевых постов. Жир от мяса замерзал по краям мисок, ели наспех, не прожевывая кусков, над ними кричали чайки, ловя из воды отброшенные за борт корки хлеба.
Разговоры слышались только одни:
– Кассары бы удержать, а то худо станется.
– Сегодня еще тихо, завтра жди – попрутся.
– Тральщики-то у них работают – как цветы собирают.
– «Припять» уже мины взяла: пойдет ставить.
– Завалим проход к Кассарам – не пройдут…
Настроение было бодрое. За кассарскими туманами чудились лучезарные рассветы над родиной. Пятнадцать большевиков в команде «Грома» – это не пустяк по тем временам: за ними – все! Подбор офицеров прекрасный, и командир выборный. В основном – молодежь (на миноносцах старики не выдерживают: слишком тревожная жизнь, в непрестанной качке, в разных передрягах, в хроническом недосыпе, в сыром белье).
Со звоном отлетела миска комендора, он с руганью бросился к аэропушке, разворачивая ее в безглазое небо.
– Дурень! – остановили его. – Да это наш летит…
Поплавки гидросамолета казались поджатыми, как лапы у гуся в полете. Шумно рассекая воздух над мостиками эсминцев, он устремился в сторону Эзеля, а из мотора его била струя дыма.
* * *
Прокофьев-Северский тянул машину изо всех сил. Сегодня он на перелете от Аренсбурга свалил одного немца, а сейчас его над Серро обстрелял дирижабль, которого лейтенант не заметил среди низких облаков. В моторе – огонь, и вообще непонятно, как он сядет. Может, лучше плюхнуться на воду? Когда под ним зазеленело хвойными рощами Эзеля, он понял: «Сейчас рухну…» Пламя уже коснулось его лица, он отбивался от огня перчаткой, как от злой собаки. Верхушки сосен хлобыстнули самолет по фюзеляжу. Впереди – шоссе, удобное для посадки. Но тут поплавки, словно крючки, зацепили за провода электролинии, и гидроплан (хвостом вперед) упал в лес, круша и сминая молодые побеги елочек…
Жив! – это первое. Второе дело – выбраться из обломков. Задрав штанину, он подтянул протез. Хромая, обошел самолет, выдернул из кабины авиапулемет. Взял два пенала с патронами, прикинул в уме – сколько ему шагать. Сковырнулся он где-то за Памерортом, – значит, до Куйваста верст сорок, не меньше. Протез скрипел, как несмазанная телега. Культя, конечно, скоро будет в крови. Но… Не пропадать же здесь!
На дороге он встретил человек сорок немцев. Это не самокатчики, которые нахально несутся вперед – только вперед, чтобы наделать паники. Это немцы из десанта, который сливается из трюмов кораблей на Эзель, словно жидкость из бездонного чана… Прокофьев-Северский лег за камнями и короткими очередями согнал немцев с дороги.
– Вот так с ними надо! – сказал, поднимаясь в рост.
Пошел дальше, думая о своей культе, которая с болью ерзала в ямке протеза. Врачи ему говорили: отнимем ногу и выше, если не станете беречь себя. Выше – это еще сантиметров десять. Под самый пах! Тогда не полетаешь… Всю дорогу отважный летчик отбивался пулеметом от немцев, и про него можно смело сказать, что он прошел через весь Эзель с боями.
В одном эстонском хуторе он заглянул в дом:
– Эй, бабка! Дай масла… только не пугайся.
Сливочным маслом густо смазал шарниры протеза. Уронил голову на доски стола. Нет, только не спать. И пошел дальше. У него осталось еще полпенала патронов. Пулемет натер плечо, лейтенант перехватил его в руку, как тяжелую дубину. Каждый шаг – боль, которая от культи въедается в сердце. Мягок мох на полянах, сладки ветреные грезы на опушках, хорошо голове полежать на ворохе шуршащих листьев… «Нет! Не усну». Вечером он подошел к Орисарской дамбе – в самую заваруху паники, в самое позорище.
Комиссару Вишневскому он сказал на переправе:
– А меня ты пропустишь. Мне в Ревель. За новым самолетом.
И такая была убежденность в этом человеке, истомленном страданием и болью, что Вишневский велел матросам:
– Подсадите его в машину – это наш!
В автомобиле он уснул. А дальше – как по графику: миноносец «Эмир Бухарский», спешащий в Гапсаль на переборку машин, затем был вечерний пустой поезд на Ревель, и он выспался в вагоне. С ревельского аэродрома Прокофьев-Северский пригнал новый самолет, а утром его видели снова – парящим над Моонзундом…
Ну, разве можно таких людей победить?
* * *
Упругий ветер летел с зюйда – не по-южному леденящий. Адмирал Бахирев сказал:
– Пришла пора топить суда на канале Соэлозунда. Когда выйдет из Рогокюля «Латвия»? А что там с минзагом «Припятью»?..
Людские судьбы – как синусоиды: то взлет, то падение. Еще вчера адмирал Бахирев молился на Корнилова как на святого. А сегодня он, даже без натуги, свершает большое дело: под его началом флот бьется за революцию. Профессиональная привычка берет верх над другими соображениями. Пройдет еще один год, и по приговору петроградской ВЧК адмирал Бахирев будет расстрелян, как собака. Был взлет синусоиды, потом кривая линия судьбы покатилась вниз – адмирал станет ждать Юденича, как ждал когда-то Корнилова…
– Передайте на «Латвию» – топить ее! – приказал он.
Ветер крепчал. Буксиры, надрываясь, тянули за собой пароход «Латвию», забитый камнями, чтобы закрыть немцам дорогу на плес. Возле острова Руке-Рага тросы лопнули, и «Латвию» понесло ветром… дальше, дальше. И выперло на камни.
Доложили Бахиреву: не получилось. Старк торопил штаб:
– Минную дивизию треплет на якорях, машины постоянно на подогреве, и они устали. Вахты кочегаров валятся с ног… Когда же вы поможете нам и завалите минами Соэлозунд?
Эта ругань начмина дошла и до Бахирева.
– Радируйте на дивизию Старка, что «Припять» к постановке мин на канале уже вышла…
* * *
«Припять» к постановке мин вышла… Под конвоем «Разящего», имея 60 мин на борту, «Припять» дошла только до траверза Павастерорта, и здесь команда отказалась идти дальше.
Забастовка! Решение судового комитета:
– Идет дождь, и постановка мин опасна…
С «Разящего» (через сетку дождя) спрашивали клотиком:
– Чего встали? Пошли дальше…
Часы в рубках показывали 17.10 – скоро над Соэлозундом стемнеет, а дождь лишь укроет от немцев работу минного заградителя. На мостике «Припяти» заплакал командир – Медведев-2. Он стал уговаривать всех подряд – и команду и комитетчиков!
– Я же не от царя… вы сами меня выбрали! Вспомните, как опасно было работать в Ирбенах. Разве вы забыли, как мы ставили мины в штормягу у Цереля? Так что же вы сейчас ерундите?
А ему отвечали:
– Идет дождь, мины прямо с завода, на них густая смазка, можно поскользнуться… мало ли чего не бывает с минами! И нет надежного прикрытия от Минной дивизии – Старк отошел на «Самсоне» к Кассарскому бую. Короче, мы не пойдем ставить мины.
«Разящий» слезливо мигал во тьме: пойдем или не пойдем? поставим или не поставим?.. Медведев-2 выходил из себя:
– Подумайте о флоте. Наконец, подумайте о революции!
– Революция непобедима, а дождь шпарит, а мины скользкие…
«Припять» совершила в этот день предательство: забастовка минного заградителя помешала закрыть подходы к Кассарам. Правда, это был единственный случай за все время сражения в Моонзунде, когда матросы-балтийцы не выполнили боевого приказа… Советские историки позже провели тщательный анализ обстановки, и они пишут, что «это решение было неоправданным… Условия как раз благоприятствовали выполнению задачи: плохая видимость и дождь способствовали скрытности постановки!».
Полвека тому назад это же самое безуспешно пытался доказать своим забастовщикам выборный командир Медведев-2. Но его послали подальше: идет дождь, и ты крути машину назад!
Медведев-2 в отчаянии пытался покончить с собой, но застрелиться ему не дали, а еще и разлаяли как следует:
– Это на што похоже? Мы вас выбирали, а вы… как девица, которая от прохожего забеременела! Так дело не пойдет у нас: коли уж вас выбрали – так служите с честью.
Но сами они в этот день честь потеряли.
* * *
По сути дела, Эзель уже целиком захвачен противником, только не сдается в лесах 107-я дивизия генерала Иванова, только держится оборона полуострова Сворбе с батареями Цереля… Быстро, прямо скажем, провернули это дело немцы на своих мотоциклах! А вслед за самокатчиками к восточному побережью Эзеля уже подтягиваются морские десанты противника. Конечно, когда в спину тебя подпирает немецкий автомат, а ты, друг ситный, винтовочку свою в кустиках оставил, чтобы бежать не мешала, тогда ты об этом думаешь, об одном кричишь:
– Открой дамбу! Дай выйтить отсель… погибаем ведь!
– Хрена вам всем, – отвечал Вишневский. – Где винтовка?
– Откуда я знаю… потерял!
– Вот ты мне ее найди, поставлю тебя в строй и тогда стану с тобой как с человеком разговаривать…
Большевистский комиссар Орисарской дамбы был непреклонен. Вновь прибывшие с удивлением спрашивали:
– Кто он такой, что нас не боится?
– Да комиссар от большаков… Коновод главный.
– Что у него на лбу-то написано?
– Написано там: Диана… Форсу много!
Вишневский к тем людям, которые сохранили свое оружие, относился по-человечески. Таких сводил он в отряды, наспех ставил во главе офицера (иногда первого попавшегося) и посылал в бой. Почуяв твердую руку начальства, люди шли в бой охотно. Предмостное укрепление Орисарской дамбы медленно насыщалось кровью…
К вечеру второго дня на дамбу пропустили обозы. Немцы с моря засвечивали прожекторами. Обозы часто разрывало пополам кинжальным огнем пулеметов с соседних островов. Дамба – узка, как бритва, и спастись от пуль негде. Дрыгая ногами и запутывая упряжь, обозные кони рушились в море. С белыми флагами матросы никого на дамбу не пропускали – лупили прикладами как предателей:
– Не туда прешься! Ступай к немцам, падла худая…
Матросы-линейщики подбирали пушки, броневики, пулеметы. По взгорьям – на виду переправы – скакали конные разъезды противника. Слышались минометные залпы. Убитых не успевали вывозить. А какой-то прапорщик, нервный, совал в руки Вишневского ребенка:
– Подержите мою дочурку… прошу вас – подержите! Я сейчас… я больше так не могу… я должен драться!
Вишневский машинально взял девочку, и она заревела:
– К маме хочу… где мама моя?
– Что ты мне соплячку свою суешь? Или дел у меня нету?
Комиссар спихнул ребенка дальше – на колени какой-то бабе, и телега с этой бабой сразу вкатилась под дождем на дамбу. Прапорщик из груды оружия долго выбирал винтовку себе:
– Мне это надоело… Кто пойдет со мной?
Вишневский свистнул – сразу явились матросы. Вокруг них собирались офицеры в раздерганных шинелях, солдаты разные, казаки и пограничники… Нервный прапорщик увлекал их горячностью:
– Товарищи! Ударим разом… собьем их кордоны!
В этой стихийной атаке немцев гнали целую версту. После боя прапорщик умирал на земле, проткнутый тесаками в грудь. Женька Вишневский склонился над ним – в тоске и жалости:
– Друг, как зовут хоть тебя… скажи.
Остекленевшие глаза офицера глядели в бездонную пропасть неба, где гудели германские «фоккеры»… На другом конце дамбы Витька Скрипов тоже насмотрелся всякого горя и всякого счастья. Видел он, как рыдал старый солдат-ополченец, копая могилу для своей жены, как целовал он ее, опуская навеки в землю. Видел юнга, как одна молоденькая женщина с воплем кинулась к телеге, съехавшей с дамбы, и стала отнимать у проезжей бабы ребенка:
– Отдай! Боже, это ведь моя дочь. Теперь мне осталось найти еще мужа… – Она металась под пулями между возов и пушек, спрашивая: – Никто не видел прапорщика Леши Романова? Худенький такой… шинель у него еще без хлястика!
Вишневский уже закрыл ему глаза и оставил лежать под дождем.
Витька Скрипов, орудуя прикладом, командовал:
– Эй, шантрапа эзельская! Дорогу матери с ребенком…
* * *
Вечером немцы вошли в Аренсбург. Адмирал Свешников бежал вчера столь поспешно, что даже не уничтожил секретной документации, и она сразу же поступила на обработку германских штабов. Владиславлев не выслал на позицию подводные лодки, а Свешников «подарил» врагу планы минных постановок.
В. И. Ленин писал в эти дни: «Воюют геройские матросы, но это не помешало двум адмиралам скрыться перед взятием Эзеля!!
Это факт. Факты – упрямая вещь».
От Аренсбурга – рукою подать до Сворбе. Немцы так и сделали: они повернули на юг, чтобы размять батареи Цереля с тыла, но на узком перешейке уперлись в штыки. Там насмерть стояла четвертая рота Каргопольского полка… Увы, батареи Цереля помочь солдатам не могли – их пушки не разворачивались в сторону Аренсбурга.
И наступила ночь. Все устали. Каждый по-разному.
…Не уставал от войны только кайзер, эту войну зачавший.
* * *
Как правило, с наступлением осени Потсдамский двор, под наблюдением кайзера, заготовлял впрок бочку майонеза. Весь зимний сезон дипломатов и генералов потчевали холодной лососиной, обильно поливая ее домашним майонезом. Полной ложкой Мольтке – шлеп, послам России и Англии – шлеп, шлеп, Гинденбургу – шлеп, жене – шлеп, Тирпицу – шлеп… Ешьте! Кайзеру не жалко. К весне бочка с протухшим майонезом пустела – двор переходил на черствые кексы и мороженое, которое ели, не снимая перчаток. Вилли был образцом экономного мужа, и бутылку коньяку он умел растягивать на целый месяц… Это тебе не русский Николашка!
Сейчас Германия кормилась сталью и медью. От дверей отвинчивали ручки, переплавляли подсвечники; тарелки и вилки прадедов, помнившие времена Гёте и Гейне, летели в крупповские домны. Какой там майонез! Откуда лососина? Кексы? Нет, не слыхать про кексы… Голод коснулся даже кайзера. Количество блюд сократили в Ставке до трех. На угощение своим генералам Вильгельм предлагал на выбор: или кружку пива, или сигару. По вечерам в штабном поезде кайзера собиралось человек до двадцати. Так как это время целиком посвящалось бравым окопным анекдотам о героизме германского солдата, то Гинденбург раз и навсегда отказался бывать в вагоне кайзера по вечерам. Беседуя с гостями, кайзер вскрывал почту. Врожденный паралич его левой руки был ужасен. Но император, который проектировал броненосцы и умудрялся писать картины, в помощи никогда не нуждался. «Ему приходилось брать телеграмму правой рукой, вкладывать ее в пальцы левой руки и затем уже вскрывать и разворачивать правой…»
Язык кайзера – как всегда – удивительно бестактен:
– Ну, что там мои ребята в Моонзунде? Будут они шевелиться или наклали полные штаны и решили как следует поспать?..
Перед ним развернули карты – морские. Обладающий феноменальной памятью, кайзер точно называл глубины Куйваста и Соэлозунда. Операция «Альбион», кажется, получала бесплатное приложение. Раньше планировался захват одного Эзеля, теперь, взяв Эзель, германская Ставка склонялась к мысли, что можно забрать и Даго; а потом шагнуть и далее к Петрограду, десантируя войска в Финляндии.
– Забавно получается, – говорил Вильгельм. – Но самое главное сейчас – Кассары, от Кассар зависит судьба всего «Альбиона»…
Перед сном он принял ванну. Лохань, сделанная по его эскизам брюссельскими заводами, занимала целый вагон. Ванна-вагон была отлита из дефицитной меди. Из тех самых тазов и тарелок, из дверных ручек и ложек, которые конфисковали у населения ради победы «германского духа». Кайзер плавал в вагоне-ванне, величественно размышляя о стратегической важности Кассарского плеса.
* * *
Германские эскадры раскачивало в серых лоханях бухт западного Эзеля. Ветер рвал и тащил корабли над хлябями, жидкие грунты, составленные из древних гниющих илов, не держали якорей. Тогда по приказу флагмана из ушей клюзов выпадали гигантские серьги дополнительных якорей. С грохотом по дну моря стелились тысячи тонн якорных цепей, которые были способны задержать дредноуты на одном месте.
– Итак, – сказал Эргард Шмидт, – русские сегодня почему-то не догадались заградить Соэлозунд минами: Кассары открыты!
Он еще не знал о забастовке на «Припяти»…
В радиорубках флагманского «Мольтке» – надоедная пискотня морзянки. Вильгельмсгафен запрашивал эскадры, что ими сделано и еще не сделано… Адмирал не спал всю ночь, только мундир переменил на халат, а обувь на комнатные туфли. Здоровенный бульдог, охранявший покой Шмидта, устал рычать на бесконечную череду вахтенных и под утро затих на ковре возле ног хозяина, только скаля зубы на входящих с новыми донесениями…
Пора подвести итоги:
– Завтра мы имеем отличный шанс прорваться в Кассары и раздавить там эскадру Бахирева так, что сок от нее брызнет во все стороны. Если же нам сделать это не удастся, тогда русские могут поводить нас за нос, и нам в подобном случае грозит опасность большой драки с Церелем… Его императорское величество, наш славный кайзер, сам превосходный офицер флота, и он справедливо указывает, что главное сейчас – это Кассары…
Бешеным напором ветра антенны линкоров выгибало в дугу, между флагманским «Мольтке» и радиостанцией Норд-дейч в эфире вибрировало всю ночь напролет одно только безумное слово:
«Кассары… Кассары… Кассары…»
Ночь. Рассвет. День третий. Воскресенье.
* * *
Утром третьего дня Старк на катере обошел эсминцы:
– Еще раз довожу до сведения: трупы убитых не бросайте, весь товар складывайте по баням, чтобы доставить его в Ревель.
– Ясно! – отвечали с высоких мостиков…
Судьба адмирала Старка тоже выписывает сейчас сложную синусоиду. Сначала яростный монархист, затем убежденный корниловец, Георгий Карлович вынужден сегодня сражаться во имя революции. Правда, он не совсем-то понимает – во имя какой, но пусть и дальше остается в счастливом неведении…
Старк недовольно машет рукой за столом:
– Ладно. Политикой займемся на досуге, сейчас некогда…
Над флагманом Минной дивизии уже поднят сигнал «буки» (начать движение). Вспарывая воду ножами форштевней, как страницы непрочитанной книги, тронулся XI дивизион под командой храброго Пилсудского. «Забияка», «Константин» и «Гром» с «Победителем» выскочили на Кассары, проникнув в Соэлозунд, а эсминцы уже нагоняла издалека канонерская лодка «Храбрый». Старк распорядился, чтобы к Церелю сбегали на разведку «Украйна» и «Войсковой».
– Осмотритесь за Сворбе, – наказал он их командирам. – Если нужна поддержка на перешейке, окажите ее своей артиллерией. Строго советую вам: ни одной души с берега не принимать…
С моря пришло первое сообщение от 11-го дивизиона: в проливе Соэлозунда противник не обнаружен. Уже кое-что ясно. Старк вызвал к себе начдива-13 – Клавдия Валентиновича Шевелева.
– Клавочка, – сказал он каперангу, – пока здесь живьем никого не жарят, ты сбегай к Домеснесу. В случае встречи с немецкими верзилами сразу отверни и не связывайся с ними…
Клавочка увел «Изяслава», «Автроила», «Гавриила».
Расстановка миноносных сил закончилась.
– Адвоката мне! – потребовал Старк у вестовых, и ему принесли стакан крепчайшего до черноты чаю с ломтиком лимона.
Еще ничего не было решено. Чтобы даром не пережигать мазут, эсминцы XI дивизиона встали на якоря в линию – вдоль меридиана Павастерорта, образуя как бы цепочку, ограждавшую Кассары. Около полудня Бахирев поднял флаг на «Баяне», пристегнул к своему хвосту пять эсминцев в кильватер и пошел к Ирбенам, где его встретил XIII дивизион Клавочки. С дивизиона отсемафорили на адмирала, что возле Домеснеса все чисто: немца нет! Пока они там болтались без дела, на Кассарском плесе – без них! – была перевернута самая яркая страница в летописи о Моонзунде…
Ходили в этот день лишь «новики», работавшие на нефти, а старые миноносцы, бравшие в бункера уголь, Старк придерживал на базах, ибо с них были взяты офицеры для пополнения комплекта кают-компании на «новиках». Так начинался этот день.
* * *
Но сначала молния блеснула над Церелем. По слухам батарейцы знали, что по Эзелю еще бродит 107-я дивизия, ночью слышалась отдаленная стрельба: генерал Иванов бросал дивизию на прорыв, и всюду она наталкивалась на плотные германские заслоны. Церель, таким образом, не был одинок в своем окружении…
Погода выдалась ясная, горизонт был чист. С вышки Церельского маяка Артеньев и Скалкин долго разглядывали безлюдье Ирбенского пролива. Сергей Николаевич сказал комиссару:
– И дальше бы так! Может, сто седьмая еще прорвется.
– Надо на флот рассчитывать – не оставят ведь…
Вскоре поступил доклад: видны тральщики. Артеньев, глубоко взволнованный, плюхнулся спиной в сиденье десятиметрового дальномера – самого мощного на Цереле, и спина сразу вспотела. Обняв штурвал, он всмотрелся в панораму и стал дико ругаться.
– Что там? – Скалкин уселся с ним рядом.
Артеньев отмахнулся. Десятиметровый был испорчен (может, умышленно), на Цереле остался плохонький дальномер системы «Барра и Струда», которому доверять нельзя. Но все же тральщики они разогнали огнем. Будут не тронуты мины в Ирбенах, значит, не пройдут через Ирбены дредноуты. Это понимали и немцы, а потому скоро небо над Ирбенами закоптили новые флотилии тральщиков.
– Кабельтов сто тридцать, – на глаз определил расстояние до них Скалкин.
Тревога была – хоть плачь. Плелись, покуривая, будто шли за пивом. Но зоркий глаз Артеньева отметил, что большевики четко и быстро заняли посты, и он испытал невольную благодарность к ним. Старший лейтенант подключил к сети электроревун. Отработав данные, замкнул цепь, ревуны замычали, и горловины пушек изрыгнули через Ирбены массу огня, стали и грохота. Не оглохнуть было нельзя, и скоро на Цереле все орали… Следом за тральщиками, поблескивая издалека, как прогулочные яхты, шли в прикрытии германские крейсера. Церель снова изгнал врага из Ирбен, и Артеньев сыграл в конце «дробь», велев поставить орудия «на ноль».
– Кажется, одному крейсеру врезали, – заметил Скалкин.
– Да вроде бы, – поморщился Артеньев. – Чуть-чуть недолеты, которые меня бесят. Но злиться на самого себя нет смысла: стрелял не я, а пушка… Теперь надо ожидать самого худшего!
На Цереле неожиданно появился фон Кнюпфер, и Артеньев доложил каперангу о своих соображениях: тральщики – признак нехороший… Фон Кнюпфер был удивительно спокоен и повел себя странно.
– Вы ошибаетесь, старлейт, – сказал он.
– Простите, я вас не понял.
– Ирбены не колыхнутся еще целую неделю.
– А зачем же они стремятся тралить Ирбены?
– Ну, это так… ради приличия!
Никаких указаний на будущее начальник обороны Сворбе ему не дал, но зато сообщил, что прибыли немецкие парламентеры.
– Минутку! – остановил его Артеньев. – Я теперь не один, у меня есть комиссар, и вопрос слишком щепетилен, чтобы нам, офицерам, решать его наедине. Пулю от своих я получать не желаю…
На общем собрании батарей Кнюпфер сказал:
– Подумайте как следует. Не кричите, что парламентеров – повесить! Немцы народ серьезный и таких большевистских шуток не понимают. Условия, – закончил Кнюпфер, – можете узнать у них же: немцы сейчас на перешейке и ждут делегатов от Цереля.
Самое правильное было бы – не ходить на встречу с парламентерами. Но разложение уже коснулось прислуги, слышались выкрики: «Сдаваться… чего уж там? Перебьют иначе как щенят. Какой год одно и то же, надоело. Берлин заодно поглядим. Немцы, чай, тоже не звери!» Слушая этот бред, комиссар сказал Артеньеву:
– Если этих идиотов послать на перешеек, они продадут Церель с потрохами своими. Потому нам идти надобно… обязательно!
Идти не хотелось. Тошно было. Но лучше пусть с парламентерами говорят командир с комиссаром, нежели разложившаяся шантрапа. Предусмотрительно старлейт китель снял, переоделся в солдатское. Парламентер был один. В чине майора саксонской пехоты. Прекрасно говорил по-русски и вел себя вежливо, без хамства.
– Условия таковы, – деловито сообщил он без проволочки. – Если на Цереле ни один винтик не будет сломан, если вы сдадитесь без боя, мы отвезем вас прямо в Германию… в самые лучшие города! – подчеркнул майор. – Обставим, конечно. Оденем в штатское. У каждого будет отдельная кровать. Даже тумбочка. Мыло дадим!
– Что мы, – не выдержал Скалкин, – мыла не видали?
Майор улыбнулся, посмотрев на фон Кнюпфера.
– И еще одно условие: если Церель не будет сдан вами, он просто исчезнет с лица земли. Пленных брать не станем. У нас и без того вашего брата хватает… все будут расстреляны.
Скалкин сунул кулаки в карманы бушлата.
– А вашего брата немца мы тоже знаем. Начитаны, наслышаны! И не все русские одинаковы. Церель будет драться. Вот когда разобьете нас, тогда делайте с нами что хотите. На-кось, выкуси!
Кнюпфер ходил за спиной майора, как кот возле сметаны.
– Послушай… ты! – сказал он Скалкину. – Ведь ты не приятеля своего встретил. В шалмане он с тобой не сидел и сидеть не будет… Как ты разговариваешь с официальным парламентером?
– Мы не желаем кровопролития, – заметил майор.
– А чего же тогда полезли на Моонзунд?
Майор кайзеровской армии любезно объяснил Скалкину:
– Да, это верно. Мы пришли сюда. Потому что мы, германцы, стремимся захватить как можно больше русской земли. Это нам необходимо, чтобы таким путем скорее добиться мира с вами. Поймите меня правильно: мы наступаем во имя вашего же блага!
Артеньев иезуитства терпеть не мог и сразу вмешался:
– В ваших рассуждениях, господин майор, нет логики.
– О, есть… ее достаточно, – ответил немец.
– Но она не железная.
– Может, золотая? – усмехнулся парламентер.
– Нет. Она кровавая…
Майор снова завел речь о простынях, о тумбочках, о мыле и прочих прелестях плена, но Скалкин повернулся спиной:
– Жидко пляшете! Давай, дядька, разойдемся по-хорошему: ты меня не знаешь, я тебя никогда не видывал…
Вернулись на Церель в подавленном настроении. Было страшно за каргопольцев, сидевших на перешейке. Чистота горизонта меркла во мгле. Германские крейсера вошли в соседнюю бухту Лео и методично гвоздили побережье, никого не убив и не ранив. Били просто так – кажется, для проверки профессионального опыта.
Тральщики работали вне досягаемости залпа.
Было ясно: вслед за ними покажется Гохзеефлотте.
* * *
С эсминцев XI дивизиона, болтавшихся на качке в горле Соэлозунда, хорошо видели немцев – трехтрубный «Эмден» и миноносцы, но линкоров сегодня не замечали. Дул слабый зюйд… Ровно в полдень канлодка «Храбрый» примкнула к четырем эсминцам, вся в готовности, и Пилсудский долго смотрел на нее в бинокль.
– Хорошие это корабли, – сказал он. – Неказисты вроде, но в них что-то есть приятное… Подойдем к храбрецам поближе, я хочу переговорить с их командиром.
Командира «Храброго» недавно выкинули с флота за родство с генералом Корниловым, и матросы выбрали в командиры канлодки лейтенанта фон Ренненкампфа, невзирая на его немецкую фамилию, – это был отличный и волевой офицер, еще совсем молодой.
Пилсудский наказал Ренненкампфу – через мегафон:
– Мы пока постоим на якорях, а вы обстреляйте этот входной мыс. После чего будем наводить хандру на «Эмдена».
– Добро, – охотно согласился Ренненкампф…
Но едва «Храбрый» дал обороты, как из-за мыса Памерорт высунулся форштевень германского дредноута «Кайзер». Русские эсминцы и канлодка перед ним – как жуки перед носорогом.
– Выбирай якоря, – среагировал Пилсудский. – Быстро…
Атмосфера над морем наполнилась гулом: из башен «Кайзера» вылетели сгустки огня. Сейчас, не считая канлодки, их было четыре собрата: «Победитель», «Забияка», «Константин», «Гром».
Пилсудский машинально отметил время: 13.50 на часах.
Комендоры уже на пушках. Корабли – в развороте.
«Кайзер» давал недолеты, и перед эсминцами выметывало из моря каскады воды, прикрытые сверху шапками дыма. «Гром» снялся с якоря раньше других, первым лег в развороте, и сейчас получилось так, что он прикрывал собой остальные корабли…
Штурман «Грома» Митя Блинов сказал про немцев:
– Не торопятся. Стреляют в час по чайной ложке…
Ваксмут перебегал с крыла на крыло мостика, оценивая на глаз обстановку. Второй залп с «Кайзера» захлестнул эсминец пеной, и «Гром», покачнувшись, продолжал выписывать циркуляцию.
Володя Севастьянов ответил штурману:
– Три раза в день. Но ложка-то у них – столовая…
А вот что случилось дальше – сразу никто не понял. «Гром» испытал сильнейшее потрясение. Людей сбило с ног. Главный компас сорвало с креплений, и он, заодно с тумбой нактоуза, упорхнул с мостика за борт. Со щитов выбило все минные прицелы, которые повисли на рваных концах проводов. «Гром» стал ложиться в крене, но он еще двигался, и Ваксмут, не растерявшись, велел на руль:
– Право на борт… пока не остановились. Жми!
«Гром» получил прямое попадание с линкора двенадцатидюймовым снарядом, который не взорвался. Бронебойная (в рост взрослого человека) рассадила эсминцу правый борт, она в куски разнесла машину. Пройдя через корабль насквозь, снаряд вырвался из другого борта и, глубоко уйдя в воду, только там и лопнул. Все звуки заглушал острый пронзительный свист – травился пар из разбитых турбин. Резануло диким воплем – это кричали обваренные паром котлов кочегары, которые выскакивали на палубу, рвали с себя раскаленные робы и выли от нестерпимой боли ожогов…
Ваксмут снял со щеколды микрофон боевой связи:
– Мостик – энергопосту: Коля, что у тебя разбито?
Громовский инженер-механик Малышев доложил:
– Пар выходит из правой, но левая турбина еще тянет нас…
Над эсминцем, словно сказочный белый гриб, поднималось вертикальное облако пара. Со свистом это облако росло – все выше, выше и выше. Когда пар стравился до конца, застопила и левая машина. Приказ к повороту был отдан Ваксмутом кстати: «Гром» на инерции завернуло за мыс, где его не могли видеть с «Кайзера».
Семенчук стоял на мостике. Побледнев, Ваксмут раскрыл портсигар, совал его к лицу каждого, сунул и гальванеру; Семенчук взял папиросу, раскурил ее, и это была его первая папироса в жизни. В голове замутилось, он слушал, что говорит Ваксмут, а уши раздирало острым криком обваренных людей…
– К нам спешит «Храбрый», – сказал штурман Блинов.
* * *
Но прежде «Храброго», обгоняя канонерку, пронесло мимо «Победителя», с него начдив Пилсудский передал в рупор:
– Мы вас прикроем, сколько хватит сил… Держитесь!
Пар уже таял в небе, когда Ренненкампф подвел свой «Храбрый» вплотную к эсминцу; Семенчук кинулся на палубу, разносил по борту буксирные концы. Краем глаза он видел, как на корме отходящего «Победителя» разбили шашку, ставя дымовую завесу. Но ветер сегодня, как назло, послабел – струя дыма не развеялась над морем в спасительное покрывало. «Кайзер», перестав стрелять, медленно отползал за мыс Памерорт…
– Начинаю тянуть! – прогорланил фон Ренненкампф.
«Храбрый», натужась машиной, рванул «Гром» с места и потащил за собой – прочь от Соэлозунда. «Константин», догоняя дивизион, тоже колотил на корме шашку за шашкой. На какое-то время черно-бурая полоса дыма все же закутала поврежденный эсминец. «Храбрый», попадая на волну, дергал «Гром» за форштевень, и буксирные тросы рискованно хрустели, проклятые!
Семенчук глянул на свои руки – ужасные руки. Никогда со стальными концами нельзя работать без рукавиц. А он сгоряча вступил с ними в борьбу, как с железными питонами-боа, в могучих руках выравнивал их извивы, похожие на колбасные кольца, и вот результат: на руки страшно смотреть… Но сейчас кровь была всюду.
Убитых складывали в ряд, как снопы…
Появился над каналом туманец, и на время корабли противника стали невидимы. Эсминцы маневрировали на 15 узлах, выписывая «восьмерки» между Эзелем и Даго. «Гром» тянулся за «Храбрым» на скорости в три узла, и дивизион, конечно, не мог их покинуть. Казалось, спасение близко. Но тут с мостика сорвался по трапам председатель судкома Соловьев, выскочил на самое острие полубака.
– Не пойму… неужели «новики»? – крикнул он.
Девять плоских теней, как призраки, пролетали в тумане.
* * *
Пилсудский рывком опустил бинокль:
– Немцы! Девять шашлыков. Штурман, отметь время.
– Пятнадцать десять, – ответили из рубки.
– Запиши в журнал: отражение атаки…
Над трубами германских эсминцев – ни одного клочка дыма, только дрожь горячего воздуха, и на XI дивизионе все поняли:
– Нефтяники… как и мы, грешные!
Люди еще не успели осмыслить превосходство противника (девять против трех), как из тумана вдруг вынесло на канал еще несколько силуэтов. Сигнальщики на «Победителе» надрывно отсчитывали:
– …четыре… пять… шесть… семь… восемь!
И тут у многих заныли сердца:
– Еще восемь, итого семнадцать эсминцев противника…
Счет открылся: семнадцать вымпелов против трех.
Над немецкими кораблями второй группы дымы струились широко, и стало понятно: эти восемь идут на угле. А дальше началось представление, будто в цирке. Форсируя узость пролива, четыре эсминца Германии подряд, один за другим, будто сговорившись, стали вылетать на каменистые банки. Поломав винты и покорежив плоскости рулей, они помертвело отползали обратно.
Определился окончательный счет: тринадцать против трех!
Георгий Сигизмундович Пилсудский сначала закрутил усы, потом как следует перекрестил себя и сказал своему комиссару:
– Советую и вам помолиться. Есть бог или нет бога, это мы на том свете выясним. Но сейчас бог за нас… Внимание! – наказал начдив-XI. – Помните, что главная задача – прикрыть «Гром»…
Вместе с эсминцами открыл огонь и «Храбрый».
* * *
«Гром» не стал ждать особого приглашения – тоже вступил в бой. Теперь, когда ПУАО разрушено, Семенчук встал к баковому орудию. Хоть что-нибудь, но делать… Германские эсминцы шли в кильватер на высоких оборотах, сохраняя между собой рискованную дистанцию в 300 метров. Шли – как на параде! Ноги комендоров «Грома» уже срывались с палубы: крен увеличивался. За борт страшно смотреть. От разбитых магистралей по морю растекался жирный мазут, и каждый знал, что тонуть в нем будет нелегко. Под палубой эсминца чавкали, пристанывая, словно больные, помпы – качали воду из низов, но справиться не могли: «Гром» тонул, тонул, тонул…
Но «Храбрый» продолжал тянуть его за собой.
Севастьянов перегнулся через навес мостика:
– Носовой плутонг! Ускорьте стрельбу…
Возле пушки – привычная возня. Из погребов подали фугасные, на головы которых нацеплены красные шапочки взрывателей. Семенчук, как силач, встал на подачу. Открылся перед ним черный зев казенника, он бросил снаряд на откинутую челюсть лотка, и пасть орудия тут же заглотала его в себя. Молодой заряжающий запечатал пушку замком и сказал так довольно, будто побрился:
– Хорош!
Орудие, дымно воняя, откатилось назад, прессуя вокруг себя воздух. Отдернули замок – изнутри дыхнуло жутким перегаром пироксилина. «Гром» кренило все больше. И теперь, когда подавали из погребов снаряды, надо было хватать его с лифта сразу в руки. Иначе он скатывался в море по наклонной палубе. Мазут растекался дальше от «Грома», еще свистело где-то паром, помпы чавкали, надрываясь в усталости.
– Подавай! – Старшина при выстрелах прыгал в кожаном сиденье, весь в дыму, как черт в родимом пекле, и от него слышали только одно: – Подавай… подавай… подавай!
Звучит ревун. Взблескивает синяя вспышка сигнала.
– Подавай! Подавай!
Выстрел – и орудие, излучая тепло, отшибается назад вприсядку. Германские корабли уже вырвались на просторы Кассарского плеса, теперь их кильватер сломался. Разделясь на две группы, эсминцы перестроились во фронт, охватывая три русских корабля. Сейчас они зажмут «Забияку», «Победителя» и «Константина», чтобы те не смогли уйти в Моонзунд, а потом за милую душу примутся долбать безжизненный «Гром» и канлодку, которая связана тросами с раненым кораблем… Все работали! Старшина четко включал на пушку пневматику продувания, и плотный воздух, остервенело шипя, чистил канал ствола. Спина, согнутая над прицелом, и – голос:
– Подавай! Чего ждете?.. Подавай, ребята!
Буксирные тросы трещали от напряжения. Рвануло рядом, и старшина кулем отвалился от прицела. Вместо руки – лохмотья рваного рукава, а пальцы старшины остались на штурвале наводки, прилипшие к нему намертво. Досылающий выронил шток пробойника, взялся за живот: «Ой, зараза» – и пополз на четвереньках. Старшину катило от пушки по сильно накрененной палубе. Берег далеко, а море… вот оно! И выпал за борт. Всплеснул под ним черный мазут. Нефтяная пленка тут же сомкнулась над человеком.
Потянуло дымом, и Семенчук заметил, что «Гром» горит. Корпус эсминца дергался на буксировке, как вагон на стыках: немцы стали избивать его очень точно, благо эсминец не обладал маневренностью. Грот-мачта «Грома» вдруг оторвалась от кормы. Торчком она пошла в небо, как завинченная юла, а на высоте переломилась пополам и рухнула. Треща и воя, разгорался пожар на рострах, от шлюпочных брезентов сыпало искрами. Семенчук остался на пушке один как перст. Воздушный лифт таскал для него снаряды. В преисподне ада, в погребах, люди жили только одной надеждой: подавать, подавать, подавать…
В микрофоне старшины – голос лейтенанта Севастьянова:
– Целик двадцать влево, бери немца под ватерлинию.
На лотке он задвигал в пушку снаряды, наводил как умел, ревун звучал призывно. В пятнадцатикратном увеличении оптики пронесло эсминец врага – словно погребальный факел. Горящая нефть при качке разлилась по кораблю, но машины еще работали. Номерной «немец» двигался, докрасна раскаленный, будто жаровня. Огонь преобразил надстройки гибнущего корабля, сделав их ажурными, как золотая филигрань. В страшном взрыве это сказочное видение навсегда исчезло из панорамы прицела… Семенчук засадил в дуло очередной снаряд, но замок не сработал. Его заклинило от перегрева. Матрос давил от себя рукоять замка, и ладонь обжигало так, словно схватился за ручку раскаленного утюга… Амба! Выдернул из ушей затычки – в сознание сразу вошел ошеломляющий шум.
Шум слагался из множества разных шумов: криков, воплей, стрельбы, команд, треска пожара. Пламя перебежало по рострам – легко, словно зверек по деревьям. Оно коснулось борта и жадно лизнуло мазут на воде. Не прошло и минуты, как море загорелось.
Горящий «Гром» шел в море огня, стреляя из пламени.
Это били по врагу пушки кормового плутонга. Чего-то не хватало на корабле… «Чего?» Семенчук не сразу понял, что на палубе нет одной дымовой трубы – сбило!
* * *
«Победитель» (под флагом Пилсудского) работал артиллерией так, что скоро со стволов орудий отлетела сгоревшая краска. Уже с третьего залпа флагман XI дивизиона накрыл головной эсминец противника. Бой шел все время на отходном маневре: в пересечках курсов, в острых галсах зигзагов. Дали лаконичное радио Старку: пусть приходит, они погибают, но не сдаются (обычная формула русского флота).
«Константин», выручая флагмана, покрывал его дымом, чтобы «Победитель» сумел выскочить из бесчисленных вилок. За эту помощь товарищу «Константин» поплатился взрывом под кормой и получил течь в румпельном отсеке. На флагмане выбило все стекла в ходовой рубке, осколками изранило лица и руки многих людей. Снаряд врага разрушил первое орудие. «Забияка» и «Константин», будучи постоянно в накрытиях, тоже лишились по одной пушке. «Забияка» получил опасное проседание палубы, но оставался молодцом. Под резким углом к противнику он вводил в действие и носовую пушку, обратив ее в корму – на противника, и дуло пушки касалось надстроек. При стрельбе из нее ветер боя проникал даже в рубки, комкая на столах карты, как ненужные газеты. Три эсминца противника, избитые вконец, уже погибали наверняка, и теперь Пилсудский перестроил корабли во фронт, отводя их в глубину Кассарского плеса… Скорость была увеличена!
Матросы с «Грома» кричали на «Храбрый»:
– Отходите и вы! Бросайте нас… руби концы!..
Отходящий по левому траверзу дивизион развел высоченную волну. Нахлынув, она раздвинула два корабля, спаянные тросами, и буксиры лопнули. От бешеной качки люди падали за борт – прямо в мазут. «Храбрый» не ушел: Ренненкампф подвалил канлодку своей кормой под нос «Грома». Стали забирать на палубу якорь с «Грома», чтобы тянуть его дальше – на цепях. Большая волна с моря губила все усилия. Пенистый вал надвинул «Храброго» на бак эсминца, раздался хряск металла, леерные стойки падали, как кегли. Якорь полетел за борт, а цепь на разлете перебила ноги боцману.
– Уходите! – кричали громовцы. – Мы еще постоим за себя…
Немецкий снаряд разбросал палубную команду, переборка рубки окрасилась кровью. Двое раненых на коленях гнулись от боли в дугу и, казалось, отбивали прощальные поклоны «Храброму».
– Уходите, – стонали они. – Уходите… мы сами…
Ваксмут передал на мостик канлодки – Ренненкампфу:
– Забирай моих людей. Все кончено. Я остаюсь…
Механик Малышев, полуголый, весь в грязи и кровище, еще пытался остановить приток воды. В ряд с матросами он, словно кузнец, работал пудовым мушкелем. В нижних отсеках люди стояли уже по горло в воде… Ренненкампф призывал команду «Грома»:
– Вы же сгорите! Прыгайте на меня… быстро, быстро!
Во всей этой неразберихе автоматом стучало четвертое орудие «Грома»; лейтенант Севастьянов, как рядовой матрос, подавал снаряды на пушку. Из рубки выскочил штурман Блинов, швырял в огонь мазута, прямо в горящее море, секретные книги и своды радиокодов. Только это расставание с «секретами» убедило громовцев, что с эсминцем навеки покончено. Ваксмут, облокотясь с мегафоном на обвес мостика, возвышался надо всеми в облаке дыма и пара:
– Прощайте, ребятки! Благодарю вас за службу!
Предсудкома Соловьев сиганул на мостик:
– Вниз!
– Я не пойду, – был ответ…
Когда его стали брать силой, Ваксмут вцепился в телеграф, не желая расставаться с кораблем:
– Прочь… не держите меня! Я помру с ним…
Его стащили вниз, перекинули на канонерку. Не хотел уходить и механик Николай Малышев – тоже отбивался в азарте. Матросы скрутили его, как буйнопомешанного, потащили на «Храбрый»:
– Жить надо, мех! Какого хрена психуешь?
Ренненкампф глянул через обвес на палубу, где муторно и нехорошо колыхалась толпа мокрых, окровавленных и обваренных кипятком людей.
– Лишние, ходи вниз! – объявил он с мостика…
А когда между бортами кораблей уже образовался провал метра в три, с «Храброго» вдруг метнулась на «Гром» большая сильная тень человека. Распластав руки, Семенчук перепрыгнул обратно.
На «Гром»!..
* * *
«Храбрый» на отходе получил еще одно попадание. Снаряд врезался в «самоварную» над люком жилой палубы. В один миг не стало шестерых ребят с канлодки и одиннадцати спасенных с «Грома».
Германский эсминец вдруг вывернулся перед «Храбрым»; канонерка встала к нему открытым бортом и отомстила четырьмя попаданиями подряд. Просто ахнули все, когда эсминец врага с поразительной быстротой лег на борт и затонул… XI дивизион с честью выходил из боя. На картах Кассарского плеса немцы теперь могли написать: «Оставь надежду, сюда входящий».
Старк приближался. Под рукою начмина было собрано сейчас все, что оказалось поблизости: два «новика», остальные – старики угольщики. Им встретился XI дивизион, а вдали уже завиднелись германские эсминцы. Высоко вздымался столб дыма над погибающим «Громом». Старк поднялся на площадку дальномера, согнал прочь гальванера, уселся за окуляры сам. Издали он хорошо видел, как к «Грому» приближались миноносцы противника. Было похоже на то, что немцы хотят взять его на буксир, пожар загасят, воду откачают…
– Получится поганая история, – пробурчал Старк.
Создалось на дивизии общее мнение, что сейчас следует атаковать противника всеми эсминцами. Но Старк воспротивился:
– Нельзя! Кроме дивизиона Жоржа Пилсудского, который уже истрепан в бою, со мною всего два «новика». Если рискну ими, то что останется на дивизии? Одни угольщики, на которых недокомплект команды и офицеров? Нельзя, говорю я вам…
В данном случае Старка обвинять нельзя. В его отказе заключался практический смысл и забота о завтрашнем дне.
* * *
Семенчук на палку намотал тряпку, сунул ее в мазут…
И тут он заметил, как резкими зигзагами, словно стрекозы над водой, мечутся вокруг «Грома» германские миноносцы. Их прицелы и трубы дальномеров, как усики осторожных жуков, все время находились в движении. Издали немцы ощупывали корабль, как бы проверяя – пуст ли он, нет ли угрозы?.. Семенчук невольно сжался за барбетом торпедного аппарата. Ползком влез на трубы, внутри которых в согласном пучке величаво покоились три торпеды. Германские эсминцы вдруг перестало дергать из стороны в сторону – теперь они дружно пошли прямо на «Гром»…
Через двадцать пробоин хлестала в эсминец вода.
Через разбитые ростры и мостик перебегал огонь.
В разводьях волн вспыхивали лужи мазута…
Рывком он запрыгнул в кресло наводки. Отработал штурвалом растворение труб для залпа «веером». Вдавил в глаз каучуковую блямбу прицела. Ему все было ясно, и жизнь уже не ставила перед матросом никаких задач, кроме одной… Серый борт вражеского миноносца медленно закатывался в перекрещение прицельных нитей. Семенчук выждал, когда через вертикаль наводки пройдет его фок-мачта, и рванул рукоять залпа. Повинуясь силе взрыва, который произошел в трубах, из громадных жерл аппарата выставились кабаньи головы торпед. Они как бы нехотя упали через борт в море и – пошли, пошли, пошли…
Взрыв! Эсминец разнесло в атомы, и над водой осталось только темное облако угольной пыли из его бункеров. Семенчук с факелом в руке мотнулся на камбуз. Там еще пылали плиты, а под крышками котлов, задраенными, словно люки, еще бунтовал, разрываясь под паром, забытый всеми обеденный борщ… Пламя перескочило на пропитанную мазутом тряпку. В два прыжка Семенчук достиг кормы.
Швырнул факел – прямо в кормовой погреб.
Палуба сразу раскрылась перед ним, и горячий воздух, вылетев из вулкана погребов, бросил кверху пушки, кранцы, убитых и того человека, который дал жизнь этому взрыву…
Германские эсминцы спешно покидали Кассары.
* * *
Кто не знал тогда адмирала Сушона? Имя этого кайзеровского адмирала было столь же почтенно в морском мире, как имя британского флотоводца Битти… Это он, Вилли Сушон, еще в четырнадцатом проскочил под носом английской эскадры в Босфор, держа флаг на крейсерах «Гебен» и «Бреслау», и эти корабли создали угрозу Черноморскому флоту. Это он, Вилли Сушон, в самые трудные годы возглавлял флоты Турции и Болгарии в их войне против России… Защитники Моонзунда еще не знали, что сегодня Сушон стоит перед входом в Ирбены, которые ему надо пройти под раскатами церельской батареи, – и от этого в груди адмирала неприятный щемящий холодок. Сушон отлично извещен, что такое 12 дюймов. Это ведь не пушки, а дьяволы, которые способны сокрушить даже отличную крупповскую броню…
Последнее уточнение деталей, последние наставления.
– Сейчас, – говорит Сушон, – заканчивается сражение на Кассарском плесе не так, как нам бы хотелось. Мне сообщили с «Мольтке», что наши эсминцы отошли, потеряв, кажется, четыре. Дырок наделали им больше, чем надо! Утром ваш парламентер пытался уговорить прислугу Цереля, чтобы они не дурили – ведь наша победа абсолютна! Но они отказались от капитуляции. Будем их вразумлять…
Флаг адмирала Сушона весело трепещет над IV эскадрой флота открытого моря – лучшей и мощнейшей эскадрой Гохзеефлотте. За тральщиками первыми тронулись крейсера. На ходу дотягивая якоря до клюзов, пошли германские дредноуты. Мощь эскадры была столь значительна, что Сушон, демонстрируя немецкое превосходство, велел даже не снимать с орудий чехлы. Башни морских гигантов были развернуты «на ноль». Пространство перед ними расступалось, бессильное противостоять натиску бронированных чудовищ.
На Цереле пока все спокойно. Что будет?..
* * *
Эсминец был почти однотипен русскому «Новику», три его трубы отбрасывали за корму теплый воздух котельных установок. Два германских матроса тащили Семенчука за ноги, будто пьяного, в нос корабля. Выходит, жив… Плен!
Немцы волокли его, даже не обернувшись ни разу, палуба была удивительно скользкой, будто ее намылили, Семенчук ехал по ней на спине, бушлат матроса задрался к самому затылку. Вот и срез полубака. Немцы передернули его тело через высокий комингс, и Семенчук больно ударился затылком о станину порога. Швырнули пленного на пол, залитый цементом, и ушли, плотно задраив двери.
Это была душевая. Корабельная баня.
Здесь пленный не был одинок.
На лавках и под лавками вповалку лежали немецкие мертвецы.
«Смотри-ка ты, – рассеянно подивился Семенчук, – у немцев, как и у нас, мертвяков в баню складывают…» Эсминец увеличил ход, резко вибрируя избитым корпусом, и мертвецы сразу ожили. С них еще стекала вода и кровь, разинутые рты не дышали, глаза уже ничего не видели, но они задвигались, стали перекатываться с борта на борт, при этом руки их обнимали друг друга.
Один мертвец тесно прилип к русскому матросу.
– Иди, иди, – сказал ему Семенчук. – Не придуривайся…
…Пройдет много-много лет, и жизнь человека склонится к закату. Молодость все реже станет волновать его воображение, и забегают внуки, говоря ему: «Дедушка!» Много лет привычной дорогой будет ходить старик на работу. На лесопилке он мастером. У него медаль партизана Великой Отечественной войны (сражался у Ковпака). Семенчук живет этой войной, а та война, давняя, еще в молодости его, уже позабылась. На лесопилке про старого мастера не раз скажут: «Партизан Ковпака», и никто не назовет его: «Герой Моонзунда…»
Но однажды все изменится, и старый мастер с белорусской лесопилки обретет славу на всю страну. Будут писать о нем газеты и журналы, станут ездить на лесопилку корреспонденты, историки по архивам установят то, что он и сам позабыл, его наградят высоким орденом. Это странное награждение – ведь подвиг «Грома» свершен еще до Советской власти. Семенчук свершил его еще при Керенском… Но в том-то и дело, что флот при Моонзунде сражался только во имя ленинской революции.
Шумит старый лес, и работает в лесу старая лесопилка. Возле старой пилы – старый человек. С очень молодой славой.
…Мертвецы ползали по цементу. Эсминец сильно качало.
Семенчук стянул с себя бушлат, стал выжимать из него воду.
Он не знал времени, но было как раз 16.40.
* * *
Артеньев записал в вахтенном журнале батареи:
16.40 – Туман рассеялся над Ирбенами. В направлении к NW три дыма.
16.55 – Дымы определились. Три дредноута типа «Кайзер». Курсом SW. В охранении – крейсера и миноносцы. Объявлена тревога.
На батарею прибыл каперанг фон Кнюпфер с большой бутылкой коньяку. Осмотрев через дальномер дредноуты эскадры Сушона, он стал уговаривать (и весьма настырно) Артеньева выпить:
– В конце концов, жить осталось несколько минут.
Артеньев пить категорически отказался:
– Смерть, как и рождение человека, есть акт возвышенный, и не хочу свою гибель поганить алкоголем…
В нерушимом спокойствии проходили дредноуты, и дымы их не таяли, а сгущались, плотно загустевая над Ирбенами. Кильватер противника был прочен: «Фридрих дер Гроссе», «Кайзерин» и «Кёниг Альберт»… Кнюпфер исчез. С орудий уже поступали доклады:
– Первое орудие (мичман Поликарпов) готово!
– Третье орудие (мичман Гончаревский) готово!
– Четвертое орудие (мичман де Ларош) готово!
Артеньев переключил перед собой телефон:
– Второе орудие, почему не готово?
– Возимся, – ответил прапорщик Родионов.
– Нашли время. Быстрее надо…
В центропост наводки прошел матрос – незнакомый.
– Господин старлейт, – сказал он, – кое-кто убежал.
– Ты первый! Как фамилия?
– Орехов. Старшина подачи на четвертом орудии.
– Иди на пушку.
– Есть! Я хотел сказать, что паника начинается.
– Зачем ты мне говоришь это? Я панике не поддаюсь.
– Я сообщаю вам, как командиру.
– Сообщи комиссару: это его дело. Мое – стрелять!
После первого залпа появился Скалкин:
– Снаряды легли в сторону.
– Я не слепой, – раздраженно ответил Артеньев. – Сам вижу, что пошли влево, а понять не могу – почему так?
После второго залпа, который выкинул в Ирбены миллионы рублей русских денег, Сергей Николаевич огорчился:
– Опять «вилка» сломалась. Я ведь не безграмотный. Беру все верно. Но отчего, черт побери, я так безобразно стреляю?
Германские дредноуты пока не отвечали.
– Пошли, комиссар, проверим центр совмещения…
На посту совмещения сидел матрос. Перед ним – прибор, на котором в беготне стрелок совмещалась вся умственная и физическая работа батареи. Он должен давать ревун на залп, когда стрелки сомкнутся на приборе, как на часах в полночь. Артеньев, стоя за его спиной, видел, что матрос нажимал на ревун еще до совмещения стрелок – летели мимо снаряды, мимо…
Кулаком в ухо Артеньев выбил матроса из кресла.
– Ой, ухо! – заорал тот. – Меня, революционного матроса, в ухо ударили… И кто бьет? Сатрап недорезанный… Я тебя…
Скалкин ткнул его в грудь маузером:
– Не доводи до греха. Трахну – и в дамках!
Комиссар сам уселся на совмещении. Церель послал снаряды по цели, и один из дредноутов вздрогнул, как человек от страшного удара в скулу. Это было попадание… Артеньев склонился над датчиками, которые щелкали на разные лады, дружески подмигивая ему разноцветными лампочками, настаивая на внимательности.
– Второе орудие, – спросил в телефон, – вы очухались?
– Это я, – ответили ему.
– Кто ты?
– Орехов, который приходил… Вы меня прогнали.
– Так что?
– Я заменил командира.
– А где прапорщик Родионов?
– Сбежал. Тут психи собрались. Водку пьют…
Артеньев бросил трубку. Последние пять залпов были замечательны, и они радовали сердце артиллериста, как сложный пассаж на скрипке, совершенства которого пять лет добивался маэстро. Головной корабль Сушона задымил и, давая промах за промахом, стал отворачивать на вест. В носу дредноута забушевал огонь. Артеньев… заплакал!
Чья-то рука легла ему сзади на плечо:
– Это я… матрос Кулай. Что вы плачете, старлейт?
– Я устал ждать боя. Я дождался боя. Бой начался, и они уходят опять… Значит, опять ждать! Что сейчас на батарее?
– Митинг.
– Нашли время! Возьму оружие и разгоню всех.
– Не надо, – отсоветовал Кулай. – Вас могут разодрать за ноги, и никакой комиссар уже не спасет…
На щите расблока Артеньев подключил себя к бараку мастерских, где уже привыкли много болтать и мало делать.
– Алё, – ответили ему. – Чего надо?
– Положи трубку и не вешай ее… Понял?
Через трубку телефона он слышал противный голос:
– Мы тут погибаем не пойми за што, а наш командир… видели вы его, товарищи? Он же пьяный в доску, лыка не вяжет. Сейчас в посту матроса избил. Барабанную перепонку ему высвистнул за здорово живешь. Какой вывод сделаем, товарищи?..
Артеньеву стало тошно, и тут он вспомнил Кнюпфера с бутылкой соблазнительного коньяку. «Нет ли связи между каперангом и этим оратором?» Писарь Цереля шепнул ему на ушко, как слова любви:
– Сейчас вам мерзость устроят. Спасайтесь, пока не поздно…
Вокруг поста собралась галдящая орава батарейцев.
– Именем революции… дыхните! – требовали они.
Чего только не делалось во имя революции. Процедура весьма унизительная, но Артеньеву пришлось пройти через нее.
– Нюхайте, – говорил он с бранью. – Нюхайте, провокаторы!
Толпа паникеров была неприятно разочарована.
– На ногах держится…
– Не валится.
– Может, зажевал?
– Сен-сен такой есть.
– Или чаю. Тоже дух отшибает…
Издалека с маузером в руке подходил Скалкин:
– В чем дело? А ну разойдись. Иначе я вас нюхать стану!
* * *
Много позже, униженный и несчастный, когда его начнут пытать и насиловать волю, когда в штабе Либавы его станут бить палкой по голове, когда адмирал Сушон пожелает лично увидеть Артеньева и будет кричать на него, хамски выпуская в лицо старлейту дым стамбульской пахитосы, – вот тогда Сергей Николаевич уяснит для себя главное: жизнь не была прожита напрасно – он достиг попадания в башню флагманского дредноута. Этот взрыв сорвал прохождение IV эскадры флота открытого моря, Сушон не прошел в тот день через Ирбены, и русская эскадра в Моонзунде не была разгромлена с той стороны, с какой нападения врага пока не ожидали…
Брест-Литовский мир, подписанный Лениным, вернет Артеньеву свободу и землю отечества под ногами, но душевный надлом трагедии Цереля останется не выправлен на всю жизнь, и Сергей Николаевич обратится к теням прошлого – к миниатюрам… Ах эти миниатюры! Вся жизнь превратится в сплошную миниатюру. Старый, сгорбленный человек, с большою линзой в руках, будет обходить на Невском комиссионные магазины и антиквариаты, чтобы не купить (нет, на это нужны деньги!), а только любоваться сиянием и воздушной прелестью людей, живших задолго до него и даже не знавших, что в России существует такой Моонзунд…
…Одно попадание! А как оно много значило для всего Моонзунда. Ради этого стоило жить и мучиться.
* * *
«Припять» (имея на борту груз в 60 мин) качалась на рейде Куйваста, и выборный командир ее, лейтенант Медведев-2, еще переживал события вчерашней ночи. Как несправедливо иногда оборачивается судьба! Он, с чистым сердцем признавший революцию, он, которого сама же команда выбрала на высокий пост, и вот он сейчас глубоко оскорблен вчерашним отказом команды ставить мины в Соэлозунде…
В дверь каюты командира кто-то робчайше постучал.
– Входите, – сказал Медведев-2.
Вошел предсудкома «Припять» (левый эсер).
– Ну что? – спросил, садясь без разрешения. – Все еще переживаете? А вы плюньте.
– Знаешь, голуба моя, я рожи твоей видеть не могу.
– Напрасно. В общем, так: пошли мины ставить…
– Что-о-о?
– Пошли и поставим. Все шестьдесят!
И тогда лейтенант Медведев-2 встал. Он раздраил винты «барашков» на иллюминаторе, откинул толстое и выпуклое стекло. Каюта сразу наполнилась шумом тоскливого балтийского дождя. Дождь ликовал, выплясывая на палубе минного заградителя хорошую чечетку. И вот под этот шум дождя лейтенант Медведев-2 начал мстить. Это был с его стороны справедливый акт мщения. Прямо в лицо предсудкома он говорил, что его надо бы расстрелять…
– Ты слышишь? – спросил он, тоже ликуя. – Идет дождь, как и вчера. А мины ведь скользкие… товар опасный. Может, ты не знаешь, что такое мины тип «08(15)»? Вспомни, как было в Ирбенах, когда их ставили… Ты просто трус!
Предсудкома слопал все, что ему было выдано.
– Ладно! – сказал он, поднимаясь. – Плевать на дождь, пошли мины ставить. Команда осознала свою ошибку перед революцией. Давай на мостик… веди нас!
«Припять» пошла и вывалила за борт все шестьдесят штук. Соэлозунд был огражден, и на время спасена судьба плеса. Но если бы они были такими молодцами вчера, то не было бы сегодня неравной битвы эсминцев на Кассарах, не погиб бы и славный «Гром»… Может быть, иначе бы сложилась вся судьба Моонзунда!
Революционная свобода, конечно, вещь приятная. Но нельзя, чтобы свобода оборачивалась анархией. Идет жестокая битва, и такая тема, как «хотим – не хотим!» – этой теме уже не место на корабельных митингах…
Итак, с «Припятью» покончено: с опозданием на сутки, но она свое дело сделала. Революция бывает иногда непростительно великодушна – она простила и «Припять». Но она не простила других.
И в первую очередь – Церель!
* * *
Когда «Гром» был еще жив, а «Победитель» увлекал за собой в героические атаки XI дивизион, когда пушки с палуб эсминцев вылетали за борт, как отгоревшие спички, – именно в это время миноносец «Амурец» конвоировал через плес транспорта «Буки» и «Вассиан», идущие от Гапсаля с «батальоном смерти Балтики».
Большевистский Центробалт создал его в Ревеле, и давай, читатель, не будем пугаться этих мрачных словесных сочетаний. Батальон назвал себя «батальоном смерти» потому, что такова была мода времени, и добровольцы шли на смерть не ради красного словца.
– Да, мы смертники, – говорили они спокойно, без надрывного пафоса. – Мы погибнем за революцию, мы умрем здесь все и знаем это, но мы прикроем флот, спасем честь России…
«Буки» и «Вассиан» дошли до Моона, когда судьба Орисарской дамбы висела на волоске. Ее брали немцы, а матросы с линкоров опять ее у немца отнимали. Днем дамбу обстреливали набегающие с моря через Малый Зунд германские миноносцы… Тяжело!
А из лесов Эзеля еще стучали выстрелы, вспыхивали в отдалении, почти в молитвенной суровости, приглушенные возгласы «ура». Это не сдавалась 107-я дивизия! Это не сдавалась воля русского человека. Это был силен, доведенный до степени отчаяния, дух непобедимых борцов за революцию.
107-я дивизия… Кто знал о тебе до Моонзунда?
Генерал Иванов… Кто ты такой?
Комиссар при сбежавшем адмирале Свешникове матрос Женька Вишневский пальцами открывал веки своих глаз – он хотел только одного: спать, спать, спать… С трудом он разлепил глаза: не верилось! Будто снилось: стоял перед ним сияющий, надушенный и припудренный после бритья капитан второго ранга…
– Пардон, – сказал Женька, – а вы кто такие будете?
– Прибыли из Ревеля. Командир «батальона смерти» – кавторанг Шишко… Народовольца Шишко ты знаешь, комиссар?
– Нет. Не слыхал.
– Так вот, я его родственник… Принимай смертников!
Шестьсот балтийцев, сосредоточенных в движении к подвигу, вступили на предмостье тет-де-пона Орисарской дамбы. Их было всего шестьсот, и, следуя через дамбу, они понимали, что шагают по своей могиле… Смерть или победа! На Эзеле еще горели костры отступающих, к Моону пробилась часть данковцев, козельцев и мосальцев. Обнаглев, они требовали у флота кораблей…
Вишневский сказал кавторангу Шишко:
– Бахирев запретил брать их на борт, и адмирал прав: бегут ведь не лучшие, а только худшие. Так на кой черт с ними вожжаться? Но хороших бойцов флот обязательно выручит…
– Это справедливо, – согласился Шишко, благоухая. – Но мы останемся здесь, и ради нас корабли трепать не придется…
Витька Скрипов тоже хотел одного: спать, спать, спать.
Десантников с линкоров отпустили по домам – на корабли.
Из боя они выходили шатаясь. Не знали, как до родимой койки добраться. Карабины матросов раскалило в выстрелах, и, когда оружие бросали в мокрую траву, стволы шипели – с треском, как сало на сковородке… Орисарская дамба, прощай!
* * *
К ночи штабная «Либава» развернулась на рейде Куйваста. Среди множества бочек, возле которых отстаивались корабли, «Либава» искала в потемках бочку № 14. Транспорт вцепился в ее кольцо, и «Либава» недвижно застыла на рейде под тенью Моона. От этой засекреченной бочки по грунту Кассарского плеса тянулся кабель телефона на Даго; укрытый от глаза шпионов, он выпрыгивал из воды, чтобы на земле включиться в коммутатор батарей мыса Тахкона… Там, на мысе Тахкона, самой северной точке Даго, стоят такие же мощные батареи, что и на мысе Церель.
Михаил Коронатович Бахирев велел подсоединить телефон своей каюты к вилке на бочке № 14. Один из матросов прыгнул за борт «Либавы» на бочку, воткнул вилку в патрон – готово: можно разговаривать с Даго. Попивая остывший чаек, Бахирев сказал:
– Здорово, догомейцы! Кто у аппарата?
– Говорит начальник обороны острова Даго кавторанг Николаев. Сообщаю, что сегодня, еще до битвы эсминцев на Кассарах, немцы произвели попытку высадить десант…
– С боем?
– Без боя. Забрали свиней на хуторах и все теплые вещи у эстонцев. Искали шерсть. Даже клубки ниток и те у баб отнимали. Перчатки тоже снимали с жителей. За взятое не расплачивались… Ну, а как там, на Цереле? – спросил Николаев. – Меня, вы понимаете, это особенно волнует, ибо мы, тахконцы, ответственны за судьбу Моонзунда в той же степени, что и церельцы. Только до нас очередь в немецком графике еще не дошла.
– Церель держится, – отвечал Бахирев. – Я прерываю разговор с вами, ибо ко мне пришла делегация с линкоров…
Делегация с линкоров была большевистской. Возглавлял ее комиссар со «Славы» – матрос Андрей Тупиков.
– Погодите, – остановил его речь Бахирев. – Сначала скажите, как вы ладите с каперангом Антоновым? Он мне уже не раз жаловался, что нервы у него стали хуже, чем мочалки.
– Старик хороший, и дело свое знает, – отвечал Тупиков. – Вы не волнуйтесь, адмирал, наша партийная организация не из дураков состоит… Зачем же нам напрасно трепать заслуженного человека?
Делегаты пришли к Бахиреву с претензией:
– На «Славе» радисты перехватили радио с Цереля. Дело там – дрянь! Хотя и артачатся. А почему линкоры наши простаивают? Командам такое не нравится: мы же не пасхальные яйца, которые до следующего года хранить надо? Пускайте нас в оборот…
Адмирал выждал, когда Тупиков скажет ему все.
– Я вас понял. Это верно, что я придерживаю линкоры. Такова суть морской стратегии: линейные силы – главные козыри в игре, ими кроют последнюю карту противника. В этом вопросе не советую, комиссар, горячиться. «Слава» и «Гражданин» несут в себе потенциальную силу воздействия на события. Даже не участвуя в битве, они лишь своим присутствием охлаждают противника, чтобы он не слишком-то зарывался с нами… Вы меня поняли?
– Мы вас поняли. Но нас, линейных, три тыщи гавриков. Каждому в ухо вдувать эти истины большевики не могут. Дайте дело!
– Ладно. Пусть на «Гражданине» меняют белье…
Менять белье – значит, можно готовиться к бою. Того и ждали на линкорах. Делегация, радостно шумя, собралась уходить, но один матрос из ее состава, совсем молоденький, успел сладчайше вздремнуть на адмиральском стуле. Тупиков потащил его к дверям.
– Это наш, – пояснил Бахиреву. – Сосунок еще, но растет, будто на дрожжах. Вы уж извиняйте его: в десанте был, не спал двои сутки. Вот, как сел, так все дырки на нем и задраились.
Витька Скрипов окончательно проснулся только на катере, который, раздвигая тьму рейда, медленно пробирался среди кораблей.
– С адмиралом-то договорились? – спросил, зевая.
– Проспал, брат. Завтра «Гражданин» двинет к Церелю.
– Церель… у-у, как страшно! Это тебе не дамба…
Завтра покажет: быть Церелю или не быть.
* * *
Артеньев до полуночи принимал делегации.
– Мы не можем сражаться. Сдавайте батареи немцам.
Он посылал их к черту, и они мялись в дверях.
– Так мы, – спрашивали, – можем уйти с Цереля?
Но эти «делегаты» хотя бы спрашивали разрешения. Другая же часть прислуги, полностью деморализованная, вообще считала, что она свободна от всякого долга. Была глухая ночь, едва освещенная лучами прожекторов с моря, когда Артеньева вызвали в казарму для собрания. Он пришел в барак и сразу понял, что никакого собрания нет и не будет. С ним просто решили разделаться «как с последним препятствием, – писал он через несколько лет, – которое стоит на пути капитуляции». Посреди барака – ведро с самогонкой, люди подходили, черпали кружкой, пили и предлагали ему:
– Господин старлейт, хлебните для храбрости…
Артеньеву лучше бы молчать, но он заговорил:
– Пока вы еще не надрались до полного оскотинения, пока вы еще способны хоть как-то мыслить, я вам скажу все, что думаю. Церель будет сражаться и без вас! Вашей паники я не понимаю. Мы вчера стреляли как раз отлично, а немцы стреляли как раз отвратительно. Неужели даже этот факт не способен придать вам бодрости?.. Но после этого ведра мне говорить с вами не о чем. Вы хуже предателей! Предатель хоть берет деньги, а вы торгуете честью русского воина бесплатно… Сволочи вы и подонки!
Барак решил с ним разделаться, но эта речь, произнесенная сурово и чеканно, остановила убийц. В спину стали кричать:
– Дайте радиву, что мы не можем сражаться.
– Хорошо, я дам! Я сообщу Бахиреву все, как есть…
Вместе с комиссаром старлейт составил радиограмму на Куйваст: «Положение Цереля критическое. Ждем немедленной помощи. Приход флота к утру может спасти положение». Содержание этой шифровки Скалкин сознательно довел до гарнизона Цереля, и слабой надеждой на приход кораблей он все-таки удержал людей до утра.
Из бухты Менто, куда собирались все дезертиры и где еще качались миноносцы «Украйна» и «Войсковой», оттуда, из этой благословенной тиши, осененной белым флагом капитуляции (хотя капитуляции еще и не было), позвонил на Церель каперанг фон Кнюпфер:
– Я думаю, что пора вам начать расстрел[26] орудий. Начинайте выкатывать весь боезапас Цереля в Ирбены и… уходите.
– Рано, – ответил ему Артеньев. – Вы не беспокойтесь: нам ведь до Менто теперь так же далеко, как до луны. Есть еще честные люди на Цереле, и они не побегут…
На другом конце провода (в бухте Менто) раздался отчетливый зевок Кнюпфера, – вот от кого идет разложение!
* * *
На штабной «Либаве» всю ночь гремели трапы от беготни, хлопали двери радиорубок, сновали, звеня цепками дудок, рассыльные, все изнервничались от напряжения. Казалось, центр сражения за Моонзунд теперь переместился с Кассарского плеса на Церель.
Флотоводец – почти шахматист, но свою партию он разыгрывает не на доске, а на карте; и линкор зачастую – как ферзь, крейсер – как ладья, эсминец – как слон, а дальше спешат на погибель пешки – тральщики, посыльные, прочие суда на побегушках, с потерями которых мало считаются. Ночная рокировка сил была проведена, и к утру фигуры заняли свои места.
Но мысль пульсирует сейчас и за островом Эзель: на флагманском «Мольтке» тоже не спят, тоже прикидывают, тоже выдвигают различные версии. Немцам уже ясно: русская эскадра попадается в клещи, еще один прорыв через Ирбены – и германские дредноуты вползут в Рижский залив… Этой ночью в глубине Эзеля стали затихать выстрелы. По темным лесам и болотам блуждали женщины с детьми, на кочках умирали офицеры и солдаты. Немецкие автоматчики, прочесывая Эзель, повсюду натыкались на трупы… На рассвете 107-я дивизия, уже на последнем пределе сил, начала поодиночке складывать оружие. Немцам очень хотелось бы видеть акт капитуляции – документ, подтверждающий слабость русской армии, и каждого из 107-й дивизии они настойчиво допрашивали:
– Где генерал Иванов? Нам он нужен, чтобы расписался…
Но генерал Иванов в эту ночь поднялся от костра, зарядил пулями барабан револьвера и ушел во тьму, раздвигая кусты. Судьба этого человека и до сих пор неизвестна. Так прошла ночь, и наступил рассвет. С утра на корабли полезли беглецы и дезертиры, которым удалось с Эзеля перескочить на Моон, а теперь, попав в Куйваст, они жаждали одного – ощутить под ногами палубу, чтобы бежать дальше на материк. Матросы устраивали на кораблях обыски, вылущивали таких «гостей» из разных придонных щелей, гнали обратно на берег:
– Две ноги есть? Две руки есть? Вот иди и воюй…
Германские эсминцы снова начали рваться на Кассары, но их стремление на плес тут же гасили огнем канонерки «Хивинец» и «Храбрый», стоявшие с ночи в брандвахте. Постепенно, чем больше отступал мглистый рассвет, Кассарский плес оживал. За пеленою мелких дождей, секущих темную воду, проносились русские миноносцы. Их винты размывали близкий грунт, за кормами кораблей тащились длинные ленты придонной грязи. На месте разрывов снарядов долго бурлили, лопаясь гнилостными пузырями, каскады желтой илистой пены. Тонуть здесь людям неглубоко, но смерть от этого не становится краше. Если забраться на марс, то с высоты хорошо просматриваются мачты германских эсминцев, торчащие из воды, они уже нашли место своего последнего упокоения, и да пребудут здесь, как память о войне, пока море не разломает их в лихие осенние непогоды.
…День четвертый – день реквиема Церелю!
* * *
Артеньев отодвинулся от прицелов:
– Комиссар, хочешь, посмотри и ты на немцев.
– Чего уж там любоваться! Давайте сигнал к бою…
Церель открыл огонь, после чего германские дредноуты начали перемешивать его с землей. Высоко взлетели разбитые рельсы. Дым вздымался на чудовищную высоту. Осколки жестоко изрезывали бетон укрытий. Из каркасов брустверов уродливо выпучивало основу досок и бревен… Церель сражался.
Но тут побежала в лес прислуга второй башни. Артеньев видел, как впереди солдат прытко наяривает до кустиков сам командир – прапорщик Родионов.
– Минус одно, остается три, – сказал Артеньев.
Близкий разрыв засыпал его мерзлой землей, сверху упала мертвая чайка. Шатаясь, он снова приник к прицелам, и перед старшим лейтенантом – какой уже год! – все так же волновалась серая простыня Ирбен, на которой ползали, будто вши, отвратительные живчики вражеских кораблей. Время от времени оттуда вспыхивали огоньки, почти мирные, похожие на булавочные головки, – это были выстрелы дредноутов, которые отзывались на Цереле страданием…
Ему позвонили с первого орудия:
– Это я… мичман Поликарпов. Даю последний выстрел.
– Почему последний, черт побери?
– Прислугу отпустил в лес. Не отпусти – сами бы убежали…
Остались две башни, и эта арифметика была постыдной.
Прислуга третьего орудия то убегала, то возвращалась. Ей было страшно – и она бежала. Потом делалось стыдно – и она возвращалась. Вражеские снаряды ложились возле погребов, упрятанных под массивом бетона, а потом перескочили ближе к батарее. С четвертого орудия мичмана де Лароша стреляли по дезертирующим, и они падали под пулями, не успев укрыться в лесочке. Артеньев видел все это и соединил себя с четвертым.
– У аппарата хозяин подачи – Орехов.
– Молодцы, четвертая! Как у вас дела?
– Как сажа бела. Но за нас будьте уверены…
Сергей Николаевич потом спросил Скалкина:
– Этот хозяин подачи Орехов тоже большевик?
– Нет. Сочувствующий нам.
Артеньев отработал данные к новому залпу и сказал:
– Сейчас я тоже сочувствующий. Всем, кто борется. Мне надоели эти визги и писки. Я уважаю вот таких, как этот Орехов…
От третьего орудия убегал в лес его командир, мичман Гончаревский, и кричал в сторону четвертого орудия.
– Не бей меня… не бей! Я не убегаю – я только догоню своих, чтобы устыдить их… я вернусь еще… не стреляй!
Прислуга третьего орудия вернулась, дала по врагу еще четыре залпа, после чего снова разбежалась. Артеньев снял шинель, долго вытрясал из нее землю. Его настиг, как удар ножом в спину, звонок из деревни Менто – от каперанга.
– Вы эту канитель там кончайте, – сказал фон Кнюпфер озабоченно. – А то немцы могут и в самом деле – на вас рассердиться. Дредноуты до сих пор только постреливали, а теперь станут стрелять. У них техника, сами знаете, не чета нашей…
Раздался грохот, и батарейный паровоз кверху колесами покатился под насыпь. Прерывая стукотню дизелей, еще работавших в подземельях Цереля, завывали конвейеры подачи снарядов, ревуны звали прислугу батарей к залпу… Фон Кнюпфер намекнул:
– У меня над Менто белый флаг, и нас немцы не трогают.
– Это – что? Добрый совет?
– Тема для размышлений, – ответил Кнюпфер.
– Благодарю. Но Церель уже имеет свою тему…
Артеньев разбил трубку телефона, будто она виновата в измене начальства. Полтора часа зверского напряжения кончились. Германские корабли выходили из зоны огня батарей. Артеньев огляделся во внезапной тишине и увидел, что на Цереле остались лишь офицеры, верные долгу, и матросы-большевики… Сколько он ругал этих большевиков, порою даже остро ненавидел, но сейчас, когда пришло время умирать, они остались на постах, они открыто принимали вызов неприятеля и от смерти не прятались…
– Да! – сказал он комиссару. – Пусть так и будет. Это не сгоряча. Это от души… Ты этого офицерам не болтай. Пусть между нами. Считай меня, как и Орехова, тоже сочувствующим…
Высокой свечкой сгорал над морем древний маяк Цереля.
* * *
В этот день мичман Сафонов сбил четвертый самолет противника. Каждый день он сбивал по одному «фоккеру», и ему везло. А сейчас, когда он возвращался с разведки, его гидроплан немцы расстреляли над морем. Хорошо, что неподалеку крутился «Разящий», летчика подобрали, и стремительный миноносец доставил его в Куйваст…
– Пусть он войдет, – сказал Бахирев.
Мичман Сафонов (весь мокрый, челка свисала из-под шлема на разбитый лоб) предстал перед адмиралом в салоне «Либавы».
– Ну? – спросил Бахирев и тут же кликнул вестовых, чтобы приготовили для пилота горячую ванну с дозой одеколона.
– Значит, так… – начал рассказ Сафонов. – По всей дороге от Цереля до Менто тянутся люди с сундуками и котомками. Могу поклясться, что даже с неба видно – многие из них пьяные.
– Откуда спирт? – хмыкнул Бахирев.
– Свинья грязи всегда найдет… Разрешите продолжать?
– Прошу.
– Я пролетел и над перешейком Сворбе, где еще вчера держались каргопольцы, не пускавшие немца к Церелю… Сегодня из окопов уже торчат шишаки германских касок, а каргопольцы погибли. Страшно горит над Церелем маяк! Когда я снизился над ним, меня чуть не сбило. Очевидно, на маяке был потайной склад боеприпасов, и сейчас они рвутся.
– А что на батареях Цереля? – спросил Бахирев.
– Батареи молчат. Людей сверху не видно.
– Благодарю. Вас ждет ванна…
В подкрепление доклада пилота, с дивизиона сторожевиков прибыл рапорт такого содержания: гарнизон Цереля бежал в Менто, где потребовал срочно сдать немцам полуостров, настаивая на этом, чтобы начальство не вздумало что-либо уничтожать на батареях, дабы не вызвать ответной мести противника…
Бахирев сказал Старку:
– Вопрос нескольких часов, и пролив Ирбены как позиция для России перестанет существовать. С падением Цереля мы имеем лишь Моонзунд… Дайте запросное радио на «Украйну»!
«Украйна» из бухты Менто отвечала конкретно: «Церель сдался, иду на Куйваст». Эсминец прибыл на рейд Куйваста, – имея на борту питерских рабочих, снятых с землечерпалок, и последних инженеров, которые застряли на Сворбе. Командир «Украйны» от хронического недосыпания шатался.
– Ваши впечатления? – отрывисто спросил его Бахирев.
«Миноносник» с трудом разомкнул красные веки.
– Там… каша, – сказал он, махнув рукою.
– Церель, значит, уже сдан?
– Вроде бы.
– Сдан или не сдан? – переспросил адмирал.
– Там никого уже не осталось. Из этого можете понимать как угодно: сдан Церель или не сдан…
– Но это в корне меняет все дело, – заметил Бахирев.
Как-то не укладывалось в сознании, что Россия потеряла сейчас Ирбены… Сквозь эфирную трескотню в рубки линкора «Гражданин» вонзилась ясная дробь приказа:
Церель уничтожить.
Итак, все кончено. Русский флот покидал Ирбены.
* * *
«Уничтожить Церель!» – приняли по радио на «Гражданине».
Читатель, но ведь Церель еще жив!
* * *
Сколько было их там? Немного… Вокруг Артеньева собралось человек двадцать, и он им сказал, что время не ждет.
– От Цереля мы оставим врагам только рожки да ножки!
Скинули шинели. Открыли погреба. Это очень тяжелая работа – таскать на себе фугасы. Мешки с сахарным песком – пушинка по сравнению с картузами зарядов. Артеньев тоже трудился, как грузчик, и по тому, как прошибал его обморочный пот, старлейт понял, что молодость кончилась – не стало сил, что были раньше.
– Клади сюда, – командовал он. – Осторожней, ребята…
В горло каждой двенадцатидюймовки вогнали по два фугаса. А вплотную к ним притиснули подрывные патроны. Через каналы пушечных замков продернули, как шнуры через дырку, гальванические проводники запалов. Провода эти размотали по земле – до самых блиндажей, где и собрались все вместе. Договорились:
– Подождем рвать. Может, Бахирев еще придет с кораблями?
Бахирев не пришел. Но зато из Менто часто появлялись какие-то растрепанные «делегаты», место которым – в психиатричке или на том свете. Некоторых так развезло от спирта, что на ногах уже не стояли. Оказывается, сидя под белым флагом в Менто, они прослышали, что церельцы хотят взорваться, и потому белофлажники рассыпали перед честными бойцами страшные угрозы:
– Вот тока рвани, я тебе рвану… Это што получается? Ты, значица, рванешь, а немец с нас за неисправность взыщет…
Какой-то пьяный матрос, наоборот, стоял за немедленное уничтожение Цереля и сдуру поджег арсенал. Горящий арсенал вызвал над Церелем бурю огня, из которого тучами вылетали пули и ракеты. Одна из ракет убила самого поджигателя. В руках у Скалкина появилась откуда-то немецкая винтовка с оптическим прицелом.
– Хорошая штука, – сказал Артеньев, – Дай-ка посмотреть.
– Нарядная. Только бьет криво. Видать, стукнута…
С моря опять подошли корабли кайзера, подвергая Церель безжалостному обстрелу. Артеньев из блиндажа чувствовал, как снаряды копают землю, и досадовал на безобразную стрельбу противника.
– Плохо стреляют, – говорил он. – Даже не верится, что немцы хорошо отстрелялись в Ютландском сражении. Ну, посудите сами, второй час возятся с нами, мы им даже не отвечаем, казалось бы, чего уж проще? Так нет же – не могут накрыть как следует…
Все его поняли правильно: старлейт хотел полного разрушения батарей, чтобы не возиться с ними самому. Скалкин поднялся:
– Я схожу… Эй, у кого спички есть?
– Ты куда?
– Да подпалю что-нибудь. А так много ли высидишь? На этих немцев какая надежда? Им не фугануть точно…
Скалкин выпустил из бочек нефть на землю, поджег барак офицерского собрания, запалил провизионку. Была как раз середина дня, когда в штабе Бахирева расшифровывали радиограмму, перехваченную с германских дредноутов. «ЦЕРЕЛЬ ПРИ ОБСТРЕЛЕ С ТРЕХ СТОРОН НЕ ОТВЕЧАЕТ НАМ. ВИДИМ ДЫМ…» В это самое время Артеньев замкнул гальваноключ, вызывая взрывы на батареях. Но четыре башни по-прежнему нерушимо глядели в Ирбены со своих парапетов. Что-нибудь одно: или осколками перебило проводники, или…
– Или, как всегда, вредительство, – сказал Артеньев.
Скалкин распахнул дверь блиндажа, высунулся наружу.
– Немцы! – крикнул он. – Садятся!
– Высаживаются, – поправил его Артеньев. – С моря?
– Нет. Садятся. С неба.
На фоне пожаров метались над Церелем две тени аэропланов, которые скоро коснулись колесами земли. Церельцы выждали, чтобы летчики вышли из кабин, и Артеньев скомандовал комиссару:
– Лупи их из своей оптики… Чего смотришь?
Немцы, увидев русских, кинулись к своим аппаратам, в красном дыму провернулись лопасти пропеллеров, и, взяв разбег на поляне, самолеты улетели в Ирбены – в сторону своих кораблей…
«Гражданин» уже приближался к Аренсбургу.
* * *
«Гражданин» проходил в узостях мелководий, протираясь бортами между банками и минами. Одно резкое движение кормы могло обернуться концом для всей многочисленной команды линкора. За ним шли в кильватерной струе конвойные эсминцы – «Амурец», «Стерегущий» и «Туркменец Ставропольский». Германские самолеты появились сразу, как только штурман доложил о приближении Аренсбурга. Аэропушки «Гражданина» отгоняли их прочь от кораблей…
Солнце было уже на закате. Быстро наваливалась темная осенняя ночь, и черта эзельского побережья выступила в темноте зловеще и зыбко. В команде росло нервное напряжение. При появлении перископа подлодки линкор открыл огонь ныряющими снарядами, и азарт был столь велик в матросах, что офицеры силой тащили комендоров от пушек, кричали людям:
– Хватит! Опомнись… хватит! Куда лупишь?
С ночного неба на линкор были сброшены бомбы, одна из них, не взорвавшись почему-то, с резким шипением догорала на воде. До команды долетел зловонный запах, который вентиляция впитала в утробу корабля, и долго в отсеках пахло какой-то гадостью. Справа остались огни Аренсбурга – близок уже Церель, и все примолкли… Вот он! – как будто у входа в Ирбены положили раскаленную жаровню (это горела земля). Бурные фонтаны огня смерчеподобно выплескивало к тучам. Обгорелый скелет маяка коптил небо, как похоронная свечка. От берега слышалась еще стрельба. А на черной воде спасались люди. Вдоль всего побережья Сворбе сновали плоты и шлюпки, таскались буксиры и курортные паромы. Люди кричали в сторону кораблей о помощи, но «Гражданин» брать никого не стал, и людей выхватывали из воды идущие за линкором миноносцы…
Исполняя приказ, «Гражданин» открыл огонь по Церелю. Очевидец пишет:
«Стрельба в полутемноте по собственной же батарее, с таким трудом и с такой поразительной быстротой построенной в течение летней и осенней кампании 17-го года и которая честно отстаивала Ирбенский пролив… наконец, эта мрачная, но величественная картина: пожары, неприятельские аэропланы, пулеметная стрельба, разбросанные кругом шлюпки и буксиры с людьми, панически покинувшими свои посты, – все это вместе взятое запечатлелось в памяти каждого участника нашего похода к Церелю».
Среди гибнущих и тонущих эсминцы иногда выуживали и офицеров с батарей. Ошалелые от пережитого, они, казалось, не отвечали на вопросы, а злобно огрызались:
– Да нет, нет! На Цереле уже никого не осталось. Вы посмотрите сами, что творится: разве тут человек выживет?
Их спрашивали – уничтожены ли батареи Цереля, они отвечали:
– Да, конечно. Иначе и быть не может…
Об этом стало известно на «Гражданине», и горнисты линкора сыграли «дробь». С мостика последовал приказ:
– Задробить стрельбу. Орудия на ноль. Чехлы закинь…
«Гражданин» с трудом развернулся корпусом среди мелководий, его массивный форштевень обратился на норд – в сторону Куйваста. Пассажирский пароходишко «Генерал Циммерман» напоминал столичный трамвай, который не только забили изнутри, но и облепили снаружи несчастные пассажиры. Про буксиры и говорить нечего: они едва ползли, а на палубах эсминцев тоже качалась плотная безмолвная стенка спасенных со Сворбе… «Вид у этих людей (по словам очевидца) был крайне жалкий, запуганный, голодный и обобранный».
В командах кораблей рассуждали о спасенных так:
– К собакам наше отношение намного лучше…
Никто из матросов не заговорил со спасенными. Не дали им даже кружки кипятку, чтобы обогрелись. Спички не чиркнули – цигарки им раскурить.
А если кто из спасенных что-либо просил, то его посылали:
– Иди к Пушкину… к Александру Сергеичу!
И тогда гарнизон полуострова Сворбе, кажется, и сам понял, что они такого отвращения стоят. За кормами уплывающих кораблей (за их же спинами) сейчас феерически догорал Церель, который они предали… Они предали Ирбены. Предали главный рубеж обороны всего Моонзунда. Теперь они плыли! К жизни. В тыл…
Луч прожектора с «Гражданина» выхватил из тьмы кусок моря. На волнах качалась доска, а к доске прилипла фигурка человека. Его сумели поднять на палубу линкора. Это был мичман Гончаревский – командир 3-го орудия с Цереля. На палубе его долго и мучительно рвало морской водой. Мичмана спросили:
– Батареи на Цереле уничтожены?
– Кто вам сказал эту чушь? – ответил Гончаревский. – Я был с Артеньевым до последнего момента. Мы хотели уничтожить орудия, но гальваноключи не сработали… Церель не уничтожен, и угроза захвата его немцами в полной исправности остается!
Это была новость. Разгорались огни Куйваста.
* * *
И состоялся митинг караблей – самый кратчайший.
Слушали: дело о предательском поведении гарнизона батарей полуострова Сворбе, о прислуге двенадцатидюймовок Цереля, об их постыдном бегстве в бою, об их спасенных шкурах.
Постановили: предать самому суровому революционному суду весь состав спасенных сегодня дезертиров со Сворбе и особенно команду с батарей мыса Церель.
Предать суду и казнить всех без исключения!
Всех. Кроме тех героев, что остались на батарее.
Артеньев, еще два офицера и большевики-матросы, оставшиеся на Цереле, этому суду не подлежали.
– Им вечная наша память!
На рейде Куйваста корабли приспустили флаги и тут же боевито вздернули их снова «до места».
Бескозырки опять взлетели на матросские челки.
Митинг закончился. Вот если бы всегда так – по делу!
Ясно. Честно. Кратко.
Ночь.
* * *
– Вот и ночь, – сказал адмирал Старк. – Может, это наша последняя ночь, Михаил Коронатович…
Бахирев ничего не ответил. Он понимал Старка: сегодня опять дрались эсминцы на Кассарском плесе – дрались жесточайше.
– Большие у вас потери? – спросил он начмина.
– Да как сказать… вполне естественные. Ужасен только вид трупов, передаваемых с кораблей из боя. Черт знает на что они похожи в веке двадцатом – в мазуте, липкие, обгорелые.
Бахирев нажал кнопку звонка, чтобы вестовые принесли чай.
– Ужасно другое: мы немца не пускаем, но он лезет и лезет… Сегодня Эзель сдан до конца, завтра они снова пойдут на Кассары, и следует ожидать атак на Орисарскую дамбу.
На Моонском створе море колыхало эсминцы, стоящие в нерушимой брандвахте. С их качливых мостиков люди вглядывались в коридор Соэлозунда, откуда искрометно сигналили друг другу немецкие корабли. А на севере молчаливо застыл Даго – настороженный. Сегодня видели, как, огибая его побережье, прошли куда-то 62 германских корабля, включая и дредноуты. Далеко на эстляндском берегу полыхало зарево пожаров над Перновом – мирный город недоспал, недочувствовал: его разбомбили с цеппелинов, германские «фоккеры» гонялись с воздуха даже за коровами, расстреливая их…
Среди ночи заговорила Ставка, и ее повелительный тон, унаследованный еще от царя, был принят на аппаратах флагманской «Либавы». Дробный стук в двери салона – вошел рассыльный:
– Господин контр-адмирал, свежая квитанция.
– Положи, братец, и ступай, – велел Бахирев.
– Есть…
Старк поднял глаза над стаканом недопитого чая:
– Что там пишут?
Ставка (уже отживающий организм былой власти) диктовала свою неразумную волю: «Приказываю не смущаться потерей полуострова Сворбе и церельской батареи… сосредоточивать силы на Эзеле, завтра решительно атаковать. Ирбенский пролив защищать всеми силами…» Надо совсем не знать обстановки в Моонзунде, чтобы отдавать такие глупейшие, абсурдные приказы!
– Конечно, – горестно заметил Старк, – все храбрецы на берегу, когда в море беда. Самое же дурацкое, что мы уже не в силах исполнить ни одного пунктика этого приказа.
– Один пункт мы исполнить еще способны: вам приказано не смущаться, и мы, Георгий Карлович, действительно не смущаемся…
Флот – в тревогах – заснул. Минную дивизию трясло на волне, и матросы в носовых кубриках часто просыпались от звона и грохота передернутых цепей. Ночь длится всего две неполные вахты.
* * *
Орисарская дамба устала… Полоска земли между Эзелем и Мооном была слишком узка для такой широкой отваги. До рассвета еще далеко. Кавторанга Шишко было не узнать: пришел вчера на дамбу пижоном с гельсингфорсской Эспланады, а сейчас… Сейчас он уже фронтовик! Шишко зубами стянул на своей руке окровавленную перевязку, французской булавкой скрепил разорванные в атаке штаны.
– Свинаренко, там граммофон… поставь-ка повеселее.
Взвизгнула музыка. В темноте не разберешь надписи на пластинке. Оказалось, что танго – модный танец… В черном небе вспыхнула ракета от Малого Зунда и осветила матросов.
Билась под тупою иглой пластинка, ерзая по кругу.
Ах, танго, танго… Встал один с земли, вздернув локти:
Матреха, стерва, что ты задаешься? Скорей тангу со мной танцуй…Германские эсминцы за Павастерортом жгли сигнальные фейерверки. В зеленом свете их, быстро сгоравшем, танцевали матросы.
Молча. На дамбе. Мотались клеши, и гнулись гибкие тела.
До рассвета еще далеко. А завтра – бой…
Матросские смешливые барышни, где же вы, милые?
Сегодня танцуют без вас.
Танцевал комендор Тюлякин с машинистом Полещуком.
Торпедист Иванов нежно обнял гальванера Макарова…
Из темени застрочил пулемет, и разбитый граммофон скатился с дамбы в воду. Матросы разошлись – оттанцевались.
Завтра будет новый день – пятый. А сейчас, когда угрозы Цереля более не существует, Гохзеефлотте уже проходит Ирбены, перед дредноутами скоро откроется простор Рижского залива. Германия – монархия, и потому геральдические имена линкоров можно было произносить, предварительно сняв шляпу: «Гроссер Курфюрст», «Кёниг Альберт», «Кронпринц», «Кайзерин», «Принц-регент Луитпольд», «Маркграф» и прочие. Удары их башен по врагу – как удары молотом по шляпной картонке: всмятку!
…Революция в опасности. Как никогда…
* * *
Ветер бесновался над ночными плесами, когда с брандвахты заметили в море шлюпки, наполненные солдатами и офицерами.
– Кто вы такие? – окликнули их с кораблей.
– Мы… сто седьмая дивизия генерала Иванова!
Новость: покойники объявились с того света.
– Мы не последние, нас еще много, – рассказывали они. – Генерал Иванов приказал нам вчера рассеяться, и мы стали как партизаны. Нет, мы не сдались – это вранье, морду бить надо тем, кто плохо о нас подумал… Нас еще много, еще сражаются!
Оказывается, оттиснутые немцами, бойцы 107-й дивизии пробились из «мешка» окружения на мыс Кюбоссар. Бахирев приказал:
– Тральщикам «Крамбол», «Капсюль» и «Груз», а также угольным эсминцам сбросить десант из охотников на Кюбоссар…
Календарное утро, но в природе еще засилие ночного мрака. Балтийская поздняя осень, до чего ты уныла и печальна. Ветер уже не доносит с материка листву опавших дерев. Плачуще кричат чайки, грудью летящие на яркие рефлекторы прожекторов. В добровольцы вызвались 32 матроса во главе с лейтенантом Юрием Ралль[27]. Был ранний час, и немцы крепко спали, никак не ожидая появления русских. Десант, как гроза, встряхнул весь Эзель. Отряд лейтенанта Ралля принял встречный бой с батальоном немцев, половина которых сидела на лошадях. Матросы наголову разбили батальон, выручили из плена сотни русских солдат. С моря охотников поддержали огнем тральщики, их малокалиберные «пукалки» били сегодня на редкость удачно. Немцы побежали. Казалось, что мыс Кюбоссар станет главной темой наступающего дня. Но… уже заворчали германские дальнобойные батареи, уже вынырнул перископ германской субмарины под бортом «Деятельного», уже ревели над Малым Зундом немецкие двухмоторные бомбовозы…
– Рисковать на Кюбоссаре не стоит, – решил Бахирев. – Это лишь вступительный эпизод. Помогай нам бог справиться, и пора вводить в защиту Кассарского плеса линкор «Славу»…
Кровавым клинком обозначился рассвет. Посыльный катер обошел сигнальные буи и на полчаса скинул с фонарей коленкоровые мешки. Буи осветили перед «Славой» лабиринт сложного фарватера, а когда линкор вышел на плес, колпаки из коленкора снова задернули светлые ревущие головы буев. Встав на позицию для стрельбы, «Слава» затопилась, создав искусственный крен на пять градусов. Подражая линкору, накренился и крейсер «Адмирал Макаров», тоже впустивший в себя воду… Что ж, можно открывать огонь!
– Погибать, но не сдаваться, – призывали комиссары на кораблях. – Потому как, братва, сама понимаешь: немец чикаться с нами не станет. Ему одно в заду свербит – как бы на Питер вырваться и нашу свободу раздраконить в хвост и в гриву. А потому ты знай, товарищ: передышки не будет, поддержки тоже не обещаем… Ты по сторонам не зыркай – ты вперед смотри, в революцию!
Молитвы не было. Завтракали в суровом молчании.
Эскадра цепенела на рейдах под ветром, летящим через трубу Моонзунда, как черный шквал. Начался день – пятый день…
* * *
Артеньев проснулся на земле, съежившись от холода, и долго смотрел вполглаза, как по вороту шинели ползет красивая букашка. Серый рассвет нехотя сочился через заросли кустов, и букашка эта напомнила детство. Сколько таких вот тварей пересажал он на булавки, гордясь потом коллекцией перед товарищами в гимназии, а… зачем, спрашивается? Пусть бы жили… Растолкал Скалкина:
– Комиссар, вставай… буди людей.
Скалкин сразу подхватил с земли винтовку с оптическим прицелом. Из офицеров с ними только два мичмана – де Ларош и Поликарпов; мастер подачи Орехов пропал в эту ночь безвестно; но остались еще Кулай с Журавлевым – ребята славные, неробкие. Все они тронулись на свои батареи… Просто удивительно, как Церель выстоял вчера в море огня. Орудия сохранились в исправности, вокруг них испепелило почву, но пожары не смогли добраться до подземелий погребов. Загнанные вчера в стволы двойные фугасы еще сидели в каналах пушек. Артеньев долго вертел в руках гальванные проводники, осмотрел не сработавшие на контакт запалы.
– Ну, что делать? – спросил Скалкин. – Техника подвела?
– Я придумал… Рванем к черту весь Церель.
– Весь?
– Весь. А чего жалеть? Он уже не наш…
Патриотизм – вещь высокого накала, как пламенная любовь.
Курций бросался в пропасть. Сцевола клал руку в пламя.
Артеньев решил взорваться вместе с Церелем…
– Впрочем, – сказал он, – я никого за собой тащить за волосы не стану. Помогите мне все приготовить и можете уходить.
Матросы выкатили заряды из погребов к орудиям. Артеньев взял винтовку и отошел подальше, вскинув ее для стрельбы.
– Комиссар, – крикнул, – а дизеля у нас обложены патронами?
– Да. Только брызнут!
– Тогда смывайтесь…
Но никто не ушел. И его заставили лечь.
– Не дурите, – внушали ему товарищи. – Стрелять можно и лежа. Совсем незачем убиваться вместе с батареями… Жить надо!
Артеньев выстрелами поджег картузы, сваленные у раскрытых казематов. Порох разгорелся моментально и рыжей белкой ускакал по зернам порохов, рассыпанных тропинкою вниз – в погреба, где тихо дремала боевая мощь Цереля. Раздался режущий уши свист, перешедший вскоре в оглушительный рев, будто гигантская эскадра одновременно начала травить пар из своих котельных. У самого входа в Ирбены вырос громокипящий кубок огня и дыма, столбом вырастающий до поднебесья. Это горел только порох, и Артеньев понял, что огонь не успел добраться до главной начинки Цереля – до запасов снарядов…
– Бежим! – рванули его. – Быстро!
Все укрылись в ближнем подземелье. Сидели. Ждали. Посматривали друг на друга. Артеньев вынул часы, щелкнул крышкой:
– Уже двадцать минут, а взрыва-то все нет…
Церель встал на дыбы! Сила взрыва была такова, что за семь верст отсюда, в бухте Менто, сорвало флаги капитуляции, вывешенные фон Кнюпфером, и немцы догадались, что Церель не сдан, что Церель еще борется… Скалкин хотел выйти из блиндажа.
– Стой! – заорал на него де Ларош. – Ты с ума сошел!
– Я-то? Почему сошел?
– Взорвало только первый погреб. Сейчас рванет второй…
Когда над Церелем пронесло вторую лавину извержения огня и настала едкая, наполненная газами тишина, неожиданно все услышали тихий смех… В замызганной шинели с поднятым воротником, по которому еще ползла красивая букашка, это смеялся Артеньев.
– Ну вот, товарищи, – сказал он команде. – Теперь я могу вас поздравить: мы свой долг исполнили до конца…
Со стороны Менто уже стучали германские мотоциклы.
– Пошли… в лес!
* * *
Ирбенская эпопея закончилась. До 1941 года.
Но в 1941 году над Церелем встанут другие. Сыновья этих!
* * *
С рассветом миноносец «Всадник», прикрываемый канлодкой «Грозящий», начал сближение с противником, чтобы выжить его с Кассарского плеса. Немцы тащили в Малый Зунд транспорт с десантом, за которым буксировались шлюпки с саксонской пехотой. Русские корабли удачно накрыли транспорт, внесли разброд и панику в походный ордер противника – немцы отошли.
Первые стремления врага на этот день уже определились.
Бахирев созвал на «Либаве» скоропалительное совещание начальников дивизионов и офицеров первого ранга.
– Вот вам стратегический казус, – сказал Бахирев. – Давно овладев Ригой, немцы только сейчас, после падения Цереля, могут ввести корабли в Рижский залив. Готовьтесь, господа, к самому худшему: за прорывателями уже следуют линкоры, крейсера, эсминцы, авиаматка и прочие…
«Миноносники» и «линейщики» задумались. Сейчас, пока они сидят в благословенной тиши салона, прогретой паровыми калориферами, в холодных Ирбенах уже гробятся германские прорыватели. Трюмы этих кораблей забиты досками, опилками и пустыми бочками из-под пива. Они ползут брюхом по русским минам, взрывая их своими телами, пока не кончится запас плавучести, пока они не захлебнутся водой до мостиков. А следом за самоубийцами-прорывателями через Ирбены протащатся, как по маслу, германские эскадры…
– Первая драчка за Кассары, – продолжал Бахирев, – сегодня уже состоялась. Несомненно, что немцы запланировали нажать на нас с тыла линкорами, а со стороны Кассарского плеса отсечь русские корабли от выхода в Моонзунд и на Балтийский театр.
Западня!
– По сути дела, – сказал каперанг Клавочка Шевелев, начальник XIII дивизиона, – мы уже обречены… Впрочем, господа, не поймите меня превратно: мой тринадцатый дивизион готов драться!
– Учтите, – закрепил Бахирев, – вашим эсминцам придется воевать самым роковым образом: одному против пяти… Согласны?
Начдив-XIII отозвался на этот выпад адмирала с невозмутимостью, которая делала ему честь:
– Превосходно! О чем речь? Держу флаг на «Изяславе»…
XIII дивизион Шевелева сорвался с якорей и ринулся на Кассары. Германские армады уже подпирали с юга, и никак нельзя было допустить, чтобы эсминцы противника отсекли Куйваст от выхода в Балтику. Вот имена юных бойцов: «Изяслав», «Автроил», «Гавриил».
* * *
Над Соэлозундом медленно разворачивался германский цеппелин, и был он похож на ленивую зажравшуюся рыбину, помещенную в небе, как в гигантском аквариуме, в котором долго не меняли воду.
Под ним – Кассарский плес, словно изъеденное оспой лицо.
Над морем выбрасывало гейзеры бурой грязи, и долго на месте взрывов клокотал кипяток из противной смеси воды с илом.
XIII дивизион пошел в атаку, как человек с призывно поднятыми руками – орудия эсминцев были задраны высоко (выше предела) в расчете на дальнюю дистанцию боя. Со стороны Малого Зунда доносило уханье калибра «Славы», которая со старческой неторопливостью заколачивала снаряды во врага. Прикрывая эсминцы, поодаль галсировал крейсер «Адмирал Макаров». Следом за «новиками» рвались в бой миноносцы – «Капитан Изылметьев» и «Страшный».
И бой начался – встречный бой…
Хороший матрос – это автомат, воедино сливший свои мышцы с мускулами машин, будь то турбина или орудие. В сраженье ему некогда, и этим все сказано. С первым же выстрелом нервы и сердце остаются в описаниях анатомических атласов: нет у матроса нервов, он уже не слышит, как стучит его безумное сердце.
Эсминцы – разгоряченные кони! – толкали своей грудью воздух, уплотненный от скорости. Штурмана – начеку: слева банка, справа веха красная, по зюйду торчит мачта погибшего корабля.
Время: 14.14… Носовые плутонги приведены в действие. Лязг орудийных замков, угар сгоревших порохов, взвизги звонков, четкие удары прибойников, досылающих снаряды до места.
– Ревун! Залп…
Немца погнали. Всем некогда, и реакция краткая:
– Мачту свалили!
– Задымил, гад!
– Есть, порхнуло огнем…
Время: 14.20… На XIII дивизионе за шесть минут боя все уже стали глухими от частоты выстрелов и орали:
– Подавай! Лоток… замок… ревун… залп!
Снаряды врага давали всплески воды, окрашенной сверху желто-зеленым цветом сгоревших лиддитов и кордитов. Узкое поле битвы не позволяло эсминцам разгуляться как следует, и Клавочка Шевелев махнул рукой в сторону кораблей поддержки:
– Они будут только мешать нам… возможны столкновения… пусть отвернут и прикрывают нас потом – на отходе!
«Грозящий», «Капитан Изылметьев» и «Страшный» исполнительно отвернули. Этого, казалось, немцы только и ждали. На пересечку XIII дивизиону разом выскочили сразу восемь первоклассных эскадренных миноносцев типа «V».
– К повороту, – скомандовал Шевелев. Под огнем противника «Изяслав», «Автроил» и «Гавриил», словно гарцуя в манеже, блестяще завершили идеальное маневрирование. На легком аллюре скачки XIII дивизион Клавочки лег на 8 румбов в развороте «все вдруг» и показал противнику свои мощные кормовые плутонги. Стремительная отработка автоматов ПУАО и данные к стрельбе уже несутся по проводам к орудиям. Жужжащие и квакающие датчики показывают старшинам орудий, как надо действовать.
– Третье… готово!
– Четвертое… готово!
– Пятое… готово!
– Товсь, – слышится с мостиков.
Старшины орудий вырывают из ушей пуговицы:
– К едреней фене! Все равно оглохли…
Восемь узких, зализанных назад теней настигают их. С кормы видны форштевни противника, которые, как топоры, секут волны.
* * *
Удар пронизал флагманский «Изяслав» от самого днища. Первая мысль – попадание! Но нет: это задели винтами грунт. На мостике флагмана беспокойство и суетня офицеров.
– Задели здорово. Кажется, погнули гребные валы…
Эсминец стало бить от движения винта. В жестокой вибрации ходуном плясала стальная палуба. Ерзали в рамах прицелы пушек. Орудийных старшин дубасило в креслах так, что у них щелкали зубы.
– Огонь!
Локти офицеров прыгали, окуляры биноклей били их в глаза. Невозможно рассмотреть, что творится по корме, за массами горячего воздуха, свирепо раздуваемого из труб. Уши опытных командиров устроены так же, как уши дирижеров. В стоголосой панике хаотических звуков они безошибочно угадывают пропущенное соло одинокой скрипочки… Шевелев недовольно покосился на старшего артиллериста «Изяслава» – лейтенанта Петрова.
– Третье орудие… молчит? – спросил у него Шевелев.
– Молчит, язва! – согласился Петров и полез к трапу…
Немцы врезали уже два снаряда под мостик «Автроила», а третий лопнул в его нефтяных ямах. Охваченный дымом, страдая от сильной контузии, «Автроил» не покинул строя. Кормовые плутонги эсминца работали на славу: два головных корабля противника уже отворачивали назад, беспомощно выстилая по морю затухающие шлейфы от работы винтов, – из игры их выбили!
А на «Изяславе» молчит третье орудие. Молчит.
Разинутый зев пушки уже проглотил снаряд, готовый сорваться в полете. Дело за малым: вложить тарный патрон, который даст снаряду пинка под зад, чтобы тот метнулся в противника.
– Подавай унитар, холера! – рычит старшина.
Унитар не подан. Досылающий матрос нежно прижал его к груди. В полном обалдении, раскрыв рот, он глядит, как скачут по волнам, легко их рассекая, острые топоры чужих форштевней…
– Подавай патрон, мать твою так! – кричит старшина, не выпуская из прицела один из этих форштевней противника.
Кричит спина. Кричит сердце. Кричат нервы.
Теперь уже все кричат досылающему:
– Давай патрон, лярва… чего расшеперился? Немца не видел?
Лейтенант Петров уже добежал до пушки. Он развернулся и треснул досылающего по зубам. Так дал ему, как в проклятые старые времена, будто для него и не было никакой революции… Хряск!
Досылающий сразу подал патрон. Замок задернулся. Смачно щелкнула его жирная, в тавоте и смазке, челюсть. Пропел ревун: му-му. И снаряд пошел сверлить мутное пространство Кассарского плеса.
Третье орудие (что и требовалось доказать) включилось в общую симфонию боя. На мостике «Изяслава» начдив Шевелев, как опытный дирижер, отметил на слух, что в оркестре снова порядок.
– Третье заработало, – сказал он, довольный…
Очевидец пишет: «Это был не тычок или подзатыльник и не боксерский выпад, а самый настоящий удар с размаху, сплеча, нанесенный с большим чувством». От себя добавлю, что лейтенант Петров ни слова досылающему не сказал. Треснул – и побежал обратно на мостик…
XIII дивизион с победою выходил из боя. На палубах эсминцев замелькала белая марля на раненых. Стали пересчитывать трупы убитых, тащили их в баню, плакали и ругались… Долго не мог успокоиться Кассарский плес, и его еще долго мутило от грунта, словно изблевывая наружу всю грязную накипь взрывов.
Три эсминца против десяти выстояли.
Три угробили трех из десяти…
Из раскрытой раны в борту «Автроила» медленно вытекала в море корабельная кровь – тяжелый маслянистый мазут…
* * *
После отхода XIII дивизиона в погоню за немцами пошла канонерка «Грозящий» под командой кавторанга Ордовского-Танаевского. Она билась почти два часа, загоняя противника обратно – в крысиную дыру Соэлозунда… К вечеру «Грозящий» сильно сдал.
Орудия его от огня разогрелись. Носовое даже склонилось набок, словно усталый человек. Кормовое орудие даже скособочилось. От частых залпов просели палубы. В командном отсеке под первой пушкой согнулись столбы пиллерсов, подпиравшие снизу верхнюю палубу. В корме лопнули кницы, способные удержать любой мост…
Ордовский-Танаевский даже присвистнул:
– Еще два залпа, и можно всем нам писать похоронную…
Да. Боевая техника, скованная из высокосортных сталей, уже начала сильно сдавать. Но люди зато держались. Они понимали – это еще не самый черный день.
* * *
Им удалось незаметно прошмыгнуть через перешеек полуострова Сворбе; миновав окопы, в которых лежали погибшие каргопольцы, они вышли со Сворбе на Эзель; дорога лежала на Аренсбург…
– Кто-то едет, – присмотрелся Скалкин.
Из-за леса выкатилось старомодное ландо, запряженное холеными лошадьми. Фон Кнюпфера узнали все сразу – это он, уже в сером пиджаке и в кепке самой модной в крупную клетку. А рядом с ним сидела поджарая дама, и до церельцев доносился их смех.
Артеньев вытянул руку, сказав комиссару:
– Дай-ка мне твою оптику.
– Прицел барахлит, – предупредил Скалкин.
– Ладно. Справлюсь…
Коляска приближалась. Артеньев из-за кустов поднял винтовку с колена. В оптической трубке возникло сытое лицо каперанга с папиросой в зубах. А рядом с ним ехала Лили фон Ден…
– Фу! – Артеньев крепко выдохнул из груди воздух, чтобы смирить дыхание.
Предателю – смерть! Тщательно прицелился он в грудь фон Кнюпфера и через оптику досмотрел до конца, как выпала из коляски на дорогу убитая наповал Лили Александровна, а сам Кнюпфер в испуге стал нахлестывать лошадей… Артеньев расцепил в своих онемелых пальцах оружие и схватился руками за лицо.
– Боже! Я не хотел… клянусь, я не хотел в женщину…
Скалкин решительно поднял винтовку:
– Пошли! Я же говорил, что у ней прицел свихнут…
Словно какой-то рок преследовал Артеньева: сначала он заставил застрелиться командира «Новика», а сейчас случайно застрелил его вдову. Впрочем, переживать было некогда… Решили обойти Аренсбург лесом – важно пробиться до Орисарской дамбы. Артеньев убеждал товарищей, что дамбу так скоро не сдадут.
– Кто-то опять едет навстречу, – заметили матросы.
Прядая ушами, не спеша ступал через лужи старый мерин, а в телеге, болтая ногами, сидел эстонский крестьянин. Пожилой уже.
– А ведь я его знаю, – сказал Артеньев, вспомнив день своего прибытия на Эзель. – Этот эстонец из наших… флотский.
– Так позовите его: может, чем и пособит.
– Как же я его позову? Имени не знаю… болтал он что-то про себя, да я все позабыл. Помню, что на «Авроре» он служил… Да, верно, еще и в Цусиме участвовал…
– Эй, Аврора! – гаркнул комиссар. – Остановись, Цусима!
Телега остановилась. Тынис Муога терпеливо выждал, когда из леса к нему вышли матросы и три офицера.
– Церель? – догадался он сразу. – Плохи дела ваши… Да и мои не слаще. Уйдете вы, и всю жизнь заново строить надо. Что же мне теперь – к немецким порядкам приспосабливаться? Ай-ай…
Артеньев сунул ему руку, и Муога узнал его.
– Здорово, приятель. Ты откуда и куда?
– Ездил на коптильню, а сейчас домой… жена ждет. Вас взять к себе не могу. Прокормить бы мог такую ораву, я не бедный. Да жена у меня… пастор… опять же барон! Вам же хуже будет.
– Ясно, – сказал Скалкин. – А чего везешь?
Тынис Муога поднял с телеги мешок, из которого капало вкусное масло. Пахло от мешка очаровательно.
– Это вам, ребята, – сказал бывший матрос. – Копчушки. Чего еще? Вот табак… спички есть? Забирайте. И не подумайте обо мне скверно: я России столько лет оттабанил, что теперь мне без России помирать будет тошно… Ждать ли вас? Вернетесь ли?
Церельцы хмуро промолчали. Он показал им заветную лесную тропинку, которая выведет на дорогу стороною от Аренсбурга и постов полиции. Они тронулись в лес, и эстонец на прощание крикнул:
– Если «Аврору» мою увидите, поклон ей от меня!
Скалкин помахал ему издали бескозыркой:
– Прощай, Цусима!
* * *
От Куйваста – через весь Моон – с песнями бодрейшими прошагали к Орисарской дамбе свежие роты. Будто с парада свалились: подтянутые, ловкие, хлястик к хлястику, пуговка к пуговке, а голоса звонкие резали осенний воздух. Это шел на выручку «батальону смерти» Эстонский полк – ревельцы, юрьевцы, перновцы. Возле дамбы стали окапываться. Эстонцы рыли окопы с завидной аккуратностью, ровняли брустверы так, словно готовили огородные грядки под клубничную рассаду… С ними стало матросам веселее!
С моря подходили германские миноносцы, вели убийственный огонь по защитникам дамбы в упор. Иногда скакала через дамбу немецкая кавалерия с палашами наголо, чтобы размять русское мужество. Но дамба была – как пробка, которая закрывала собой горлышко Моона.
Трусы, предатели, шкурники – те бежали на Куйваст. Сидя на пристанях, они еще издевались над героями, которые гибли в неравной битве за революцию. Не обошлось и без дешевой демагогии.
– Им все мало! – говорили о защитниках дамбы. – Слышите, как распалились? Все изранеты, сами в кровище, как мясники, а хлебом не корми – повоевать дай. Вот они, наемники капитализма!
Однако никакая демагогия не могла убедить команды кораблей, что дезертиры не являются «наемниками капитала». Куйваст предоставил им берег, но дальше берега никого не пускали. Сидите там! Дезертиры распалили костры. Высоченные – до небес. Напрасно с эскадры уговаривали их затоптать костры, которые служили хорошим ориентиром для авиации и дирижаблей противника.
– А пущай глядят, нам-то што? Мы греться хотим…
Старк посоветовал Бахиреву:
– Дайте туда по кострам хотя бы парочку пристрелочных!
В зловещей темени светили костры Куйваста. Дергая якорные цепи, раскачивались корабли. Они устали, бедняги…
* * *
XIII дивизион после боя распался: «Автроил» принял на борт начдива Шевелева и сдал трупы убитых на «Изяслав», который, истрепанный жестокой вибрацией, потащился на малых оборотах в Рогокюль. В кают-компании «Изяслава» трепанировали череп матросу. Скальпели тряслись в руках корабельных хирургов. Вообще, все устали. Зверски! Люди стали зевать, раздирая рты, но спать никто не ложился… Хирурги в окровавленных халатах кричали по переговорным трубам в центральный пост энергетики:
– Мехи! Долго еще это будет продолжаться?
Ради спасения жизни человека, лежащего на столе со вскрытым черепом, машинисты вырубили работу правого вала – эсминец пошел на одной турбине. Вибрация уменьшилась. Из серой вязкости мозга извлекли осколок.
Случай возле третьей пушки кормового плутонга, кажется, всеми на «Изяславе» уже забылся. Правда, досылающий комендор иногда еще трогал себя за скулу, но особого недовольства не проявлял. Под полубаком, в тени мостикового навеса, его обступили анархисты «Изяслава».
– Браток, дело революции предано, а ты молчишь в тряпку?
– А что я? Я – как все. Так и я.
– Ты зуб-то выньми, – советовали ему. – Выньми зубчик…
Досылающий пальцами, измазанными пушечным маслом, залезал в рот, ковырял весь идеальный набор в тридцать два зуба.
– Шатается? – с надеждой спрашивали его анархисты…
Среди офицеров «Изяслава» воцарилось подавленное настроение. Сообща они давали накачку артиллеристу Петрову:
– И дернула же вас нелегкая треснуть этого обалдуя! А теперь нам грозят осложнения… Или забыли февральскую революцию, которую болтун Керенский назвал «великой и бескровной»?
Когда раздался призыв всем свободным от вахты собраться в жилой палубе, Петров отправился туда – как вешаться. За столом президиума, явно выжив анархистов, сидели большевики эсминца.
– На повестке дня немало насущных вопросов, но среди них имеется один – пустяшный! С ним покончим разом, чтобы не мешал заниматься главными… Досылающий вот с третьей пушки раззявился, когда унитар подавать надо. Вроде помрачнение у него случилось. Ну, лейтенант Петров не растерялся и напомнил ему…
Анархисты сразу устроили хай на весь кубрик:
– Покрываете? Большевики офицерам продались…
– Эй вы там! На румбе князя Кропоткина, – послышалось от стола президиума. – Когда говорите, слова все-таки выбирайте. Да и подумайте прежде… Послушаем, что скажут врачи!
Врач «Изяслава» сказал:
– Медицине известно, что от испуга у человека случается шоковое состояние. Мы, давшие клятву Гиппократа, люди самой гуманной профессии в мире, иногда, пардон, тоже лупим больного по морде, чтобы вернуть его из состояния заторможенного транса в обычное его состояние…
Анархисты не унимались:
– Своих замазываете? Ты скажи – нас при царе били?
– Ну, били.
– И сейчас лупцевать станут?
– Нет, бить не будут.
– Но сегодня-то одному чудаку звонаря дали!
Большевики упрямо гнули свою линию:
– Товарищи, звонаря никто не давал. Коснулись щеки, и только. Вот и врач, ученый человек, поклялся на этом самом Гиппократе, что таких, как наш досылающий, они тоже в рожу лупят вполне свободно… Я не понимаю, из-за чего шум-гам? Кажется, все уже ясно.
– Не ясно! – загибали анархисты. – Нас при царе били?
– Ну, били… Ты давай, браток, не нажимай на царя. Что ты вцепился в него, как клещ в собаку? Тебе чего надо?
– Истины!
– Так ты ее получишь… Где досылающий?
– Есть.
– Пусть он сам, как на духу, скажет…
Досылающий от стыда за свой страх, испытанный на Кассарском плесе, готов был, кажется, сквозь палубу провалиться.
– Братцы! – взмолился он. – Ну, коснулись личности. Ну, верно. Потому как за революцию… мы же грамотные!
Анархисты не сдавались:
– Ах, ты грамотный? Тогда выньми зуб… покажи собранию.
Зуб не вынимался. Досылающий стал плакать.
Анархисты совсем разбушевались:
– Занести в протокол! Заклеймить позором!
Большевики отвечали веско:
– Протокол все стерпит. А ты скажи по совести – кого нам клеймить позором: лейтенанта Петрова, который звону не давал, или досылающего, у которого полный набор во рту, как в магазине?
– Не надо писать, не надо клеймить, – умолял досылающий. – Он шатается, но он с пломбой… все равно к зубодеру идти! Восемь форштевней когда увидел, ну, тут и разинулся. Лейтенант Петров, спасибочко ему, вовремя подошел ко мне и вежливо указал, что с моей стороны большой непорядок.
– Точка! – заявили от стола президиума…
Лейтенант Петров с легкостью шаловливого юнги взлетел по трапу. Жить можно. Служить можно. Воевать можно.
…«Изяслав» подал концы на причал Рогокюля.
* * *
День шестой Моонзунда, – день, какой выпадает в истории морских держав не часто. День, слепленный из острейших парадоксов, в которых невозможное становилось возможным и осуществимым.
Календарь был уже перевернут на мостике «Деятельного», и он показывал день 4 (17) октября 1917 года, а в радиорубке эсминца отстукивали на Куйваст трудяги-радисты:
ВИЖУ 28 ДЫМОВ НА… НЕПРИЯТЕЛЬ ИДЕТ НА КУЙВАСТ.
Квитанция радиограммы легла перед Бахиревым, и контр-адмирал одним глотком допил чай, торопливо застегнул китель.
– Как быстро… Ну, конечно. Сейчас-то все и начнется.
Брейд-вымпел свой он перенес с «Либавы» на крейсер «Баян».
«Деятельный» с моря оповещал флот, что на Куйваст движутся мощные линейные силы противника. В два кильватера. Крейсера. Эсминцы. Тральщики. Авиаматка с самолетами.
Курс – точный норд. Прямо на Патерностер.
«Товсь!»
Теперь все ясно. Шестой день – день необычный.
На кораблях горнисты выстрадали в хмурое небо призыв:
Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. До-олг… До-о-олг… До-о-олг…На рейде Куйваста корабли сходились и расходились бортами. Дивизионы сбегались и снова разбегались. Казалось, товарищи подходят друг к другу, чтобы на прощание пожать руку:
– В добрый час! За Россию! За революцию!
«Деятельный» ловко прицепился к немецкой эскадре, держась от нее на дистанции вне попадания, и, ощупывая противника зрачками дальномеров, информировал флот о каждом его маневре.
Минная дивизия Старка отходила опять на Кассары, чтобы беречь их как зеницу ока. Именно сегодня! Ибо «линейщики» предоставлены сами себе – эсминцам же стоять на страже Моонзунда, этой последней дороги в Балтику, без которой нет жизни флоту…
Погода прояснела. Воздух над морем посвежел, чистый.
* * *
С германской эскадры отчетливо наблюдали «Деятельный» – он пролетал в серых волнах, сам дымчато-серый, и только однажды солнце, вынырнув из-за туч, ярко вспыхнуло на стеклах его рубок. Дредноуты с презрением не замечали эсминца, как гордые породистые псы стараются не замечать раздутых от ярости кошек.
Такое же презрение немцы испытывали и к русским линкорам «Славе» и «Гражданину», пущенным на воду в канун Цусимы. Имена этих кораблей вызывали у них подобие кривой улыбки, и на мостике «Кронпринца» флагман отзывался о них с иронией:
– Five-minutes ships[28].
По семь дальномеров Цейса на каждом дредноуте включены в общую цепь автоматики, звенья которой сходятся в глубине кораблей. Башни линкоров – под литерами А, В, С и D – в просторечии называются по порядку от носа: Анна, Берта, Цезарь, Дора.
Внутри башен снуют быстроходные лифты подачи. Для пушек уже готовят заряды, обшитые нежно-золотистым шелком, из которого любая женщина Германии не отказалась бы сшить себе вечернее платье. Старшие артиллеристы линкоров заранее опробуют указатели падений снарядов, и в наушниках начинается характерное биение пульса автоматики, от которого вечером будет трещать голова.
Над эскадрою плывут самолеты, несущие бомбогруз до рейда Куйваста. Тральщики уже раскинули свои сети, расчищая дорогу перед дредноутами. Палубные команды потащили многопудовые тяжелины чехлов со стволов Анны, Берты, Цезаря и кормовой Доры… От этого русского «Деятельного» эсминца, который прилип к эскадре как банный лист, теперь не мешало бы отвязаться. Орудия «Кронпринца» выбросили в него три залпа. «Деятельный» предусмотрительно рыскнул в сторону, отбежав подальше, и продолжал работать на ключе: та-ти-ти-та, ти-ти, ти-та-ти, та-ти-ти…
За это время русские корабли на Куйвасте успели исполнить маневр, который назывался так: «развертывание для ожидания».
* * *
На левой стороне мундира – Владимир 4-й степени. Командир «Славы» каперанг Антонов задержался на трапе.
– Лев Михайлыч, – спросил он старшего офицера линкора, – одета ли команда по первому сроку?
Кавторанг фон Галлер натягивал новенькие перчатки:
– Да. Команда «Славы» во всем чистом.
– Как прошел завтрак в низах?
– Спокойно. Даже не торопились. Самовары еще кипят.
– Отлично. Благодарю. Я доволен.
На столах кают-компании – желтые головки швейцарского сыра, едва надрезанные, и хлеб, которого никто не коснулся.
– Господа, – говорит Антонов, – мы принимаем бой. Неравный бой, и к этому неравенству наша старушка «Слава» давно привыкла. Чувствую сердцем, что линкор последний раз будет сражаться под славным Андреевским стягом. Стеньговый красный флаг, возвещающий готовность, очевидно, уже никогда не будет спущен. Можно сопротивляться отдельным личностям, но сопротивляться народу никак нельзя…
Все его поняли – он предрек победу большевизма. Пожилой человек с седым ежиком волос на голове, кавалер «Владимира», закончил обращение к офицерам почти по-домашнему, как отец:
– Молодые люди, прошу вас исполнить свой долг…
Колокола громкого боя уже извергали из люков непрерывную цепочку матросов. В глазах рябило от стремительной смены только двух цветов – серого и черного. Мелькнет над люком черный бушлат, затем серый брезент брюк, опять черное пятно…
Бушлат – штаны, бушлат – штаны! Ветер срывал с голов бескозырки, и каждый матрос держал в зубах ее ленты.
«Слава» набирает ход. В глубинах ее отсеков звучат разумные голоса машин. Ветер заносит на бак линкора лохмотья пены, которые остаются лежать на палубе, словно листья разодранной капусты. Антонов не спеша поднимается на мостик. Трап. Еще трап. Люк. Опять трап. Этим трапам не будет конца… Тяжелая пластина броневой двери пропускает каперанга в боевую рубку, где запевает прелюдию к бою многоголосый хор автоматов и датчиков. Окна еще не закинуты сталью, и пока здесь светло, как в горнице.
Покуривая в кулак, стоит комиссар – Андрей Тупиков.
Антонов медлит лишь мгновение и протягивает руку.
– Надеюсь, мы с вами поладим, – говорит он комиссару. – В бою не место разговорам. Оповестите команду, что я, старый русский офицер, не отказываюсь от контакта с большевиками.
Тупиков крепко жмет бледную руку каперанга, перевитую голубыми венами напряжения и устали бессонных ночей.
– Добро, – говорит он. – Команда вам верит…
Под глазом каперанга нервно бьется жилка. Красные стеньговые флаги, которым суждено перевоплотиться в знамена революции, клокочут над мачтами «Славы».
Антонов повернулся к боевой вахте:
– Задраиться!
Глухо бахнули броневые щиты, разом отданные с креплений, и боевая рубка погрузилась в ровный зеленоватый, как глубина, полумрак, день стал просачиваться внутрь через узкие прорези.
– Что ж, начнем работать, – сказал Антонов.
Он пошел к телеграфу походкой признанного маэстро, который спешит коснуться клавишей рояля.
* * *
Перевес ужасающий. Каждый немецкий линкор несет сейчас на Куйваст по десять двенадцатидюймовок. Русские – по четыре. «Баян» уже заворачивал к осту, пробегая мимо своих кораблей, и адмирал Бахирев поделился своими мыслями в открытую:
– У южного входа в Моонзунд наши минные банки. Перед ними и примем бой, чтобы лишить противника маневренности. Конечно, немцы могут обойти банки к осту и вылезут на чистую воду… Что скажешь, Сережа? – спросил он каперанга Тимирева.
Командир «Баяна» косо глянул на своего комиссара:
– Какой бы ни был у нас с немцами мордобой, но все закончится ха-арошим купанием! Германские линкоры – великолепны, их артиллерия садит на целых три мили дальше нашей…
Конечно же, последнее сказано не столько для адмирала, сколько для комиссара – для большевиков: пусть и они подрожат! Комиссар молча положил локти на край смотровой амбразуры. Резкий ветер сек его по лицу, двумя струйками выжимались слезы.
– Вот они… детишки! – произнес он, разглядев множество дымов, которые разом закоптили небо к зюйду от Куйваста; это легион германских тральщиков, под прикрытием эсминцев, уже начал лихорадочно резать ножницами тралов крепкие стебли минрепов, на которых тревожно дремали русские мины. – Когда наш огород пропашут, – сказал комиссар в добавление, – пойдут забор ломать и эти болваны… типа «Кёниг», что ли? Я не знаю…
Бахирев приказал сигнальной вахте:
– Передать всем. Держаться ближе к адмиралу. Точка.
Адмирал – это он, Михаил Коронатович Бахирев…
Но рядом с ним, официальным стратегом этой битвы, призраком вырастала тень «невидимого адмирала» – той нервной силы, которая от Центробалта и Смольного уже вращала штурвалы линкоров, встающих грудью перед врагом в воротах Моонзунда… Сама история партии писалась сейчас в наклонении кораблей к цели, в бурном разбеге кильватерных струй, над которыми с причитаниями носились чайки. Партия Ленина давала свой первый бой на море!
На мостиках флагмана люди еще не знали того, что адмирал Свешников, удравший из Аренсбурга в Гапсаль, оставил немцам секретные планы минных постановок в Рижском заливе, – и немцы тралили сейчас наверняка, ибо тайные очертания минных полей были им хорошо известны. Но в любом случае надо помешать тралению противника…
«Баян» лежал в крутом развороте, словно отбегая подальше от своих линкоров, и это правильно: не надо мешать «Славе» и «Гражданину» – здесь узко, вешка на вешке, мель за мелью. Крейсер первым вышел южнее, и первый залп с «байернов» заплеснул его высоким каскадом пены…
– Холодная ванна кстати, – буркнул Тимирев, поежившись.
– Сегодня играем честно, – ответил Бахирев.
– Сначала тральщики, – дополнил комиссар.
– Да. По тральщикам…
* * *
Каждая открытая дверь – враг. Каждая горловина, которую забыли задраить, станет твоим предателем. По отсекам линкоров стоял грохот: броня закрывала людей, словно запечатывая их от смерти. Не осталось даже щелей – резина, под давлением задраечных дог-болтов, плотно сжималась в пазах, чтобы внутрь не просочились вода и газы. На «Славе» и «Гражданине» тысячи людей дышат сейчас через ревущие сопла вентиляций. Они живы, они бодры, их голоса звенят – как тромбоны! – через гулкую медь переговорных труб, через хаотические сплетения телефонов, связующих посты воедино, словно в пуповине, – в боевой рубке.
Пусть рядом вода затопит отсек и в отчаянных муках захлебнутся твои товарищи, – мы, соседний отсек, пока живы, продолжаем бороться. Пусть рядом с нами огонь пожирает людей, заодно с пенькой и краской, пусть докрасна прогреется переборка, – мы, соседний отсек, хватая губами раскаленное олово воздуха, еще живы и боремся… Так (единый в целом) корабль разделен на составные части, и каждая его часть способна существовать сама по себе.
Горны уже замолкли. Рвало ветром над палубами, и – еще недавно столь оживленные – палубы теперь поражали своим кажущимся безлюдием. Никого лишнего наверху. Все вниз – все под броню! По местам стоять – к бою… Лейтенант Карпенко пронырнул в дверную щель носовой башни. Словно родимый дом, встретила она командира в спокойной деловитости чистоты и тишины. Все уже давно заняли места, дело только за ним, и лейтенант по узенькому трапику взобрался под броневую «грушу» купола – к прицелам.
– Готово? – спросил сверху у башни.
Старшина сковырнул «фураньку» со лба на затылок:
– Есть готовность. Порядок…
Да, полный порядок. И башенный старшина, плюнув себе на пальцы, отчеканил «стрелку» на своих клешах. Из глубокого колодца подбашенного отделения, которое шахтой спускается до самого дна, привычно тянет запахами порохов и чистых манильских матов. Из боевой рубки – первый сигнал. Повинуясь воле этих людей, многотонная лавина стали, бронзы, кожи, резины и оптики поехала вправо, перекатываясь на ядроподобных подшипниках башенного барбета. Перед унтер-офицерами забегали стрелки, указывая прицелы и целики. Глухо провыли внизу моторы, и вот уже на башню поданы два первых снаряда – длинные фугасы с острыми рыльцами, почти в рост человека. Они, словно нехотя, покинули свое уютное лежбище на мягких матрасах погребов, прошли насквозь через три этажа палуб и напоминали багаж, приготовленный к отправке…
– Заряжай!
Два орудия башни распахнули свои ненасытные пасти.
– Клади!
С отчетливым стуком, словно проставляя печати, фугасы стали на места, доведенные до упора механизмом прибойника. Но, попав в пушку, снаряд беспомощен, как дитя малое. Ему нужен заряд, который выколотит его из пушки, как бы он ни упирался.
– Заряды… подавай! – сказал Карпенко.
Иногда в уклонении прицела лейтенант видит перед собой полубак линкора, зарывающийся в воду, наблюдает, как в путанице дымов на горизонте растут точки вражеских кораблей. Постепенно они превращаются в восклицательные знаки – это открылись для глаза их мачты, поднятые над точками-корпусами («шашлыки»!).
– Заряды поданы, – следует доклад старшины.
– Клади!
Тяжелые картузы, похожие на мешки с крупой, прошпигованные фабричными марками, подперли фугасы под их толстые румяные задки и ждут своего мига, чтобы сгореть по приказу человека.
– Закрой!
Громадные затворы орудий, похожие на сложные станки, сверкая сталью и бронзой, мягко постукивая сочленениями деталей, бережно затворили пушки. Они проделали это так, словно заперли в банковском сейфе фамильные драгоценности. Владелец их известен – это мать Россия! Тысячи и тысячи народных рублей чистым золотом (от лаптей, от сохи, от выпивки, от налогов) лежали сейчас в казенниках носовой башни «Славы», идущей на врага.
Гриша Карпенко довольно сообщил в телефон:
– Носовая башня к открытию огня готова.
Теперь выжди ревуна, и тогда «Слава» начнет работать, оправдывая перед народом вагоны мяса, хлеба, масла, сахара, полотна, бязи и трикотажа, – все то, что она съела и сносила за эти годы. Наступал момент, ради которого учились, служили и получали чины и деньги вот эти люди, запертые в броневой коробке…
Раздался грохот снаружи, и он вязко, заполняя все щели, вонзился в пространство башни, достигая самого днища линкора. Лейтенант Карпенко откачнулся в пружинном кресле, он сказал прислуге:
– Это не мы. Это заторопились на «Гражданине»… У них дистанция боя всего восемьдесят восемь кабельтовых, а мы достанем врага со ста шестнадцати. Идем вперед, товарищи!
Старшина с затылка перекинул фуражку на потный лоб:
– А на сколько же бьют линкоры, немецкие?
– Они достанут нас даже со ста тридцати… увы!
– Все ясно, лейт: идем в пекло.
– Но сначала тральщики, – напомнил лейтенант. И ревун промычал. Как всегда, неожиданно. Залп!
* * *
Залп – и над штурманским столом вдребезги разлетелся колпак лампы-бра; мелкие зеленые осколки засыпали кальку боя, по которой дергало самописец одографа. В спиралях амортизаторов долго еще трясло на затухающей вибрации приборы. Антоновым можно было любоваться: старик сразу помолодел, держался, как спартанский юноша. Живчик под его глазом прекратил нервное биение.
– Недолет, – прищурился в прорези комиссар.
– Ясно вижу. Артиллерист, работай, душа моя…
Опять мощное содрогание корпуса.
– Накрытие, – пропели с дальномеров протяжно.
Антонов полез в карман мундира за портсигаром. Жестом джентльмена раскрыл его и протянул комиссару:
– Прошу. Египетские. Таких теперь нету…
Выпуская черные облака дыма, будто над морем загорелась целая деревня, германские тральщики, обрубив тралы, спешно отходили на зюйд. Дымзавеса над ними была плотной, но ветер уже поднимал ее над морем, как поднимают над сценой занавес после краткого антракта… Антонов внимательно приник к смотровой щели.
– Бродяги ошиблись адресом, – сказал он. – Влезли к нам не с той стороны, с какой надо. Чистой воды немцы здесь не сыщут и наверняка постараются зайти со стороны эстляндского берега. Пошлите кого-либо помоложе и поглазастей на фор-марс, – приказал каперанг на вахту. – Пусть он следит за общей картиной и особливо за горизонтом на остовых румбах. Ясно?
Городничий хлопнул Витьку Скрипова по плечу:
– Ты всех моложе, сынок. Валяй…
Вершина фок-мачты линкора качалась в бездонности неба. Прижимаясь к холодному ее телу, юнга лез по скобам трапа наверх. Лишь единожды глянул вниз, и перехватило дух: «К бесу… сковырнусь!» Вот и он, спасительный кружок марса, обведенный для защиты от ветра поясом брезента. Огляделся и загордился… Ну, что там, на Обводном канале? Разве жизнь? Что они видят там, а вот он видит дальше всех. На серой пелене моря проступили утюги германских дредноутов. В багровом дыму ползали, как жуки в парном навозе, перепуганные тральщики. Крейсера «Кольберг» и «Страсбург» перемигивались прожекторами. А внизу под юнгой широко разлеглась на воде «Слава», и Витька Скрипов сказал в телефон:
– Ясно вижу: красота!
– Не болтай, – приняли на мостике. – Смотри в дело.
– Дело такое: на остовых румбах чисто…
Только с высоты он заметил то, что графически подразумевалось по картам. Пространство заполняли желтые проплешины отмелей, отчего становилось страшно за корабли, которые ловко перекатывались через узости фарватеров, не боясь, что днища их влезут на отмели… Невыносимая теснота рейда, которая душила линкоры, была известна и Бахиреву; в 10.30 адмирал отсемафорил с «Баяна» приказ на линкоры, чтобы удерживались на месте, ведя огонь по диспозиции. В это время Витька Скрипов доложил:
– Пять всплесков… кладут под корму «Баяну»!
И еще пять выросли под бортом «Славы». Можно было только ужаснуться их неправдоподобной высоте. Снаряды вздыбнули воду до мачт, на уровне своих глаз юнга увидел их шапки и даже понюхал, как пахнут эти дымные кольца, иногда черные, иногда оранжевые.
– Страшно, сынок? – спросил его Городничий снизу.
– Кому? Нам? Не. Нам не страшно…
Это правда: все, что он наблюдал сейчас, казалось ему забавой, удивительным спектаклем, поставленным для его удовольствия.
– Тут как в театре! – прокричал он в телефон.
Витька соврал: он еще ни разу в жизни не был в театре.
* * *
После залпа шипение компрессоров заполняло всю башню. Сжатый до предела воздух плавно возвращал орудия в пазы станин. Замковые комендоры привычно, стоя боком, как боксеры в драке, отдернули замки пушек, словно открыли жаркие печки, и башню прогрело изнутри теплом сгоревших нитратов и хлопка. Карпенко здесь был самым молодым. В башне работают «старики», еще помнящие Эссена молодым и веселым матерщинником. Закатали матросы рукава. Им не привыкать. Кто служит пять, кто восемь, а старшина табанит уже двенадцатый… Он, как и все в башне, тоже не видит божьего света из угрюмости брони. Один раз, нагнувшись, даже заглянул в дуло пушки. Мир, за который он сражался, был удивительно круглым. И точно выдержан в калибре 12 дюймов. Старшина дослужился до почетных шевронов – от царя. И до понимания неизбежности социальной революции – от Ленина. Сейчас ему плевать на все, даже на свою Маньку, которая ходит от него с пузом, – лишь бы два ствола носовой башни стреляли…
На табло приборов началась перебежка стрелок – опять смена прицела, и Карпенко, нагнувшись, сообщил на башню:
– Миноносцы. Большие. От Патерностера. Фронтально…
Рассекая стволами мутное пространство плеса, башня «Славы» развернулась на германские миноносцы. Все готово. Ревун.
– Отскочи!
Пушки отшибло на залпе, опять прошипели компрессоры.
– Товарищи, есть, – сообщил из-под колпака Карпенко.
– Ура! – ответила башня, не прерывая работы…
Как испуганные мальки разбегаются в разные стороны, когда на них упадет тень человека, так же рассыпались сейчас германские эсминцы – кто куда, спешно удирая. А один из них рвало, рвало, рвало… Из корпуса выбивало пламя. Пузырем вспучивало его палубу. Раскидывало людей на взрывах. Черные шары над его мачтами крутились на обрывках фалов… Первая победа есть!
И вдруг:
– Лейт! Замок на правой отказал…
Сверху из-под командирского колпака летит офицерский китель. Карпенко вспотел, ему жарко, он остался в одной сорочке.
– Ты соображаешь, что говоришь? – кричит он старшине.
* * *
Дальномерщики с «Кронпринца» отчетливо наблюдали стрельбу русских линкоров, которые разворачивались вдали тяжело и медленно, словно допотопные животные на болотах доисторических времен. В двадцатитрехкратном увеличении «цейсов» немцы видели, как из носовой башни «Славы» вырывались снаряды. Появясь над дулами орудий, они потом как бы вытягивались в полете, словно их путь проводили по небу рейсфедером.
В посту ПУАО, как маститый профессор, которого окружают многочисленные аспиранты, восседал на троне центральной наводки старший артиллерист. Телефонная корона венчала его лысую голову. Возле него – опытный унтер-офицер, как статс-секретарь, стенографировал каждый возглас офицера. Помимо живых человеческих глаз, отражающих каждую фазу боя, бездушные автоматы точно регистрировали любое обстоятельство, методично исправляя ошибки людей – срывы их нервов, просчеты их глазомера…
– Носовая башня «Славы» повреждена, – поступил доклад…
Но приборы «слежения» за противником не отметили попаданий, и старший артиллерист «Кронпринца» хмыкнул в телефон:
– Фиксации не было. Это определение визуально…
Однако это так. Против двадцати орудий германской эскадры русские остались с тремя. Но не прошло и минуты, как носовая башня «Славы» вообще замолчала. Офицер сунулся носом в микрофон:
– Капитан-цур-зее, у меня приятная новость – у русских что-то стряслось с первой башней. Позволяю команде крикнуть «ура»…
И это «ура» секретарь тоже отметил в своем блокноте.
* * *
Машины часто работали на переменных реверсах, «Славу» трясло, и страшную нагрузку испытывали сейчас крепления бортовых швов. Прицелы уже не были чистыми: оптику загрязнило обилием пороховых газов и выбросом из корабельных труб. Рискуя жизнью, старшина вылезал из башни, протирал линзы спиртом. Носовая башня била в противника только одной левой пушкой…
Ревун прозвучал, но выстрела не последовало.
– Лейт! Замок на левой тоже отказал…
Карпенко спрыгнул вниз. Старшина орал ему в ухо:
– Хана! Шестеренка подачи скапустилась. Рамы замков передернуло, замки не двигаются на осях шестерней.
– Попробуй закрыть пушки силой…
По пять человек наваливались грудью на замки, как на буксующий автомобиль, ноги людей срывались по рифленому настилу брони, искаженные в натуге лица матросов заливал серый пот.
– А хоть ты тресни, не закрыть – и все!
С кормы линкора регулярно, как метроном, стучала кормовая башня. Носовая молчала… Выбивали шестерни из механизма замков. Под градом осколков тащили их в слесарную. Там, в грохоте боя, корабельные мастера пытались выправить оси. Но брак завода мог исправить только завод. Из погребов у башни спрашивали:
– Эй, никак вы там ревете? Или убило кого?
– Хуже, – отвечали комендоры погребным.
Германская эскадра (и без того мощная) сразу обрела новую мощь. Русская эскадра (и без того слабая) еще больше ослабела.
А кто виноват? Рабочий схалтурил. Вот он и виноват.
Одна шестеренка. Одна лишь поганая шестеренка.
И цена-то ей – копейка. Но башня молчала.
– Будь ты проклят, халтурщик! Много ты заработал?
Ну, рубля три он себе сварганил. Башня плакала.
…Эта шестеренка теперь перетирала на своих изломанных зубцах судьбу линкора «Слава» и трепетные жизни 1500 человек.
* * *
С высоты фор-марса восторженно сообщал юнга Скрипов:
– Бегут! Чтоб мне отсюда сверзиться, если вру…
На одном германском дредноуте возник пожар – это видели все и не могли только понять – чья заслуга? «Славы» или «Гражданина»?
– Не выдержали немцы, – засмеялся комиссар Тупиков.
– Не выдержали этой позиции, – ответил ему Антонов, более близкий к истине.
Бежали обратно на зюйд крейсера, поторапливались эсминцы. Последние залпы германские дредноуты расходовали по батареям острова Моон.
– Все-таки победа, – сказал комиссар.
– Победа на время нашего обеда, – серьезно ответил Антонов. – Нам мешали отмели и рифы, а немцам – минные поля. Они отошли не ради тушения пожара: сейчас станут искать чистую воду…
Над мачтами «Баяна» расцвели комочки флагов:
КОМАНДА ИМЕЕТ ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ.
– Видите? – сказал Антонов. – Как раз кстати…
Городничему позвонил с марса Витька Скрипов:
– Жертвую свою пайку в пользу прожорливых. Вниз не полезу. Страшно спускаться, да и есть не хочется. А здесь хорошо…
Первая фаза боя закончилась. Команды ели наспех, торопливо глотали из мисок борщ, делились впечатлениями, смеялись.
– А немец-то погано стрелял – мы лучше их!
Пока русские обедали, противник запустил впереди себя «искатели»: выбрасывая в море тралы, немцы искали мины. Обнаружив чистую воду, германские корабли тронулись в обход минных банок, чтобы нанести удар со стороны Эстляндского побережья.
Теперь, получив свободу маневрирования, немцы стреляли хорошо. Даже очень хорошо!
* * *
«Слава» в нетерпении боя расклепала цепи и навеки погребла свои якоря на грунте. Машины линкора стойко держали его корпус между отмелей и течений. Каперанг Антонов передвигался по рубке шажками мелкими, словно обутый в спадающие шлепанцы. Его ладони любовно обласкивали матовый никель рукоятей боевого телеграфа.
Комиссар Тупиков ясно видел, как выпирало навстречу эскадру противника, над дредноутами вскидывало плотные шапки дыма.
– Ну, отец – так и сказал: «отец», – выкручивайся!
Железные стенания брони наполняли корабль. «Неужели опять Цусима?» Но сознание беспомощности перед мощью противника не терзало людей, – даже в гибели ощутим острый привкус победы. Антонов правой рукой толкнул рукоять телеграфа вперед. Левой рукой рванул рукоять на себя. Машины линкора стали работать на «раздрай». Заворочались гигантские шатуны, толкая винты в разные стороны, отчего «Слава» развернулась на «пятке».
– Лучшего мне ничего не придумать, – сказал Антонов…
«Слава» пошла на врага кормой вперед!
Кормовая башня стала теперь носовой, а молчавшая носовая переместилась в корму. Карпенко позвонил лейтенанту Иванову:
– Ваденька, желаю хорошо отстреляться. А мы сидим, как на чемоданах. Ждем вот: может, где-либо еще понадобимся…
Приказ на башню Карпенко последовал от комиссара:
– Лейтенант, на казематы в шесть дюймов еще в начале боя подали ныряющие снаряды. Ну их к бесу! Побросайте-ка за борт.
– Да, да, голубчик, – добавил в телефон Антонов. – У этих снарядов слишком капризные взрыватели. Чихнешь не так – и лаптей не останется. Подите и выбросьте, чтобы не рисковать…
Карпенко покинул башню, велев прислуге и погребным оставаться на местах. В казематах шестидюймовых батарей раскатывались по матам чушки ныряющих. Матросы выбрасывали их через портики в море, причем некоторые снаряды, дойдя до грунта, давали взрывы за кормою линкора. Было видно, как над дредноутами противника уже развесилась пепельная гирлянда первого залпа.
– Выбросили? – спросил комиссар через трубу с мостика.
– Да, – выдохнул в амбушюр Карпенко. Теперь к амбушюру прилегло ухо лейтенанта.
– Тогда оставайтесь пока там, – донесло дыхание мостика.
Губы – в амбушюр:
– Есть!
На «Гражданине», страдая от собственной неполноценности, кажется, решили превозмочь сами себя: линкор стремится к сближению с противником, чтобы хоть разок дотянуться до него слабой своей артиллерией. По германским тральщикам и эсминцам с лихостью лупит, склоняясь к воде, флагманский «Баян». За крейсером, дерзновенны и рысисты, стреляют два миноносца – «Донской казак» и «Туркменец Ставропольский». Немцы прикрыли себя дымом. А когда дым-завеса развеялась, с птичьей высоты марса юнга Скрипов не обнаружил одного эсминца и одного тральщика противника.
– Вот только что были, – докладывал в телефон на мостик, – а теперь нету. И куда делись – не знаю.
– Загляни под воду. Наверное, там, – ответили ему…
Полдень закончился. Стрелки корабельных часов шагнули во вторую половину дня – необратимо.
Наступил критический момент боя.
* * *
В классическом боксировании запрещено бить ниже пояса.
Бить корабли ниже ватерлинии – даже поощряется.
Там, где вода обтекает борта, уже кончается броневой пояс, которым, словно кушаком, затянут линкор от попаданий. Пока снаряды крушат трубы и надстройки – это можно вытерпеть, как удары в плечо или в челюсть. Не дай бог, если взрывчатый кулак врага, нырнув под воду, пронзит острой болью тело корабля, почти обнаженное (только стальное, но не бронированное).
Там, за стальной обшивкой, укрыты внутренности и сердце корабля…
Кстати, там же и церковная палуба. В обрамлении строгих ликов сияют золотом и серебром старомодные киоты. Качается линкор, и вместе с кораблем качаются в подвесках свечи и лампады перед святыми угодниками. Сюда, в эту благодать, с первыми же залпами стали заталкивать с палубы салажню последнего набора. При Керенском так было: народ на корабли присылали, но учить ничему не учили… Это они, сытно пожрав и мечтая об ужине, теперь хватали из сеток койки, начали подло воровать с постов чужие пояса. С той же рабской плотоядностью, с какой молодняк набивал себе брюхо казенной кашей, теперь он обвешивал себя пробкой и пузырями. С тихой деревенской речки попасть в прорву Моонзунда – это, конечно, переход слишком резкий… Но паникеров не нужно!
Паника страшна в окопах, но еще страшнее она на кораблях, где нет винта, который бы крутился впустую. Если ты ничего не делаешь – тебя за борт! Если ты мешаешь делать другим – ты стал опасным врагом… Старший офицер кавторанг фон Галлер решил свалить всех новобранцев в церковную палубу.
– В люк! – покрикивал он. – Быстро пошел, корова…
В сусальном мерцании киотов сырая и серая деревенщина в матросских робах опустилась на колени. Линкор на залпах сильно качало, и людей тоже качало – в ритме лампадных подвесок. Сверху церковь задраили. Все было строго по уставу: нет люков, которые в бою были бы открыты… «Господи, спаси люди твоя!»
* * *
С верха фор-марса даже накрытия, рвущие воду под бортом линкора, кажутся сущей ерундой, как на интересной картинке. А когда человеку семнадцать лет, то смерть не воспринимается им, как конец всего. Юнги флота всегда бессмертны… Острота чувств опережает развитие сознания. Может, так-то и лучше!
Городничий, оставаясь во время боя на мостике, как старшина сигнальной вахты, не оставлял Витьку своим вниманием.
– Ну, как ты там? – часто слышалось в наушниках.
– Лучше и не бывало.
– Чему радуешься, сосунок? У нас Мокрюкову уже скальп с башки сняло как бритвой. Пестову биноклем глаз выбило… Понял, что не шутки шутят? Смотри внимательней. Здорово нажимают?
– Ой, здорово. Красота!
– Ты кого имеешь в виду?
– Да нас. Наши линейные.
– Дурак. Я тебя про немаков спрашиваю…
Он многое видел с высоты марса, но многое не понимал. И ему стало не по себе только сейчас, когда он увидел суету на решетках мостика, заплеснутых близкими накрытиями. Снизу, от боевых рубок, до юнги долетело одно пугающее слово:
– …вилка!..
Было 12.25, когда «Слава» на полном разгоне машин вздрогнула, получив сразу три удара подряд, и громадный завод боевой техники, извергая в небо массы дыма с искрами, начал стремительную раскачку с борта на борт, словно попал в крепкую штормягу.
И никто теперь не качался так сильно, как юнга Скрипов на марсе фок-мачты. Обняв ее закопченное тело, он рушился куда-то вниз, и тогда море дышало ему в лицо холодом. Потом возносило к самому господу богу, и тогда облака, казалось, облипали его.
Марс ходил по дуге качки, словно маятник…
– Три попадания, – доложил Галлер. – Динамо разбиты. Две подводные пробоины. О потерях доложу позже. Вода прибывает!
…Все три удара пришлись ниже пояса.
* * *
Электрики носовых динамо полегли замертво, когда снаряд вломился в отсек, напоенный пчелиным гудением моторов, словно летняя трудолюбивая пасека… Блеск ярче солнца! А затем – ночь.
– Газы… ой, братцы, не могу…
Каждый глоток воздуха – кинжал, вонзенный в легкие человека (если он остался, конечно, жив после взрыва). Человек спешит вдохнуть вторично – и тут же падает в корчах. Могильный мрак динамо-отсека вдруг прояснило пожаром. Из хаоса рваных кабелей, дымно горящих, из жуткого плена переборок, на которых с быстротою бензина полыхала краска, выпятив руки, подобно слепцам, электрики на ощупь покидали отсек. А за ними (и обгоняя их!) наступала вода. Зашипели горячие роторы динамо, остуженные морем.
Носовая часть «Славы» погрузилась в темноту. В этом железном мраке вода – лучше людей! – находила себе дорогу. Через рваные пробоины в металле, сбегая по трапам, она стремительно завоевывала для себя кубатуру линкора, стремглав домчалась до батарейной палубы и только тут напоролась на мужество комендоров. Карпенко уже видел воду под собой – море, осклизло колышась, угрожало ему грязной накипью. Лейтенант перехватил на трапе электрика, крикнул: «Все?» – и крышка люка упала на провал «экстренного лаза», закрывая дорогу воде.
– Подпору ставь! Бей… Мушкель бери… Бей, бей, бей!
После труда матросы рвали с тел мокрые тельняшки. Выкручивали их, и жгуты белья трещали от бешенства. В неровном свете аварийных фонарей спотыкались о разбросанный по отсеку инструмент.
– Еще б секунд – и понесло бы всех нас из каземата! Куда башка, а куда пятки… Лежали бы сейчас, воды наглотавшись…
Карпенко захотел переговорить с погребами своей башни. Как-то они там? Наверное, сидят на снарядах и волнуются. Но едва лейтенант вырвал заглушку из амбушюра трубы, как сильной струей, словно из шланга, в лицо его ударила забортная вода. Все стало ясно: погреба носовой башни уже затопило море, и 37 человек уже плавают, кувыркаясь в отсеке, как в аквариуме, двигаясь вместе с кораблем в сражение.
Карпенко забил трубу заглушкой и заплакал. Его даже не спрашивали ни о чем. Люди опытные – сами догадались. Во тьме каземата блуждал яркий огонек цигарки, передаваемой по кругу. Горячий кончик ее коснулся и губ рыдающего лейтенанта:
– Курни, лейт! «Слава» нарезает вперед, а это главное…
Вода остановлена. Люки задраены. Подпоры стоят нерушимо, как триумфальные колонны. Законы морской битвы всегда жестоки: ради спасения корабля и спасения всех можно пожертвовать частью команды…
Удар ниже пояса на флоте – это удар по правилам!
* * *
За несколько минут «Слава» приняла в себя 1130 тонн забортной воды. Переборки пока отлично выдерживали натиск моря, лишь в сальниках, через которые пропущены электрокабели, появилась соленая «слеза» фильтрации, бившая кое-где струями.
– «Гражданин» горит, – доложили с вахты.
Антонов с комиссаром приникли глазами к щелям: в полосках света перед ними качался рейдовый плес, а дальше виделся «Гражданин», которого настигли два жестоких попадания. Густой черный дым валил от офицерских кают линкора, в этом дыму сновали крохотные фигурки людей. Что там – спрашивать было некогда.
– В каждой избушке свои игрушки, – сказал Антонов…
«Слава», будто в изнеможении, прилегала на левый борт. Кормовая башня лейтенанта Вадима Иванова, воздев над морем плещущие пламенем жерла, работала как заведенная, и эта четкая пальба вселяла в команду уверенность. Только бы она не замолкла…
– Выход один: затопим коридоры правого борта, – распорядился Антонов. – Иначе с таким креном нам боя не выдержать.
Через раскрытые кингстоны море радостно пробежало вдоль бортовых коридоров, а дальше его не пустила сталь переборок. Принятая линкором вода приподняла его левый борт, крен уменьшился до четырех градусов. Антонов позвонил в кормовую башню:
– Вадим Иванович, – похвалил он лейтенанта Иванова, – вы, душа моя, и дальше так же работайте… Я молюсь за вас!
Глазами (без слов) велась потаенная беседа.
«Сколько мы приняли воды?» – спрашивал комиссар.
«Очень много», – прочел он испуг в глазах каперанга.
«Как же мы протащимся через канал Моонзунда?»
«Не спрашивайте об этом», – отворачивался Антонов.
Фон Галлер внес ясность в этот трагический вопрос.
– «Слава» села! – доложил он. – Насосы холостят, мощности динамо не хватает… Мы погружаемся и будем погружаться дальше.
– Сколько сели форштевнем? – раздраженно спросил Антонов.
– Тридцать два фута, – отвечал Галлер.
– Как сели на ахтерштевень? – спросил комиссар.
– Кормушкой на тридцать…
А канал Моонзунда имел глубину всего в 26,5 фута. Кормою вперед, захлебываясь водою, «Слава» шла на врага своей единственной башней. Отныне терять уже нечего: ей быть погребенной здесь! Она сражается над собственной могилой…
* * *
На повороте линкора ветер откинул дым из его труб на другой борт, и Витька Скрипов оказался в непроницаемом облаке, забитом мелкими искрами, его сжигало и удушало на марсе. Обводка брезента стала черной, в груди юнги клокотало от боли, он с силой вцепился в обводной поручень марса.
Линкор под ним дрожал в непомерном напряжении машин, его конвульсивно дергало на залпах, и было страшно расцепить пальцы, сведенные на спасительном поручне. Минутами казалось, что мачта «Славы» уже давно оторвалась от корабля и сейчас пролетает высоко в небе, отделенная от палубы линкора…
Поручень вдруг вырвался из рук юнги.
Куда?
Дым отнесло в сторону – «Слава» закончила поворот.
Поручень, как и раньше, был целехонек.
Но у юнги не было кисти руки.
Вместо нее – красная мочалка сухожилий, раздробленное месиво пальцев. Он смотрел, как хлещет из руки кровь, разносимая ветром в мелкие брызги, словно красный одеколон из пульверизатора, и в этот момент у юноши было только одно чувство: непонимание того, что с ним произошло…
Грохочущим цехом в разгаре рабочего дня прокатывался под юнгой раскаленный в битве линкор, а флаги «Славы» (андреевский и стеньговые) бились вровень с ним, на страшной высоте мачт.
Вторая рука была цела. Он взялся ею за телефон.
– «Гражданин» забил пламя, – доложил на мостик тихо и сосредоточенно. – У них пожара нет. Идут дальше. Как и мы…
– Спускайся вниз, – приказал ему старшина.
«Слава» уже не могла пройти через канал Моонзунда.
Витька Скрипов уже не мог спуститься с фор-марса.
Скоб-трап был рассчитан на матросов с двумя руками.
У него осталась только одна…
В померкшем сознании ему увиделась зеленая травка на Обводном канале, а за возами с сеном – через Моонзунд! – бежала его безумная матка и цапала, цапала, цапала… дым, дым, дым!
* * *
Яркий сгусток огня вырвало из башни головного дредноута «Кёниг», команда дружно прокричала «ура», приветствуя прислугу плутонга лейтенанта Иванова… Победа! Она, блаженная!
Но в этот момент «Славу» дважды встряхнуло.
Еще два попадания. Кажется, от «Кронпринца»…
После каждого взрыва «Слава» наполнялась резким свистящим шумом, который пневматически передавался по всему кораблю через переговорные трубы, еще не залитые водой. Из амбушюров струились ярко-желтые газы – почти лимонного цвета. Боевая рубка с командиром и комиссаром при попаданиях в линкор как-то странно подпрыгивала, потом, мелко дрожа, опять садилась на свой барбет.
Страшно, когда сияющий блеском меди, ухоженный и начищенный, внутренний мир корабля в доли секунды превращается в свалку гнутого, зияющего дырами металлолома. Первое ощущение человека, если он остался жив, таково: «Где я?..» Все сметено и разбросано. Брандспойт, сорванный с переборки, колом вонзился в спину комендора. Умирающие люди катаются по настилам вперемежку со снарядами и унитарными гильзами. Металл иссечен осколками, а из трещин в переборках сочится то вода, то газы, то пламя…
Но кто-то (самый сильный, самый находчивый) затянул:
Мы с пристани верной на битву уйдем навстречу грядущей нам смерти, за родину в море открытом умрем, где ждут нас враждебные черти…Это была песнь о «Варяге» – и люди опомнились. Хотя вначале ориентировка из-за смещения предметов была потеряна. Из узких труб, в которые обычно сбрасывали отстрелянные гильзы, теперь червяками выдавливались снизу обожженные в погребах люди. Матросы уже тащили шланги и брезентовые рукава виндзейлей; передвижки вентиляторов, всхлипывая, стали сосать из отсеков взрывные газы… Карпенко с трудом поднялся на ноги. Мимо него – в оранжевом дыму – два санитара проволокли что-то ослепительно белое, густо испачканное красной краской. Не сразу догадался, что тащат врача линкора – Лепина.
– Док! Никак вы? Убило?
– Тащим в корму… – отвечали матросы. – Носовой лазарет уже раздраконило.
А доктор при этом повторял:
– Ничего, ничего, все хорошо… – И ноги его, как стебли, бились об ступени трапов.
Через сорванный люк Карпенко заглянул в центропост. Люди там были разбросаны и перемешаны с ящиками приборов наводки – так, будто их разом высыпали из одного вагона под насыпь. Раздавленные гальванеры выли от газов, едкие струи которых обвивали их, словно ядовитые гадюки. Израненные, они не могли подняться…
– Дай сюда конец виндзейля! – приказал Гриша Карпенко.
Он сам закинул в отсек парусиновый хобот вентиляции, смотрел сверху вниз, наблюдая, как все гадючьи ленты газов медленно заползают внутрь трубы. В этом хаосе борьбы за жизнь корабля послышался знакомый голос фон Галлера, резкий – словно свист пара из боевой сирены. Срывая с себя горящий китель, он звал:
– Кто может… ко мне! Опять пожар… сюда, сюда!
Через пробоины, через ослабленные швы корпуса, через фильтрацию заклепок «Слава» медленно насыщалась водой. Корпус линкора наполняли слезы ее, тихие струи ее, грохочущие водопады ее!
* * *
Вода… Черт ее знает, откуда она вообще берется?
В носовых кочегарках вроде бы нет и пробоины. Газы есть, но вахта котельных машинистов не покинула постов: отравленные, они работают. Вода, вода, вода… Она собирается на рифленых площадках в мелкие капли, словно пот на теле усталого человека. Безобидная роса на травчатых узорах металла вдруг разом сливается в веселые ручьи, плещущие под ногами. Откуда она взялась?
Еще хуже в кормовых кочегарках. Бурный поток уже мечется среди раскаленных топок. Полуголые кочегары прыгают в грязной воде по колено. Наконец вода качается на уровне их поясов, поверх ее плавает пузырчатая пемза отработанных шлаков. Вода подкатывает к топкам, пламя шипит, не желая сдаваться; под колосниками мертвеют огни. Котлы вскоре становятся взрывоопасны – пора сбрасывать давление…
Цепочкой (голова одного к ногам другого) по узкой шахте карабкаются по трапам кочегары. С них течет вода, пропитанная маслами. Одурев от газов, они блюют в провал шахты, и блевотина товарищей, падая по шахте на нижних, здесь никого не оскорбляет.
Это – война, это – работа, это – жизнь…
Кочегары еще не знают, что шесть лишних футов осадки уже не пропустят линкор в Моонзунд, и трап, по которому они ползут сейчас наверх, – это последний их трап на «Славе».
* * *
Время: 12.39 – еще два попадания в «Славу».
Один снаряд угодил в настил брони, кончиком своего рыла раздвинул мощные путиловские плиты, воткнулся между ними, как нож, поднатужась, прорвался внутрь и… лопнул, разламывая переборку угольного бункера. Этому снаряду не повезло: завалы угля погасили ярость его взрыва (он не исполнил своей роли).
Второй снаряд, сокрушив борт, как и первый, вломился как раз в церковную палубу, обретя простор для разрушения. По дороге ему попалась толпа коленопреклоненных людей, и снаряд прошелся над ними, как секира, снимая с плеч одну голову за другой. Судовые образа, освященные еще Иоанном Кронштадтским, политые золотом доброхотных жертвователей, разлетелись в труху. Снаряд врезался в икону Николы-угодника, прямая обязанность которого – беречь всех плавающих по зыбким водам. Но от самого Николы тоже ничего не осталось…
Карпенко очнулся от грохота этих взрывов.
– Что там, наверху? – спросил он матросов.
– Порядок полный! Вот только в «Баяна» еще ни штуки не закатали. А по «Гражданину» тоже врезали, но старик еще держится. Два эсминца по приказу Бахирева отошли…
Лейтенанта стали пихать к трапу на верхний дек:
– На перевязку… Ей-ей, хватит уже!
– Я же не ранен… я… товарищи… не надо!
– Это тебе так кажется. Иди до лазарета…
На верхнюю палубу страшно глянуть: тысячи уродливых осколков, еще горячих, захламляли линкор, как улицу, которую забросали камнями. Карпенко спустился в кормовой лазарет, и его сразу же отшибло назад, словно от помойной ямы… В навале изуродованных тел, живых и стонущих, бродили окровавленные, как мясники, матросы-санитары, выдергивая под нож хирурга то одного, то другого. А врач Лепин внаклонку стоял посреди отсека. Сзади его, контуженного, держали два здоровенных матроса. Почти повиснув на их руках, часто теряя сознание, врач перевязывал раненых.
«Ну, здесь не до меня», – решил Гриша Карпенко и пошел обратно в каземат, спотыкаясь об осколки. Вторая башня лейтенанта Иванова еще сражалась. Упругий ветер толкал лейтенанта в спину, идти было приятно и дышалось ветром легко… Он свалился посреди осколков с блаженной улыбкой на губах.
Бой продолжался. Уже третий час.
* * *
Бахирев с мостика «Баяна» видел все. Конечно, еще одно попадание в «Славу», и начнется агония линкора. Цусимы не получилось: русские корабли выстояли. Мало того, два дряхлых линейщика еще как следует намяли немцам бока…
«Баян» дал радио по всем кораблям: отойти!
Трепетные флаги бились на мачтах крейсера:
МОРСКИЕ СИЛЫ РИЖСКОГО ЗАЛИВА, ОТОЙТИ.
Немецкие дредноуты перенесли весь огонь на флагман. Издалека они накрывали его, бросая в «Баяна» сначала по три, а потом залпируя по пять снарядов главных калибров. Искушение выскочить из «вилок» было слишком велико. Но… нельзя уходить крейсеру. Сначала пусть пройдут линкоры. «Гражданин», додымливая остатками пожара, медленно втягивал свое тело в коридор канала. За ним тащилась «Слава», осев в море глубоко ниже ватерлинии, и сердца баянцев щемило при виде ее бортов в черных ожогах и пробоинах.
– Прошли, – сказал Бахирев. – Теперь можем и мы…
Тимирев едва успел поставить крейсер на 15 узлов, как под мостик «Баяну», разорвав с десяток шпангоутов, врезался вражеский снаряд. Яркое пламя вспыхнуло в носу крейсера – начинался пожар. На мостик флагмана дунуло шквалом огня. Вахта закрывалась руками. Лица сигнальщиков и рулевых потрескались от жара. Мертвых они оставили в огне, не удалось спасти и всех раненых. Над головами людей сами по себе в пепел рассыпались флаги…
Тимирев доложил Бахиреву:
– Огонь уже возле погребов. В худшем случае – сейчас полетим на воздуси. Самый лучший вариант – спечемся, как яйца в печке.
– Затопите погреба через спринклеры, – сказал адмирал.
Погреба затопили, чтобы спасти крейсер от взрыва.
«Баян» осел в воду носом на целых 26 футов, и тогда распахнулась дверь штурманской рубки. Закрываясь локтями от нестерпимого жара, появился на мостике баянский штурман Ухов.
– Мудрецы! – крикнул он. – Одним поворотом на спринклеры вы сами, своими руками погубили наш славный крейсер…
– Костя, – сказал Тимирев, – что ты говоришь?
– Соображать надо, черт побери… Вы посадили «Баян» на двадцать шесть футов, а глубина в Моонзунде лишь на полфута больше…
Полфута – это 15 сантиметров. Но ведь дно канала – не гладкая доска. А если там есть возвышения? Если ковши землечерпалок не догребли грунт до нормы? Если схалтурили? Что тогда?
– Выхода нет, – ответил Бахирев. – Не взрываться же нам было! В конце концов, поползем на брюхе…
Слева по борту – Моон, справа – остров Вердер.
Прямо по курсу – канал, и виден вдалеке Шильдау.
Огонь противника ослабевал в частых недолетах, германские дредноуты отворачивали прочь от рейда Куйваста.
Три русских корабля, не побежденные эскадрой, вышли на створ канала…
Под килем «Баяна» оставалось полфута воды.
А под килем «Славы» уже ничего не оставалось.
* * *
– А что с этим мальчишкой? – спросил комиссар Тупиков. – Почему он молчит?.. Ну-ка, слазайте кто-нибудь.
– Я полезу, – сказал Городничий и шагнул к мачте.
Когда человеку за сорок, романтика высоты ему уже ни к чему (он уже отвосторгался, уже отликовал). Городничий лез по скобам, стараясь не смотреть вниз. Рядом с ним поднимались к небу струи дыма. Самые последние скобы трапа чуть не вывернулись из рук старшины. Отчего они скользкие? В крови…
Яркими брызгами кровь орошала брезентовый обвод марса.
Городничий спустился обратно на мостик.
– Андрюшка, мне его не снять, – доложил он комиссару, подавленный. – Мальчишка еще живой… ты бы видел, что с ним… Лапу начисто оторвало. Весь в крови… Отмахался, бедняга, флажками!
– Надо снять, – жестко приказал Тупиков.
– Как снять?
– Не знаю. Но снять надо.
Из рубки донесся глуховатый голос каперанга Антонова:
– Сжигайте документы. Уже спешат миноносцы…
– Слышал? – спросил комиссар старшину. – Сейчас начнут нашу бражку снимать миноносцы. Мертвых оставляем на «Славе». Но всех раненых берем… Взять юнгу с фор-марса!
Городничий в растерянности обратился к вахте своей:
– Хорошо быть собакой: она берет щенка в зубы…
Растолкав всех товарищей, сигнальщик Балясин шагнул к скобам трапа, уводящего под небеса.
– Куда ты? – пытались удержать его. – Хоть веревку возьми.
– Не надо. Буду снимать пацана.
– Как?
– Как собака, – ответил Балясин…
Длинным стеблем росла перед ним фок-мачта, а на самом верху ее – красным цветком колебался фор-марс «Славы».
* * *
«Баян» вошел в канал и сразу погрузил свои винты прямо в вязкое тесто грунтовых илов. Вот оно – началось!
Сколько было на крейсере глаз – все на штурмана.
Сколько было сердец – все обратились к нему.
Константин Сергеевич Ухов[29] взялся за невозможное.
«Баян» не плыл – «Баян» переползал днищем через канал.
Одна ничтожная ошибка – и наступит конец…
– Лево, – говорит Ухов на руль, и никто на крейсере не осмелился бы его поправить. – Чуть-чуть лево… Право клади!
Рулевой старшина Попелюшко двигал штурвал с такой осторожностью, с какой химики передвигают реторты с гремучей ртутью. Семь лет человек отстоял за рулем крейсера, и стал не рулевым, а… ювелиром! Читатель, подумай сам: ведь «Баян» трещал в огне, весь закутанный дымом, Попелюшко вел крейсер через канал и не видел канала. Вслепую вел крейсер и штурман Ухов…
– Молодец, – сказал Ухов рулевому. – Держи пока прямо.
«Баян» словно катился по незримым рельсам высокого мастерства. Винты крейсера работали, как мешалки в квашне с жидким тестом. Упорство машин вращало их в бурой жидкости грунта, – и крейсер медленно, но упрямо полз, полз, полз…
К жизни! В Балтику! В революцию!
Однажды сели.
– Кажется, прочно…
И сколько было людей на палубе, все свесились за борт.
Корма «Баяна» отбрасывала назад каскады взбаламученной грязи. В дыму неистово содрогался горячий от огня корпус крейсера. За борт швырнули спасательный круг, и он долго стоял на одном месте. Потом вдруг его понесло назад.
– Взяли! – раздались крики. – Ура нашему штурману…
Канал уже кончался. «Баян» был спасен.
– «Славы» же нам не спасти, – сказал Бахирев и позвал сигнального старшину: – Передай отмашкою на Антонова: сесть на грунт в канале и взорваться!
* * *
Корабли – как и люди. Рождением своим приносят радость и поселяют в сердце печаль своей гибелью. Редко они доживают свой век на почетном приколе гаваней, словно на заслуженной пенсии, – чаще их поглощает огонь или пучина.
Рождение кораблей всегда торжественно. Подобно плоду, созревающему в потемках материнского лона, зреют корабли в жестких конструкциях заводских эллингов. От киля (от спинного хребта) начинается их тревожная жизнь. «Слава» тоже, еще младенцем, долго кормилась от груди России, лежа на железных пеленках стапелей. Потом линкор столкнули с берега – и Нева, как ласковая повитуха, обмыла ее в своих прохладных водах. Сколько было высказано надежд и тостов, сколько разбито бутылок с шампанским!..
Рожденная в 1903 году, «Слава» умирала в 1917 году.
Краток век корабельный, а сколько прожито…
* * *
Карпенко очнулся и увидел, как проносит над ним задымленные флотом облака. Лейтенант лежал на рельсах эсминца, а вокруг стонали, хрипели и бились в агонии сваленные на палубу люди.
– Где я? – спросил он, силясь подняться с рельсов.
– Мы уже на «Эмире Бухарском»…
Гриша перевел взгляд и увидел врача со «Славы» – Лепина; два матроса по-прежнему держали его на своих руках, а врач на весу бинтовал руку сигнального юнги Скрипова… Облака летели стремительно, низко лежащие над водой. «Эмир Бухарский», выгодно используя волну, шел на килевой качке, чтобы не вынесло за борт раненых. Левее него, размашисто рассекая воду, проходил «Туркменец Ставропольский», а мористее угадывался силуэт «Донского казака». По каналу тащились на отходе минзаги. Карпенко заметил, как из-под кормы «Припяти» торопливо выпадали в море круглые молчаливые уродцы – новорожденные мины. Стало ясно: враг не пройдет.
Попутно русские эсминцы разрушали навигационные вехи и знаки. «Эмир Бухарский» несся, уставив свои пушки в воду. Палуба его вздрагивала от выстрелов. Драгоценные линзы Ферреля на маяках разбивались вдребезги. Как саданут по фонарю буя – только брызги летят! В крутом набеге форштевней эсминцы топили вехи…
Порядок был образцовый. Поразительный отход!
Далеко впереди эсминцев был виден громадный пожар.
Это уходил горящий крейсер «Баян»…
– А где же наша «Слава»? – спросил Карпенко.
– «Слава» приказала всем нам долго жить.
* * *
Все корабли уже прошли через канал, только «Слава» осталась у входа в него. Несколько человек не покинули линкора, чтобы завершить последний маневр корабля.
– Лево на борт, круче! Полный вперед! – приказал Антонов.
На полном разбеге машин «Слава» покатилась корпусом влево, и со страшной силой линкор врезался в грунт.
– Поджигай фитили, – велел комиссар Тупиков.
Каперанг Антонов закинул чехлом боевой телеграф:
– Пока огонь доберется до погребов, мы успеем проститься…
Они стали прощаться с кораблем. Командир и комиссар – новейшее сочетание корабельной власти. Последний раз отворялись перед ними обожженные двери, в последний раз гремели под ними разрушенные трапы. Лучи фонарей вырывали из мрака отсеков изломы рваного железа. Виделись им вздутые давлением газов переборки, за которыми все уничтожено. Из лебединых шей переговорных труб обильными струями, журча, выбегала вода… Соленая!
Всюду лежали мертвые. Обожженные. Обваренные кипятком.
– Но раненых не видать. Кажется, забрали всех.
– Посмотрите вот этого, комиссар. Он шевельнулся.
– Нет. Это так. Покойник…
С шипением бежали по фитилям огни, быстро минуя люки и горловины, добираясь до гремучей ярости минных и артиллерийских погребов. Антонов – сквозь слезы – глянул на часы:
– У нас осталось еще семь минут. Мы успеем.
– Вы только не плачьте, – посочувствовал ему комиссар.
– Я не буду…
Только в провизионке они застали живого баталера. Скинув форменку, весь в усердном поту, баталер открывал консервы. Перед ним высилась уже целая гора распечатанных банок с мясом, куриным и говяжьим, с крольчатиной и зайчатиной, с рыбой и вареньями.
– Шестьсот сорок восьмая банка! – сообщил он в радостном обалдении. – А гостей я назвал целую тыщу… Я спешу. Не мешайте. Осталось открыть еще триста пятьдесят две банки…
Под бортом линкора взвыла сирена «Сторожевого», который требовал, чтобы поторопились. Последним сошел с корабля, как и положено, его командир – каперанг Антонов:
– Отходите теперь на полных – сейчас рванет!
«Туркменец Ставропольский», когда погреба отгремели, добил «Славу» своими торпедами… Сохранился рапорт о виденном:
«…корма, совершенно разрушенная, имела вид отделившейся от корабля части. На грот-мачте не было ни стеньги, ни гафеля; там, где находились офицерские каюты, бушевал пожар, причем из пламени, достигавшего марсов, все время вырывались вспышки…»
Разрушаясь во взрывах, «Слава» ложилась на грунт Моонзунда, закрывая для немцев канал своим умирающим телом. Она закрывала сейчас фарватер – от Петрограда, от России, от Революции…
Вечная ей память!
* * *
Транспорта «Покой» и «Глаголъ» тоже получили приказ:
– Открыть кингстоны – топиться на фарватере! Враг не пройдет через Моонзунд; кингстоны обреченных кораблей еще не успели напиться из моря досыта, как эсминцы стали всаживать в транспорта снаряды, чтобы они тонули вернее… Враг не пройдет!
Волновало команды одно:
– А как наши дела на Кассарах?
Радисты – всегда в курсе событий – утешали:
– Ой, что там было сегодня! Но немца не пропустили…
Сразу отлегло от сердец: спасибо Минной дивизии, спасибо крейсерам «Диане» и «Адмиралу Макарову», – они сдержали бешеный натиск Гохзеефлотте, дорога в Балтику оставалась открытой. Теперь, подобно гончим, нюхающим ветер, эсминцы рыскали вдоль побережья Моона, подбирая людей со шлюпок. У спасенных спрашивали:
– А что на Орисарской дамбе?
– «Батальон смерти» верен клятве – держит дамбу…
Но к вечеру матросы дамбу взорвали и, унося на себе раненых, отступили к пристаням Куйваста, где уже не качалось ни одного корабля. Немцы вступили на Моон, гарнизон острова складывал оружие.
– Нас флотские предали! Удрали на кораблях своих…
«Батальон смерти», прижатый к воде, не сдавался. Матросы знали о битве линкоров, знали, что эскадра ушла на север. Но они не верили, что флот Балтики, ставший большевистским, способен предать их. Смертники держались на пристанях. Иногда так держались, что ноги бойцов уже болтались над водой куйвастского рейда. Но они не сдавались, и сбросить их в море немцы не могли.
Оба израненные, оставались в живых и комиссар обороны Женька Вишневский, и командир батальона – кавторанг Шишко.
– Держись, братва! – передавали по цепочке вдоль берега…
Когда стемнело, подул с рейда сильный ветер. Совсем близко от пристаней прошмыгивали, разрубая мрак выстрелами, германские корабли. Лишь единожды послышался с моря турбинный рев, и пронесло – близко-близко! – знакомый силуэт русского «новика». Но, кажется, с его мостиков не могли поверить, что на Мооне еще держится оборона, – и миноносец, сколько ему ни кричали с берега, растаял в потемках. Потом на севере вдруг возникла над Моонзундом «рождественская елка». В удивлении поднимались матросы-смертники. Русские корабли вдруг разом воздели к небесам свои прожектора и там, где лучи их касались туч, они их скрестили, – это и была флотская «рождественская елка».
– Что бы это значило? – хмыкнул кавторанг Шишко.
Женька Вишневский сплюнул:
– Может, и правда, что прощаются с нами…
Утром, еще не рассвело над рейдом, прилетел самолет. С шорохом он просыпал на «батальон смерти» листовки, подписанные контр-адмиралом Бахиревым. В этих листовках, обращенных к смертникам, Бахирев благодарил их за исполнение долга и давал свое великодушное «добро» на сдачу в плен немцам… «Родина вас не забудет!»
– Сдурел, что ли? – ругались матросы. – Мы не сдаемся…
* * *
Эта ночь – ночь на седьмой день битвы – была самой тревожной для всех. Ветер все усиливался, разведя большую волну. Плесы освещало заревами пожаров, горели эстонские города, а с моря доносило грохоты – это рвались на минах германские корабли. В проливе Соэлозунда часто мигали фонари – противник обменивался информацией о новых потерях. На русской эскадре было известно, что немцы уже десантировали на Даго, мотопехота врага двигалась на север, где разместилась русская батарея на мысе Тахкона (такая же мощная, какая была и на Цереле). От матроса до адмирала все невольно задавались вопросом: что же станется с кораблями в Моонзунде, если Тахкона постигнет судьба Цереля?
– Тогда мы пропали…
Рассвет обозначил развихренный плес, завиднелись на горизонте крестовины мачт германских кораблей, которые нашли себе смерть в эту ночь на минах. Бахирев был категорически против снятия войск, оставшихся на Мооне, из-за чего даже поругался со Старком.
– Там одни подлецы и трусы, – говорил Бахирев.
– Но там, – отвечал Старк, – и герои Орисарской дамбы. Флот не простит нам… нам снимут голову!
– Я уже послал самолет, сбросивший на Моон листовки с разрешением смертникам сдаваться в плен. Их совесть чиста.
– Клятву нельзя отменить разрешением свыше. Пойми ты, Михаил Коронатович, клятву они давали не тебе, а своей партии. Какое ты имеешь к ней отношение?
– Никакого. Ты прав. Пусть нас рассудит комфлот…
Командующий флотом адмирал Развозов доложил Дыбенке в Центробалте о завершении генеральной битвы линкоров.
– Павел Ефимович, позвольте, я буду честен… До сих пор я не верил в боеспособность флота. Теперь преклоняюсь перед его геройством и твердо уповаю, что никакой враг нам не страшен: Балтийский флот сумеет постоять за честь матери России!
Большевистский съезд все время следил за событиями в Моонзунде, связь делегатов с кораблями, идущими в бой, не прерывалась. Сейчас комфлот поведал Центробалту сводку о потерях противника.
– Они немыслимы, – сказал Развозов, – почти баснословны. Гохзеефлотте потерял в Моонзунде одну пятую часть своего личного состава. Вдумайтесь в это – и вы поймете, что Моонзундом можно гордиться, как гордимся Гангутом, Чесмой и Синопом.
– Чего нам, – спросил Дыбенко, – ждать от немца теперь?
– Кайзер рассчитывал, по прохождении Моонзундом, развить успех флота, планируя так называемый «финляндский вариант», чтобы, десантируя в финских шхерах, от Або и Гельсингфорса рвануться сразу на Петроград. Но, – закончил Развозов, – теперь немцы в таком позорном кровохарканье, что операцию сворачивают…
Он сказал, что знал. Дыбенко протянул ему руку:
– Несомненная победа! Сводку потерь германского флота сразу доложим съезду… спасибо. Вас я поздравляю, адмирал. Был вот старик Эссен, был Канин, Непенин, Максимов, Вердеревский, но Моонзунд выпал на вашу долю… Что ж, мы потеряли только эсминец «Гром» и только старую «Славу». За них нам не стыдно. С ними у нас получилось, как в песне поется:
Сами взорвали «Корейца», нами потоплен «Варяг»!..Исполняя решение Центробалта, адмирал Бахирев послал к Моону дивизион мелкосидящих тральщиков. С пристаней Куйваста они забирали «батальон смерти революционной Балтики». Людей снимали с берега в такой близости от противника, что с мостиков тральщиков уже видели рожи немецких самокатчиков… Когда посадка закончилась, обратно на берег перепрыгнул кавторанг Шишко. Не человек уже – сгусток крови и бешенства, обмотанный бинтами. Подкинув в руке трофейный автомат, кавторанг Шишко сказал:
– Можете отходить, а я остаюсь здесь. Я слышу, что еще стреляют. Кто-то остался… Прощайте! Я покажу немецким мерзавцам, как умирают офицеры русского флота!
Немцы подорвали его гранатой, полоснули тесаками, в него всадили две пули. Но он был еще жив. Таким его взяли в плен. Это был последний мазок кисти, дописавший картину обороны Эзеля.
* * *
На окраине Аренсбурга немцы уже создали обширный концлагерь для военнопленных, но церельцев они отконвоировали прямо в город. Аренсбург был хорош и сейчас – даже под пятой оккупантов. К вечеру пошел затяжной дождь, Артеньев с печалью видел, как мокнут за оградами садов осенние волокнистые астры. Голова у него болела, сильно разбитая прикладом в лесной стычке с немцами. Всю дорогу до города старлейта поддерживали под руки два мичмана – де Ларош и Поликарпов (последние из его офицеров).
Пленных церельцев завели во двор комендатуры.
– Как вы себя чувствуете? – спросил Скалкин.
– Надо держаться… бинт бы дали! – ответил Артеньев.
Прошел вдоль строя фельдфебель, хамски стучал по ногам пленных прикладом винтовки, выправляя на свой вкус ровность шеренги. Во дворе появилось начальство – немецкий майор, который когда-то вел переговоры на перешейке Сворбе; его сопровождал в штатском капитан I ранга фон Кнюпфер, будто так и надо…
– Совести нет, – заволновались матросы. – Уж коли предавал нас раньше, так хоть теперь скрылся бы, нахал такой!
Кнюпфер, напротив, держался очень спокойно и даже (будучи в отличном настроении) легкомысленно поздоровался с Артеньевым:
– Добрый вечер, Сергей Николаич.
– Вечер добрый для вас, только не для меня…
Судя по всему, немцы были очень довольны, что в руки им попался сам командир батарей Цереля. «Ирбены» – это слово было достаточно известно в Германии, и немецкий майор, перешепнувшись с фон Кнюпфером, направился прямо к Артеньеву.
– Вам, – заявил он, – будет оказан особый почет.
– Благодарю.
– Мы уважаем мужество своих противников.
– Благодарю.
– Только подпишите акт капитуляции Цереля.
– Благодарю, – усмехнулся Артеньев.
– Вы согласны?
– Конечно, нет…
– Но вы же сдались, – неуверенно произнес майор.
Сергей Николаевич заговорил с ним далее по-немецки:
– Дайте мне бинт наконец… видите, что я истекаю кровью? Я военный человек, получил в России хорошее военное образование и знаю, что такое капитуляция. Вам, – говорил Артеньев, – это тоже известно, но Берлин желает видеть Церель сдавшимся. Однако это не так. Я согласен повеситься в вашем присутствии, если вы, господин майор, найдете на Цереле хотя бы один патрон в целости. Вам достались от батарей только взорванная земля и десяток израненных человек из гарнизона, – разве же это капитуляция?
Майор спросил его в упор, почти утвердительно:
– Вы… большевик?!
Артеньев тронул разбитую голову, еще раз глянул, как за голубым штакетником дождь обильно поливает прекрасные астры. «Что ответить?» Матросы, выручая офицера, кричали майору:
– Да нет… он так… попался с нами.
Артеньев почувствовал, что между ним и матросами снова начинает пробегать трещина, и он поспешил перепрыгнуть через нее:
– Я не только «попался с вами». Но я и сражался вместе с вами. Сражался за то же, за что и вы!
Трость в руке майора взлетела над шеренгой:
– Всем большевикам – налево. Германская победоносная армия всегда уважает своих врагов, но она сурова к бандитам…
Матросы Цереля дружно шагнули налево. Сергей Николаевич впопыхах пожал руки мичманам де Ларошу и Поликарпову.
– Мужайтесь… – И он шагнул вслед за матросами.
Фон Кнюпфер крикнул в спину Артеньева:
– Один только шаг! Но как вы о нем еще пожалеете!
Скалкин горячо зашептал старлейту:
– Ну, ладно уж мы. А вам-то это к чему? Вернитесь…
Артеньев занял место на правом фланге церельцев. Никогда этот человек не забывал о дисциплине и сейчас вдруг рассердился на своего комиссара, как на матроса:
– Не спорить с офицером! Распустился, дорогой товарищ. Вынь руки из карманов… Как стоишь в строю?
Скалкин, очевидно, хорошо понял его состояние. Не прекословя, он подобрался, застегнул бушлат и сказал кратко:
– Есть!
* * *
Теперь противники имели каждый свою определенную цель: русские – вырваться из Моонзунда на Балтийский театр; немцы – не допустить русские корабли до этого прорыва.
«Новик» уже проскочил в открытое море, остался в брандвахте за Штоппель-Боттенской банкой, чтобы подсвечивать прожекторами дорогу следующим кораблям. Тронулись в путь и работяги-тральщики, на палубах которых гремели звонки. Каждый звонок возвещал команде, что ножницы тралов вцепились во вражеские минрепы. Но теперь звонки разрывали уши в непрестанном грохоте: в тралы попадало до пяти мин сразу. Ножницы, стригущие один минреп, не могли взять на «подсечку» сразу пять тросов. Приходилось тралы обрубать топором, как сеть, в которую попалась опасная рыбина.
Сейчас многое зависело от мужества батарейцев Тахкона, где командовал кавторанг Николаев. Если «дагомейцы» сумеют выстоять, жертвуя собой, до прохода флота, – значит, эскадра спасена. Если же в коллективе прислуги Тахкона заведется гнида, вроде фон Кнюпфера, – тогда эскадра обречена… Паника на Даго уже была – нехороший признак развала обороны. Немцы рвались на мотоциклах по осенним дорогам, через золото багряной листвы, обстреливая все живое из пулеметов; они тоже понимали стратегическое значение мыса Тахкона. Бахирев переслал кавторангу Николаеву приказ, который кончался словами: «сражаться с неприятелем до последнего снаряда». Деморализованная армия на Даго уже распалась, как гнилой организм: «Остались (по свидетельству современника) бунтующие банды мародеров и поджигателей, готовые поднять на штыки любого от нетерпения переправиться на материк…»
На экстренном совещании флагманов в Моонзунде адмирал Бахирев огласил свежую агентурную сводку: кайзер посылал к выходу из Моонзунда, чтобы закупорить его с севера, мощную эскадру из дредноутов, крейсеров, эсминцев и подводных лодок.
– Мы уже не проскочим, – констатировал Бахирев.
Но тут же поступило сообщение комфлота Развозова, одобренное большевиками Центробалта: решено дать противнику грандиозный бой на передовой позиции флота у самого входа в Финский залив. Русские дредноуты уже двинуты из Гельсингфорса на Порккала-Удд – ближе к событиям, чтобы принять на себя любой удар…
– Кажется, мы проскочим, – повеселел Бахирев.
Наступал восьмой день битвы за Моонзунд: календари в штурманских рубках отмечали 6(19) октября 1917 года. По брезентам мостиков колотили проливные дожди, над морем волокло низкие густые туманы. Торопливо, не жалея сил, русские корабли продолжали разбрасывать вокруг себя мины, и во тьме слышались взрывы гибнущих врагов. Обгорелый «Баян» сбил с себя пламя, и теперь крейсер тихо курился дымом, как большая фабрика после большого пожара. Бахирев снова поднял свой флаг над «Баяном».
– Господа, и вы, товарищи, – обратился он на мостике к офицерам и комиссарам, – сегодня или никогда…
Раздвигая перед собой пронизанное сыростью пространство, корабли тронулись из Моонзунда фарватером славы и доблести. Их дежурные антенны сразу уловили четкую пульсацию радиостанции Тахкона; кавторанг Николаев сообщал, что на батарее, понимая ответственность перед родиной и революцией, «все решили остаться до последнего момента… Не имея никакой надежды на помощь и понимая это, команда Тахкона сохранила полное спокойствие и решила умереть на батарее с оружием в руках».
Объятые в ночи суровым молчанием, русские корабли уже выходили за траверз мыса Тахкона. Издалека, будто из другого мира, родился кованный из чистого серебра луч прожектора. Это брандвахтенный «Новик» подавал эскадре светлую руку: «Идите, я жду вас, дорога свободна…»
Команды на кораблях невольно обратились взглядами за корму. За ними, как черная пропасть, клубясь туманами, исчезал Моонзунд. А по курсу эскадры уже плескало возвышенно и бравурно, как музыка приветственного марша, открытое море…
И пожилой матрос с «Баяна», глядя в рассекаемый кораблями простор, сказал себе и сказал для всех – как нечто новое, до сих пор никому еще не известное:
– Вот она… Балтика!
* * *
– Товарищи делегаты, – объявил Дыбенко, – съезд Балтики вынужден прервать свою работу… Внеплановое сообщение! Наши братья в Моонзунде сберегли всех, кто пал в неравной битве. Не удалось снять тела мертвых только со «Славы».
Всех убитых корабли доставили в Ревель…
Всебалтийский съезд большевиков – хор многоголосый:
…и время настанет – оценят ту кровь, которую лил ты за брата. Прощайте же, братья! Вы честно прошли свой доблестный путь благородный…А на Михайловском кладбище в Ревеле – гробы, гробы, гробы… Очень много гробов, и все они одинаковы, будто снаряды одного калибра. Стеньговые флаги кораблей, опаленных Кассарами и Куйвастом, колышутся над павшими, означая, как всегда, готовность к открытию боевого огня. Завтра в последний раз флот заглянет в застывшие лица своих товарищей. Они лежат в мудром спокойствии смерти. Их руки, которые подавали снаряды на элеваторы башен, кидали уголь на колосники, боролись с пожарами и пробоинами, лили кипящий мазут на форсунки, – эти вот руки теперь сложены на груди, как в заслуженном отдыхе.
Печально завывают над ними гибельные оркестры.
Сразу тысячи матросов, перевитых через плечо казенными полотенцами, вскинули на плечи себе сотни гробов.
Балтика навеки прощалась с героями Моонзунда, и матросы, обнажив головы, пели и плакали… Они плакали и пели:
Напрасно старушка ждет сына домой, Ей скажут – она зарыдает. А волны бегут…* * *
Бегут волны. Бегут они и бегут…
Рядом с людьми – рядом с кораблями.
Читатель! Они бегут рядом с нашей историей.
Финал к Моонзунду
В расквашенной дождями темноте осеннего рассвета вышли из Гельсингфорса два эсминца – «Самсон» и «Забияка»… Балтика! Последние маяки, отсветив, погасли. Возник над морем серый октябрьский день. Открылся привычный простор, и эсминцы, глухо провыв турбинами, зарылись в его тревожную смуту.
С мостика «Самсона» видят, как валит на борт, кладет в затяжном крене выносливого «Забияку», и дым из труб эсминца долго курчавится над водой, растворяясь за сеткой дождя.
А с мостика «Забияки» видно, как борется «Самсон», отбрасывая от себя волну, он влезает килем на гребень другой, рушится в провалы меж водяных ухабов, – хорошо идет «Самсон», красиво!
Читатель, что еще может быть великолепнее?..
Эсминцы шли весь день. Их мотало и било.
Они шли…
День был краток, и затемнело во влажных далях.
Справа по борту вдруг брызнуло огнями столичных предместий. Проплыли мимо эсминцев волшебные электрозарева Ораниенбаума и дачного Мартышкина; затемненный Петергоф со скучающими фонтанами промигал кораблям одиноким фонарем на причале.
По курсу перед эсминцами – словно открыли большую парадную дверь: это была Нева, и корабли, устало добирая последние обороты, вошли в ее устье…
А из-за Николаевского чугунного моста, как смерть, глядит неласковая Аврорьих башен сталь.«Самсон» встал за кормою «Авроры», «Забияка» отчетливо положил свой якорь в струе «Самсона». По обширной дуге Николаевского моста светили окна дребезжащих вечерних трамваев, и бежали вдоль Английской набережной фыркающие газолином автомобили.
Подсвеченный прожекторами кораблей, иногда в отдалении вспыхивал зеркальными окнами притихший Зимний дворец…
Не верилось, что еще вчера они тонули и гибли при Моонзунде!
Корабельные склянки отзвонили на палубах.
Сегодня они пробили последний раз в старом времени.
На «Авроре» матросы уже потащили чехлы с бакового орудия…
Скоро склянки пробьют опять.
Но уже в Новом Времени.
Моонзунд явился ему прологом…
Осень 1970 года
Рига
Комментарии
На титульном листе рукописи, ниже заглавия «Моонзунд», Валентин Пикуль написал: «Этот роман одни читатели прочтут как морской роман, другие – как политический. Я же называю его любовным». Рядом с этими словами карандашная пометка редактора: «Я бы все это снял». Валентин Саввич пошел навстречу пожеланию. Но мне хочется привести эти слова, чтобы читателю было понятно настроение автора и его отношение к задуманному роману.
В. Пикуль, воскрешая память, не претендовал на всеобщую любовь и почитание. Правда не всем лицеприятна. Но он собирал вокруг написанных им страниц и своих героев людей неравнодушных. А остальным, честно, без сожаления и особой симпатии, заявлял:
«Читатель! Если ты не щедр на радости жизни, и тебя не волнует гневное кипение моря, если твоя хата с краю и остальное ничто уже тебя не касается, если ты никогда не совершал диких безумств в любви и тихо, никому глаз не мозоля, укрываешься в кооперативной квартирке от уплаты алиментов, если тебе, как ты не раз заявлял, „все уже надоело“, и ты не ходишь в кино смотреть военные фильмы, если закаты отполыхали над твоим сердцем, сморщенным в скупости чувств, – тогда я заявляю тебе сразу: оставь эту книгу! Можешь не читать ее дальше…
В самом деле, стоит ли тебе напрасно мучиться? Возьми с полки справочник, раскрой его на букве «М», отыщи слово «Моонзунд», и там из десяти скупых строчек ты вкратце узнаешь все то, что поведано мною на последних страницах…»
Любовный роман! Это не просто роман о любви. Это роман, написанный с любовью.
«Моонзунд» рассказывает о моряках Балтийского флота в грозный канун Октябрьской революции. В этой сложной исторической обстановке действуют главные персонажи: старший лейтенант Сергей Николаевич Артеньев, председатель Центробалта матрос Павел Ефимович Дыбенко, большевик с эскадренного миноносца «Гром» Трофим Семенчук.
Прототипом главного героя романа Сергея Артеньева является Николай Сергеевич Бартенев, внук известного русского историка, пушкиниста, издателя журнала «Русский архив». Трое сыновей Николая Сергеевича – Петр, Владимир, Сергей – героически погибли в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Отправляясь на службу, младший семнадцатилетний Сергей сказал пытавшейся удержать его матери: «Что ты, мама, мы же Бартеневы, мы рождены, чтобы защищать Россию». На протяжении многих лет Валентин Саввич поддерживал связь с семьей Бартеневых.
Вот как записан мною в дневнике рассказ Валентина Саввича о работе над романом «Моонзунд»:
«Начал работать над романом страстно и увлеченно. Морская романтика захватила целиком. Когда было написано более трети романа, переехал жить на дачу. Там я решил отойти от событий и героев, чтобы довести уже написанное, как говорится, до кондиции. Читал и перечитывал, „вылизывал“ каждую страницу. В результате переработки материал стал каким-то сухим и скучным. Перечитав все заново, я вернулся к первоначальному варианту, что и составляет основу романа».
Роман был закончен в 1970 году. В те времена о Колчаке говорилось только негативно, как о бездарной личности. Лишь сравнительно недавно все узнали, каким он был прекрасным минным специалистом, да и вообще какая это была незаурядная личность. Пикулю же приходилось пробиваться в трактовке образа Колчака через неимоверные наносы лжи и необъективности. Позднее, во время одного из посещений кораблей Балтийского флота тогдашний Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, высоко оценивший книгу и рекомендовавший ее для чтения, сказал: «Если бы у нас в годы войны были Эссены и Колчаки, возможно, и не случилось бы Таллиннского перехода».
Доктор исторических наук, профессор Н. Н. Молчанов, бывший в годы войны моряком, так писал о морских романах В. С. Пикуля:
«Романы, связанные с историей русского военно-морского флота, – это наиболее успешно разрабатываемая им тематика. Книги Пикуля-мариниста отличаются знанием моря, людей, психологии, истории флота, боевой техники. Он рисует правдивые картины флотских будней и своеобразие морского боя с реальными ощущениями его участников. Книги на морскую тематику лишены псевдоромантики и показывают жизнь в реалистическом восприятии мира».
Не могу не процитировать образное выражение из письма читателя, где высказывается «благодарность за писательский труд, за литературные венки, опущенные на волны эстонских проливов и Баренцева моря».
В общем судьба у романа «Моонзунд» довольно счастливая. Продвижение его, по сравнению с другими произведениями, тормозилось меньше. «Моонзунд» – это первая книга, которая была экранизирована.
20 ноября 1987 года в доме офицеров ПрибВО, в Риге, где и был написан роман, состоялась премьера двухсерийного кинофильма, снятого режиссером Александром Муратовым. В роли Сергея Артеньева снялся Олег Меньшиков.
Валентин Саввич никогда не читал своих изданных произведений. Мало того, приступая к новой работе, он начисто «забывал» уже завершенное, законченное. Поэтому просмотр кинофильма был чем-то неожиданным, необычным. «Я потрясен. Я как будто заново и по-другому пережил жизнь моих героев. Не знаю, как зрителям, а мне фильм понравился» – так передал свои ощущения и состояние Валентин Саввич.
Впервые роман «Моонзунд» вышел в 1973 году в издательстве «Советский писатель» в Ленинграде тиражом 30 тысяч экземпляров. Через два года ленинградцы осуществили переиздание книги. В 1979 году в серии «Морской роман» двухтомник «Моонзунд» выпустило Калининградское областное издательство. Четвертое издание тиражом 100 тысяч читатели получили в 1985 году благодаря издательству «Советская Россия».
Примечания
1
Извините, пожалуйста (нем.).
(обратно)2
Сахар соединяет мину с тележкой ее якоря. При растворении его в воде мина отделяется от якоря, всплывая на заданную глубину и автоматически приходя в боевую готовность. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)3
Достойно примечания – плеть старшего офицера с «Магдебурга» была самой истрепанной, что свидетельствовало о характере его общения с нижними чинами.
(обратно)4
В предреволюционном русском флоте чин капитана II ранга следовал сразу за чином старшего лейтенанта без промежуточных званий капитан-лейтенанта и капитана III ранга, принятых в советском флоте.
(обратно)5
В. Ф. Полухин (1886—1918) – впоследствии был расстрелян английскими интервентами в числе двадцати шести бакинских комиссаров.
(обратно)6
В старом флоте «командирами» назывались только командиры кораблей; лица же, облеченные властью над соединениями кораблей, именовались «начальниками».
(обратно)7
А. М. Косинский – в советское время занимался педагогической работой в Ленинграде, автор трудов по истории русского флота.
(обратно)8
Коордонат – резкий поворот корабля с целью обогнуть неожиданно возникшую опасность, после чего корабль снова приходит на прежний курс.
(обратно)9
«Забияка» – эсминец типа «Новик», в советском флоте ходил под именем «Урицкий»; в составе бригады эсминцев Северного флота геройски участвовал в Великой Отечественной войне.
(обратно)10
ПУАО – прибор управления артиллерийским огнем.
(обратно)11
Д. Н. Вердеревский (1873—1946) – первый командир «Новика»; сторонник изоляции флота от политики, позже член Директории; белоэмигрант. В годы гитлеровской оккупации выдвинул тезис: «СССР защищает исторические интересы России – все за родину». Принял советское гражданство. Умер в Париже.
(обратно)12
А. С. Кукель-Краевский (1883—1941) – видный советский ученый по вопросам энергетики, профессор МВТУ имени Н. Э. Баумана, неоднократно руководил советскими учеными делегациями на международных научных конгрессах.
(обратно)13
А. Н. Бахтин (р. в 1895 г.) – в советском флоте командовал легендарной «Пантерой», отличился в борьбе с интервентами, одним из первых русских подводников стал кавалером ордена Красного Знамени, был профессором Военно-Морской академии. Отец его, питерский педагог Н. Н. Бахтин, был одним из создателей ленинградского ТЮЗа (Театра юного зрителя).
(обратно)14
Впоследствии предатель – дезертировал и перешел к немцам.
(обратно)15
Балтийский Порт (или Балтийск) – ныне эстонский городок Палдиски близ Таллинна и рыболовецкий порт местного значения.
(обратно)16
The dog watch (анг.) – «собачья вахта», или просто «собака»: вахта с 00.00 до 04.00. Называется так потому, что самая утомительная, в это время человек больше всего хочет спать.
(обратно)17
Некоторые мемуаристы раскладывают кронштадтские события на два дня – 28 и 29 февраля, совершенно забывая, что 29 февраля в календаре 1917 года не было.
(обратно)18
А. С. Максимов – в советское время был помощником морского министра, командовал флотами Черного и Азовского морей (умер он в 1951 году, в возрасте 90 лет).
(обратно)19
В. И. Иванов – в советском флоте контр-адмирал.
(обратно)20
В. В. Севастьянов – погиб в 1919 году в боях за Советскую власть, будучи командиром эскадренного миноносца «Гавриил».
(обратно)21
Л. М. Галлер (1883—1950) – один из активных создателей советского флота, адмирал; командовал Балтийским флотом; начальник Главного морского штаба; заместитель наркома ВМФ в период Великой Отечественной войны; начальник Военно-Морской академии кораблестроения и вооружения.
(обратно)22
Командир эсминца «Новик», который выведен в романе под именем «фон Грапф», изменил вскоре отечеству, в эмиграции проживал в Мюнхене, был близок к гитлеровскому окружению начала формирования фашизма в Германии.
(обратно)23
Г. С. Пилсудский (р. в 1880 г.) позже занимал руководящий пост по организации морского флота Советской Латвии.
(обратно)24
Е. И. Вишневский – впоследствии видный партийный работник; в годы первых пятилеток был одним из создателей тяжелой промышленности на Урале.
(обратно)25
В. Ф. Купревич (1897—1969) – всемирно известный ботаник, член-корреспондент АН СССР, президент Белорусской Академии наук.
(обратно)26
Расстрелять орудия – значит дать на них предельное количество выстрелов, при котором изнашиваются каналы стволов.
(обратно)27
Ю. Ф. Ралль – специалист минного дела и трального; один из активных создателей советского флота; умер в звании вице-адмирала.
(обратно)28
Английское выражение – «пятиминутные корабли», то есть такие корабли, на потопление которых надо затратить не более пяти минут.
(обратно)29
К. С. Ухов – в советское время профессор, автор широко известных трудов по навигации; по учебникам Ухова училось не одно поколение советских моряков-судоводителей.
(обратно)







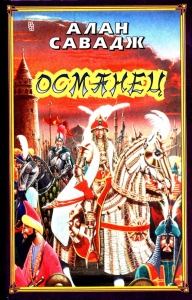
Комментарии к книге «Моонзунд», Валентин Саввич Пикуль
Всего 0 комментариев