Господи! Спаси Россию!..
Ведь она у тебя одна!!!
1
Ветшающий барский дом, окруженный огромными акациями, приткнулся на самом краю поросшего лебедой и лопухом яра.
Несколькими ярусами гора опускалась к Волге и заканчивалась уютным заливом, затененным густой листвой на корявых ветвях акаций и плакучих ив.
Небольшая круглая беседка из камня, увитая плющом с одной стороны, другим боком, зеленым от мха, лениво плескалась в теплых водах сонной реки. Узкая каменная лестница с коваными металлическими перилами начиналась недалеко от беседки и вела наверх.
Голубоглазый обнаженный мальчик вышел из беседки и сел на теп-лую примятую траву, опустив ноги в воду и шевеля от удовольствия пальцами, стал наблюдать, как течение перекатывалось через них и медленно несло то травинку, то мелкие водоросли.
Солнце палило нещадно, лишь изредка прячась за редкие облака. Тело маленького барчука стало смуглым от загара, его аккуратный курносый нос облупился, а пшеничные волосы выгорели чуть не до седины. Глянув на другой, тоже крутой берег, он вырвал травинку, пожевав, выплюнул ее и понюхал пальцы, терпко пахнущие пряной горечью. Затем пружинисто поднялся и быстро, без разбега, плюхнулся в реку. Загорелые ягодицы, мелькнув, скрылись под водой. На миг его не стало видно.
Несколько полноватая молодая женщина в длинной белой рубахе поставила на блюдце недопитую чашку чая и, привстав на колени, стала разглядывать гладкую поверхность реки из-под ладони. Мгновенно волнение отразилось в ее прищуренных светло-серых глазах. Припухшие от жары и чая полные губы приоткрылись, и нежный горячий язычок, несколько раз облизнув их, исчез за ровными белыми зубами с небольшой щербинкой сверху.
– Следите, чтоб дите не утонуло! – строго сказала она чистым звонким голосом двум бородатым мужикам-рыболовам, ходившим с бредешком вдоль берега.
– Смотрим, барыня! – пялился молодой рыбак на белые колени, показавшиеся из-под задравшейся рубахи.
Через полминуты светлая головка мальчугана появилась над водой.
– Максимка, сынок, к берегу плыви! – женщина облегченно перевела дыхание, и ласковая улыбка заиграла на ее чистом, без морщин, лице, проявив две ямочки по краям рта.
– Акулька! Еще чаю налей, – велела она черноволосой девчонке, тоже одетой лишь в белую рубаху.
– Слушаюсь, барыня, – отвела озорные глаза от могучего торса одного из рыболовов дворовая девка.
– Сынок, иди чайку попей, – расслабленно села на покрывало женщина и стала томно обмахиваться рукой.
Большой цветастый зонт давал тень лишь своей длинной ручке, воткнутой в землю. Солнце стояло в зените. «Искупаться, что ли, и идти отдыхать», – подумала помещица, тяжело поднимая свое крепкое ладное тело и медленно заходя в реку. Ее сын самозабвенно плескался и веселился, ни на кого не обращая внимания.
– Ух! – воскликнула его мать, окунаясь по самые плечи и придерживая руками полные, крепкие груди. – Пойди тоже окунись, – пожалела стоявшую на берегу девку.
Та, радостно скинув рубашку, с визгом помчалась в воду, привлекая внимание понравившегося рыболова. Ее маленькие грудки с темными сосками подпрыгивали в такт движениям.
– Бесстыдница! – беззлобно пожурила ее барыня, обрызгав водой. Смеющиеся глаза служанки ловили взгляд мужчины, но он не отрывался от белеющего сквозь намокшую ткань тела своей госпожи. Напрягшиеся плечи его и руки мощно рассекали поток воды и уверенно тащили корявую и скользкую палку бредня. Рельефная шея гордо держала красивую голову.
Достаточно остыв, барыня медленно стала выходить, прощупывая ногой дно, чтобы не дай бог случайно не ступить на ракушку. На берегу, приказав мужикам отвернуться, с трудом стянула через голову прилипшую к телу рубашку и велела девке растереть себя полотенцем.
Ее сын прыгал рядом на одной ноге, склонив голову набок и закрыв ухо ладонью. Парнишку пока еще не интересовали раздетые женщины. Молодой рыбак осмелился обернуться и замер в восхищении… Барыня стояла лицом к нему расставив ноги и расчесывала гребнем густые светлые волосы, закрыв глаза и горделиво вздернув носик, усыпанный веснушками.
Служанка насухо вытирала ее ягодицы. Одна полная грудь барыни была скрыта волной волос; другая – медленно колыхалась в такт движениям дворовой девки, дразня рыбака розовым крупным соском, окаймленным таким же по цвету ореолом. Оторвав глаза от барыни, он заметил присевшую на корточки служанку. Но девчонка его не интересовала. Он опять с жадностью стал разглядывать свою госпожу, стараясь запомнить ее на всю жизнь, как несбывшуюся мечту.
– Данила! – привел его в чувство бородатый товарищ, дернув на своей стороне бредень. – Заснул, что ли, черт окаянный, или розог захотел?
Барыня закончила причесываться и велела подать сухую рубашку, затем, взяв уже одетого сына за руку, повела его к лестнице. Поднявшись наконец вверх, на гору, она отпустила Максима и вытерла потный лоб, безразлично оглядев пыльную колею дороги, поросшую по краям бурьяном и упирающуюся в широкие ворота с вечно распахнутой проржавевшей створой – другая пропала в незапамятные времена – и кирпичной аркой над ними с двумя выбитыми цифрами – единицей и семеркой. Через промежуток в две отвалившиеся цифры виднелась полустертая буква «Г».
На забор не было даже намека. Предание повествовало, что обустраивать поместье прадед барчука начал с беседки и лестницы, а построив кирпичную арку, разорился – то ли проигрался в карты, то ли попалась ему в столице красавица… об этом предание скромно умалчивало, но на дом денег явно не хватило – вот и стоял он неухоженный и кособокий, поскрипывая на ветру больными деревянными суставами.
Вздохнув и оглянувшись на тащившую зонт и узел с вещами девку, барыня снова взяла за руку сына и направилась в сторону посеревшего от дождей небольшого двухэтажного дома с шатким балконом, ненадежно опиравшимся на три подгнившие деревянные колонны. Четвертая отвалилась через год после рождения ребенка, но отец барчука не удосужился поставить новую, так как стареющая царица Екатерина призвала на службу красавца помещика Акима Рубанова, и с тех пор он был редким гостем в своей родовой деревне. Служба в гусарах отнимала много времени и сил… Карты и женщины, парады и караулы заставляли забыть о доме и томящейся там молодой жене, а случавшиеся военные кампании начисто отбивали память о небольшом поместье, затерявшемся на необъятных просторах России…
Иногда только, то на балу, то у костра военного лагеря, неожиданно вспоминал гусар жену и малого сына, тяжело вздыхал: следует испросить отпуск да съездить в Рубановку, а то избалуют мальчонку, но скоро в суете дней эта мысль забывалась до следующего раза. Так и жили мать с сыном в маленькой деревушке, насчитывающей сто тридцать две души, изредка получая весточку от мужа и отца. От бумаги пахло то вином, то духами…
Прочитав несколько раз письмо и тяжело повздыхав, барыня убирала его в ларчик красного дерева, присоединяя к тонкой пачке, перевязанной синей лентой.
Небольшая дворня и крепостные не боялись помещицу, хотя изредка для острастки повелевала она кучеру Агафону, огромному волосатому мужику, выпороть провинившегося на конюшне, но затем обязательно делала наказанному подарок: мужику давала копейку на шкалик, а бабе – какую-нибудь ленточку.
«Матушка Ольга Николавна» звали ее крепостные и не обижались на свою одинокую молодую госпожу. «Как же не бить? – рассуждали они. – Без битья совсем разбаловаться могем!..»
В округе проживало несколько помещиков, но все они были стары и скучны. Разговоры вели лишь о ценах на зерно, мясо и коноплю, кроме Священного Писания ничего не читали, кроме охоты ничего не любили. Правда, на другом берегу Волги напротив Рубановки раскинулось обширное поместье генерала, но приезжал он туда редко, даже реже ее мужа, а точнее, был всего два раза.
Словом, тоска и скука!..
Поэтому Ольга Николаевна никуда не выезжала и гостей не принимала. Дни ее протекали в праздности и ожидании писем. Когда накатывало настроение, она долго и с удовольствием занималась с сыном; но в основном сидела в глубоком удобном кресле и развлекала себя вышивкой, игрой на клавикордах или читала. По воскресеньям приказывала кучеру заложить рессорную коляску и ехала в церковь, а после, заломив руки, бродила по комнатам… Зайдя в гостиную, вскользь бросала взгляд на знакомые до последней травинки пейзажные офорты, висевшие на стене, поправляла стрелку старинных часов и, зевая, шла в спальню, где долго рассматривала свое отражение в зеркале, а затем ничком бросалась на пуховую перину, зарывалась в нее лицом и долго-долго с наслаждением рыдала, временами взбивая кулачком мокрую от слез подушку…
Сын не замечал тоски своей матери, а скорее, даже не знал, что это такое. Он не понимал, как это можно скучать, когда впереди столько дел и жизнь так хороша и интересна.
Вечером, когда было еще душно, но солнце уже не пекло как днем, барчук отпросился у своей матушки в ночное. В старых холщовых штанах и мятой льняной рубахе, пузырившейся на спине, вопя во всю глотку от переполнявших его чувств, скакал он без седла на резвом вороном жеребце Гришке, распугивая деревенских баб и кур. На выезде из деревни, обгоняя скрипучую телегу с тремя мужиками, которые, свесив ноги в лаптях, тянули заунывную песню, не удержался и стегнул кнутом такую же, как и мужики, понурую лошадь. От неожиданности та дернулась и громко заржала, показав огромные желтые зубы, чем развеселила Максима. «Вот это она им подпела, – захохотал он, – и зубы с мордой такие же, как у хозяина».
Начиная с края дороги уходили в глубь поля высокие желтые шапки стогов. Мужики с раннего утра косили и копнили сено. Душа веселилась и радовалась, любуясь раздольем полей. Около молодой осиновой рощицы, пустив коня шагом и потрепав его по холке, барчук поравнялся со стадом коров. Рыжий с белыми пятнами бык недовольно взревел и стал рыть передним копытом землю.
«Ишь ты, – опять развеселился барчук, – как наш лесник дядя Изот. У него такой же вид, когда Кешку бранит». Все веселило в этот вечер Максима. Запахи животных и молока, скошенной травы и прохладной сырости из оврага радостью колыхались в сердце.
Подъехав к дому лесника, Максим привязал коня к истершейся жерди у амбара и, перепрыгнув три низкие ступеньки крыльца, влетел в сени.
– Кешка! – заорал он, запаленно дыша.
– Оx, Господи! – выронила скребок Кешкина мать, прибиравшаяся в сенях. Босая, в высоко подоткнутой старой поношенной юбке, засучив рукава кофточки выше локтей, она близоруко щурилась в полумраке сеней.
– Кто это?
– Это я, тетя Пелагея. А где Кешка?
Ответить женщина не успела.
– А-а-а! Кто к нам пожаловал… – услышал Максим сипловатый, чуть надтреснутый голос и быстро обернулся.
Кешкин дед, держась рукой за косяк двери, снимал опорки.
– Пошли в избу, – пригласил он барчука, и, мимоходом, не удержавшись, широкая ладонь его хлопнула по пышному заду невестку, снова согнувшуюся над полами. Голые ноги ее виднелись до самых бедер.
– Тятенька, – выпрямившись и опять выронив скребок, распевно произнесла она, – я так никогда грязь не отскребу.
– Это ничего, – просипел дед, – меня завтра в баньке поскребешь.
– Озорник вы, тятенька, – вспыхнула та.
Громко топая пятками, дед ввалился из полутемных сеней в освещенную заходящим солнцем горницу. Был он маленький, аккуратный и крепкий, с густющими рыжими бровями на лице, побитом оспой и шрамами. Двадцать пять лет глотал и родную и чужеземную дорожную пыль бравый екатерининский солдат. Прошел всю Европу. Бил с Суворовым и турка, и француза. Какое-то время служил в одном полку с батюшкой барчука, заслонив его однажды от вражеской сабли. Вышел подчистую в чине вахмистра. И вот уже несколько лет по решению владельца Рубановки стерег его лес. Аким величал своего спасителя только по отчеству, так это и привилось в деревне. На этой должности Михеич не был таким верным, как в полку. Успел построить себе новый дом, амбар и сарай. Обзавелся тремя лошадями, коровами и овцами. На широком дворе его, о чем-то шушукаясь, часто толклись мужики и увозили груженные бревнами, тесом или горбылем подводы.
Но Максима это мало трогало, а его мать бесконечно верила спасителю своего мужа и отпускала к нему сына даже на всю ночь.
«Ничему плохому Максимку он не научит», – думала она.
И вправду, сын приходил от деда Изота довольный, рассказывал, что учился стрелять из пистоля и сражаться на саблях, чему мать, конечно, не верила.
Но тянуло барчука, разумеется, не к деду, а к его внуку – вихрастому и такому же рыжему, как дед, отец и дядя.
– Барчук пришел! – обрадовался Кешка и вскочил с лавки, ненароком опрокинув ее и тут же получив от деда затрещину. – Я давно тебя жду, – улыбнулся во весь рот, не обратив внимания на подзатыльник, и обнял друга.
Дед, не выносивший телячьих нежностей, хотел одарить внука еще одной нравоучительной затрещиной, но передумал – а то вдруг барчук обидится, всё же товарищи… Изот Михеев не был злым человеком, но армия и военные кампании отучили его от сантиментов.
Вторая невестка внесла в горницу и поставила на стол кипящий самовар. Обеим бабам сравнялось по тридцать лет, и, в отличие от своих низкорослых мужей, они были высоки и дебелы, с широким тазом и пышной грудью.
От чая ребята отказались и бегом помчались на улицу.
– Лошадей не запалите! – услышали вслед беспокойный голос деда.
И снова скачка, и снова ветер в лицо, и запах лошадиного пота вперемешку с запахом травы, ароматом полевых цветов и вечернего неба – и радость юной, начинающейся жизни, у которой всё еще впереди…
Ах как душист в детстве воздух родины!..
Иннокентий ловко сидел на молодой гнедой кобылке и, колотя по ее бокам босыми пятками, визжал от восторга:
– Не до-о-го-нишь!
– Гришка, давай! – умолял своего рысака Максим, даже не думая ударить его. И жеребец птицей летел, быстро сокращая расстояние. То ли на него подействовали уговоры хозяина, то ли глянулась гарцующая впереди кобыла, но через некоторое время друзья скакали вровень.
Солнце уже зашло, и над дорогой медленно поднимался густой душистый туман. На поляне неподалеку от берега Волги горел небольшой костерок. Отпустив пастись лошадей, друзья подсели в круг разномастной ребятни. К барчуку здесь привыкли и давно приняли в компанию как равного.
Над огнем уютно булькал котелок с ухой, и один из парней время от времени помешивал в нем здоровенной ложкой. Ночь стояла теплая, тихая и таинственная. Лишь иногда тишину нарушал осипший, как у Кешкиного деда, покрик выпи да слышался убаюкивающий стрекот сверчков. Взрослые парни без устали врали друг другу и остальным о девках. Максим вполуха прислушивался к разговору и неожиданно для себя задремал, прислонившись к теплому боку собаки. Несколько псов грелись у костра и, развесив уши, слушали человеческую брехню, делая вид, что верят.
…– А она брыкаться. Я говорю – чего ты боишься? – и хвать ее за титьку, а она кричать… – рассказывал один из ребят, – да норовит по морде мне врезать… а титьки теплые, мягкие… – мечтательно сощурился рассказчик, – все-таки завалил я ее, руки к земле прижал, а как, думаю, портки-то с себя сыму? В-о-о-о! – Дружный хохот прервал его рассказ.
– Вишь, титьки он пощупал! – начал врать другой парень лет пятнадцати. – Вот я намедни залез рано утром, только светать начинало, в соседский сад – больно яблоки там скусны, глю-у-у… под деревом на подстилке соседка лежит, Варька, в одной, значитца, рубахе, а рядом с ей ее младенчик спит. Перевернулась она во сне на бок, батюшки светы… глю… одна титька из рубашки и вывались… Я зырк-зырк по сторонам – нет никого. «На покосе все!» – грю себе и поближе подкрадываюсь… глю-у-у, сосок красный-красный и на ем капелька молока… – слушатели сидели открыв рты. Даже Максим раскрыл глаза и стал с интересом прислушиваться, щелкнув по носу лизнувшую его в щеку собаку.
– Глю!.. Грю… – в нетерпении передразнил рассказчика один из ребят. – Дальше-то че было?
Видя, что байка его пользуется громадным успехом, парень капризно помедлил; нагнувшись, помешал деревянной ложкой в котелке и не спеша продолжил, подув на обожженный палец:
– Ну, протянул я руку, а там пылат все, – сделал он паузу и лизнул пострадавший палец, – а тут пацан ейный к-а-а-к запищит, она глаза открыла да к-а-а-к дасть мне с размаху, я кувырком через плетень и к себе… вроде сплю. – Опять хохот прервал рассказчика. Он тоже смеялся вместе со всеми.
– Ну и врать! – восторженно похвалил один из ребят. – Щас девки, может, купаются, айда-те подглядим? Я знаю, где…
После такого рассказа уговаривать ребят не пришлось. Оставив у костра самого младшего, – следить за огнем и помешивать уху – ватага дружно двинула к реке. И правда, миновав поле и пройдя немного по лесу, ребятня услышала веселые женские голоса. Дальше пошли уже осторожно. Стараясь не шуметь, продрались сквозь густой кустарник и, раздвинув его, в лунном свете увидели чудную картину… С десяток девок мылись в реке после покоса и жаркого дня. Тела их блестели от воды и лунного света. Слышались смех и визг, раздавались шлепки по воде и по спинам.
– Грю вам, это Варька, – услышал Максим восторженный шепот, – ишь распрыгалась…
– Тише, тише! – зашикали на него друзья, во все глаза разглядывая женщин.
Либо подействовали разговоры ребят, либо щедро усыпанное звездами небо, пряная лунная ночь и душистый лес… А может, была виновата свежесть реки, но Максим другими, уже не детскими глазами, несколько смущаясь и краснея, смотрел на резвящихся молодок. Увидел он и Варьку – статную молодицу с цветущей грудью кормящей матери. Зябко пожимая плечами и виляя крутыми бедрами, она выходила из воды, постепенно открывая взору всю себя. Дыхание у Максима перехватило. Он даже удивился, почему раньше не волновала его женская красота. «Словно русалки из сказки», – думал он, любуясь девичьими фигурами.
Замерзнув, одна за другой выходили женщины на берег. Отжимая волосы и расчесывая их, поворачивались к Максиму то боком, то спиною, то грудью – словно дразнили его своей красотой.
Кто-то из ребят или случайно, или нарочно, чтоб испугать девок, затрещал ветвями кустарника.
Под крики и женский визг Максим с пацанами, приминая пятками росистую траву, помчались прочь от реки.
Довольные увиденным, все снова расселись у костра. Как раз поспела уха.
– Здоровско, да? – толкнул Максима локтем в бок Кешка.
– Что именно? – обжигаясь ухой, прикинулся тот.
Похлебав ушицы, некоторые из ребят пошли спать в просторный шалаш, выложенный из веток, но большинство осталось у костра. Кешка, подбросив в огонь хвороста и сощурившись от попавшего в глаза дыма, икнул и блаженно погладил полное брюхо. Максим лег на живот и задумчиво глядел на пожирающий ветки огонь. Какое-то беспокойство закрадывалось в его душу… Слышно было, как жевали траву, фыркали и вздыхали лошади. Вооружившись ветками, ребятня азартно отгоняла комаров. Порыв ветра пошевелил кроны деревьев. В лесу застонало и заухало. Громко всплеснула вода.
– Водяной шалит! – с опаской произнес один из мальчишек.
Все, стараясь скрыть страх, повертели головами по сторонам и придвинулись ближе к огню. Даже собаки, поскуливая, жались к людям, или так показалось Максиму. В чаще леса он увидел горящие глаза. Указал Кешке в ту сторону, но тот дрожащим голосом ответил, что ничего там нет.
Максим огляделся по сторонам – горящих глаз не было видно, но показалось, что кто-то ходит вокруг. Двумя руками он подтянул к себе собаку. Неожиданно кругом затрещало, собаки, вскочив, зарычали, Кешка заорал благим матом…
Максим вскочил и, дрожа всем телом, приготовился встретить нечистую силу: «Негоже дворянину ведьм бояться», – подумал он.
Тут они и набросились на ребят… стали ожигать их крапивой, почему-то Максима не трогая. Один из парней в ужасе свалился в костер, но ведьмы быстро его вытащили.
Кешка ловко полез на дерево, громко вопя и отлягиваясь от стройной маленькой ведьмочки с накрытой пучком травы головой. Один мальчишка, икая и вытаращив глаза, сидел и мелко крестился.
– Что, получили? – ухмыльнулась ведьма, скинув с головы копешку из травы. – Будете знать, как подглядывать, – засмеялась она, убегая.
Максим тяжело плюхнулся рядом с крестившимся парнем. Неподалеку от него, тяжело дыша, улегся слезший с дерева Кешка. Из леса стали возвращаться смущенные ребята.
– Ну и ну!.. – смеялись они, приходя в себя. – Вот это отомстили.
В эту ночь, конечно, никто так и не уснул.
«Июль – красота цвета и середка лета», – приговаривала старая, но бодрая еще нянька Максима.
Нянька Лукерья подняла и поставила на ноги не только Максима, но и его мать и поэтому пользовалась в доме непререкаемым авторитетом. Домашние дела, заготовки на зиму, соленья, варенья – всем заведовала она. Лечила простуды, заговаривала чирьи, все знала и умела старая мамка. «Июль-сладкоежка щедр на душистые ягоды», – жевала она тонкие бескровные губы и раздвигала клюкой кустарник.
Поутру с лукошками пошли в лес. «Столько присказок никто не знает», – думал Максим, с уважением поглядывая на бодро ковыляющую по лесной траве старушку. В зелени травы густо синели колокольчики, и Максим, балуясь, сшибал их палкой. Тяжело нагибаясь, нянька рвала и складывала в корзину золотистый зверобой, череду и чистотел. Показывала барчуку ягоды лесной малины. – Чего, дитятко, мимо идешь? – ласково спрашивала она. – Набивай полный рот. Интересно ему ходить с нянькой Лукерьей.
В другой день шли по грибы – собирали разноцветные сыроежки, а в небольшом хвойном лесочке набрали полное лукошко желтых лисичек. Любил свою няньку барчук.
2
Гусарский полк, в котором командовал эскадроном ротмистр Аким Рубанов, рескриптом императора Александра готовился к отправке в Австрию для участия в военной кампании.
Кутежи шли беспробудные, эскадрон полностью был небоеспособен. До обеда спали. Днем собирались у кого-нибудь из офицеров на квартире. Пили шампанское, постепенно приходя в себя, делились впечатлениями о предыдущей ночи. По мере выправления здоровья начинали хвастаться выпитым и количеством соблазненных дам… Вечером шли либо в ресторацию, либо на бал, либо в театр. Впрочем балы летом стали редки– весь высший свет разъехался по своим поместьям.
Жизнь на какое-то время обернулась к Рубанову черной своей полосой. Во-первых, в кои-то веки решил выхлопотать отпуск, но вышла промашка в связи с начинающимися боевыми действиями. Во-вторых, за дуэль с преображенцем Мишкой Васильевым, ловеласом, бретером и пьяницей, чуть было не разжаловали.
«Но теперь всё позади, – думал он, – а впереди благословенная война, стычки с неприятелем, взятые города, награды, бочки мадеры и немецкие фрау, а может, французские мадемуазельки… словом –Жизнь!»
Ротмистр, несмотря на свои сорок лет, не потерял еще вкуса к жизни и, словно юный корнет, старался взять от нее как можно больше. Он легко относился к изменам своих любовниц, легко изменял сам, в карты ему чаще везло, чем не везло – на жизнь с шампанским хватало. Жене с сыном денег из жалованья не отправлял, но и с поместья не брал ни копейки. Словом, с офицерской точки зрения, служба пролетала так, как ей и было положено…
Правда, не всегда ладил с начальством – отцы-командиры считали его задиристым и колючим, но друзьями и женщинами был любим и любил их сам. Поэтому судьба не наложила на его лицо глубоких морщин – следов забот и раздумий, лишь чуть посеребрила виски, что придавало суровому облику гусара тонкую пикантность и некий шарм.
Невысокого роста, стройный и подтянутый в своем красном доломане, расшитом золотыми шнурами, на левом плече – красный же ментик с высоким, обшитым мехом воротником, на голове кивер, к левому боку пристегнута сабля… – ну кто из женщин мог устоять супротив молодца-гусара?
Однако отправка все отменялась. Лето прошло в постоянных кутежах и дуэлях. К осени несколько офицеров были разжалованы в рядовые, кое-кто отправлен в отставку. Гарнизонная гауптвахта никогда не пустовала. Гусары были там даже не гостями, а завсегдатаями.
Наконец осенью прошел слух – выступаем в поход… Гусары удвоили свое старание, конечно, не в службе, а в отношении вина и женщин.
Аким Рубанов опять крупно повздорил с уланским полковником. До дуэли дело, однако, не дошло, но офицерская гауптвахта распахнула и ему свои объятия.
В октябре эскадрон Акима Рубанова покинул сырой Петербург и расположился в одном из австрийских сел. Переход прошел успешно и весело. Страдали в основном не от неприятеля, а с похмелья.
В герцогстве Австрийском тогда молодой еще корнет Рубанов успел побывать, попил в свое время здешнее вино, потискал местных фрау, поэтому сейчас его нисколько не трогал сельский ландшафт или жители: не интересовали их аккуратные фруктовые сады и красные черепичные крыши домов. Все это он уже видел и пережил. Встретив знакомцев в соседнем полку, распалил всех на игру, быстро, словно враг уже наступал, раздвинули бостонные столы и составили партии. Несколько ночей напролет офицеры сидели напротив друг друга, не выпуская из рук карты и время от времени отхлебывая из стакана мадеру. Игра у ротмистра шла, и ташка его с императорским вензелем была плотно набита империалами. Словом, скучать не приходилось.
В середине октября инспектировать полк прибыл командир бригады Ромашов. Это был бодрый еще генерал-майор лет пятидесяти. Высокого роста, широкоплечий, с тугим животиком и пушистыми седыми бакенбардами на породистом лице, он производил впечатление бравого вояки и строгого начальника.
«Делать ему нечего!» – злились оторванные от карт офицеры. Узнав об инспекции, полковой командир как всегда растерялся. Гусары давно шутили над его ужасом перед начальством. «По мне лучше бы изрубить в капусту полк французов, нежели подвергнуться начальскому смотру», – говорил он всем и каждому.
Денщик носился с его парадным мундиром, разглаживая складки.
– Милостивый государь! – поскрипывая половицами и заложив руки за спину, выговаривал полковник Рубанову. – Вы совсем забросили свой эскадрон. Вы сюда прибыли не в карты играть, а сражаться с супостатом, – поднимал в себе раздражение командир полка. Он расхаживал перед стоящим во фрунт ротмистром и любовался его ладной фигурой и выправкой.
– Пьешь, не спишь, а выглядишь превосходно, – похвалил все-таки своего друга.
Они были ровесниками, но полковник, словно на дрожжах, толстел. Щеки становились пухлыми и одутловатыми. В седло взбирался с трудом. «Вроде и ем мало», – расстраивался он, глядя на стройного гусара, и завистливо шевелил жирными плечами.
– Василий Михайлович! – смотрел на командира ясными голубыми глазами Рубанов, нисколько не смущаясь. – Поиграй с нами несколько ночей в карты, потом попаримся в баньке, потом я найду тебе дамочку, и станешь стройным, как палаш.
– Тебе, батюшка Аким Максимович, сорок лет уже, а ты как юнец безусый себя ведешь, – завистливо выговаривал полковник. – Остепениться пора. У тебя в деревне жена, сын растет…
Вспомнив о сыне, Рубанов опустил плечи.
– Да, надо хоть письмо написать, – вздохнул он.
Вечером в полк приехал штабной адъютант, майор средних лет, с подтверждением о смотре рано поутру и о выступлении затем в поход.
Выслушав гонца, полковой командир опустил голову, руки его задрожали. «Ой, беда, беда!» – трясся он.
– Васька! – заорал денщику. – Командиров ко мне.
Ровными рядами полк стоял на плацу.
– Ваше превосходительство, пора! – подсказал полковнику приезжий штабной адъютант, первым заметивший кавалькаду всадников с ехавшим впереди всех генералом.
Поборов дрожь, полковник молодцевато выхватил саблю и неожиданно гулко зарычал:
– Смир-р-рна!
Гусары замерли; казалось, даже их лошади перестали дышать.
Генерал, капризно качая головой в фетровой треуголке с плюмажем, подъехал к полку.
– На кра-а-а-ул! – заорал полковник, выкатив, словно от удушья, глаза, и полк четко выполнил команду, лязгнув саблями.
Генерал поздоровался, гусары, стараясь унять утреннюю дрожь, рявкнули здравицу. Полковник облегченно вытер разом, несмотря на прохладную погоду, вспотевший лоб и довольно улыбнулся. Генерал с напускным миролюбием на лице поехал вдоль фронта. Настроение у него было неважное, и он выискивал к чему бы придраться. Но мундиры были чисты, пуговицы сияли, ряды стояли ровно, кони сыты и ухоженны. Рядовые и офицеры «ели» глазами начальство… «Положительно не к чему прицепиться!» – раздраженно думал он, зорко осматривая ровную линию замерших эскадронов в красочно-пестрой форме, и на минуту даже залюбовался ладными молодцами.
Генерал, скосив глаза, осмотрел свой, сидевший на нем как влитой темно-зеленый мундир и белые лосиные панталоны и остался доволен… И тут глаза его встретились с наглым взглядом ротмистра.
Генерал нахмурился. Ему нравился тип людей, подобных полковнику, которые тряслись в его присутствии, а этот – мало глядит вызывающе, но еще и ухмыляется…
– Фамилия? – наливаясь кровью и тяжело уставясь на офицера, с угрозой спросил генерал.
– Ротмистр Рубанов, ваше превосходительство, – как показалось командиру бригады, нахальным голосом ответил эскадронный.
Генерал медленно окинул его с ног до головы холодным, значительным взглядом.
«Элегантен, конечно, но всего лишь ротмистр! – с удовольствием отметил про себя. – Только вот лицо его мне очень знакомо… На балу, видно, встречались».
– Как в строю стоишь? – неожиданно заорал генерал. – Смотри, куда конь залез?.. – со страданием в голосе, что есть еще такие недисциплинированные офицеры, кричал он.
Гусары стали старательно выравнивать лошадей.
– Молчать! – перебил хотевшего что-то ответить эскадронного. – Дожил до седых висков, а с конем справиться не можешь! – унижал ротмистра. – Словно первогодок… – он не успел договорить.
– Генерал! – безо всякого уважения ответил гусар. – Я обязан исполнять приказы, но не обязан слушать оскорбления!
Строй затих. Казалось, даже лошади в ужасе глядят на ротмистра, не говоря уже о командире полка.
– Что-о-о?! – генерал захлебнулся холодным бешенством. – Бунтовать?! В Сибирь захотел? Да я тебя!!!
На что ротмистр надменно рассмеялся:
– До Сибири далеко, ваше превосходительство, а дворянин может защитить свою честь и на дуэли…
– Под арест бунтовщика! – брызгал слюной разошедшийся командующий. – Я императору отпишу!.. Я… Я… – не мог подобрать наказания генерал.
Полковник, чуть не падая с коня от страха, трясущимися руками принял саблю своего подчиненного.
– А вам, полковник, ставлю на вид беспардонную, заметьте, беспардонную наглость ваших офицеров, – повернул к полковнику взбешенное лицо Ромашов. – Привыкли там… в Петербурге… – не договорив, поскакал прочь. За ним двинулась свита.
Под звук оркестра, четко выдерживая строй, полк проплыл мимо разоруженного ротмистра, приложившего два пальца к головному убору.
Что же вы, батенька? – чуть не плакал полковник, сидя вечером в кругу своих офицеров и без конца утирая лоб платком. – Право, так и в Сибирь недолго угодить, и в отставку…
Причем отставка беспокоила его значительно сильнее.
– Да не виноват Рубанов! – заступился за друга ротмистр князь Голицын. – Его превосходительству придраться хотелось, что он успешно и осуществил… Да не думал отпор получить…
– Милостивый государь! – закричал полковник. – Какой отпор? Эта же – генерал!!! Вот получишь скоро производство в рядовые, забудешь про отпор-то, – пообещал он Рубанову, в сердцах хлопнув дверью.
Поутру разведчики сообщили, что недалеко, за лесом, обнаружен небольшой разъезд французов. Не успели оседлать лошадей, как появились уланы противника.
– На ко-о-нь! – раздалась команда Рубанова.
Эскадрон одним из первых в полку оказался в седле.
– Сабли из ножен! Ры-ы-сью арш! – отдал он команду.
Несколько пуль, противно свистя, пролетели над головой. Негромко вскрикнув, позади кто-то упал. Эскадрон на рысях мчался навстречу врагу.
– Прибавь рыси! – приказал Рубанов и выстрелил из пистолета в сторону противника.
Радость начинала пьянить его. Радость боя! Сабля серебряной молнией рассекала воздух над головой. Краем глаза он видел своих кавалеристов, крепко сжимающих рукояти клинков.
– У-р-р-а! – зверели они, приближаясь к противнику.
Перед ними были уже не люди, которые так же, как и они, недавно пили вино, играли в карты и любили женщин… – это были ВРАГИ. ВРАГИ России, а значит – и их ВРАГИ.
Оскалив зубы, Рубанов врубился в строй растерявшихся уланов. «Узнаете русских гусаров». – Оглядывался, выбирая противника. «У-р-р-а!» – слышал вокруг себя и видел отвагу в глазах друзей.
– У-р-р-а! – хрипел сам, обостренно воспринимая происходящее, и даже не думал, что может погибнуть.
«За Отечество! За Россию! Что может быть слаще Родины? За что еще можно без раздумий отдать жизнь?!»
Постепенно крики затихли, и с обеих сторон слышались лишь стоны раненых и предсмертные всхлипы. Рубились деловито и молча, исправно и на совесть исполняя воинскую свою работу.
Прорубаясь сквозь неприятельский строй, разя направо и налево, пробивался он к центру, где заметил командира французов, рядом с которым гарцевали трубач и знаменосец.
Вражеский полковник выглядел спокойным. Кивер его валялся под копытами коня. Потные черные волосы прилипли к высокому лбу. Серые глаза на бледном лице спокойно смотрели на приближающего врага. «Везет мне на уланских полковников, – подумал Рубанов, – своих и чужих». На минуту полковника заслонил разъяренный уланский капрал на толстом, сытом жеребце. В левой руке его чернел взведенный пистолет, направленный на ротмистра. Выстрелить улан не успел. Кхекнув, Рубанов ударил его по руке, и пистолет вместе с сжимавшей его кистью полетел на землю.
Превозмогая боль, дико скаля зубы и с ненавистью глядя на русского, из последних сил улан поднял правую руку с саблей, думая, успеет или нет, но гусар оказался и здесь счастливее и проворнее француза, а рука его – сильнее и тверже: пятьсот раз на спор вращал кистью свою шпагу ротмистр, – голова французского капрала свалилась под копыта, окропив кровью коня и мундир Рубанова. Спустя мгновение рухнуло вниз и обезглавленное тело.
На помощь полковнику подлетели еще несколько уланов и что-то кричали, пытаясь его увести, но бледный полковник, сжимая рукоять сабли, пристально смотрел на Акима и играл желваками.
К Рубанову, скача во весь опор, приблизился князь Голицын с гусарами, вооруженными карабинами.
– Пли! – скомандовал князь.
В его серых холодных глазах не видно было жестокости, а только печаль и жалость к людям, которые сейчас умрут по его приказу.
Свинец разметал вражеских уланов, свалив и трубача со знаменосцем, но не задев однако гордого полковника. Храбрые счастливы!
Честь пленить его Петр Голицын предоставил опальному командиру эскадрона. Князь не рвался к чинам, они сами шли к нему, поэтому в свои неполные тридцать лет он догнал уже Рубанова.
Полковник выстрелил в приблизившегося к нему русского, но пуля лишь пробила навылет кивер, не задев гусара. Тогда, держа саблю в правой руке, а знамя, подхваченное у убитого знаменосца, – в левой, француз бесстрашно ринулся на врага. Рубанов восхитился этим невысоким и, по-видимому, совсем даже не сильным, но таким храбрым человеком, бесстрашно идущим на верную гибель. Спрыгнув с коня, чтобы быть на равных, он улыбнулся французу.
Бой был недолгим. Излюбленным своим приемом, основанным на крепости запястья, Рубанов резким движением выбил саблю из рук неприятеля, а свою приставил к его горлу. Он не хотел убивать человека, к которому почувствовал уважение, хотя это и был враг, но не удержался от щегольства и, рисуясь перед вражеским полковником и своими гусарами, обтер вражеским знаменем окровавленную саблю. Победа была полной и безоговорочной.
«Благодаря храбрости и умению гусары наголову разбили неприятеля, пленив полковника и захватив знамя полка, – писал в депеше на имя Кутузова гусарский полковник, – особенно отличился командир первого эскадрона – ротмистр Рубанов, – отметил он, – прошу представить оного командира к награде».
А «оный командир», обняв левой рукой своего друга, князя Голицына, а правой – плененного врага, пил русскую из чистой пшенички водку и делал комплименты французу. Лесть была здесь не причем, оба солдаты, они понимали, кто чего стоит, а храбрость уважается любым честным человеком, независимо в какой армии он служит.
Француз лихо пил водку, чем опять вызвал уважение гусаров.
– Молодец! – хвалил его Рубанов и подливал в стакан. – Пейте, полковник, один раз живем и все под Богом ходим…
Говорили, естественно, на французском. Русским пользовались одни лишь хамы…
– Анри Лефевр, – представился француз, переодетый в новую гусарскую форму: его мундир был изорван и забрызган кровью.
– Давайте, Анри, выпьем за погибших, неважно, кто они… – поднимал стакан с водкой Голицын.
– Военная фортуна переменчива? – утешал себя француз, – и вы, и мы сражаемся на чужой земле, но за свою Родину… Выпьем за Родину – за теплую и ласковую Францию! – кричал опьяневший полковник.
– И за холодную, но тоже ласковую Россию! – поддержал его тост Петр Голицын. Глаза его на секунду затуманились и увлажнились. Он любил Россию и ненавидел войну.
– Жизнь прекраснее даже самой блистательной победы, – похлопывал француза по плечу Рубанов, утешая его.
Начались воспоминания о закончившемся сражении, гусары орали о своих подвигах, не слушая один другого, и пили… Русский человек все отмечает застольем – победу ли, поражение, рождение или смерть… Голоса были звонки и сочны, молодость бурлила в жилах, жажда жизни, побед и наград!.. Раздавались взрывы смеха и звон бокалов. Где-то достали шампанское и привели женщин. Голоса стали еще звонче, а жизнь еще прекраснее! К потолку летели пробки и поднимался табачный дым. Женщины повизгивали, что-то лопотали по-немецки и отбивались от дерзких рук.
– Я воюю за братство, равенство и счастье! – размахивал фужером француз и пьяно глядел на пленившего его русского.
– А я воюю за Бога, Царя и Отечество и в этом вижу свое счастье, – перебил его Рубанов.
– Вы имеете рабов, вы рабовладельцы! – горячился француз. – Люди рождаются свободными…
– Я тоже читал господ Вольтера и Руссо, – отвечал ему Голицын, – но пришел к выводу, что учрежденное природой и Богом не может быть упразднено человеком безнаказанно, уравнение сословий в правах чревато гибелью нации…
– Однако Франция не погибла! – горячился Лефевр. – А напротив, скоро завоюет весь мир. Гений Наполеона возвысит французскую нацию. Я ведь не Анри Лефевр, – разоткровенничался окончательно опьяневший француз.
Шум утих, и все удивленно посмотрели на него.
– А кто же вы, маршал Мюрат, что ли? – съязвил Рубанов.
– Нет? Я граф Рауль де Сентонж, сложивший титул и состояние к ногам любимого императора.
– Весьма неумно! – вздохнул Рубанов. – Титул и состояние следует не складывать, а получать из рук любимого императора…
Гусарам давно надоел заумный спор их командира с пленным. Командир всегда прав! Даже, если неправ… И они занялись женщинами. Взяв гитару, направился к дамам и Голицын, по инерции размышляя о французской революции. «Однако Робеспьер многих дворян уравнял с простым людом. Головы равно слетали с их плеч», – думал он.
Гусары между тем привели еще одну даму, замерзшую в дороге и зябко кутавшуюся в меховую накидку. К радости присутствующих, она оказалась француженкой. Офицеры были приятно поражены ее элегантностью, и говорила она на понятном языке, в отличие от этих полнотелых фрау.
«Будь проклята наша российская склонность к раздумьям!» – чертыхнулся Голицын, любезно предложив гостье единственное кресло, но она решительно отказалась и скромно села на стул.
– Бог ты мой! – восхитился Рубанов, глядя на женщину. – Жив я, или душа моя на том свете в саду Господнем?
– Вы живы! – ответила женщина, улыбнувшись и устало снимая перчатки.
– А я думал, что это грезы… Не может столь редкостная красота осветить сей скромный уголок, – оседлал своего второго конька эскадронный командир и вдохновенно поцеловал тонкую ухоженную руку. – Кто вы, прекрасная незнакомка, – человек или мираж?
– Я скромная танцовщица балета, – ответила дама, – и следую в Петербург, – откинулась на спинку стула.
Это произвело фурор среди офицеров – в таком вертепе – и балерина… Положительно, Бог помогает страждущим!
– Осчастливьте воинов танцем, мадемуазель, – протянул ей цветок Голицын. Взгляд его повеселел и светился удовольствием от вида красивой женщины.
«Где он растение достал?» – мысленно ахнул Рубанов.
Женщина кокетливо улыбнулась Голицыну и пригубила фужер с шампанским. Офицеры тем временем освобождали для нее место, отодвигая столы и убирая стулья.
– Отказ, мадемуазель, будет неуместен, – с завистью глядя на князя, произнес Аким.
– Я станцую, – благосклонно кивнула она и вдруг замерла, увидев графа де Сентонжа.
Он же, побледнев еще сильнее, с бокалом вина подошел и поклонился ей.
Наступила тишина, и раздались аккорды гитары. Сначала неуверенно, а потом все более входя во вкус, танцовщица кружилась и выгибала свое тело, языком танца воспевая любовь, молодость и жизнь.
Офицеры замерли, наслаждаясь женской грацией, изгибом рук и, – о боже! – иногда мелькавшей над туфелькой ножкой. Танец ее кружил голову и будоражил молодую кровь.
– Виват! – дружно закричали офицеры, когда уставшая балерина сделала легкий книксен и поднесла к губам цветок.
Граф де Сентонж, он же Анри Лефевр, молча поцеловал даме руку, а она, в свою очередь, коснулась губами его спутанных густых волос.
– Господа! – произнес он. – Это моя старинная приятельница.
– Виват! – опять кричали офицеры и пили за графа и его знакомую, за женщин, музыку и любовь…
Утром невыспавшийся, похмельный, неудовлетворенный и злой Рубанов повез пленного в штаб армии. Зато оттуда, веселый и довольный, привез орден Святого Владимира 4-й степени и прошение о «допущенной им бестактности по отношению к его превосходительству генералу Ромашову» – так звучал рескрипт Кутузова.
– И вытер саблю о вражеское знамя! – восхитился главнокомандующий: депеша об этом полетела в Санкт-Петербург.
3
Минул Ильин день, а с ним и жаркое лето. Утра стали холодными и росистыми.
– До Ильина мужик купается, а с Ильина дня с рекой прощается, – приговаривала нянька Лукерья. – Есть сено, так есть и хлеб. – Пекла она с Акулькой каравай из новой ржи. – Для благословения в церковь его понесем. – Целовала тонкими сухими губами душистую корку.
Начинались дожди… Гулять Максим стал реже, больше времени проводил дома, занимаясь с матерью французским языком, а с чернавским дьячком – счетом и русской грамотой.
По выходным ездил с матерью в церковь, думая о том, что скоро по грязи коляска не сумеет пройти пяти верст до Чернавки, где и находилась ближайшая церковь. Была, правда, церковь на том берегу реки в Ромашовке, но матушка плавать в лодке боялась.
«Вырасту, – мечтал Максим, – стану богатым, обязательно в Рубановке церковь выстрою… о трех куполах, как в нашей семье – отец, мать и сын».
– Закат нонче красный, знать, ветер будет! – топая ногами, зашел в людскую Данила и громко сбросил дрова у печи.
– Сними обувь-то, вон сколько на полы натекло, – недовольно забубнила Лукерья, смачно прихлебывая чай из надтреснутого блюдца.
Девка Акулька уговорила ее, а значит – и барыню, взять работником в дом так понравившегося ей молодого рыбака.
– Садись с нами чай пить, – пригласила она разбитного работника.
– Со всем удовольствием! Чай пить – не дрова рубить… – устроился он за столом.
Кучер Агафон недовольно оглядел нового дворового: «Ишь язык как подвешен, ровно помело метет, – думал он, чуть подвигаясь на лавке и уступая место. – А этой дурочке наверняка сообразит ребятеночка… видит бог, сообразит. Да не моя то забота, – одернул себя, – мне, что ли, нянчиться?» Его мысли почувствовала и старая Лукерья.
– Ты, Данилка, человек новый туточки, мотри не балуй… знаю вас, кобелей…
– А откуда же, бабушка, вы их так хорошо знаете? – улыбнулся бывший рыбак, громко прихлебывая чай.
Старушка обидчиво поджала губы.
– Получишь розог на конюшне, тогда узнаешь, голуба. А ты чего расселась? – накинулась она на девку. – Самовар барыне неси.
Тряхнув волосами и стрельнув озорными глазками на Данилу, Акулька подхватила самовар и скрылась в комнатах.
– Ишь, егоза! – ласково произнесла нянька и строго поглядела на Данилу. «Чегой-то зря я его в дом взяла…» – вздохнула она.
Тринадцатого сентября[1] под Воздвиженье Креста Господня барыня решила ехать ко всенощной в церковь.
– Что-то душа не на месте! – жаловалась она няньке. – Получила письмо от Акима Максимовича – на войну собирается…
– Ох, Господи! – перекрестилась мамка. – Так и я с тобой поеду, – с нежностью смотрела она на барыню.
На Воздвиженье в Чернавке шумела ярмарка. Ольга Николаевна надумала развлечь сына. После церкви она немного успокоилась.
Максим пил грушевый квас и наблюдал, как цыган мужику лошадь торгует и безбожно его обманывает.
Сидящий на облучке брички Агафон тоже недовольно хмурился – жалел бестолкового мужика. Наконец, не выдержал и огромный, такой же обросший, как цыган, подошел к ним.
Максиму со своего места хорошо было видно, как он спорит с цыганом, указывая мужику на лошадь. Цыган что-то лопотал, яростно глядя на Агафона и жестикулируя руками – то поднося их к груди, то показывая на небо. Мужик сначала недоуменно крутил головой, затем какое-то понятие забрезжило в его дремучем мозгу, и через минуту он с остервенением лупил цыгана под хохот рубановского кучера.
Ярмарка в этот раз была скучная и быстро надоела.
По пути домой Максим выпросил разрешение у матушки посетить Кешку, и Агафон довез его почти до их дома.
– Недолго, сынок, – крикнула, уезжая, мать, – к темноте домой вернись, да пусть проводят тебя.
Зайти к деду Изоту она почему-то не захотела.
Кешки дома не оказалось: уехал с отцом и дядькой на рыбалку.
– Подожди маненько, – предложил Изот, – скоро вернуться должны.
Сам он вместе с невестками укладывал в сарае сено.
– Бери, барчук, вилы, да сено мне подавай, а я девкам наверх метать стану, – подключил Максима к работе.
Поплевав на ладони, тот доблестно схватил вилы.
Выглянуло вечернее солнышко, на минуту тонкими лучами пронзив высохшее душистое сено сквозь щели сарая. Воздух был тягуч и душен. За перегородкой фыркали и трясли головами лошади. По перекладине под самой крышей, как сегодняшний канатоходец на ярмарке, осторожно шествовал пушистый кот. Иногда он останавливался и строго поглядывал на людей – видно, сорвали его охоту. Работали споро.
– Барчук, поспешай! – смеялась наверху Кешкина мать.
– Чо, папенька, не успеваешь за бабами? – подначивала, подбегая к краю стога, вторая невестка. Наклонялась, вывалив из старенького сарафана груди, поддевала вилами навильник сена и несла его вглубь, плотно укладывая под самую крышу.
Через полчаса руки мальчика начали дрожать от напряжения, а вилы выскальзывали из потных ладоней.
«Не сдамся!» – думал он, подтаскивая сено. На его счастье, сена становилось все меньше и меньше.
– Еще чуть-чуть – и шабашить будем! – зыдыхаясь, произнес дед Изот. Лицо его напоминало по цвету спелый помидор.
По крыше застучали крупные редкие капли, и через минуту хлынул ливень, подсвечиваемый с боков и с верху зигзагами молний.
– А сенцо-то сухое будет… – приговаривал дед, подавая наверх последние душистые охапки, – и дождь ему нипочем.
Максим облегченно прислонил вилы к стене и подошел к копне. Сквозь открытую дверь приятный влажный сквознячок холодил разгоряченную кожу, зудящую от прилипших к ней травинок и мусора.
– Молодец, барчук, – похвалил лесничий. – Сейчас мужики придут, и в баньку пойдем.
– Поберегись! – раздался веселый крик, и по покатому боку копны, точно с горки, стала съезжать Кешкина мать.
Мальчик и дед поспешно отскочили в стороны.
– Тьфу ты, телки бесстыжие, – беззлобно сплюнул старик, разглядывая съезжавшую Пелагею.
Максим тоже поднял глаза к потолку. Сначала увидел над собой две грязные ступни и ноги, открытые до колен и оголявшиеся по мере спуска все выше и выше.
– А-а-а-й! – завизжала женщина и, смеясь, упала на неубранное сено у основания копны. Сарафан ее задрался, открыв взору полные, чуть расставленные ноги, казавшиеся особенно белыми в полумраке сарая. Она лежала на спине, смотрела на мальчика и смеялась, чуть подрагивая уставшими бедрами.
– Что, барчук, не видел еще бабу? – наконец поднялась Пелагея и сбросила с головы платок. Черные ее волосы рассыпались по плечам. – Да какие твои годы… – улыбнулась она, – надоест еще глядеть.
Растерянный и потрясенный, смотрел он на нее и не мог придумать, что сказать в ответ. Щеки его горели от неизвестного дотоле возбуждения.
Выручила Максима съехавшая со стога другая женщина. Она не упала, сумела устоять. И опять он увидел белизну ног…
Непроизвольный судорожный вздох и глубокий нервный выдох вернули меня к жизни. Растерянный, я оглянулся. Бабы стояли уже у двери, глядели на дождь и толкались локтями, затем, завизжав, словно девчонки, и держа платки над головами, кинулись в дом.
Дед положил руку мне на плечо и подвел к выходу. Лицо его уже не было красным.
– Куда ты, барчук, в такой дождь поедешь? – рассуждал он, поглядывая на небо. – Вишь, разверзлись хляби небесные, – закряхтел, прикрывая дверь, и мы припустили к крыльцу. По пути, отбежав в сторону, он схватил валявшиеся на земле грабли и следом за мной взбежал на крыльцо. Рубаха его прилипла к худому телу, капли воды стекали по лицу. Я тоже был совершенно мокрый. Тело ломило от приятной усталости.
– Пороть этих девок некому! – беззлобно засипел он. – А вот и рыбаки появились, – обрадовался дед. – А это еще хто? – разглядел вторую телегу, которую, напрягаясь и скользя по грязи, тащила понурая лошадь.
На первой, укрыв головы широким и насквозь промокшим плащом, сидело трое мужичков. Среди них различил худенькую фигурку внука. На другой телеге ехал лишь один мужичонка.
– Кешка, – рванулся к нему Максим.
Увидев друга, тот спрыгнул в грязь, и мы стали носиться по лужам, словно расшалившиеся щенки. Дождь уже не страшил, а только радовал. Беготня закончилась тем, что, поскользнувшись, тот и другой плюхнулись в жирную грязь, но это еще сильнее развеселило озорников.
– В дом не пойдем, сразу в баню, – командовал дед Изот, помогая барчуку встать и попутно отвешивая Кешке подзатыльник. – Это бревно не тронь! – неожиданно заорал он прорезавшимся фельдфебельским басом.
Мужик, приехавший на второй телеге, оторопел и уронил бревно, зашибив себе ногу.
– Так точно, господин вахмистр! – тоже заорал он то ли в шутку, то ли всерьез, прыгая на одной ноге.
Такое почтительное обращение смягчило лесника и напомнило времена его молодости.
– Ну ладно, сукин кот! – добродушно махнул рукой. – Бери, но когда разгрузишься, заедь к барыне и доложи, что сын заночует у нас. Не дай бог простудится парень, – перекрестился дед.
Довольный крестьянин мигом, пока лесник не передумал, загрузил бревно и, взяв лошадь под уздцы, споро потащил ее со двора.
С узелками в руках под навесом крыльца появились бабы и, с трудом сдерживая смех, скорбно сморщившись и качая головами, разглядывали улов.
– Чтой-то рыбка у вас нынче никудышная! – укорили мужей.
Они так сдружились, даже сроднились, что не только говорили и думали одинаково, но даже их жесты стали схожи.
– Мыться-то как будем, по раздельности? – пряча улыбки, серьезно глядели на свекра.
– Вот что, девки, – издалека начал тот, глядя на уходящее со двора бревно, – видно, все-таки жалко стало. – Лес не мой – барский! А я должен его беречь и экономить, а такую здоровенную баню два раза топить, так это же сколько дров надо? – рассуждал он, подхватив под ручки невесток и увлекая их к невысокому срубу с маленьким мутным окошком.
– Че там, правильно папаня балакает – никаких дров не хватит по два раза топить, – поддержали его сыновья, тоже подхватив под ручки жен и перехватив у них узелки.
Максим с Кешкой, расталкивая взрослых, стремглав кинулись к срубу. Уже в предбаннике вязкая духота приятно защекотала враз покрывшуюся мурашками кожу. Толстая свеча, мигая и задыхаясь от жары, тускло чадила на небольшом столе.
– Сначала согреемся и поснедаем чем бог послал, – решил глава семейства и, взяв у одного из сыновей узелок, положил на стол, развязал.
Вареная картошка, укроп и ноздрястые маленькие огурчики рассыпались по грубо струганным доскам. В отдельном свертке, желтом от жира, лежали нарезанные ломтики засоленной сомятины. Большие куски ржаного мягкого хлеба довершели соблазнительную картину. Я сглотнул неожиданно набежавшую слюну.
– Вот это будет пиршество! – водрузил на стол вместительную граненую бутыль зеленого стекла Изот. – Это немцу не выдюжить! – Наливал он по чаркам водку из запотевшей на жаре посудины. – А нам, русакам, ни хрена не сделается – только здоровее будем! – Тут же проглотил свою порцию, сморщившись, бросил в рот огурчик и смачно им захрустел.
Сыновья и их жены, солидно перекрестившись, не спеша последовали его примеру.
Закусывая, Кешкина мать, не стесняясь, расстегнула кофточку… и у Максима даже кусок застрял в горле, когда увидел, как ее груди вырвались на свободу. Только сейчас до него стало доходить, что будет мыться вместе с бабами в бане…
Кешкина мать хитро кивнула в его сторону: – А барчуку не рано с бабами мыться, а ежели дурно станет?
– Молоденький еще, так что не станет, потому как не понимает пока ничего, – заступился дед Изот, укоризненно взглянув на невестку. – Расшутилась, кобылка!
Между тем сняла кофточку и вторая невестка.
Мужики, не обращая на жен никакого внимания, увлеченно выпили еще по одной и шумно делились впечатлениями о рыбалке.
Исподтишка, робко, покосился на женщин – они как раз начали снимать исподние белые юбки. И снова дыхание замерло в груди… Быстро скинув грязные штаны и рубаху, кинулся в парилку. Кешка уже плеснул воду на камни и растянулся на полке.
– Заходи, не дрейфь! – откуда-то из угла услышал его голос.
Сделав пару неловких шагов, уселся на полку. «То из-за баб дыхание в грудях спирает, то от пара – так и помереть недолго».
– Что, брат, тяжело без привычки? – Из густого тумана вынырнул Кешка. – Потерпи, скоро полегшает. – Облил друга холодной водой из бочки.
Какое это блаженство – холодная вода на раскаленное тело…
«Сейчас зайдут!» – в замешательстве глядел на дверь.
Дышать стало легче, пар уже не душил, но в зное русской бани Максим дрожал от холода, или от нервов, или от ожидания… «Чего трясусь? – успокаивал себя. – Голых баб, что ли, не видел? Эка невидаль!» – плюнул на пол для бодрости.
Дверь отворилась, сквозняком разогнав пар, и баню заполнили голые тела. Первым шествовал дед с большим деревянным ковшом, который сжимал обеими руками. За ним – сыновья, а замыкали строй их жены. К радости мальчика, страх прошел и осталось только любопытство. Опять стало душно. Женщины, не обратив на него внимания, полезли наверх. Дед подошел к раскаленным камням.
– Вот тебе баня-банюшка, парься не ожгись, поддавай – не опались, – плеснул из ковша и заорал опять прорезавшимся баском: – С полки не свались, за веник держись! – И на всякий случай улепетнул к Максиму от раскаленных клубов пара. – Ух, хорошо! Правда, барчук? –Тут же храбро полез наверх.
Тот утвердительно покивал, судорожно хватая ртом воздух. Через минуту с удивлением уловил духовитый запах цветущих полей. «Видимо, квасом плеснул».
Дышать стало полегче, и Максим с любопытством огляделся. На самом верху, на третьем полке, расположились мужики. Кряхтя и чертыхаясь от удовольствия, они так хлестались вениками, словно за что-то наказывали себя.
– Веник в бане – всем начальник! – услышал голос лесничего. На этот раз говорил он тихо. – На Иванов день ломал, – кому-то объяснял дед, – листочки мягкие, веточки молодые… Кешка! Подь барчука попарь, – велел он.
– Какой из него парильщик? Я сама попарю, – отозвалась Кешкина мать. – Ложись на полку, барчук, – насмешливо произнесла она и чуть нагнулась, качнув грудью. Глаза ее стали лукавыми.
Сказано было вовремя! Я, не мешкая, упал на живот и снизу вверх стал смотреть на нее.
Повернувшись ко мне спиной, она медленно пошла к стоящей неподалеку от камней кадушке с вениками. Подобрав веник, Пелагея не спеша, ленивыми движениями, стала помахивать им над моей спиной, не касаясь кожи. Сладкий аромат весеннего березового сока щекотал ноздри.
– Баня – мать вторая, кости распарит, все тело поправит, – нежным голосом произнесла она, не обращаясь ни к кому в отдельности и продолжая помахивать веником вдоль спины и ног, но уже задевая кожу листьями.
Мужики, матерясь в полный голос, секли друг друга, словно розгами.
«Видимо, закаляют тело на случай, ежели очутятся в конюшне у Агафона», – хмыкнул я.
Кешкина мать не обращала на них внимания, сосредоточившись на венике и моей спине. Непередаваемое удовольствие овладело мной. Мышцы расслабились, и казалось, что я растекся по горячей лавке и никогда уже не смогу подняться с нее. Между тем веник гулял по моим рукам, безвольно брошенным вдоль тела, по спине и ногам, навевая негу и сон.
Из дремотного состояния вывели распаренные небольшие ступни, опустившиеся рядом с головой. Думая, что это Кешка, Максим с трудом поднял голову, и взгляд его стал подниматься вверх по крепким икрам с прилипшими к ним листочками, по круглым коленям, все выше и выше…
Со стоном я закрыл глаза и рухнул лицом на лавку.
– Дуська, не мешай, ведьма, – шутя, огрела ее по ягодицам веником Пелагея, – ступай папеньку попарь, – съехидничала она, зачерпнув ковшом холодной воды и опрокинув содержимое на меня. – Экое ты золото, – произнесла она, взъерошив мокрые мои волосы, и присоединилась к остальным.
Полежав еще какое-то время, я с трудом добрался до предбанника и с жадностью выпил полный ковш кваса.
Через минуту появился Кешка.
– Что, напарился? – подмигнул он. – Айда-ко, брат, под дождь.
Дышалось удивительно легко. Воздух был свеж и чист до звона.
Когда мы, удивительно бодрые и веселые, снова ввалились в предбанник и стали в лохани мыть ноги, из парилки, кряхтя и всхлипывая, с трудом передвигаясь, поддерживаемый женщинами выбрался дед Изот.
– Квасу! – чуть слышно просипел он и, как куль с мукой, брякнулся голым волосатым задом на лавку.
Женщины, смеясь, поинтересовались: – С мятой аль с липовым цветом, тятенька?..
– Любого давайте, окаянные, – прохрипел он.
– Выпей кваску, забудешь тоску! – Пелегея подала свекру кружку и скрылась в парилке.
4
Русская армия отступала, преследуемая более удачливыми французами. Потрепанные не столько врагом, сколько беспорядком и путаницей, голодные, грязные и оборванные колонны русских войск отходили сначала к Вене, затем дальше – вниз по Дунаю. Противник и бестолковые союзники не давали времени остановиться, оглядеться, окопаться и принять бой. А может, такова была стратегия Кутузова?.. «Главное – спасти армию!» – рассуждал он, забывая, что армия – это организм, предназначенный сражаться и побеждать, а при отступлении он разлагается и, в конце концов, гибнет, если не от рук врага, так от болезней, если не от ядер и пуль, так от холода и голода… Отступление деморализует армию и превращает ее в толпу испуганных людей.
Главнокомандующий, видимо, понимал это и в конце октября, перейдя уже на левый берег Дуная, решился и атаковал дивизию Мортье. И была победа, взбодрившая русские войска, поднявшая их боевой дух, напомнившая, что они русские и привыкли побеждать, а не отступать. И главное, была передышка от постоянного бегства. Впервые за две недели изнуренная армия имела возможность хоть немного передохнуть и залечить раны.
Гусарский полк расположился под горой неподалеку от небольшой австрийской деревушки. Справа от полка, близ аккуратного леска, а может – парка, разместился пехотный полк и батарея из четырех орудий на горе. С левой стороны русских войск не было, зато, к огромной радости гусар, раскинул шатры табор австрийских цыган. Они быстро разожгли костры и стали терпеливо поджидать гостей. Рубанов велел поручику Алпатьеву произвести фуражировку.
– Поручик! – давал последние наставления ротмистр, расхаживая взад и вперед перед небольшой командой понурых гусар, сидевших на замотанных лошадях, и Алпатьевым, державшим коня в поводу. Поручик был молод и смешлив. Делая вид, что внимательно слушает командира, он подкручивал только начинающий пробиваться ус и мечтательно поглядывал на цыганские шатры и женщин в ярких цветастых юбках. Ноздри его горбатого носа едва приметно подрагивали, улавливая романтичный дым цыганских костров. Мыслями, разумеется, он был не на фуражировке, а в шатре рядом с красавицей цыганкой, певшей ему песни, улыбавшейся обещающей улыбкой и призывно встряхивающей юбками.
– Поручик! Черт-дьявол! Проснитесь, – без злости рявкнул ротмистр, в душе похвалив гусара. «Что же это за молодой офицер, ежели о службе он будет думать больше, нежели о женщинах?!» – …Кроме корма для лошадей поищите в деревне чего-нибудь съестного и для ребят, может, увидишь беспризорную курицу… или там поросенка – тут же хватай! – отпустил он наконец маленький отряд. – А главное, о вине не забудь! – вспомнив, закричал вслед поручику.
Тот кивнул и тут же, привстав на стременах, вперился взглядом в табор.
«Следует вечерком непременно заглянуть к цыганам…» – улыбнулся ротмистр.
– Надеюсь, скучать нам тут не придется? – отвлек его подъехавший князь Голицын.
– Вечно вы, князь Петр, неожиданно подкрадываетесь, – вздрогнув, ответил ему Рубанов, с удовольствием разглядывая ладно сидящего на породистом вороном скакуне друга. – Куда направился?
– Да вот решил рекогносцировкой заняться.
– У цыган, что ли, ваше сиятельство? – засмеялся Рубанов, вставив ногу в стремя и легко вскочив в седло. – Тогда я с вами.
– Мон шер, давайте прежде объедем позицию, – беспокойно взглянул князь на деревушку. – Полагаю, сия передышка будет недолговечною.
– Надоело отступать, – вздохнул Рубанов. – Где же Суворовы, Потемкины или Орловы? Никогда еще не позорился я перед врагом своей спиной!
– Суворовы, Румянцевы… Я все думаю, отчего мы, русские, так любим воевать?
– Как отчего?! – даже поперхнулся Рубанов. – А что на свете прекраснее войны? Что сильнее всего дает ощущение жизни? – Война!!. А карты, вино и женщины – это лишь золотая оправа бриллианта войны…
Печальные глаза князя повеселели, когда он обернулся к вдохновенно размахивающему свободной от повода рукой ротмистру.
– Может, вы и правы, мой друг, не знаю, – улыбнулся он. – Ежели нам дано это понять, то лишь перед смертью…
– Б-р-р-р! – передернул плечами Рубанов и натянул повод – лошадь всхрапнула, завертелась на месте, а потом резко встала на дыбы. Справившись с лошадью, Рубанов похлопал ее по шее, успокаивая. – Князь! Что может быть противнее смерти от старости в собственной постели, на пуховых перинах?.. Умереть приятно в бою, забрав в компанию несколько врагов, чтобы было с кем драться и на том свете – хотя там можно и просто погонять чертей…
Погода снова испортилась. Мелкий и нудный осенний дождь впитывался в неуспевший просохнуть когда-то красный гусарский ментик. Ветер усилился. Черные мрачные тучи низко нависли над лагерем. Темнело! Сероватая австрийская грязь чмокала под копытами лошадей. Шумел деревьями редкий лесок.Сидевшие у костра несколько солдат живо вскочили, завидев офицеров.
– Садитесь! – благосклонно разрешил Рубанов. – Кто такие?
– Пяхота мы! – вскинулся снова маленький конопатенький солдатик с огромными оттопыренными ушами и в длинной, до земли, шинели.
– Пяхота! – передразнил Рубанов, с пренебрежением глядя на солдата. – Сам вижу, что пехтура, а какого полка?
– Дядя, какой мы полк?.. Опять позабыл, – сконфузился маленький солдатик, растерянно оглянувшись на седоусого пожилого капрала, в одной белой рубахе сидевшего у костра.
Тот не спеша поднялся, неловко выронив ложку из крепких рук.
– Шастой пехотный полк его ампираторского величества, – доложил он, недоброжелательно глядя на приезжих офицеров: «Шляются, бездельники, и поесть не дают».
К гусарам подошел пехотный капитан и тихо поздоровался.
– Господа, милости прошу к шалашу, – кивнул куда-то в темноту, стараясь скрыть раздражение от дождя, грязи и непрошенных гостей.
Рубанов, почувствовав его настроение, обиделся, и неожиданно в нем взыграло чувство гордости за себя и свой кавалерийский полк. С пренебрежением, свойственным щеголеватым гусарам и коннице вообще к другим родам войск, он с язвительной учтивостью отказался, в придачу понизив капитана в звании.
– Извините, господин поручик, и благодарю за столь щедро предлагаемый ужин, но мы спешим-с. – Поворачивая коня, брызнул грязью в пехотинцев.
«В мое бы вас подчинение, – уходя к себе в палатку, мечтал пехотный капитан, – с вас бы быстро спесь сошла после нескольких пеших переходов, а то важные какие! Я тоже офицер и дворянин…» – Сел он на необструганный пенек и зябко запахнул сырую шинель. Вода, скопившаяся в центре намокшей палатки, по капельке просачивалась внутрь и попадала на ящик, заменявший стол.
– Сенька! Подавай ужинать, – притопнув сапогом по перемешанной с соломой грязи, закричал денщику.
– Право, это смешно, ротмистр, – с усталой укоризной выговаривал Голицын.
– Совершенно с вами согласен, князь, но как эту пехтуру не уесть… ставят из себя черт знает что. Царица полей!.. – ехидничал он.
– Посадить бы их на коней, то-то хороши бы были. Откеда мы, дядя? – вспомнил молодого солдатика и рассмеялся. – Пскопские мы! – развеселился сам и рассмешил князя Рубанов. – Пяхота, одним словом!
Вокруг них носились солдаты шестого пехотного – кто с охапкой дров, кто с котелком, кто в шинели, кто в одной рубахе. Лагерная жизнь текла своим чередом.
Рубанов, как недавно его поручик, с наслаждением втянул в себя дым костров.
– Красота! – с удовольствием разглядывал эту суету.
В одном месте солдаты, радостно крестясь, опрокидывали в рот порцию водки и, блаженно жмурясь, закусывали кашей.
«Как мои там? – забеспокоился ротмистр. – Привезли чего-нибудь или нет? Да конечно, привезли… гусары все-таки!»
Этот балаган, на военном языке именуемый лагерем или биваком, неожиданно успокоил его, вернул утраченное за дни отступлений хорошее настроение.
– Поеду перед капитаном извинюсь! – неожиданно вслух решил он. – Приглашу в карты поиграть или цыган послушать…
А дождь все лил и лил. «Зря плащ не взял», – поежился Рубанов.
– Князь! А вы заметили, что дожди здесь необычайно противны?.. Я полагаю, что такие дожди идут только в Австрии. В России дожди благородные, – развивал он понравившуюся тему по дороге к своим, – …грибные, ягодные душистые… – закатил глаза, – словом, русские дожди… Помните, князь?
Голицын помнил… Казалось, недавно, вчера только, прощался с женой в дивном, благоухающем парке, разбитом рядом с барским домом в родовом имении. И ведь тоже шел дождь. Точно! Нежный, ласковый дождь. Или это слезы текли по лицу княгини Катерины?
Голицын вздохнул и вспомнил ее глаза – глубокие, словно омуты, и свое отражение в этих бездонных омутах… Увидел барский дом, парк и вновь ощутил радость от того, что эта стройная, гибкая женщина любит его; и печаль – что предстоит разлука… И будто почувствовал, как тонкие руки ее ласкают его волосы и лицо, а губы целуют и не могут оторваться. «Вот в чем счастье!.. В любви, а не в войне!..»
– Но-о! – безжалостно вонзил он шпоры в конские бока и вскачь понесся к лагерю.
Рубанов, удивившись и забыв о непогоде, тоже пришпорил лошадь. «Меньше думать надо, от мыслей одно лишь беспокойство…» – Догнал друга у самых костров.
Лошади, прядая ушами и брызгая пеной с мундштуков, нервно и запаленно били копытами. Отдав вожжи коноводам, офицеры, будто ничего не случилось, прошли в командирскую палатку. Голицын доложил обстановку и сел к столу.
– Господин полковник, разрешите отлучиться, – приложил два пальца к виску Рубанов.
– Поешь сначала, – улыбнулся командир, уважительно глянув на ротмистра: «О солдате думает!» – Твой поручик докладывал о прибытии с фуражировки. Всё в порядке. И нам вот презент приподнес, – указал рукой на жарящегося на огне поросенка.
– Разрешите, Василий Михайлович, эскадрон наведаю, – стоял на своем ротмистр.
– Ну идите, только быстро, – сглонул слюну полковник, – а то мадера прокиснет, – водрузил на стол, радостно гогоча, грязную корзину с вином. – Хороший у тебя заместитель, заботливый. Заморим червячка, господа – и к цыганам, – разошелся он.
«Никогда наш командир не похудеет», – подумал, уходя из палатки, Рубанов.
Его эскадрон, разбившись на небольшие группки, ужинал у костров. Так же, как давеча пехота, гусары были одеты кто во что горазд – некоторые в рубахах, а другие накинули ментики или плащи.
Чтобы не уронить репутацию лихого рубаки и поднять боевой дух своих людей, Рубанов подходил к кострам, нарочито гремя шпорами и громко ругаясь. Увидев и услышав своего начальника, гусары заулыбались и начали вставать, чтобы поприветствовать командира.
Махнув рукой, Рубанов усадил их и отведал ужин из деревянной чашки, поданной каптенармусом.
– Прилично! – похвалил он дымящуюся кашу. – А главное, с куриной добавкой, – подмигнул заржавшим кавалеристам.
Горбоносый Алпатъев бежал к нему от офицерской палатки для доклада, загодя поднося два пальца к киверу.
– Молодец, молодец! – похвалил он поручика. – Славно расстарался, – похлопал по плечу зарумянившегося от удовольствия офицера.
– Аким Максимович, извольте отужинать с нами чем бог послал, – пригласил командира Алпатьев, скосив глаза в сторону цыганского табора.
– Извините, поручик, полковник ждет для важной беседы, – улыбнулся Рубанов.
Молодой офицер не смог остаться серьезным и ответил на улыбку, растянув детский еще рот от уха до уха.
– Надеюсь, поручик, скучать вы сегодня не будете? – уходя, засмеялся Рубанов, еще раз с любовью оглядывая свое отдыхающее воинство.
«Православное русское воинство! – с гордостью подумал он. – И какая разница – конница или пехота… – Пожал плечами, удивляясь, зачем вспылил на капитана. Тот даже в карты отказался играть. – Все мы русские люди, объединенные одной целью – выжить… И не просто выжить, а победить! И чем сильнее пружина сожмется, – вспомнил он горечь отступления, – тем сильнее ударит потом, разжавшись!»
Приблизительно в это же время дежурный штаб-офицер пропустил в «кабинет», роль которого выполняла маленькая беленая комнатушка в уютном домике под черепичной крышей, генерала Ромашова.
За столом сидел, устало вытянув ноги и подставив спину теплу, шедшему из камина, князь Багратион. Локтями он опирался на стол и, глядя на вошедшего узкими, тусклыми от постоянного недосыпания глазами, непроизвольно или, нервничая, сжимал и разжимал сухие крепкие кулаки.
– Ваше сиятельство, имею честь явиться…
Устало глядя на вошедшего, командующий молча указал рукой на свободный стул с мягким сиденьем и выгнутой спинкой.
– Садитесь, Владимир Платонович, – растягивая букву «р», гортанно произнес он, прерывая доклад Ромашова, и разгладил лицо сухими ладонями. – Как солдаты? Сыты, отдыхают? – но ответ не выслушал, снова перебив Ромашова, – другие мысли и заботы беспокоили князя. – Казачьи разъезды донесли, что неприятель рядом, – заскрипел зубами Багратион и медленно поднялся из-за стола, помахав вверх-вниз ладонью, предлагая генералу сидеть. – Михаил Илларионович, – запутался он в буквах «л», – собирается завтра отходить на новые позиции, – голос князя стал тверд и звонок. Убрав руки за спину, он размеренно ходил на небольшом свободном пространстве комнаты. – Вам, генерал, – опять усадил сделавшего попытку встать Ромашова, – надлежит назначить в своей бригаде арьергард из пехотного полка, артиллерийской батареи и эскадрона конницы. Объясните людям, что задание опасное, но героев ждут Георгиевские ленты, Владимиры с бантом, а вам, за удачную операцию – Владимир 2-й степени.
На этот раз он не сумел заставить Ромашова сидеть.
– В-а-а-аше сиятельство!.. – приложил руку к груди генерал. – Не извольте сомневаться, задержим врага. Так и передайте Кутузову… генерал Ромашов, мол, крови не пожалеет за государя императора! – Багратиону все же удалось усадить и заставить замолчать расчувствовавшегося Ромашева. – …Да я!.. – снова начал было генерал, но князь строго поглядел на него ясными уже глазами. Сна в них как не бывало.
– Соблаговолите дослушать! – недовольно продолжил он. – Арьергарду сражаться до вечера, затем отходить к мосту и после переправы взорвать его. Сражаться до вечера! Слышите? До ве-че-р-р-ра! – по слогам произнес он, округлив глаза и остановившись перед Ромашовым. – До вечера… – устало повторил и тяжело не столько сел, сколько рухнул в жалобно заскрипевшее кресло. – Свободны, генерал, – вызвал он штаб-офицера. – Не забудьте – последние взрывают мост!.. – не сказал, а скорее, прошептал командующий.
«Славно! Славно! – спешил в бригаду Ромашов. – Владимира 2-й степени высочайше пожалуют! – прикидывал место на мундире. – Вот славно-то, – высунувшись из коляски, сплюнул, чтоб не сглазить. – Быстрее, болван, ткнул в спину солдата-кучера».
У цыганских костров, освещавших сумрак ночи, разгоняя мрак и неизвестность в офицерских душах, плясали юные цыганки. Собрались здесь лишь свои, гусарские офицеры. Сунулся было артиллерийский капитан, базировавшийся на горе, но его посчитали слишком серым и скучным и отправили укреплять люнет.
У цыган оказалось много вина, которое они продавали втридорога. Офицеры платили не скупясь. Аким Рубанов, положив потертую ташку на колени, часто запускал в нее руку, представляя, что лезет за пазуху к молодой, красивой и гибкой цыганке в красной юбке, которая била в бубен, томно изгибаясь под тягучую музыку, и громко, с надрывом и будоражащей кровь хрипотцой, пела на непонятном языке близкую русскому человеку песню. Рубанов, вытащив мятые рубли, с трудом поднимался и одаривал женщин. Еще три цыганки грациозно скользили босыми ногами по ковру, брошенному на сырую землю. Два низкорослых толстых цыгана аккомпанировали им на гитаре и скрипке.
– Жги, жги! – подпрыгивал на седле полковник и старался щелкать пальцами в такт мелодии.
Дальше, за ковром, заменявшим подмостки, горел огромный костер, норовивший застлать дымом пляшущих цыганок в тот момент, когда они становились напротив огня и сквозь просвечивающую материю офицеры могли видеть их тонкие, стройные ноги.
Седло, на котором сидел Алпатьев, одной стороной опиралось на камень и от этого качалось взад и вперед, – но увлекшемуся поручику было лень передвинуть его… «Во-первых, можно пропустить что-нибудь этакое… Во-вторых, дает эффект скачки!» – рассуждал он, заваливаясь назад и выливая на ментик с когда-то золотыми шнурами полстакана вина. У ног Голицына стоял полупустой кувшин с виноградным вином, из которого он часто наполнял стакан. Князь молча, без пьяных криков, наслаждался грациозностью движений цыганок, их пластичной гибкостью, полной неги и очарования, манящим полетом рук и зовущими голосами. Одна из танцовщиц чаще других подходила к тому краю ковра, у которого он сидел. Цыганка кружилась перед ним, распуская веер из юбок, временами наклонялась спиной к земле, в такт музыке подрагивая плечами и падая коленями на ковер, с очаровательной хрипотцой в голосе пела томную песню, иногда замирая в экстазе танца, а то взрывалась, в бешеном темпе срываясь с места. Черные влажные глаза ее не отрывались от князя, а маленькие девичьи грудки нежно подрагивали от резких движений. Голицын лишь слегка, уголком рта, улыбнулся ей и швырнул на ковер горсть серебряных монет. Его печальные глаза чуть потеплели от жара цыганского костра, вина и песен.
– Господа офицеры! – заорал, подняв наполненный стакан, полковник. – За женщин и любовь, господа. – Одним махом опорожнил стакан.
Порыв ветра на минуту накрыл дымом плясуний и зрителей. Офицеры зажмурились и заслонились руками, один Алпатьев, мужественно раскачиваясь в седле, слезящимися глазами не отрываясь следил за юными ногами, вздымавшими юбки. Все цыганки, кроме танцующей для Голицына, по совету вождя, несмотря на холод, оставили лишь по одной юбке. Самая стройная из них, встав напротив Рубанова, била в бубен и плавно поводила бедрами, ноги и плечи ее при этом оставались спокойными. Огонь так освещал плясунью, что она казалась раздетой. Офицеры замерли в восхищении.
Мелко вздрагивая плечами, то ли от холода, то ли в ритме танца, цыганка стала клониться и встала на колени. Длинные черные волосы закрыли ее лицо. Плечи затряслись сильнее, а торс прогибался назад до тех пор, пока затылок не коснулся ковра. Женщина застыла в этом положении, лишь чуть трепетала и вздрагивала ее грудь. Рубанову даже казалось, что он чувствовал тепло, исходящее от женщины, и запах разгоряченного тела. Не утерпев, возбужденный хмелем, танцами и плясуньей, под рукоплесканья товарищей, он упал перед ней на колени, и рука с ассигнациями проникла за декольте, ощутив божественную, такую податливую нежную и мягкую плоть. Женщина вздрогнула от неожиданности и стала медленно выпрямляться. И, стоя друг перед другом на коленях, они обнялись, при этом Аким сорвал такой душистый и страстный поцелуй пылающих алых губ, что у него самого затряслись плечи и, как у мальчишки, закружилась голова…
Закружилась она, видно, и у Алпатьева, потому как с криком «Чавелла!» он резко, вместе с седлом, накренился вперед, а затем плавно врезался носом в землю и в ту же секунду заснул, не выпуская пустой стакан и почмокивая губами. Восторгу офицеров не было границ. Даже Рубанов, на время забыв о цыганке, принялся поднимать поручика.
– Слава Богу! – перекрестился он под хохот друзей. – Багратионовский нос не пострадал!
– Господа! – достав пистолет, полковник выстрелил в воздух, дабы привлечь внимание. – Именно хочу сказать вам, господа… Окажите любезность, давайте выпьем, – язык уже плохо повиновался ему, – за любовь, господа…
Пистолет у полковника отобрали и, пока он не повторил опыт своего подчиненного, тоже унесли в шатер и положили рядом с Алпатьевым. Опять хлынул дождь. Огонь зашипел, и костер начал нещадно дымить. Ветер играл одеждой женщин.
– Дамы! Не держите юбки руками, – смеялся Рубанов.
Дамам, однако, стало не до шуток. Они посерели от холода, а кожа их покрылась мурашками.
– Ух ты, моя шершавенькая! – потащил Аким слабо сопротивляющуюся цыганку не в шатер, а в свою палатку, без конца целуя ее в смуглую шею. «Зачем я буду кормить голубой кровью цыганских тощих клопов? – рассуждал он, не отрываясь от женщины. – Пусть попляшут голодными, а мои родные армейские клопики заслужили отведать сладкую цыганочку…»
– Лучше всего любится перед боем в армейской палатке, – разъяснил он подружке, – а не в побитом молью шатре.
Но любить этой ночью ему не пришлось.
Генеральский вестовой на взмыленном коне остановился как раз перед палаткой Рубанова и, завистливо глядя на него и цыганку, во все горло завопил, зловредно выпучив глаза: – Полковника – к генералу!..
– Чего орешь? – отпустил цыганку Аким и смачно икнул. – Занят полковник. Рекогносцировку проводит. – Обняв цыганку, хотел проникнуть в палатку, но вестовой загородил вход конем.
– Господин ротмистр! – значительно произнес он, напоминая тоном командира бригады. – Генерал Ромашов получил приказ лично от Багратиона! – Ноздри его жадно затрепетали, уловив запах вина от Рубанова и греха – от цыганки…
В штабе генерал-майора Ромашова, кроме него самого, находился пехотный полковник – седенький старичок в мятом мундире, капитан, которого прогнали укреплять позицию гусары, и пьяный вдрызг Василий Михайлович, которого с трудом доставил к генералу Рубанов.
– Какая мерзость, – завидовал пьяному гусару пехотный полковник. – А у меня язва… – объяснил он Ромашову.
Но генерал плевал на полковничью язву и даже на то, что другой полковник был вдрызг пьян. Орден!!! – вот что интересовало его. «Этот пьянчуга ничего не поймет! Скверно… Так и награду можно потерять. Ну ничего, я его потом поздравлю», – начал раздражаться генерал.
– Позвать сюда сопровождающего! – приказал он вошедшему штаб-офицеру, кивнув на осоловелого гусара, старательно таращившего глаза и пытавшегося понять, куда подевались цыгане и что он тут делает.
Вошел Рубанов и доложился генералу. Полковник хотел ему что-то сказать про цыган, но уронил тяжелую голову на грудь и громко захрапел, с трудом удерживаясь на стуле. Узнав нахала ротмистра, Ромашов заиграл желваками. «Его-то и оставлю в арьергарде, – решил он. – Пусть французу погрубит», – повеселел генерал.
– Ротмистр! – строго сдвинул брови Ромашов. – Ежели хотите, чтобы для вашего командира сегодняшний курьез остался без последствий, – он значительно замолчал, дав время Рубанову поразмышлять над ситуацией, – вам надлежит со своим эскадроном проявить чудеса героизма! – торжественно поднялся из-за стола. – За удачное проведение батальной операции вас всех ждут награды…
У Ромашова ужасно зачесалась грудь в том месте, где должен сиять «Владимир». «К добру, явно к добру!» – незаметно постучал сжатым кулаком по столу. Настроение его стало прекрасным. «Вот был бы подарок к пятидесятилетию!»
– Господа, – прошу вас к карте, – оторвавшись от приятных мечтании, предложил он присутствующим. – Ах да! – отвлекся от карты генерал. – Суть заключается в том, чтобы до завтрашнего вечера задержать неприятеля. Приказ самого князя Багратиона! – важно кивнул на потолок. – Князь надеется на нас… А вечером спокойно переходите через мост, взрывайте его, присоединяйтесь к войскам и получайте награды… Все просто!.. – путался мыслями Ромашов.
Уже ранним утром, не спеша, легкой рысцой, двигались к своему полку гусары. К ним в компанию навязался и артиллерийский капитан.
– Не извольте беспокоиться, господа… – приятным баритоном говорил капитан, – до вечера продержаться – раз плюнуть. – Неумело подпрыгивал он на лошади.
«Мешок с мукой! Вдохновлять еще вздумал, – злился Рубанов. – Какую цыганочку упустил, – скорбно вздыхал он. – Ну, держитесь, господа-французы, этого я вам не прощу!»
Полковник уже прочухался и удивленно крутил головой.
– Где это мы? – спросил недоуменно. – И куда подевался табор?
Артиллерийский капитан радостно хихикнул, а Рубанов тяжело вздохнул.
– И правда, господа, как закончился вечер? – подавляя в себе обиду, зловредно поинтересовался капитан. – На всех ли хватило женщин? – радостным баритоном язвил он, догадываясь, что у гусаров ничего не вышло.
– Гениальный оратор и стратег, – переменил неприятную тему Рубанов, вспоминая генерала, – все у них с капитаном легко и просто, – недобро покосился на артиллериста.
Рассветало. Рваные тучи, заслонявшие голубизну неба, медленно и неохотно рассеивались, пропуская сквозь свои серые спины первые утренние лучи.
– Слава Богу, хоть дождь прекратился, – жужжал капитан, – с такой-то видимостью я из пушки французу в лоб за полверсты попаду! – хвастал он, напружинивая ноги в стременах и стараясь не прыгать в седле.
«Ага! – приметив это, воодушевился Рубанов. – Уже мозоли на заднице натер!» – порадовался за капитана.
Полковник, хмуря лоб, мрачно изучал пакет с диспозицией.
– Значит, опять отходить? Скверно! Только привыкли… А ваш эскадрон остается?! – прочел до конца план и обернулся к Рубанову.
– Счастливчик вы, батенька… Очередного Владимира с бантом, считайте, уже получили. А славно ночь провели! – хватаясь за больную голову, подытожил Василий Михайлович. – Право, Рубанов, приглашайте меня почаще на такие божественные церемонии… Нет, нет, – замахал он рукой на пожелавшего что-то сказать товарища. – Я не про генерала говорю!
5
Грязная дорога постепенно загромождалась повозками и пехотными батальонами. Армия отступала! Офицеры съехали с дороги на целину и молча смотрели на толпы невыспавшихся солдат, цеплявшихся винтовками, ранцами и беззлобно материвших друг друга. Следом пошла и артиллерия. На невысоком подъеме, по колено проваливаясь в грязь, солдаты на руках вытаскивали пушки, помогая лошадям.
– Ну вот, не успели подвертки просушить, как опять отступаем! – собирались в поход и гусары.
Сбросивший хмель полковник, надрывая горло, руководил отходом. Особенно доставалось от него вахмистрам и каптенармусам.
– Смотрите чего не забудьте, черти! – грозил кулаком Василий Михайлович. – Собственноручно палкой выдеру…
Вахмистры орали на рядовых, иногда пуская в ход кулаки. Лишь рубановский эскадрон никуда не спешил. Гусары от души веселились, наблюдая за сборами своих товарищей.
– Антипка! – ржал высокий красивый гусар, обращая внимание стоявшего рядом с ним коренастого плотного усача на тощего гусара, тащившего ранец. – Поди цыганку из повозки вытащить забыл?!
– Он ее замест амуниции в ранец запихал! – поддержал шутку коренастый. – Во, во! – толкал уже высокого и указывал ему на тащившего длинно скатанную палатку белобрысого и скуластого парня.
– Гришака! – аж захлебнулся от восторга красивый гусар. – Собака такой! Куда девку поволок?..
Белобрысый волком глянул на них и, пыхтя, зашвырнул ношу на фуру.
– Убьешь бабу! – хохотали приятели. – Вахмистр! – попытались прицепиться к пробегавшему мимо краснорожему мордастому гусару.
Но тот покрыл их таким отборным и красочным матом, что даже привыкшие ко всему лошади чуть не попадали в обморок…
Скрываясь от этого хаоса, Рубанов решил подняться на пологую, невысокую гору, скорее даже, холм, к артиллерийскому капитану. На батарее царил порядок, что выгодно отличало подразделение от суматохи, творившейся внизу.
Четыре пушки строго глядели стволами в сторону предполагаемого неприятеля. Вдоль орудий монотонно ходил аккуратно одетый часовой с винтовкой за правым плечом. Увидев постороннего, он скинул с плеча винтовку и перегородил проход.
– Не положено, ваше высокоблагородие.
Солдат понравился Рубанову своей обстоятельностью и серьезным отношением к службе. Подбородок его был чисто выбрит, усы и волосы подстрижены.
– Ну, коль не положено, так вызови, братец, командира, – благодушно сказал Рубанов.
Капитан давно уже заметил гусара, но потянул время, сидя в палатке: «Пусть маленько понервничает», – решил он.
Насладившись маленькой местью, наконец вышел, дав знак часовому нести службу дальше.
– Хороший солдат! – похвалил Рубанов артиллериста. – Такого можно даже в гусары зачислить! – Что, по его мнению, являлось высшей похвалой.
– Да он и не пойдет! – обиделся капитан за свой род войск. – Эка невидаль – на кобыле трястись да железякой махать!.. А спроси твоего гусара, сколько будет два прибавить три, так у него башка лопнет, а все равно не скажет…
– Ежели не скажет, так в капусту изрубит, дабы не повадно было всякие глупости спрашивать, – в свою очередь обиделся за кавалерию Рубанов и поглядел в сторону равномерно ходившего часового, затем взгляд его остановился на ровной линии палаток, на аккуратной коновязи и на артиллеристах, у костров готовящих завтрак.
– Да, господин капитан, молодец вы, вон какой порядок навели! –Капитан зарделся от удовольствия и сразу почувствовал к ротмистру глубокую привязанность..
– Хотите на противника поглядеть? – протянул он подзорную трубу. – Глядите вон туда, в сторону деревни, – указал капитан.
С батареи видно было как на ладони соседнюю деревню и копошившихся в ней солдат. Казачий разъезд скакал от деревни в расположение русских войск. На таком расстоянии казалось, что они еле плетутся.
– Неужели французы? – не мог поверить Рубанов.
Справа от деревни он увидел пушки, грозно нацеленные прямо на него.
– Капитан! А вон и ваши коллеги, – рассматривал он позицию врага. Хищно оскалился, когда разглядел скачущую французскую конницу. «То ли уланы, то ли кирасиры – разберемся, когда рубить начнем! – Перевел трубу на расположение русских войск. Гусары уже строились. – Надо пойти проститься, – подумал он. – Пойду вниз спущусь. – Отдал подзорную трубу капитану. – Увидимся еще».
– Ну, прощевай, Рубанов! – тряс его руку Василий Михайлович. – До завтра. Погуляем еще с цыганами…
Голицын молча обнял друга; отстранившись, сказал:
– Ты, Рубанов, не опаздывай. Завтра вечером фараон[2] заложим. Отыграться хочу, – хлопнул его в плечо ладонью и, четко повернувшись кругом и придерживая ножны сабли, пошел к своему эскадрону.
«Деньжонки не помешают! – прикидывал Аким. – А то здорово на цыган поистратился и, главное, без толку…» – опять расстроился он. О таборе напоминала лишь зола от костра… Оставшаяся русская пехота уже копала траншеи. «Готовится полковник, один я только без дела болтаюсь». Его гусары стали серьезны и молча глядели на командира.
– Алпатьев! – позвал своего заместителя. – Веди людей за возвышенность, здесь окопы станут рыть, а один взвод двинь вперед, во фланкерскую цепь.
До обеда стояла тишина. Французы разложили костры, пили чай и завтракали. Рубанов приказал готовить обед, а сам снова поднялся к артиллерийскому капитану. В полдень он увидел в трубу, что французы засуетились и стали строиться. В ту же минуту вдалеке различил, как из жерла пушки выплыл плотный шар белесого дыма. Очертания его постепенно расплывались. Звука он не услышал, однако заметил разрыв гранаты неподалеку от пехоты. Небольшой неприятельский отряд, вытянувшись в цепь, пошел в сторону русских. Следом за первым из соседней пушки выпорхнул второй клубок дыма. На этот раз Рубанов расслышал звук выстрела, или ему так показалось от волнения.
– Началось!.. – облизнул пересохшие губы.
– Прислуга – к орудиям! – враз охрипнув, скомандовал капитан, забрав у Рубанова трубу.
Артиллеристы четко выполнили команду и зарядили орудие.
– Первое! – послышалась команда капитана, и оглушительный щелчок на минуту заложил уши.
Ядро немного не долетело до неприятельской цепи.
– Картечью! – услышал, спускаясь вниз, Рубанов и вслед за звоном выстрела увидел дым, накрывший часть вражеской цепи, и взрыв на месте падения заряда.
Несколько вражеских солдат упали, но цепь, как хорошо заведенный и отлаженный механизм, продолжала двигаться дальше. Уже невооруженным глазом Аким разглядел фигурки в синих шинелях.
– Сейчас, братцы, будет потеха! – подошел он к своим. – На конь! – отдал команду.
Фланкеры, наблюдавшие за действиями неприятеля, доложили о наступлении противника и влились в готовый к бою эскадрон. Из неглубоких русских окопов раздались сначала одиночные, а затем частые выстрелы, перешедшие постепенно в сплошной треск. Перекаты выстрелов шли и от французской цепи. Выглянуло солнце, осветив противоборствующие стороны, и заискрилось на вычищенных штыках, готовых вспарывать податливую живую плоть. Дымы от выстрелов закрыли вражескую цепь. Гусары пока не вступали в дело. Солдаты и офицеры эскадрона, старательно скрывая тревогу, говорили о чем угодно, только не о предстоящем сражении. Несколько ядер, шипя, упали и взорвались под горой. Люди нервничали, глядя вперед, вслушивались в звуки выстрелов и ждали команду – в атаку!
Рубанов с веселой притворной улыбкой для поднятия боевого духа гарцевал на коне впереди эскадрона. Несколько пуль просвистели над его головой. Молодцевато пригладив небольшие мягкие усики, широко разевая рот, он смачно, в голос, зевнул и вытер тыльной стороной ладони глаза. Видя, что их командир спокоен и даже зевает, гусары расслабились и повеселели.
Неожиданно из-за дыма вылетел вестовой с счастливым закопченным лицом.
– Господин ротмистр! – звонкий голос его сломался и дал петуха, но в это время рявкнула над головой русская пушка.
Прапорщик, покраснев, огляделся по сторонам, но, заметив, что никто за шумом выстрела не расслышал петушка, успокоился и, стараясь выглядеть самоуверенным, видавшим виды офицером, ловко, с шиком, отдав честь, доложил, что на фланге пехотного полка заметили вражескую конницу и господин полковник просит секурсу.[3] Сколько там конницы и кто они – уланы или кирасиры – он не знал.
Рубанов поблагодарил прапорщика, покровительственно улыбнулся ему и велел передать его превосходительству, что сейчас они будут и на месте разберутся. Легкой рысью эскадрон двинулся к флангу пехотного полка и немного опоздал… Примерно два вражеских эскадрона – это были уланы, гонялись за русскими пехотинцами, не успевшими построиться в каре.
– Сабли к бою! – И эскадрон свалился на голову не ожидавшему и не видевшему его за горой неприятелю.
Конь под Рубановым споткнулся и чуть не выбросил из седла седока. Тут же, крякнув и выкатив от напряжения глаза, Аким искусным ударом развалил надвое растерявшегося улана. Гикнув и на секунду покрутив головой по сторонам, – видел ли кто его удар из своих – погнался за следующим уланом и свалил его выстрелом из пистолета.
Воспользовавшись неожиданностью нападения, гусары в порыве ненависти яростно рубили французов. Те уже не думали о нападении, а мечтали только спастись, вырваться от этих страшных русских.
Воспрянувшая духом пехота, дико крича «У-р-р-а!», взяла в штыки неприятеля и гонялась за синими мундирами с таким же азартом и остервенением, как недавно их самих преследовали уланы.
Французы отступали! Сверху по ним удачно били картечью наши артиллеристы.
– Вот это мы им показали кузькину мать! – бросив саблю в ножны и часто и глубоко дыша, произнес Алпатьев. – До самого Парижа драпать будут, – радовался он победе и тому, что жив и даже не ранен.
– Пусть еще раз сунутся, руки-то укоротим! – поддержал его красивый гусар, тешившийся недавно над отступающими товарищами. – Я как дал одному! – стал хвастать он перед своим коренастым другом, перевязывавшим руку. – Так и разрубил напополам…
– Ага! – болезненно морщился тот. – И его задница поскакала жаловаться Бонапарту…
– Да не-е, – растерялся красивый, – я и коня разрубил, – понес он явную чушь, развеселив раненого друга. У того даже руку перестало ломить.
– И коня, и седока? – изгалялся он над приятелем. – И сабля по самый эфес в землю ушла, еле выдернул, да?
Плюнув, высокий красавец отъехал и начал хвалиться другому.
– Черт-дьявол! – озабоченно всматривался в неприятельские позиции Рубанов. – Да тут вся их армия собралась, что ли? Тяжеленько нам придется…
– Аким Максимович, – раздухарился Алпатьев, подъезжая к командиру, – мы тут не то что до вечера, неделю стоять сможем! – оживленно улыбался он.
– Неделю? – изумленно изогнул бровь Рубанов. – А почему не месяц? Отведите раненых к лагерю и позаботьтесь, чтобы перевязали. Поешьте сами и накормите людей, вместо того чтобы всякую ерунду болтать, – неизвестно отчего вспылил он.
Алпатъев оскорбленно поник головой, уткнув нос в землю. «Зря я его обидел», – укорил себя Рубанов.
– Извините, поручик ! Не хотел вас, право, оскорбить, – учтиво склонил он голову.
Долго дуться на обожаемого командира Алпатьев не мог.
– Эффектно вы, Аким Максимович, того француза! – уважительно и с любовью глядя на ротмистра, произнес, отъезжая выполнять приказ, Алпатьев.
Похвала вернула Рубанову бодрость и уверенность. «Да что это я затосковал? – скептически улыбнулся он. – Француз бежит, мы победили, а всякие предчувствия в сторону. Негоже гусару, словно дуре-бабе, в приметы верить. Мало ли что конь в атаке споткнулся! Чего-то испугалось животное, а может, в нору копыто провалилось, – успокаивал он себя. – Повоюем еще во славу русского оружия!» – расправил плечи и, завидев пехотного полковника, дернул узду, направляясь ему навстречу.
– Можете себе представить, ротмистр! – издалека кричал довольный полковник. – Думал, что вы не успеете. – Благодарно потряс он руку Рубанову, подъехав к нему вплотную. – И откуда они взялись? – Недоуменно пожал плечами. – Не успели заметить, как они тут как тут, – нервно частил, вытирая трясущейся рукой слезящиеся глаза. – Надо в отставку… Не для моих летов такие страсти терпеть! Ежели бы не ваши гусары, ротмистр… не сладко бы нам пришлось!
«Захвалили, сглазят!..» – сплюнул через левое плечо Рубанов.
– Волос в рот попал, – оправдался перед полковником.
Генерал-майор Ромашов, сидя в кресле за столом, в подражание Багратиону, сжимал и разжимал жирные свои кулаки. Перед ним навытяжку стоял саперный майор и подобострастно «ел» глазами начальство. Насладившись властью, Ромашов разрешил ему сесть и погладил свои пушистые бакенбарды.
– Ну что, майор, армия переправилась?
– Никак нет, ваше превосходительство, – вскинулся майор, по знаку генерала снова усаживаясь на стул, – но, думаю, через пару часов перейдет на другой берег.
– Слушайте внимательно! – грозно, со значительностью в голосе, произнес генерал. – Стойте со своими саперами у моста и, как только переправа закончится, – уничтожьте его!
Сапер порывался что-то сказать, но не смел.
– Вы всё поняли, майор? – видя, что молчание затянулось и офицер мнется, сухо, с металлом в голосе, переспросил Ромашов. – Приказ ясен?!
– Ваше превосходительство, – наконец решился майор, встав по стойке смирно, – я полагаю, что оставшийся на той стороне арьергард, задержав неприятеля, сам уничтожит мост!..
– Тебе не надо полагать! – прервал офицера Ромашов, сердито разглядывая несговорчивого сапера. – Рядовым захотел походить?.. – стукнул он по столу кулаком. – Это тебе не я приказываю, а князь Багратион, – торжественно кивнул в потолок.
Майор пошел пятнами от волнения. «Черт меня дернул рассуждать, – ругал он себя. – Наше дело маленькое – выполнять команду…»
– Господин генерал, вы меня не так поняли, – дрожащим голосом залепетал офицер. – Все будет сделано, не извольте беспокоиться, – лакейски согнул спину.
– Так-то лучше! – успокоился Ромашов. – А то полагать вздумал…
Майор вдруг покрылся липким потом.
– Сделаешь все удачно, станешь подполковником. Лично ходатайствовать буду, а не сумеешь – рядовым. – Поднялся, закончив разговор, генерал.
«Седой уже, а Бога не боится! – выходя из кабинета, думал майор. – Но ничего, грех не на мне – на нем!»
На поле боя опустился туман. Солнце, удовлетворив свое любопытство, занавесилось тучами. Стало влажно и зябко. В палатке полковника как старшего по званию шло совещание. Присутствовали Рубанов и артиллерийский капитан.
– Уже три часа пополудни, – как ребенок, радовался полковник, – везет так везет! Французы думают, что тут основные силы, а получив впридачу по носу, осторожничают и серьезно готовятся к делу, – на одном дыхании выпалил он. – Благодаря туману, – перекрестился полковник на угол палатки, – они и вовсе ничего не различат… Дабы ввести врага в заблуждение еще больше, предлагаю разделиться на две части, – внимательно осмотрел присутствующих, следят ли они за ходом его мыслей. – Батарею, роту пехоты и пол-эскадрона оставим здесь, а остальными силами отступим на пару верст к мосту и займем оборону там… А то вдруг решат обойти с флангов, ежели дознаются, что нас тут мало?..
Рубанову предложение пришлось по душе. Он даже пожалел, что сам не додумался до этого.
Артиллерийский капитан стал сомневаться.
– А как потом я вывезу пушки? Ведь нас непременно окружат…
– Да забудьте вы про свои пушки! – злился полковник. – Наша задача врага задержать, потом вывести людей через мост и взорвать его… А пушками придется пожертвовать!
– Да вы что?! – взвился капитан. – Я с подпоручиков с этими пушками воюю, они мне семью заменяют, а вы – пожертвовать… Буду сражаться, – решил он, – а там – как карта ляжет… Правильно, ротмистр? Так гусары говорят? – невесело засмеялся капитан.
Рубанов с уважением глянул на него и пожалел, что прогнал от цыган. «Какие к черту цыгане! – одернул себя. – Прямо помешался на них». Однако ему захотелось сделать что-нибудь приятное для этого немолодого уже офицера.
– Господа! – произнес он. – У меня осталось немного вина, давайте выпьем за удачу и пожмем друг другу руки… Вдруг больше не увидимся?
– Да полно вам, ротмистр, – вздохнул старичок полковник. Он-то точно знал, что это его последний бой…
Попрощавшись с полковником, Рубанов и капитан вышли из палатки. Гусар птицей взлетел в седло, в отличие от артиллериста, с трудом просунувшего ногу в стремя и долго подпрыгивавшего на другой… Наконец, приноровившись, он все же взгромоздился на свою смирную лошадь. «Кобыла, полагаю, ему тоже досталась вместе с пушками в дни лейтенантской юности, – без насмешки доброжелательно подумал Рубанов, разглядывая понуро бредущую клячу с задумчиво трясущейся нижней губой. – О чем, интересно, мечтают лошади? – стал отвлекать себя от предстоящего боя. – Эта старуха, – снова глянул на капитанскую кобылу, – о жеребце, конечно, не мечтает, – развеселился он. – Ей бы сенца посочнее да мерина поспокойней и поскучнее, – засмеялся ротмистр. – Боже, даже в рифму заговорил».
– Извините, капитан, кое-что смешное вспомнил, – отвел от себя подозрение, что умалишенный, любящего математическую точность и ясность артиллериста.
К себе офицеры ехали сквозь редкие ряды пехотного полка. Часть солдат уже получила приказ и готовилась отходить на новые позиции. Неожиданно из тумана вынырнул солдатик, на ходу поудобнее прилаживая за спиной тяжелый ранец. Кони испуганно всхрапнули, шарахнувшись в стороны. Капитан, выпустив поводья, балансировал руками, чтобы не упасть. Рубанов захотел огреть солдата плеткой, но узнал в этом «изверге» с огромными оттопыренными ушами старого знакомца.
– Эй, пяхота! – опустил руку с плеткой. – В шинели запутался, или ветер в паруса дует? – глянул на его лопухи. – Куда несешься?
– Виноват, ваше высокскародь! – вытянулся солдатик, с перепугу уронив ранец и не смея поднять его.
Капитан наконец вычислил центр тяжести и нашел точку опоры.
– Какого ты полка? – поинтересовался Рубанов, весело глядя на ушастого конопатого воина.
Солдатик от страха аж перестал дышать и в отчаянии оглянулся по сторонам.
– Дядю высматриваешь? – и вовсе развеселился ротмистр. – Опять полк забыл?
– Так точно, ваш бродь. Не идет в голову! – кротко ответил несчастный солдатик.
Рубанову стало его жаль.
– Ладно! Ступай у дяди спроси, – отпустил маленького пехотинца.
– Нет больше дяди, – задрожал конопатым лицом новобранец, – убили его сегодня, – подняв ранец, утер рукавом шинели нос.
– Судьбу не обойдешь! – вздохнул капитан, глядя на загрустившего ротмистра. – Не придумали еще формулу, чтобы вычислить судьбу. А цыганкам-гадалкам и прорицателям я не верю. Жулики все они. Лишь Создателю дано видеть будущее, а не людям!
– Да вы, батенька, философ, – усмехнулся Рубанов, ловко спрыгивая с коня. – Приехали, слава Богу!
Медленно и осторожно, нащупывая ногой землю, спустился с облегченно вздохнувшей лошади и капитан, отдал поводья подбежавшему артиллерийскому унтеру.
– Ну что ж, ротмистр. Давайте прощаться, – стараясь выглядеть веселым, произнес он и полез в карман. – Хотя я и не верю в судьбу, но про вас говорят, что счастливчик, – протянул мятый конверт Рубанову. – Передайте моей матушке, пожалуйста… – хотел еще что-то сказать, но, махнув рукой, повернулся и не спеша пошел в гору, постепенно растворяясь в тумане…
Потом Рубанов не раз видел во сне спокойно шагавшего к небу русского капитана!
В четыре часа французская артиллерия, воспользовавшись туманом, почти вплотную выдвинулась к пустым русским окопам и полчаса в упор расстреливала их. Батальон пехоты и половинка эскадрона весело посмеивались, укрывшись за пригорком. Рубанов договорился с пехотным полковником, и гусары на время, помимо своих, вооружились длинными солдатскими ружьями, тысячу раз обругав их за неудобство.
– Лучше бы у тебя промеж ног такой длины было бы! – прилаживаясь к ружью, высказывал красивый гусар пехотинцу.
– Эт что б я делал с таким огрызком? – разыгрывая возмущение, отбрехивался солдат, посмеиваясь над гусаром. – Низко не опускай ружжо-то, – скалясь, давал он совет, – а то ствол в землю воткнется, а тебя как раз к хранцузу и забросит! – ловко увернулся служивый от своего собственного приклада. – Ну-ну! Полегше! – грозил кулаком гусару. – А то ща как лошадь пришпорю, узнаешь тогда!
– По роже-то рязанской схлопочешь – сам тогда узнаешь. Губищи-то, как у маво мерина станут… – беззлобно бурчал гусар.
Только закончилась артподготовка, как гусары, мчась во весь опор в тумане, палили из ружей и пистолетов в сторону врага, создавая впечатление многочисленной группировки. Расстреляв боезапас, вернулись на исходный рубеж к горе.
– Не война, а игра какая-то, – протянул гусар ружьё солдату, – бери свою пукалку, авось больше не понадобится.
Пехотинец, хмуря лоб, внимательно оглядел оружие.
– А это откель царапина? – неумело корча ужас, вопрошал солдат. – Только стаканом затереть ее можно, меня ж фельдфебель убьет…
– Не успеет! – устало спрыгнул с коня гусар и мрачно стал вынимать из ножен саблю.
Солдат мигом исчез в толпе своих товарищей.
– Самого перешутили!– смеялся над красавцем Рубанов.
– Не знаю, как там у него в штанах, но язык отрастил длиннющий! – резко бросил саблю в ножны гусар.
Французская артиллерия еще с полчаса долбила пустые окопы, а заодно перенесла огонь и на русскую батарею. Капитан со своими подчиненными яростно отстреливался. Тут уже стало не до шуток. Не успели стихнуть французские пушки, как в атаку пошла пехота, а по флангам – конница.
Только теперь французы поняли, что их обманули. Изрытые ядрами окопы были пусты. В бешенстве пехота бросилась на штурм батареи, чтобы хоть как-то смыть позор. Остатки эскадрона, отстреливаясь через плечо, повели за собой лаву вражеских уланов, чтоб артиллеристам было чуток полегче. Туман рассеялся, и примерно в двух верстах Рубанов увидел построенную в каре немногочисленную русскую пехоту. Солдаты пропустили свою кавалерию и дружным залпом остановили вражескую конницу. Погибших в эскадроне пока было немного.
– Порядок, господин ротмистр! – радостно доложил Алпатьев.
Отстреливаясь, четырехугольник пехоты стал отходить к реке. Рубанов вслушивался, но наша батарея больше не била. Сняв кивер, он перекрестился… В это время со стороны реки раздался оглушительный взрыв, и взметнулось пламя.
«Чего это они там? Бочки с порохом, что ли, взорвались? – увидел он отсветы огня и сразу понял причину взрыва; понял, что его с гусарами, артиллерийского капитана и пехотного полковника кто-то обрек на смерть… «Зачем лгали? Сказали бы сразу, что надо, кто б отказался, а так?.. – скрипел он зубами в бессильной ярости. – Жив буду – дознаюсь!» – сжимал кулаки.
Часть французской конницы, обойдя каре, понеслась на гусар.
– Отходим! – приказал Рубанов. «Только вот куда?» – подумал он.
Отбиваясь от напора превосходящих сил, отстреливаясь, остатки эскадрона вышли к реке. Мост догорал, нещадно дымя и роняя искры и головешки в холодную воду.
– Что же это, братцы, а? – чуть не плакал Алпатьев. – Зачем обманули?.. Не поверили, думали струсим?! А-а-а! – заорал он, подняв саблю и бросаясь в сторону врага.
– Прекратите истерику, поручик, – хотел остудить его пыл Рубанов, – вы не… – и тут увидел, как Алпатьев выронил саблю и медленно-медленно никнет к холке коня.
Конь, почувствовав, что его никто не направляет, остановился, и седок, заваливаясь на сторону, стал сползать на землю. Ослабшие пальцы пытались уцепиться за гриву, но сил в них уже не было… Рубанов смотрел в какой-то растерянности, как белые пальцы, безвольно путаясь в черной гриве, разжались и рука стала сначала тихо, а потом все быстрее съезжать с бархатистой холки… Он не успел подхватить тело… Когда подбежал, путаясь в ножнах и пиная ногой ташку, поручик лежал на спине, бессильно разбросав руки.
– Алпатъев, друг! – потряс его Рубанов. – Не умирай… не надо… – Попытался поднять его, но голова на тонкой мальчишеской шее запрокинулась назад. – Ну скажи что-нибудь, Алпатьев? – плача, просил он поручика.
Озлобленный улан, подняв на дыбы огромного коня, занес уже саблю над склоненной головой русского гусара, но столько печали было в его взгляде и столько горечи в лице, что француз, осадив коня, тихо, шагом, отъехал от прощавшегося с товарищем русского.
Перекинув поручика поперек седла и ведя под уздцы двух лошадей, Рубанов направился к реке. Он успел заметить, что от его гусар почти никого не осталось и лишь некоторые счастливчики переправлялись на другой, пустынный и безлюдный берег.
Он успел увидеть, как французские пушки в упор расстреливали картечью русский полк, и ему показалось даже, что увидел старичка полковника, прощально помахавшего ему.
Вскочив в седло и почему-то не удивившись, что жив, он направил упрямившихся лошадей в воду и не мигая смотрел в какой-то прострации на легкую зыбь перед грудью коня, на брызги белой пены, пока сильный толчок в спину не затуманил сознание и не бросил его в глубокую, бездонную пропасть.
6
Барыня Ольга Николаевна, выпив на Святки домашнего вина, приготовленного старой мамкой, поддалась на уговоры сына и решилась-таки перебраться в санях по замерзшей Волге на другой берег, дабы помолиться в ромашовском храме и полюбоваться хоть со стороны на богатую барскую усадьбу. Свою лепту в желание барыни посетить Ромашовку внесла и старая Лукерья, всю неделю перед Святками хвалившая церковную службу, попа и саму ромашовскую церковь.
– Такая лепота, такая лепота… – подавая ли за столом, угощая ли закусками или вареньем, бормотала она. – Лики святые – строгие, стародавние – так и глядят на тебя со стен. А молитвы батюшка басовито чтет, сам важный такой, волосом черный, пузастый, аж дрожь берет, как в полный голос «Верую!» затянет… Съездий, матушка, непременно съездий. Небось, надоело дома-то сидеть?! Я, старая, и то Агафону велела свозить меня…
– Маменька, ну давайте съездием?! – ныл барчук. – Или меня с нянькой пустите.
И вот мать с сыном, поскрипывая снежком, катили на санях морозным солнечным утром по замерзшей реке.
– Свят, свят, свят… – крестилась барыня, когда сани подпрыгивали на кочке из слежавшегося снега.
Колея на совесть была накатана рубановскими мужичками, ездившими в Ромашовку к кузнецу и в лабаз за мукой, но ими и коверкана… В Ромашовке, по дедовской еще традиции, которую грех нарушать, они всегда останавливались у кабака – отведать ромашевской водочки… Вот на обратном-то пути и портили наезженную колею, пересекая сердешную поперек, выезжая из нее, при этом иногда даже переворачиваясь.
– Страсти-то какие, – приговаривала барыня, запахиваясь в старую лисью шубу. – Так и убиться недолго.
Сын ее, глубоко вдыхая морозный воздух, нетерпеливо вглядывался, щуря глаза от блестевшего на солнце снега, в приближающееся село, огромную барскую усадьбу и каменную церковь с высокой колокольней, спрятавшуюся среди столетних лип. Гнедой рысак сноровисто бежал, покачивая задом и постукивая подковами по снежному насту. От этого равномерного постукивания Ольга Николаевна успокоилась и даже задремала. Очнулась она, когда сани накренились назад и успокаивающий стук копыт прекратился. Теперь гнедой, напрягаясь грудью, тащил сани по круто уходящей вверх дороге. Ольге Николаевне снова стало страшно: «Ну-ка перевернемся…» – вцепилась она в перекладину саней побелевшими пальцами.
– Агафон!.. – жалобно простонала барыня. – Ради Христа, поосторожнее ехай.
– Не бойсь, сударыня. Все сделаем в лучшем виде, – ухмылялся тот в бороду и, морща лоб, прикидывал, заглянуть али нет, пока барыня станет молиться, в знаменитый на весь уезд ромашовский кабак.
«Вчерась водка крепкая была, – хвалили мужики, – и жид не сильно обсчитывал…» «Традицию, конешна, опять же, не след нарушать… Ну там видно будет», – тряхнув головой, решил он, взобравшись на крутой берег и пустив коня рысью.
Теперь, несмотря на ритмичный стук копыт, барыня не дремала, а во все глаза, как и ее сын, с любопытством оглядывалась вокруг. «Село, конечно, не Рубановке чета, – завистливо вздохнула Ольга Николаевна, – душ за тысячу наберется, это точно…»
Широкую улицу с крытыми соломой избами разнообразили несколько каменных строений, одно здание даже было двухэтажным. По улице сновала ребятня, норовя прицепиться к саням. У некоторых дворов стояли мужики, но были они гордые и шапку перед барыней не ломали – не велика персона!
– Максимушка, сынок, гляди не вывались, – беспокоилась Ольга Николаевна, когда тот, наклонившись, разжимал пальцы очередного озорника, вцепившегося в сани.
Один только Агафон, не обращая внимания на творившуюся круговерть, безразлично смотрел на конский круп, лишь на минуту оживившись и сморщив гармошкой лоб, когда проезжали мимо кабака.
У длинного ободранного кирпичного здания с обшарпанной вывеской «Лабаз» барыня велела остановиться и, взяв упиравшегося сына за руку, вошла внутрь. Стоявшие у входа двое мужиков в грязных армяках и три крестьянки в овчинных тулупах на этот раз поклонились. Максим, обернувшись, чтобы не видела мать, показал им язык. Единственная агафоновская извилина раскалилась от раздумий – зайти или не зайти?.. Кабак был неподалеку, и Агафон плотоядно разглядывал его заманчивые очертания… На его глазах дверь распахнулась, и с помощью чьей-то ноги в сапоге, на крыльцо вывалился расхристанный мужичонка в лаптях и драной рубахе. Почесав ушибленное место и покричав в закрытую дверь, – что именно, Агафон не расслышал, он промахнулся и шагнул мимо ступеньки… Встав и отряхиваясь от снега, помянул такую-то матушку и, выписывая замысловатые вензеля, напоминавшие императорскую роспись, пошел вдоль улицы, хрипло загорланив: «Ба-р-р-ы-ня! Э-эх!.. Су-у-да-ры-ня-ба-ры-ня! Э-э-х!»
На этот раз Агафон услышал… и сомнения его отпали: «Конешна, зайтить! И чо это я?..» – перекрестился он.
Барыня с сыном, выйдя из лабаза и не увидев кучера, отправились в церковь пешком, благо она была рядом. Помолившись, отдали пятиалтынный местному мужику, чтобы загрузил в сани лежавшего на снегу кучера.
– А что, барина в имении нет? – поинтересовалась помещица.
– Приехали, матушка. Ден этак пять назад приехали вместе с дочкой, – кряхтя под тяжестью Агафона, ответил мужик.
– Напился, свинья! – ругалась барыня. – Ну погоди! Ужо приедем домой!.. – многозначительно произнесла она.
Максим, в отличие от матери, сиял от удовольствия – гнедым-то управлял он. Громко чмокая губами и протяжно выкрикивая: «Н-о-о!», он, гордо подбоченясь, презрительно поглядывал на снующих у саней мальчишек.
– Маменька, а давайте через имение проедем? – предложил Максим.
– Авось не укусят! – не слушая ответа, ударил вожжами коня и повернул в сторону барского парка.
Здесь он оказался не прав. Два огромных волкодава с громким лаем кинулись к саням, когда те проезжали мимо старого флигеля. За флигелем в глубине парка размещались хозяйственные службы.
«Должно, летом здесь красиво!» – любовалась барыня на пересечение четырех липовых аллей, сходившихся к большому кругу с мраморной статуей крылатого мальчика на гранитном пьедестале в центре.
– Вот привязались! – перетянул кнутом одну из собак Максим.
От неожиданности та поперхнулась и закашлялась, уткнув морду в снег и пуская слюну с длинного красного языка.
Второй волкодав сразу вспомнил об одном важном деле, подбежал к постаменту и поднял лапу…
– Маменька! – захлебнулся смехом барчук, показывая кнутовищем на подмоченный у памятника снег. – Барин мимо пойдет, подумает, что это мальчик Венус насикал!..
Ольге Николаевне неожиданно стало грустно. «Как красив этот белый дом с нарядными колоннами, – подумала она. – И главное, всё на месте! Ни одна не отвалилась… Ах, какая прелестная беседка над откосом Волги, живут же люди!»
– Максим, не говори глупости! – одернула в сердцах сына. «Совсем мальчишка от рук отбился: Венус, видите ли, насикал… – тьфу! Вдруг нас в дом пригласили бы? – размечталась она. – Да что я там в таком виде делать буду?! – поглядела на себя и на линяющий заячий тулупчик сына. – Они из Петербурга… Там театры посещали, балы». – со злобой пнула чего-то залопотавшего во сне Агафона.
От барского дома к ним навстречу, красиво выгибая спины, неслись несколько борзых. Почувствовав поддержку коллег, зажиревшие волкодавы несколько раз негромко гавкнули для настройки голоса, а затем, от души подвывая, влились в толпу борзых, которые брезгливо отстранились от этих вшивых неучей, словно господа от холопов. Максим опять покатился от хохота. «Не к добру развеселился!» – недовольно покосилась на сына мать и подняла глаза на вышедшего из барского дома лакея, свистом подзывавшего собак. Загнав их в дом, слуга стал махать руками.
– Будто нас, что ли, зовут? – вспыхнула Ольга Николаевна от мысли, что вдруг барин велел пригласить их в гости. – Святки все-таки.
– Маменька, нас приглашают! – подтвердил ее мысли сын и опять чему-то рассмеялся.
– Отчего ты, как дурачок, душа моя, все время хохочешь? – рассердилась она.
Максим обидчиво поджал губы.
– Веди себя в доме как следует, – поучала его Ольга Николаевна, – поклонись когда надо, вежливое слово скажи, а не как этот олух, – кивнула на бесчувственного кучера. «Срам-то какой, Господи! И зачем здесь поехали?.. Все любопытство мое, вот грех-то великий, – вздыхала она. – Ежели день закончится благополучно, свечу поставлю… дорогую, восковую», – повернувшись в сторону церкви, пообещала барыня.
Сани остановились рядом с очищенными от снега гранитными ступенями. По краям вход украшали две мраморные резные чаши, наполненные чистым снегом. Максим даже рот открыл от такого великолепия и заскользил ногами, чуть не упав на широких ступенях лестницы. За тяжелой дубовой дверью с медной, блестевшей на солнце ручкой их ждал седой огромный камердинер в напудренном парике. Поймав его строгий взгляд, Максим оробел. Мать, больно сжав его ладонь, тряхнула за руку.
– Веди себя достойно, – прошептала одними губами и тут же улыбнулась камердинеру.
Впустив их в дом, тот запер дверь и принял верхнюю одежду, брезгливо сморщившись, когда от него отвернулись. Не успела Ольга Николаевна расправить простенькое платье и причесать гребнем волосы, как услышала шаги и, подняв глаза, увидела спускавшегося по лестнице генерала в зеленом мундире с золотым шитьем на вороте и с крестом ордена Владимира 2-й степени на груди.
– Неужели ближайшая соседка?! – напустив радость на лицо, воскликнул он, расставив приветственно руки в стороны.
«Высок, красив и импозантен!» – отметила Ольга Николаевна краем сознания, смущаясь своего вида и одновременно счастливо удивляясь неожиданному приглашению.
– Поклонись! Поклонись генералу, – легонько толкнула с любопытством глазевшего по сторонам сына.
– Окажите любезность, – радушно улыбался хозяин, – удостойте вниманием и откушайте хлеба-соли со своим соседом… – Подойдя ближе, он учтиво склонил голову и поцеловал руку гостье. – Такие нимфы в этом медвежьем углу… Очень рад! Я, право, думал, что умру здесь от скуки, – еще раз приложился к понравившейся ручке и, отступив в сторону, пригласил гостей наверх, в апартаменты. – Я сам провожу! – отослал камердинера и тоже иронично улыбнулся, окинув взглядом приезжих, но тут же глаза его замаслились, оценив крепкий стан барыни, ее полные груди и белую шею. «Не дурна, – подумал он, – даже очень не дурна!..»
Несмотря на солнечный день, лестницу освещали оплывшие от движения воздуха и долгого горения свечи. Хозяин провел гостей через два зала, отделанных ампирной росписью и лепниной. Один зал был обставлен мебелью в стиле Людовика Четырнадцатого, украшенной золоченым орнаментом; другой – гнутой мебелью, обитой кретоном. Генерал вел их не спеша и наслаждался восторгом, так оживившим лицо гостьи. «Какие красотки попадаются в провинции…» – любовался полными нежными губами и вспыхивавшими от вида понравившейся фрески или картины глазами женщины.
Прошли розовую гостиную с крашеной мебелью прошлого века. Ольга Николаевна засмотрелась на изящную роспись стен и глубоко вздохнула, глядя на панно с розовыми, будто живыми цветами.
– Кажется, что только вчера сорвали, – обернувшись к хозяину, несмело улыбнулась ему.
«Мила, определенно мила», – тщеславно улыбнулся в ответ, но гостья уже восторгалась следующей комнатой.
Максиму понравились фрески с изображением батальных сцен и оружие на стене – сабли, пистоли, секиры и луки.
– Молодой господин любит оружие! – заметил хозяин. – Весьма похвально, – щелкнул он пальцами, и из-за портьеры неслышно возник, тот же седой камердинер. – Проводи барина в детскую, – указал на Максима. – Будущему офицеру следует приучаться к обществу дам, – галантно взял под руку раскрасневшуюся помещицу, будто случайно задев локтем ее грудь. «Б-а-а! Ну очень… очень хороша!» – Вспушил свободной рукой бакенбарды и сколь возможно подобрал живот.
– Буду вам признателен, ежели не побрезгуете откушать чем богаты… И никаких возражений! – упредил что-то собравшуюся произнести женщину.
«Очень представителен и, должно быть, добр и порядочен… Как можно отказываться от приглашения?» – рассуждала она, краем глаза рассматривая кавалера. Грудь ее вздымалась от окружающей роскоши и близости столь благородного мужчины, к тому же генерала.
Пропуская даму в столовую, он обхватил ее за талию и почувствовал нежный трепет под своей рукой.
– Мадам! Поздравляю вас с прошедшим Рождеством и наступающим Новым годом! – произнес тост генерал. – И за знакомство!..
Ольга Николаевна была очарована. – «Вот это стол и сервировка! – обводила взглядом роскошную столовую, дворецкого с завернутой в салфетку бутылкой шампанского и от волнения часто облизывала уголки рта: – Как хорошо, что Бог направил нас мимо имения…»
– У вас прекрасный дом, генерал! – подняв бокал с шампанским, в свою очередь произнесла она. – Пью за дом и за хозяина…
Где-то в соседней комнате играли на клавикордах, А рядом неслышно ступали вышколенные официанты, меняя приборы и разливая вино.
– Как вы узнали, генерал, что мы ваши соседи? – отбросив робость, после шампанского поинтересовалась она.
Довольная с хитрецой улыбка расплылась по лицу хозяина.
– Что вы всё генерал да генерал! Меня зовут Владимир Платонович Ромашов… Именно хочу сказать вам, – продолжил он после небольшой паузы, по-прежнему хитро улыбаясь, – что знаю даже ваше имя… Засмотревшись на вопросительно поднятую бровь и ямочки на щеках гостьи, он неловко опрокинул фужер, злобно обругал официанта, но тут же успокоился.
– Волшебное имя Ольга ни о чем вам не говорит? – принял от лакея бокал с шампанским. – Красивое имя должно принадлежать красивой женщине! – многозначительно произнес он, разглядывая сквозь наполненный бокал соседку.
– Вы дерзки, генерал,– покраснела от комплимента гостья, и кончик языка, как у змейки, быстро ударил по губам и скрылся.
– Владимир Платонович! – поправил он и, учтиво отодвинув кресло, повел даму в соседний зал, где звучала музыка. – Вы бы знали, как надоела уездная знать во главе с предводителем, – томно говорил он, заглядывая сверху в глубокое декольте, – эти каждодневные визиты, дабы засвидетельствовать почтение… Мы ведь живем вдвоем с дочкой, хозяйки нет, – многозначительно глянул на Ольгу Николаевну. – Тяжело одному, без матери, дочь растить, – вздохнул, усаживая гостью на диван и присаживаясь рядом.
Камердинер довел Максима до резной крашеной двери и постучал в нее согнутым толстым пальцем. «Это и есть детская», – сообразил мальчик, прячась за спину дородного слуги, который, опустив руки по швам и почтительно согнув спину, стоял у входа. Через секунду в комнате послышался визгливый собачий лай, и Максим услышал: «Войдите!», произнесенное приятным девичьим голосом.
«Черт-дьявол! – вспыхнул он. – Еще не хватало с девчонками возиться, и кругом эти дурацкие собаки…»
Камердинер открыл дверь.
– Сударыня, – угодливо произнес он, по возможности стараясь смягчить свой густой голос, – папенька изволили прислать вам гостя!
Максим вступил в комнату, и тотчас на него яростно бросился маленький шпиц. «Ногой, что ли, пнуть?!» – подумал он, услышав знакомый уже голосок: – Зи-зи! На место! Нельзя!.. Но шпиц вдохновенно захлебывался лаем, вертясь у ног Максима. Дверь за спиной захлопнулась. «Дернул меня черт сюда приехать! – злился он. – Ежели хорошенько эту собачонку поддеть, до того дивана точно долетит».
– Зизишка! – топнула ногой девочка, и тут Максим разглядел ее: белокурая, тоненькая и гибкая в талии, она капризно поджала губки, и струсивший шпиц, поняв, что зарвался, нырнул под диван.
Огромными, с поволокой, зелеными глазищами, в которых, несмотря на возраст, уже светилось женское кокетство и очарование, она посмотрела на вошедшего и отвернулась, ничего не сказав, а затем села на диван, аккуратно расправив голубое изящное платьице в кружевах и воланах. Ее детские ножки не доставали до пола, и она болтала ими в воздухе. Шпиц, высунув мордочку, подхалимски лизнул ей щиколотку и тут же, радостно вертя хвостом, оказался на коленях у хозяйки. Девочка, поглаживая пушистую собачью спинку, молча глядела на вошедшего, на его сапоги и бедную одежду. Глаза ее, казалось, недоуменно вопрошали: и чего это папеньке пришло в голову послать к ней этого нищего мальчишку? Шпиц, в свою очередь, тоже укоризненно разглядывал постороннего, словно прочел давешние его мысли. Максим мялся у двери, не зная, куда деть свои руки, и беспрестанно одергивал куртку, застегивал и расстегивал пуговицы, наконец, спрятал их за спину. «Вредная, видать, мадамка! – сделал глубокомысленный вывод. – Вся в свою собачонку…» Шпиц оскалил зубы, будто и на самом деле читал мысли.
«Черт-дьявол! Где мы, Рубановы, не пропадали… Чего это я перед девчонкой дрожу?» – подошел он к мягкому стулу с изогнутой спинкой и независимо уселся на него. Девочка, тиская свою дурацкую собачонку, упрямо молчала. Максим побарабанил пальцами по коленям и сложил руки на груди, уставившись в стену.
– Фи! – первая не выдержала хозяйка. – Сели без приглашения, да еще и молчите, словно деревянный… Правда, Зизишка?
Шпиц высунул язычок, мысленно подписываясь под каждым словом хозяйки, и уставился на незваного гостя желтыми мрачными глазками. «Если куснуть, небось заорет» – словно говорили они.
– Г-м-м! – прочистил горло Максим.
Шпиц в ответ зарычал.
– Рубанов! – представился он. Немножко подумал – и добавил: – С того берега!
Неожиданно девочка прыснула, зажав рот ладонью, попыталась сдержаться, но у нее явно ничего не получилось, и она принялась хохотать. Шпиц, пошевелив ушами, на всякий случай убрался под диван. «Чего, интересно, я сказал смешного?» – недоумевал Максим.
Отсмеявшись, девочка вытерла белоснежным батистовым платочком свои чудесные глаза и спрятала его за рукав платья.
– А как вас зовут, Рубанов с того берега? – поинтересовалась она, стряхнув что-то видимое только ей с подола платья.
«Язвит еще!» – Максим! – произнес он, нахмурившись. «Говорила мне нянька, что много смеяться не к добру… не верил! А ведь так и есть».
– Эта маленькая деревушка напротив – ваше поместье? – расправила девочка платье и поудобнее уселась, поджав ноги.
Максим уже было собрался нагрубить и уйти, но ее совсем не детские глаза заворожили его и пригвоздили к стулу. Руки опять стали лишними.
– В церковь с матушкой приехали, – неожиданно для себя заговорил он, – а кучер наш, Агафон, напился, как свинья, а я стал управлять и приехал сюда, вот…
Девочка, покраснев лицом, старалась справиться с душившим ее смехом. Но совладала и серьезно спросила:
– А где ваша матушка? Агафона стережет?..
На этот раз даже ее прелестные глаза не смогли сдержать закипающий гнев, и Максим вскочил на ноги. Шпиц пулей вылетел из-под дивана и встал напротив, тоже наливаясь гневом и прикидывая, как ловчее броситься на врага.
Девочка поняла, что сказала лишнее, и гувернантка фрау Минцель ее бы не похвалила. Будто не заметив состояния Максима и не меняя позы, нежно улыбнувшись, она произнесла:
– А я – Мари, папенька зовет меня просто Машенькой, – улыбнулась одними глазами и пригласила: – Садитесь рядом, здесь вам будет удобнее.
Расстроенный шпиц, клацая зубами, залез под диван, оставив снаружи задние лапки, чтобы не забывали о его присутствии.
Волна гнева ушла куда-то к потолку и там растворилась, растаяла, будто ее и не было. Дрожа ногами, Максим подошел и сел рядом с девочкой. На него пахнуло чем-то тонким и приятным. «От матери когда-то давно пахло точно так же», – вспомнил он.
Шпиц горестно заворчал.
– Молчи, Зизишка! – прикрикнула Мари. – А у меня нет мамы! Даже не помню ее…
«Бедненькая!» – пожалел Максим, разглядывая ее лицо, губы и барахтаясь в зеленых колодцах глаз…
– Вы не слушаете меня! – возмутилась девочка.
– Нет, что вы, сударыня! – важно произнес он, вспомнив, как обращался к ней лакей.
Несносная девчонка опять прыснула смехом.
– Моя нянька говорит, что много смеяться к слезам! – обиделся Максим, и тут они расхохотались вместе.
– Вы такой забавный! – сквозь смех произнесла она.
«Хорошо это или плохо, что забавный? – раздумывал он. – Раз смеется, наверное, хорошо!»
Шпиц, не выдержав одиночества, запрыгнул на диван и сел между ними, ревниво поглядывая на хозяйку.
– Мы так веселились на Рождество! – между тем рассказывала девочка. – Приехали гости, надарили столько подарков… Ряженые дворовые пели песни и поздравляли, а какая была парадная обедня, жалко, вы не видели, – глаза ее сощурились от приятных воспоминаний, и Максим снова залюбовался ими, а она, забывшись, все говорила: – На следующий день во дворе перед домом крестьяне водили хороводы, плясали, играли в игры, а мы с папенькой веселились и бросали им деньги, впереди ведь еще Новый год… Вот славно-то! – захлопала она в ладоши от избытка чувств, превратившись в маленькую девочку, какой и была на самом деле.
«Года на два или три моложе меня», – определил Максим.
– А на Новый год непременно стану гадать, – захлебывалась словами Мари, выплескивая свои мысли и эмоции, рассказывая уже не гостю, а себе. – Я умею, правда-правда. И по зеркалу, и по воску, и других гаданий много знаю.
– А на кого хотите гадать? На жениха?!
– Фу! Вот еще! На жениха… нужен он мне. – А глаза ее так и сияли.
«Ясно, на жениха!» – с каким-то неизвестным доселе чувством то ли досады, то ли ревности подумал Максим, и зависть прокралась в его сердце и сжала его. Зависть к будущему богатому красавцу, который поведет под венец девушку с белокурыми душистыми волосами и прекрасными зелеными глазами. Сам не зная отчего, он расстроился: «Тьфу, ты! Лезет же дурь в башку».
Стук в дверь и противный голос камердинера прервал рассказ Мари, гладкий чистый лоб ее недовольно нахмурился.
– Кто там еще? – другим, капризным голосом произнесла она и сразу стала какой-то отстраненной, далекой и чужой.
– За мной, наверное, пришли, – предположил Максим.
– Наверное, – подбежала к столу, открыла небольшой ларчик и что-то достала оттуда. – А это мой святочный подарок. – Встав на цыпочки, надела ему на шею тонкую золотую цепочку с маленьким золотым крестиком.
Максим зарделся от счастья, когда тонкие руки обхватили шею и он уловил запах волос и весь ее детский запах чистоты и свежести.
– Мари, – строго произнесла вошедшая вслед за камердинером немка, поднося к глазу лорнет. – Фрейлейн Мари, так не следовайт вести себя…
– А мне нечего подарить тебе, – не слушая гувернантку, расстроено произнес Максим. – Только вот это!.. – Наклонившись к девочке, он неловко дотронулся губами до ее щеки, ощутив душистую нежность кожи, и увидел совсем рядом широко распахнутые, удивленные глаза.
– Ви что делайт?! – взвизгнула немка, с ненавистью глядя на Максима. – Убирайтесь вон! А ви есть взрослый девушка, – сбавила она тон, обращаясь к своей воспитаннице.
Камердинер, грубо схватив Максима за руку, потащил к двери. На секунду он обернулся и увидел потрясенные глаза и хрупкую фигурку Мари, безмолвно прижавшей ладонь к щеке, к тому месту, где он поцеловал…
Полозья саней поскрипывали по снегу. Проспавшийся Агафон, виновато покряхтывая, нашел какую-то одному ему известную точку на лошадином крупе и не сводил с нее глаз. Барыня, поругав для приличия сына, думала о генерале, с удовольствием вспоминая, что он не рассердился, а лишь рассмеялся, когда фрау Минцель пришла жаловаться на поведение Максима: «Из мальчишки получится настоящий гусар!» – ответил он ей. «Какой все-таки душка Владимир Платонович! Кажется, он влюбился в меня, поэтому и сына не стал ругать, – млела Ольга Николаевна, любуясь на белую равнину занесенной снегом реки. – Отказываться от приглашения не стоит, непременно поеду в Ромашовку на Новый год… И как откажешься, коли приняла святочные подарки? – Потрогала сверток с туфлями и платьем. - Вот славно бы было, ежели Максимка на его дочке женился, но это несбыточно, конечно, – мечтала она. – Но какой дом! Какое поместье!.. Ах, если бы…»
– Максимушка, душа моя! Тебе понравилась Машенька?
В наступившей темноте она не могла заметить, как покраснел ее сын и с какой нежностью погладил маленький золотой крестик. Он сделал вид, что не расслышал, и мечтательно глядел в горние выси, на голубые точечки звезд, вспоминая глубокие как небо глаза и вновь переживая последние минуты их встречи.
Ольга Николаевна, поставив два четырехсвечных канделябра перед зеркалом в спальне, сняла рубашку и разглядывала себя. «Полновата, конечно. – Щурила глаза. – Но и он не юноша. Ноги стройные… – Подняла попеременно то одну, то другую. – Бедра тяжеловаты, но в его годы мужчинам нравятся именно такие… – Повернулась перед зеркалом, стараясь увидеть себя со спины. – Ягодицы так и вздрагивают, очень хороши. Талия тоже есть, хоть и не как у девчонки. Но зато груди… – Подняла их руками – крепкие и большие! То-то он всё локтем их задевал… Волосы тоже хороши. Густые! Везде еще хороша…»
– Акулька! Спать завалилась, лентяйка? Тащи еще одно зеркало… Гадать стану!
«Совсем сбрендила на старости лет!» – пошла за зеркалом сонная девка.
Максим лежал с открытыми глазами и опять вдыхал запах чистоты и свежести, мысленно ласкал пальцами ее волосы и в который уже раз представлял ее зеленые глаза… Сердце его счастливо сжималось. Он поцеловал золотой крестик, повернулся на бок и закрыл глаза, слушая, как холодный ветер стучит по крыше и что-то катает, как неприкаянно хлопает где-то недалеко от его комнаты оторванная ставня, а в печи уютно гудит домовой…
«Забавный мальчик, – вспоминала, лежа в постели, Мари. – И чего так разозлилась фрау Минцель? Подумаешь, поцеловал в щеку,– хихикнула она, неожиданно для себя покраснев… – Вот дурачок! Симпатичный, только слишком белобрысый. Отчего у него волос не темный? Ему бы больше пошло… Самое в нем лучшее – это родинка в углу рта. Вот она его украшает. И небольшие ямочки на щеках, когда улыбается… А так – обыкновенный мальчишка. Да одет ко всему очень просто…» – засыпая, думала она.
«Оказывается, эта опускающаяся помещица – жена моего врага Рубанова. Полагал, что просто носят одну фамилию. Не думал, что, вступив в наследство, окажусь соседом этого ротмистра. И сынок весь в него… Такой же негодяй! Ну ничего… – зевнул генерал, – коли он жив, преподам еще один урок!» – Любовно погладил эмалевый крест Владимира 2-й степени.
Агафон, засыпая, вспоминал ромашовский кабак: «Хороша водка! Но барыня обещала завтра самолично выдрать на конюшне. – Почесал волосатую задницу. – Ежели сама, то это еще ничего, а вот коли прикажет Данилке… – Заскрежетал он зубами. – Ежели Данилке… то этот стервец шкуру с меня спустит… А может, и сама… – Повернулся к стенке. – А вот ежели бы велела мне Данилку выпороть… – проваливаясь в сон, мечтал он, – то я бы всыпал ему сполна! Вот еще стервец нашелся. Злодей!..»
Вечером в последний день 1805 года, трезвый как стеклышко, Агафон вез барыню в Ромашовку на встречу Нового года. В сани он запряг тройку да навешал бубенцов на дугу, чтобы повеселить барыню. Порки кучер счастливо избежал, но с Данилой, так, на всякий случай, начал здороваться.
Ольга Николаевна сидела прямо, чтобы не измять новое платье.
Перед самой Ромашовкой туча закрыла свежий молодой месяц, и пошел крупный пушистый снег. Ветер стих. Деревенские улицы обезлюдели, но сквозь маленькие оконца в избах блестел тусклый свет лучин. «Тоже Новый год встречают», – подумала Ольга Николаевна о крестьянах. У парадного крыльца уже стояло несколько экипажей. «Господи! Страшно-то как!» – перекрестилась она, осторожно вылезая из саней.
– Смотри у меня! – погрозила тяжело вздохнувшему кучеру и пошла в дом.
Дверь ей растворил лакей с такими же, как у генерала, пушистыми бакенбардами на пухлой глупой роже.
– Сударыня! – в ту же минуту подошел к ней хозяин, будто специально стоял за дверью и ждал ее визита.
Он долго не отрывался губами от протянутой руки. Был он в полной генеральской форме и с орденом на груди.
«Великолепный мужчина!» – подумала барыня.
– Диана! – оторвался наконец от ручки Владимир Платонович. – Богиня Диана… «Тем приятнее будет отомстить ее мужу», – подумал он, с удовольствием разглядывая женщину с головы до ног. – Вам очень идет это платье, сударыня! – чуть склонил в поклоне голову.
– Спасибо за комплимент, Владимир Платонович, и за подарок. – Плавным движением поправила волосы перед зеркалом. «Действительно – хороша!» – оценила себя.
Взяв под руку, генерал проводил ее в ярко освещенную и наполненную людьми залу. Из гостей она сразу узнала уездного предводителя и его жену. Рядом с ними стояли несколько дам в разноцветных платьях с жемчугами на открытых шеях. Мужья их толпились чуть в стороне, о чем-то увлеченно беседуя. Ромашов начал представлять Ольгу Николаевну присутствующим. Она опускала глаза, сдерживая дыхание, но грудь ее вздымалась от волнения – ей казалось, что все указывают на нее пальцами и сплетничают. «Да что это я, право, как девчонка какая? – укорила себя Ольга Николаевна. – Не сама же пришла, а по приглашению… И одета не хуже других, и фигурой Бог не обидел», – распрямила она спину и гордо повела плечами.
Гости начали будто случайно подтягиваться к накрытому столу.
– Я на минуточку, – извинился генерал, оставляя ее на попечение супруги уездного предводителя, командовавшей и здесь. Плоскую грудь ее украшало колье из бриллиантов, и красная роза застряла в черных волосах.
«Не по чину ворует!.. – подумала Ольга Николаевна о ее муже и колье. – Вульгарно!» – оценила розу.
«Плебейка!» – улыбнулась ей предводительница.
– Прошу за стол, господа! – пригласил гостей генерал, надумав посадить Ольгу Николаевну рядом с собой, но его опередил полковник-гусар, бывший тоже без дамы. Щелкнув шпорами и расправив усы, он взял под руку растерявшуюся Рубанову и устроил ее в середине стола, примостившись рядом.
– Следую из отпуска в полк, – доложил он, – и, узнав, что Ромашов в своем поместье, сделал крюк и завернул к нему на огонек… И как видите, не напрасно! – галантно поцеловал ей руку.
Вспыхнув, Ольга Николаевна глянула в сторону генерала. Сердито хмурясь и играя желваками, он глядел на полковника, как вахмистр на нерадивого новобранца.
«Неужели влюбился в меня? – сомлела она. – Но немножко ревности не повредит…»
– Не имею удовольствия быть с вами знаком… – разглагольствовал между тем полковник.
– …Но стремились к этому всю жизнь!..– неожиданно закончила за него фразу Ольга Николаевна и, покраснев, удивилась своей смелости.
Гусар на секунду пришел в замешательство, затем заржал, как жеребец, учуявший кобылу.
– Мой муж тоже гусар – ротмистр Рубанов! Может, слышали о таком?
– Аким? Это ваш муж?.. Вот так сюрприз… – воспользовавшись случаем, поцеловал ее руку. – Как же, не слышал? Кто ж из гусар не знает Рубанова?! – Полковник даже захлебнулся от переполнявших его чувств и, не зная, как выразить свою радость, что сидит с женой знаменитого бретера и бабника, еще раз поцеловал ее руку.
Генерал, глядя на них, скрипел зубами и пытался испепелить усатого ловеласа грозным взглядом.
– Прекрасный офицер, скромный и воспитанный! – Не обращал на него внимания полковник, поднимая бокал с шампанским. – За вашего мужа! За гусаров! И за их жен! – Опрокинул в себя содержимое и, будто спутавшись, стал наливать водку. После каждого выпитого бокала он с чувством извинялся. Начав с шампанского и водки, отведал вина, настойки, наливки… и закончил опять водкой. «Коли женщина оказалась женой брата-гусара, которого к тому же здесь нет, она вне посягательств», – решил он, уничтожая напитки и рассказывая о походе в Австрию. Понимать его становилось все труднее и труднее. – Тогда мы подошли к цветущей деревне, извините, и я приказал остановиться на постой, извините.
«У него такая жажда! – дивилась Ольга Николаевна, заботясь, чтоб сосед не облил новое платье. – Словно походом шел не в Австрии, а в знойной пустыне…»
Вскоре весь рассказ состоял из сплошных «извините».
Маленький домашний оркестр из крепостных настроил инструменты и заиграл вальс.
– Р-р-разрешите! – попытался оторваться от стула полковник. – Извините, п-п-ригласить на танец, извините.
«Слава Богу, тщетно!» – облегченно вздохнула Ольга Николаевна, глядя на его безуспешные попытки.
– Простите, мой друг! – услышала над головой радостно-ироничный голос Ромашова. – Прошу вас, сударыня, – поклонился он, –на тур вальса.
– С удовольствием! – протянула ему руку, легко вставая.
«Прибили, что ли, ко мне этот чертов стул, извините!» – услышала она, уходя танцевать.
«Когда-то давно, может, это было в другой жизни, я любила танцевать…» – кружилась по зале Ольга Николаевна.
«Она прекрасно танцует!» – удивлялся генерал. – Вы гибки, очаровательны и с чувством ритма, – поцеловал ее в шею.
Ольга Николаевна не возмутилась. Все было допустимо в эту чудесную новогоднюю ночь. Голова ее приятно кружилась, огни свечей мелькали перед глазами. Окружающие казались добросердечными и ласковыми людьми, любующимися ее фигурой, платьем и изяществом танца.
– С таким кавалером, как вы, Владимир Платонович, невозможно быть иной… – расплющила грудь о его мундир.
В полночь в залу с шумом ворвались ряженые дворовые – черти, лешие, медведи, ведьмы – и стали дурачиться под смех гостей. Очумелый полковник увидел перед собой огромного медведя, раскачивающегося из сторона в сторону. «Где мой пистолет?» – стал он обшаривать карманы. Медведь правильно понял его жесты и уковылял подальше, на другой конец залы, а леший подумал, что будут давать деньги… им был как раз лакей с пушистыми, как у генерала, бакенбардами на пухлой глупой роже. По ней-то он и получил пустой бутылкой из-под шампанского.
Когда лешего унесли, довольные гости, надев шинели и шубки, направились в парк любоваться иллюминацией. Блики разноцветных огней отражались на счастливом лице Ольги Николаевны. Генерал стоял рядом, держа ее под руку. Предводительница, давно потерявшая свою розу, толкала локтем осоловелого мужа и указывала глазами на них.
Под утро гости стали разъезжаться, а кто был не в силах, как гусарский полковник, давно спали по комнатам. Ольгу Николаевну Ромашов, конечно, не отпустил: «Куда в такую темень?». Вдвоем они сидели на диване в розовой гостиной и смеялись, вспоминая забавные случаи сегодняшней ночи. Бутылка с шампанским и два бокала стояли на столе.
– За прелестную соседку! – произнес тост генерал.
Голова у Ольги Николаевны приятно кружилась. Кружились расписные стены, мебель и мягкий диван, на котором так хорошо и уютно сидеть, кружился весь дом, кружился весь мир.
Прикрыв глаза, чтобы остановить этот круговорот, она почувствовала на своем плече тяжелую мужскую руку, но уже не было сил сопротивляться. С плеча рука опустилась на грудь и сдавила ее, другая тем временем расстегивала крючки и пуговицы платья… Жесткие губы властно искали ее рот, а потом, вслед за руками, опустились ниже, нашли крупный сосок и стали ласкать его. Зубы покусывали мягкую нежную плоть. Сердце трепетало и кружилось где-то вне ее, вместе с комнатой, вместе с домом, вместе со всей землей…
«Зачем это я?» – Пыталась открыть глаза и освободиться от чужих властных рук и губ, но сознание не могло пробудиться и было так хорошо и приятно, как много-много лет назад в дни промелькнувшей юности и первой любви…
Ах, как она тогда любила его!..
Руки между тем, требовательно лаская, сдернули платье и, приподняв, мягко уложили ее на диван. Теплая тяжесть давила на грудь и бедра, волнуя дыхание и еще сильнее кружа голову… Сдавленно застонав, она почувствовала грубую силу, входящую в нее, и волны наслаждения сотрясли тело.
Когда она открыла глаза, ей показалось, что живые розовые цветы осыпались с панно на ее тело и завяли…
Под самое Крещение нянька Лукерья, потеплее одевшись, велела собираться Акульке и Максиму.
– Да корзины захватите али еще што! – крестилась она на образа.
– А зачем, бабушка? – поинтересовался Максим.
– За снегом пойдем!
Акулька, вытаращив глаза, выронила валенок. «То барыня зеркало требует, теперь вот и бабушка свихнулась!» – грустно подумала она. Хихикнув, Максим переспросил Лукерью, думая, что ослышался,
– Снег со стогов собирать станем… – бурчала та, выискивая корзину.
– Да зачем он нам?– недоумевал Максим. – Да еще по стогам лазить? Во дворе, что ли, его мало…
Акулька улыбалась, закатив глаза к потолку. Данила, видимо, подслушивавший, появился в дверях и тоже вопросительно уставился на бабку. Девка сразу преобразилась: глупо засмеялась неизвестно чему и стала прихорашиваться. Вздохнув и поджав губы, нянька разъяснила:
– Снег, собранный в крещенский вечер, – целебен! Особливо взятый со стогов…
– Угу! – кивнул Данила, исчезая за дверью.
– Недуги всякие лечить им можно: головокружение, судороги, в ногах онемение, – произнесла старая нянька. – Ноги-то у меня болят…
Максим оживился – все развлечение. От снега шел ровный тусклый свет. Огромная круглая луна проглядывала сквозь корявые голые ветви акаций – словно запуталась в них.
– Бр-р-р! – поежился Максим. Лазить по снегу тут же расхотелось. Вдали послышался перезвон колокольцев. «Матушка едет!» – обрадовался он. – Меня больше не берет, все одна да одна», – обидчиво всматривался в даль.
На Крещение Бог услышал его жалобы…
Утром, щурясь от солнца и аппетитно вдыхая свежий морозный воздух, Максим катил в Ромашовку. Он блаженствовал, слушая скрип полозьев, перестук, копыт и звон бубенцов. Старая Лукерья ласково улыбалась ему, зябко кутая ноги в медвежью полость. – «Слава тебе Господи! – мысленно молилась она. – Хоть мальчонку порадует, а то совсем об дитяти забыла… – недовольно покосилась в сторону своей воспитанницы. – Ишь дремлет! Не выспалась, видать, гуленая, и чего Акульку не взяла? Как девка просилась на водосвятие!»
Ольга Николаевна, утомленно откинувшись и томно прикрыв глаза, думала о чем-то своем. Дорога стала ей привычна – страха и интереса больше не вызывала.
– Вон Иордан! – оживилась старая нянька, левой рукой показывая на широкую прорубь и мелко крестясь правой. – Слава тебе Господи, еще до одного Крещения дожила…
Трое мужиков чем-то занимались у самого края лунки, не обратив на сани внимания.
Агафон жестко потер голову под треухом и жадно поглядел на ледяную воду, покатав вязкую слюну в пересохшем горле. – «Вчера с Данилкой че-то бурно закончили святочное веселье, нынче утром чуть лошадь задом наперед не запряг», – хмыкнул он и тут же схватился за гудящую башку. Медленно поднявшись по склону, он сделал попытку рявкнуть на лошадей и взмахнуть кнутом, чтоб бодро, как и подобает рубановским, пронестись по Ромашовке, но голова предательски закружилась, и он чуть не вывалился из саней. Больше таких попыток кучер не предпринимал и, съежившись, задумчиво глядел на круп коня, по ошибке остановив его у кабака, а не у церкви.
Будто пружина подбросила Максима, когда в толпе крестьян увидел Кешку, деда Изота и всех его домочадцев.
– Сынок, куда ты? – попыталась остановить Максима Ольга Николаевна, но он даже не услышал ее.
Нянька укоризненно поглядела с саней, как ее любимец пробуравил толпу и кинулся к Кешке. В ту же минуту, прижав икону к круглому животу, появился батюшка, сморщился от солнца и огласил округу мощным чихом, вызвав смех прихожан и пожелания здравия.
«Крестный ход чевой-то затянулся, – подумала Лукерья, решив опереться на руку Агафона, но он уже исчез. – Вот нехристь, – вздохнула она, – поди в кабаке сатанинском богохульствует, ирод! – Ольги Николаевны рядом тоже не оказалось. – Куда все сегодня деются? Кабы и лошади не пропали!» – перекрестилась старушка, медленно семеня за черноволосым басовитым дьяконом.
После праздников мать целеустремленно начала заниматься с Максимом французским.
– С кем я тут буду по ихнему разговаривать? – злился он, но язык учил.
Чернавский дьячок так же рьяно преподавал ему счет, письмо и «гишторию». Голова Максима трещала от половцев, печенегов и русских князей. Хромой дьячок вдохновенно рассказывал о древних руссах, которые воюют и одерживают победы. От него узнал Максим об усобицах, ослаблявших Русь. – Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля себе добычу… – читал дьячок. – Из-за этого-то пришедшие из восточных стран безбожные татары с царем Батыем покоряли один за другим города русские… и Рязань, и Владимир, и Суздаль.
И замирало сердце Максима, когда слушал он о смелых защитниках Козельска, о подвигах рязанца Евпатия Коловрата и о князе Новгородском Александре Невском.
И сжималось сердце мальчика, когда дрожащим голосом читал дьячок обращение князя Московского Дмитрия Ивановича накануне Куликовской битвы: «Любезные друзья и братья! Ведайте, что я пришел сюда, дабы Русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Честная смерть лучше плохой жизни».
Не знал дьячок, глядя в затуманенные глаза своего ученика, что в этот момент, сжимая в руках копье, стоял он рядом с князем Александром Невским и сражался на восходе солнца с немецкими рыцарями, и побеждал их, и гнал с земли Русской…
7
Дорога, дорога, дорога… Нескончаемая снежная колея, ветер и мороз!
«Хорошо, шинель из доброго сукна строена, а то пробрало бы до самых косточек… – думал Аким Рубанов, сквозь выбиваемую ветром слезу рассматривая заснеженные поля, черные избы деревень и холодные церкви. – Заснуть бы, чтоб не замечать времени».
– Барин! Устали, поди, сидеть? – обратился к нему видный парень, правивший лошадьми. – Н-н-о-о! – громко заорал он, хлестнув вожжами коренника. – Хошь прилягте на сено да тулупчиком укройтесь, – заботился ямщик.
– Спасибо, братец, – кряхтя, Аким последовая его совету.
Сани ходко шли по наезженной колее, изредка подпрыгивая на кочках. От каждого такого толчка гримаса боли набегала на лицо Рубанова. Усталость брала свое. Не заметил как задремал – угрелся под тулупом, да и дальняя дорога сон любит.
Прогремел под колесами мостик, вырвавший из остановившего время спасительного сна, и при этом больно отозвавшись в израненной спине. «Никак не приладишься». – Недовольно заворочался на сухом сене и поднял растрепанную голову. Сердце болезненно сжалось, когда разглядел на пригорке каменную белую церковь, такую знакомую с детства…
– Ну, погоняй, малый, полтину наброшу, – захрипел, заволновался он, тяжело поднимаясь и усаживаясь в возке. «Вот и Покровскую проехали», – с трудом перекрестился Аким. Кашель забил его тело… Откашлявшись, сплюнул кровавый сгусток в снег и утерся платком. Ветер колол лицо и резал глаза.
Сани лихо влетели в Чернавку. Боль в груди отпустила, и он облегченно вздохнул. Деревенские собаки, весело лая, преследовали возок, а отстав, тут же поднимали лапу и желтили снежный сугроб. Встречные мужики отпрыгивали с дороги и жались к заборам, недовольно глядя на ухаря-ямщика.
– Останови-ка здесь, братец, – приказал Рубанов у кирпичного красного дома с вывеской «Трактир» над входом. – Пошли передохнем и перекусим, – предложил враз заулыбавшемуся ямщику.
Несколько саней и крытых повозок стояли рядом с трактиром.
– Тут, барин, здорово дерут! – осклабился ямщик, помогая Рубанову выбраться из возка.
– Это сколько же?
– По два алтына с рыла!
Простое, наивное лицо ямщика и его оценка дороговизны до того рассмешили Акима, что в трактир он вошел просто лопаясь от смеха. Сидящие за столами посетители подняли головы от своих супов и шкаликов, уставившись на вошедших.
«Все ж таки полезно временами менять высшее общество или военных на простой народ», – с удовольствием оглядел собравшихся, усаживаясь за стол. Посетители, удовлетворив интерес, опустили головы, принявшись за еду. «Ба! Да сюда и господа захаживают», – заметил он лысого чиновника и еще несколько важно жующих физиономий. Сделал заказ разбитному малому в белой рубахе и, когда он собрался уходить, бросил вслед: – Эй, человек, не забудь шампанского…»
Малый, казалось, остолбенел.
– Шампанского? – удивился он.
– А что, в этом курятнике шампанское не пьют? – опять рассмеялся Аким.
Заказ принес сам хозяин.
– Бутылка весьма дорогая, сударь! – заявил он, почтительно разглядывая столь щедрого посетителя.
Легкий румянец заиграл на щеках гусара: «Дожился! – весело подумал он. – Уже выпить шампанского – подвиг!»
– Почтеннейший! – язвительно обратился к хозяину. – Я же сказал: две бутылки…
От такого необычного требования владелец трактира просто одурел от счастья. С любовью глянув на необычного клиента, он помчался выполнять заказ, шевеля толстыми губами и что-то в уме подсчитывая.
Ямщик, напротив, остался недоволен. Он рассчитывал на более крепкий напиток, а его угостили этой барской кислятиной. «Лучше бы водовки плеснул на полгривняги!» – размышлял он, шумно хлебая жирные щи.
Выезжая из села, обогнали кибитку, запряженную тройкой лихих коней.
– Отдохнули, родимые! Ну-ка наддай!.. – гикал ямщик на своих, ухарски сбив шапку набок. – Ишь застоялись, – понукал коренника.
«Ладный парнишка, – любовался им Рубанов, – знатный гусар бы получился! – вздохнул он, вдруг почувствовав себя молодым и сильным. – Родная сторона помогает… А сколько здесь неба, света и воздуха. – Замирало сердце то ли от быстрой езды, то ли от близости встречи с родными. – Господи! Неужели скоро увижу сына и жену?!»
– Давай, братец, погоняй! – хрипло торопил он парня, расстегнув шинель. От близости дома стало жарко.
Наконец, свернули с тракта.
«Рубановка! Какие избы низенькие… – пронеслось в голове. – Неужто доехал?!» – увидел он кривые ветви акаций, окружавшие барский дом.
Гикая, ямщик влетел под арку с валявшейся рядом створой ворот. Над головой промелькнули единица и семерка, почему-то радостно екнуло сердце… и вот он – дом, такой нахохленный и серый, но такой родной и долгожданный. Аким быстро потерся влажной щекой о колючее сукно шинели: «Ну что это ты, гусар?!»
На крыльце долго никто не появлялся. «Видимо, валдайский колокольчик не звонкий!» – Вылез он из саней и полной грудью вздохнул воздух. Воздух родины и детства!.. Из двери выглянула растрепанная девка и, охнув, тут же скрылась. Заметивший ее ямщик мгновенно подтянул красным кушаком синий кафтан и выкатил грудь.
«Надо было гусарскую форму надеть! – критически осмотрел себя Аким. – А то вырядился, словно чиновник какой».
Дверь с шумом распахнулась и, отведя ладонью прядь седых волос и раскрыв руки для объятия, на непослушных, негнущихся ногах вышла и припала к нему старая нянька.
– Соколик ты наш ненаглядный! – заголосила она.
В ту же минуту он увидел худенького мальчишку в простой белой рубашке. Удивление в его глазах постепенно сменялось восторгом. Нянька обернулась, отпустив рукав шинели.
– Максимушка, что же ты ?.. Папеньку не узнаешь?! – сквозь слезы произнесла она.
– Максим! Сыночек… Привел Господь!
В мечтах и снах отец представлялся выше и сильнее, с саблей на боку и орденами на груди. Максим в растерянности смотрел на этого бледного, чуть сутулившегося человека с полузнакомыми чертами лица, и вдруг глаза стало предательски щипать. Мужчина медленно вытянул руки вперед… и тут Максима словно что-то ударило в грудь, а сердце затрепетало от радости, и с криком «Папенька!» – он бросился к Рубанову-старшему и ощутил на своих плечах ласковые и крепкие отцовские руки. Глаза его уже ничего не видели от слез. От счастливых слез!..
Стоя чуть в стороне и глядя на них, нянька молча плакала, промокая слезы концом платка. Даже ящик зашмыгал носом и потер глаза здоровенным кулаком.
«Худенький какой! Одни косточки… – гладил Аким спину сына и прижимал его к своей груди. – Ради этого стоит жить!» – подумал – и тут увидел ее… Яркая, цветущая женщина робко улыбалась с крыльца, зябко кутая полный стан в белый вязаный платок. Чувство то ли страха, то ли досады промелькнуло в ее глазах, сменившись наигранной радостью.
– Черт-дьявол! – воскликнул он, с восхищением глядя на эту красоту, на густые светлые волосы и милый носик, даже сейчас, зимой, усыпанный чуть заметными веснушками. «Расцелую их все!» – замечталось ему. Но какая-то неясная, смутная и неуместная тревога сдавила сердце, и стало тяжело в груди. На миг разноцветные круги в глазах скрыли милый образ… Но женщина уже шла ему навстречу.
«Вот было бы весело, коли потерял сознание…» – успел подумать он, заключая в объятия эту забытую, но такую изумительно притягательную женщину. Он давно расстегнул шинель и просто с мальчишеским восторгом ощутил сквозь ткань сюртука не только ее грудь, но даже тугие комочки сосков. Губы его прижались к душистым, но каким-то жестким губам жены. «Совсем целоваться разучилась…» – с удовольствием отметил он, пытаясь поймать ее взгляд. Испуганные и растерянные глаза женщины устремлялись то на ветви акаций, то на сына, но не смели встретиться с его взглядом, жадно вбирающим в себя ее стан, ее волосы, ее грудь – всю эту забытую, но такую желанную красоту.
– Да что же мы на морозе-то стоим? – прервала неловкое молчание нянька. – Эй, Данила, Агафон – вещи занесите, – распоряжалась она. Расчувствовавшийся приезжий ямщик ухватил небольшой сундучок и, мечтая о стопке водяры, застучал сапогами по ступенькам крыльца. Одной рукой обнимая жену, а другой – сына, переступил Аким порог своего родного дома и как будто никуда и не уезжал…
Те же вещи на тех же местах и та же легавая сука, радостно скулящая у ног, тот же стол и тот же диван… Сглотнув спазм, сдавивший горло, он широко перекрестился на такие знакомые с детства образа и понял, что дома, что наконец-то длинные дороги войны привели его в надежный, милый и ласковый родительский дом!
Под вечер разгулялась вьюга.
– Слава те Господи! – крестилась на образа Лукерья. – Вовремя приехамши, а то бы засыпало в дороге. Вон как метель разбушевалась… – не переставая креститься, прижималась вечно мерзнущей спиной к горячей печи.
Аким выглянул в окно: и правда, ветер бесновался, отыгрываясь на беззащитных акациях. Во дворе боролся с ветром Агафон. Вьюга кидалась на него голодным белым волком, стремясь свалить в сугроб, рвала с головы шапку, отгибала полы тулупа, беспрестанно забрасывая снегом. Вздрогнув, в ознобе Рубанов передернул плечами и тоже прислонился к горячему боку печки. От весело потрескивающих дров и ровно гудящего огня, от теплой комнаты и знакомых с детства запахов, от поскрипывания половиц под ногами и мирного тиканья больших напольных часов покой и счастье наполнили душу, и неиспытываемая дотоле радость волнами омывала сердце. Влюбленными глазами смотрел он на жену, на ее руки, сложенные под грудью, на яркие до пунцовости от горячего чая пухлые губы.
Его сын, широко распахнув глаза, ждал все новых рассказов о кавалерийских атаках, о бесстрашных гусарах, о русских солдатах, встречающих француза в штыки. Время от времени Максим благоговейно прикасался к отцовским наградам. В который раз рассматривал ордена Владимира и Анны, Георгиевский крест, любовался золотой шпагой с надписью «За храбрость» и в своих мечтах уже рубился с французами, скакал на коне впереди полка, и за подвиги сам император прикалывал на его грудь орден и награждал золотой шпагой.
Наконец они остались одни… Старая нянька ушла в людскую рассказать об услышанном. Сын заснул в кресле, не выпуская саблю из рук, и Аким, нежно поцеловав, отнес его в кровать, положив ножны с саблей рядом. «Рубановы с детства с оружием не расстаются», – с гордостью подумал он.
И вот они остались одни… Одни в затихшем доме. И вдруг стало не о чем говорить… Пока ехал, о стольком хотелось спросить и столько рассказать… А сейчас он смотрел на нее и глупо улыбался, поражаясь своей робости и досадуя: «Это моя жена… У нас уже взрослый сын… – Ему стало смешно. – Вот бы поразились друзья-гусары, увидев меня в таком дурацком положении – стесняюсь собственной жены…»
Он нервно хохотнул и почувствовал, как вздрогнула женщина, напряженно сидящая на диване. Он ощущал в себе необыкновенный прилив сил. Впервые после ранения чувствовал себя столь отменно.
– Что ж, Ольга Николаевна, приглашаю вас на бал! – обратился к ней по имени отчеству. – Предлагаю нарядиться в свое лучшее платье, и через полчаса встречаемся в этой же комнате, – галантно поклонился и, взяв за руку, довел ее до дверей спальни. «Придется ухаживать по-новому за своей собственной супругой».
В спальной Ольга Николаевна притронулась ледяными ладонями к пылающим щекам: «Господи! Дай мне силы! – молила она. – Что мне делать? Я ведь совсем его не знаю, забыла, в мечтах и мыслях он представлялся совсем иным», – бросилась она на кровать и в изнеможении замерла, закрыв глаза. И сразу же ей почудилось присутствие в комнате Владимира Платоновича. Он сидел в кресле и щипал свои пушистые бакенбарды. Губы его победно улыбались, а глаза, казалось, говорили: «Вы теперь моя, несравненная Ольга Николаевна!»
«Нет! Нет! Нет! – затрясла она головой. – Неправда! Я принадлежу своему мужу… Все остальное вымысел, бред и сон…»
– Я люблю своего мужа! – почти по слогам произнесла она и поглядела на кресло. Оно было пустое!..
«Господи! Помоги мне!» – Встала с постели и хотела кликнуть Акульку, но передумала и сама достала из шкафа платье, но тут же, словно обожгла руки, отбросила его, чуть не закричав, – это было его платье… Разметав рукава, холодный шелк белел на темном ковре. На минуту ей стало нехорошо… Она опять сжала щеки ладонями. На этот раз они горели…
«Да что это со мной?.. Приехал мой муж… Я люблю его и только его», – убеждая себя, взяла из шкафа простенькое свое платьице и старенькие туфли. Одевшись, быстро взбила локоны и посмотрела в зеркало. – «Слишком бледна! – отметила она. – Но может, мне это кажется в сумраке комнаты?» Собираясь уже открыть дверь, она вернулась и в сердцах стала топтать лежащий на полу шелк, а затем ногой зашвырнула его в шкаф, громко хлопнув дверцей. На душе сразу стало чуть легче.
– Вот так-то, Владимир Платонович, – произнесла она и показала креслу язык.
В зале, среди множества горящих свечей, опираясь одной рукой в белоснежной перчатке о стол, а в другой держа наполненный до краев хрустальный бокал, стоял элегантный мужчина и призывно улыбался ей. Гусарская форма выгодно подчеркивала линию его плеч и тонкую, но крепкую талию. Спину он держал удивительно прямо. Блики свечей отражались на орденах и крестах, украшавших его грудь, и таинственным светом мерцали глаза, притягивая ее и одновременно пугая.
Первый раз за весь день она отважилась взглянуть в эти глаза и – о Господи!.. Как закружилась голова…
– Я пропала… – беззвучно прошептала она.
Звездочки свечей, отражаясь в зрачках, манили.
«И когда он только успел зажечь столько свечей?.. – подумала Ольга Николаевна. – Может, это и не он, а ангелы зажгли сонм мерцающих звезд?.. А какие звезды горят в его глазах?! Господи! Ведь это мой муж!..»
Ей захотелось подбежать к нему и обнять, прижаться всем телом, раствориться в нем, рассказать, как ждала письма, как скучала. Повиниться! Упав на колени, просить прошения…
Между тем он приблизился и слегка поклонился, затем его рука в белой перчатке нащупала ее безвольные пальцы, нежно пожала и поднесла их к губам. Глаза мерцали совсем рядом.
Губы женщины полуоткрылись, и она что-то прошептала. Он не расслышал, что именно. Медленно, не спеша, маленькими глотками, он отпил из бокала и протянул ей сверкающий хрусталь…
Ольга Николаевна прикоснулась губами к стеклу в том месте, где недавно находились его губы, и ей показалось, что хрусталь раскален, а горло ее пересохло от жажды. Захлебываясь, она пила из бокала, и тонкие струйки шампанского текли по ее подбородку к шее.
Протянув руку, он взял пустой бокал и резким движением разбил об пол. Искры свечой зажглись в хрустальных осколках, и ей показалось, что она поднялась в ночное небо и звезды мерцают у ее ног.
– Люблю! – тихо прошептала она, и на этот раз он услышал, и его губы вобрали шепот, впитали это ее слово и стали пить ее, задыхаясь и торопясь, как недавно она пила из бокала…
И она почувствовала, что вновь зацвели цветы!..
За окном бушевала метель, ярился ветер, бросая в звезды снегом, а в её душе распускались цветы!..
Чуть позже она доказала, что любит и любила только его… Утомленные, крепко обнявшись, они молча лежали в постели. Сладко ныли зацелованные груди, и немного болели опухшие от поцелуев губы.
«Господи! Какая же я была дура, когда променяла ротмистра на генерала… И что будет, ежели он все узнает?»
Но сегодня, сейчас, не хотелось думать об этом.
Сегодня она была любима и счастлива!
Незаметно наступила весна.
– Я грачей видел! – с криком влетел в дом Максим, перепугав до смерти свою няньку.
На маменьку это известие не произвело ни малейшего впечатления.
– Сел бы лучше французским позанимался, – успела произнести она вслед убегающему сыну.
Отец с Агафоном куда-то умчались на санях по волглому снегу, не пожелав разбудить и взять его с собой. Вспомнив об этом, он с обидой шмыгнул носом и выскочил во двор. Данила, сопровождая каждый удар топора громким кхеканьем, усердно колол дрова рядом с конюшней. Высокая горка березовых и сосновых чурочек валялась недалеко от него на утоптанном грязном снегу.
– А я грачей видел! – безнадежно сообщил ему Максим.
С шумом выдохнув воздух, Данила с силой опустил топор на половинку пенька, стоящего на другом сучковатом толстом пне. Отколовшаяся чурка пролетела рядом с Максимом, едва не задев его.
– Шел бы ты, барчук, на… двор поиграть, – недовольно скосил глаза в его сторону дворовый, нагибаясь за обрубком.
Вздохнув, Максим медленно поплелся к дому.
«Какие они все скучные, эти взрослые, – с грустью думал он, – кроме папеньки, конечно», – увидел вышедшую во двор няньку.
– Где грачей-то видал? – пожалела она мальчишку.
– Там, – безразлично махнул он рукой в сторону конюшни. – Лошадиный овес подбирают.
– Герасим грачевник грачей пригнал, – вспомнила Лукерья, – ведь надысь день преподобного Герасима, – перекрестилась она в сторону акаций, предполагая, что там он как раз и находится.
Максим повеселел.
–Здоровые такие, – развел он руки, – как куры, и черные.
– Увидел грачей – весну встречай! – ласково погладила его по голове бабушка. – У кого мучица осталась в деревне, хлеб нынче в виде грача печь будут, – чуть задумалась она. - Надо Акульке наказать, пущай тесто налаживает. – Пошла в дом шаркающей, но бодрой еще походкой.
Аким Максимович за эти дни стал поправляться.
«Дома и стены помогают», – думал он.
Куда девалась сутулость, шаг стал легким и пружинистым, кашель реже донимал его. Лукерья всерьез взялась за его здоровье: втирала в грудь растопленное нутряное свиное сало, смешанное со скипидаром, перед едой и перед сном заставляла пить сок черной редьки с жидким медом, и, удивительное дело, здоровье возвращалось к нему без помощи всяких врачей.
– Чуть до могилы не залечили, проклятые эскулапы, – смеялся он, занимаясь с сыном сабельным боем или рассказывая ему о подвигах русских солдат.
Слушать отца Максим был готов с утра и до поздней ночи…
Когда было настроение, Аким Максимович, выпив на дорожку рюмашку пшеничной и аппетитно закусив хрустящим соленым огурчиком, приказывал Агафону запрягать тройку, небрежно бросал в сани ружьецо и вылетал со двора, дико гикая и настегивая лошадей кнутом.
– Совсем как ямщик какой, – пугалась в такие моменты старая нянька, а барыня, глянув в оконце на взметнувшие снег полозьями и побрякивавшие колокольцами сани, лихо катившие по накатанной колее, молча падала на колени и молила Божью Матушку и Ангела-заступника, чтобы дольше продлилось это счастье, а затем беззвучно рыдала в своей комнате.
Нянька, стараясь не скрипеть половицами, тихо ходила взад и вперед у двери, крестилась и скорбно вздыхала. Всей душой верила она в милость божью, но знала, что злые языки сильнее…
Аким был счастлив так, как бывают счастливы лишь в ранней юности, когда впереди целая жизнь и ты полон сил и здоровья, когда еще не сделано ошибок, а голова чиста от забот, когда тебя не предавали и ты не предавал! Задыхаясь от радости, он погонял пристяжных и коренного… Казалось, что сани еле плетутся, а ему хотелось полета, хотелось обогнать ветер и, крича от восторга, взлететь к гордым недоступным облакам и оставить на них след своих коней!
Начищенные Агафоном бляхи на сбруе вспыхивали от солнечных лучей, густо позванивали колокольцы…
Выехав на растоптанный, проторенный тракт, без понукания, сами, лошади прибавили ходу. Коренник, прядая ушами, отстукивал копытами барабанную дробь. Пристяжные, красиво изогнув шеи, бедово кося влажными глазами на Акима, стремились обогнать коренника.
Аким огляделся по сторонам: мелькавшие деревья остались позади. Справа тянулась небольшая снежная равнина: «Рубанов луг, должно», – определил он.
Недалеко от дороги показался неглубокий, напоминающий походный котелок овраг, почти доверху наполненный снегом, но вот и он остался позади. Сани въехали на пологую гору, и слева Аким разглядел заснеженную ленту реки, а впереди снова замаячили высокие оголенные деревья, сужающие дорогу до односторонней узкой колеи.
Тени деревьев бесшумно ударяли по лошадиному крупу, безболезненно били по лицу и падали с саней на дорогу. В глазах зарябило от частого чередования солнца и тени, но вскоре деревья стали гуще, отбрасывая сплошную тень. Воздух звенел от тишины и покоя.
«Да это же мой лес!» – удивился он, сдерживая коней и переходя на неторопкую рысь, а затем и вовсе на шаг. Кони тяжело дышали и громко фыркали, встряхивая головами. Колокольцы нежно вторили им.
Аким лег в сани, отпустив вожжи и прищурившись, стал смотреть в небо. Кони успокоились и, нехотя перебирая копытами, медленно тащились по бесконечной дороге, которая никогда не кончалась, хоть лети стрелой, хоть еле-еле плетись. «Господи! – думал он. – Какой покой… какая застывшая тишина и благость. Как хорошо жить!.. И как жаль, что ни Алпатьев, ни старичок полковник, ни артиллерийский капитан не видят этого…» – всматривался он в перевернутое небо, словно надеялся увидеть их там, в синеве горней выси.
Какой-то посторонний шум отвлек его от раздумий. Он недовольно поднялся на одном локте и огляделся по сторонам. Кони пошли бодрее, целеустремленно натягивая постромки, и потащили сани по какой-то грязной, в выбоинах и опилках дорожке. Шум слышался именно в той стороне, а вскоре он различил грубые мужские голоса.
«Дворянское собрание леших, что ли?» – заинтересовался он, поудобнее устраиваясь в санях.
Голоса слышались все громче и ближе… Лес расступился, явив взору широкий двор за свежим дощатым забором и новые постройки.
«Черт-дьявол! Никак к Михеичу попал – к лешему лесному, – обрадовался он. – Давно следовало старика проведать, – с удовольствием разглядел невысокую крепкую фигурку с ярко рыжеющей на солнце головой. – Смотри-ка, и не седой еще!» – позавидовал он. Трое мужиков, окружив лесничего, что-то просили. Увидев въезжающие во двор сани, он сначала грозно нахмурился, навесив густые рыжие брови на ресницы, но потом брови поехали вверх и скрылись под густыми рыжими волосами на лбу. «Сейчас глаза выскочат», – внутренне ухмыльнувшись, прокомментировал ситуацию Рубанов, а дед, резко разбросав руки и свалив одного из трех мужиков на унавоженный снег, шел уже прямо на лошадей. «С коренником, что ли, обниматься надумал?» – посмеиваясь, бодро выпрыгнул из саней.
Между тем лесничий, аккуратно ступая, обошел лошадей и, что-то радостно бормоча, приближался к приезжему. Подергав в воздухе грязными лаптями, опрокинутый им мужичок перевернулся со спины на живот и с трудом стал подниматься. «Пьяный в лоск!» – определил Аким.
– Господин ротмистр! – услышал он. – Ваше высокоблагородие… – И белые от инея усы ткнулись куда-то в грудь.
На миг Рубанов ощутил запах самосада, и тут же крепкие руки Михеича обхватили его, и старик жалобно захлюпал носом.
– Ну, ну, вахмистр! – в свою очередь обнял его Аким и почувствовал, как в носу тоже защекотало. – «Приятно все же встречаться с молодостью», – расчувствовался он.
– А до меня дошли слухи, что убит! – всхлипывал дед. – Солдат один безрукий рассказывал, страсть что творилось под проклятым Ауффрицем.
– Аустерлицем! – поправил Рубанов, и тень воспоминаний набежала на лицо.
– Но, слава Богу, живой! – неожиданно заулыбался Изот и, отступив на шаг, с облегчением высморкался в снег.
Аким огляделся – мужиков во дворе не было. «Даже пьяница исчез… Словно ураганом смело!» – развеселился он.
– Справное, господин вахмистр, хозяйство у тебя, справное, – похвалил лесника, разглядывая новый дом, амбар и сарай, из которого слышалось блеянье овец. – Конюшня не хуже моей, – заглянул в приоткрытую дверь, где в уютном тепле хрумкали сеном три лошади.
– Все есть, ваше превосходительство, – краснел и бледнел лесник, он же по совместительству и егерь, скромно прикрывая дверь сарая, – и коровки есть, и овечки…
– Скоро ты меня уже высокопревосходительством обзовешь, – хохотнул Рубанов, – завел хозяйство – и слава Богу! – успокоил бывшего сослуживца.
– Чего стоишь?!– рявкнул Изот Михеевич мощным фельдфебельским басом на вышедшего из дома сына. – Распрягай коней, вишь, барин в гости приехал! – стал распоряжаться дед, надеясь улизнуть от опасного разговора.
– Тебе, господин вахмистр, свободно полком еще можно командовать! – польстил леснику Рубанов.
От удовольствия у того покраснело не только лицо, но и шея.
– Чего без треуха-то? – озаботился Аким, с удовольствием поглядывая на деда. – Не дай бог простынешь еще…
– И-и-и! Господин ротмистр, старого гусара ни одна холера не берет, – стукнул себя в грудь кулаком. – Что же я вас на морозе держу? – спохватился он. – Милости просим в избу, – растянул рот во всю ширь и поиграл бровями, радуясь, что миновал финансовой ревизии.
Семейство сразу догадалось, кто почтил их присутствием, и в доме стоял дым коромыслом: невестки спешно прибирались, ставили готовить жаркое, ныряли за соленьями в погреб, накрывали на стол, чего-то роняли на пол, давали подзатыльники Кешке, получали шлепки от мужей… И весь этот кавардак назывался – любимый барин пожаловал…
– Глядите у меня! – грозно рычал на сынов Изот Михеевич. – Помните, из чьих рук едим!..
Лицом в грязь, конечно, лесник не ударил, хотя она и не была бы заметна на его рыжей голове. Сидели они с барином вдвоем, сынов Михеич снарядил по хозяйству, дабы не мешали воспоминаниям и, не приведи господь, чего лишнего не брякнули. За столом прислуживали обе невестки. Хозяйских дров не пожалели – натоплено в горнице было на славу. По всему дому разносились запахи свежесваренных щей и пирогов.
Перед едой солидно покрестились на образа и по первой выпили и закусили молча. Степенно похлебали жирных щей и выпили по второй. Пот градом катил с раскрасневшихся лиц.
– Фу-у! Михеич. Передохнуть маленько следует. – Откинулся Аким спиной на стенку, забыв весь свой дворянский лоск.
– А грибочков-то солененьких? Груздочков под третью рази не желаете? – засуетился лесничий. – Дочки, грибочков барину тащите да осетринки отварной, – слабым голосом велел он вмиг появившимся невесткам.
– Хороши у тебя девки! – похвалил Аким, с удовольствием разглядывая дебелых красавиц, любуясь их легкой походкой, волнующей полнотой рук и смелостью глаз, без стеснения встречающих взгляд гостя. – Хороши!.. – блаженно щурясь, раскуривал трубку с коротким чубуком. Любовался он ими, как художник любуется удачной картиной, а архитектор прекрасным дворцом, ни одной похотливой мысли не было в его голове.
– Куда там до наших заграничным мамзелькам! – поддержал тему Михеич, опрокидывая в себя еще одну рюмку и забрасывая рукой горстку грибков в широко раскрытый рот. – Гоняй их ложкой по всей тарелке, словно Суворов турок, – оправдался он.
– В этом ты прав, – пускал к потолку кольца дыма Аким. – Вино, война и женщины! Что еще надо гусару?..
– Больше ничего! – махал рукой захмелевший дед. – Грибков рази только вот…
– Нет, надо… Хоть гусару, хоть драгуну нужен еще дом, – обвел вокруг себя трубкой Аким, умудряясь ничего не сбить со стола. – Семья! – уставился он на лесника.
Тот с трудом поднял глаза и кивнул головой, чуть не свалившись с лавки.
– Добрая водочка! – похвалил Аким, с трудом поднимаясь на ноги. – Дамы! – заорал он, перепугав вмиг заскочивших в горницу девок. – Папеньку на воздух! – отдал команду, оперевшись рукой на подвернувшеся уютное плечо и тяжело шагая к двери. – Жарко у вас тут, вот и размазался вахмистр.
Свежий, чуть влажноватый ветерок, благоухающий весной и лесом, приятно освежал голову и бодрил тело. Сыновья вытащили лавку на улицу и усадили папашку, уперев его для крепости спиной в стену, а сами устроились по бокам. Какое-то время Михеича заваливало вперед. Он так и норовил уткнуться носом в волглый снег, но крепкие руки благополучно удерживали его. Добродушный облезлый дворовый пес, шевеля влажным желтым носом, уселся напротив хозяина, изумленно наблюдая за ним.
Акиму не хотелось сидеть. Хмель мигом вышел на свежем воздухе, и энергия кипела в нем, будоража кровь. Хотелось битв и приключений…
«Уже потянуло в полк? – удивился он, сжимая и разжимая ладонь. – К сабле, что ли, чешется?.. Не к деньгам же?!.»
– Мужики! – обратился к рыжим лохматым головам.
Кобель тоже повернулся в его сторону. Башка его была такой же рыжей и лохматой, как у хозяев.
– Тебя это не касается! – на полном серьезе сообщил Аким расстроившейся собаке. – А не посражаться ли нам на сабельках?
– Давай! – рявкнул проснувшийся Михеич, не дав даже закончить фразу. – Постражаемся! – ухмыльнулся он, резво вскакивая с лавки. Ноги крепко упирались в снег, а руки в бока. – Не смотрите, что старенький и кашляю. – Топнул ногой, обутой в сапог, оставив в снегу глубокий след.
Сыновья помчались в дом за саблями.
– У меня все есть, – хвалился немного протрезвевший лесник, – и сабли и пистоли… в лесу без этого нельзя. Паренька твоего обучаю. Знатно барчук стреляет, – икнул он и взял в крепкую еще руку рукоять сабли, принесенной сыновьями.
– Ежели меня победите, – произнес Рубанов, – червонец за мной, – рассек воздух саблей, гикнул и кинулся на противников.
Дышалось и двигалось ему удивительно легко: спина не болела, рана не чувствовалась. Движения были точны и упруги, выпады неожиданны и сильны. Молниеносным движением он выбил саблю из рук одного из мужиков и треснул его плашмяком по заднице.
– Первый готов! – азартно выкрикнул он.
Перепуганный пес отбежал на безопасное расстояние и хрипло лаял. Аким развеселился. Смех прямо-таки душил его, разрывая на части грудь. Удары проходили удивительно хорошо и четко. Через несколько минут он обезоружил и самого лесника.
– Что, рыжие?! Не видать вам десяти целковых. – Чувствительно огрел несколько раз по спине третьего и последнего из противников. – Это вам не вилами дерьмо таскать. – Метнул саблю в дверь, где она, дрожа, и застряла. – Пойдем-ка в дом да продолжим трапезу, – теперь уже он, словно хозяин, пригласил лесника. – А еще силен, силен гусар! – польстил деду. – В твои года пора на печке сидеть, а ты дерешься, как молодой, – достал из кармана деньги, нашел десятку и протянул леснику. – Бери, бери, коль барин жалует, – велел он. Но тот и не думал отказываться.
– Ну, ваше сиятельство, и горазд ты на сабельках! – ошалел от счастья дед. – Чисто молния разил! – подхалимничал он, нежно перегнув и схоронив ассигнацию за пазухой.
Выпив две рюмки водки, Изот Михеевич велел подавать чай. Невестки словно стояли наготове за дверью. Плавно покачивая бедрами, одна внесла ведерный самовар, другая – огромный поднос с горкой свежих пряников и густым липовым медом в красивой вазе – знай , мол, наших!
Ну как же не выпить еще под такой приторный медок? Лесник захмелел снова.
– Вот что, барин, смотрю, на девок моих любуешься?!. А хочешь, они раны твои солдатские в баньке пропарят? Мигом вся хворь выскочит.
– Да меня, милейший мой Изот Михеевич, Лукерья залечила до…
– Ха-ха-ха! – развеселился бывший вахмистр. – Эта старая грымза одним своим видом любую болезнь отпугнет… – непочтительно перебил он барина. Водка опять сделала его болтливым и равным по своей значимости генералу. – А мои сношеньки… – заблестел глазами лесник, – так умеют лечить… о-о-о! – не смог подобрать он сравнения.
Выпив две чашки чая, Аким с удовольствием закурил, вполслуха слушая расхваставшегося и понесшего явную дурь старика.
– Не уговорил, дед! – смеялся Аким, дымя своей трубкой и поудобнее размещаясь на лавке. – Как-нибудь в другой раз, – обнадежил Михеича.
– Вели лучше сани запрягать! – выбил потухшую трубку. – А то супруга моя заждалась, – поднялся он с лавки.
Дед недобро сверкнул глазами и настырно продолжал уговаривать:
– Эка! Супруга заждалась… – водка явно помутила его рассудок. – Поди, опять в Ромашовку к своему генералу укатила, да ей бы – убили тебя, и слава Богу, под боком генерал вдовый живет, а то подумаешь – ротмистр нищий! Генерал-то ловчей… – безудержно понесло старика.
Трубка выпала из потных, враз ослабевших пальцев. Аким уже знал, полностью был уверен, что это правда.
Судорога перекосила его лицо, сделав его страшным. Глаза вылезли из орбит. Он пытался крикнуть: «Замолчи, старик! – но крик замер где-то в глубине его души, и откуда-то снизу медленно поднималась боль…
«Не надо, не надо, не надо… Я не хочу ничего слышать, не хочу ничего знать!.. – с отчаянием думал он. – Слышишь, старик?!. Ничего! Это неправда!» – А разум подсказывал, что – правда, что дед не лжет… Ноги перестали слушаться, и он расслабленно опустился на скамью. Хотелось заткнуть уши, бежать… но он знал, что от этого невозможно уйти и спрятаться. Все в нем кричало и молило о пощаде… Он перестал различать силуэт и лицо лесничего, взор его ловил только губы, беспрестанно шевелящиеся и произносящие роковые слова. Слова складывались в фразы, несли боль… Боль и утрату! Он чувствовал, что это конец… Конец его разудалой, счастливой жизни! «Ну зачем, зачем я сюда приехал?..»
Сила вернулась к нему. Многократно умноженная яростью и унижением. В каком-то тумане или, скорее, беспамятстве поднялся он из-за стола, шумно опрокинув лавку.
– Н-е-е-т! – по звериному зарычал и ринулся к выходу, краем сознания замечая перевернутый стол, падающий самовар, расколотую вазу, перепачканные медом пряники на полу и оторопевшего, трезвевшего на глазах лесника, начинающего медленно понимать, что он натворил…
8
Смеркалось! Отдохнувшие и сытые кони летели знакомой дорогой. Лес грозно шумел над головой. Морозило! Гулко стучали копыта в сумрачной лесной тиши. «Как неуютно и одиноко в этом заброшенном мире! – думал он, настегивая коней. – Куда я теперь?»
Кони, вынесли его на замерзшую реку – «Само провидение ведет меня!..» Опасно потрескивал истончившийся весенний лед, но даже малейшего признака страха не возникало у Рубанова. Лишь кони боязливо прядали ушами и косили дикими глазами на трещины, остающиеся позади саней, и знай наддавали, понимая, что здесь нельзя останавливаться и спасение лишь в быстром беге. На другом берегу, в гору, шли медленно, устало поводя влажными боками. Тяжелый пахучий пар поднимался от их спин. Аким давно перестал погонять коней, плеть замерла в безвольных пальцах. Но вот он встрепенулся, на минуту задохнувшись от боли, пронзившей не только тело, но и, казалось, душу, и неуправляемая ярость свела судорогой губы.
«Убью! – подумал он. – Убью обоих!» – сжал пальцы в кулак. Не помня себя от бешенства, выпрыгнул из саней у господского дома и забарабанил в крепкую дверь литой серебряной рукоятью плети.
Долго не открывали, наконец дверь медленно начала растворяться. Не дожидаясь, ударом плеча распахнул ее, сшибив на пол пухлорожего в бакенбардах лакея.
– Барин не принимает, – заверещал тот, пытаясь подняться.
Определив, куда идти, Аким отвесил пинка по жирной лакейской заднице, снова опрокинув малого, и стал подниматься наверх. Быстрым шагом прошел два зала, не встретив ни единого человека. «Словно провалились все, – недовольно успел подумать, минуя розовую гостиную. – Здесь, что ли, они развлекались?» – Заскрипел зубами и сорвал со стены в следующей комнате саблю. Из-за портьеры выглянула седая голова лакея и тут же исчезла. Полоснув саблей по портьере, Аким схватил за шиворот камердинера.
– Где твой барин? – тряс он его. – Отвечай! – ударил слугу о стену так, что у того лязгнула челюсть.
Выкатив испуганные глаза, тот ничего не сумел произнести и только махнул куда-то рукой.
– Веди, – толкнул его Аким, услышав в соседней комнате звуки клавикордов.
Ударив ногой в дверь, он ворвался в ярко освещенное помещение и, тяжело дыша, осмотрелся по сторонам. Сидевшая на круглом стуле за музыкальным инструментом тощая дама, обернувшись на шум и увидев в дверях человека с саблей, грозно сверкавшего глазами, тихонько пискнула и тут же бесшумно упала в обморок на мягкий пушистый ковер.
Генерал на диване с чашкой чая в руках удивленно щурился, пытаясь понять, что происходит. Постепенно лицо его стало меняться.
– Кликнуть сюда дворовых! – заверещал он, поднимаясь с дивана. – Хватать этого бунтовщика – и в колодки! – Отступил к стене. На зеленом парчевом халате темнело чайное пятно.
– Сударь! – срывающимся от гнева голосом произнес Рубанов. – Извольте взять шпагу и защищаться…
– Да кто вы такой и что вам от меня надо? – отлепился от стены генерал и важно выпятил грудь, постепенно приходя в себя. – Я узнал вас! – голос его сорвался на фальцет. – Вы тот самый гусарский ротмистр, который там, в Австрии, оскорбил меня… Я был прав. Ваше место в Сибири. Очень жаль, что вас простили… Неужели вы пришли мстить боевому генералу? – словно случайно дотронулся манжетом халата до ордена, с которым не расставался даже дома.
– Я тоже узнал вас, генерал Ромашов! Вы не только фанфарон и трус, вы еще и предатель!
– Как вы смеете, ротмистр! – взвизгнул Владимир Платонович. – Вы ответите за свои слова…
– Отвечу! – надвигался на него Рубанов. – Я за все отвечу… И за то, что задержал неприятеля, и за взорванный мост… – наступал Рубанов, – и за мой эскадрон, и за поручика Алпатьева… – схватил орден и ударил остро отточенной саблей по халату.
«Владимир» остался в его руке, а генерал закрыл ладонью дыру на халате и загородился локтем. Глаза его расширились от ужаса, он, брызгая слюной, пытался что-то произнести в свое оправдание. Похож он был на испуганного, ощипанного петуха, из которого повар собирается приготовить суп.
Открывшая было глаза тощая фрау опять потеряла сознание.
Неожиданно генерал заплакал: – Это мой орден, мой, – канючил он. – Мне пожаловал его сам государь император.
– Ошибаетесь, ваше превосходительство, – убрал награду в карман Рубанов. – Вы не достойны его носить… Надо было сказать: «Умрите за Россию!..» А вы обманули всех, генерал Ромашов. Орден принадлежит не вам, а артиллерийскому капитану и полегшим у моста солдатам…
– Не знаю я никакого капитана! – визгливо перебил его генерал и плюхнулся на диван.
– Неважно! – поднял саблей его подбородок Аким. – А жену мою, Ольгу Николаевну, надеюсь, вы знаете? – заглянул он в помертвевшие от страха, бегающие глаза. – Не забыли еще глупую барыньку?..
Генерал с трудом сглотнул застрявший в горле ком:
– У нас были чисто соседские отношения…
– Ну конечно! – опять закипел Аким. – Вот на этом диване, да?.. – Стал потрошить саблей гобеленовую обивку, едва не задевая генерала. – И какой орден, интересно, вам пожалуют за этот подвиг? Или чин присвоят? – Принялся крушить дорогую мебель. За мебелью последовали фарфор, зеркала и штофные обои…
Постепенно ярость оставила его. Тяжело дыша, он огляделся и, держа саблю перед собой, подошел к генералу, по пути изрубив картину с итальянским пейзажем. Медленно съезжая с дивана, тот опустился на колени.
– Не убивайте! – пополз он к сапогам Акима и попытался обнять их. – Не убивайте! Это она… она во всем виновата!
Рубанов брезгливо оттолкнул его ногой: «И это русский генерал!» – подумал он.
– …Может, мы с вами знали друг друга с детства, – ползал по полу Владимир Платонович, – меня иногда привозили в имение погостить к дяде… Вы и дядюшку моего должны знать… и меня обязательно вспомните, обязательно… То-то я удивился тогда, в Австрии, что лицо мне ваше знакомо…
– Папенька! – вбежала в комнату тоненькая белокурая девочка и бросилась к отцу. – Папенька, вам плохо? – с ужасом обвела взглядом истерзанную комнату, и ее огромные зеленые глазищи бесстрашно встретились с глазами Акима. – Вы не хороший, злой человек! – дрожащим от гнева голосом произнесла она. – Немедленно уходите отсюда, – наступала на него, – или я… я… не знаю, что с вами сделаю!
Эта девочка с тоненькой гибкой фигуркой в розовом платьице, бесстрашно защищающая своего отца, окончательно успокоила Рубанова. Он с удивлением разглядывал разгромленное помещение, казалось, недоумевая, неужели это сделал он.
Кряхтя, генерал присел на уцелевшую часть дивана и тоскливо потрогал то место, где раньше грел душу орден. Ему стало стыдно за себя, за недавнее свое унижение, за тот ужас, который бросил его на колени перед этим буяном. «Этого я ему никогда не прошу!» – с ненавистью глядя на Рубанова, подумал Владимир Платонович.
В дверях выросли фигуры дворовых с ружьями и топорами.
– Чего стоите? Хватайте его! – велел Ромашов, нервно теребя дыру на халате. – Да обыщите как следует этого вора…
Видя, что с отцом всё в порядке и ничто ему больше не угрожает, девочка бросилась к немке, все еще лежащей на полу.
– Фрау Минцель, что с вами?
На это бедная гувернантка сумела лишь произнести: «Ох!». Жалобно стеная, она стала медленно подниматься, держась за руку своей воспитанницы и с опаской поглядывая на ворвавшегося разбойника.
Рубанов так зыркнул на дворовых, что они невольно отступили под его взглядом.
– Ежели вы еще хоть немного дорожите своей честью, жду вас завтра утром, как только рассветет, на той стороне реки с дуэльным пистолетом и лакеем. Он и заменит вам секунданта. Стреляться будем с трех шагов, – направляясь к выходу, произнес Аким. Дворовые расступились, пропуская его. А лакей с бакенбардами, так неудачно открывший дверь, даже уважительно поклонился, несмотря на разбитый нос и лоб. Видно, зуб на своего барина имел намного длиннее, чем на сбившего его, но зато все порушившего здесь человека. Мимолетная улыбка на его лице недвусмысленно говорила, как он рад этому бардаку.
– Все в Сибирь пойдете, коли он выйдет отсюда! – заорал пришедший в себя Владимир Платонович.
Обернувшись к дворовым, Рубанов угрожающе махнул саблей. Дальше всех сиганул пострадавший от него лакей.
«Прыгай, прыгай! Порки тебе все равно не миновать…» – Быстрым шагом направился он к выходу из дома и залез в сани. Его кони не успели отдохнуть от гонки и все еще тяжело дышали. «Совсем бедных загнал… – пожалел их, тихонько трогаясь в путь. – По льду опять погонять придется, а то провалимся».
«У такого фанфарона – и такая прекрасная дочь! – вспомнил он девочку. – Ишь храбрая какая! Настоящая русская дворянка, и должно, станет красавицей… Ну, да этого мне не узнать… Вопрос – куда ехать?! Домой не хочется, – рассуждал он. – А больше и некуда». – Снова гнал коней по хрустящему льду.
Как и предполагал Аким, часть дворовых помещика Ромашова принимала участие в экзекуции.
Трое являлись пострадавшими: пожилой камердинер, лакей с бакенбардами и еще один лакей, не сумевший отстоять имя, честь и добро господина. Пять человек являлись исполнителями и активно, со всем пылом, этому отдавались. Один – их господин, был наблюдателем, вдохновителем и руководителем сей акции. После нанесенного оскорбления он нюхал табак из золотой табакерки со своим дворянским вензелем на крышке и отдыхал душой, слыша крики истязуемых. Остальная многочисленная дворня торопливо складывала вещи, готовясь к отъезду.
«Чего удумал, каторжник!.. – психовал генерал. – Стреляться с ним должен… С безродным нищим гусаром. Шалишь, брат! Не стреляться с тобой буду, а напрямик к государю полечу – капитан-исправник с тобой не сладит… Ответишь за нанесенное оскорбление и убыток, ответишь!» – мстительно думал он и тяжело, с досадой, чихнул, вспомнив картину с итальянским пейзажем и особенно орден.
– Так, так его. Порезче, порезче жги, розог не жалей! – руководил Владимир Платонович. «Чего их жалеть после этого-то убытка», – думал он.
Мордастый лакей в бакенбардах ревел медведем…
Рано утром, прихватив Агафона и Данилу, Рубанов вглядывался в противоположный берег, окутанный мутной туманной пеленой. По ночам еще морозило, но к утру мороз спадал.
– Не слыхать колокольцев? – спрашивал Рубанов, щелкая вхолостую курком дорогого английского пистолета и прислушиваясь.
– Никак нет, господин ротмистр, – подавляя зевок, отвечал согласно воинскому уставу Агафон.
В голове у него стоял сплошной гул после вчерашнего. «Поди-ка тут разберись, чего это звенит…»
– Похоже, полозья скрипят? – через некоторое время вскидывался Аким.
– Да нет, барин, послышалось, – ежился в санях Данила.
«Делать им, барам, нечего, – рассуждал он, – как только стреляться в такую рань!»
Время шло.
Прохладный влажный ветерок разогнал дымку и остатки сна.
На том берегу какая-то баба пошла по воду.
«Может, верхами решил? – предполагал Рубанов, ясно сознавая, что его противник не приедет. – Трусу и честь не дорога!» – Пошел он к саням и расправил вожжи.
Агафон скатился с облучка в снег.
– Никак туда ехать собрались, ваше высокоблагородие? Уходиться можно… Лед-то тонок! – со страхом перекрестился он и жалостливо погладил лошадок.
Ничего не ответив, Рубанов погнал тройку на другой берег.
Снег с кусочками льда летел из-под конских копыт. Кони тревожно всхрапывали, но, послушные твердой руке, споро несли сани к такому далекому берегу.
Опять появилась боль… Нудно и выматывающе вгрызалась она в спину и грудь. «Жив буду, Лукерья подлечит своими снадобьями, сейчас не до этого», – думал он, не обращая внимания на опасный хруст льда под санями. Через некоторое время лошади вынесли возок на твердую землю, поднялись в гору и неспешной рысью понеслись к усадьбе.
Кованые ворота ее оказались на запоре.
«Убежал, гад!» – Зарядив пистолет, Аким выстрелил в воздух.
Тотчас же появились трое дворовых с ружьями.
– Не балуй, барин! – глухо произнес один из них, в засаленном армяке.
– Его превосходительство уехамши поутру! – приставив приклад к ноге, сообщил другой дворовой: – Всей семьей, – немного подумав, добавил он. – Пускать никого не велено, в случае чего приказано палить, – значительно погладил тусклый ружейный ствол.
«Черт-дьявол!» – в бешенстве Аким ударил кулаком по обшитой лубом спинке саней.
– Но-о! – повернул коней и погнал их к реке.
«Ведь у него полстены пистолетами увешано… Сразу и надо было стреляться, а не рандеву назначать…» – корил он себя.
На этот раз заупрямилась пристяжная – никак не хотела ступать на ненадежный лед. Приседала на задние ноги, фыркала и косила глазом на коренника: ты-то, мол, куда прешь?.. Орловский рысак шумно встряхивал головой, звеня сбруей, но послушно ступил на лед, постепенно переходя на рысь: понимал, что их спасение в скорости. Аким хлестал вожжами спины лошадей: «Вот и середина реки, – думал он, – где наша не пропадала?!.» До берега оставалось уже немного, когда, дико заржав, провалилась та самая пристяжная, которая не хотела идти. И тут же, потеряв скорость, по самую грудь ушел в воду коренник. Сани еще держались на льду. «Надо выпрыгнуть», – подумал Аким, но было уже поздно… Все три лошади бились в воде, и сани следом за ними медленно опускались в полынью. Сначала Аким не почувствовал холода, но уже через секунду от ледяной воды перехватило дыхание. Краем глаза он увидел суетящихся на берегу Агафона и Данилу. Агафон что-то кричал ему…
«Спокойно! Спокойно… – взял себя в руки Рубанов. – Главное не теряться…
Ломая грудью непрочный лед, коренник вел пристяжных к берегу. «По-моему, они не плывут, а идут. Здесь, слава Богу, не глубоко. Вот он, берег – рукой подать… Но, Господи! – как холодно… Словно клинком тело режут…»
Сообразив, что, ежели намокнет, обязательно похмелят, Агафон кинулся к лошадям, провалился по пояс, но, схватив их под уздцы и успокоив, благополучно вывел на берег, жалостливо разглядывая пораненную о лед и кровоточащую грудь коренника.
Данила скинул с барина мокрую шинель и укрыл своим тулупом.
– Чего ты коня гладишь?! – заорал он на Агафона. – Вишь, барин замерзает, гони скорее домой!
Сам он в сани не сел.
Укрытый ватным стеганым одеялом, Аким, лежа на спине, безучастно глядел в потолок.
Нянька Лукерья и жена, беспрестанно охая и причитая, растерли его водкой, напоили чаем с малиной и медом; а еще нянька, шепча молитву от всех болезней, взяла полстакана вина из черной смородины и смешала его с полстаканом горячей воды.
– Во избавление от болезней раба Божия Акима крест хранитель, крест красота церковная, крест держава царям, крест скипетр князей, крест рабу Божию Акиму ограждение, крест, прогоните от раба Божия Акима всякого врага и супостата… – протянула ему стакан, заставляя выпить, – …Святые святители Иван Предтеча Богослов, друг Христов, Тифинская, Казанская и Смоленская Божья матерь, во святом крещении Пятнила Парасковья, молите Бога избавления от болезней раба Божия Акима…
Выпив разбавленное вино и откинувшись на подушки, он опять уставился в потолок, подумав, что Саввишна напрасно испортила водой напиток. Тело его горело и сочилось потом. Больше его ничего не интересовало, и он ни на что не реагировал. Даже сидевший неподалеку на диване Максим не вызывал в нем никаких чувств, а тем более не вызывала участия жена, деятельно хлопотавшая около больного. Казалось, что вся энергия, которая была в его организме, истрачена им за последние сутки и теперь осталось лишь безразличие и пустота.
– …О, сдвиженье честного и животворящего креста Господня, святый Победоносец Егорий Храбрый, великомученник, возьми ты свое копье, которое держащее на смия льстивого; архангел Михаил, возьми ты свое пламенное копье и отразите у раба Божьего Акима тишинку и родимца сновидящие, денные и ночные переполохи и всякие скорби и болезни из семидесяти суставов, из семидесяти жил и от всей внутренности тела, – шепот и монотонное бормотание старой няньки усыпляли и убаюкивали Акима, уносили его в далекий и безоблачный мир детства, успокаивали его тело и душу. Закрывая глаза, он медленно проваливался в глубокий, но недолгий сон.
Что-то, какие-то силы, не давали ему окончательно забыться и успокоиться, вырывая из блаженного сна и окуная его мозг в действительность воспоминаний…
Он беспокойно ворочался и, открывая глаза, видел, нет, скорее ощущал, касающуюся лба прохладную руку жены. Хотел увернуться от нее, тряс головой, и рука испуганно взмывала вверх и исчезала.
«Горит весь!» – слышал он шепот.
Даже одна тонкая свеча, почти не дающая света, невыносимо резала глаза, когда он глядел на нее, затем начинала двоиться, троиться, и вот уже вокруг бушевало злобное пламя, обжигающее душу и грозящее спалить беззащитное тело в этом адовом огне…
Сознание покидало его, принося недолгий покой и безмятежность…
И только в мае, похудевший и ослабший, поддерживаемый Агафоном и Данилой, в шинели, застегнутой на все пуговицы, вышел он во двор погреться на ярком весеннем солнышке. Время от времени тяжелый кашель сотрясал его, болезненно отдаваясь в израненной спине и, казалось, выворачивая наизнанку все внутренности, на несколько минут затихая в хрипящих легких, чтобы затем с новой силой наброситься на слабое истерзанное тело.
Старая нянька не отходила от него ни на шаг, но все ее искусство не приносило пользы, так как сам больной не стремился к выздоровлению. Безразлично глотал порошки чернавского лекаря, которого пригласила к мужу, несмотря на сопротивление няньки, Ольга Николаевна. Столь же безразлично пил он настои из трав, приготовляемые самой старой мамкой, но пользы ни те ни другие снадобья не приносили…
Ничто не радовало его: ни солнечный луч, ласково греющий щеку, ни набухающие почки акации, ни первая зеленая травка, пробивающая дорогу из зимнего подземелья к свету и солнцу, ни даже Максим, рассказывающий выученный урок или упражняющийся с саблей неподалеку от отца. А подходящая к нему что-нибудь поправить или подать лекарство жена вызывала если не ненависть, то глубокое раздражение. Но зато и скрывшийся генерал больше не бередил душевную рану и стал безразличен Акиму, как что-то давнишнее и не имеющее никакого к нему отношения. Он не жил, а существовал, как существует зеленая трава во дворе, но не имел ее жизненной силы. Даже воспоминания не приходили к нему. Ничто больше не трогало и не волновало его в этой жизни.
Прослышав о том, что его благодетель и бывший командир чувствует себя чуть лучше и желая искупить вину за болтливый язык, на шустром низкорослом коньке в поместье прибыл Изот. Приезжал он и месяц назад, но в тот раз ему не повезло… Во-первых, его рессорная бричка застряла в непролазной грязи как раз неподалеку от имения. Во-вторых, когда выбрался из грязи, барин далеко послал его… Из всего организма язык оказался самой здоровой и активной частью больного тела. Девка Акулина, посланная к нему в тот раз, сообщила, что барин больны и не принимают, а о том, что изругал, сказать постеснялась. Об этом за шкалик пшеничной с удовольствием сообщил Агафон.
Струхнувший лесник на этот раз приехал не с пустыми руками. Привез от чистого сердца целую бадью меда, благосклонно принятую Лукерьей, и был допущен пред светлы хозяйски очи. Стоя на коленях и целуя барскую руку, он вымалил прощение и уговорил Акима Максимовича недельку погостить у него на свежем воздухе.
– Хворь как рукой снимет, – уверенно бил себя в грудь.
Барин изволили улыбнуться и дать согласие, к несказанной радости Михеича.
Максим тоже просился с отцом, на что получил разрешение.
Ольге Николаевне в поездке наотрез отказали.
Эта неделя стала одной из самих счастливых в жизни Максима и необычайно сблизила его с отцом.
Собрались по-солдатски быстро. Несмотря на заверения Изота, что у него всего вдосталь, – Ясное дело, успел наворовать! – бурчала Лукерья, но все равно распорядилась доверху набить возок припасами.
– Малый да больной! Им хорошо питаться надо, – рассуждала нянька. Агафон с Данилой сбили ноги, таская короба, корзины и туесочки. Даниле налили подожок на дорожку, хотя он никуда не ехал, Агафону Лукерья категорически отказала: – За дорогой лучше смотри, а то все кочки твои будут…
– Дык!.. Дык… Рази ж я?.. – разводил руками расстроенный кучер. В полуобморочном от тоски состоянии выехал он со двора.
Проезжая Рубановку, Максим здорово повеселился, когда увидел, что по пыльной уже дороге навстречу их возку шел пьяный расхристанный мужичонка в одном драном лапте и не думал уступать дорогу. Трезвый Агафон, трепеща от зависти, беззлобно переругивался с мужиком и норовил огреть его кнутом. Мужик ловко уворачивался, загораживаясь лошадьми, и благим матом орал, что он есть сам генерал-симусь Ляксандра Суворов и турки в Рассею не пройдут!.. Максим упал на дно возка от хохота и взбрыкивал ногами, переворачивая какие-то коробки. Отец сидел ко всему безучастный и терпеливо ждал, чем закончится дело.
– Я – симусь! Вот хто! – орал мужичок.
Однако, увидев разъяренного бывшего вахмистра, подходящего к нему с арапником в руке, четко отдал честь, встав во фрунт, затем повернулся кругом и молча замаршировал в кособокую избу, стоящую край дороги.
Всю дальнейшую поездку Максим, прыская и закрывая рот ладонью, чтоб не сочли за дурачка, раздумывал, за кого же прошел у мужика дедушка Изот?
По приезде он с Кешкой тут же умчался в лес: друг пообещался что-то показать, а Изот со старшим Рубановым степенно сидели в той же, что и в прошлый раз горнице, обедали и вели разговоры. Точнее, говорил один Изот, а барин молчал и иногда безразлично, в такт словам, кивал головой. Старый лесничий чувствовал свою вину, поэтому не пил, впрочем Акиму было все равно.
Глядя на бледное лицо барина и время от времени слушая, как кашель рвет его грудь, лесник жалостливо отводил глаза. Решившись наконец, завел своевременный, на его взгляд, разговор.
– Совсем староста обчество разбаловал, – рассуждал лесник, иногда внимательно вглядываясь в блеклые равнодушные глаза и худую фигуру барина. – Народишко работать перестал, а лишь только брагу с водкой глохчет и почета властям не оказывает…
Будь я на его месте… – он покосился на Акима, пытаясь понять его реакцию и в случае заинтересованности усилить приятное впечатление, но барин безразлично жевал мясо и глядел в стол, затем поднес руку с платком ко рту и долго и тяжело кашлял, откидываясь спиной к стене. Изот Михеевич вздрогнул – авось поживет еще! – и продолжил:
– …Я бы дело повернул не так… К тому же вечно у него неурожай, ибо погода у поганца постоянно не та, что требуется… Вечные недоимки у подлеца, туды его мать!.. У меня б так не было… Вот ба где всех держал, – сжал он свой маленький кулачок, усыпанный рыжим волосом и веснушками.
Ему показалось, что благодетель благосклонно кивнул. Лицо лесника озарилось улыбкой, но тут, громко распахнув дверь, вошла Пелагея, а следом и другая невестка с подносом в руках. Дед недовольно нахмурился и заерзал на лавке, но невестки не спешили уходить. Они медленно раскладывали на столе принесенные закуски, задевая временами гостя то тяжелой грудью, то мягким бедром, но барин не обращал на них внимания и иногда морщился – то ли от боли, то ли от мешавших ему женщин. Затем его опять забил кашель.
– Тятенька! – обратилась к свекру Пелагея. – Мужики баньку топят. – Крутнула задом. – Может барин попариться желает? – Чуть покачала она головой и томно улыбнулась, глядя на Акима.
Тот ничего не ответил, убирая платок в карман и вытирая тыльной стороной ладони набежавшие слезы.
– А вы чайку с медком! – засуетилась вторая невестка, наваливаясь сзади грудями на плечи Акима и наливая в его чашку чай.
«Ну, молодцы девахи, – воспламенился пониманием свекор, – ай да сношеньки, ай да умницы, туды иху мать!»
– Сейчас мы ваше превосходительство попарим и почивать уложим, – обрадовался вовремя поданной разумной мысли Изот. – От хорошей баньки всякая хворь убежит, как турок от Суворова, – вспомнил он давешнего крестьянина-симуся и подхватил барина под мышки, помогая подняться.
Аким безропотно подчинился, как ребенок строгой матери, и, медленно перебирая ногами, пошел к двери. Ласковое майское солнышко приятно грело больную грудь, и Рубанов, щурясь, присел на лавку рядом с домом. От прогретой за день земли исходил теплый, душистый запах. Лес успокаивающе шумел над головой прорезавшимся из почек свежим молодым зеленым листом. Огромная яркая бабочка, часто затрепетав крылышками перед лицом, села на плечо. Весенний ветерок, балуясь, сдул с плеча бабочку и закрутил у ног Акима какой-то старый, пожелтевший лист, прилепив его к носу дремавшего неподалеку рыжего пса. Тот недовольно чихнул, лапой прижав его к земле, затем встал, громко, с подвывом, зевнул, широко разевая пасть, потянулся, прогибая то передние, то задние лапы, хотел помочиться на листок, но, раздумав, плюхнулся рядом с ним; затем, глядя исподлобья на Акима, вяло постучал по земле хвостом, встал, встряхнулся, начиная от ушей и заканчивая хвостом, и побрел в тень под деревья.
Рубанов с пробудившимся интересом наблюдал за псом.
Впервые за время болезни приметив в глазах барина хоть какой-то интерес, Изот Михеевич не торопил и не отвлекал его, а с надеждой стоял рядом, нахохлившись и напоминая огромного рыжего шмеля. Его сыны молча таскали в баню березовые веники и какие-то узлы – из одного торчали две свечи, из другого – горлышко бутылки.
Вздохнув, Аким тяжело поднялся и пошел вслед за ними. Интерес к окружающему опять исчез из его глаз.
То ли душу его забрала река, то ли тоска, но он чувствовал себя старше деда… И не только чувствовал, но знал точно, что круг его скоро замкнется… Что отмахался он острой саблей, отскакал на быстром коне и отлюбил прекрасных женщин, что все это там, в прошлом, а что впереди?..
Но что бы там ни было – он не боялся этого!..
Поддерживаемый Михеичем, Рубанов выбрался из темного сруба бани и тут же наткнулся на сына и его друга. Лица мальчишек раскраснелись от бега и радости жизни. Счастье и весна бушевали в глазах и будоражили кровь… Поглядев на взрослых и не увидев их, ребята кинулись в конюшню взнуздать коней и улетели в ночь – к звездам и небу, к жизни и подвигам… Зависть кольнула сердце Акима и тут же растаяла, когда глянул вслед сыну…
Сгорбившись и опираясь на руку деда, он безразлично пошел в дом, в приготовленную для него комнату.
К счастью Максима, отец, как и до болезни, вновь стал уделять ему внимание. Вдосталь набегавшись с Кешкой, он слушал прерываемые кашлем рассказы отца о боях и победах, а однажды у Акима хватило сил взять саблю и показать свой коронный выпад и удар, не раз спасавший ему жизнь. Максим до изнеможения отрабатывал его, рубя в щепки молодые березки, и до седьмого пота вращал саблю, разрабатывая кисть.
– Укрепляй запястье! – хрипло внушал отец. – Пригодится в жизни…
Через неделю вернулись домой, и Аким снова замкнулся и ушел в себя. Дома царили тишина и тоска. Мать ходила в слезах, а нянька возилась со своими снадобьями. Максим старался больше времени проводить на улице – чистил своего любимца, вороного жеребца Гришку, или, взяв ломоть черного хлеба с солью, исчезал на весь день на реке. Там глядел, как крестьяне ловят рыбу, валялся на песке, нежась на горячем уже солнце, и упражнялся с саблей, решив до совершенства отработать отцовский удар. Молодая кровь бурлила в нем, заставляя неожиданно срываться и лететь на коне, а то вдруг находила непонятная тоска, и он, хмурый и вялый, сидел в своей комнате, разглядывал золотой крестик, дышал на него, оттирая рукавом рубахи, и в памяти возникала хрупкая девочка с прекрасными глазами.
День проходил за днем в скучной деревенской глуши, где никогда ничего не меняется, и, пролети хоть десяток лет, все останется по-прежнему.
Как-то, пошлявшись по двору, он заглянул в конюшню и переждал там небольшой теплый дождь, расчесывая пальцами жесткую конскую гриву. Выйдя, помыл руки в дождевой воде, налившейся с крыши в рассохшуюся бочку. Пряно пахло жимолостью и цветущей акацией. Беспечно насвистывая, пошел по двору, бесцельно заглянув в сарай, в котором ничего не было, кроме прошлогоднего сена. Хотел уже выйти из душной темноты, как расслышал чье-то посапывание. «Нищие, что ли?» – полюбопытствовал он и полез по лестнице на невысокий чердак. Его привыкшие к темноте глаза различили чьи-то ноги, бесстыже разметавшиеся на сене. Стараясь не шуметь и лишь тихонько шурша сеном, подошел к спящей. Голова ее была повернута вбок, к дощатой стене, рот чуть приоткрылся, показывая белые ровные зубы. Спокойное дыхание чуть волновало грудь, и голубая жилка билась на шее, пульсируя в такт дыханию.
Максим опустился на колени, стараясь не разбудить женщину.
«Напрасно я боюсь, – подумал он, – намаялась она сегодня – не скоро разбудишь!» Но дыхание, словно нарочно, вырывалось из его горла громко и часто, временами ему даже казалось, что задыхается. Сердце стучало на весь сарай. Он прижал руку к груди, чтобы немного успокоиться. «А вдруг кто зайдет? Может, она тут Данилу ждет?» – А рука, пугливо вздрагивая, уже расстегивала синий, в мелкий цветочек ситец, освобождая маленькую грудь.
Он робко потрогал теплую шишечку, венчающую эту сказочную грудь, и неожиданно, словно живой, сосок стал набухать и жестеть под его пальцами. Это было так поразительно, что Максим пугливо отдернул руку. «У тех женщин в бане, – морща лоб, начал вспоминать, – соски так не росли… не то что так, а вообще никак не росли». – Опять несильно сжал сосок, а затем с любопытством потрогал окружающий его темный кружок, различив вздрагивающими пальцами, ставшими неожиданно очень чувствительными, маленькие пупырышки.
Пальцы его двинулись дальше, тихонько поглаживая грудь. Здесь кожа была нежная и гладкая. «Как у моего Гришки губы», – подумал он и хихикнул от этого сравнения. Неожиданно женщина как-то обиженно, по-детски, всхлипнула, и голова ее еще дальше повернулась в сторону, а зубы сомкнулись, прикусив соломинку. Голубая жилка на шее бешено пульсировала, набухнув от крови. Взмахнув руками, словно решила взлететь, она забросила их за голову, чуть не задев отпрянувшего Максима.
Затаив дыхание, он глянул на женщину – вдруг проснулась?
Такая же набухшая вена билась у него на виске, причиняя просто физическую боль. С трудом, в несколько приемов, он выдохнул воздух и положил руки на свои колени, пытаясь успокоиться.
«Нет, спит!» – обрадовался Максим. Сердце стало биться ровнее, боль в голове прошла. Восстановив дыхание, он опять потянулся к ней, уловив слабый запах пота, исходящий от волос под мышкой. Он глубоко вздохнул, вбирая в себя этот запах и пытаясь понять, что он пробуждает. На миг ему показалось, что женщина открыла глаза, но нет, это просто трепетали веки.
Плавно водя рукой, он отогнал нахальную муху, решившую отдохнуть на ее щеке, и резко задрал вверх, к бедрам, подол юбки. Сначала он ничего не увидел, кроме поднятой мелкой пыли, кружащейся в неожиданно появившемся солнечном луче, падавшем на ее бедро. Женщина опять зашевелилась, поудобнее укладываясь, и еще шире разбросала ноги, поймав луч низом живота, и Максим ясно увидел черные курчавые волосы, густо покрывавшие лобок.
Живот спящей женщины задергался, то втягиваясь внутрь, то рывками поднимаясь вверх. Она застонала, но тут же зачмокала губами, словно во сне.
На секунду отвлекшись, он посмотрел ей в лицо – голова уже не была запрокинута, и ему показалось, что зубы покусывают нижнюю губу. Страх его прошел, и ему стало все равно, проснется она или нет, он даже желал, чтобы она проснулась, но все же вздрогнул, когда ее рука обхватила его плечи. А потом, в экстазе, спеша и от этого путаясь, стал расстегивать пуговицы на рубашке… Что было дальше, заслонил какой-то туман…
Фыркнув и обозвав его неопытным дитятей, Акулька спустилась вниз, оставив .Максима переживать свой промах.
Успокоился он неожиданно быстро, видимо, действительно был еще ребенком. Поймав ладонью солнечный луч, восстановил в памяти увиденную красоту, и прямо-таки волчий аппетит заставил его слезть с чердака и побежать в дом.
Обед никто и не думал подавать. Мать одиноко сидела в своей комнате, пытаясь наиграть что-то грустное на клавикордах. Она даже не повернула головы в сторону сына, когда он заглянул в раскрытую дверь. Ольга Николаевна, как только Агафон привез замерзшего и чуть не утонувшего мужа, сразу же поняла причину… Первой ее мыслью было пойти на реку и броситься в эту же полынью. Но хлопоты и уход за больным мужем отодвинули эту мысль в самые дальние уголки сознания. Она знала, что за всю свою жизнь не сумеет выпросить прощения, хотя в душе давно раскаялась и забыла генерала, словно его никогда и не было. «Великий грех, – молилась она, стоя на коленях перед образами, – лишать себя живота! Сейчас на мне один грех, а станет два. Один еще как-нибудь отмолю, а два – Бог не простит…»
Спали они с мужем в разных комнатах, и постепенно у нее вошло в привычку выпивать перед сном маленькую рюмочку домашней настойки или сладкого вина. «После него спится крепче!» – оправдывала она себя. Она вся ушла в переживания, выискивая оправдания своему поступку и, главное, находя их.
В последние дни в особый фавор у нее попал Данила. Ей нравилась его степенная, деревенская речь, его рассуждения о добродетели и грехе, о добре и зле, о погоде и видах на урожай. Он один не осуждал ее, лишь в его глазах она не читала презрения… Недавно она, первый раз в жизни, надавала по щекам Акулине – девчонка имела наглость встретиться с ней взглядом и не отвести глаз. «Это вызов!» – думала она. Данила успокаивал ее. Его слова усыпляли совесть и заставляли глядеть на мир по-иному. Он своей рукой наливал ей рюмочку вина и уходил по делам, оставляя ее умиротворенной и сильной. Временами барыня даже ожидала его прихода и сердилась, ежели он долго не появлялся.
Когда Лукерья вздумала при ней обругать Данилу, она резко оборвала старушку и отослала куда-то по делам. Временами Ольга Николаевна удивлялась себе: что это с ней происходит? Но тут же рюмочка, а следом другая давали блаженство и успокаивали совесть.
Ее муж даже словом не обмолвился, что он все знает и презирает ее, но когда она заходила в комнату, чтобы поправить подушку или спросить о здоровье, он молча отворачивался к окну или к стене, всем своим видом давая понять, что она тут лишняя, что ее присутствие тяготит его. Кормила больного и лечила целебными настоями старая нянька. Лишь из ее рук принимал он пищу и лекарства. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже…
Одно время казалось, что здоровье возвращается. После недели, проведенной у лесника, на щеках заиграл легкий румянец и начал возвращаться аппетит, но по приезде домой все это вмиг ушло, и болезнь больше не отступала.
В конце лета он уже не поднимался с постели. Что отец умирает, понял даже Максим. Его сердце сжималось, когда заходил к нему в комнату и видел заострившиеся скулы и тусклые глаза, из которых медленно уходила жизнь!.. Он бы все отдал, чтобы помочь отцу и облегчить страдания, но единственное, что мог, – это не подавать вида, как ему тяжело.
Часто после разговоров с отцом убегал в тот самый сарай, где, как считал, стал мужчиной, и долго-долго рыдал, зарываясь лицом в сено и царапая кожу колкими стебельками. Физическая боль приносила внутреннее облегчение. Стерев кровь со щеки или губы, он постепенно успокаивался, напускал на себя веселый вид и брел в дом; и ежели отец звал его, то, раздвигая губы вымученной улыбкой, шел к нему, стараясь показать своим видом, что все идет неплохо, а в дальнейшем станет еще лучше…
Но лучше не становилось… И как-то, накрыв теплую руку сына своей ледяной ладонью, Аким долго молча глядел на него, стараясь вобрать в себя эти родные черты, эти глаза и по-детски припухлые губы, чтобы не забыть их ТАМ!..
Смерть его не пугала. Он много повидал ее в жизни, но жаль было оставлять без отцовской поддержки неопытного и беззащитного сына; жаль было оставлять родительский дом, родную Рубановку и милые дедовские акации…
Он посмотрел в раскрытое окно на красное заходящее солнце и розовое в его лучах облако. Легкий ветерок, пошелестев салфеткой на столе, принес в комнату запах уходящего лета: скошенной на лугах травы, яблок из ароматных садов и меда с гречишных полей…
Как не хотелось все это покидать!
Желтый лист, покружив по комнате, плавно опустился на грудь больного. Выпустив руку сына, Аким осторожно взял листок и поднес к глазам, внимательно разглядывая прожилки на желтой поверхности, потом, счастливо жмурясь, с удовольствием понюхал, медленно пропуская воздух в легкие, чтобы не раскашляться, и нежно погладил вялую засыхающую поверхность, бережно положив его рядом с собой.
Максим с удивлением глядел на отца – дался ему этот лист, чего в нем нашел интересного?
Голос отца стал тих и слаб…
– Я скоро уйду!.. – Он поднял руку, чтобы остановить готовые сорваться с губ сына слова возражения. – И вот тебе мой наказ… Я написал друзьям – они помогут… Ты должен стать офицером! Все Рубановы были военными, правда, выше капитана или ротмистра не поднимались и богатства не скопили… Да это и не важно! Важно – Родину защищать!.. Станешь воевать – а этого не минуешь – и забросит тебя судьба в Австрию, найди деревушку Зальцбург и поле за ней, вот на том поле у реки перед мостом и закопаешь сей орден. – Слабой рукой пошарил под подушкой и протянул крест «Святого равноапостольного князя Владимира». А в-третьих, ежели сумеешь, отомсти врагу моему, генералу Ромашову. Даже на смертном одре не могу я простить ему…
Максим удивленно поднял брови. Отец надолго замолчал.
Неожиданно слабая улыбка тронула губы больного.
– Самая сладкая месть – женись на его дочери!
Максим непроизвольно коснулся золотого крестика на своей груди.
– …Это будет для генерала огромным ударом! – Аким в изнеможении откинул голову на подушку. – А теперь поцелуй меня… И ступай пригласи дьякона – причаститься хочу…
Стараясь незаметно стереть слезу, Максим пошел к двери.
Последнюю свою ночь на этой земле Аким Рубанов не спал!..
Он блаженствовал, слыша победные боевые трубы…
Красивый и крепкий, летел на коне, ловя благосклонные взоры синих глаз императрицы Екатерины, серых – императора Павла и голубых – Александра…
А затем перед его взором простерлась бесконечно длинная дорога со следами сапог, конских копыт и орудийных колес…
Это была последняя дорога из всех, истоптанных им… И он одиноко шел по ней!
И последнее, что увидел или почувствовал, – это образ артиллерийского капитана, медленно поднимавшегося вверх, к небу, и растворявшегося в плотном утреннем тумане…
И АКИМ ПОШЕЛ ЗА НИМ!!!
Его соборовали…
Он лежал под образами в прекрасном гусарском мундире, и горевшая лампадка отбрасывала тусклую тень на его лицо. Между большим и указательным пальцем правой руки светился огонек свечи. Поднимавшееся солнце затмило лампадку со свечой, и его яркие лучи подбирались к покойнику.
Ольга Николаевна велела зашторить окна и зажечь побольше свечей… В комнате было душно от набившихся бородатых мужиков-крестьян и их жен. Они усердно кланялись в молитве, прощаясь с барином. Время от времени раздавались женские всхлипы. Ожидали из Чернавки старика священника.
В сарае Агафон с Данилой спешно ладили гроб.
Максим убежал в сад подальше ото всех – от матери, няньки, дворовых – и долго, без слез и в молчании, лежал на теплой земле, в нервном ознобе вздрагивая плечами.
Когда его нашли и привели в дом, священник торжественно служил панихиду… Максим, с трудом переставляя ноги, подошел к отцу и прижался губами к холодному и жесткому лбу, затем на шаг отступил и, то ли из-за горевшей лампадки, а может, свечи отбрасывали столь причудливую тень, но ему показалось, что губы отца чуть раздвинулись в улыбке, успокаивая и поддерживая его…
Схоронив мужа, Ольга Николаевна как-то сразу успокоилась… Раскаяние перестало угнетать ее – каяться теперь не перед кем! «Сын еще маленький и ничего не понимает», – думала она, а чувствовать себя виноватой перед крепостными ей, столбовой дворянке, не к лицу.
Постепенно она расцвела и стала следить за собой. Клавикорды звучали веселее, возобновились занятия французским с сыном, и однажды она даже поймала себя на мысли, что ей скучно без генерала, что она жалеет об его отъезде. Ее даже бросило в жар и стало стыдно за эти греховные желания.
Нянька осуждающе качала головой – еще сорока дней не прошло, а барыня веселится, но сказать в глаза боялась: «Какая-то дочка стала не такая! – думала Лукерья. – Да и этого долдона Данилу что-то очень привечать начала… Ох, не доведет это ее до добра, не доведет, – переживала старая мамка и иногда даже плакала, обняв Максима и называя его сиротинушкой.
Он стал тих и задумчив… Опять прилежно занимался французским с маменькой, счетом и письмом с чернавским дьячком, но с особым тщанием, помня наказ отца, тренировался за конюшней в стрельбе из пистоля и без устали крутил саблю, развивая запястье.
На сороковины, несмотря на непролазную грязь, из далекого блестящего Петербурга прибыли отцовы друзья – князь Петр Голицын и командир гусарского полка Василий Михайлович. Максим с восторгом смотрел на них, любуясь ладной формой и боевым видом. Они казались выходцами из другого мира, недоступного для него, – мира, где сражаются с врагами, ухаживают за дамами и танцуют на балах.
Даже толстый полковник вызывал в нем неизбывное чувство восторга, не говоря уже о стройном красавце ротмистре, чем-то неуловимо напоминавшем отца.
Как хотелось бросить этот дом и деревню и умчаться с ними в неизведанную новую жизнь. Он согласен был чистить их лошадей, только бы взяли его с собой. «И чего отец вернулся сюда, в эту скучную Рубановку?» – недоумевал он.
Гусары галантно раскланялись с Ольгой Николаевной и приложились к ее ручке. С таким же восторгом, как и сын, она глядела на военных и вздыхала от жгучей зависти к их женам, живущим где-то там, в недоступной мечте, где есть театры, опера, балы и блестящие гвардейские офицеры…
Офицеры наперебой ухаживали за дамой – подвигали ей кресло, целовали руки, накидывали на плечи шаль. И бесконечно говорили об Акиме…
Вечером дом сиял от многочисленных свечей, зажженных в зале.
Дворовые не понимали – сороковины в усадьбе или бал?!
– Годовой запас сожгут! – бурчала нянька.
Агафон был доволен: выпивки сколько душе угодно.
Данила, напротив, хмурился: ему не нравилось, как барыня смотрит на приезжих.
Вечером поминали Акима. Разговоры, как всегда, начались с воспоминаний о походах и стычках. Голоса военных звенели сталью гусарских сабель, а фразы были резки, словно команды. Пили привезенное шампанское, домашние наливки, а под конец лениво тянули водку, закусывая хрустящей рубановской капусткой. Устав сидеть за столом, отправлялись в конюшню поглядеть на лошадей. Максим показывал им свое умение стрелять из пистолета и управляться с саблей.
– Весь в отца! – хвалили парня офицеры. – Знатный гусар получится. Сердце его пело от этих слов.
Замерзнув, возвращались в гостиную, разговор возобновлялся, снова наполнялись бокалы, дым от трубок поднимался к потолку, и вот уже вместе с ними Максим был в Варшаве, Берлине и Париже, сражался на полях Австрии и Италии. Господи! Как ему хотелось уехать в столицу и, поступив на службу, стать таким же элегантным и храбрым офицером, как князь.
Утром запрягли лошадей, и гости поехали на кладбище. Приезжие сделались строги, угрюмы и сосредоточенны. Склонив головы, стояли они перед простым свежим крестом, и Максим увидел, как тяжелые мужские слезы, стекая по щекам, теряются в их бравых усах. Стояли молча, и каждый думал о своем.
Затем похмельный Агафон, кряхтя и шумно выдергивая ноги из грязи, прибил к кресту дощечку с надписью и отошел, любуясь своей работой. Поворотившись, поглядел на гостей, ожидая стаканчика с водочкой или, на худой конец, хотя бы слов одобрения… Не дождавшись ни того ни другого, грустно вздохнул и уставился на доску, пытаясь понять ее смысл и уразуметь значение таинственных букв и цифр.
На следующий день гости уехали, пообещав на прощание Максиму, что займутся его судьбой…
Но дни шли за днями, а никакой весточки из Петербурга не приходило. Почтовые кареты не привозили депешу с вызовом или письмо, срочно требующее его приезда в столицу.
Жить стало намного тоскливее, чем раньше.
Максим снова привык к тишине и, вспоминая отца, иногда украдкой смахивал слезы.
От матери все чаще и чаще попахивало хмельным. Ольга Николаевна все больше времени проводила с Данилой.
9
Новый, 1807 год встретил безрадостно и скучно, ожидая письма из Петербурга, которого все не было.
– Да дите ты еще! Куда тебе в гусары? – обнимала его нянька, стараясь поддержать и успокоить. – Потерпи еще годок-другой, успеешь саблей-то намахаться…
«Так и состаришься здесь! – грустил Максим. – А для нее все дите будешь…»
19 февраля ему исполнилось четырнадцать лет! День начался так же однообразно, как и вереница предыдущих. Со смертью отца что-то важное ушло из души Максима. Не стало прежнего веселья и радости… Нянька прибаливала, и Ольга Николаевна отправила ее в деревню. А может, болезнь была лишь поводом: барыня чувствовала себя неуютно под осуждающим взглядом Лукерьи. Акулина сбилась с ног, готовя угощение. Барыня, чувствуя вину перед сыном, хотела хоть как-то оправдать себя и решила шумно отпраздновать его четырнадцатилетие. Но никто из соседей приехать не смог или не захотел. Разозлившись, она с обеда уже начала отмечать именины, и вскоре верный Данила помог ей добраться до спальни. Акулина, заделавшись ключницей, от злости на изменника Данилу напоила Агафона, и тот, заметно кренясь, отправился в конюшню задать корм лошадям и больше не появился. «Видно, споткнулся о вилы, а встать сил не нашлось», – подумала девка. Напившись чаю, она тоже направилась отдохнуть. С утра натоплено было на славу, и сон быстро сморил ее.
Максим от безделья слонялся по дому, думая, чем бы заняться. Случайно открыв дверь в горницу, где спала прислуга, он замер в восторге: Акулина лежала в постели во всей своей красоте. На ней была лишь белая рубаха, сбившаяся на широко разбросанных ногах и открывшая взору Максима когда-то виденные им белые бедра и черные завитки в низу живота. Тихонько прикрыв за собой дверь, он шагнул в комнату. На этот раз, открыв глаза и увидев барчука, девка не притворилась спящей. Неизвестно, что двигало ей, – то ли злость на своего дружка, то ли желание отомстить барыне, а скорее всего, деревенская зимняя скука и выпитая наливка, но, приподнимаясь на постели, она сама протянула к нему руки и прильнула к теплому телу…
– Не торопись, барчук, – только и успела произнести, смятая его бешеным напором.
На этот раз он удивил ее…
Сначала Акулина старалась сдержать стон наслаждения, но через какое-то время перестала владеть собой и кричала уже в голос, забыв, где она и с кем. Благо, что никто ее не услышал…
Когда все закончилось, она лишь сумела произнести: такого я еще не испытывала, с восхищением посмотрела на именинника и сочно чмокнула в щеку.
Максим, напротив, остался разочарован!
«И чего это Акулька вопила как дура? – недоумевал он. – Поди пойми этих баб…»
А письма из Петербурга все не было и не было, и он перестал ждать… Боль от потери отца постепенно притупилась – жизнь брала свое. Летом он вместе с Кешкой ездил в ночное, скакал на коне не хуже взрослого и неплохо отточил коронный отцовский удар. Акулину вскоре мать неизвестно за что тоже отправила в деревню, и в доме теперь прислуживали две пожилые женщины довольно-таки невзрачного вида. Данила не мог на них глядеть без зубовного скрежета и содрогания… Максиму было все равно: Акулина успела ему надоесть. Агафон напивался до того, что, запрягши одного жеребца, доказывал, будто их в оглоблях трое, за что, по приказу барыни, получал розог от Данилы на родной своей конюшне. Самой заветной его мечтой стало отплатить той же монетой «этому проклятому Данилке».
За лето Максим вытянулся и возмужал, превратившись из отрока в стройного привлекательного юношу. В годовщину смерти отца Агафон вез его на погост в новой бричке, которую молодой барин надумал обкатать. Неподалеку от кладбища в желтеющей уже липовой аллее он заметил парочку, медленно идущую к большаку и беспрестанно целующуюся. Женщина была в белом платье и шляпке, мужчина – в красной рубахе, синих штанах, заправленных в сапоги, и картузе, который снимал всякий раз, наклоняясь к лицу женщины.
Каково же было его изумление, а затем горечь и гнев, когда разобрал, что это мать и Данила… Он давно слышал перешептывания челяди и крестьян, намеки Акулины, но по молодости или по глупости не обращал внимания на пересуды, да и не верилось, что мать, схоронив мужа, тут же найдет себе полюбовника, да еще из простых мужиков. Он с Акулиной – другое дело…
Увидев сына, Ольга Николаевна поначалу растерялась, и краска стыда залила ее лицо. Но на кладбище она уже помянула мужа, поэтому быстро взяла себя в руки и стала придумывать, что сказать в оправдание. Максим, не обращая внимания на мать, вырвал кнут из рук Агафона и, к его неописуемому восторгу, принялся охаживать Данилу. Тот попытался поймать больно жалящий плетеный кожаный жгут.
– Не сметь! – грозным окриком остановил его Максим и так глянул побелевшими от ярости отцовскими глазами на пытавшуюся заступиться мать, что она испуганно отпрянула в тень лип и затаилась там.
Войдя в раж, Максим сбил с ног здорового мужика, даже не удивившись этому, и продолжал полосовать его, пока от усталости не заломило руку. Видя, что барин выдыхается, Агафон решил оказать ему помощь.
– Не так, не так, – бережно взял он кнут из вялой уже руки и несколько раз перетянул с оттяжкой дергавшееся от каждого удара тело.
Это была самая счастливая минута в его жизни!..
И лишь на пятнадцатилетие нежданно-негаданно пришел пакет. Будущее Максима хранилось в тонком синем конверте, залапанном пьяными почтарями, под тремя сургучными печатями с расплывшимися вензелями. Он много раз в своих мечтах переживал этот момент, но не думал, что все будет так буднично. Артиллеристы не подкатили пушки и не салютовали, не гремел гром, и не сверкали молнии, а зимнее солнце спряталось за серую невзрачную тучку, которая, как ни тужилась, не сумела выдавить из себя даже махонькую одинокую снежинку. Словом, никаких катаклизмов, но конверт-то был в его руках… Он мог смять его, нюхать… «Это не сон! Господи! – трясущимися руками рвал он бумагу. – Только бы не проснуться…» – Сломанный сургуч упал к его ногам…
Сборы были не долги! Проводить молодого барина пришли Лукерья и Акулина. Они-то, попеременно выбегая из дома, и нагружали припасами сани. Мать участия в сборах не принимала. Вот уже полгода, как она почти не разговаривала с сыном. Ждала и надеялась, что он первый придет просить прощения, но так и не дождалась. Поэтому особой тоски и грусти не испытывала и, ужасаясь себе, в душе радовалась, что он наконец уезжает, оставляя ее полноправной хозяйкой. Средств на дорогу выделила самую малость: «Пусть сам заботится, а то больно высокого мнения о себе стал…»
Старая нянька, напротив, так и заливалась слезами, думая, что видит свою кровиночку в последний раз.
– Да чего ты плачешь? – стараясь выглядеть бодрым, спросил ее Максим.
Неожиданно ему тоже стало жаль расставаться с дедовским домом, с деревней и с устоявшейся жизнью. Сердце беспокойно забилось от страха перед неизвестностью, но Максим отогнал от себя грустные мысли.
– Нет, я счастлив, я очень счастлив, – твердил он.
Агафону поручено было доставить его в Петербург.
Выпив на дорожку, так, самую малость, чтоб не озябнуть, он значительно сидел в санях и оглядывался по сторонам, ища взглядом Данилу. Но тот проводить молодого барина не вышел.
– Спесивец чертов! – ругался Агафон. – Ничего, мы тебя еще обломаем…
– Матерь Божья! Сохрани раба Твоего Максима, под Святым Покровом Твоим! Да сопутствует ему ангел Господен; да ослепит он очи врагов, да соблюдет его здравым, невредимым и сохранит от всякого бедствия! Аминь! – крестила его нянька.
Вслед за ней простилась Акулина и все-таки вышедшая на крыльцо мать. Она холодно поцеловала сына на прощание и, зябко передернув плечами, ушла в дом. Нянька, утирая слезы, махала рукой до тех пор, пока сани не скрылись из виду.
– Ничего! Доберемся не спеша! – подбадривал Агафон, время от времени доставая из-за пазухи бутылку пшеничной. – А то с этими почтовыми – деньжищ уйма уйдет, да и жулье там одно, – с удовольствием приложился к горлышку и громко чмокнул губами, оторвавшись от него через довольно приличный отрезок времени. Лошади, подумав, что чмокают им, пошли быстрее, бодро размахивая гривами.
Максим сидел, закутавшись в пыльную медвежью шубу, и глазел на родные места. «Жалко с Кешкой не простился, – пригорюнился было он. – Да ничего, еще свидимся…»
Зима в этом году была нехолодная и малоснежная. Сани ходко шли по накатанной колее.
В столицу прибыли почти в середине марта. За эти три недели Максим увидел больше, чем за всю прожитую жизнь. «Ай да и обширна Россия, держава наша!» – любопытными глазами смотрел на города и села, через которые вез его Агафон. Кучер когда-то по молодости поездил-поскитался по матушке-России и теперь с важным видом рассказывал о местах, по которым они проезжали.
Петербург просто потряс Максима своим великолепием – дворцами, высокими каменными домами и широкими бульварами.
– Да-а, барин, это вам не Рубановка! – философски изрек Агафон с таким видом, будто он тут все и построил.
Но пока искали дом князя Голицына, его матерно облаял городовой и перетянул плетью куда-то торопящийся гусар. Так что к вечеру, когда разыскали нужное место, настроение у Агафона стало не такое бодрое, и даже Даниле в его воспоминаниях стали присущи некоторые человеческие черты. Рубановка уже казалась много милее этого безразличного необъятного города.
Трехэтажный дворец князя Голицына был ярко освещен огнями. Робея, Максим поднялся по широким ступеням. Его, оказывается, ждали, и лакей, услышав имя, тут же повел приезжего к барину. Проходя через ярко освещенные свечами залы, Максим поражался богатству и роскоши обстановки. Дом генерала Ромашова, в сравнении с этим великолепием, казался убогой конурой. Князь встретил его запросто, как старинного знакомца и приятеля, расцеловав в обе щеки и осмотрев со всех сторон, кажется, остался доволен.
Через некоторое время в кабинет влетела и княгиня. Она сразу глянулась Максиму своей простотой и непосредственностью. Гибкая и невысокая, она порхала вокруг гостя и всплескивала руками.
– Да вас одеть, мон шер,[4] по-модному, какой жених станете! – щебетала она. – Высок, строен, красив, что еще надобно?
Князь с улыбкой наблюдал за женой и был счастлив, что ей пришелся по-сердцу сын покойного товарища.
– Ну, положим, дорогая, для службы в кирасирах он не высок. Там самый маленький тянет на два аршина девять вершков.[5] Ну ничего, ему совсем чуть-чуть осталось подрасти.
– А эта восхитительная мушка в углу рта сведет с ума не одну девицу, – не слушала его жена.
Ее тонкие руки, от которых так приятно пахло, обхватили голову юноши и повернули к свету. Максим растерянно улыбнулся. Княгиня в восторге захпопала в ладоши:
– Какие прелестные ямочки на щеках. Почаще улыбайтесь, мой друг, и женщины сделают вас генералом… Завтра я закажу ему платье и покажу Петербург, – обернулась к князю Петру, – вот знакомые удивятся! – загорелась она.
– Извини, дорогая! У нас немного другая программа, – поцеловал жену в лоб. – Молодой барин несколько задержался, поэтому завтра утром нам следует быть в канцелярии лейб-гвардии Конного полка… А столицу ему покажешь, как станет офицером…
Пожилой лакей, учтиво поклонившись, отвел Максима в отведенную комнату. Слуги здесь были дисциплинированны и вышколенны, не то что в его Рубановке. Заснул он неожиданно быстро, и улыбка не сходила с его лица даже во сне.
Несколько чинов канцелярии лейб-гвардии Конного полка прилежно скрипели перьями, даже не подняв глаз на вошедших. Из кабинета заместителя командира полка вылетел красный и взъерошенный старший писарь и опрометью помчался через всю канцелярию за вестовым, чтобы передать ему приказ полковника.
Ротмистр довольно улыбнулся:
– Служба идет! – хлопнул по плечу Максима, чтобы подбодрить его. – А наш дражайший Михайло Андреевич похоже сегодня не в духе. Замещает командира полка генерал-майора Янковича. Редко, но такое с ним происходит…
Подойдя к двери кабинета, они услышали тяжелые нетерпеливые шаги и звяканье графина с водой.
– Наверное, вчера в гостях побывал, – князь подмигнул по-мальчишески Рубанову и прошел в кабинет. Следом протиснулся и Максим.
– Здравия желаю, Арсеньев! – по-свойски пожал ему руку ротмистр. – Гляди, какого я тебе гвардейца привел…
Полковник мрачно, исподлобья уставился на Максима. У того аж мурашки по спине пробежали.
– Да не хмурься, командир,– развалился в кресле Голицын. – Это тот самый юнкерок, за которого мы с Василием Михайловичем просили тебя…
Взгляд полковника смягчился. Максим встал во фрунт и не дышал.
– Полагаю, росту чуть не хватает? – выпив воды из стакана, налитого еще до их прихода, Арсеньев сел за стол.
– Вытянется за лето, господин полковник, – легкомысленно махнул рукой Голицын. – Делов-то… А чего в раздражении?
Полковник снова нахмурился и резко поднялся из-за стола. Князь пожалел о своем вопросе.
– В раздражении – мягко еще сказано, ротмистр! – хриплым, сорванным от команд голосом загремел Арсеньев. – Да я его, каналью, растопчу… Манеж мне покрасил кое-как! – Нервно заметался он по кабинету.
В дверях появилась голова старшего писаря и тут же исчезла.
– В Сибирь каналью сошлю. От самого государя императора нарекание получил!..
Голицын понял, что речь идет о воре подрядчике. Но этот вопрос не интересовал его.
– Главное, Михайло Андреевич, полученная вами высочайшая благодарность за смотр, а этот пустяк быстро забудется, – попытался успокоить полковника. – Эка невидаль – манеж облупился! У нас и не то в полку случалось…
Конногвардейский полковник подошел к настольному колокольчику.
– Командира второго эскадрона ко мне! – велел залетевшему в кабинет старшему писарю.
Пока вестовой разыскивал эскадронного, Михаил Андреевич несколько успокоился и уже, добродушно разглядывая Максима, с удовольствием рассказывал ему о коннице вообще и гвардейском полку, в котором выпало счастье служить ему. При этом он безостановочно передвигался по кабинету из угла в угол. Ходьба успокаивала его.
-Русская регулярная конница делится по своему боевому предназначению на тяжелую, легкую и драгун. Самая боевая и мощная – это, конечно, тяжелая, – иронично посмотрел на гусарского ротмистра, – в которой тебе и придется служить, – перевел взгляд на Рубанова. – Кирасиры предназначены для атаки сомкнутым строем, способным смять и повернуть в бегство любые построения вражеской пехоты.
– Но ежели вы такие грозные мужчины, почему же государь не велит носить офицерам усов? – обиделся за легкую кавалерию Голицын и гордо пригладил свои небольшие аккуратные усики.
– Настоящего офицера и без усов видно! – парировал полковник, постепенно приходивший в хорошее расположение духа. – А гусаров к мужчинам только по усам и можно отнесть…
Тут уже нахмурился Голицын.
– Гусарские да уланские полки наряду с казаками нужны для аванпостов и разведочной службы, а не для настоящего сражения… Вот государь и разрешил вам усы носить, – обернулся к Голицыну, – дабы в лесу хорошо маскироваться и за елку сходить! – басовито засмеялся полковник.
Тут уже не выдержал ротмистр. Яростно вскочил со стула и только открыл рот, чтобы заступиться за гусар, как в дверь постучали и у порога вытянулся командир второго эскадрона.
– Про драгун и конноегерские полки сам узнаешь, – произнес полковник и мановением руки усадил князя в кресло. – Барон Вайцман, вы были ответственны за покраску манежа?
Огромный немец стоял навытяжку, выкатив глаза. Лицо его медленно, начиная со лба, покрывалось бледностью.
– Прошу садиться, – милостиво разрешил Арсеньев, выдержав достаточную, на его взгляд, воспитательную паузу.
Ровным шагом, как положено по уставу, кладя на пол целиком огромную свою ступню, гремя шпорами на весь кабинет и даже канцелярию, барон пошел к стулу.
«У канцеляристов, наверное, бумаги на столах подпрыгивают», – подумал Максим, поглядывая на немца. Он ему сразу не понравился. С первого взгляда… Не понравились его белесые свинячьи ресницы под узкими светлыми бровями, белая, почти прозрачная кожа, пустые оловянные бесцветные глаза, массивная шея и узкий лоб с ниспадающими на него прядями редких белокурых волос. Не понравилась его механическая походка, не понравился он весь…
Между тем вошедший ротмистр, прижав строго по правилу левой рукой шляпу и палаш к неподвижному корпусу, подошел к стулу, коротким движением отвел палаш и, сев совершенно прямо, стал есть глазами начальство.
Голицын жалостливо глянул на Максима и тут же отвернулся к окну, недовольно сморщив нос: «Не мог к другому командиру направить, – неприязненно подумал о немце. – Ну да ничего, в обиду не дам! – стал успокаивать себя. – …И службу парень лучше поймет…»
– Господин ротмистр! – гремел в кабинете голос полковника. – Вам в ученье отдается сей юноша, сын боевого командира и кавалера, прошу вас сделать из него опытного кирасира, а в последующем – и офицера, способного постоять за честь России и лейб-гвардии Конного полка… – Барон, словно заводной, кивал головой. – А за манеж спрошу с вас отдельно, – закончил на строгой ноте Михаил Андреевич. – Идите, и завтра чтоб юнкер был обмундирован и приступил к службе. Жить будет в казарме, успеет еще на мягких постелях понежиться…
Голицын не думал, что прямо сегодня его воспитанника заберут, но перечить не стал. «От жены, конечно, получу выговор», – со вздохом подумал он, подходя к Максиму и обнимая его за плечи.
– Отца у тебя нет, я стану заместо него! – значительно взглянул на немца: «Авось, не посмеет обидеть…» – как-то по-солдатски подумал он. – Ну что тебе еще сказать… Служи достойно!.. – перекрестил его князь.
На улице Максима пробрал холод – весна выдалась поздняя, ночью ударяли крепкие заморозки, и снег таять не желал. А может, знобило его от волнения.
Плац, через который они проходили с Вайцманом, был не просто чистый, а вылизанный.
– Делать мне нечего, как юнкерами заниматься, – услышал Максим недовольное бормотание немца. – Скоро надо проверку обмундирования проводить, амуниции и оружия, – бурчал тот себе под нос, – а тут новое задание… а еще предстоит осмотр повозок произвесть и ковку лошадей проследить, – стал загибать ротмистр пальцы, видно для того, чтобы новый рекрут понял, сколько у командира дел, и не вешал на него новых проблем. – Только и сиди над эскадронными ведомостями и списками. – Наконец пришли они на квартиру ротмистра, которую он снимал у какого-то купца.
Барон, расстегнув колет, тяжело опустился на диван, разом застонавший под его грузным телом, и велел денщику мигом позвать вахмистра и унтера Шалфеева. Рубанову сесть не разрешил. Пока денщик исполнял поручение, ротмистр придирчиво осмотрел уставшего будущего кирасира и явно остался чем-то недоволен. Взгляд его и весь вид как бы говорили: «Поблажек от меня не жди… Узнаешь почем фунт лиха, как любят выражаться русские».
– Кирасир не должен сутулиться, – с остзейским акцентом начал он. – И глядеть на начальника должен прямо, весело и преданно, как положено по уставу…
Максим попытался смотреть по уставу, но что-то у него явно не получалось. Скорее всего, не хватало веселья и преданности! Барон, недовольно щурясь, прошелся по комнате, обмахиваясь платком.
– Где этот чертов вахмистр! – не успел произнести он, как в дверь постучали, и на пороге возник запыхавшийся «чертов вахмистр», а за ним маячили фигуры денщика и унтера… Причем денщик, расталкивая остальных плечами, первым порывался доложить об исполнении приказа.
Но вахмистр, отстранив настырного денщика – высокого и худого хохла с загнутыми книзу усами, переступил порог и, глядя прямо и делая веселую и преданную рожу, громко и четко доложил: «Честь имею явиться, ваше высокоблагородие!».
Вайцман благосклонно кивнул головой и торжествующе поглядел на Максима – «Вот как надо!» – казалось, говорило его лицо, – а затем поманил пальцем унтера, подбежавшего к нему и вытянувшегося во фрунт.
– Желаю тебе поручать сего юнкера строю и езде обучать!
– Рад стараться, ваше высокоблагородие! – рявкнул унтер, не поняв толком, что сказал ротмистр.
– А особо подготовь его к пешей экзерсиции – к стойке, поворотам, маршировке тихим и скорым шагом по метроному. Это есть самое главное!.. Этот унтер, господин юнкер, является эскадронным флигельманом – ставится на учении перед строем как живой образец, с которого все должны копировать каждое движение и тщательно выполнять приемы. Он-то научит вас выправке позитуры и правильному шагу. – Достал из кармана внушительный хронометр. Лицо его засветилось вдохновением. – А ну-ка, унтер, покажи рекруту… – И полчаса с удовольствием, до пота, гонял его по комнате медленным и скорым шагом. – Ногу выше, носочек тяни – хорошо-о! – блаженствовал ротмистр. – Вот так, господин юнкер, каждое движение полировать надо… Часами! Это вам не пажеский корпус, а лучший эскадрон Конногвардейского полка. Вольно! – остановил выдохшегося унтера и обратился к нему: – Научишь, конечно, рубке палашом, езде в одиночку и строем, уходу за конем, да чтобы сам не только кормил и чистил, но и гриву выщипывал, хвост подрезал и щетки подпаливал… И ежели плохо мне его обучишь, – заорал, картавя, – шкуру спущу, мерзавец, и галуны срежу. Чтобы он у тебя все знал, как «Отче наш» русские знают. Ступайте! – устало бросился на диван.
На улице кирасиры расслабились и перестали казаться тупыми дураками.
– Строгий командёр! – утер пот со лба Шалфеев.
Пройдя полковой двор, вахмистр, унтер и Рубанов оказались в просторной казарме с двухъярусными койками.
– Сейчас место сыщем, – чесал в затылке вахмистр. – А тебе, Шалфеев, завтра приказ принесу. Нынче неохота еще раз к командиру идти, а то и меня маршировать заставят, – хохотнул он. – Унтер болезненно поморщился и потер ноги. – Заниматься будешь с утра до обеда, – продолжил вахмистр, – после обеда пусть уставы учит, а вечером – приводит себя в порядок к следующему дню. Ну, прощевайте! – ушел он в свою каморку.
Обмундировка на следующий день, конечно, не поспела – подобрали ее через два дня. Форма рассчитана была на крупного мужика, поэтому висела и морщила на юном худом теле вновь испеченного юнкера. Но Рубанов все равно был горд и доволен. Не видя рядом эскадронного командира, он воспрял духом и любовался своим белым колетом, ботфортами и черной кожаной каской с высоким плоским гребнем из черной конской щетины. Черная же с красным кантом двадцатипятифунтовая[6] кираса показалась Максиму тяжелой, но Шалфеев сказал, что пока одевать ее не придется. В учебе она не нужна. Так как погода не баловала, Максим получил еще и шинель из некрашеного сукна, которую полагалось одевать под кирасу. Кроме того, для работы в конюшне выдали однобортный китель, схожий с офицерским сюртуком, пошитый из белого коломенка – плотной полотняной ткани типа парусины – и фуражку с околышем приборного цвета и белой тульей. На околыше стояли литеры и цифры, обозначавшие номер эскадрона: «2 э» – значилось на фуражке Рубанова. Кроме белых лосин выдали также серые походные рейтузы, подшитые черными кожаными леями.
Но особенно затрепетало юное сердце, когда расписался в ведомости о получении палаша. Он долго любовался стальным клинком, то и дело выдергивая его из ножен.
На следующий день приступили к занятиям. После утренней поверки Шалфеев повел сонного юнкера в конюшню – показать ему коня, на котором тому предстояло обучаться. Лошадей Максим не боялся и любил. Протянув краюху соленого хлеба к мягким конским губам, погладил холку и похлопал по крупу. Справившись с горбушкой, конь потянулся губами к руке Максима.
– Ишь какой лакомка! – весело засмеялся Рубанов. – Завтра еще принесу. И с ходу назвал жеребца Гришкой, как и своего, оставленного дома. Вспомнив о Рубановке, невнимательно слушал унтера, показывающего, как положено седлать скакуна.
– Всё понял? – вывел его из задумчивости Шалфеев.
Вздрогнув, Максим отвлекся от мыслей об Агафоне, который, должно быть, отправился уже в обратный путь. «Домой, конечно, попадет не раньше лета. В пути ему предстоит поменять полозья на колеса, которые надлежит купить на ярмарке, но деньги он уже пропил, значит, будет подрабатывать на подвозе или у кого-нибудь сопрет…»
Расседлав и снова оседлав коня, молодой юнкер потренировался закладывать трензель и мундштук, а затем перешел к чистке. Шалфеев показал, как работают щеткой и скребницей. Все это было для Рубанова не ново. Эту науку он постиг быстро.
Затем, разнуздав Гришку и привязав к кольцу, унтер показал во дворе конюшни позитуру и стойку, как делают фрунт и снимают фуражку. Чистившие и выводившие лошадей кирасиры весело ржали, наблюдая за уроком, и давали дурацкие советы.
Но Максим не обижался на этих огромных гвардейцев…
Хотя он выглядел среди них, как тонкая веточка среди крепких дубов, но в умении решил не отставать от ветеранов, отслуживших десять лет и более. Поэтому занимался самозабвенно, внимательно слушая своего «дядьку» и не отвлекаясь больше на Агафона.
После обеда, который даже не доел, Максим получил от вахмистра для изучения «Наставление» и пыльные уставы.
– Вот, сынок, постигай науку, чтоб от зубов отскакивала, а наперед открой на любой странице и спроси меня. – Круглое в морщинах лицо его приняло задумчиво-внимательное выражение, серые глаза закатились к потолку, а толстые губы плотно сомкнулись в ожидании…
Максим полистал «Наставление». Оно состояло из четырех глав: о выездке, уходе за лошадью, езде и владении оружием. Наугад открыв страницу, он задал вопрос:
– Как, господин вахмистр, надлежит обнажать палаш?
Неожиданно серые глаза вахмистра округлились от страха.
«Забыл!» – подумал Максим.
Огромная ручища его наставника сжалась в кулак, имитируя выдергиванье палаша из ножен. Губы разжались и довольно растянулись в улыбке.
– Вынимать палаш надлежит в три темпа, – басовито начал отчитываться он, – перенося правую руку через левую, – шевелил вахмистр рукой, показывая, как это делается, – схватить рукоять и вынуть на полторы ладони…
– Ну, это легкий вопрос, – прервал его Максим, – а теперь из другой главы…
Вахмистр опять напустил внимание на свою круглую рожу.
– Как должно сидеть верхом?
– Ой! – охнул экзаменуемый и почесал в затылке. – Сейчас, сейчас скажу, юнкерок… Сидя верхом должно иметь вид мужественный и важный, – затараторил он, снова закатив глаза к потолку и теребя пуговицу колета, – держать себя прямо сколько можно развязней и без малейшего принуждения…
– Словно на гальюне сидишь! – дополнил ответ подошедший унтер.
Но шутка вахмистру не понравилась.
– Ты смотри, Шалфеев, получишь в зубы! Ишь чего удумал… Боевую посадку с отсидкой в отхожем месте сравнивать взялся… Ежели б тебе юнкера не учить, всю ночь бы чистил нужник, – резко повернувшись и бережно положив устав на тумбочку, ушел в свою каморку.
– Чего начальника разозлил, Шалфеев? – подошел к ним смуглолицый важный ростом кирасир с синяком под глазом. – Видал, бланш какой поставили? – сверкнул он крупными, белыми зубами, среди которых не хватало двух передних. – Шмотри, и ты дошутишься! – прошепелявил он.
– Я уже по десятому году служу! – возмутился Шалфеев. – Поздно мне гляделки-то подбивать, а ты, Тимохин, еще зеленый, всего шестой год лямку тянешь, так что язык за зубами-то придерживай, чтоб не вывалился… А мы с вахмистром друзья, в стольких походах побывали, сколько у тебя и зубов во рту нет, – несколько прихвастнул он.
Недовольно зачмокав, щербатый кирасир тяжело полез на верхнюю койку, которая находилась над той, что отвели Максиму, и от нагрузки громко испортил воздух.
Унтер, мгновенно среагировав, оттащил юнкера к окну.
– Эх и вонючий черт! – выругался он. – Не повезло нам с тобой. Сколь прошу вахмистра, никак этого пердуна в другое место не переведет. Ну теперь можно идти, – решил он минут через десять, боязливо и осторожно пробуя воздух носом по мере приближения.
Раздраженный Тимохин, видимо в отместку, поднатужился и долгим дребезжаньем снова отогнал кирасиров к окнам. После этого блаженно захрапел.
– Привыкай, юнкерок, – тяжело вздохнул Шалфеев. – Это тебе не дома. – Сев на табурет у койки, снял ботфорты и размотал портянки, издавшие запах почище тимохинского…
У Максима аж защипало в глазах.
Скомкав их в кучу, понюхал:
– Ничего еще! – сделал вывод. – Можно не стирать. – И, протянув руку, сунул под подушку Тимохину.
Больше всего на свете унтер Шалфеев гордился своим носом и поэтому часто нюхал воздух, чтобы все обратили на него внимание. Эта огромная картофелина с двумя вывернутыми гнездами занимала половину лица, побитого мелкими оспинами. В остальном все у него было нормально: и прекрасные ровные зубы, и мужественный подбородок, и ясные синие глаза… Но все это он не ценил, потому что в Зимнем дворце видел портрет императора Павла, отца ныне здравствующего государя, и у того тоже был вздернутый нос картошкой, только меньших размеров. И хотя во время дождя в походе кирасиры советовали ему заткнуть ноздри портянками, а дышать ртом, он лишь посмеивался над глупцами и гордо нес картофелину, роднящую его с императором.
Не только следующий день, но и вся неделя прошла в обучении седловке и чистке коня, в отработке поворотов, маршировке и стойке. Шалфеев пояснял, если видел ошибку, что следует делать с руками, ногами, животом, и юнкер все повторял, постепенно оттачивая движения.
Кирасиры уже не ржали, видя с каким упорством и азартом занимается этот дворянчик, а старались поддержать его и помочь.
Так, не прикладывая особых усилий, Максим добился расположения гвардейцев.
Потом начались уроки езды. Шалфеев сначала показал юнкеру требуемую крепость посадки. Молодой барчук думал, что выездка будет для него пустяком, так как в деревне не слезал с коня, но здесь требования к посадке и скачке были другие. Приходилось всему учиться заново.
Шалфеев слыл мастером своего дела. Прежде он сел на коня без седла, на одну попону, подложив под локти и колени по тонкой палочке, а Тимохин погнал коня на корде по кругу. Когда сделали пятнадцать кругов рысью, а затем двадцать галопом, остановились, и Максим с удивлением увидел, что все четыре палочки находятся на своих местах. Значит, ни колени, ни локти не теряли уставных положений.
– Вот как надо! – похвалил Тимохин, будто сам так четко выполнил упражнение.
Максим тоже попробовал ездить без стремян и поводьев, но тонкие прутики не держались на месте и выскакивали то из-под колена, то из-под локтя.
«Ничего, научусь!» – думал он, снова и снова скача на коне по кругу. И с каждым днем у него получалось все лучше и лучше.
Все кирасиры и Шалфеев знали, как болят после первых уроков непривычные еще ноги, от бедра до колена называемые у кавалеристов шлюссами. Но для успеха нужно было непрерывно укреплять мускулатуру и бесконечно повторять упражнения. Даже деревенские парни, призванные в кавалерию и, казалось бы, привыкшие к лошадям, ревели в голос по первому времени, пока мышцы не привыкли к нагрузке.
Максим терпел все молча и даже старался улыбаться, сидя верхом на коне. После этого конногвардейцы еще больше зауважали барчука.
Приезжал проведать его князь Голицын и остался доволен успехами подопечного. Опытному кавалеристу сразу было видно, как старается и стремится всему научиться молоденький юнкер.
Ротмистр Вайцман в манеже не показывался больше недели. Полковой командир строго разобрался с ним, прислав, к радости Максима, на обучение еще двух юнкеров.
Барон метал громы и молнии, – только у себя дома, чтобы не дай бог никто не услышал, что он не доволен приказом.
Страдал один лишь денщик Синепупенко, фамилию которого аккуратный немец никак не мог запомнить и правильно выговорить. А денщик, конечно, не смел поправить и молча терпел, сидя на кухне за чисткой картошки. Был он и Синепапенко, и Синепыпенко, а однажды утром барон назвал его Синеспаленко, но тут же осекся, побоявшись, что выдал военную тайну.
Один из юнкеров представился Рубанову Оболенским Григорием Владимировичем.
– Папà отправили на перевоспитание, – хмыкнул этот семнадцатилетний повеса под два метра ростом, не уступавший силой взрослым конногвардейцам.
– Тяжеленько вам будет лошадку подобрать! – с уважением почесывался вахмистр, в задумчивости кругля серые глаза.
Второй юнкер был тонок и строен, как и Максим, но немного выше ростом. Они чем-то неуловимо походили друг на друга, то ли густыми русыми волосами, то ли голубыми глазами, но внешность Максима отличалась большей мужественностью и твердостью. В чертах графа Сергея Нарышкина проглядывало что-то женственное, беспомощное и беззащитное. С Максимом они были погодки.
Приехал он из Москвы и, в отличие от петербуржца Оболенского, служить в конногвардейском полку надумал сам, без какого-либо принуждения. Отец его – богатый московский барин – хотел оставить сыну кучера с коляской и снять квартиру, но юный граф пожелал хлебнуть всех трудностей солдатской жизни и решил остаться в казарме до получения офицерского чина. Отец его посчитал это блажью, но согласился с единственным своим отпрыском. Юный граф мечтал стать боевым генералом, а для этого требовалось, по его мнению, побольше жесткости.
Начали «их сиятельства» с того же, что и Рубанов: Вайцман приказал назначить им в «дядьки» по опытному кирасиру, отслужившему не менее десяти лет, – и те с удовольствием принялись за воспитание барчуков. Особую радость учителям доставляло то, что самих их освободили ото всех иных занятий и полковых дежурств.
К удивлению «дядек», нежный и слабый на вид Нарышкин легко перенес первые уроки езды, когда особенно ломили мышцы ног. А громадина Оболенский после занятий на полусогнутых добирался до казармы и плюхался на койку. Так же, на полусогнутых, добирался до стойла в конюшне несчастный его жеребец.
Ежели бы Оболенский обучался один, то скорее всего послал бы к черту и Вайцмана, и своего папà, продолжая лоботрясничать дальше, но ему было стыдно выказать свою слабость перед молоденькими юнкерами. Стиснув зубы, он занимался шагистикой, ездой, делал фрунт и даже читал «Наставление» и уставы.
Через три месяца новобранцы усвоили рекрутскую школу и сдали экзамены барону Вайцману. Причем знания юнкеров Рубанова и Нарышкина он отметил как полные и отменные.
Папà Оболенского перед экзаменом сына подарил барону прекрасную золотую табакерку с немецким ландшафтом и толстой фрау на крышке, и поэтому, морщась от ответов огромного юнкера по «Наставлению», ротмистр все же засчитал экзамен и ему.
10
Две недели назад, в середине июня, лейб-гвардии Конный полк отбыл под Стрельну «на травку», и весь личный состав расположился по деревням вокруг Стрельны. На следующий день после экзаменов барон Вайцман приказал юнкерам и их дядькам верхами следовать к полку, а сам отбыл в отпуск в Ревель, оставив за себя поручика Вебера, тоже немца.
Дядьки за три месяца учебы отдохнули и поправились, особенно дядька Оболенского. Он славился в полку тем, что в любое время суток при первой возможности старался уснуть, не важно как – лежа, сидя, а на посту – даже стоя. Когда в выходные конногвардейцев отпускали в увольнение, ефрейтор Егор Кузьмин по-быстрому покупал бутылку, пирогов с печенкой – по копейке за штуку – и сломя голову, упаси бог потерять минуту, летел в казарму спать. Проснувшись, отхлебывал водки, закусывал пирогом и скорее снова засыпал; но при всем том службу знал отменно и по зубам от Вайцмана получал редко – и то не за служебные упущения, а за сонные глаза, в которых не было преданности и веселья.
Дядька юнкера Нарышкина Антип спать не любил. Главное его отличие – абсолютная честность! Он совсем не умел врать, и это-то при внешности, которой позавидовал бы любой шинкарь или судейский чиновник. Из-под низко нависающего, в колечко, чуба цвета воронового крыла глядели хитрые глаза, которые, спроси любого, могли принадлежать лишь прохиндею… и не простому, а прожженному, опытному и изворотливому. Во всяком случае, если он покупал на копейку пирог, а давал две, продавец с уверенностью знал, что солдат хочет его надуть, и недоверчиво крутил монету, решая, не фальшивая ли она, а затем томительно, со вздохом, гадая, на чем же он пролетел, отсчитывал сдачу и долго еще смотрел вслед кирасиру, охлопывая себя по карманам…
Душа Антипа очень страдала от такого недоверия. «Не по-христиански это», – думал он, тяжело переживая подозрительность со стороны купца или прохожего. И по званию он все был рядовой, несмотря на десятилетний срок службы. Ротмистр сомневался в присвоении ему ефрейторского чина: «На чем-нибудь непременно попадется!» – думал он.
Пока разбудили Кузьмина, получили дорожное довольствие, взнуздали коней и выехали, подошло время обеда.
Папà Оболенского за успешную сдачу сыном экзамена отвалил ему приличную сумму, и теперь деньги не давали покоя привыкшему к солдатскому быту князю.
– Даже Святую Пасху не праздновал!.. Всё уставы да выездка, – жаловался он.
Трое юнкеров ехали стремя в стремя, чуть сзади за ними бок о бок плелись на лошадях дядьки.
– Егорша! – толкнул дремлющего в седле Кузьмина Шалфеев, которому после казармы хотелось веселья и разговоров. – А ваши юнкера-то ничего, хоша и сиятельства… Простяги! – рассуждал он, зорко высматривая по сторонам начальство.
Кузьмин кивнул, не раскрывая глаз.
Выехали на набережную Мойки.
– Кто бы сказал мне, что на Пасху не выпью, на дуэль бы вызвал враля, – развивал тему юнкер. – Сколько церковных праздников пропустил… Жуть! – грустил он.
Его друзья ничего не отвечали, а только улыбались.
Максим с любопытством осматривался по сторонам:
– Три месяца в Петербурге, а еще нигде не был и ничего не видел, – вздыхал он.
– О-о-о! Вернемся – погуляем, – взбодрился Оболенский. – А то и я скоро все позабуду. Чего-то есть хочется, – увидел он трактир. – Друзья мои! Полагаю, следует посетить сие заведение с вывеской «Храбрый гренадер» и отметить постижение рекрутской науки. – Огромной рукой вытер пот со лба, выступивший от такой длинной речи, а может, и от жаркой погоды.
День действительно выдался солнечный и погожий. Упрашивать никого не пришлось. Дядьки остались во дворе привязывать коней и навешивать им торбы с овсом, а трое юнкеров двинулись в трактир. Гренадеров здесь не было, если не считать одноглазого хозяина в выцветшем зеленого сукна мундире с отпоротыми фельдфебельскими галунами. Отпорол он их с такой задумкой, чтобы свежее, не слинявшее под ними сукно указывало на его чин.
– Наверное, специально мундир на солнце держал, а потом галуны спорол, – предположил Максим.
– Чего желают-с господа юнкера? – поправил зеленую повязку на глазу хозяин.
– Отдельную комнату и стол на шесть персон! – забасил Оболенский. – И мигом у меня…
Сидели здесь в основном небогатые купцы, канцеляристы дворцового ведомства, берейторы, шорные и экипажные мастера из придворно-конюшенных зданий, находящихся неподалеку. Было душно и шумно.
– Что-что, а мухи здесь действительно гренадерские! – подал голос Нарышкин, брезгливо осматривая чадный кабак: успел уже привыкнуть к воинскому порядку.
Одноглазый хозяин, недовольно поглядывая на здоровяка Оболенского, выделил им столик в самой последней от входа комнате рядом с дверью на кухню. «А то как бы драку не учинили… – подумал он. – Знаю я этих спесивых конногвардейцев!»
– Вели нести всякого мяса, калачей, овощей и, главное, водки и шампанского, – распорядился князь, усаживаясь за стол и разглядывая зеленую мятую скатерть и треснутые тарелки.
– Хозяин явно не равнодушен к зеленому цвету, – сделал второе умозаключение Максим, косясь на низкий зеленый потолок и то ли крашенные, то ли в плесени зеленые стены.
Оболенскому, в отличие от Нарышкина, обстановка пришлась по вкусу: «На золоте и серебре всегда успею поесть! Кузина ахнет, когда расскажу…»
– Господа! Вам непременно следует познакомиться с моей кузиной… А вот и шампанское! – обрадовался он. – И за Пасху хватит, – оценил количество бутылок, – и за экзамен…
Одноглазый гренадер привел с улицы дядек, недоверчиво окинув взглядом Антипа, похлопал себя по карману, чем плюнул дядьке в душу, и ушел распорядиться на кухню.
– Свечей вели принести побольше! – заорал вслед Оболенский, обратив внимание на два оплывших огарка в медном позеленевшем подсвечнике.
Дядьки перекрестились на темно-зеленый угол и чинно расселись за столом. Кузьмин тут же задремал, а Шалфеев проникся к себе огромным почтением, втянув мясной дух, идущий с кухни: «Вот, пожалуйте, с их сиятельствами за одним столом сижу!» – Бережно потер нос.
Половые в зеленых рубахах принесли жареную говядину и курятину, слава Богу, свойственного им цвета. Оболенский разливал юнкерам шампанское из зеленой бутылки.
– А вы, дядьки, водку пейте, не жалейте! – поднялся он из-за стола. – За Святую Пасху! – произнес первый тост, с жадностью опрокинув в себя шампанское.
Рубанов с Нарышкиным тоже с удовольствием освежились холодным, с ледника, напитком.
– Господа! – поднялся Рубанов, снова наполнив стакан. – За дядек и за рекрутскую науку…
Потом пили за «Наставление» и отдельно за каждый устав. Предложение Оболенского пить за каждую главу в уставе отвергли. Пили за крепость посадки и чтоб рысаки не хромали…
При свете новых свечей было видно блаженство, растекающееся по лицу Оболенского, но из добродушного настроения его вывел огрызок огурца, залетевший к ним из соседней комнаты.
– Ага! – грозно поднялся он из-за стола. – Кто тут не уважает лейб-гвардии Конный полк? – Пошел разбираться в помещение, из которого доносился гул голосов и звон посуды. На белом его колете расплывалось винное пятно.
В прокуренной каморке гуляло с десяток писарей из канцелярии кавалергардского полка.
– Что, чернильницы ходячие, отмечаете удачное списание овса?!. – загремел князь и, не дав им опомниться, ловко выбил ногой табурет из-под жирной задницы ближайшего писаря. – Я вам покажу, как огурцами в конногвардейцев метать. – Врезал в челюсть попытавшемуся что-то объяснить унтеру.
Писари дружно бросились на обидчика, но к юнкеру уже подоспела подмога… После выпитого шампанского и водки Максим чувствовал себя львом. И не каким-нибудь завалящим, рядовым, а крепким и отважным… С победным воплем влетел он в самую гущу боя, за ним кинулись трое дядек. Битва развернулась нешуточная, так как бойцы росту были саженного. В кавалергарды, даже в канцелярию, хлипких тоже не брали. Численный перевес писарей нейтрализовался огромными княжескими кулаками и особенно его буйным нравом.
– Погибель! Погибель заведению пришла… – всполошенно крутился рядом с бойцами хозяин «Храброго гренадера». – Кирасиры, разбегайтесь! – верещал он. – Я уже за будочниками послал…
Но в пылу битвы его никто не слушал, а чтобы не мешал веселиться, из свалки вылетел громадный кулак, провонявший махрой, и подбил вахмистру оставшийся в наличии глаз.
– Карау-у-ул! – завыл храбрый гренадер. – Убивают заслуженного ветерана… – Прижал ладонь к драгоценному глазу. – Турки око оставили, так свои норовят вышибить. – Махнув рукой на заведение, ретировался на кухню ставить примочки.
Последним в сражение вступил Нарышкин. Какое-то время он стоял на пороге комнаты, нервно сжимая кулаки и не решаясь кого-нибудь ударить. Но выбравшийся из свалки запыхавшийся писарь, увидев перед собой конногвардейца, без раздумий смазал ему по лицу.
– Ой! – схватился граф за нос и, отняв руку, увидел на ладони кровь. Дворянская гордость множества поколений предков взыграла в нем. И с криком: «Ах ты, крыса канцелярская!» – он заехал обидчику в ухо, но этого показалось недостаточно, чтобы смыть позор унижения с оскорбленной фамилии, и он принялся мутузить кавалергардского писаря и слева и справа. Перестал он его валтузить, лишь когда увидел перед собой будочника – худого, лядащего узкоплечего мужичка, которому тут же влепил по носу.
Взвыв, будочник грохнулся на загаженный пол. Двое его товарищей кинулись на бунтовщика, и плохо бы пришлось неопытному в кулачном бою графу, ежели бы на помощь не подоспел Оболенский. Схватив будочников за затылки, он крепко саданул их лбами, заорав на весь кабак: «Христос воскресе!»
Но у будочников это было самое неуязвимое место!.. Тупо помаргивая глазками, они все же устояли на ногах. Со словами «Воистину воскрес!» удивленному князю пришлось повторить процедуру, и лишь после второго соприкосновения крепкоголовые будочники рухнули на пол.
Максим в это время обрабатывал квартального – пожилого толстого мужика. Гордо окинув взором полнейший разгром и уничтожение противника по всему фронту, Оболенский решил оставить поле боя.
– Быстро коней готовьте! – велел он дядькам, отрывая Максима от квартального. – За мной, юнкера! – гаркнул князь, подхватив приятелей под руки и потащив их через кухню на выход.
Наткнувшись на несчастного хозяина, державшего мокрую тряпицу у глаза, произнес: «Слепым надо помогать…» – и сунул ему в руку пачку ассигнаций, на которые можно было купить еще одного «храброго гренадера» и впридачу какого-нибудь не менее «храброго драгуна».
Лицо несчастного тут же посветлело.
– По Аптекарскому скачите, да на Неву по Мраморному, а я их задержу.
В летний лагерь не спешили…
Вечером остановились на постоялом дворе под Петербургом. Опять прилично выпили, но драк больше не учиняли.
После мордобоя, у Оболенского было возвышенное настроение, и он жизнерадостно рассказывал приятелям, как выходил стенка на стенку со своими крепостными и какое это удовольствие – кулачный бой.
Жару следующего дня пережидали на берегу небольшого заросшего кувшинками и камышом пруда. Вода в нем имела такой отвратительно-зеленый цвет, что могла понравиться лишь лягушкам да хозяину «Храброго гренадера». Искупаться, несмотря на жару и страшное похмелье, никто не решился.
Вечером, с наступлением прохлады, поехали дальше. Заночевали на постоялом дворе. В Стрельну въезжали на следующий день после обеда. Тихая сельская идиллия поразила юнкеров. Часть конногвардейцев занималась крестьянским трудом – поливала и пропалывала огород. Увидев приезжих, распрямили спины и приветствовали их радостным гоготом.
Шалфееву пришла в голову мысль: прежде чем докладываться Веберу, искупаться.
– Господа юнкера и уважаемые дядьки, смоем с себя пыль, пот и похмелье.
Предложение было доброжелательно принято.
В небольшом заливе стоял шум, напоминающий приветствие кирасирским полком генерала на вахт-параде. Несколько десятков гвардейцев купались и занимались стиркой исподнего. В стороне от них, на мостках, бабы в высоко задранных юбках били деревянными вальками белье, визжали и перекрикивались с голыми кирасирами.
Приехавших радостно приветствовали.
– Ждорово, пропадущщие! – подбежал к ним Тимохин – у него уже не было третьего зуба. – Вебер ваш жаждався…
– А пошел он! – чертыхнулся Оболенский. – И ты вместе с ним, пока воздух не испортил.
Шалфеев, не тратя времени на разговоры, разделся донага и кинулся в воду.
– Ух, хорошо! – взвыл на весь залив.
– Будет тебе хорофо, когда к Веберу попадефь! – отошел от них Тимохин. Саженками, далеко выбрасывая руки и, словно рыба-кит, которого видел на картинке, выдувая ноздрями вверх фонтаны воды, Шалфеев целеустремленно плыл к бабам. Возле мостков под хохот и визг женщин сначала продемонстрировал себя, нырнув вниз животом и высоко вскинув над водой белую задницу, а затем проплыл рядом с мостками на спине. Молоденькие девчонки отворачивались и хихикали. Пожилые тетки беззлобно плевали и норовили огреть мокрым бельем, а одна молодайка в задранной до самых бедер юбке подошла к краю мостков, повернулась к нему спиной и нагнулась, якобы что-то поднять.
Взглянув на нее, Шалфеев захлебнулся, затем на метр брызнул ноздрями воду и с воплем: «Спаситя-я!» плавно пошел ко дну, предварительно перевернувшись на спину.
Его боевой товарищ, словно гребень на каске, какое-то время маячил на поверхности, а затем солидно и не спеша нырнул вслед за хозяином. Некоторые конногвардейцы устояли на ногах, но большинство попадало от восторга в воду.
Молодайка гордо пошла по мосткам, виляя широкими бедрами, однако не удержалась и обмолвилась при уходе, что на такую приманку ни одна плотвичка не клюнет.
Спасать утопленника, и правда, никто из женщин не кинулся, и пришлось всплывать самому. Вынырнув, унтер долго глядел вслед молодайке. Сердце его на все лето принадлежало ей.
– Эй, православные! Исподнее потеряете, – осадил вахмистр развеселившихся конногвардейцев. – А ты, Степан, – обратился к Шалфееву, – подашь мне рапорт, чего там увидал, ежели чуть не потоп.
Кто еще стоял на ногах, повалились от смеха в воду.
В чувство конногвардейцев привел не вахмистр, а раздетый Оболенский.
– Вот это да-а-а! – поднимались они из воды, с восхищением рассматривая юнкера.
– Княжеская вешть! – хвастливо изрек его дядька, будто сокровище принадлежало ему.
В это время заржал рубановский конь, выплескивая под копыта мощную струю.
– Собрата признал! – засмеялся Максим.
Уперев руки в бока и расставив крепкие ноги, Оболенский спокойно переждал ажиотаж и не спеша зашел в воду. Даже на мостках прекратились гвалт и шум и наступила восторженная тишина.
Посрамленный Шалфеев поплыл к братьям по полу, но, не удержавшись, все же шумнул женщинам:
– Бабоньки, о чем задумались, сердешные?.. И чего это вальки гладите, жалко ими колотить стало?!
Отсмеявшись, женщины с удвоенной энергией застучали по белью. Нарышкин раздеться до конца не осмелился и молча краснел, слушая соленые шутки.
Поручик встретил их действительно строго.
– Вы еще вчера в эскадрон должны были прибыть! – бушевал он, махая кулаками перед лицами дядек.
Шалфеев отстранял свой нос, раздумывая как бы в случае чего подставить скулу или ухо. Юнкера безразлично глядели в потолок.
– Никакой дисциплины! Ну я вам покажу!..
– Уверен, смотреть там не на что! – буркнул Оболенский, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Мол-ч-а-а-ть! – задохнулся от крика Вебер и забегал по маленькой горенке, которую снимал у местного священника.
В дверь заглянула перепуганная попадья. Немец махнул в ее сторону рукой, и она тут же, словно нечистая сила, исчезла.
– Я лично вами займусь! – чуть успокоившись, продолжил он. – Завтра заступите в караул. Все! Все шестеро. После караула, с утра, занятия с эскадроном строевой ездой, а после обеда изучаете уставы эскадронного и полкового учения. Каждую пятницу лично буду проверять ваши знания…
Оболенский сразу сник.
– В дни, когда не будет эскадронных занятий, станете заниматься выездкой с дядьками. И это еще не все, – торжествовал поручик, расхаживая перед ними и заложив руки за спину.
Даже дядьки перестали смотреть на него преданно и весело. – Нет, не всё! – радостно покивал головой и потер руки. – Как будущим командирам, вам надлежит уметь составлять расчет караула и дневальства по эскадрону. Передадите вахмистру, что я велел ему с вами заняться составлением различных отчетов. Даже таких, как наряды на косьбу и сушку сена, на прополку и поливку огорода. Отдыхать больше не придется. Служить будете! – он блаженно зажмурился. – Ви поняль?! – неожиданным акцентом тут же испортил всю картину.
– Так точно! – за всех рявкнул Максим. – Ми поняль!..
Оболенский с Нарышкиным хохотнули, но тут же оборвали смех. Дядьки, на свое счастье, сдержались.
– Ах! Вам этого мало? – взвился поручик. – Ну ничего… Жить будете неподалеку от меня, у вдовой купчихи, – на этот раз захихикал он, – за вами глаз да глаз нужен…
Юнкера пожали плечами, а дядьки в ужасе выпучили глаза.
– Это такая стерва! – объясняли они по пути к дому. – Вишь?! Никто у ней не поселился… Жрать не готовит, а ежели чего сварит, так после с нужника не слезешь. Мужа, говорят, отравила, паскуда… Орет хуже эскадронного начальства, не признавая чинов и званий. По ночам чего-то шумит, спать не дает, да еще у ней две дуры дочки на музыке учатся играть… Бедные вы бедные! – жалели их дядьки.
11
– Эт кого там черти принесли?! – зарычала вдова, когда прислуга доложила о пришедших.
Зарычала она в соседней комнате, но слышно было, будто находилась рядом.
– Вот это командный голос! – восхитился Максим.
У дядек нервы не выдержали, и они тут же позорно смотались, бросив юнкеров на произвол судьбы.
– Веди их сюда! – велела хозяйка. Злорадные интонации так и рвались наружу.
Прислуга – пожилая, сухой комплекции тетка провела юнкеров в залу. Просторная комната эта похоже одновременно служила и спальней. В углу под обширным киотом стояла необъятная трехспальная кровать. Хозяйка сидела на диване с потертой кожей за круглым столом, покрытым скатертью с шелковой бахромой, и сверлила злыми глазами вошедших.
Максим с интересом огляделся по сторонам. На печке с отколовшимися изразцами стояли часы с медным арапом. Рядом висело зеркало с гипсовой арфой на верхней раме, в котором отражались кислые лица юнкеров. У круглого стола приткнулись два вместительных кресла. В дальнем углу тулились шкаф с полукруглыми дверцами и несколько стульев. По стенам висели масляные портреты женщин-императриц – Екатерины Великой и Елизаветы.
– Князь Оболенский! – склонив голову и щелкнув шпорами на рыжих нечищенных сапогах, представился юнкер.
Женщина, сморщив круглое лицо, мощно чихнула, задрожав телесами. Вначале завибрировали щеки, затем жирные плечи, не уступающие гвардейским, потом в резонанс вошли ведерные грудищи, необъятные бедра и толстые ноги – затряслись все восемь пудов ее веса. Вибрация передалась дивану, и потом наступила тишина…
– Будьте здоровы, тетенька! – тонким подхалимским голоском пожелал ей здравия Нарышкин.
Максим глупо хихикнул.
– Какая я тебе тетенька! – по-медвежьи заревела купчиха.
«Похоже, не поверила, что я князь! – вздохнул Оболенский. – Папà велел бы выпороть ее на конюшне! – подумал он. – Ежели, конечно, нашел бы исполнителей».
– Коль не ко двору, то мы пошли, – радостно заявил Максим, поворачиваясь к двери.
– Стоять! – рявкнула бабища. – Никто тебя не отпускал. Марфа! Покажи комнаты господам, – распорядилась она, презрительно сморщив нос при слове «господа».
«Нашла себе жертвы, теперь не отделаешься!» – расстроился Рубанов.
– Того, кто князем назвался, в большой посели, а этих двоих – в маленькой. Да приберись в комнатах, лентяйка. Волосья-то повыдергиваю…
– Уф! – юнкера облегченно вздохнули, покинув зал и слыша еще бурчание: – Растопался тут сапогами, пылищи-то поднял – страсть! – Снова раздался мощный чих.
– Немцы наши супротив нее слабаки! – сделал вывод Максим, проходя через просторную грязную комнату с плесенью на стенах, с запахом сырости и почему-то сосновой смолки.
В углу под образами чуть теплилась лампадка, которая мгновенно загасла при хлопанье дверью. Из-за плотно закрытого окна в комнате было душно.
– Тут этот господин расположится, – кивнула на Оболенского Марфа. – А вы пройдемте в соседнюю. – Открыла дверь и провела юнкеров в крохотную комнатку с растворенным окном.
Здесь дышалось легче и было прохладнее.
– А вот эта дверь и лестница ведут на второй этаж, – объясняла служанка, – там хозяйкины дочери живут. Создания тихие и скромные. Не дай вам бог даже на нижнюю ступеньку поставить окаянную свою ножищу, – уже уходя, посоветовала она с угрозой в голосе.
Максим выглянул в маленькое оконце и увидел весь в зелени огород и несколько фруктовых деревьев. Нарышкин занял заголосивший под ним диван, оставив Максиму узкую койку с ржавыми железными каретками. На пыльном полу отпечатались следы сапог – сор, очевидно, не мели неделями. Через некоторое время к ним присоединился и князь. Недовольно побродив по комнате, он тоже выглянул в окно, затем потер рукой по тесовому небольшому столику и уставился на пыльный палец, возопив:
– Хотя бы чаю нам дадут откушать в этой берлоге?..
Но глас вопиющего не был услышан…
После захода солнца смурная служанка принесла свежее белье и застелила постели. К столу их так никто и не позвал…
– Деньги-то у меня есть! Может, в Стрельне чего купим или в трактире поужинаем? – предложил Оболенский, но ответа не услышал. – А то что-то лень к этой корове идти чаю просить, – докончил он.
– Только ли из-за лени не желаете высочайшей аудиенции, князь? – подал голос со своей кровати Максим.
– Молчите, юнкер… Больше ни слова, а то вызову на дуэль! – покинул Оболенский их общество.
Спать легли натощак, но, к удивлению Рубанова, спалось на новом месте хорошо. Воздух в комнате удивительно посвежел и очистился, а трели соловьев привели в прекрасное настроение.
И только сыгравший утреннюю побудку[7] эскадронный трубач тут же все изгадил…
Быстро одевшись и поплескавшись у рукомойника, друзья побежали на место сбора.
– Воздух здесь чище, чем в Петербурге, – взнуздывая жеребца, делился своими мыслями Максим, пытаясь поднять настроение себе и друзьям.
Однако эскадронного трубача весьма удачно сменил поручик Вебер, тот сумел изобильно наплевать в чистые юнкерские души, придравшись к нечищенным сапогам.
– Вы еще не офицеры – денщиков иметь! – орал он. – Так что сами сапоги должны чистить…
И пока проводил эскадронные учения по строевой езде, без конца придирался к голодным юнкерам.
После занятий, купив курицу, друзья помчались домой в предвкушении чудесного обеда, но хозяйки не оказалось.
– В лавке! – объяснила прислуга, недовольно поджимая губы. – А без ее разрешения готовить не стану. – Повернулась и пошла в другую комнату.
– Стервы! Одни стервы здесь живут! – бесился Оболенский. – Были бы мужеского пола – на куски изрубил бы! – лупил куриной тушкой по столу.
Видя такое дело, дядьки накормили их пшенной кашей.
– А вечером в наряд идти! Какая служба на голодный желудок?..
«Лихо Вебер им с купчихой, ни к ночи будь помянута, напакостил…» – подумал Шалфеев.
На следующий день эскадронных занятий не предвиделось, и неуемный Вебер велел дядькам заниматься с юнкерами выездкой индивидуально.
– Котел с собой возьмите, – попросил Оболенский дядек, – там и пообедаем.
Обучаться решили в нескольких верстах от Стрельни. По пути купили водки, фунт лука, три фунта мяса, картошки и хлеба. Место нашли приятное – в лесочке, на берегу пруда. Пока дядьки готовили на костре обед, юнкера, чтоб отвлечься и не сойти с ума, выкупались и млели на солнышке.
– А с другой стороны, вроде и неплохо… – потягивался сильным телом Оболенский.
В хозяйский дом не тянуло, еды хватало, поэтому засиделись у костра до глубокой ночи. Над прудом поднимался парок, деревья отражались в зеркале воды. Иногда слышался слабый всплеск. Уставший за день пруд, казалось, отдыхал подобно юнкерам и дышал полной грудью. Где-то неподалеку защелкал и засвистел соловей. Стало прохладно. Конногвардейцы придвинулись поближе к огню.
– Егор! – по имени обратился к своему дядьке умиротворенный князь. – А налей-ка всем водки…
Отвлекшийся от раздумий Рубанов, уразумев, что не услышит ничего оригинального, вновь стал любоваться огнем… Но Егор, привалившись спиной к дереву и уронив голову на грудь, мирно спал.
– Давайте я, ваше сиятельство, – вызвался Шалфеев.
Стаканчиков было только три. Поэтому сначала выпили юнкера, а затем их дядьки. Ради такого случая соизволил проснуться даже Кузьмин. Мягкий ветерок прошелестел в нежной зелени молодой березки. В отблесках костра мелькали мошкара и большая белая бабочка.
Юнкера замолчали и задумались. Максим, шевеля веточкой угли, ясно, с нежной грустью вспомнил Рубановку, свой дом и мать. «Надо написать ей», – подумал он, разглядывая языки пламени.
Неясный лесной аромат бередил душу. Другие, казалось, чувствовали то же самое. Сверчок, словно опытный музыкант, выводил свою вечную мелодию, которая успокаивала и усыпляла. Мирно фыркали лошади и изредка трясли головами, отгоняя ночную приставучую зудящую мелочь. Душа отдыхает и блаженствует в такие минуты…
Очнувшись, Максим потер глаза и радостно улыбнулся, ощутив себя в тихом и томном царстве ночи.
Природа дремала, наслаждаясь покоем и тишиной, иногда прерываемой сладкой соловьиной песней. Где-то рядом неуловимо витало счастье…
Решивший закурить Шалфеев нарушил тишину, доставая кисет.
– Степан! – обратился к нему Рубанов. – У них, – кивнул на юнкеров, – есть дома и вотчины, даже у меня хоть и небольшая, а все деревенька… Нам есть что терять!.. А за что воюешь ты, ежели не брать во внимание приказ и присягу?! За что ты сражался под Аустерлицем?..
Сощурившись от дыма, Шалфеев раскурил небольшую трубочку, задумался, выпустив густое облако, приведшее в трепет мошкару, и медленно обвел вокруг себя рукой.
– За все это, барин… Чтобы пел соловей и цвела черемуха! И чтобы хоть изредка можно было вот так посидеть у костра, – чуть помолчав, промолвил он.
Максим пожал плечами:
– Я думал – за Бога, Царя и Отечество!..
– Так и я говорю об этом… Молоды вы еще, господин юнкер! – ласково улыбнулся Шалфеев. – Потом поймете…
Домой пришли под утро. И то, спасибо дядькам, доехав верхами до купеческого дома, они взяли юнкерских коней под уздцы и повели в конюшню. На стук долго не открывали, хотя на втором этаже горел свет. Наконец, дверь распахнулась, и перед ними предстала купчиха в сером капоте со свечой в руке и ядом на языке.
– Не успели к честной вдове на квартиру въехать, познакомиться чин чином, а уже блудуете, да еще по ночам спать не даете вдове и ее бедным девочкам, – отступила она в сторону, пропуская молодежь.
– Не нравится, скажите Веберу, и мы себе другую квартиру подыщем, – нахально ответил Максим, бочком протискиваясь мимо купчихи.
Отведя чуть в сторону подсвечник, женщина всей массой приплющила его к стене.
– Утомил ты меня! Молод старшим-то грубить… Молоко еще на губах не обсохло. – Отступила на шаг от Рубанова, и он, лишенный какое-то время воздуха, чуть не рухнул на пол.
Оболенский, видя такие методы воспитания, поддержал друга:
– Он прав! Не кормите, даже чаем не напоили, кричите все время. Да, моя воля, давно на конюшне пороты были бы… – Забрав у нее свечу, повторил ее же воспитательный прием, придавив грудью купчиху к стене.
Она только коротко охнула и замолчала, придушенная мужским телом. И Максиму даже показалось, что по лицу ее растекалось неописуемое блаженство…
Уснули уже с восходом солнца. И как же мерзок был звук горна, сзывающий конногвардейцев на молитву и утреннюю поверку.
– Губы мерзавцу палашом бы отрубил, – выразил общую мысль Нарышкин, с огромной тоской расставаясь с диваном.
Так прошла целая неделя. Вебер, казалось, забыл об их существовании. По дороге за село покупали водку, лук, хлеб и мясо. Пока дядьки готовили пищу, юнкера отсыпались на свежескошенном, быстро подсыхающем на солнце сене. Перед обедом с часок гоняли на лошадях, купались и выпивали по стаканчику водки, закусив ее луком.
Как-то домой приехали пораньше и сразу заметили, что в комнатах подметено и убрано.
– Другое дело! – обрадовались они.
«Не желает, чтоб мы съехали», – подумал Максим.
Но, как оказалось, радовались рано. Чаем их опять не напоили, да к тому же ближе к полуночи над головами раздалось пиликанье и скрежет – это купеческим дочкам пришла блажь музицировать.
– Гарпии чертовы! Какова курочка, таковы и яички… – Залез в ботфорты Максим и, наплевав на предупреждение Марфы, стал подниматься по некрашеным ступеням лестницы. Подъем напоминал игру на клавикордах. Каждая ступенька, словно клавиша, имела свою тональность. «Сейчас, сейчас я им…» – заставив резко пропищать последнюю, торкнулся в дверь – она оказалась не заперта – и шагнул в ярко освещенную гостиную. Он не думал, что скажет, такая злость кипела и бурлила в нем, переливаясь из сердца в кулаки.
Поначалу Максим никого не увидел, свечи ослепили его, но игра прекратилась и кто-то хихикнул. Звук шел от стены. Он повернулся на голос и только тут осознал, что одет явно не для светского приема. Опустив глаза, увидел нечищеные ботфорты и заношенное исподнее. Где-то в стороне послышался новый язвительный смешок, кулаки разжались, ломать инструмент расхотелось.
– А мы все думаем, как смотрятся лейб-гвардии кирасиры в парадной белой форме? – Вышла из мрака полная высокая фигура в светлой до пола ночной рубахе и заслонила свет. – А теперь, господин конногвардеец, прошу вас покинуть наше общество, пока мы не подняли шум и не вызвали на подмогу маменьку… – ехидно улыбнулась она, качнув большими полными грудями, и, подняв руку, указала на дверь.
Так и не вымолвив ни слова, растерявшийся Максим по музыкальным ступеням слетел вниз и, скинув ботфорты, бросился на постель, укрывшись простыней.
«Черт-дьявол! Вот опозорился», – подумал он и бодро улыбнулся вошедшему Оболенскому.
– Полагаю, на сегодня музыка закончена… Слышал, наверное, как я их отбрил? Нет?! – «Ну и слава Богу», – повернулся на бок лицом к распахнутому окну. «Полновата, конечно, но видная…» – вспомнил, засыпая, девичью фигуру.
Утром его разбудил не конногвардейский штаб-трубач, а веселое солнце, щекотавшее лучом в носу и гревшее щеки. Первое, что услышал, был радостный трезвон колоколов стрельненской церкви. Поднявшись и спустив ноги с кровати, перекрестился на иконку в углу комнаты и иронично хмыкнул, вспомнив вчерашний эпизод. По-быстрому умывшись, полуголый, наткнулся на недовольную прислугу, тащившую во двор большущий глиняный горшок.
– Тьфу! Бесстыдник! – сплюнула она, остановившись и поставив на пол горшок.
– Что за праздник сегодня, бабуля? – поинтересовался Максим, растираясь полотенцем. ,
Казалось, что служанка ожидала этого вопроса…
– Нехристи! Дедовских праздников не чтите, вам бы только водку да девок, ничего святого в молодых не осталось…
Максим понял, какую совершил глупость, но было уже поздно. Ненавязчиво попытался обойти служанку и исчезнуть, но узкий проход был надежно перекрыт глиняным горшком и старушкой.
– Чудотворную Владимирскую икону Божьей Матушки нонче празднуют, день мученицы Агриппины и мученика Евстохия, и иже с ними святителя Германа, архиепископа Казанского, – на едином дыхании выпалила она.
Набрав в иссохшую грудь новую порцию воздуха продолжила:
– А еще в народе этот день зовется Аграфеной-купальницей, за ней идет Иван Купала, а еще через несколько дней – «Петры-Павлы».
«Воздух в ней закончился, значит, есть возможность проскочить…» – решил Максим.
Одевались не спеша, затем, зевая во весь рот, вразвалку побрели в конюшню, где дядьки уже ждали их, причем вдвоем, без Шалфеева. Ехали шагом. Против церкви остановились. Покрестившись на колокольню, зашли в лавку, где купили водку, два фунта сала, фунт лука, как же без него, и четыре фунта ситного. Взгромоздясь на лошадей, направились на свое излюбленное место. Приехав, позавтракали водочкой, протолкнув ее луком и салом, и тут же завалились спать. Не успели закрыть глаз, как услышали храп Кузьмина.
Дядьке Нарышкина не спалось… Расположившись рядом с Максимом, он завистливо бубнил про счастливчика Шалфеева, которому все-таки удалось захомутать молодайку.
– Сейчас, поди, ездит на ней! А тут даже на праздник никакой самой завалящей бабенки не предвидится… У нас в деревне репу сеяли в этот день. Эх и хороша репа была, – сменил он тему, – к водочке бы ее сейчас. – По-воровскому, внешность брала свое, плеснул в стаканчик из бутылки и залпом выпил, смущенно занюхав луком. – Старики говаривали: «Репа да горох и сеются про воров», – блаженно рыгнул он и смахнул слезу, вспомнив родную деревню. «Мимо девки да мимо репки так не пройдешь, – шутил бывало тятька, – кто ни пройдет – щипнет!». Он мечтательно сглотнул слюну – то ли на девку, то ли на репку – и тихонько запел: – Матушка репка, уродися крепка, ни густа, ни редка…
– …Щупай девку с передка!.. – перебил его Максим. – Ты дашь сегодня поспать? .
– Ха-ха-ха! – заржал Оболенский. – А ну-ка повторите?..
– Девки, девахи идут! – засуетился Антип. – Ишь веники березовы заготавливают! Пойду подсоблю… У нас в деревне по эту пору сроду в бане парились. На Аграфену помыться следоват!.. – Оправив форму, стал подбираться к девкам.
Оболенский, усевшись на сене, протянул руку к водке. – Господа! – обратился к друзьям. – Как сказал бы Антип, не жалаете ли чеколдыкнуть?
Кузьмин раскрыл глаза, потратив на это адское усилие.
– К тебе это не относится, – успокоил его князь.
Нарышкин с Рубановым не прореагировали.
– Ну как хотите, юнкера! – Проглотил порцию и, выдохнув воздух, закусил луком. – Простой конногвардейский обед, – поднялся он. – Пойду гляну, куда уже второй дядька запропастился…
– К тетькам, куда же еще? – Плеснул немного водки в стакан Максим.
– Гы-гы-гы! – загоготал князь.
– И не гляну, а произведу рекогносцировку на местности – вы не мещанин, а конногвардеец, господин юнкер, – напустив строгость, отчитал его Нарышкин, вслед за Рубановым прикладываясь к стакану и громко хрустя луком.
– Вот что значит уставы не учить, ви меня поняль?! – так же хмуро уставился на Оболенского Максим.
– Ха-ха-ха! Немчура поганая, – отправился тот на рекогносцировку.
– Б-а-а-а, граф! Поправьте исподнее, похоже, легкой иноходью к нам движутся бабы, тьфу! – дамы… Черт-дьявол, к тому же это дочки нашей пышнотелой вдовы. – Почесал Максим родинку в углу рта и, поднявшись, попытался привести в порядок одежду и волосы. – Встаньте, встаньте, граф. Совсем хорошие манеры забыли – дам надо встречать стоя. – Поддержал качнувшегося и чуть не упавшего Нарышкина. – Серж! Неужели они до такой степени вас потрясли? А если так, то которая? Помладше – чур моя! – Шагнул к восемнадцатилетней на вид девице с букетом полевых цветов.
Ее сестра смотрелась года на три-четыре старше и была чуть полнее. Росту они были одинакового, черные косы у обеих змеились по спинам. Правда, у старшей коса выглядела потолще. Карие их глаза насмешливо блуждали по лицам и фигурам юнкеров.
– Да они похожи, словно братья! – всплеснула руками более непосредственная младшая.
Нарышкин зацвел маковым цветом.
Мадмуазель! – галантно поклонился, качнувшись в сторону, Рубанов. – Пардон! Букет мне?.. Мерси! – Получил цветами по протянутой руке.
– Какой вы, право, нетерпеливый: то, не успев одеться, к дамам врываетесь, то норовите, не получив согласия, забрать цветы…
Если бы не выпитая водочка, то цветом лица Максим сравнялся бы с Нарышкиным.
– Атака и натиск – вот девиз конногвардейских юнкеров! – попробовал он выправить положение и захватить инициативу.
– А я и не знала, что у конногвардейцев принято ходить в атаку без штанов…
Старшая при этих словах, прикрыв рот ладонью, хихикнула.
«В матушку пошла – такая же ведьма!» – натянуто улыбнулся Максим и опять попытался галантно поклониться.
– Лейб-гвардейцам штаны лишь помеха, ежели дама в ночной рубахе…
На этот раз покраснела она, а сестра опять хихикнула, прикрыв рот. Воспользовавшись кратковременным смятением в стане врага, Максим сумел забрать цветы и понюхал их.
– Полагаю, матушку на подмогу вызывать не станете?!
Но его вопрос пропустили мимо ушей.
– Приятнее лука пахнут?..
«О-о-о! Какая стерва. Я должен ее непременно обломать», – решил он.
Услышав про лук, Нарышкин автоматически, как до этого старшая купеческая дочь, прикрыл рот ладонью.
– Благодаря вашей экономной маменьке скоро, как лошадки, и вовсе на травку перейдем.
Рубанов запихал в рот букет и откусил половину.
Младшая опять смутилась.
– По-моему, в этом букете присутствовала трава, от которой через несколько часов умирают в страшных судорогах…
Ч…р…т…вол. – Выплюнул он цветы и прополоскал рот водкой.
– Господин юнкер, думаю, уже несколько дней, как молочко перестал употреблять?! – выразить мысль до конца она не успела, а ловко увернулась от Максима и кинулась бежать. Разозлившийся от насмешек юнкер решил просто оттаскать ее за косу.
Несмотря на высокий рост и полноту, бежала она удивительно легко и грациозно.
– Сейчас я выпью твое молоко, – задыхаясь, грозился он.
– Прежде догоните, – ровным голосом, обернувшись, прокричала девчонка. – А во-вторых, у меня пока нет молока…
– Ежели догоню, то появится!– уже прохрипел Рубанов, сминая сапогами лютики и ромашки.
Ее сарафан мелькал среди зелени и белых березовых стволов, иногда сливаясь с ними. «Пожалуй, не догоню!» – расстроился задыхающийся от бега юнкер, с яростью слыша удаляющийся девичий смех.
Вот она по самые плечи провалилась в лощину, и Максим видел только ее голову. Через минуту он сам спустился по пологому, поросшему травой склону в неглубокий овражек и зашуршал сухими скрюченными прошлогодними листьями, сбивая коленями широкие и сочные пласты лопухов.
Она уже вылетела наверх и оглянулась.
«Ежели б на саблях, я бы, может, и осилил, но в беге…» – решил он уже сдаться, но тут увидел, что коса ее захлестнулась вокруг тонкой березки. Болезненно дернув головой, она попыталась освободиться, но время ушло, и юнкер свалил ее в высокую зеленую траву, краснеющую земляникой. Он лежал на ней и никак не мог отдышаться. Слезы выступили на глазах у побежденной.
– А матушка-то далеко!.. – впился в ее губы Максим, но поцеловать как следует не смог – не хватило дыхания.
Она попыталась вырваться, но Рубанов крепко обхватил ее руками и ногами, ощутив под собой трепет женского тела. Совсем рядом он увидел испуганные темные глаза и припухшие губы. Дыхание ее было чистым и приятным. Не спеша он сорвал губами красную ягоду и раздавил ее языком. Во рту стало свежо от терпкого вкуса.
– Пустите! – снова попыталась она вырваться.
Ничего не ответив, он лизнул ее в верхнюю губу кислым от ягоды языком, затем, не торопясь, нежно укусил нижнюю сочную губку и поцеловал в уголок рта. Неожиданно она прекратила сопротивляться и обмякла. Разрумянившееся девичье лицо спряталось у него на груди.
Максим задохнулся от счастья. Его душа растворилась в этой девушке, в этом лесу, в этой траве с красными ягодами…
Обратно они шли медленно.
– Будешь знать, как дразниться! – по-детски буркнул Максим, подходя к пасшимся лошадям и сидевшим на попоне Нарышкину с дамой.
– Теперь, мой мальчик, я тебя совсем задразню… – счастливо улыбнулась она, – и когда ты успел так научиться любить?! – польстила его тщеславию.
«Не важно, когда и где; важно, что кто-то тебя успел полюбить раньше…» – ревниво подумал он.
– Упали? – глядя на зеленые колени, поинтересовалась сестра.
– Ягоду собирали… – ответила младшая.
– А ты собирала лежа?! – съехидничала старшая.
– Ну что за языки у вас? – прервал их диалог Максим. – Скоро на клавикордах ими играть научитесь! – Налил в стакан водки.
– Ребенки еще, а водку как хлещут! – отвернулась от него старшая.
В бешенстве пошел запрягать Гришку. «Лосины следует поменять», – решил он. Младшая навязалась ехать с ним под предлогом перемены одежды. До окраины Стрельны она сидела сзади, крепко прижавшись грудью к его спине, дальше пошла пешком.
Дверь открыла Марфа и тут же протянула письмо. Большими печатными каракулями писал Кешка. Максиму даже показалось, что он видит, как его друг, высунув кончик языка, старательно выводит буквы.
После прочтения у него испортилось настроение. Оказывается, Данила взял в доме полную власть. И не только в доме, но и в деревне: «Барыня во всем его слушает. Агафон добрался из Петербурга недавно и теперь частенько запрягает лошадь задом-наперед, доказывая при этом, что тройка запряжена верно… Но его держат, пока Даниле нравится пороть конюха».
«Надо скорее ответ написать, – подумал Максим, надевая серые суконные рейтузы. – В них поудобнее, чем в лосинах, и практичнее на природе…»
Вечером младшая сестра потащила многострадального юнкера в лес.
– Там весело будет на Ивана Купалу. Всякая нечисть в эту ночь силу получает. Марфа, вон, крапиву на подоконнике кладет от чертей, – перекрестилась она. – А мы с сестрой по травам гадать станем, – и на вопросительный взгляд юнкера разъяснила: – Чтобы приснился суженый, надо положить под подушку двенадцать трав… в них обязательно должны быть чертополох и папоротник, который вы у меня съели, – засмеялась она, обняв и чмокнув его в щеку.
– Ну а дальше-то что? – недовольно вырвался Рубанов.
– Ах да! – отпустила его. – Надо сказать: «Суженый-ряженый, приходи в мой сад гулять!..»
«Надеюсь, меня в своем огороде не увидишь!» – с досадой подумал Максим.
– …Но раз трав не хватает, придется обойтись одним подорожником… – объясняла она, – со словами: «Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого» положу перед сном под подушку, и кто приснится…
– Тот и станет всю жизнь с тобой мучиться!.. – завершил ее мысль Рубанов.
– Смотри, народу сколько собралось! – Вышли они к реке в том месте, где бабы полоскали белье. На берегу он увидел Шалфеева, важно гуляющего под ручку с молодайкой, и задумчивого вахмистра. Здесь же столкнулся с Оболенским и Нарышкиным. Граф был абсолютно пьян и жевал луковицу. Старшая из купеческих дочерей поддерживала его.
– Как хорошо всегда пахнет от сиятельств! – завидовали конногвардейцы.
– На то они и шиятельштва! – шепеляво от недостатка зубов отвечал неразумным Тимохин.
Местные парни сегодня глядели на кавалеристов недоброжелательно: «Всех баб отобьют!» – нервничали они, разжигая костер и наливая в себя брагу. Девушки в нарядных сарафанах опоясывались плетенной из цветов и трав перевязью и надевали на голову венки.
Младшая наконец оставила Рубанова в покое и убежала к подругам.
– Выпить с устатка не осталось? – спросил он у Оболенского.
Тот покачал головой, внимательно разглядывая женщин.
– Вон та неплохая! – посоветовал Максим, указывая на стройную высокую мещаночку с венком из ромашек на русой головке.
– Молода больно и тонка, – буркнул князь. – Нет, мне надо женщину постарше, а не этих детей, – пренебрежительно указал на водивших хоровод юных девушек.
Старшая из купеческих дочерей оторвала графа от березки и со смехом затащила в круг, где он еще пытался подпевать, крепко вцепившись в руки соседей, чтобы не упасть.
Костер с горящим колесом на шесте в самой середине беспощадно дымил в сторону хоровода, и круг распался. Парни и девушки бросились к реке, по дороге освобождаясь от одежд. Среди парней было много конногвардейцев.
Рубанов смотрел на происходящее, как сытый кот, а Оболенский, расстроившись, развернулся и побрел домой в Стрельну, не заметив, что некоторые из женщин, видевшие его в день приезда, тоскливо вздохнули после его ухода…
Князю хотелось есть, и он, громко топая ботфортами, шел мимо заборов, деревянных и каменных строений к купеческому дому. Вдруг откуда-то выбежала курица и, раскудахтавшись, заметалась под ногами, затем, выбрав направление, стала улепетывать, часто перебирая лапками и помогая себе крыльями. Посчитав свою особу в безопасности, отвлеклась на какой-то камешек. Поддевая его клювом, старательно выковыривала из земли, совсем упустив из виду огромные, приближающиеся к ней сапоги. Размахнувшись, юнкер злобно пнул путавшуюся под ногами птицу. Отправившись в свой последний в жизни полет, она громко треснулась о забор и упала на зеленую пыльную травку. Глаза ее затуманивались пеленой. «О чем интересно подумало это одинокое создание в последний момент? – склонившись над бренным телом, начал философствовать князь. – О петухе или камушке, который так и не успела сожрать? Да пустое… – и со словами: – Девочкам нельзя так поздно гулять!» – поднял ее и, свернув шею, зашагал дальше. Добычу не выбросил, а взял с собой. «Заставлю эту стерву приготовить жаркое! – заскрипел зубами, вспомнив о жирной купчихе. – Видел бы меня мой папà! – через секунду рассмеялся юнкер, помахивая тушкой, которую держал за лапы. – Князь, имеющий тысячи крепостных, спер у бедного мещанина курицу…» Эта мысль привела его в неописуемый восторг, и он громко, на всю улицу, захохотал, шлепая птицей по правому сапогу в такт шагам и приводя в бешенство окрестных собак.
Вышедшая прогуляться компания писарей или приказчиков, крестясь, тут же заскочила обратно в дом.
Буйство князей Оболенских бродило в нем, ища выхода, когда с маху, как и по курице, саданул ногой в дверь купеческого дома. Дверь затрещала, но выдержала натиск.
Через дорогу из раскрытого на втором этаже окна соседнего дома высунулась голова в колпаке, и старческий мужской голос, растягивая слова, предложил:
– А кого тут из горшка облить?..
Юнкер замахнулся курицей, и голова ловко скрылась, чем-то загремев по пути.
«Наверное, свой горшок опрокинул!» – с удовлетворением отметил князь, услышав топот и звон катавшейся с ускорением по все сужающемуся кругу крышки, которая громко затарахтела, бултыхаясь с боку на бок, и в одну секунду затихла. «Наверное, догнал и ногой придавил», – с удовольствием двинул еще раз по двери и прислушался…
Через минуту стариковскую ругань перекрыл шум шагов, решительно продвигавшихся в его сторону.
– Сейчас квартального кликну! – рывком отворила дверь купчиха.
– Будочников непременно следует звать! – поддержал ее опять высунувшийся из окна колпак. Причем шамкающий голос букву «д» не выговорил, и у него получилось «булошников».
У князя просто забурчало в животе, когда он, глядя на колокола грудей, представил мягкие и пышные булки. Втолкнув купчиху, он шагнул следом. Ее платок сполз, открыв белые плечи и глубокий вырез на груди. Удивившись такому бесстрашию, она пошла на кухню раздуть свечу. «Пьяный, поди… – подумала по пути. – Ну, сейчас я ему задам!..» – размечталась она.
Оболенский двинулся следом, вытянув руку с курицей и собираясь просить приготовить птицу. Мощные ягодицы купчихи гоняли ткань ночной сорочки, постепенно все выше и выше поднимая подол. «Круп кобыльему не уступит!» – ел глазами открывшиеся ноги юнкер. Женщина будто затылком почувствовала взгляд и одернула сорочку. «Ведьма! – разозлился он. – Ладно есть не дает, но тут-то чего жалеет?» Купчиха склонилась над кухонным столом из потемневших досок, старательно выскобленных ножом, и стала шарить рукой в поисках свечи. Небольшой подсвечник оказался на другом конце, и она не стала обходить стол, а вытянулась на досках, пытаясь дотянуться до него, на минуту совершенно забыв про молодого голодного гвардейца. Рубаха, натянувшись, плотно облегла тело. Пышный зад, подрагивая, манил юнкера. Он шагнул вперед, бросив курицу на стол…
Женщина наконец дотянулась до свечи и собиралась уже распрямиться, когда ощутила, как рубаха задралась до спины и крепкая рука прижала ее к столу. Затем она почувствовала кирзу сапога у левой своей ступни, и в тот же момент ее правая нога стала перемещаться в сторону, толкаемая другим сапогом. «Явно пьян и голоден…» – испугалась она, но тут же от удовольствия закрыла глаза и расслабилась. «Каков подлец! – Повела крупными ягодицами. – Вырваться, что ли? Да что я, дура какая?!» – разыграла она слабую женщину, задрожав от удовольствия, когда сильная ладонь больно сжала ее грудь.
– Будешь жарить?! – услышала над собой голос, ничего не ответила, блаженно отдавая себя в крепкие руки.
– Будешь жарить?! – грубо произнес он, гладя ее вздрагивающие бедра. Ответом был лишь слабый стон.
– Будешь жарить?! – задавал все тот же вопрос юнкер.
– Буду! – уже смелее отвечала купчиха, взбрыкивая ягодицами.
Стол скрипел под ними.
– Будешь жарить?!
– Буду, буду!
– Будешь жарить?! – перешел он на крик.
– О-о-о-й! да, буду! ой, буду!
– Будешь жарить?!– шепотом спросил он и услышал судорожный вопль.
– О-о-о-й! Б-у-у-д-у-у!
В этот момент стол не выдержал нагрузки и рухнул.
«Вот это женщина!» – натягивая лосины, подумал Оболенский.
Двое других юнкеров вместе с сестрами заявились лишь под утро, но купчиха этого не заметила. В ней произошел взрыв энергии – чуть не вприпрыжку бегая из погреба на кухню, она таскала различные припасы, чтобы накормить обожаемого князюшку, а заодно и его товарищей. Бедная Марфа была срочно командирована раздувать самовар.
Не спавший всю ночь Нарышкин лишь только коснулся дивана, тут же захрапел. Максим поправил его подушку, посвистел, но храп не прекращался. Махнув на друга рукой, он принялся исследовать прожженные на заду рейтузы, скорбно при этом качая головой: «Леший меня дернул через костер сигать – либо вахмистр, либо Вебер – но своей смертью явно не помру! Лосины надо срочно стирать», – решил он, с недоумением поглядывая в раскрытое окно на хлопочущую служанку, которая, стоя на коленях, никак не могла разжечь сырые щепки, чадно дымившие, но не желавшие разгораться.
«Гостей, что ли, ждут?» – вдыхал он острый запах дыма, проплывавшего мимо открытого окна и смешивающегося с дыханием травы и цветов, превращаясь при этом в какой-то новый, вкусный аромат, внезапно вызвавший волчий аппетит.
«Господи! – подумал он, брезгливо морщась. – Опять лук с водкой жрать…» Но в этот момент в дверь постучали, и заглянувшая подружка произнесла:
– Матушка просит пожаловать на завтрак!
В животе предательски забурчало.
– Это не шутка, а издевательство… – тяжело глянул на нее, – лучше лосины постирай.
– Как хочешь! – фыркнула она, и дверь захлопнулась.
«Старики говорят, на Ивана Купалу удивительные вещи происходят… – стал рассуждать Рубанов. – И чем черт не шутит?.. Пойду! – окончательно решил он. – Только вот в чем? Возьму у Нарышкина».
Завтрак подали в зале. Раскочегарившая все-таки самовар Марфа сменила хозяйку и с удивлением раскладывала на круглом столе припасы, крестясь исподтишка на киот с образами и размышляя: дойдет ли до Бога молитва, ежели под образами кровать?!
Умиротворенная хозяйка сидела на глубоко продавленном диване и ожидала, когда по наклону к ней съедет любимый. Но он не хотел снова в объятия, а хотел есть и поэтому крепко упирался ногами в пол, а руками в стол. Увидев такую картину, Максим перекрестился в сторону кровати и сел в придвинутое к столу кресло, с удивлением пытаясь поймать взгляд Оболенского.
– Мон шер! – обратился тот к Рубанову, закидывая ногу на ногу. – А где граф Нарышкин?
– Спит с похмелья! – растерянно ответил Максим, по-крестьянски поскоблив пальцами в затылке и ожидая воплей хозяйки.
Но та лишь улыбнулась и велела прислуге подавать…
Марфа внесла ЖАРЕНУЮ КУРИЦУ!!!
– Приснился ли тебе суженый? – с трепетом поинтересовался после завтрака Максим, отдавая подружке постирать лосины.
– Не-а! – вздохнула та.
«Слава Богу! – облегченно заулыбался юнкер. – Всему поверишь, видя такие чудеса…»
Следующее утро выдалось хмурым и пасмурным. Шел мелкий противный дождь, монотонно простукивающий крышу. Отдаленный гром утробно бурчал, словно бурчало у голодного юнкера в желудке. Осипший трубач похмельно играл «утреннюю зарю». Зевая, Максим выглянул в окно и с интересом понаблюдал за сестрами, те, подоткнув подолы юбок, со смехом расставляли какие-то чугунки и ведра под тоненькие струйки с желобов по углам дома. Весь вид испортила Марфа, вышедшая во двор в высоко подхваченном сарафане. Ее синеватые от холода тощие ноги навевали мысли о дохлом цыпленке. Плюнув в окно и проследив за комочком слюны до самой земли, Максим растолкал Нарышкина. Лосины еще не просохли, и Рубанов с трудом натянул их на ноги, рассудив, что под дождем всё равно намокнут. При бдительном осмотре все же можно было различить расрасплывшиеся по коленям слабо-зеленые пятна. «Стирать бы лучше училась, чем на клавикордах играть!» – Опять выглянул в окно.
Девки уже убежали, а тощая задница прислуги одиноко маячила на огороде, отпугивая ворон. Гремя сапогами, в комнату ввалился Оболенский и тут же заорал:
– Подъем, юнкера!
К удивлению Рубанова и раскрывшего глаза Нарышкина, за ним следовала купчиха и почтительно поправляла воротник колета.
– Кушать подано, господа! – ласково пропела она и вышла, догадавшись, что смущает надумавшего вставать графа.
Оболенский самодовольно щелкнул каблуками, повернувшись кругом, и добавил от себя отнюдь не по-французски:
– Жрать теперь будем до отвала, юнкера.
Выездку отменили, и молодые конногвардейцы решили наконец заняться уставами. Перед самым обедом примчался запыхавшийся Шалфеев и, широко раздувая от волнения ноздри, сообщил о прибытии в Стрельну полицейского офицера из Петербурга.
– Ой, не к добру! – перекрестившись, умчался он на конюшню и оказался прав.
Через час юнкера и их дядьки были вызваны к Веберу. В комнате у него находился полицейский поручик и один из крепколобых будочников, который, увидев Оболенского, обрадовался ему словно родному. «Видать, сильно его саданул, – пожалел мужичка князь, – все время теперь улыбаться будет».
Оне! Оне! – чуть не запрыгал от радости будочник, улыбаясь во весь рот, и стал метаться от одного поручика к другому. – Оне, ваши благородия, стучали по моему лбу чужой головой и богохульничали при этом, – счастье ключом било из будочника.
– Словно сына родного встретил, – шепнул Оболенскому Максим.
– Говорить будете, когда прикажу! – взвился Вебер. – С кавалергардами драться вздумали? Да у меня там дядя служит… Ответите, господа юнкера, за все ответите!
– …И богохульничал при этом, – осенял себя крестным знамением будочник, теребя за рукав полицейского офицера и радостно улыбаясь.
Дядьки, вытянувшись во фрунт, стояли затаив дыхание.
«Как бы по носу не врезал! – волновался Шалфеев. – Ишь немчура, кулаками как развертелся…» – преданно при этом ел глазами начальство.
Полицейский, разглядывая прохиндейскую рожу Антипа, прокручивал в уме описания разыскиваемых душегубов. «Вот черт! Под все подходит!..» – волновался он.
Егор, мечтательно глядя на диван, боролся со сном. «Эва диво какое, с писаришками кавалергардскими поцапались…»
– Да ладно, с кавалергардами, – вставил слово приезжий офицер, будто прочел его мысли, – но будочниками-то зачем стучать?! А еще из хороших фамилий… – с упреком посмотрел на юнкеров.
– Мою фамилию тоже весь квартал уважает, – начал хвалиться будочник, – мы, Чипиги, давно по будкам сидим: мой папаня сидел, и дядька сидел, теперь я вот хорошо сижу…
Даже Вебер замолчал.
– Ну что ж, – поднялся полицейский, – пора домой возвращаться. Надеюсь, о принятых мерах сообщите куда следует? До самого Аракчеева сие безобразие дошло…
– В Сибирь захотели!– орал Вебер. – С этого года не Вязьмитинов министр, а Алексей Андреевич Аракчеев. Забыли?!
Ну что ж, до особого распоряжения его превосходительства полковника Арсеньева посидите на гауптвахте, а там как Михаило Андреевич велит…
На юнкерское счастье, заместитель командира лейб-гвардии Конного полка приехал в Стрельну не один, а с Петром Голицыным. Князь решил навестить своего протеже и воспитанника.
– Молодцы! Ей-богу молодцы гвардейцы, – похвалил Голицын юнкеров, – за честь полка вступились. А кавалергарды зазнались, ежели даже их писаришки в князей огурцами кидают…
Михаил Андреевич хмурился и теребил себя за бакенбарду. Юнкера встали во фрунт и с удовольствием слушали гусарского ротмистра. «А ведь и правда, – раздумывал полковник, – куда это годится, коли рядовые писаря на юнкеров кидаться начнут? На этих совсем еще детей… а вдруг бы повредили им чего?.. Хотя бы тому же Нарышкину… – быстро взглянул на красивое, по-девичьи нежное лицо графа. – Да московская и петербургская родня такой бы шум подняли!.. К тому же государь не равнодушен к его родственнице…»
– А квартальные с будочниками чего учудили?.. Вместо того чтобы два десятка кавалергардов приструнить, на бедных несчастных мальчишек накинулись… – обращаясь к полковнику, незаметно подмигнул Рубанову ротмистр.
– У них с головой всегда безнадежно… – высказался полковник, наконец оставив в покое бакенбард.
– Не скажите, Михайло Андреевич, как раз тут-то они правильно смекнули, – развивал мысль Голицын. – Кого легче схватить и доложить по начальству о бдительности?.. Два десятка здоровенных мужиков или трех нежных отроков?
– Конногвардейцев так просто не возьмешь! – гордо выпятил грудь полковник. – Доложу великому князю Константину, что любой квартальный норовит его гвардейца обидеть да еще в холодную упечь!.. Вебер!!! – обернувшись к двери, рявкнул он.
Поручик предстал, словно чертик из табакерки.
– Ну, эти дубоголовые к юнкерам цепляются… ладно! А вы-то чего? За что детей на гауптвахту посадили, а? За то, что они честь полка сберегли?! Советую у них поучиться, как следует за честь конногвардейского мундира стоять!
Серые глаза Голицына лучились лукавством…
Вахмистр, по приказу Вебера, дал юнкерам кавалерийский штуцер и велел дядькам научить молодежь палить из него.
– Оружие почти свеженькое, образца 1803 года, с закрытыми глазами должны в цель попадать, – изрек он.
Стрельба из этого штуцера стала самым любимым развлечением юнкеров. Кроме стрельбы, они сражались на шпагах. Максим показал коронный отцовский удар, и юнкера с увлечением отрабатывали его. Особенно старательно занимался Нарышкин. В наряды и дежурства Вебер после приезда полковника и Голицына их не ставил, но зато еженедельно, каждую пятницу проверял знания уставов и отводил свою немецкую душу на бедном Оболенском, голова которого не воспринимала злосчастные параграфы и пункты.
– Все понимаю!..– жаловался он друзьям. – А словами мысль не выражу, у меня и с французским такая же история случилась – измучил несчастного месье. Правда, по-нашему он мекал, как я по-ихнему, но у него хоть отговорка была – варварский язык, мол.
– И чем дело кончилось, выучил? – спросил Нарышкин по-французски.
– Ои! Ои![8] – выбросил французика в окно…
– И что папà? – заинтересованно допытывался граф.
– Стекло очень жалел… Венецианское! А мамà за клумбу переживала… Ее любимую розу французская задница смяла. Отправили гувернера в Париж, правда, заплатили щедро, и нежные ручки молоденькой прислуги до вечера выковыривали из, пардон, французской задницы колючки.
– Да ладно! – сказал Нарышкин.
Князь заулыбался от приятных воспоминаний.
– Видели бы вы, господа, как он летел… ах, как славно летел французишка, – все не мог он успокоиться. – И почему мы при Аустерлице проиграли? – неожиданно перевел разговор на военную тему.
– Видимо, потому что вы, господин юнкер, в боях не участвовали, – съязвил Нарышкин.
– Молодец! – похвалил его Максим. – Становитесь суровым и задиристым, как истинный конногвардеец.
– Вот как вызову на дуэль! – обиделся Оболенский. – Обоих…
– …И вам не придется войны с Наполеоном бояться! – облек словами его мысль Максим.
– Гы-гы-гы! – зашелся смехом князь.
По вечерам, когда спадала жара и в открытые окна вливался свежий душистый воздух, купчиха устраивала танцы, на которые посторонних, разумеется, не приглашала.
Живущий через дорогу дедушка, разбуженный среди ночи игрой на клавикордах, смехом и топотом, от возмущения долго не мог попасть струей в горшок. «Заставить бы вас подтирать за мной! – мечтал он, сощурив один глаз для точности прицела. – Тогда бы, поди, спали по ночам…»
Как Оболенскому с трудом давался устав, Нарышкину – стрельба и фехтование, таким камнем преткновения для Рубанова являлись танцы. Но он старательно учился, несмотря на страдальческие лица приглашаемых им сестер. Через несколько вечеров они наотрез отказались танцевать с ним.
– У нас уже ноги распухли, – жаловались дамы.
И лишь их мать, мужественная женщина, продолжала давать уроки мастерства. Но в долгу она не оставалась, и на следующий день, вставляя ногу в стремя, Максим морщился от боли в ступне.
Огромный Оболенский, не говоря уж о Нарышкине, танцевал легко и свободно и вальс, и мазурку, но любимым танцем, приводящим в восторг необузданную его душу, был, конечно, котильон… в стиле а-ля Оболенский! Так князь называл популярную в Европе фарандолу. Левой лапищей он тащил за собой купчиху, она – Максима, тот – одну из дочерей, замыкал шествие Нарышкин. Князь заставлял их скакать через табурет, прыгать по дивану, водил из комнаты в комнату, стуча ботфортами и дико при этом вопя, часто в ажиотаже хватал штуцер, выводил команду во двор, и апофеозом всему был громкий выстрел, от которого соседский дедушка упускал в перину … Марфа в такие вечера уходила ночевать к родственникам, то есть дома практически не бывала…
Поручика Вебера потрясли не творившиеся беспорядки, а то, что юнкера сумели приручить эту взрывоопасную купчиху с ее дочками. «Даже свою скобяную лавку забросила, – недоумевал Вебер, – все дома, сидит… Как говорят русские, медом ей чего-то там помазали, что ли?..» Но принимать решительные меры он теперь опасался.
В конце июля полк начал готовиться к походу в Красное Село, где после недельной подготовки предстояло провести перед царем двусторонний маневр. За день до марша в Стрельну прибыл отдохнувший и посвежевший ротмистр Вайцман. Отпуск у него еще не закончился, но принять участие в сборе всей гвардии он посчитал своей обязанностью – а вдруг его заметит и отличит сам государь-император?!
С новыми силами и отдохнувшей глоткой Вайцман рьяно взялся за наведение порядка и дисциплины. Рядовые конногвардейцы чистили мелом кресты и медали, у кого они имелись; доводили до жаркого блеска пуговицы колетов, ваксили сапоги, полировали шомполом шпоры, чтобы стали точно серебряные, брились и фабрили усы и бакенбарды.
Купчиха ревела белугой, размазывая по лицу обильные слезы и вздрагивая всем своим необъятным телом. Не уступали ей и дочки, без конца обнимавшие юнкеров и мешавшие им паковать вещи. Громкие рыдания звучали сладкой музыкой в волосатых ушах соседского дедушки. Чтобы лучше слышать и наслаждаться каждым всхлипом, он сдернул с лысой головы колпак и, держа на коленях пустой горшок, временами выбивал по его днищу победный марш Преображенского полка…
В последний вечер перед походом купчиха устроила прощальный ужин. В центре обильного стола на круглом фарфоровом блюде с целующимися голубками красовалась огромная ЖАРЕНАЯ КУРИЦА…
12
В лагере под Красным Селом командиры расписывали по минутам «внезапные» атаки и перестрелки, время обязательного ночного стояния в полной форме в «главных силах» возле оседланных лошадей, наступление на «противника» сомкнутыми колонами и отступление под прикрытием фланкеров. Затем наступал самый щекотливый момент – раздел полков на царские и супротивные, что всегда вызывало большой шум к споры, так как супротивной стороной быть никто не желал. Генералы орали друг на друга и бросали вверх пятак, загадав на орла или решку… Их полки в это время скакали сомкнутым строем, отрабатывая уставную посадку. Кавалерийские офицеры хвалились и охотно показывали друг другу хитроумные пиаффе, пируэты, кабриоли и галопады, пили по вечерам мадеру, шампанское и водку, играли в карты и ждали приезда государя.
В этом году смотр проходил в великой спешке, так как его императорское величество готовился в сентябре встречаться с Наполеоном в Эрфурте для подтверждения Тильзитского трактата.
За время стояния в Стрельне юнкера отвыкли от дисциплины и службы, поэтому приноравливаться к езде сомкнутым строем на трезвую голову казалось для них делом тяжелым и неблагодарным. Вебер, встречаясь с ними, ласково улыбался и расспрашивал о здоровье.
– Никак, какую-то гадость готовит… – предположил Максим.
– Да полно вам, юнкер, это равнозначно попаданию ядром в воробья… – самонадеянно уверял Оболенский. – Чего он нам сделает?
Нарышкин держал сторону Рубанова.
– Неспроста немец миндальничает, – тоже утверждал он.
По соседству с Конногвардейским расположился Кавалергардский полк.
– Господа, может писарей проведаем? – со смехом предложил Оболенский.
Писарей они не встретили, зато наткнулись на трех нахальных кавалергардских юнкеров, от которых за версту разило мадерой. Как и положено гвардейским кирасирам, росту те были высоченного и наглости необычайной. Один из них, необыкновенной красоты юноша с прекрасными черными глазами, опушёнными длинными ресницами, выставив вперед ногу в тусклом нечищенном ботфорте и дохнув свежим запахом вина, загородил дорогу. Даже Нарышкин рядом с ним казался бледной невзрачной тенью.
– Господа! – мягким бархатным голосом произнес он и снял черную кожаную каску с медным налобником. Влажные вьющиеся волосы цвета воронова крыла упали ему на лоб, оттенив глубину глаз, и рассыпались по плечам, подчеркнув чистоту кожи. – Господа! Что это за незваные гости шпионят в нашем полку?.. – Его пунцовые губы капризно изогнулись, приоткрыв белые, словно снег, ровные зубы.
Продолжить он не успел. Выдвинув вперед нижнюю челюсть, Оболенский сделал шаг и, трагически улыбаясь, поставил пыльную тяжелую подошву на тупой носок его сапога, для надежности покрутив ступней из стороны в сторону. Красавчик взвыл и попытался выдернуть ногу из-под пресса. Его товарищи поначалу ничего не поняли и нахально ухмылялись, но затем один из них, широкоплечий и статный, обогнул корчившегося друга и толкнул Оболенского в грудь, тут же получив от него по зубам. Другой, медведеподобный широкогрудый юнкер, набычив мощную шею и зарычав что-то, бросился на князя. Красавчик, прихрамывая на правую ногу, покинул поле боя.
Сделав знак не вмешиваться Нарышкину и Рубанову, Оболенский, ухарски ухая, методично бил огромными кулаками в голову медведеподобного, но тот с честью выдержав удары, сам взмахнул немалым кулачищем, и голова князя дернулась от полученной оплеухи. Вытерев кровь с губы, второй юнкер, не удостоив Рубанова и Нарышкина вниманием, что задело Максима, кинулся на Оболенского.
С каждым по отдельности князь бы без труда справился, но двое кавалергардских юнкеров стали брать верх, поэтому, несмотря на данный ему знак, Рубанов вступил в схватку и отвлек на себя статного кавалергарда с разбитыми губами. Злости к нему Максим не испытывал, поэтому бил не сильно. К тому же все настроение портил путающийся под ногами палаш.
– Что, заметил теперь меня? – подбивая в придачу к губам нос противнику, поинтересовался Максим и тут же ослеп на один глаз от пропущенного удара.
Последним, как всегда, вступил в битву Нарышкин, с ревнивой радостью раскровянив перед этим нос что-то попытавшемуся сказать красавцу. Рассудив, что Оболенский справится сам, он кинулся на помощь Рубанову. Их противник сразу скис и попытался вести переговоры, взывая к офицерской чести.
– Двое на одного! – акцентировал их внимание на правах человека, слабо защищаясь и пропуская удары.
– А вы как на нашего друга?! – не остался в долгу Нарышкин и, деловито сопя, работал по корпусу, пачкая ободранными пальцами белый колет противника. – Господина Руссо начитались? – от корпуса перешел к лицу. – «Общественный договор» понравился?
Максим, сжимая и разжимая зудящие пальцы, отошел в сторону.
– Понял теперь о правах! – добил соперника Нарышкин.
Рубанов покачал головой и обернулся. Медведеподобный тоже валялся в ногах Оболенского. От палаток на помощь кавалергардам бежала подмога.
– Господа! – оттащил он Нарышкина. – Пора начинать отступление без помощи фланкерной цепи. – Обхватил мощные плечи князя и потащил в темноту ночи…
Следующий день был последним перед маневрами. Ночью планировалось стояние в «главных силах» при лошадях и по полной форме, а затем наступление сомкнутой колонной.
Утром Вайцман ахнул, в бессильной ярости обозрев лица юнкеров, украшенные синяками. Причем, к его тайному удивлению, самым разукрашенным являлся огромный Оболенский. Вебера юнкерские синяки привели в превосходнейшее расположение духа.
– Поставим их, господин ротмистр, в последний ряд, дабы не дай бог на глаза его императорскому величеству не попались… – полюбовался он подбитым рубановским глазом.
– А великий князь Константин, а полковник Арсеньев? – горестно воскликнул Вайцман, неприязненно глядя на юнкеров.
«Веберу-то наплевать! – думал он. – А с меня начальство спросит… В крайнем случае, сошлюсь на отпуск, – успокаивал себя, – и дернул черт приехать…» – переживал ротмистр.
– После маневров всех на гауптвахту, – распорядился барон, подняв еще выше настроение Вебера.
После ночного стояния подмерзшие кирасиры, сидя верхами, готовились к «внезапной» атаке сомкнутым строем. Юнкеров начальство не обнаружило, и это успокаивало Вайцмана. «Майн Готт! – молился он своему немецкому богу. – Отличи меня перед государем!..»
Настало прекрасное летнее утро. Восходящее солнце блестело на штыках замерзших солдат. Император благосклонно взирал на ровные колонны пехоты и конницы. Серая лошадь под ним беспокойно била копытом, мешая государю насладиться красочным видом войск. Ласково улыбнувшись, он добродушно похлопал ее по шее. Рядом с Александром на вороном жеребце сидел его брат, цесаревич Константин Павлович, а чуть сзади – главнокомандующий Барклай де Толли и Аракчеев. За ними располагались генералы, офицеры генерального штаба и адъютанты. У государя было прекрасное настроение – то ли из-за начинающихся учений, то ли благодаря ясному солнечному дню. Он кивнул, давая разрешение к «внезапной» атаке.
Сомкнутый строй тяжелой кавалерии, получив команду, медленно набирал скорость. Государь и свита, стоя на возвышении, с интересом наблюдали за рослыми латниками, летевшими на «врага». Земля дрожала под копытами лошадей Конногвардейского полка.
– Молодец Арсеньев! – похвалил император. – Знатно выучил своих орлов.
Великий князь Константин гордо расправил сутулые плечи. Его длинные руки поиграли поводьями – он являлся шефом этого полка. Щуря близорукие глаза, император поднял руку, и понявший его без слов молодой адъютант в полковничьем мундире, быстро подскочив, вложил в нее небольшую подзорную трубу. Закованная в броню масса конницы, разогнавшись, неслась по полю, и вдруг император заметил некоторое замешательство в одном из эскадронов. Строй распался, скорее, даже разорвался, но затем быстро выровнялся и понесся дальше. Голубые глаза императора засветились детским любопытством. Он обернулся к свите, но все спокойно глядели на массу конницы. Цесаревич Константин тоже ничего не заметил. Александр потер гладко выбритую щеку и приложил трубу к глазу. На поле появился кавалергардский полк, в мундир которого он изволил облачиться сегодняшним утром. Свита любовалась мощными кирасирами, но любопытство не давало покоя царю, и он направил трубу в то место, где недавно увидел замешательство. Усиленный оптикой глаз с удивлением различил торчащую над землей голову. Больше ничего не было видно.
Князь Оболенский даже предположить не мог, что в данный момент является для императора предметом крайнего любопытства.
– Вот это мы вляпались, братцы! – тоскливо произнес он, спрыгивая на дно ямы.
Эту, более сажени[9] глубиной яму, находившуюся на поле рядом с деревней Лемпелево, так и звали в гвардии – «кирасирское горе», потому что каждый год при атаке сомкнутым строем в нее обязательно падали несколько всадников с лошадьми. В этом году «счастье» свалиться в знаменитое «кирасирское горе» выпало на долю трех конногвардейских юнкеров. «Так, так! – вспомнил наконец про яму император и с удовольствием взглянул на брата. – Велю привести счастливчиков, на этот раз его полку досталось», – лукаво улыбнулся он. Настроение дошло до самого пика, и Александр увлеченно начал следить за маневрами.
– Крепко вляпались!.. – опять повторил Оболенский, помогая Нарышкину подняться. – Что, Серж, ногу подвернул? – участливо спросил он, видя, как тот поморщился и, хромая, пошел к лошади.
Конь Рубанова, лежа на боку, бил в воздухе копытами, пытаясь подняться. Максим, сидя перед ним на корточках, гладил гриву и шею, успокаивая рысака. Другие две лошади, вздрагивая боками, стояли на ногах. Начал подниматься и жеребец Рубанова.
– Как же мы их вытащим? – вздохнул Максим и потер ушибленную руку. – Вайцман теперь нас съест! И откуда взялась эта дурацкая ямища?
– А я слышал, господа, как Шалфеев, обернувшись к нам, закричал: «Яма!» – но не понял, – потирая ногу, произнес Нарышкин. – Господи! Срам-то какой… перед государем императором так опозориться! – грустил он.
– Пустяки! – начал приходить в себя Оболенский. – Только и делов его величеству, как за нами следить, – пытался подбодрить друзей.
– До командира полка точно дойдет,– похлопывал по крупу поднявшегося жеребца Рубанов. – Отсидимся до конца учений и вылезем, – решил Максим.
Но человек предполагает, а бог располагает…
Весело переговариваясь и гогоча во всю глотку, к яме уже несся взвод солдат, которых на такой случай отряжала ближняя пехотная часть. С собой они тащили лестницу и веревки.
– Братва! – заглянув в яму, обернулся к товарищам невысокий рябой унтер. – Они тут смеются, видать, головами ударились. – Начал пристраивать он лестницу, даже не догадываясь, как ему повезло, что сказанные слова не расслышал здоровенный юнкер.
Пыль, поднятая конницей, заслонила от императора момент поднятия несчастных. На этот раз судьба и брошенный жребий сделали конногвардейцев его потенциальным противником, и императорские войска вынудили врага к отступлению. Государь остался очень доволен маневрами.
Из многих тысяч людей, присутствующих на учениях, самыми счастливыми являлись двое – его величество и поручик Вебер.
После окончания маневров гвардия продефилировала перед своим императором церемониальным маршем с музыкой и распущенными знаменами, улучшив и без того прекрасное настроение. Поэтому вечером государь изволил шутить и смеяться, похвалив Арсеньева за знатную выучку полка, и между прочим спросил:
– А кто там у тебя, господин полковник, на этот раз в яму угодил?..
Михаила Андреевича бросило в жар.
– Ну-ну! – успокоил его император, видя, как покраснело лицо командира. – Ничего страшного не случилось… Не покалечились кирасиры?
– Никак нет, ваше величество, – встал во фрунт полковник. – Юнкера живы и здоровы!
– Юнкера?! – улыбнулся император. – И известных фамилий?
Услышав, кто именно, велел назавтра привести их к себе.
– Да! Ежели случайно увидите князя Константина, пригласите его на это же время…
Весь вечер полковник носился по лагерю, чтобы «случайно» встретить великого князя и передать ему пожелание венценосного брата. Всю ночь второй эскадрон занимался внешним видом юнкеров: чистили их сапоги и пуговицы на колете, чистили сам колет и лосины, тащили мази для лица и давали советы, как лучше и быстрее залечить синяки. Вебер смотрел на них с завистью, а Вайцман просчитывал, кто именно поставил на это место юнкеров, и все указывало на его заместителя. «В последнюю шеренгу надо поставить… – вспоминал он. – Правильно! Чтобы яму не заметили… Да и я виноват – не предупредил… А особливо виноваты их дядьки. Майн Готт! Не так я просил меня отличить!» – укорил Господа.
– Сине… – заорал барон и задумался. – Сане… – еще громче заорал он, уставясь на вошедшего в палатку и в страхе вытянувшегося во фрунт денщика. – Когда ты заменишь свою чертову фамилию?! – несильно, больше для острастки, двинул ему в челюсть. – В пехоту сошлю мерзавца, – затопал ногами. – Быстро позвать ко мне юнкерских дядек! Что, проспал яму?! – заорал Вайцман на вошедшего Егора Кузьмина. – А от тебя только и ждешь какой-нибудь пакости, – грозно глянул на сникшего от этих слов Антипа.
Шалфееву ротмистр ничего не сказал, а просто, посмотрев долгим изучающим взглядом, съездил кулаком по носу.
Знал барон слабые места подчиненных!..
На следующий день, ближе к обеду, робко озирающиеся по сторонам юнкера шагнули в комнату, заменяющую кабинет его императорскому величеству. Около десятка генералов и сановников сидели вокруг стола и о чем-то спорили, потрясая картами – на этот раз не игральными, а местности. Дежурный камердинер, доложив о вошедших, тихо прикрыл за собой дверь.
– Господа! – оживился император, отведя от близоруких глаз простенький лорнет в костяной оправе и спрятав его за обшлаг мундира. – А вот и виновники разгоревшегося спора.
Юнкера, во фрунте, не дыша, выпучившись, ели глазами начальство. У Оболенского от нервного напряжения затряслась нога и несколько раз звякнула начищенная шпора, но он подавил в себе страх и не моргая глядел на мягкий раздвоенный подбородок императора.
Нарышкин боялся потерять сознание и молил Бога лишь об одном: не грохнуться на пол в присутствии государя – тогда конец военной карьере.
Рубанов, стараясь медленно выдыхать воздух, чтобы не было заметно колебания груди, замер и со все увеличивающимся восторгом преданно ловил царский взгляд. «Его видел мой отец, – думал он, – а теперь вижу я, как это мелко – любить или не любить императора, это все равно что любить или не любить Россию… Он, как и Россия, будет всегда, дом Романовых! Уже нет отца, когда-нибудь не станет меня, а мой сын вот так же будет стоять перед своим императором, а после мой внук станет служить своему царю и нашему отечеству…» Восторг просто переполнял его душу, выплескиваясь из глаз величайшей преданностью и счастьем…
Случайно встретившись с ним взглядом, Александр, казалось, прочитал его мысли и благодарно улыбнулся юнкеру. «Падение в яму – пустяк в сравнении с подобной любовью и благоговением! – подумал он. – Именно такие офицеры и создают славу России, а следовательно – и ее императору». Он нежно, по-отечески улыбнулся и, поднявшись с кресла, подошел к юнкерам. Разглядев их побитые лица, жалостливо вздохнул: «Как расшиблись на царской службе, в яму-то падая…»
– Представьтесь! – обратился к Рубанову и, услышав фамилию, на секунду задумался, а затем довольно улыбнулся, вспомнив что-то свое, приятное. Положив руку на плечо юнкера, вымолвил:
– Знавал вашего батюшку… Прекрасный был офицер, но дуэлянт и ругатель каких свет не видывал… – доброжелательно покивал головой и шагнул к Нарышкину, с удовольствием отметив страх, который внушал он, добродушный, мягкий человек.
Затем подошел к третьему юнкеру, сверлящему взглядом его подбородок. Узнав их фамилии, благосклонно призвал служить государю и России, как служили их деды и прадеды. «Ежели бы так же относились ко мне все подданные!» – помечтал он, усаживаясь в кресло.
Генералы молча ожидали его решения.
«Мальчишек следует поддержать! – подумал император. – И так пострадали, а то вон братец мой одним взглядом разорвал бы ребят на части», – посмотрел на Константина, который, забывшись, несколько раз побарабанил пальцами по столу.
Опомнившись, великий князь сконфузился и убрал руки на колени, с еще большей яростью глянув на юнкеров: «Так опозорить меня перед братом и генералами!» – негодовал он, ссутулившись и нависнув плечами над столом.
– Зарыть эту яму пора, ваше величество, – буркнул Константин, глядя в стол, – пока какие-нибудь молокососы шею не свернули…
Щеки юнкеров пошли пятнами.
– А на войне, ваше высочество, ямы и бугры никто равнять не станет, – возразил ему Барклай де Толли. – Маневры следует проводить на трудной местности, в условиях, приближенных к боевым.
Присутствующий здесь Арсеньев хотел поддержать главнокомандующего, но император, нахмурившись, тихонько стукнул ладонью по столу, требуя тишины. Слышно стало лишь жужжание большой зеленой мухи, норовившей приземлиться на голову великого князя, что привело его в совершенное бешенство. Быстрым движением длинной руки он ловко поймал обидчицу и раздавил, на миг довольно ухмыльнувшись, и затем брезгливо вытер ладонь о белоснежный платок.
– Господа генералы! – начал император тихим, спокойным голосом. – Юнкера, разумеется, ни в чем не виноваты… и их начальники тоже. Мальчишки служат всего полгода, и, полагаю, из них получатся отменные командиры и грамотные офицеры, о наказании не может идти и речи! – Позвонил в серебряный колокольчик и велел камердинеру проводить юнкеров.
– Братцы! – пошатываясь, Нарышкин плюхнулся на крыльцо. – С самим государем разговаривали…
Оболенский стрельнул у солдата трубку и, не брезгуя, сунул слюнявый искусанный чубук в рот, глубоко затянулся крепчайшим табаком и долго потом кашлял, исходя слезами. Солдат добродушно хлопал его по спине. Рубанов, подтягивая подпругу, тут же дал клятву верно служить царю и отечеству, не жалея живота своего.
13
«Жалует царь, да не жалует псарь!» – говорят в народе.
По прибытии в Петербург приказом по эскадрону Вайцман упек юнкеров на гауптвахту, придравшись к внешнему виду. Вебер злорадно потирал руки: «По плечу, видите ли, его величество их похлопали… и наказывать не велели!» – завидовал он, жалея, что тоже, за компанию, не свалился в "кирасиркое горе" А мы вас за другое упечем…».
На гауптвахте в соседней камере оказались и трое кавалергардских юнкеров, но так получилось, что враждующие стороны не встретились друг с другом за все время отбывания наказания.
Дежурные офицеры с любопытством приглядывались к конногвардейцам. Слух о них гулял уже не только в гвардии, но и по размещенным близ столицы воинским гарнизонам.
Через трое суток в одно и то же время, под вечер, всех юнкеров выпустили на свободу, и они столкнулись нос к носу на выходе из здания гауптвахты.
– Господа! – ехидно улыбнулся Рубанов. – Кто это вас так?..
– Ха-ха-ха, – хохотнул Оболенский.
– Судари! Вы уже выбрались из ямы?! – скромно поинтересовался красавчик и на всякий случай отступил за спины товарищей, заметив сжатые кулаки верзилы конногвардейца.
Медведеподобный с подтянутым, в свою очередь, тоже хихикнули, но скромно и без вызова.
Один лишь Нарышкин никак не реагировал на происходящее и не принимал участия в беседе. Трое суток на нарах в каземате не прибавили ему оптимизма.
Услышав про «кирасирское горе», Максим не смутился, а, закатив на секунду глаза к небу, о чем-то подумал, подтянул пузырящиеся на коленях лосины повыше и, гордо выдвинув вперед ногу в нечищенном пыльном сапоге, как давеча красавец кавалергард, вдохновенно принялся лить несусветную чушь на мозги юнкеров. «Главное, положить начало романтическим слухам, дабы выглядеть не олухами, а героями».
– Да господа! – погладил прорванный на локте колет. – Вахмистр оделил всех троих подержанной формой – на губе сгодится, а то хорошую потом не дочистишься. Так крупно и с таким минимальным шансом на выигрыш мы еще не спорили… – сделал длинную паузу, чтобы вызвать интерес у кавалергардов, но, оказалось, что изумил своих друзей. Открыв рты, они таращились на Рубанова.
– Молчите, молчите, господа. Я сам все расскажу, – замахал он на них.
– И что же это за смертельное пари? – подал голос из-за спин товарищей красавчик. – Выберетесь из ямы сами или нет?! – все не мог успокоиться кавалергард.
– Яма явилась лишь поводом, тонкой, опасной и ненадежной цепочкой к выигрышу… Только после долгих и мучительных раздумий мы отважились пойти на немалый риск – спрыгнуть в эту чертову яму, – заливал Максим.
– И о чем же все-таки спор, скажете или нет? – с сомнением в голосе поинтересовался медведеподобный.
– Перепив перед маневрами шампанского, поспорили с пехотным подпоручиком, что попадем на прием к самому императору!.. – не моргнув глазом ответил ему Рубанов, внимательно проследил за произведенным эффектом и продолжил. – Трезвому офицеру, да еще какой-то пехтуре, даже в голову не придет, что мы выиграем!..
Все без исключения юнкера с уважением поглядели на рассказчика. Правда, конногвардейцы вовремя поняли, что пари заключали они, и гордо выпятили грудь перед кавалергардами. Те перестали ехидничать и завистливо шмыгали носами: «Вот это да-а!.. Не побоялись в яму спрыгнуть, чтоб к императору попасть… Здесь нужен точный расчет и необычайная смелость!» – думали они.
– Перекрестясь и не зная, переломаем ноги или нет, – подробно рассказывал Рубанов, – сиганули в глубоченную ямищу. Ну не могут же гвардейцы уступить какому-то армеуту – «кислой шерсти»! – патетически воскликнул он. – Я прав, господа?
Кавалергардские юнкера дружно закивали, с уважением поглядывая на конногвардейцев.
– Ясное дело, пехтуре не след уступать, да в придачу армейской, – завистливо произнес подтянутый, хотя в данный момент выглядел ничем не лучше Рубанова, – давайте знакомиться, господа, – протянул руку Максиму. – Граф Николай Шувалов, – представился он и указал в сторону красавца, – граф Волынский Денис Петрович. – На что тот коротко поклонился и попытался щелкнуть каблуками, но получилось у него слабо, не сумел еще научиться гвардейскому шику. – А это Мишка Строганов, – указал на медведеподобного мужиковатого юнкера, который широко улыбнулся, сморщив курносый нос и сузив карие глаза в узкие щелочки.
Максим представился сам и назвал своих друзей.
– Но, судари, мы вам не уступим! – решил взять инициативу Волынский, подумав, что слишком долго молчал. – Вы о нас еще услышите…
Проезжавшая мимо открытая карета окатила их мутной водой из небольшой лужицы, натекшей из водостока, – недавно моросил дождь. В карете сидели две молоденькие девицы. Одна из них громко и вызывающе рассмеялась, обернув к юнкерам нежное лицо и отбросив со щеки каштановую прядь. Глаза ее полыхнули восторгом, заметив в толпе молодежи красавца Волынского, который томно вздохнул и театрально послал даме воздушный поцелуй, принимая как должное ее поклонение и восторг.
Другая даже не улыбнулась, а молча и удивленно всматривалась в Рубанова зелеными своими глазищами, переводя их с пыльных сапог на вытянутые колени лосин, с них – на рваные локти колета и, наконец, – на лицо с синяком под глазом; затем насмешливо сморщила носик и погладила сидевшую на коленях собачонку, залаявшую то ли на всех юнкеров, то ли отдельно на одного Рубанова, который растерялся и не мог сообразить, что делать – либо провалиться сквозь землю, либо бежать за каретой и хотя бы коснуться руки Мари – а что это она, у него не было сомнений.
– Господа! Хотите пари, – отвлек его от раздумий Волынский, – через неделю любая из них будет моей…
Максим опять задумался над дилеммой – дать красавцу в ухо или свести все к шутке, но так и не принял решения, потому что на предложенное пари никто не отреагировал, а юнкера стали прощаться.
Оболенский опять стрельнул затяжку из трубки вышедшего покурить солдата, что стало входить у него в привычку, и остановил проезжавшего мимо «ваньку».
Смеркалось. Медленно ехали на чуть прихрамывающей лошади по Литейному, миновали каменный мост с будками и цепями. Фонарщики, взобравшись на подгнившие шаткие лесенки, накрывались пыльными рогожами и, усердно бряцая кресалом и поминая матушку, когда попадали по пальцу, зажигали тусклые фонари. В лавках и домах светились уютные окна. Максим рассеянно наблюдал за спешащими по делам прохожими, плетущимися повозками и летящими гордыми каретами, блестевшими серебром, лаком и позолотой. Петербург полнился визгом торговок, матом городовых, криком разносчиков и гомоном кучеров, чиновников, детей и солдат. Но все это не казалось ему привлекательным и интересным. Мысли его были заняты Мари. Зябко ежась на ветру, он поминутно трогал крестик и купался в зеленых глазах, затем негодовал на свою робость и начинал оправдывать себя – куда я в таком виде?.. Затем снова представлял Мари, белокурые волосы и нежный овал лица…
Незаметно добрались до казармы.
Словно во сне, он вышел из повозки и чуть не был затоптан Оболенским, успевшим занять у вахмистра на водку и «ваньку» – свои деньги у него давно закончились.
– Папà в деревне, – на ходу объяснил глухому ко всему Рубанову, протягивая мятую ассигнацию ямщику и посылая его в лавку за пшеничной. – Не приедешь – убью! – пообещал деревенскому парню с наивным глуповатым лицом.
Тот развел руками – мол, как же можно?! И для подтверждения честности вымолвил: «Не сумлевайтесь, барин!..» И конечно, не приехал…
Возвратясь в город после маневров, кирасиры отпускались до ноября на вольные работы. В это время дисциплина в полку хронически падала. Половина офицеров находилась в официальных отпусках, другая половина отдыхала неофициально.
Во втором эскадроне остался лишь ротмистр, но он появлялся раз в неделю, взвалив все дела на плечи вахмистра.
Наступили пасмурные осенние дни.
Юнкера изредка попадали в полковой караул, в основном почитывали уставы и пили водку, правда, в меньших, нежели в Стрельне, количествах. Через день легкой рысью и шагом выезжали лошадей, чтобы не застоялись. Оболенский просто блаженствовал от простой жизни: дрался с дневальными, когда те не разрешали днем спать на ларе с овсом; ночью, пьяный, лазил через запертые ворота и ругался с дежурными по полку. Вахмистр, разумеется, его не наказывал – дураков нет с князем связываться…
В октябре из деревни приехал папà Оболенского и решил навестить неразумное свое чадо. Дежуривший на воротах конногвардеец, услышав от маленького лысенького барина, подъехавшего в роскошной карете с гербами, что он князь Оболенский и желает увидеть сына, лично проводил приезжего до здания казармы и сдал на руки Антипу, который как раз был дневальным.
– Милейший! – обратился к нему князь, непроизвольно схватившись за карман с кошелем. – Мне хотелось бы встретиться с сыном, Григорием Оболенским. Не скажешь, где он?
– Так точно, ваше высокоблагородие, скажу! – вежливо ответил дневальный. – И даже провожу, – пошел он впереди, поднимаясь по лестнице на второй этаж.
– Должно, уставы изучает? – спросил, тяжело дыша и с трудом поспевая за кирасиром, старый князь.
– Да нет! – ответил не умеющий лгать Антип, останавливаясь перед входом в помещение казармы второго эскадрона. – В карты на орехи играет, или на носы… – поджал он ехидные тонкие губы.
– На орехи?! – опешил князь, поймав, как ему показалось, язвительную усмешку солдата. – Или на носы?! – уже добродушно произнес он, решив, что этот с разбойничьей харей вояка шутит.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся князь. – Канашка! – Протянул рубль Антипу и ступил в казарму, зажав нос платком.
Каково же было его изумление, когда увидел своего отпрыска и наследника, увлеченно лупящего картами по широкому носу с вывернутыми ноздрями сидящего напротив кирасира.
«Бог мой! Оболенские играют на орехи…» – потрясенно подумал князь, трогая пухлый кошель, плотно набитый ассигнациями.
После встречи с Мари Рубанов стал плохо спать. Просыпаясь среди ночи, вспоминал ее зеленые глаза и благоговейно подносил к губам золотой крестик, который она ему когда-то подарила, вспоминая при этом наказ умирающего отца – отомстить генералу Ромашову, женившись на его дочери… «Да разве она за меня пойдет? – глядел в потолок невидящими глазами и слушал привычный храп спящих гвардейцев. – Она – генеральская дочь! А я стану нищим офицером, разве я ей пара? Но покойный папенька велел жениться!» –засыпая, с улыбкой думал он.
Утром Максим старался не вспоминать о ночных мечтах, занимаясь служебными делами или запоминая параграфы уставов эскадронного и полкового учения. Иногда только недоумевал, размышляя о том, как быстро забыл купчихину дочку, с которой у него вон чего было, и почему никак не может забыть эту худенькую вредную девчонку, смотрящую на него, как на пустое место…
Как-то в казарму влетел вечно зашуганный Синепупенко и передал юнкерам приказ Вайцмана явиться к нему. Оказалось, что на двадцать первое октября тот назначил им экзамены. Оставшуюся неделю юнкера, словно примерные школяры, долбили уставы и занимались выездкой, оттачивая посадку. Даже Оболенский вел трезвый образ жизни, заглядывая не в кабак, а в параграфы уставов; правда, в основном это случалось, когда он быстро хотел уснуть. Благо казарма была полупустая, и им не мешали – женатые кирасиры жили по домам, а холостые пропадали в городе, зарабатывая деньги: кто колол дрова обывателям, кто занимался шорным делом; одни вырезали из дерева ложки, другие варили ваксу – словом, разошлись на вольные работы…
В конце октября начищенные юнкера, сверкая белыми колетами, блестящими пуговицами и сапогами, предстали пред светлые немецкие очи… Блаженно щурясь от предстоящего удовольствия, Вайцман задушевно и по слогам произнес: «Для начала, господа юнкера, займемся пешей экзерсицией!!!»
Присутствующий тут же Синепупенко отметил про себя, как складно барон произнес: пешей эк… эк… сацией… «Почему же мою фамилию выговорить не могет?» Раздумывающего над интересным и злободневным вопросом денщика ротмистр тут же выгнал, чтобы не занимал место – и так в помещении тесно.
«Может, на плац пойти и как следует их погонять? – тоже стал размышлять Вайцман. – Но там уставы неудобно спрашивать! Буду я из-за них еще туда-сюда мотаться…» – решил остаться дома.
Юнкера, матеря про себя командира, по очереди ходили перед ним, высоко задирая ногу и слушая банальные замечания ротмистра: «Игры в носках мало! Ногу выше!..»
«Как пехтуру какую гоняет!» – скрипел зубами Оболенский. Но самые трудности ждали его впереди… Несмотря на то что его папà, узнав об экзамене, преподнес барону дорогую музыкальную шкатулку с четырьмя серебряными херувимчиками по краям, вооруженными золотыми луками, Вайцман долго пытал юнкера вопросами, наслаждаясь мучительными его попытками дать правильный ответ.
Рубанов с Нарышкиным на все вопросы отвечали бойко и без запинки. Приказом от 21 октября мученик Оболенский, а также Рубанов и Нарышкин были произведены в эстандарт-юнкера, еще на ступеньку приблизившись к офицерскому чину.
После нервотрепного экзамена эстандарт-юнкера с гордостью нацепили офицерские темляки на палаши, а дядьки нашили им унтер-офицерские галуны.
– Знаменосец – дело нешуточное! – рассуждали дядьки. – А вот ежели галуны крепко обмыть, то и офицером быстрее станешь, – намекали они.
– В чем же дело, господа дядьки! – обрадовался Оболенский. – На весь второй эскадрон праздник закачу… деньжата имеются, – хлопал по раздутому кошельку. – Вы как на это смотрите, господа штандарт-юнкера? – гордо произнес он их новое звание.
Эстандарт-юнкера смотрели положительно. Нарышкин достал было остатки своих сбережений, но Оболенский отмахнулся, хлопнув тугим бумажником по ладони. У Рубанова за душой не было ни гроша, но он пока не придавал этому значения.
Наняв «ваньку» и придирчиво оглядев его с ног до головы – не тот ли это разбойник, заныкавший водку, князь помчался к «храброму гренадеру», но одноглазый хозяин, без конца растирая кулаком здоровый глаз, словно собираясь его выдавить, чтоб не видеть грядущего безобразия, отказал ему наотрез, ссылаясь на предстоящий ремонт заведения, намеченный еще после того, первого их гуляния…
Не помогли и сто рублей, которые сулил эстандарт-юнкер, с гордостью теребя офицерский темляк на палаше.
– Целый эскадрон!!! – в ужасе повторял «храбрый гренадер». – Вас тогда намного меньше было и то сколько делов натворили… – решился хозяин и тут же закрыл заведение на «починку».
Оскорбленный князь хотел все перевернуть вверх дном, но решил, что игра не стоит свеч, коль одноглазый и так задумал ремонт. Пройдя дальше по набережной Мойки, расстроенный Оболенский наткнулся на заведение с полустертой вывеской, которая гласила: «…рак… на мойки». Покрутив офицерский темляк, он задумался, подошел поближе и, с трудом разбирая выцветшие буквы, еще раз прочел: «…рак… на мойки». «Раками, что ли, угощают из реки?.. Или с помойки?!» – начал рассуждать он, отступив в сторону от двери, из которой показалась нога с двумя красными лампасами на темно-зеленых рейтузах. «Похоже, генерал!» – на всякий случай встал во фрунт эстандарт-юнкер, готовясь отдать честь. Вслед за ногой вывалился пьяный в стельку фейерверкер гвардейской конной артиллерии с двумя оторванными пуговицами на темно-зеленом мундире, с кивером в одной руке и половинкой белого султана от него – в другой. Четко повернувшись кругом, он минуту щелоктил ртом, набирая заряд, а затем громко харкнул точно на ржавую ручку и, захохотав, побрел, пошатываясь, к своим пушкам.
«Наши люди!» – обрадовался князь, раскрывая ногой дверь и быстро, но осторожно, чтобы не задеть пораженную артиллеристом цель, проникая во внутрь. Оплеванная ручка промелькнула в дюйме от белого колета, и дверь захлопнулась. «Ежели такая ржавая, значит, не первый раз достается…» – подумал он.
Заведение состояло из одной большой комнаты с десятком столов. Маленькие свечечки, за грош – десяток, по одной на два стола, нещадно чадили и освещали только себя. Когда глаза привыкли к мраку, князь заметил, что половина столов свободна, а другую половину занимали лейб-гвардейские уланы. Их темно-синие мундиры казались черными в полумраке комнаты.
– А это что за призрак в трактир пожаловал? – подкатил к нему уланский обер-офицер, но тут же сник, прикинув, что даже на цыпочках еле-еле достанет до плеча вошедшего.
«Трактир! – обрадовался Оболенский, молча отталкивая плечом улана и продвигаясь внутрь. – Ну конечно же – трактир, только первая да последние буквы стерлись… Слава тебе господи, разгадал, что такое "…рак…"».
– Где хозяин! – заорал он.
Уланы, на всякий случай, придвинули к себе четырехугольные фуражки с белыми султанами. «Заволновались! – миролюбиво подумал князь. – Кирасиры вам не задохлики пушкари». – Гордо выпятил грудь и осмотрелся.
Семеня ногами, к нему спешила невысокая худая фигура с животом, выпуклым, как грудь Оболенского. В руках фигура несла короткий свечной огарок, но потолще тех, что стояли на столах. Колеблющееся неяркое пламя освещало мясистый нос, отбрасывающий на стену потешную тень, влажные коровьи на выкате глаза и шикарные густые ухоженные пейсы. «Жид, – с удовольствием подумал князь. – Договоримся! А на "мойки" значит на реке». – Облегченно помотал темляком.
– Судагь! – пропищала фигура, аккуратно поставив огрызок свечи на краешек стола.
Оболенский рискнул сесть на стул и чуть не свалился – одна из ножек отсутствовала. Уланы фыркнули, но открыто заржать не посмели. Владелец «рака» просительно сложил руки на груди, призывая посетителя не нервничать. Нос его алчно зашевелился, почуяв поживу.
– Судагь! Мойша к вашим услугам… – тряхнул он пейсами.
Уланы перестали пить и с интересом прислушивались.
– Завтра вечером второй эскадрон лейб-гвардии Конного полка, – значительно взглянул на уланов, – снимет твою драную харчевню до утра. Выпивка по полной программе при ярких свечах…
– Будут деньги – будут и свечи! – радостно подтвердила фигура, закивав головой. Отражение носа на стене жизнерадостно заметалось от пола к потолку.
– Человек на сорок-пятьдесят рассчитывай, господин Мойша, – чуть помедлив, иронично добавил князь.
– Это большие деньги! – зашевелил пальцами хозяин. – Очень большие! – радовался он.
Оболенский вопросительно смотрел в выпуклые жидовские глаза.
Сто пятьдесят губликов! – произнес тот и возвел влажные коровьи очи к невидимому в темноте потолку, готовясь вплоть до выдранного пейса отстаивать названную цену.
– Ха! – прорычал князь и полез за деньгами: «Слава Богу, он с нами не знаком…»
Пошевырявшись в ассигнациях перед слабым светом, вытащил двести рублей и протянул трактирщику. За долю секунды пересчитав в темноте деньги, хозяин яростно запищал: «Сагочка!».
– Не сегодня! – остановил его князь, собираясь уходить. – Да-а! – обернулся он.
Еврей был само внимание.
– Я не слишком грамотный, но, по-моему, в слове на «мойки» в конце «е» должно стоять? – начал выяснять Оболенский.
– Что Мойше выгодно, то и будет стоять!.. Что непутевый маляг намалевал и за что деньги получил, то бедный Мойша пегеделывать не станет, такие дикие затгаты ему не по кагману! – резонно разволновался трактирщик, быстро убирая ассигнации.
Удовлетворенный ответом эстандарт-юнкер покинул забегаловку и долго щурился, привыкая к пасмурному серенькому деньку, который прямо-таки слепил после «…рака… на мойки».
Вечером следующего дня тридцать восемь счастливчиков кирасиров, ночевавших в казарме, вышли на торжественное построение для приема «водовки». В первом ряду, конечно, стояли дядьки. Вахмистр в число счастливчиков не попал, и пеший строй повел Оболенский. Конногвардейцы так, на всякий случай, оделись по-походному в серые рейтузы и шинели – вдруг драка какая учинится или поблевать захочется… Шли как на параде, четко отбивая шаг и с песней, делая равнение встречным офицерам. «Молодцы конногвардейцы, – думали те, – красиво идут! Похоже, Костя им спать не дает…»
Видели бы они их, когда конногвардейцы тащились обратно…
Его высочество великий князь Константин точно бы постригся в монахи или удавился, встреть своих подшефных после праздника.
Офицеры, обучавшиеся и получившие звание непосредственно в войсках, отличались от своих коллег, окончивших кадетские корпуса, более низким теоретическим уровнем, но более человечным отношением к солдату, уважение к которому они пронесут через всю свою службу. Именно таких офицеров русские солдаты потом называли отцами-командирами и нередко жертвовали жизнью, заслоняя их грудью в бою… России в то время приходилось часто воевать, охраняя и расширяя свои владения, и воинский мундир пользовался в обществе огромным уважением и авторитетом в самом высоком понятии этого слова.
Русские матери, молясь за своих детей, безропотно ждали сыновей из многочисленных походов, оплакивая буйные их головушки, сложенные по всей Европе, но зато и Россия постепенно превращалась в могучую державу с обширными территориями.
Русские люди умели и работать, и веселиться, и воевать!!! Незабвенный Александр Суворов как-то воскликнул: «Боже! Какое счастье, что я русский!..».
Россия вновь возродится и расцветет лишь тогда, когда вслед за Суворовым и с таким же восторгом мы повторим его слова!!!
14
Первого ноября, в день святых бессребренников Космы и Дамиана, эстандарт-юнкера отмечали свое производство, а заодно и Кузьминки, как называли в народе этот праздник, в просторном петербургском доме князей Оболенских. Кроме юнкеров, гостей было немного. Присутствовали лишь юная кузина Григория Оболенского с родителями и старая тетка, которая много лет жила в доме князя Владимира.
Юная кузина глаз не сводила с Нарышкина. Тоненькая фигурка ее еще не получила достаточного развития, и самым запоминающимся в ней были красивые карие глаза на продолговатом чуть веснушчатом лице. Видимо кто-то из взрослых, то ли в шутку, то ли всерьез, сказал ей, что чуть прикрытые ресницами, они имеют необыкновенный шарм и глубину, привлекая интерес и взгляды мужчин, поэтому княжна бесконечно щурилась.
По-всему чувствовалось, что обе семьи очень дружили и во всем поддерживали друг друга. Старая тетка пользовалась в обеих семьях огромным уважением. Своих детей у нее не было, поэтому души не чаяла во внучатых племянниках, особенно в младшенькой племяннице. Вот и сейчас, про себя улыбаясь, следила она за стараниями Софьюшки понравиться этому чурбану в форме. «Научится еще кокетничать! – думала она. – Все еще впереди у девчонки, особенно когда к ее приданому прибавлю свою деревеньку с тысячей душ».
Обед продолжался довольно долго: Оболенские любили покушать в свое удовольствие, поэтому их француз повар получал содержание наравне с русским генералом.
Вина папà Оболенского выписывал из Франции и Германии.
Юнкера ели и пили на славу…
– Водки бы! – отставил хрустальный бокал с золотым ободком младший Оболенский и, игнорируя салфетку, вытер губы тыльной стороной ладони, размазав по ней красные капельки душистого вина.
Он решил сегодня потрясти родственников простотой привившихся в казарме нравов. Поводив ладонью над столом, взял с тарелки сочный кусок телятины и смачно откусил от него, вымазав щеки. Забывшая в очередной раз прищурить глаза его кузина, приложив к губам салфетку, прыснула со смеху. Тетка сделала вид, что не обратила внимания на бестактность, решив: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало…». Папà Оболенского, его брат и их жены шокированно глядели на сына и племянника.
– Вкусно! – произнес тот с набитым ртом. – Как в трактире… – сосредоточившись, добавил по-французски, завидев вошедшего повара с фарфоровым блюдом в руках.
Француз от возмущения чуть не выронил поднос, развеселив даже взрослых.
– Григорий! Станешь так себя вести, придется опять нанять гувернера, – по-французски обратилась к сыну княгиня.
– Мамà! Пожалей свои розы, – снова развеселил общество молодой князь.
Насытившись, Максим попытался заговорить с княжной, однако без особого успеха – она вновь с прищуром разглядывала Нарышкина.
Тот же после казармы никак не мог отъесться, к тому же на столе было столько вкусного…
В середине ноября, после вольных работ, начались обычные пешие учения, выводка коней, полковой наряд, езда сменами в манеже и взводами на плацу, разводы и дворцовые караулы; то есть самое тяжелое полугодие в мирной жизни лейб-гвардии Конного полка. Все офицеры прибыли из отпусков и начали заниматься со своими подразделениями. Во втором эскадроне приступил к службе большой друг эстандарт-юнкеров – поручик Вебер.
Несмотря на то что имели полное право покинуть казарму и жить дома, – папа Оболенского прямо-таки умолял их жить у него – юнкера остались в казарме до получения офицерского чина.
«И зачем им это? – недоумевал Вебер. – Значит, недостаточно господами занимаюсь, – делал он вывод, – коль еще служба не опротивела…»
Оболенскому нравились простота нравов и отношений, он отдыхал от светских условностей и этикета. Нарышкин в самом начале службы дал себе слово до получения офицерского чина жить вместе с солдатами, дабы закалить волю и тело. А Рубанову было просто хорошо с друзьями и не хотелось зависеть от чужих людей.
Поэтому опять по сигналу трубача рано поутру поднимались с жестких нар, плескались у рукомойника и, одевшись по-зимнему, плелись убирать лошадей. Каждые четвертые сутки конногвардейцы заступали в караулы, самым ответственным из которых являлся внутренний дворцовый. Именно туда и были назначены эстандарт-юнкера.
– Хотя вы по званию являетесь унтер-офицерами и можете ходить разводящими, – инструктировал их поручик Вебер, – но, по приказу ротмистра, некоторое время вам предстоит заступать в наряд караульными, дабы досконально ознакомиться с постами и понять караульную службу. Главное для вас – четкое исполнение ружейных артикулов! На постовом коврике при приближении начальства ружье должны откидывать от ноги четко «по-ефрейторски», в единый миг с напарником, для чего он, как старший возрастом, даст вам знак бровями или мигнет… По-первости заступите на посты со своими дядьками, они вас и обучат всему, – закончил длинную речь поручик и удалился по делам.
Перед первым своим караулом во дворце юнкера волновались, но, не подавая вида, надевали полную парадную форму. Из-за гвардейского шику лосины для лучшего облегания кирасиры натягивали на голые ноги сырыми, затем отполированные ботфорты, специально сшитые из толстой и твердой кожи. Застегнув четыре крючка на высоком воротнике белоснежного колета, эстандарт-юнкера надели замшевые перчатки с большими крагами, а на головы водрузили кожаные каски с высоким гребнем конского волоса, застегнув тугим подбородником из медной чешуи.
Встав в строй из тридцати двух конногвардейцев, заступивших в наряд, выслушали напутствие Вайцмана, и Вебер повел их в Зимний дворец. В караульном помещении, расположенном перед Белой галереей, Вебер еще раз напомнил, кто на каких постах стоит, и разводящие определили караульных по местам.
Рубанову вместе с дядькой выпало стоять в зале неподалеку от царских покоев. Когда рядом никого не было, Шалфеев что-то шептал Максиму, но тот не слушал его, с интересом разглядывая утреннюю дворцовую жизнь: «Бог мой! – с восторгом думал он. – Нахожусь в Зимнем дворце, а через стену живет сам император!»
По залам сновали полотеры, протирая паркет; истопники, зевая во весь рот и не обращая ни на кого внимания, разжигали березовыми лучинами печки, между делом переругиваясь друг с другом; убирали свои залы камер-лакеи, лениво сметая тряпками пыль с мебели и перьевыми метелками – с картин. Ламповщики разносили заправленные маслом лампы и заменяли сгоревшие свечи. Величественные гоф-фурьеры, солидно выпятив животы, важно ходили по дворцу, наблюдая за порядком, и время от времени разносили в пух и прах то нерадивого камер-лакея, то ламповщика, пропустившего сгоревшую свечу, то похмельного печника, задымившего сырыми дровами залу.
Максиму все было интересно, глаза его сверкали от любопытства. Однако через час без привычки ноги в узких сапогах и высыхающих лосинах начало немилосердно ломить. Тесный воротник давил шею, не давая дышать, а руки в перчатках стали мокрыми от пота, и ружье выскакивало из них. Интерес к дворцовой жизни постепенно угасал, а в голове осталась лишь одна мысль – скорее бы смена.
– Слава Богу, сегодня на прием к царю мало идут! – зашептал Шалфеев, видя мучения своего подопечного. – Ничего, господин юнкер, привыкнешь, – подбадривал он Рубанова. – Все поначалу мучаются, я чуть сознание по первости не потерял, а сейчас стою – хоть бы хны! – бахвалился он. – А-а-а! Смотрите, ваше благородие, – через минуту опять зашептал Шалфеев, – какая статс-дама плывет… Давай ей ружьем честь отдадим? – как мог, отвлекал он Максима.
Рубанов обалдел от счастья, когда наконец увидел идущую к ним смену. В караульном помещении он брякнулся на лавку, вытянув ноги и закатив к потолку глаза. Через несколько минут появились Оболенский с Нарышкиным и тоже попадали на лавки, оперевшись спиной о стену.
– Ну и служба! – потряс головой князь, ослабляя поясную портупею палаша и расстегивая крючки воротника. Каску и перчатки он скинул сразу, как вошел в караулку. – Больше штаны мочить не стану! – громко произнес он, глядя на своих спекшихся друзей. – У меня чуть все не полопалось, когда лосины сохнуть стали, а хрен теперь – плоский, как палаш…
Сидевший на скамейке Максим кое-как удержался, чтобы не свалиться на пол от смеха.
– Не важно, главное, чтобы рубил хорошо… – гоготали конногвардейцы.
– Что здесь происходит?! – забежал раздосадованный Вебер. – Фухтелей захотели?[10] Тут вам не конюшня – ржете, как жеребцы. Господа гва-а-р-де-йцы?! – осклабился он. – Как первое дежурство? – язвительно улыбаясь, глядел на юнкеров.
– Прекрасно! – постарался бодро ответить Нарышкин, чтобы лишний раз не радовать немца.
– Правда? – усомнился поручик. – Ну ничего, скоро опять на пост! У новичков это называется «кирасирскими муками!» – сообщил он, куда-то убегая.
«Верное название», – подумал Максим, но, к его удивлению, следующие часы прошли легче.
Утром их сменил караул Кавалергардского полка. Рубанов сдал пост Денису Волынскому.
– Первый раз? – спросил он и на утвердительный кивок красавца пожелал ему держаться, на что тот, не зная службы, презрительно хмыкнул.
– Говорят, вы всё в казарме живете? – уставился он на Максима. – Делать, что ли, нечего?
Ничего не ответив и пожав плечами, Рубанов пошел следом за разводящим, услышав в спину:
– А нас в наказание за пьянку полкан в караульные упек!.. Слава Богу, не на «губу»…
«На "губе" полеживал бы либо уставы изучал, в носу ковыряясь, – проходя мимо сенатской гауптвахты в казарму, вспомнил Волынского Максим, – а теперь вынужден "кирасирские муки" испытывать…»
Невыспавшийся Вебер, для того чтобы согнать с себя сон или просто от злости, время от времени приказывал идти парадным шагом. Усталые кирасиры, чертыхаясь про себя, тянули носок, громко опуская подошву на брусчатку мостовой.
– Настроение себе повышает, – шепнул Нарышкин Рубанову и тут же услышал: «Разговорчики в строю!».
«Тонкий слух у наглеца…» – подумал Максим.
Неожиданно команду конногвардейцев накрыл ливень. Казалось, что жильцы верхних этажей льют на них воду из ведер.
– Уже снегу пора идти, а тут все дождь, – недовольно бурчал Шалфеев.
Промокший Вебер облаял купца, загородившего своим тарантасом дорогу конногвардейцам, напоследок обозвав его «русской свиньей».
«Боров немецкий! – возмутился Максим. – И чего их государь на службу приглашает? Они ведь не любят наш народ!..»
В эскадронном помещении жарища стояла, как в бане. Свободные от дежурства кирасиры не пожалели дров, чтобы обогреть промокших товарищей. Как и другие, Максим повесил на веревку рейтузы, колет и шинель. Его сапоги Шалфеев вместе со своими поставил поближе к пылающей печке.
Сидя в одном белье на нарах, Максим читал письмо от княгини Голицыной, недавно приехавшей из деревни.
– В гости зовет, – удовлетворил любопытство друзей, – может, вечером и схожу.
– Я сейчас высплюсь, – мечтал Оболенский, – а затем навещу либо «храброго гренадера», либо «рака на мойки», а может, сумею и того и другого.
– А я почитаю, – произнес Нарышкин, – твоя кузина презентовала мне замечательную книжонку о любви греческих пастуха и пастушки.
Денег на извозчика не было, поэтому Рубанов отправился пешком. «Заодно город погляжу, – рассуждал он, – идти-то всего-ничего». Путь его лежал мимо «рака на мойки». Около входа в трактир Максим нос к огромному носу столкнулся с Мойшей. Тот вздрогнул, узнав конногвардейца, и с опаской огляделся по сторонам. Мойша часто теперь вздрагивал и кричал по ночам, ежели снилось гвардейское гуляние.
– Один! И не к тебе, – успокоил нервного жида Максим, – правда, вскоре князь обещал наведаться, – вспомнил он и увидел, как бедный еврей схватился за сердце.
К дому Голицыных Рубанов подошел уже в полной темноте, неожиданно свалившейся на город. Темные окна не ждали гостей. Постучав в парадные двери и решив зайти с черного входа, Максим услышал шарканье ног. После долгих объяснений с глухим, хромым, старым и – ко всему прочему – простывшим лакеем, тот повел его в покои княгини, недовольно брюзжа и часто чихая.
Скучающая Катерина Голицына, увидев Максима, радостно охнула и дружески расцеловала его в обе щеки.
– Подрос за лето, – оглядела гостя, – теперь явно набрал кирасирский минимум, а для молодого человека – так просто высок. Невесту не нашел еще? – рассмеялась над покрасневшим юнкером. – Скорее бы офицером стал… Я бы тебя в свет выводила. Князь Петр пишет, что жив-здоров, он финнов завоевывает, тебе привет передает и за успешную сдачу экзаменов велел выдать наградные – сто рублей, – смеялась она, раскрывая шкатулку и доставая ассигнации. – Бери, бери, чудак! Пригодятся… А я подарю шикарную форму, как станешь корнетом. Простудилась. Хорошо, что ты именно сегодня пришел. Скучала одна… Звали на именины, но не поехала – голова болит. Теперь прошла, – без умолку болтала княгиня, не давая Рубанову раскрыть рта. Видно было, что она рада его приходу. – Сейчас ужинать будем, велю на стол подавать, – подхватила его под руку и подвела к зеркалу. – Ты уже на полголовы выше князя Петра, – радостно удивлялась княгиня.
Максим глупо улыбался, рассматривая свое отражение в большом зеркале с золоченой рамой. Ему приятно было находиться рядом с этой молодой беспечной женщиной. За ужином она с удовольствием делилась сплетнями, рассказывая о том, что светское общество игнорировало французского посланника Савари. На тридцать визитов, нанесенных русским сановникам, ему ответили лишь двумя. И за всем этим стоит императрица-мать. Именно она первая приняла француза с ледяной вежливостью, уделив ему едва ли минуту времени, и после аудиенции высшее общество отвернулось от него. Но вот император весьма любезен с послом. Вместе с ним посещает спектакли в эрмитажном театре и оказывает другие знаки внимания. Александр хочет этим подчеркнуть, как он уважает Наполеона. Чем, интересно, этот выскочка-корсиканец так понравился нашему императору? – рассказывала она, время от времени поднося к губам бокал с шампанским. Рубанов шампанское не пил, зато отдал дань восхитительным мясным блюдам, паштетам из дичи и устрицам, привезенным с родины опального в обществе посла. Голицынский повар важно называл их «устерсами».
Эстандарт-юнкер засиделся в гостях до поздней ночи…
Постепенно Рубанов привык к царским приемам и нудному стоянию не шевелясь, если рядом крутились важные чиновники или генералы. Дворцовая толчея больше не вызывала острого любопытства. Многочисленные швейцары, скороходы, официанты, кондитеры, трубочисты, истопники, столяры, обойщики, маляры пробегали, проходили, пролетали, а иногда даже проползали, обращая на постовых внимания не больше, чем на паркетные планки. Часовые относились к ним, как к надоедливым насекомым, которых следует терпеть, так как прихлопнуть нельзя.
Особой популярностью у гвардейских кирасиров пользовались кладовщики при винных, мучных, фруктовых, мясных и других кладовых, даже таких, на первый взгляд, не нужных, как сервизные, бельевые, кофешенские, всем им конногвардейцы старательно салютовали, опять-таки, ежели поблизости не было начальства. За это благодарные кладовщики тащили в караульное помещение различные блага из своих кладовых.
Эстандарт-юнкеров, разумеется, больше волновали не жирные пожилые кладовщики, а стройные и юные царицыны фрейлины, которые жили по Комендантской лестнице на третьем этаже и пробегали через посты, со смехом кланяясь молоденьким гвардейцам. Некоторые из них останавливались поболтать с юнкерами, если рядом не было посторонних.
На Гришку Оболенского положила глаз полная, зрелых лет статс-дама. Громко пыхтя, она целеустремленно шлепала каблуками, проходя статс-дамскую и Белый зал, плотоядно высматривая понравившегося гвардейца. Если его не было на этих постах, шла разыскивать здоровенного бравого кирасира, терпеливо обследуя Яшмовую гостиную, Аполлонов зал или Эрмитажную галерею. Радости ее не было предела, когда натыкалась на разыскиваемый объект. Постояв рядом с князем несколько минут и отдышавшись, впрочем, она не знала, что он князь, статс-дама переходила к боевым действиям… Выбрав момент, когда они оставались одни, закатив глаза и блаженно улыбаясь, эта миловидная еще пятидесятилетняя женщина нежно гладила подрагивающей ладонью княжескую щеку. Эстандарт-юнкер, согласно уставу, стоял не шелохнувшись…
Несколько раз Максим нес дежурство у личных царских комнат, и близость к венценосцу уже не волновала так остро, как в первое время. Однажды, когда Рубанов стоял у дверей из царской приемной на Салтыковскую лестницу, внизу показались два генерала в вицмундирах. Они медленно поднялись по ступеням, и один чуть замешкался у входа в приемную.
Генералами Максима не удивишь, но тут его бросило в жар, когда в задержавшемся у дверей признал отца Мари. Ромашеву, конечно, и в голову не могло прийти, что высокий, стройный мальчишка кирасир, стоявший у входа в царскую приемную, – сын гусарского ротмистра Рубанова, который так испугал и унизил его…
Часто по ночам Максим мечтал о встрече с Мари и прокручивал десятки вариантов этого события, размышляя о том, что скажет он и ответит она, но ее отец существовал как бы отдельно и не был связан с Мари. Потоптавшись и с опаской вздохнув, генерал вошел в приемную, не заметив, как побелели костяшки пальцев у часового, судорожно сжимавшего ружье…
Во время большого Рождественского бала Вайцман поставил в караул на верхней площадке Иорданской лестницы при входе в Аванзал Рубанова и Оболенского. Нарышкину достался пост, находившийся через два зала – в Концертном, у дверей в комнаты царской семьи.
Постепенно съезжалась знать. Площадь перед Зимним дворцом запрудили кареты, экипажи и коляски. В воздухе висел гул голосов, слышались веселые возгласы и смех. На специально расчищенной площадке боролись подвыпившие форейторы. Раздеваясь внизу, приглашенные не спеша поднимались по широким ступеням парадной лестницы. Сановники поздравляли друг друга, жены их, ревниво сравнивая наряды и украшения, целовались…
Шум несколько затих, когда по лестнице, в окружении подхалимов, степенно поднималась известная красавица и возлюбленная императора Мария Антоновна Нарышкина. Именно возлюбленная, а не любовница!
У императора Александра было две жены: законная – красивая, голубоглазая, но приевшаяся Елизавета Алексеевна и фактическая, тоже красивая, черноглазая графиня Нарышкина, прозванная в свете – «черноокой Аспазией». Кроме них любвеобильный император содержал и тучу любовниц, начиная с прелестных актрис – Шевалье, Филлис – и заканчивая графинями и юными княжнами. С юных лет волочился он за самыми прекрасными женщинами и добивался их любви.
Мария Антоновна прошла Аванзал, раскланиваясь со знакомыми, и остановилась у входа в царские покои, увидев стоявшего на посту родственника своего мужа. Весело улыбнувшись ему, она поднялась на носки туфелек и чмокнула часового в щеку, обдав запахом духов и свежих фиалок, букетик которых кокетливо выглядывал из ее волос.
«Как бы это не вошло в моду, – подумала она, – целовать постовых гвардейцев…»
Мысль эта неожиданно развеселила ее, и она произнесла, обращаясь ко всем и ни к кому в отдельности: «Мой брат!».
Она сама и ее наряды служили образцом, а также предметом зависти и сплетен для всех дам петербургской знати. Как всегда, графиня обращала на себя внимание и в этот Рождественский вечер. Дамы, кося на нее завистливыми глазами, досконально обсудили изящное голубое платье и кашемировую шаль, накинутую на плечи, обсудили сами плечи и черные глаза, точеные руки, белую шею с ниткой жемчуга и прекрасную полную грудь.
– На посту говорить не положено! – засмеялась она. – Похудел-то как, бедненький, – потрепала растерявшегося «братца» по щеке.
Окружающие смотрели на конногвардейца и перешептывались. От повышенного внимания общества Нарышкин полыхал алым цветом, в точности как вицмундир появившегося Вайцмана. Грозно хмуря поросячьи глазки, немец шел к своему постовому, но с каждым шагом лицо его меняло выражение, перебрав всю гамму чувств – от злости, безразличия и удивления до растерянности и даже страха, когда понял, кто беседует с часовым. С этим-то последним чувством барон ловко затерялся в толпе и направился проверить двух других юнкеров.
Там, конечно, тоже творился непорядок. Ротмистр сморщился и застонал словно от зубной боли, увидев рядом с Оболенским плотную статс-даму, влюбленно глядевшую на князя. «Старая стерва!» – подумал он. С этой пожилой барыней немец не церемонился и сумел испортить ей Рождество, загнав даму в Концертный зал и при этом обругав ее. В результате последовавшего затем разбирательства выяснилось, что статс-дама является баронессой и немкой по происхождению. Вайцман побоялся копать дальше, уверенный, что она окажется его дальней родственницей. Распрощавшись с сестрой по нации, он опять устремился к Иорданской лестнице, и его белая почти прозрачная кожа приняла серый оттенок, а бесцветные глаза покраснели, когда увидели рядом с эстандарт-юнкером Оболенским уже целую толпу, причем маленький толстенький папà трепал сына за плечо, а высокая и важная маман вцепилась в ружье.
– О-о-й! – в голос завыл ротмистр. – «И замечание не сделаешь, так как принимал презенты, и, может, еще дадут… – стараясь не стучать каблуками, тихонько, на цыпочках, пошел в караульное помещение. – Последний раз часовыми их ставлю! Пускай теперь разводящими походят или вообще по полку дежурят».
Случившиеся шум и колыхание толпы отвлекли барона от раздумий, и он кинулся вслед за всеми. Из царских апартаментов появился его величество в окружении родственников. По правую руку от государя шествовала мать-императрица Мария Федоровна, по левую – законная жена, за ними шли великий князь Константин, увидев которого стоявший неподалеку Шалфеев шумно втянул воздух, так его высочество был похож на своего покойного батюшку, особенно носом… Рядом с Константином шла любимая сестра императора Екатерина Павловна. За этой парой следовали малолетние братья Николай и Михаил. Вайцман попытался вылезти вперед, дабы его заметили, но таких умников было здесь полно и повыше его чинами.
Окончательно расстроившись, выбрался из толпы и, стараясь не смотреть на юнкерский пост, решил все-таки добраться до караульного помещения, но служебное рвение и любопытство взяли верх…
«Так и есть! – чуть не заплакал Вайцман, увидев стройную княгиню Голицыну, улыбающуюся и что-то говорящую Рубанову. – И опять ничего не скажешь! Ее супруг – друг нашего полковника. Мне бы такие связи, так давно бы генералом стал», – позавидовал немец.
– Сударь! Всё на посту стоите? – изо всех сил грохоча шпорами, издалека заорал гордый собой Строганов. – А нас полкан приказал разводящими ставить! – похвастался он. – Господа! Имеем честь предложить вам шуточное новогоднее пари… Спор на сто рубчиков с носа, – видя, что заинтриговал Рубанова, продолжил он. – Утром первого января вы должны подъехать к любимому «храбрецу» и зайти туда прежде, чем в жидовскую «мойку», и заработаете по стольнику…
– А ежели забудемся и с пьяных глаз забредем к Мойше?..
– …То триста рублей заработаем мы!.. – радостно хлопнул в ладоши кавалергард.
– Гм-м! Заманчиво! – дотронулся Максим до сердца, где во внутреннем кармашке колета хранились его сбережения.
«Неплохо было бы удвоить имеющуюся сумму! – размечтался он. – Да и пари -то пустячное…»
– Согласен! – протянул руку Строганову.
– Глупцами быть – от такого пари отказываться! – убежденно разглагольствовал Оболенский, пока Вебер строил команду.
– А кто против-то? – вставил слово Нарышкин. – Сто рублей – они на дороге не валяются…
– Главное, натянем нос кавалергардам! – потирал руки князь.
Увлеченный спором, Оболенский бодро промаршировал дистанцию и после команды «Вольно!» разъяснил свое видение предмета.
– Запишем и положим листки во все карманы, – рассуждал он, – когда и куда должны зайти в первую очередь… И какие бы пьяные ни были, хоть один прочтет и вспомнит. Господа! – все не мог успокоиться он. – До вечера отдыхаем, вечер и завтрашний день проводим кто как хочет – то есть пьем! Новогоднюю ночь празднуем вместе, можно – у меня дома, а лучше – в казарме, и утром едем выигрывать пари.
На том и порешили!
Следующий день Рубанов провел в обществе княгини Голицыной. Перед обедом она увлеченно пересказала Максиму все происшествия на балу, затем, плотно пообедав и в меру выпив вина, поехали кататься на санях. Тихая, безветренная и слабоморозная погода благоприятствовала встрече Нового года. Рубанову в шинели было как раз в пору, а княгине в собольей шубе и шапке стало жарко. Растегнувшись, она весело махала знакомым. Те, кто постарше и поважнее, величественно проплывали в роскошных каретах с гайдуками на запятках, а молодые, как и они, мчались на лихих тройках.
Рождественское катанье было в самом разгаре. Хорошо кормленные княжеские рысаки обгоняли то тесные санки с подвыпившей компанией мелких чиновников, приказчиков или ремесленников, то розвальни с бородатыми купцами и их барышнями.
– Пошли балаганы смотреть! – когда наскучило кататься, предложила княгиня.
Они вышли из саней у Полицейского моста через Мойку, где начиналась праздничная толчея. Казалось, что на улицы высыпал весь Петербург! Максим тут же вспомнил о пари, полез в карман и помял пальцами записку. «В "рака на мойки" заходить нельзя», – мысленно сказал себе.
Издалека от Адмиралтейского луга доносился веселый, разноголосый гомон. Подойдя ближе, они просто оглохли от верещавших на все голоса рожков, дудочек и свистулек. Заливаясь и перебивая их, вопила шарманка. Отовсюду раздавались веселые выкрики и девичий смех. Пьяными голосами орали разносчики. Сбитенщики, блинники, квасники, пряничники зазывали народ, безмерно расхваливая свой товар. Продавцы махорки хрипели прокуренными голосами: «Рыжий черт курил, дымом тещу уморил!..» – Из этого, по их понятию, следовало, что табачок отменный. Конкуренты и сотоварищи – торговцы нюхательным табаком, сплевывая сквозь гнилые зубы, чистосердечно уверяли: «Гони грош – и нюхай, сколь хошь!» Толстые бабы, расталкивая мощными плечами занюханных табачников, взывали: «А вот сладки прянички, купи для девки Танечки!» Толпа была разношерстна, весела и пьяна.
Под треньканье балалаек то тут, то там слышались матерные частушки, да такие забористые, что краснел даже живший в казарме Рубанов. Катерина Голицына, внимательно выслушав очередной народный шедевр, давилась от смеха и неизвестно для чего пыталась запомнить, старательно шевеля губами и морща лоб.
Целеустремленно проталкиваясь сквозь белые и черные дубленки барской челяди, шинели солдат и полушубки мещанок, отбиваясь от цепких рук торговцев конфетами, орехами, имбирным сбитнем, медом и прочей снедью, княгиня и Рубанов добрались наконец до ледяной горы, возвышающейся над лугом.
Наняв за гривенник сани, они несколько раз съехали с крутой горки. Княгиня при этом так вопила, что, на взгляд Максима, спокойно перекричала бы десяток продавцов царьградскими стручками с известными на весь Петербург лужеными глотками.
После катания на санках, взявшись за руки словно дети, устремились к огромному балагану с зеленым занавесом, перед которым на дощатом хлипком помосте куражился молодой парень, зазывая народ.
– Заходи, шевелись – у кого денежки завелись! – надрывался он, ловко сморкаясь двумя пальцами и обтирая их о черный лоснящийся армяк.
– Зайдем? – предложил Рубанов.
Княгиня согласно кивнула головой.
Внутри балагана за ширмой из красного кумача гнусавил Петрушка, на что-то подбивая голубоглазую куклу в пышном белом платьице.
– Хороша?! – орал Петрушка, и толпящийся пьяный народ весело подтверждал его слова.
– Какие ручки, губки, шейка… А ну, добыть такую сумей-ка?
А дальше пошло малопристойное…
Многие барышни, краснея, выбегали из балагана, но княгиня с удовольствием слушала народный юмор, от души хохоча при этом.
– Она слала мне записки… – размахивая руками, кричал Петрушка, – я при встрече щупал ей сиськи, – кидался он на красавицу и задирал ей подол.
Услышав про записки, Рубанов вытащил из кармана и прочел свою: «Зайти в храбреца!».
В другом балагане посмеялись над пляшущими на ковре потешными собачками в цветастых сарафанчиках…
И уже вечером, когда начинало смеркаться, шатаясь от усталости, побрели к Полицейскому мосту искать свои сани.
– Мне ведь сегодня ночью еще на бал надо!.. – держась за мужскую руку, вспомнила княгиня и опять пожалела, что Максим не офицер.
– Поеду в казарму! – решил юнкер, но Голицына не отпустила его.
– Прежде поужинаем у меня, – распорядилась она.
Поздно вечером замученный голицынский форейтор, матерясь сквозь зубы, довез Рубанова до казармы. Нарышкин с Оболенским были уже на месте – пили водку и дулись в карты.
– Прежде зайти в «храбреца!» – хором продекламировали юнкера и рассмеялись.
– Рассказывай! – предложили Рубанову, и князь раскурил трубку.
– Оболенский закурил, барона к черту уморил! – зевая, нараспев произнес Максим, немного переделывая слова табачного зазывалы.
От полнейшего восторга князь выдул полный стакан водки.
– А вы, господа, чего? – показал на бутылку.
«Господа» последовали его примеру.
– Ну давай еще, Рубанов!
Я пожал плечами, в раздумье сморщив лоб. «Ага!» И тонким голосом произнес:
– Купи прянички, за них щекоти титьки у Анечки!..
– Ха-ха-ха! – Оболенский помчался к вахмистру за чернилами и листком.
– Продиктуй-ка! Какой-нибудь барышне в альбом запишу…
Выпив еще стакан и что-то накорябав на листке, опять просительно уставился на меня.
Почесав в затылке, я произнес:
– Покури на грош и спи с бабой, сколь хошь!
Оболенский в молчаливом восторге свалился на нары, а у Нарышкина изо рта брызнула водка.
Пили много… И за новый, 1809 год, и за пари, и чтоб у немцев не стояло…
Утром, пошатываясь, вышли из казармы. Город, казалось, вымер. Полчаса ждали извозчика. Наконец, остановили непроспавшегося «ваньку», причем Оболенский поначалу внимательно его разглядел, и направились в трактир.
– Гляди у меня! – заплетающимся языком учил дремавшего ямщика князь. – В «Храбрый гренадер» вези, понял?
«Ванька» кивал головой, а может, она тряслась на ухабах.
– Нет! Надо самому вывески читать, а то этот болван завезет… – решил Оболенский. «Натянем кавалергардов! – мечтал он. – И опять же – будет на что выпить».
Мы с Нарышкиным дремали, положившись на более крепкого князя.
– Стоп! – ткнул он в спину извозчика, чуть не вывалив его из саней. – Вроде и не «храбрец», – бормотал князь, – а написано «Храбрый гренадер», – недоверчиво разглядывал вывеску. – Серж! – потряс Нарышкина. – Прочти, что написано.
– «Гренадер» не видишь, что ли? – начал корячиться, вылезая из саней Нарышкин.
– Приехали! – разбудил меня Оболенский.
Я послушно вылез и, взглянув на вывеску, направился к трактиру. «Вроде в "гренадере" другие двери». – Постучался ногой.
– Открывай, служива-а-й! – дурачась, заорал Гришка Оболенский. – Конногвардейцы пришли пари выигрывать…
Дверь долго не открывалась, затем в небольшую щель просунулся здоровенный нос.
– Закгыто! – услышали картавый голос.
Мощным пинком князь распахнул дверь, и мы следом за ним прошли в трактир. Сбитый с ног жид, охая и стеная, медленно поднимался, хватаясь за стулья и стол.
– У себя все выпил, так к «храбрецу» приперся?
– Ни к какому хгабгецу не пегся, – держась за сердце, заныл Мойша, – а ночевал в своем «гаке».
– Пг-ги-дуг-гок! – с чувством передразнил его Оболенский, начиная медленно трезветь. – А ну-ка ступай погляди, что на вывеске намалевано! – Схватил за шиворот несчастного трактирщика и потащил к выходу, замечая краем глаза, что обстановка-то не гренадерская, а самая что ни на есть жидовская.
Нарышкин и Рубанов уже поняли, что попали не туда, и с траурным видом молчали…
– Читай, гнида! – услышали на улице княжеский бас.
Затем все стихло… Затем раздалось бряцание шпор, и в трактир вместе с хозяином и Оболенским ввалились трое сияющих и полупьяных кавалергардских эстандарт-юнкеров. Оболенский выпустил ненужного теперь жида и мрачно отряхнул руки.
– Господа! – старательно сдерживая торжество и прикидываясь весьма удивленным, произнес Волынский. – Зачем вы здесь?! – И улыбка заиграла на его нахальном, красивом лице.
Перестав отряхивать руки, Оболенский, сжав зубы, достал бумажник, отсчитал сотню и молча протянул стоявшему рядом Волынскому. Следом за ним полез в карман Нарышкин. С огромной внутренней тяжестью я достал родные свои ассигнации и, не глядя, сунул в руки Шувалову.
– Но написано-то – «Гренадер!!!» – возопил Оболенский.
– Не верь написанному! – нравоучительно произнес Волынский. – Господа! Прошу следовать за мной. – Щелкнул шпорами и повел нас к выходу.
– Самозванец!!! – яростно бросил еврею князь.
Приближаясь к настоящему, а не ложному «Храброму гренадеру», мы увидели несколько фигур, бестолково размахивающих руками, услышали матерщину хозяина и смех остановившихся у трактира прохожих.
– Вот он идет! – увидев Мойшу, зарычал владелец «гренадера» и грозно засверкал единственном глазом, сжав кулаки. – Шутки шутить вздумал! – заорал гренадер. – Отдавай мою вывеску!
– Не бгал ее! – с опаской поглядывая на кулаки, произнес Мойша. – Кто-то пошутить гешил… – скосил глаза в сторону сияющих кавалергардов. –О-о-й! – закрыл он ладонью рот, прочитав вывеску над соседним заведением.
Оболенский минуту щурился, читая надпись, а затем громко заржал, осознав написанное.
– Ай да кавалергарды!.. Во учудили…
Я тоже по слогам прочел ровные свеженамалеванные буквы над трактиром – «…рака у Мойши».
– Моя… моя вывеска! Но писал не я… – бодро произнес еврей. – Сейчас за лестницей сбегаю… – чему-то обрадовался он.
– Нам тоже, господа, нелегко пари далось… – едва сдерживая торжество, произнес Шувалов. – Иконописца за червонец нанимали и сами по лестнице лазили, дабы вывески поменять…
– Да еще краску богомазу покупали, – подал голос Строганов.
– А сколько думали, что написать?! – встрял в разговор Волынский, еще раз с удовольствием прочтя вывеску.
– Ха! – мрачно поглядел на кавалергарда Оболенский. – У нас вон Рубанов сколь хошь вывесок придумает…
– Ну что ж, судари! – обратился я к кавалергардам. – Теперь мы ваши должники…
В карманах опять стало пусто!
Как и обещал, после Нового года Вайцман начал ставить эстандарт-юнкеров разводящими. Служба пошла веселее и легче.
Полная статс-дама разводила часовых вместе с Оболенским до тех пор, пока ему не надоела и он не нагрубил ей. Поплакав, она быстро успокоилась возле громаднейшего кирасира из третьего эскадрона.
За эту зиму Рубанов близко сошелся с Катериной Голицыной. В свободное от нарядов и учений время он часто шел, так как ехать было не на что, в ее гостеприимный дом, угощался там чаем, пирогами, вином, вкусными обедами и светскими сплетнями. В свою очередь, рассказывал о службе и друзьях, о доме, о Рубановке, об умершем отце и матери… – «Надо завтра непременно письмо написать!» – вспоминал он.
В конце января из действующем армии неожиданно приехал князь Голицын. Был он уже не ротмистом, а подполковником, и новенький орден сиял на его груди. В свете князь имел просто бешеный успех… Не успевал он где-либо появиться со своей красавицей женой, как около них образовывался кружок из офицеров, чиновников и дам, с интересом слушавших рассказы о переправе по льду из Або на Аландские острова под начальством князя Багратиона, о схватках со шведами, о героизме русских солдат и, конечно, скромное упоминание о собственной особе в этих баталиях.
Дамы просто млели возле героя, томно глядя в его серые холодные глаза, и, жалея, слегка дотрагивались до висящей на черной перевязи раненой руки. Но княжеские глаза теплели в одном лишь случае, когда взгляд их падал на любимую жену – княгиню Катерину.
Теперь Рубанов реже посещал Голицыных, так как их трудно стало застать дома, а если и заставал, то им было не до него.
– Что, юнкер, скоро корнетом станешь? – спрашивал князь, трепля его здоровой рукой за плечо.
Но Рубанов видел, что мысли князя были рядом с женой, и, чтобы не мешать им, уходил в казарму либо вместе с Оболенским навещал «храброго гренадера» или Мойшу, который радушно принимал их, всякий раз похваляясь, как здорово сэкономил на вывеске.
– Пгедставляете, господа! Стег нехогошее пегвое слово… и получилось пгекгасное название тгактига – «У Мойши». Мне нгавится, – радовался он. – И какая экономия на кгаске и маляге! Окна бы еще как покгасить?! – намекал он.
Оболенский бесился от подобных разговоров, вспоминая проигранное пари.
– Вся гвардия смеется! – хмурился он. – А ему радость – задарма вывеску намалевали…
Завидев кавалергардов, он теперь обходил их стороной, дабы избежать насмешек.
– Рубанов! Придумайте что-нибудь, – просил он Максима, обращаясь к нему на «вы».
Весь этот месяц у юнкеров только и было разговоров, как бы смыть позор…
«Позор-позором, – рассуждал Рубанов, – а скоро день рождения, и пора свои рублики возвращать!» – усиленно стал размышлять над проблемой, и, наконец, его осенило…
Низко склонив головы над столом, конногвардейские эстандарт-юнкера о чем-то воодушевленно шептались. Если один из них вдруг повышал голос, другие его тут же одергивали. Не слыша привычного шума за юнкерским столом, из кухни выглянул заинтригованный Мойша. «Чего-то пгидумывают! – подергал себя за правый пейс. – Надо сгочно газнюхать…» – подумал он и тихим шагом, стараясь быть незаметным в полумраке трактира, двинулся к друзьям.
Но разнюхать ему ничего не удалось.
Нарышкин заметил рядом с собой на стене огромную тень – это отразился нос трактирщика, и тут же сделал знак замолчать. Повернувшись, увидели безразлично протиравшего стол еврея.
– Господин жид! Быстро исчез на кухню, – велел ему Оболенский.
«Точно! Что-то задумали», – уверился трактирщик и загундосил:
– Это мой тгактиг, где хочу, там и нахожусь! – но увидев грозно поднявшегося князя, решил все-таки смотаться поближе к котлам и кастрюлям.
– На этом, друзья мои, и порешим! – подвел итог Рубанов, убедившись, что соглядатай захлопнул за собой кухонную дверь. – Ты, Серж, – обратился к Нарышкину, – доведешь до сведения кавалергардов суть пари – спор на триста рублей, что до утра просидят в склепе. Тебе, Григорий, ехать на кладбище и подобрать мрачный склеп, в котором покоится старуха. А я, судари мои, поищу ожившую копию почившей старой ведьмы.
На том и расстались.
Взяв у князя денег на извозчика, Рубанов до вечера объезжал церкви, внимательно приглядываясь к нищенкам. Но ни одна из них не вызвала в нем дрожи отвращения. Наконец, случайно, в рядах Никольского рынка, обнаружил нужный объект, от одного взгляда на который у неподготовленного человека стыла в жилах кровь. Это была седая, сгорбленная старуха с большим одиноким зубом во рту. Ее гноящиеся глаза таили мрачную угрозу, а дубленой, в глубоких складках и морщинах желто-серой коже позавидовал бы любой мертвец… И пахло от нее, как от разложившегося трупа.
Она была пьяна, и Рубанов, с трудом сдерживая брезгливость, целый час объяснял найденной ведьме, что от нее требуется.
– И выпивка будет? – шамкала она, недоверчиво всматриваясь в конногвардейца.
– Будет, бабушка! – устало твердил он. – Только не спеши, дождись, когда они бутылки достанут, а после выпить и спроси! – в сотый раз объяснял бестолковой старухе. – Да гляди не проспи!
– Што я, дура, што ли, выпивку прошпать?!
– Сиди и жди меня здесь, – велел ей Рубанов и отправился к Мойше на встречу с друзьями.
Довольный Нарышкин ждал уже там, а Оболенский еще не приехал.
– Ну что? – поинтересовался у друга Максим.
– Все нормально! – радостно ответил тот. – Клюнули… И знаешь, где их встретил? В «Гренадере», – задал вопрос и ответил на него Нарышкин. – Нам Бог помогает, а может – дьявол, – уточнил он, – сегодня ночью они как раз свободны…
– А вдруг Гришка склеп не подберет, – заволновался Рубанов.
– Легок на помине! – воскликнул Нарышкин, увидев входившего князя.
– Всю ночь спать не будет, – кивнул Максим на вившегося возле них трактирщика.
– Запросто может лопнуть от любопытства, – поддержал его Нарышкин.
– Не знаю, как сам, а нос-то – точно… – рассмеялся Рубанов.
Подошедший Оболенский, отогнав шпионистого еврея от стола, сообщил, что всё в порядке.
– Кавалергарды по соседству пьют! – махнул рукой в сторону «Храброго гренадера» Нарышкин.
– Сейчас им склеп и покажем, – обрадовался князь и поглядел на опять суетившегося рядом еврея. – Как муха, вьется жид! Мойша! Скажи: кавалергарды… – и заржав, направился на выход.
К двенадцати ночи закутанную в белую простыню старуху поместили в склепе, хорошо замаскировав ее в темном углу, и отошли за памятник суворовскому генералу.
– Ну и бабуленция! – вздрогнув, покачал головой Серж.
– Ежели у кого из них запор, – кивнул в сторону воображаемых кавалергардов Максим, – то точно вылечится… – И закрыл рот собравшемуся заржать князю, услышав крадущиеся шаги и мягкий звон шпор.
– Господа! Похоже, здесь!.. – услышали они неуверенный голос Волынского, остановившегося перед входом в склеп.
Тяжело вздохнув, Шувалов огляделся по сторонам: бледный лунный свет, слабо освещавший кресты, мрамор памятников и шумевшие под ветром деревья не особо обрадовали его. «С нами крестная сила!» – незаметно перекрестился он и, стараясь подбодрить друзей, встряхнул загремевший бутылками саквояж.
– Сейчас и выпьем с покойницей! – пошутил юнкер, заметив, как от его слов побледнели Волынский и Строганов.
Губы их беззвучно шептали молитвы.
Еще разок на всякий случай перекрестившись, Строганов шагнул к двери и надавил на нее плечом. Заскрипев несмазанными петлями, дверь с трудом распахнулась, и юнкера уловили затхлый запах подземелья. Запалив толстые свечи, спустились по скользким ступеням вниз, осветив полустертую надпись и овал женского лица.
– А-а-а-п-ч-хи! – медведем рявкнул Строганов и услышал, как кто-то из друзей испуганно лязгнул зубами.
– Ха-ха-ха! – развеселился Шувалов. – Будьте здоровы, бабушка! – произнес он и охнул от чувствительного тычка локтем под ребра.
– Не шути с покойниками! – испуганно зашептал Волынский.
– А почему шепотом? – потирая ребра, храбрился Шувалов. – Мы здесь никого не разбудим. – Поставил он саквояж на пол и стал доставать и раскладывать на плоском выступе под надписью бутылки и закуску. – До четырех утра продержимся, не замерзнем. – Побултыхал водкой и поднес к свету часы. – Первый час, господа! – сообщил он друзьям.
– Еще разок проучим зазнавшихся конногвардейцев! – протянул руку к стакану Строганов.
– И правда, судари! – расправил плечи Волынский. – Второе пари проиграть – вся гвардия смеяться будет.
Поддержав себя морально приятными мыслями и водкой, кавалергарды несколько успокоились, зато занервничали их противники.
– Уснула! Уснула старая ведьма! – переживали подошедшие к склепу конногвардейцы.
Хотя мороз был не сильным, он все же щипал щеки и острыми иголочками впивался в ноги.
Отойдя от склепа, юнкера стали скакать вокруг памятника.
– А они, черти, там водку пьют! – завидовал Оболенский, прыгая перед генералом.
– Неужели, опять проиграем? – расстроился Нарышкин.
– Не может этого быть! – высказал свое мнение Рубанов, охлопывая себя руками. – Такая мегера не может подвести…
Между тем в склепе все было тихо, не считая звона стаканов и осмелевших уже голосов.
Прошел еще один час.
Кавалергарды полностью освоились в темном замкнутом пространстве, привыкли к затхлому воздуху и усердно подливали в стаканы мадеру и водку. Конногвардейцы опять подошли к склепу и, спрятавшись от ветра за его стенами, с надеждой прислушивались…
Даже Волынский осмелел и геройски опрокидывал в себя водку. Видя это, Шувалов решил пошутить и произнес, поднимая стакан:
– Пьем за тебя, бабушка!..
– Я и сама за себя выпью! – произнесла, вступив в круг света, старая нищенка, зябко кутаясь в простыню. – Долго же я спала…
Седые волосы ее растрепались, а глаза жадно блестели при виде выпивки. Пламя свечей отражалось в них, придавая им красный оттенок.
– Дайте же выпить! – закричала она, протянув руку к Волынскому, и в предвкушении раскрыла рот, явив взору графа зловеще, как ему показалось, блеснувший в свете свечей зуб.
– А-а-а-а! – заверещал он, выронив стакан.
Этот вопль вывел из столбняка его друзей.
– Проснулась бабуля! – обрадовались конногвардейские юнкера, отскакивая от двери.
– А давайте шинели скинем и останемся лишь в белой форме! – предложил дьявольский план Оболенский.
Первым из склепа вылетел Волынский, успевший заметить три огромные белые тени, скрывшиеся за памятником. «Мертвяки бегают! – в ужасе подумал он. – Окружили…» – Ноги его ослабли. Друзья подхватили под руки графа и поволокли к выходу с этого чертового кладбища.
– Что-то вы рано, господа? – поинтересовались, сдерживая запаленное дыхание, с трудом догнавшие их на выходе конногвардейцы.
– Вон, смотрите! – не удивившись их присутствию, показал дрожащей рукой Шувалов на белую фигуру, постепенно исчезавшую за крестами. – Покойница ожила…
«Бабка все собрала и сматывается, чтоб не отняли, – с трудом сдерживая смех, подумал Максим, – даже простыню с себя не сбросила…»
– Мертвяки стаями бродят!.. – словно в бреду, зашептал Волынский, стуча зубами и в ужасе глядя на слившуюся со снегом и исчезнувшую среди могил белую фигуру.
В ту же секунду, как они выскочили из склепа, хмель выскочил из них. Поэтому для начала конногвардейцы решили отвезти их к Мойше, рассудив, что любопытный еврей откроет им и среди ночи.
Замерзший и сонный извозчик с трудом разместил на санях компанию и долго бил вожжами по крупу лошади, заставляя ее тронуться с места.
…– Вот так, господа, все и было! – разъяснил Рубанов в трактире ситуацию, любовно складывая в нагрудный карман ассигнации.
Кавалергарды не знали, смеяться им или сразу застрелить шутников. Мойша в восторге чесал свой нос, прикидывая, что на месяц тема для разговоров обеспечена, и, чтобы узнать подробности, гвардейцы толпами попрут в его трактир…
15
День своего шестнадцатилетия – 19 февраля 1809 года – Максим вместе с друзьями и дядьками провел у Мойши. К вечеру радостный до посинения трактирщик разжился сотней рубановских рублей, избавившись к тому же от скисшего шампанского, о реализации которого мечтал с Нового года.
Эту двойную удачу не смогли затмить даже убытки: три стула, разбитые о головы задиристых улан, и два стола… Половина выдранного Оболенским пейса вообще в счет не шла…
Следующий вечер Максим провел у Голицыных. Приняв поздравления и сто рублей – вот уж волшебная сумма, он до отвала наелся и с удовольствием выпил шампанского, на минуту задумавшись, чем же угощал их Мойша… Слава Богу, пока молодые желудки справлялись с любой пищей и выпивкой.
На этом праздники не закончились…
На Масленицу в Зимнем был дан большой бал.
Рубанов привел смену и поставил часового на Иорданской лестнице, увидев поднимающихся Голицыных. Князь был в темно-зеленом вицмундире. Черной перевязи через плечо уже не было. Его жена нежно, едва касаясь, придерживала больную руку. Заметив Максима, она улыбнулась, помахав ему, и обидчиво дернула плечом, не получив ответной улыбки. Поравнявшись с Рубановым, она удивленно поглядела в его застывшие глаза. Вся фигура юнкера, казалось, одеревенела, а лицо напоминало своей неподвижностью маску.
«Что его так потрясло?» – обернулась княгиня. Первыми в толпе поднимающихся по лестнице следовали генерал с орденской лентой через плечо и худенькая девчушка с угловатыми движениями детского еще тела. Белокурые волосы высокой короной охватывали ее головку, придавая ей взрослый вид. Стрельнув огромными глазищами в юнкера, девчонка затенила их ресницами, внимательно разглядывая ковровую дорожку у себя под ногами. Еще раз взглянув на Рубанова, княгиня была просто потрясена восторгом, плескавшимся в его глазах.
Муж потянул ее в Большой танцевальный зал.
«Так… так… – размышляла она, – надо непременно расспросить Максима об этой девчонке и генерале», – поставила себе задачу.
В марте выздоровевший князь Петр покинул столицу, отправившись на север к действующей армии, а жену оставил скучать дома. Приемы, балы, театры и гостиные великосветских знакомых ей до чертиков надоели, и она с удовольствием проводила время с молодым гвардейцем, мечтая поскорее уехать на лето в тихую родовую деревню, оставив этот шумный город с его сплетнями и интригами.
Но прежде княгиня Катерина решила все-таки выведать юношескую тайну. Но Максим ловко уходил от разговора на эту тему, мучительно краснея при малейшем упоминании о зеленоглазой девчонке и этим еще более распаляя любопытство княгини… Она даже стала плохо спать: «Негодный мальчишка! – проснувшись ночью, думала она. – Вce равно я узнаю, чего ты скрываешь!»
И лишь в апреле Рубанов сдался, обо всем рассказав княгине…
С его слов Голицына узнала всю правду о генерале Ромашове и отце Максима, о матери, медленно опускающейся от безделья и скуки в деревне… Застенчиво, временами даже заикаясь от стеснения, он рассказал о том, как в первый раз встретился с Мари, показал подарок – маленький золотой крестик – и робко, удивляясь себе, сознался, что даже поцеловал ее…
Екатерина расчувствовалась и немножко всплакнула от романтической истории юнкера.
– В следующем году вы станете офицером, мон шер, и я обязательно составлю ваше знакомство с Машенькой, а перед этим нанесу им визит и познакомлюсь сама.
Она была счастлива, что до отъезда в деревню займется делом, которое хоть немного заполнит время и развлечет ее.
– Если Ромашов узнает, чей я сын, он меня и на порог не пустит, – грустно произнес Максим, благоговейно приложив ладонь к золотому крестику.
– Там увидим, мой милый! Гвардейского корнета и друга княгини Голицыной выставить из дома?! Да кому? Какому-то худородному генералишке?.. Шалишь! – припечатала она нежный кулачок о крышку стола.
Максим даже рассмеялся – такой у княгини был грозный вид.
Через секунду, успокоившись, улыбнулась и она: «Эх, юность, юность! – завистливо вздохнула Голицына. – Когда-то и меня бросало в жар от единого лишь прикосновения к доломану князя Петра…»
Между тем была она всего на десяток лет старше Рубанова.
Не откладывая в долгий ящик встречу, княгиня отправилась на аудиенцию к генералу Ромашову.
Только что отгуляла Масленица, и усталые после многочисленных торжеств господа отдыхали по домам, не ожидая гостей и отпиваясь квасом… Русские любят погулять!..
На стук княжеского слуги долго не открывали, наконец, дверь распахнулась, и выглянула глупая толстая рожа в пушистых бакенбардах и с подбитым глазом. Княгиня не знала, что этому лакею вечно не везет на маскарадах, и была удивлена, думая, что генерал самолично бьет слуг.
«Та еще штучка! – прикинула она. – Пожалуй, прав был Максим… с этим солдафоном придется повозиться…»
Но Ромашов оказался сама любезность. Надолго припав к ручке княгини и обдав ее запахом многодневного перегара, который не удавалось отбить даже дорогому одеколону, он ловко по-французски шептал комплименты и, наконец, повел свою гостью в гостиную.
– Очень рад! Очень рад знакомству. Не знаю, чем заслужил у судьбы столь дорогой мне визит, – без умолку тараторил он. – Для меня большая честь принимать у себя не только прекрасную даму, но к тому же княгиню Голицыну… – Хотел еще раз приложиться к душистой ручке, но не решился и, чтобы скрыть смущение, приказал огромному пожилому лакею накрывать на стол, а перед этим пригласить сюда дочь.
Екатерина тяжело вздохнула, окинув взглядом свою талию. «Опять есть! – подумала она. – Я и так ужасно располнела на блинах, но игра стоит свеч…» – Забывшись, по-гусарски щелкнула пальцами.
Ромашов, пытаясь скрыть удивление, взглянул на нее. Не растерявшись, она велела лакею принести попить и благосклонно улыбнулась генералу. «Какая женщина! – восхитился тот. – Вот он, высший свет… знают себе цену и не теряются в любой обстановке. Как было бы здорово, ежели бы она приняла участие в моей девочке…» – подумал Ромашов.
– Владимир Платонович, – обратилась к нему Голицына, – мы с мужем имели счастье увидеть вас с дочерью на балу в Зимнем и непременно решили нанести визит столь заслуженному генералу, но увы, муж не успел – служба!..
– Понимаю, понимаю… – млел Ромашов.
– …Так вот и пришлось делать визит одной, – закончила она мысль.
– Господи! – поднялся с кресла генерал. – Это для меня великая честь, величайшая… – чуть не прослезился он. – Машенька, Мари, да где же ты? – чтобы скрыть смущение, зычно закричал Ромашов и покраснел от своей неловкости.
«Солдафон, он и есть солдафон, хоть ему фельдмаршала присвой!» – подумала княгиня, очаровательно улыбнувшись вошедшей простоволосой белокурой девочке в домашнем шелковом платьице.
– Позвольте представить вам мою дочь! – облегченно произнес генерал.
– Мари! Вы почему не одеты? – строго спросил он, обращаясь однако к сухой гувернантке, стоявшей позади дочери.
«Обыкновенный мужлан!– сделала вывод Голицына. – Ничего не понимающий в приличиях…» – и, подойдя к девочке, положила ей на плечо руку, та попыталась сделать книксен, засмущавшись под взглядом княгини.
«В свое время она превратится в замечательную красавицу – украшение салонов!» – подумала Екатерина и поцеловала девочку в лоб.
– Относительно дочери и ее родителя совершенно с вами согласна, мон шер! – делилась впечатлением от первой встречи Голицына.
Максим с упоением слушал ее.
– Мари действительно вам понравилась? – в волнении задергал щекой с черной родинкой.
«Господи! Какой он, в сущности, еще ребенок…» – ласково подумала княгиня.
– Да, мой Ромео! Ваша избранница очаровательна и обещает в недалеком будущем превратиться в пленительную фею… А батюшка ее и взаправду заурядный, вульгарный и бестактный тип!
Максим в замешательстве обернулся, пытаясь увидеть этого самого «Ромеу», чем привел княгиню в веселое настроение.
– Это вы – Ромео, мой дружок! – подойдя к стеллажу с книгами, она достала с полки небольшой томик в телячьем переплете и изящно раскрыла на нужной странице. – Сочинение английского драматурга господина Шекспира, – протянула книгу Рубанову. – Настоятельно рекомендую прочитать!
«И вообще я займусь вашим воспитанием…» – решила она.
– Помимо кутежей и гусарства гвардейский офицер должен свободно говорить по-французски, прекрасно танцевать и непринужденно чувствовать себя в салоне, то есть уметь сказать даме приятное, а для этого вам предстоит много прочесть! – Уверенная рука ее широким жестом охватила ряды книг. – Вы должны знать, когда и кому следует поклониться, и успеть в нужный момент подхватить оброненный платок… Ваша родная казарма этому не научит, следовательно, стану учить я! Надеюсь, вы согласны? – после небольшой паузы, нахмурившись в ожидании, произнесла она.
– Право! Я даже не смел просить об этом… – запинаясь, произнес юнкер, принимая книгу из рук княгини.
На секунду он задержал ее руку в своих и вдруг благодарно припал к ней губами. Расчувствовавшись, княгиня погладила его светлые волосы и по-матерински поцеловала их. «Как жаль, что у меня нет своих детей!» – вздохнула она.
Весенний переход под Стрельну как всегда обрадовал конногвардейцев. Как и весь полк, юнкера были оживлены и веселы.
– Опять к вдовушке? – поинтересовался у Оболенского Максим.
– Ну уж нет! – сунул тот янтарный чубук в рот и через минуту блаженно выдохнул облако дыма, в котором запросто можно было бы замаскировать взвод кирасир. – Что-нибудь попроще подберем…
Домик юнкера сняли не в Стрельне, а в близлежащей деревушке, подальше от бдительного ока Вебера и купеческой вдовы с дочерями. Но как оказалось, насчет женщин беспокоились напрасно. Зимой вдова и дочери поочередно выскочили замуж… Дочки покинули Стрельну, а их мамаша, забросив скобяную торговлю, заправляла в трактире под названием «Жареная курица».
Двое дядек поселились по соседству с молодыми конногвардейцами, а Шалфеев снял угол в Стрельне, поближе к прошлогодней молодке, на чем и погорел… В конце июля уже играли свадьбу.
Перепивший вахмистр все приставал к жениху насчет какого-то рапорта, а в самом конце гуляния грозился невесте самолично проверить… Правда, никто из гостей ничего не понял, а спекшегося вахмистра положили спать на. попоне, в саду под яблоней.
– Даже пьяненький о службе думает! – хвалили начальника кирасиры. – Вишь чего, и у невесты выправку аль амуницию проверить желат… А Шалфеев – ерой! Вон каку видну кралю царским носом унюхал! – смеялись они.
Рубанов подарил своему дядьке последние пятьдесят рублей. Оболенский и Нарышкин – по такой же сумме.
– На обзаведенье по первости хватит! – радостно наложила руку на деньги вновь испеченная Шалфеева.
– Что, брат! – ржали гвардейцы. – Самого главного командёра на шею себе посадил…
После свадьбы эстандарт-юнкера стряхнули пыль с уставов и принялись вспоминать, что они когда-то читали.
– Братцы, а я кроме названия ничего не помню! – затосковал Оболенский. – Похоже, не бывать мне корнетом…
– Полагаю, тебе сразу подпоручика дадут! – успокаивал его Рубанов.
– До вахмистра бы дослужиться! – безнадежно вздыхал князь.
Нарышкин не отвлекался на пустые разговоры и усердно грыз военную науку.
Через несколько дней юнкера сдавали один из главнейших в своей жизни экзаменов.
«Ротмистр в ужасном настроении – не сдадим!» – паниковали они.
Будто случайно за день до экзамена в Красном появился папà Оболенского и о чем-то долго совещался с бароном. Отпрыска в этот приезд он игнорировал и денег не дал ни гроша, чтобы любимый сынуля хоть на экзамен явился трезвым.
Рубанова догнало письмо от княгини – с курьером привезли из Стрельны. В письме она настоятельно просила посетить в Петербурге ее дом. «Зачем? – недоумевал Максим. – Может, собирается пораньше из деревни приехать?»
На экзамене решили присутствовать сам командир Конного полка Янкович, весь прошлый год воевавший со шведами в армии Буксгевдена, исполнявший обязанности командира Арсеньев и какой-то штабной чин.
– Все! Крышка! Тут даже моему ангелу-хранителю не совладать… – опустил руки Оболенский.
– Конечно не совладает, потому как вечно с похмелья у тебя! Прости господи мою душу грешную, – перекрестился Максим.
Оболенский неожиданно обиделся за своего ангела, а Нарышкин, напротив, развеселился, представив страждущего херувима.
Но княжеский ангел, как всегда, оказался на высоте… Вечером к юнкерам зашел Вайцман и, строго настроив их на завтрашний экзамен, подал Оболенскому листок с тремя вопросами и ответами на них.
– Чтобы к утру знали, как «Отче наш», – уходя, распорядился он, – а то опять опозоримся перед командирами.
На следующий день полковник Арсеньев до седьмого пота гонял Рубанова и Нарышкина по уставам, проверяя их знания, и выдохся вместе с ними, не задав князю ни единого вопроса.
Григорий Оболенский бодро ответил на три заданных ротмистром вопроса, заслужив благосклонную улыбку полковника, и теория на этом закончилась. В практических же вопросах – скачке, рубке, стрельбе и прочем – князь не уступал своим друзьям, а может, был и лучше их. Молодые кирасиры стали уже бравыми вояками на втором году царской службы!
Словом, 19 августа приказом по полку эстандарт-юнкерам присвоили первое офицерское звание – стали они корнетами русской гвардии! Прослезившийся папа Оболенского не пожалел денег, и по приезде в Петербург целую неделю корнеты ныряли из кабака в кабак, обмывая офицерские погоны, пришитые дядьками на их юнкерские колеты.
В «Храбром гренадере» встретились с такими же счастливыми кавалергардами, тоже в офицерских погонах.
– Господа офицеры! – орали они. – Пьем за ваше здоровье!..
Из кабаков шли в рестораны, после них в гости к Оболенскому, благо всем им до середины ноября предоставили отпуска. Через неделю приехавший из Москвы отец Нарышкина, с помощью слуг погрузив сына в возок, увез его домой. Папа Оболенского, тоже с помощью слуг, взгромоздил наследника на вместительный дормез, запряженный шестериком, и отправил похмеляться в деревню. Кавалергарды разъехались по своей родне, а оставшийся в одиночестве Максим решил отправиться в Рубановку. Перед отъездом наведался в голицынский дом.
Княгини там, разумеется, не оказалось, но старый хромой, слепой и глухой лакей, щеголявший в барском парчовом халате, подал ему еще одно письмо и сто рублей от князя Петра. В письме княгиня поздравляла с офицерским чином и просила посетить указанный адрес, чтобы снять мерку для новой офицерской формы, которую к ноябрю и пошьют. После этого приглашала к себе в имение. Кликнув недовольного лакея, слава Богу, он находился в соседней комнате, Максим велел принести перо и бумагу. Быстро написав княгине благодарственное письмо, сообщил о своем отъезде в Рубановку. Снять мерку у француза портного он все же не поленился и затем направился в канцелярию лейб-гвардии Конного полка, где получил подорожную и деньги.
16
На следующее утро почтовая тройка миновала Поцелуев мост и мимо Морского собора и Никольского рынка повезла Максима к заставе. Проезжая рынок, он внимательно поглядел, нет ли у ворот знакомой ведьмы…
Когда неспешно тряслись по набережной Фонтанки, почтовому ямщику надоело молчать, и он стал занимать корнета рассказами, что тоже не лыком шит и в свое время скакал с экстрапочтой в Москву и Киев с саблей и рожком на боку. Поведал, что имеет медаль за то, что отбился от лихих разбойничков в лесу под Москвой.
– Деньжищ в запечатанных мешках везли – страсть! И, кабы не кони, валяться бы мне в овраге с пробитой башкой… И брат мой почтарем был, – рассказывал он, – сейчас пенсию получает за двадцать лет непорочной службы и увечье, на оной нажитое, – двенадцать рублев в треть, то есть трешницу в месяц. Не больно-то, господин офицер, разживесси с такими деньгами…
Максим охлопал свои карманы, набитые ассигнациями.
Пока проехали половину прогона, он досконально знал, сколько взыскивают на почте за каждый лот веса посылки и чем отличается легкая почта от тяжелой.
Погода стояла прекрасная – конец августа радовал теплом и солнцем. Максим любовался желтеющими деревьями и ясной голубой далью с его Рубановкой где-то там, в необъятном просторе. Возок подскакивал на ухабах и рытвинах, поскрипывая плохо смазанными колесами. В пол-уха слушая ямщика, Рубанов попытался насвистывать марш Конного полка, задумавшись, что ждет его там, впереди… и не только в деревне, а еще дальше…
Пыльная дорога, цепляясь за колеса кочками и ухабами, все же уходила назад. Лошади плелись кое-как, временами фыркая, прядая ушами и тряся головами, казалось, что они тоже слушают хозяйские байки и иногда соглашаются с ними, иногда нет.
Проезжая какую-то деревушку, ямщик остановился у избы с подслеповатыми окошками и долго переругивался с вышедшим босым бородатым мужиком. Потом они поили лошадей и пригласили Максима отобедать чем бог послал. Бородатый оказался кумом ямщика. Рубанов дал им полтину, и кум помчался за водкой.
В соседнем дворе раздавался звук топора, тешущего дерево, и слышался мужской голос, негромко напевающий песню. Пить Максим не стал, а, быстро пообедав, вышел во двор и, устроившись в тенечке, задремал.
Запрягли лошадей лишь под вечер и по прохладе тронулись дальше. «Не скоро я эдак-то домой попаду!» – рассуждал Максим, поторапливая ямщика.
– Не сумлевайтесь! – клевал тот после выпивки носом. – Довезем куды следоват…
Закатившееся солнце сменила жирная наглая луна. Приятный вечерний ветерок нежно охлаждал разгоряченную за день дорогу и усталых путешественников. Поздно ночью, проделав один прогон, подъехали к дому смотрителя.
– Какие лошади!..– отчаянно замахал руками вышедший на крыльцо станционный смотритель, плутоватым глазом кося на карман Рубанова. – Какие лошади, ваше благородие? – вопил он. – Вчерась важный енерал в Москву проехать изволили, раз! – Стал загибать пальцы. – Днем трех уполковников в Петербурх отправил, да у меня некоторые – вторые сутки сидят – и ничего… молчат! А вы – лошадей!.. – Опять хитро поглядел на рубановский карман.
Вздохнув и ничего не сказав смотрителю, Максим пошел в дом, заметив несколько незаложенных дорожных экипажей, стоящих в просторном дворе с распахнутыми настежь воротами. В доме Максим сделал еще одну слабую попытку раздобыть лошадей, сунув в руки смотрителю свернутую подорожную. Не поняв, тот обрадовался, но разглядев, что это не деньги, сурово произнес, уходя в другую комнату:
– Нет лошадей! И не скоро будут.
Аккуратно убрав бумагу в карман, Максим огляделся, поняв, что ночевать придется здесь. Станционный дом был вместительный, деревянный и старый. Из сеней Максим прошел в залу, где около десятка проезжих ели, пили, курили и разговаривали. Огромный самовар стоял на внушительном, крепко сколоченном столе. На потертых диванах спало несколько человек. Комната была заставлена баулами, чемоданами и корзинами. Растерявшись, Рубанов остановился посредине, не зная, куда пойти. Внимания на него никто не обратил. Из соседней комнаты появился смотритель и, лавируя между поклажами, направился к нему и взял под руку.
– Ваше благородие в «генеральскую» приглашают! – произнес он, подталкивая Максима к облупленной двери. – Лошадей-то все равно нет, – на всякий случай добавил он, с поклоном отворяя дверь.
Представшая перед глазами зальца была маленькой, но зато опрятной и чистой, без клади на полу и даже почти без мух. На окнах висели занавески, полы были чисто вымыты, и пыль с крашеного шкапа и письменного стола красного дерева стерта. Небольшой круглый столик, покрытый скатертью и окруженный стульями, стоял посреди комнаты. У стен друг против друга находились два приличных на вид дивана. На одном из них сидел не старый еще, но абсолютно лысый мужчина в белой рубашке. Его отекшее лицо с маленькими, бегающими по сторонам глазками повернулось к Максиму. На одном из стульев висел семеновский мундир с капитанскими эполетами.
– Располагайтесь, корнет! – радушно пригласил хозяин мягким, приятным голосом. – А ты, братец, быстро принеси-ка самовар и водки, – велел он смотрителю.
Низко поклонившись, тот кинулся выполнять приказ.
Максим расположился на другом диване и независимо забросил ногу на ногу, подумав, что благодаря офицерским погонам вон какие люди с ним на равных разговаривают.
– А позвольте спросить, – обратился к нему капитан, поднимаясь с дивана, – куда вы держите путь, молодой человек?
Максим ответил.
Дверь раскрылась и, неся самовар, ввалился смотритель. Следом вошла пожилая женщина и молча поставила на стол чистые чашки, хлеб и бутылку водки.
– Сейчас принесу ужин, – уходя, пообещала она.
За ужином представились друг другу и разговорились. Капитан просил называть его Николя и рассказал, что едет в штаб одной из пехотных дивизий.
– Часть пути можем проехать вместе, – заявил он. – Утром смотритель обещал лошадей.
Максиму хотелось спать, но было неловко бросить разговор и словоохотливого семеновца.
– А не хотите ли в картишки? – предложил тот, откуда-то достав и мастерски тасуя колоду. – Нет-нет, по маленькой… – перебил попытавшегося отказаться корнета. – Всего полчасика, а затем спать! – успокоил Рубанова своим мягким, приятным голосом. Лысина его блестела от пота.
– Ну разве ежели в фараона,[11] – вздохнув и сонно хлопая глазами, дал согласие Максим.
– Прекрасно, прекрасно! – засуетился капитан, пересаживаясь за круглый стол и взглядом приглашая корнета располагаться напротив. Карты мелькали в его руках…
Через час в бумажник семеновца перекочевали сто рублей, полученные Рубановым от князя, и часть его подорожных. После этого сон покинул Максима, и он мрачно лежал на диване, вслушиваясь в храп семёновца. «И надо мне было в эти карты играть?! Осталось всего три червонца…» До утра заснуть так и не сумел.
Рано утром смотритель лично принес офицерам самовар и доложил, что лошади запряжены, при этом хитро глянул на Рубанова. Капитан сдержал слово, взяв юного корнета, и даже угощал на станциях шампанским за его же проигранные деньги.
Последнюю часть пути Максим проделал один.
Родные места не произвели на него ни малейшего впечатления – ни одна струнка не заиграла в душе и сердце не замерло от нежности и восхищения. Безразлично окинул он белеющую на пригорке Покровскую церковь и без всякого интереса медленно протащился по Чернавке, пропахшей скошенным сеном и хлебом.
В отместку Максиму и мрачному, под стать его настроению, ямщику местные собаки не отреагировали почетным лаем на приезд столь долгожданного гостя и, лежа в пыли у ворот и калиток, тяжело поводили лохматыми боками, безразличным взглядом провожая возок.
Рубановка встретила своего властелина тишиной, безлюдьем и неприглядностью покосившихся черных избушек.
«Где народ-то, в поле, что ли? – удивился Максим. – Даже собак не видно… Все-таки бедная у меня деревенька! – загрустил он, проезжая мимо домишек по выбитой дороге, поросшей по краям пыльным подорожником. На соломенной крыше одного из домов заметил тощего рыжего кота, осторожно выглядывающего из выкопанной им норки. Так же осторожно смотрел на него древний дед, загородившись от солнца рукой и щуря слезившиеся глаза.
«Ладно, потом разберемся! – проехал деревню Максим. – Раньше люди веселее были, всякие "симуси" попадались, а нынче, кроме кота и задрипанного дедушки, – ни души…» – пожал он плечами и тут же забыл обо всем, увидев кривые ветви акаций и крышу старого дворянского дома. Вот в этот-то момент сердце его радостно забилось, и он счастливо вздохнул, скосив глаза на свои эполеты. «То-то матушка обрадуется!.. – въезжая под арку с единицей и семеркой, подумал он. Заметил валявшуюся решетку от ворот. – Не удосужились за полтора года починить…»
– Т-п-р-у-у! – завопил, словно его режут, ямщик и уставился на крыльцо.
«Ага! Сейчас ему со штофом водки выбежали!..» – Вылез Максим из возка.
– Эх-хе-хе! – с кряхтением спрыгнул с козел кучер и стал разминать ноги, с надеждой поглядывая то на барина, то на крыльцо.
– Максимка! Ваше благородие! – услышал он за спиной и обернулся, увидев худого мужика в рваных портах и рубахе.
– Агафон?! – поразился Максим, с трудом признавая в этом замотанном мужичке здорового ражего кучера.
«Болеет, наверное…» – Кинулся к нему и обнял худую спину, почувствовав выпирающие ребра и острые лопатки.
– Испачкаешься, ваше благородие! – прослезился Агафон, осторожно обнимая барина.
– А что водкой не пахнет? – пошутил Рубанов, краем глаза приметив, как алчно дернулся кадык у привезшего его кучера.
– Какая таперича выпивка! – безнадежно махнул рукой Агафон, отступив на шаг от молодого барина и любуясь им. – Поесть ба в волю!.. – И затрясся, увидев на крыльце мощную мужскую фигуру.
По первости Максим не понял, кто это такой, а узнав, изумленно присвистнул…
– Данила?!
«А этот наоборот, как хряк, разлопался!» – ахнул он, разглядывая, как властное выражение на лице мужика сменилось на испуганное, а затем приняло раболепный вид. Жирная грудь Данилы затряслась, и он молча нырнул обратно в сени.
– Чего это он, а? – уставился на Агафона Максим.
– Чует кошка, чью мясу съела! – философски изрек кучер и стал доставать из возка баулы.
– А ты чего его так испугался?
– А вот подивись, барин! – спустил с плеч рваную рубаху Агафон, и глазам изумленного корнета предстала исполосованная спина. Свежие раны налагались на старые.
– За что это он тебя? – сжал кулаки Максим.
– Власть показывает! Хозяином себя посчитал… – осмелел Агафон, натянув на плечи рубаху. – Лошадей всех продал, кроме одной клячи! – в сердцах воскликнул кучер.
– И моего Гришку?! – глаза Максима белели и наливались яростью.
– Да не только его, крестьян уже начал продавать, а деньги пропивает да в карты проигрывает в Чернавке! А маменька ваша полностью ему потакает, а может, просто боится… – опять схватился за баулы Агафон. – А которых не продал, так тех разорил, – продолжал он, направляясь к крыльцу, – а молодых в солдаты отдает… Я вашей матушке говорю, но она и слушать не желат али ему жалуется… вот спина у меня и драная! – растворив дверь, вошел он в сени.
За ним двинулся и Максим, уговаривая себя сразу не убивать супостата… Приезжий ямщик шел следом и хмурился, жалея Агафона. В доме было темно и пахло чем-то затхлым.
В людской он наткнулся на испуганную пожилую женщину.
– Эта заместо Акулины и Лукерьи, – объяснил Агафон, раскрывая следующую дверь.
Максим оттолкнул его плечом и ступил в комнату – она была пустой. Не глядя по сторонам и опрокинув стоявшее на дороге кресло, он прошел в залу. За столом сидела полная женщина с отечным желтым лицом. Даже в полумраке комнаты он разглядел эту нездоровую желтизну и сетку мелких морщин, которых не было, когда уезжал.
Женщина раскладывала пасьянс. Карты плясали в ее руке.
– Мама! – прошептал Максим, и слезы жалости брызнули из его глаз. – Мама… бросился перед ней на колени и, обняв ее ноги, положил на них голову, на миг почувствовав себя беззащитным и маленьким.
Ольга Николаевна бросила карты на стол и дотронулась вздрагивающими пальцами до белокурых волос сына.
– Максимушка! – бессильно шевельнулись ее губы, и тихие слезы увлажнили бороздки морщин. – Сынок. – Руки нежно гладили и перебирали пряди его волос. – А на него не обижайся, он хороший и любит меня! – шептали ее губы. – Только его никто не понимает, и все его ненавидят… – уже громко говорила она.
Максим удивленно поднял голову.
– И ты ненавидишь его! – уже кричала мать. – Вы все ненавидите…
– Успокойтесь! Успокойтесь, маменька… – гладил ее руки и плечи Максим и заскрипел зубами, заметив небольшой синяк на ее скуле.
Где-то неподалеку раздался звон разбитого стекла и крики.
– Что там? – беспокойно оттолкнула она руки сына. – Ступай погляди. И помни, ежели тронешь его хоть пальцем – ты мне больше не сын… – дохнула перегаром.
Покачав головой, Максим вышел из комнаты.
– Убежал, гад! – размахивая руками, сообщил Агафон. – Не успел я произнести: «Айда к барину, гнида!», как он высадил окно, прокорячился в него аспидом и был таков… Да напоследок меня же ногой в грудь лягнул.
– Тьфу! – сплюнул Максим. – Запрягай оставшуюся клячу… Нет! Во дворе же тройка стоит… На ней и отправляйся в Чернавку к полицмейстеру. Скажешь ему: крепостной в бегах…
– Барин! Лошади туды не дойдут! – услышали голос второго кучера.
– Да-а! Вот еще что… Зайдите в Данилкину комнату, не знаю, где тут она, и угоститесь там чем бог послал… Затем сразу же в Чернавку!
Через полчаса он услышал во дворе веселые голоса мужиков, понукающих лошадей. Не успев проехать под аркой, они уже запели бодрую песню о добром молодце, который, конечно же, служил ямщиком…
– Давай дадим ему вольную! – предложила на следующий день сыну Ольга Николаевна. – И как это я раньше не догадалась? А Данила и не просил…
– Очень бескорыстный человек! – язвительно произнес Максим. – Даже моего Гришку продал, не говоря уж о крестьянах…
Обидчиво поджав губы, Ольга Николаевна ушла в свою комнату.
«Вольную ему! В кандалы его, вора, да в Сибирь… Жалельщица какая!.. – разозлился Максим. – Мне за полтора года копейки не прислала… И даже с офицерским чином не поздравила, все мысли об этом борове. Ну, доберусь до него!..»
– Барин! – робко зашла в комнату пожилая служанка и поклонилась в пояс. – Старики нашенские там вас спрашивают, – неопределенно махнула она рукой.
– Проси их сюда! – гордо сел он в кресло и закинул ногу на ногу, затем, неожиданно разволновавшись, встал и прошелся по комнате.
Заслышав шаги, снова уселся в кресло и картинно оперся щекой о ладонь.
Постучав в дверь и тихонько покхекав для приличия, в комнату вошли четыре деда и дружно закрестились на образа, затем степенно поклонились Рубанову. Среди парламентеров Максим увидел и вчерашнего дедушку. Следом за ними вошла и встала у стены, прижавшись к ней спиной, пожилая служанка.
«А этой-то чего надо?» – подумал Максим, но выпроводить ее из комнаты не решился. Старики, поглаживая седые бороды, глядели на него. Максиму неуютно стало под их взглядом, и он переменил положение, усевшись прямо и вытянув ноги. Молчание затянулось.
Наконец вчерашний дедушка, негромко прокашлявшись, надтреснутым голосом произнес:
– Здравия тебе, ваше благородие, и долгих лет жизни!.. – Вопросительно глянув на Рубанова, подождал минутку, приставив широкую ладонь к такому же по величине уху и, ничего не услышав в ответ, потоптавшись новыми лаптями на месте, продолжил: – Обчество велело вам кланяться и просило заступиться… совсем замучил окаянный Данилка! Житья не дает… – хотел он высморкаться, но передумал.
– Дочку мою с домочадцами продал! – срывающимся голосом произнес другой старик, и выцветшие от долгих годов, горячего солнца и буйного ветра глаза его увлажнились. – Один остался таперя…
– А моего единственного сынка в некруты велел отдать! Скоро заберут мою кровинушку… – сложив руки под грудью, в голос заревела служанка, перебив старика, и рухнула на колени перед Максимом.
– Цыц ты, неразумная баба! – стукнул дед корявой клюкой об пол.
«Из акации, похоже, вырезал, – подумал Максим, непроизвольно поднимаясь с кресла. – Душу из борова вытрясу, как поймают!» – Злоба закипала в сердце, и он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться.
Неожиданно резко распахнулась дверь, ударившись фигурной бронзовой ручкой о стену, и в комнату влетела запыхавшаяся барыня.
– Жаловаться пришли! Мало вам кнутов было… – визгливым неприятным голосом завопила она. – Только и ждете, воронье, чтоб его не стало… Так и кружите над ним. Ужо назначу Данилу старостой… Гони их в шею! – повернула она разъяренное лицо к сыну, и слова замерли у нее на губах… Такой дикой ненависти, как в родных сыновьих глазах, она в своей жизни еще не видела.
Дрожь прошла по ее телу, и Ольга Николаевна вся сжалась, словно от удара, поняв, что потеряла не только любовника, но и сына…
Зябко передернув плечами и ссутулившись, она медленно вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.
– На улицу выходить боимси… – продолжил вчерашний дед.
«…Вдруг Данилке на глаза попадесси… и он изгиляться зачнет», – долго еще перечисляли они свои горести и обиды.
Давно так тоскливо и муторно не было на сердце Рубанова.
«Господи! – думал он. – Неужели мать не видела, с кем живет?.. Почему смерть отца ничему ее не научила?! – С силой сжал он кулаки, проткнув ногтями кожу ладоней. – Ну почему, почему у меня такая мать?.. – Мерил он комнату шагами, отпустив крестьян и пообещав во всем разобраться.
«В рекруты парня, конечно, не отдам, – рассуждал Максим, пытаясь не думать о матери, – а проданных выкупить не на что!.. Ну, Данилка!.. Твое счастье, что убежал…» – скрипнул он зубами.
Ближе к вечеру пожилая служанка, в пояс поклонившись Рубанову, доложила о приходе гостьи.
– Чего ты все кланяешься?! Сказал тебе, сына оставлю, значит оставлю… Не война чай! – Скорбно сжатый рот женщины медленно, словно нехотя, растянулся в благодарной улыбке. – Да кто там еще?
– Нянька вашенская пожаловали… – расправила она передник.
– Лукерья?! – обрадовался Максим. – Да что же она в дом не идет?.. – Побежал он навстречу, распахивая двери.
В седенькой сгорбленной старушке, робко стоявшей перед крыльцом, он не сразу узнал властную и уверенную в себе домоправительницу и няньку, какой запомнил ее перед отъездом в Петербург. И лишь когда она напряженно глянула на тонкую высокую фигуру в белом колете и увидела радостно заблестевшие глаза и расплывшийся в счастливой улыбке детский еще рот, безмерная любовь сделала ее прежней – той, которой она была полтора года назад.
Протянув руки, Максим бросился к ней, сжав в объятиях и разобрав в ее бормотании одно лишь слово: «Внучек…»
– Дай-ка я погляжу, каким ты стал! – отстранившись от него после первых объятий и поцелуев, произнесла Лукерья и всплеснула руками, с гордостью и нежностью разглядывая подтянутую фигуру в военной форме. – Вылитый отец! Только росточком повыше… – разгладила видимую лишь ей складку на колете и тут же сникла, потупив глаза и съежившись. Удивившись, Максим обернулся, успев заметить в проеме двери бледное лицо матери.
– Чего же мы в дом не идем, нянюшка? – взял ее за руку и, преодолев слабое сопротивление, повел в комнаты, шутливо рассуждая по пути, какая она стала важная дама, коль о ее приходе официально докладывают…
– Станешь тут «важной», ежели Данилка в шею однажды вытолкал, а дочка промолчала, – тихонько произнесла она, с тревогой поглядывая на дверь.
– В бегах твой Данилка!.. – зло грохнул кулаком по столу Максим. – Поймаю – душу из подлеца вытрясу! А эта ему во всем потакала!.. – в бешенстве кивнул куда-то в пространство.
– Максимушка… – отшатнулась старушка. – Грех так о матери говорить. – Перекрестила его, затем покрестилась сама и, подойдя к столу, поставила упавший канделябр и вставила в него обгоревшую свечу. – Не надо уподобляться этому злыдню! – Стряхнула восковые крошки со скатерти и села на краешек стула, сложив усталые морщинистые руки на коленях. – Расскажи, как там в Петербурхе? – с любопытством произнесла она. – Тяжело, поди, ученье далось…
– Не просто без твоих пирожков было! – весело засмеялся Максим, усаживаясь напротив.
– А мать не вини! – попросила старушка. – Запуталась она, а помочь некому…
Их разговор прервали громкие мужские голоса, раздавшиеся во дворе и ясно слышимые сквозь раскрытые окна.
– Это Агафон с задания прибыл, – улыбнулся Максим. – Со вчерашнего дня якобы Данилку ловит, а сам, скорее всего, в кабаке с новым другом просидел. Пойду расспрошу.
– Ваша благородия, полиц… лиц… клистеру доложено! Меры, грит, будут приняты, беглеца, грит, непременно пумают и сюда предоставят! – отрапортовал Агафон, раскачиваясь, словно лошадиный хвост.
«Услышь его полицмейстер, за "клистера" точно потянул бы к ответу…» – усмехнулся про себя Рубанов.
– Мы его всю ночь искали! – икнул заезжий ямщик. – Как он посмел маво друга в пузо лягнуть?.. А-а?
– И ни в одном кабаке не нашли? – улыбнулся Максим, случайно разглядев за занавеской окна тут же скрывшееся белое материнское лицо. «Переживает!..» – брезгливо подумал о ней.
– Никак нет! Господин корнет! – отдал честь ямщик. – А вдруг ворог опять в своей комнате прячется? – сделал он умозаключение.
– Точно! – поддержал его Агафон. – Следоват там поискать…
– Лукерья поищет и на похмелье завтра вынесет, а сейчас – спать. – Повернулся и прошел по-хозяйски в дом.
– Да как я останусь? – перепугалась старушка. – Барыня велели в деревне жить…
– Нянюшка, а как же я без твоих щей и пирогов? – подхалимским голосом произнес Максим. – А матушку уговорим, – уже строго сказал он.
Утром погода испортилась. Небо затянуло тучами, и пошел мелкий дождь. Максим вышел на крыльцо и подставил руку теплой влаге. Дождь тихонько, словно кот, шелестел и корябал по крыше, осторожно, редкими пока каплями, срывался оттуда на землю и растворялся в ее пересохшем от жажды теле.
«Пора поклониться отцу! – решил Рубанов, проходя в дом за плащом. – Вчера надо было, да все некогда».
Привезший его ямщик запрягал лошадей и довольно рыгал после обильного завтрака. Похмелившийся Агафон активно помогал ему.
«Туда доеду на тройке, а оттуда прогуляюсь пешком…»
Потемневший крест чуть накренился к земле, притаившись под сенью могучих дубов и лип. Дождь не успел еще пропитать землю, лишь прибил пыль и освежил воздух. В наступившей тишине было слышно, как оторвавшийся от ветки лист со вздохом падает на землю, укрывая холмики и тех, кто лежит под ними, от будущих морозов.
Максим сосредоточился на прибитой к кресту доске с чередою букв. Замерев в задумчивости, он разглядывал ряд магических цифр, последние из которых так стремятся узнать у гадальщиц-цыганок.
«Зачем? Ведь, должно быть, страшно жить, ежели узнаешь последние цифры…»
Где-то далеко-далеко над полями проплыл прощальный журавлиный крик… И все замерло… Лишь капли дождя ласково гладили листья. «Как все тихо и торжественно… Так бывает лишь на кладбище и в церкви!» – подумал Максим, и неожиданно слезы навернулись на глаза.
Подправив крест и утрамбовав под ним землю каблуком ботфорта, он медленно шел по желтеющей липовой аллее, когда вдалеке на дороге послышались стук копыт и поскрипывание колес.
Без любопытства глянул на бричку с двумя седоками. От раздумий его отвлекла тишина – не стало слышно цокота и скрипа. Он снова взглянул на бричку и с удивлением отметил, что она стоит как раз на перекрестье аллеи с дорогой. Две запряженных лошади беспокойно встряхивали гривой, а третий жеребец, понуро опустивший голову, был привязан сзади. Двое седоков, в свою очередь, внимательно глядели на Рубанова, затем зашумели, и один из них, выпрыгнув, побежал к нему навстречу.
– Твое благородие! – орал он, тряся рыжей гривой и улыбаясь во весь рот.
«Кешка!» – удивился Максим и радостно ринулся навстречу.
– Во, брат, какой ты важный стал! – уважительно разглядывал друга Кешка и тер мужицкой уже ладонью усыпанный веснушками лоб. – А мы с дедом как услышали, что приехал, враз собрались тебя навестить. – Обняв Максима за плечи, повел его к бричке. – Тятьку наведал?! Молодец! Деда тоже недавно к нему приезжал… вишь, руками машет, невтерпеж старому с тобой обняться.
Изот, не выдержав, вывалился из брички и заковылял к Рубанову.
– Ну ерой! Вылитый отец!.. – на ходу вопил он и, подбежав, повис на Максиме. – Думал… уж не свидимся, – утирал он слезы. – А я к тебе с подарочком… – указал на привязанного к бричке жеребца. – Данила, сукин кот, хозяйство распродавать начал, я у него и откупил… Твой конек-то.
Максим обернулся. Привязанный к бричке жеребец бил копытом. Затем, подняв голову и кося глазом на людей, беспокойно заржал.
– Подь, подь к нему! – подтолкнул Рубанова лесник. – Вишь, радуется! Хозяина признал…
– Гришка! – кинулся к коню Максим и прижался щекой к бархатистой конской шее, теребя рукой жесткую гриву.
– Накось его хлебцем угости! – протянул посоленную горбушку запасливый Изот, пошивырявшись в бричке.
– А от меня седло! – тоже полез в бричку Кешка. – Специально для тебя на ярмонке выбирал…
– Ну спасибо! Ну уважили!– целовал по очереди деда с внуком Максим. – Теперь я ваш должник…
– Да чего там! – махнул рукой Кешка.
– Сочтемся! – недовольно поглядел на внука дед. – Свои люди… – ласково, но с хитринкой улыбнулся Рубанову.
Тот уже седлал вороного. К господскому дому Максим прискакал верхом на взмыленном скакуне.
– Застоялся у лесника, – бросил поводья изумленному Агафону.
– Батюшки! Да ведь это же наш Гришка… – обрадовался тот.
– Нянюшка. Готовь на стол, сейчас гости пожалуют! – вбежал в дом счастливый Максим.
Ели молча. Дед с внуком чинно сидели за столом и аккуратно подставляли под ложку со щами кусок хлеба – не дай бог прольется на скатерть. Барыня к гостям не вышла.
– Скусные щи Лукерья готовит! – произнес дед при виде вошедшей в комнату няньки.
– Садитесь с нами, бабушка, – предложил Максим.
– Благодарствую, – ответила старушка, но сесть за стол отказалась.
– Ну что, Иннокентий! – разливал водку по стаканам Максим. – Ни разу мы с тобой еще не выпивали…
– И правильно делали! – чуть не хором воскликнули лесник с нянькой.
– Молодые ишшо пить-то! – закончила Лукерья, рассмешив Максима.
«Гришка столько воды не выпил, сколь я пшеничной!» – подумал он. – Ну, молодые не молодые, а за встречу надо, – протянул стакан другу. – Давай, Кешка, – бодро вылил в себя содержимое.
– Тьфу-ты, прости господи, словно воду сглонул… – вышла из комнаты старая мамка.
– Гликось, как в столице научился… по-гвардейски! – то ли похвалил, то ли осудил дед. – Главное, голову не потерять, – поглядел он на дверь в барские покои, – как Данилка, – закончил свою мысль.
Максим покраснел, подумав о матери.
– А то ведь все пропивать начал, совсем деревеньку разорил… уже и до людишек добрался, – разговорился Изот Михеевич, забыв о том, что барыня может услышать. – Староста было воспротивился, так и его продали… Правда, ему туда и дорога – не умел хозяйствовать! Данилка куражился, а тот баловал, что одинаково вредно. Мужика надо держать в узде… и в сытости, конечно… тогда и работу с него можно потребовать. Мужик должон власть уважать и бояться… – стукнул кулаком по столу охмелевший лесник. – А вот, ваше благородие, рискни и меня старостой поставь, – забросил он пробный камень, – враз хозяйство подыму! У меня не забалуешь! Нет! – сжал он маленький веснушчатый кулачок и поглядел на Максима.
– Хозяйственный-то ты хозяйственный! – Поставила на стол чугунок с вареной уткой нянька. – Но язык у тебя – что помело… Брешешь, чего не следоват!..
– Эт чего же я брешу?! – взвился лесник, но вспомнив отца Максима, прикусил язык. – Быват иногда! – повинился он. – Но недоимков бы у меня не было! И на погоду бы я не кивал, что вечно не такая, как надо, потому и урожая нет. Данилка тоже ко мне подкатывал, – сменил тему дед Изот.
Максим с Кешкой под стариковский разговор вытянули еще по стакану…
… – То ему лесу отдай, то он сам кому-то там продаст… Но этот подлец мне не указ! Он крепостной, а я свободный… А приехал еще на твоем коньке, – обернул разгоряченное лицо к Максиму, но не увидел его – до такой степени ушел в недавние воспоминания. – Давай, грит, мне лес! Барыня велела… – А письма от Ольги Николаевны никакого не привез. И вот, каналья, коню удилами губы рвет, гарцует предо мной, быдто енерал, а я возьми его за ногу, вора, и скинь с коня! – подскочил лесник и показал руками, как ловко он это проделал. – Данилка и шлепнись об землю башкой, – засмеялся он. – Но земле-то что, даже не примялась, а энтот черт на меня кинулся… Спасибо, сынки и внучек недалеко были… Мигом сему хряку в шею наклали! Ишь!.. Удумал, холоп! На меня, екатерининского солдата руку поднять. Не тут-то было! – торжественно засипел дед. – А пошто ты, хам, на барском коньке ездишь, говорю… и по морде его по жирной, и по морде! – сладостно зажмурился Изот Михеевич. – Правда, сынки его, ворюгу, за руки держали, – уточнил он. – Значится, поохаживал его по наглой роже и говорю: «Продай жеребчика, все-равно ведь пропьешь!» – «Сто рублей давай!» – отвечает. Так и пришлось за эту сумму купить! – закончил лесник, усаживаясь на стул, и строго глянул на пытавшегося что-то сказать внука.
– Да! Вам сказал, что за четвертак, – а купил за сто! – уставился на Кешку лесничий и вытер вспотевший лоб. – Упреешь все объяснять… – перевел взгляд на Максима.
– Как деньги будут, обязательно отдам! – уверил тот лесника.
– Обижаешь, барин! – сделал вид, что обиделся, Изот Михеевич. – Подарок это! – прихлопнул ладонью хлебную крошку на столе. – Деньги мне не надо. Сам хочу тебе помочь! Вот ежели старостой поставишь… – мечтательно вздохнул старик, – то и квиты станем!.. И деревеньку подыму…
Поднявшись и заложив руки за спину, Максим прошелся по комнате.
– Поставлю старостой! – произнес он и, выставив вперед ладонь, чтоб остановить собравшегося бухнуться в ноги старика, закончил: – Коль предоставишь мне Данилу!..
Через несколько дней Максим привык к Рубановке и дому, будто и не уезжал на полтора года в далекий и холодный Петербург. Он увлеченно носился на коне по полям и лугам, наблюдая за осенними хозяйственными работами, – вздохнувшие после бегства Данилы крестьяне споро убирали хлеб, косили сено и после Куприянова дня начинали копать картошку.
Иногда к нему присоединялся Кешка, и тогда они, словно дети, мчались наперегонки, пришпоривая коней и вопя во всю глотку от переполнявших их буйных сил. За прошедшее время Кешка вытянулся, на голову перерос мелкорослых деда с отцом и почти сравнялся с Рубановым.
Максим ни разу не принял приглашения местных помещиков посетить их усадьбы, отведать шампанского или поохотиться на зайцев.
На Семен-день любители поохотиться притравливали зайцев – это был первый праздник псарных охотников.
Юный корнет сам не понимал, почему его не тянуло к местной знати: может, опасался косых взглядов и насмешек за спиной по поводу матери, а может, просто стыдился своей бедности – нечем было угостить гостей при ответном визите.
Да он и не скучал… Ему даже приятно было побыть одному после казарменной суеты.
Ольга Николаевна не баловала сына вниманием, а при случайной встрече старалась побыстрее уйти в свои покои. Ели они раздельно и почти не разговаривали. Сначала Максим переживал и делал слабые попытки помириться с матерью, но, видя ее нежелание, а порой даже сопротивление, махнул рукой. К своему удивлению и досаде, он не особо скучал по ней и не ощущал в себе, как в детстве, огромной любви и сыновних чувств.
Зато Ольга Николаевна близко сошлась с нянькой. Та опять сделалась ее наперсницей и чуть ли ни подругой. Они подолгу шептались, вместе молились, упав на колени перед иконами, и вместе плакали о чем-то своем, женском, недоступном Рубанову.
Лукерья попросила барыню взять в прислуги заместо проданной Акульки свою племянницу – на что получила согласие и теперь, как и раньше, заправляла в доме всеми делами.
На Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября, Максим сказал няньке, что посетит ромашовскую церковь и помолится за отца… На самом деле ему хотелось увидеть дом, полюбоваться липовыми аллеями и подышать воздухом его первой любви.
Спускаясь по скользкой после небольшого дождя лестнице вниз к беседке, он внимательно глядел под ноги, чтоб не поскользнуться, а ладонью придерживался за мокрую темную гладь металлических перил.
«Надо же, – хмыкнул он, – буквально два-три года назад за секунду вверх-вниз летал, а теперь осторожным стал… Старость, конечно, не радость! – Подошел он к каменной беседке, опустившей зеленый от мха бок в воду, и погладил влажную колону. – Лучше бы дед дом из камня построил, а беседку – деревянную, – подумал он, – а то через пару лет в нее на жительство перебираться придется, – с тоской посмотрел на другой берег. – Нигде не видел, кроме Рубановки, чтобы оба берега у реки крутыми были, один обязательно пологий.
Все у нас, Рубановых, не как у людей…»
– Сюда! Сюда греби! – замахал Агафону.
То сгибая, то выпрямляя спину, тот бодро заработал веслами на голос и загнал лодку далеко на песок. На этом вся его энергия закончилась. Выпустив весла, он тяжело отдувался и вытирал под носом рукой, удачно используя ее от локтя до кисти.
– Садитесь, барин, – вежливо прохрипел, пытаясь вылезти из лодки.
– Вот те на! – удивился Максим, критически разглядывая Агафона.
– Вторая Пречистая жа! – оправдываясь, развел руки сумевший выбраться из лодки конюх. – Госпожинки… – заплетающимся языком выговорил он, – вот и угостился малость… – скромно потупил голову и рухнул в песок, зацепившись ногой за подлую корягу. – А так, барин, я в норме, – лежа досказал он.
– Хорошо, что вторая, а не восьмая, – перекрестил богохульствующий рот Максим. – Как ты еще коня в лодку не запряг? – сел он за весла.
Агафон ухитрился подняться и уперся руками в смоленый деревянный нос.
– Толкай! Чего замер…
Лодка сдвинулась с песка и плавно вошла в воду. Так же плавно следом за ней нырнул Агафон. Поплевав на ладони, Максим взялся за весла.
– А как же я, барин? – поднялся из воды конюх и своим видом развеселил Рубанова. Огромный зеленый шматок водорослей накрыл его волосы и свешивался на лоб.
– А тебе к водяному надо проситься! – смеялся Максим. Злость на пьяного слугу тут же прошла.
Где-то на середине реки ладони стали гореть, и пот градом катил по лицу. «Чего я спешу-то? – подумал он, скинув с плеч плащ и расстегнув крючки колета. Его белые парадные лосины во многих местах были забрызганы водой. – Следовало серые рейтузы надеть. – Укрыл колени плащом. – Ее-то все равно там нет… – Пошевелил ногами в начищенных ботфортах. Кожаная черная каска с медным налобником покачивалась рядом с ним на лавке. – Все щели законопатил, барин! – подделываясь под голос Агафона, произнес он. – Болтун! Вон воды сколько набралось, будто еще одного мужика везу. – Снова взялся за весла.
К своему удивлению, на ромашовском берегу увидел женщин, окруженных толпой ребятишек. Одна из них, почти старуха, держала в руках овсяный каравай, а молодые вокруг нее неожиданно запели песню, поглядывая то на хлеб, то на приближающуюся лодку.
«Меня, что ли, так торжественно встречают?» – ухмыльнулся Максим и гордо выставил плечо с корнетским эполетом. Течение и весла направили его точнехонько к поющей компании. Молодые девки радостно завизжали, аккуратно приподняв пальцами подолы сарафанов и отпрыгнув от врезавшейся в берег лодки. Глаза их ласкали статного молоденького офицера в такой ладной форме. Пожилая тетка, крепко прижав к сухой груди каравай, злобно уставилась на Максима и, что-то прошептав, видно не совсем доброжелательное, тоже отошла в сторону. Стайка ребятишек, весело переговариваясь, наоборот, придвинулась.
– Кому алтын не помешает? – поднял вверх руку с монетой Рубанов.
– Мне-е!!! – запрыгали пацаны, вскинув руки и толпясь перед ним.
– Тогда, как вернусь, посудина должна быть на месте, а вода в ней отсутствовать, – убрал три копейки в карман, чем очень разочаровал ребят. – Именно так, а не наоборот… – улыбаясь, уточнил Максим, разглядывая женщин.
– Осенины празднуем! – объяснила одна из них. – Осень встречаем…
Взобравшись по выбитой дороге на гору, за гривенник нанял мужика подвезти его к барскому дому.
– Барина с дочкой нет? – с тайной надеждой спросил у извозчика и грустно опустил голову, услышав ответ.
У парка Максим спрыгнул с телеги и, расплатившись с мужиком, встряхнул плащ, на котором сидел, накинул его на плечи. Каску не надел, а сунул под мышку. Легкий ветерок трепал светлые волосы, перебирая пряди и приятно касаясь щек. На секунду Максим прикрыл глаза и представил, что это Ее пальцы ласкают его лицо, затем вытащил золотой крестик и прижался к нему губами, вспоминая не Бога и поклоняясь в эту минуту не Ему…
Пройдя вдоль чугунной решетки забора, он вышел к воротам, которые, как и тогда, зимой, оказались распахнутыми и словно приглашали его пройти внутрь. Несмело, с непонятной и даже смешной робостью, он шагнул, затаив дыхание, в Ее парк. «Чего-то сердце как стучит?.. Будто в будуар к даме влез…» – Поглядел на белый барский дом и счастливо улыбнулся, вспомнив первую свою встречу с зеленоглазой девчонкой.
Со стороны усадьбы навстречу ему уже неслись два сторожевых знакомца волкодава, заходясь яростным лаем. На крыльцо выбежал дворовый и, увидев, что в парк вошел не ворюга, а офицер, тоже во всю силу, потешно тряся губами, принялся свистеть, призывая собак.
«Как же, дадут тебе полюбоваться на парк, вспомнить юность и расчувствоваться…» – Стянул он с плеч плащ и в качестве приза беззлобно огрел первую из подбежавших псин. До волкодавов тут же дошло, что их зовет хозяин. Дружно повернув, они молча кинулись на свист, скромно поджав хвосты.
Загребая палый лист ногами, к Максиму спешил слуга.
«Этот тоже праздник отметил…» подумал Максим и, важно нахмурив брови, обратился к лакею:
– А что, любезный, генерала в имении нет? – он хотел добавить «с дочкой», но почему-то не решился.
Понаблюдав, как лакей старательно помотал головой (при этом у него ходуном заходили плечи, а затем он весь закачался из стороны в сторону), Максим продолжил:
– Ну что ж!.. Я ваш сосед и здесь проездом, посижу-ка я, мил человек, в беседке… устал что-то.
У дворового амплитуда колебаний постепенно угасла, и он стоял ровно, мутными глазами разглядывая посетителя. Когда до него дошла суть просьбы, он начал кивать, на этот раз утвердительно, опять превратившись в маятник, только качающийся в противоположную нежели в первый раз сторону.
Пройдя мимо вибрирующего слуги, Рубанов не спеша пошел к беседке по прямой, как стрела, липовой аллее. Багряный сухой лист приятно шелестел под ногами.
«В тот раз были белые от снега, – окинул взглядом липы, – а сейчас багровые, словно им за что-то стыдно… Ого! Начинаю сюсюкать, как юный пиит…» – обернулся он.
Слуга с трудом поднимался с земли…
«Стану уходить, еще какой-нибудь вопросец задам…» – хмыкнул Максим.
Как раз на Покров, сразу после обеда, Рубанов услышал во дворе тележный скрип и голоса. Он очень удобно лежал на диване и философствовал на тему служебной карьеры и любви…
Дошел уже до полковника, и Мари в огромном ряду других соискательниц безуспешно добивалась его ответного чувства и взаимности… «Да чего там орут, каины?.. – с раздражением отвлекся от приятных мыслей. – Агафон с мужиками так рычать не станут, так кого же это черти принесли? Может, нянька еще нескольких крестьян в помощь Агафону прислала?..» – рассуждал он.
За несколько дней до Покрова конюх с двумя деревенскими мужичками, приданными ему в помощь, утепляли на зиму барский дом: приваливали где надо завалинку, проконопачивали пазы, промазывали рамы.
– Чини избу до Покрова – не то не будет тепла! – приговаривала Лукерья, подгоняя работничков.
Она крепко брала бразды правления в свои «немощные» руки.
«Похоже, так и есть», – раздумывал Максим, все еще находясь в приятной послеобеденной неге. Мысли лениво перекатывались в голове: «Надо сказать, пусть ворота навесят…» – незаметно для себя задремал он, в ту же минуту в дверь постучали и, шмыгая лаптями, влетел Агафон.
– Ваша благородия, ваша благородия! – подбежал он к Максиму и стал трясти его.
– А-а! Чего?! – подскочил тот и сел на диване.
– Ваша благороди-и-я-а! – заскрипел зубами Агафон и радостно сжал кулаки. – Там Данилку пымали… – счастливо всхлипнул он, – попался, наконец, аспид…
Тут же в зал вошел, стуча добротными сапогами, маленький Изот Михеевич и довольно улыбнулся.
– Пымали все ж! На ярманку в Чернавку приперся, дьявол. Выпить, вишь, захотел, а знакомцы мне и донесли… – подошел он поближе и оттеснил плечом Агафона.
Все-таки виновником торжества был он, а не конюх.
Максим надел сапоги и уверенно ринулся на крыльцо, по пути покосившись на дверь в материнскую комнату. За ним семенил Изот и, спеша, захлебываясь словами, брызжа слюной, бестолково размахивая руками, пытался на едином дыхании рассказать, как было дело…
– Да ладно! – отмахнулся от него Рубанов, словно от надоедливого рыжего шмеля. – Потом расскажешь…
– Попался, голубчик! – многозначительно произнес он, окинув хозяйским оком двор и два грязных тарантаса.
В заднем, набычившись и опустив голову, придерживаемый Кешкой и полицейским сидел Данила.
– Поймали беглеца, ваше благородие господин корнет! – отдал честь и отрапортовал усатый пожилой полицейский. – Сдался тихо, без буйства, – подтвердил он. – Что прикажете?.. – вопросительно поднял брови.
Максим незаметно посмотрел в сторону материнского окна. Штора была опущена. Взгляд его остановился на испуганно жавшихся к стене дома двух рубановских мужичках – агафоновских помощниках. «Вон как народ замордовал… и связанного боятся!»
– У-у, ирод! – подошла к Даниле и замахнулась Лукерья.
Но не ударила. Больно жалкий вид был у пойманного. В глазах метались страх и смятение.
– Развяжите-ка его! – распорядился Максим. – Да из тарантаса-то вытащите. Что это я перед своим крепостным стою, а он сидит…
Кешка мигом исполнил его приказ. Данила, медленно растирая руки, тоже глянул на окна Ольги Николаевны, и затем глаза его уставились в землю. Ничего хорошего от людей он не ждал. Окажись на их месте, тоже бы не простил беглого холопа.
– Ну что, Агафон! – дотронулся до плеча конюха Рубанов. – Всыпешь ему на конюшне?
Поначалу глаза Агафона алчно и мстительно сверкнули, но через минуту померкли, разглядев сжавшегося и поверженного врага, уныло стоявшего перед барином. «Эт когда он в силе был, да в фаворе, а чо щас-то?» – подумал конюх и, плюнув Даниле под ноги, отошел.
– Нет, барин, не хочется… Но ежели велишь, тады да, а так – нет… Ему и так пострадать придется!..
– Ну, как знаешь! – разочаровался Рубанов. – А вы, мужички? – обратился к двум крестьянам.
Те одновременно замахали руками, словно надумали куда-то улететь.
– Нет, барин, уволь от этого! – произнес один из них. – Мы больше привычны, чтоб нас пороли, а сами… Нет, не хотим руки марать!
«Смотри-ка! Уже жалеют страдальца… Еще слезы у их баб не высохли, а у самих спины от его кнута не зажили… и уже жалко стало… Вот народ-то наш русский какой!.. Добрый и жалостный больно народ… – то ли с упреком, то ли с похвалой подумал Рубанов. – Да и что, действительно, теперь с него взять? На каторгу направить!.. Плетьми забить?! Правильно сказал один из сиволапых – неохота руки марать!»
– Давайте я, господин корнет, – вызвался Изот, – мигом разрисую, как матрешку…
Кешка неодобрительно поглядел на деда.
– Отставить! – скомандовал Рубанов. – Насколько я знаю, сейчас в Чернавке рекрутский набор идет, канцелярия работает, и из войсковых частей офицеров командировали… Туда его и везите! Он парня одного хотел в солдаты отправить, вот заместо него и послужит царю. – Повернулся и пошел в дом, потеряв к происходящему всякий интерес. – Какие надо бумаги – пришлю! – буркнул через плечо. – Да служивых накормите…
Полицейские отдали честь и принялись заталкивать пойманного в тарантас. Один из них, усатый, который был постарше чином, просвещал дворню, пытаясь выдать себя за умного…
– Согласно «Генеральному учреждению» от тыща семьсот девяноста шастого году надлежит в рекруты брать с семнадцати до тридцати пяти годов, – поднял он вверх палец и, внимательно разглядев его, обтер о шинель. – Сей документ и определяет возраст, состоятельность здоровья организма и все прочая, по которым надлежит принимать в рекруты… Энтот по всем статьям подходит, – сообщил потрясенным его ученостью дворовым. – Где тут руки у вас можно помыть? – Зажав ноздрю вытертым о шинель пальцем, основательно высморкался в траву.
После поимки Данилы на Рубановку, включая и барский дом, окончательно снизошли успокоение, тишина и умиротворенность… Ольга Николаевна, если позволяла погода, гуляла по саду, иногда зачем-то поглаживая корявые стволы акаций, и о чем-то думала, хмуря лоб и тяжело вздыхая. Ей нравилось стоять на высоком крутом откосе и сверху глядеть на замершую у ног Волгу.
Когда Максим, сидя в лодке, видел ее в это время, ему казалось, что мать взлетела и парит в воздухе подобно большой серой птице. Поправляя растрепанные ветром волосы, Ольга Николаевна, держась за перила лестницы, спускалась вниз и подолгу сидела в беседке, напряженно всматриваясь в мутную воду.
Старая мамка в такие моменты опасливо наблюдала за барыней – как бы что над собой не сделала, но подойти и отвлечь ее не решалась.
– Ступай, поговори с матерью, – внушала она Максиму, – видишь, мается человек, места себе не находит…
Но тот не знал, о чем с ней говорить, да и не испытывал желания. Лишь однажды, когда занудливый холодный дождь не пускал его на улицу, он постучал и вошел в ее комнату. Порозовевшее, посвежевшее и утратившее одутловатость лицо матери засветилось, когда она увидела сына. Ольга Николаевна порывалась что-то сказать ему, обнять и приласкать этого высокого, худого, непокорного, но такого до безумия родного мальчишку, но Максим передернул плечами, отметая всякие нежности, и попросил чего-нибудь почитать. Непрошеные слезы набежали на ее глаза, но она сдержалась, улыбнулась, словно между ними ничего не произошло, и судорожно повела рукой в сторону этажерки с книгами.
Максим до этого как-то не обращал внимания и потому удивился, увидев небольшую, но разнообразную подборку книг и журналов на русском и французском языках: Гомер, Петрарка, Тассо, Парни, Данте, господин Шекспир и другие авторы стояли бок о бок на полках, тускло мерцая золотым тиснением на корешках.
Выбрав Данте и едва ли сказав два слова, он повернулся и ушел в свою комнату, услышав через некоторое время нервные и тоскливые аккорды клавикордов.
Вошедшая к нему нянька грустно вздохнула и, с укором глянув на читавшего за столом Максима, тоже ничего не промолвив, покинула комнату. Рубанов был слишком молод, чтобы понять, что самое трудное в жизни – это Покаяться и Простить!
Самым счастливым в данной ситуации оказался Изот. Наконец-то сбылась заветная мечта его жизни – он сделался старостой… Рубановским крестьянам даже показалось, что лесник стал выше ростом – таким он выглядел напыщенным и важным. Но постепенно, привыкнув к своему положению и хорошенько обмыв его, бывший лесник рьяно принялся за дела. Сначала, испросив письменного разрешения, занялся продажей леса. Деревенские мужички споро валили деревья, обрубали сучья и грузили на долгуши.
Максим строго-настрого приказал на вырубленные участки подсаживать молодые деревца. Он давно понял, что лес является пока основным и главным его богатством.
Под шелест непрерывного октябрьского дождя дни тянулись медленно и вяло, застревая в неделе, как колеса телеги в непролазной грязи дорог. Максим, сидя у уютного огня, читал Данте, прикидывая, в каком из кругов его «Ада» нашлось бы теплое местечко для немецких поручиков и ротмистров второго эскадрона Конногвардейского полка…
Закончив с лесом, в конце октября, Изот торжественно вручил барину пятьсот рублей. Максим даже оторопел, перебирая в руках мятые ассигнации, поэтому и не стал проверять, к радости новоявленного старосты, квитанции и копать в бумагах, выявляя, сколько ассигнаций ушли в карман самого Изота.
От переизбытка чувств, лесником Рубанов назначил старшего изотовского сына, Кешкиного отца: так что, по сути, дед не потерял и эту должность.
«Теперь есть на что в Петербург ехать, – радовался Максим, шелестя купюрами. – В карты на обратном пути играть не стану!»
Изот удивил Максима не только купеческими своими успехами, но и хозяйской крестьянской смекалкой.
– Я, батюшка, когда за границей был, за государя воюя, приглядывался к тамошнему сельскому люду…
«Вот я уже и "батюшкой" стал! Не день, а сплошные сюрпризы», – попытался сосредоточиться на словах старосты.
А тот, почесывая в затылке и с трудом подбирая слова, рассказывал барину, как он думает повести дело.
– …И не только приглядывался, а даже и книжки почитывал умные…
– Ну-ну! – доброжелательно кивнул головой Рубанов, незаметно и с явным наслаждением перебирая купюры.
– Мужик наш главное значение в жратве придает жиру… – бубнил староста, – щи для него хороши и скусны, когда так жирны, «что не продуешь»… да каша, да горькой стакашку перед обедом, мужик и сыт, и доволен, и дело станет клеиться; поэтому следует свинарник завесть и коровник – да коровки чтоб были наши, местные, а не голштинские, каких чернавский барин купил… Все и передохли у него в зиму… – радостно сообщил староста. – Люцерна, туды ее мать, у нас чтой-то плохо растет, а парену солому эти заграничные стервы жрать не жалают… А наши-то коровки все съедят и покакают хорошо… Вот тебе и удобрение, – довольно хлопнул он в ладоши и принюхался, будто, к его радости, целый пуд этого добра находился в углу комнаты.
«И зачем мне это?» – подумал Максим. Разговор уже начал утомлять его.
Изот, будто услышав вопрос, ответил на него:
– Потрусивши навозцу, ржи соберем пропасть сколько… В книжках об этом читал, – пребольно ударил себя в грудь. – Ну и, конешна, еще умные люди пишут, надоть иметь правильное соотношение между размерами пашни, – стал загибать пальцы, – сенокосами, пастбищами… и тады рожь, овес и картофель у нас пойду-у-т… – развел он руки, – да доходы от хозяйства, да кабак на деревне поставлю… у-у-у, батюшка, ромашовский енерал супротив тебя – нищий будет…
Упоминание о ромашовском генерале направило мысли Рубанова в противоположную от сельского хозяйства и навоза сторону – к любви и цветам, а староста все не мог остановиться:
– Дураки говорят, что наши работники ленивы… Да! Наш мужик, в отличие от немца, не привык пахать равномерно в течение года – он работает порывами. Вот те – посевная, а вот – уборочная! Это у них зима коротка, и работы идут круглый год; а у нас – нет, брат, шалишь – что урвешь, то и твое! Мы не можем работать аккуратно, как немец, но зато когда потребуется, горы своротим, – вытер он пот со лба.
«И правда, – подумал Максим, – у нас легче найти полк солдат, способных в зной и стужу, без воды и питья выстоять в тяжелом бою, нежели одного солдата, способного безукоризнено, аккуратно и постоянно выполнять однообразную солдатскую работу хотя бы в течение месяца. По себе знаю!» – решил он исподволь избавляться от старосты – слишком заболтался.
– Известно, что холоп живет сытным харчем да ласковым словом, – все не мог успокоиться тот, – а не как Данилка, людей начал мучить да мордовать, нет, так нельзя!
– Понятно, понятно, господин староста, – взял деда под руку Рубанов. – Дела у меня, сам знаешь, уезжать со дня на день пора…
– Ваше благородие! Проводим по высшему разряду… – полез обниматься староста.
– Ну-ну! – подталкивал его к двери Максим. – Работай честно и все будет хорошо… У крестьян не воруй!..
Последние слова Рубанов сказал напрасно…
– Да разве ж я когда?.. Да у меня! – остановился уже в самых дверях Изот. – Да разве этих сиволапых обманешь?! Эт они читать – дураки, а считают лучше петербурхского академика… Возьми нашенских стариков… Их вокруг пальца не обведешь, нет! Все помнят! Зарубки на дереве поставят, каждую копеечку учтут – палочками, камушками, кругляками овечьими – но все у них будет учтено и подсчитано!..
– Иди ты?!. – то ли удивленно, то ли давая совет Михеичу, произнес Максим.
– Вот те крест! – уже с крыльца заверил бывший лесник.
– Фу-у! Уморил… – блаженно растянулся на диване Максим и принялся еще раз пересчитывать деньги.
Но долго этим приятным времяпрепровождением заниматься не пришлось… В дверь нерешительно постучали, и на недовольное «войдите» в комнату неуверенно шагнула Ольга Николаевна. Стеснительно постояв и нервно хрустнув пальцами, она поправила на плечах шаль и уселась в кресло. Максим принялся безразлично разглядывать потолок, не переменив положения и лишь убрав в карман деньги. «Чего ей надо! – с раздражением подумал он. – Никак один не останешься!»
– Сынок! – с любовью глянула она на него и опять нервно хрустнула суставами пальцев. – Прости меня! Я очень перед тобой виновата…
Услышав эти слова, Максим с изумлением в глазах медленно опустил ноги на пол и уставился на мать. Та зябко передернула плечами и продолжила:
– …И перед тобой, и особенно перед твоим отцом! – Она закрыла лицо ладонями и, посидев так минуту, отняла их от лица и хриплым, задушливым от волнения голосом заговорила вновь: – Я все поняла… все! Нет мне прощения!.. Но я любила его… да, да, – заторопилась она, словно кто-то пытался перебить ее или зажать рот ладонью, – любила, но не вынесла одиночества!.. Трудная это доля, – задумчиво посмотрела на сына, надеясь найти в нем понимание, – быть вечно одинокой, не каждой дано это выдержать! – тихим голосом говорила Ольга Николаевна, быстро перебирая и теребя концы шали. – Перед Акимом Максимовичем я отчитаюсь там, – указала глазами на потолок, – на небе! А у тебя прошу прощения тут, на земле! – попыталась она подняться с кресла и обнять Максима, но он отгородился от нее рукой и взглядом…
Ольга Николаевна сразу сникла и осела в кресле. Плечи ее безвольно обвисли, словно шаль лежала на них непомерным грузом. Лицо поначалу напряглось, но затем болезненно сморщилось и враз как-то постарело и осунулось. Она тяжело, по-старушечьи, выбралась из кресла и, ничего больше не сказав, скрылась за дверью.
Когда Максим стал старше и умнее, ему часто виделись материнские безвольные плечи, покрытые пуховым платком, осунувшееся лицо, а сердце разрывалось от тяжелой шаркающей походки уходящей от него матери…
Он порывался вскочить и догнать ее, обнять и еще хоть раз, заглянув в родные глаза, увидеть в них безмерную любовь и нежность – материнскую любовь и нежность! – и еще хоть раз ощутить прикосновение ее ласковых теплых рук, ее пальцев, нежно перебирающих его волосы, но этого было не дано ему больше!!!
Утром 1 ноября, провожаемый малочисленной своей дворней, еще по-темному Рубанов собирался отправиться в Петербург.
На этот раз Ольга Николаевна первой вышла попрощаться с ним и долго ждала, наблюдая, как сын с задумчивым видом проверяет бричку, хотя ехать ему в ней лишь до Чернавки, а далее на перекладных.
– Лукерья передала, что поутру ты велел закладывать возок, – обратилась она к сыну, – а я так и не успела по-душам поговорить с тобой, – грустно и одновременно ласково смотрела она на Максима.
Нянька, видя что мать прощается, оттащила в сторону Агафона, попытавшегося обратиться к барину.
– Ты сильно переменился, сынок, – с каким-то удивлением во взгляде окинула она рослую фигуру этого стройного красивого юноши в военной форме и ахнула в душе, вспомнив, каким недавно он был маленьким, худым и непослушным, но зато, как любил ее…
«Заметила наконец-то перемены!..» – иронично подумал Максим и ничего не ответил.
– …Стал таким гордым и недоступным! – продолжала мать. – Но что бы ты ни думал обо мне, я любила и люблю тебя, как и прежде, и прошу… – спазм на секунду перехватил ей горло, она обернулась, будто хотела кого-то попросить о помощи, но тут же взяла себя в руки и успокоилась, хотя только внешне, – прошу принять сей образок, – она робко глядела на сына, и взгляд ее умолял принять этот дар. В дрожащей руке ее на тонкой золотой цепочке покачивался небольшой круглый образок Спасителя. – Он сохранит и помилует тебя от всех бед, а я стану бесконечно молить его об этом!..
Материнские глаза просили, а строгий лик Спасителя, как показалось Максиму, сурово и осуждающе глядел на него.
Прерывистый от волнения голос матери и ее дрожащие руки и виноватый, какой-то потерянный, но любящий взгляд тронули Максима, он пожалел ее, – не простил, а лишь мимолетно пожалел – и хотел взять образок, но Ольга Николаевна отстранила его руки и сама надела ему на шею, по пути вороватым движением пригладила его волосы и задохнулась от любви и счастья. Слезы брызнули из ее глаз, и она перекрестила расплывающееся лицо сына и, не надеясь, ждала, что он поцелует или хотя бы обнимет на прощание; но Максим, удобно расположив образок на груди, коротко поклонился матери и произнес: «Мерси!». И все! И больше ничего… Ни улыбки. Ни слез. Ни любви.
Ольга Николаевна порывалась еще что-то сказать, но не смогла, а может, просто не успела, потому что на совесть отметивший отъезд барина Агафон сумел-таки вырваться от няньки и пристал с какой-то глупостью к Рубанову.
Затем подошла проститься старая Лукерья.
17
Петербург встретил путешественника стылой погодой, снежной крупой, звоном колоколов, криком торговок, суетой чиновников и, самое главное, подобострастным приветствием похмельного будочника.
«Кому это он козыряет, пьяный фунфырь? – покрутил головой Максим. – Рядом же никого нет!.. – И в ту же минуту приятная волна окатила его тело и мозг. – Батюшки, да ведь это мне…» – Душа его расплылась в блаженной улыбке, а лицо и глаза строго и хмуро оглядели служивого, который тут же сделал попытку вытянуться и подобрать живот.
– Замерз, поди? – ласково произнес Рубанов, и губы его, не стерпев пытки, расплылись в широкой мальчишеской улыбке, которая загнала родинку из угла рта к самому уху.
– Никак нет, ваше благородие, – бодро отрапортовал будочник, снова отдав честь.
Солидно покряхтев, дабы выглядеть старше, Максим вытащил из кармана полтину и протянул будочнику.
– Погреешься после службы!..
– Рады стараться, ваше высокоблагородие! – счастливо гаркнул тот.
«Прежде к Голицыным – оставить вещи, а затем в полковую канцелярию и к Вайцману – отметиться и доложить о прибытии…» – решил Максим и ткнул кучера в спину.
Слепой, глухой, хромой… и прочая, и прочая… лакей, как показалось Рубанову, тут же увидел коляску с корнетом, услышал его голос и бодро зарысачил доложить господам, предварительно впустив гвардейца в дом. Другой лакей, молодой и крепкий, подхватил вещи.
Через пару минут оглушенный воплями княгини, ослепленный мельканием ее восторженных рук и бесконечными поцелуями, глупо улыбаясь от такой бурной встречи, Максим переминался с ноги на ногу и, пытаясь сказать что-нибудь соответствующее случаю, немного завидовал слепому и глухому старичку-лакею.
Закружив гостя командами: «Повернись-ка сюда, повернись-ка туда…», княгиня оставила его в относительном покое лишь с прибытием князя Петра.
Последующие дни превратились в сплошной сумбурный праздник, в результате чего Рубанов на день опоздал из отпуска и получил первый, но не последний выговор от Вайцмана уже в качестве офицера.
Не дав толком отдохнуть и привести себя в порядок, княгиня потащила его к французу портному – примерять офицерскую форму. Слава Всевышнему! Форма оказалась впору. Тут же поехали на извозчике покупать перчатки. За время, потраченное на выбор нескольких пар, Суворов запросто успел бы взять Измаил. Затем приобрели офицерскую треугольную шляпу с белым султаном – суворовская победа при Рымнике – и, наконец, шинель с бобровым воротником – вся итальянская кампания… И чувствовал Максим себя так, словно без передыху провел все эти сражения.
Поздним вечером дома, падающий с ног корнет получил в подарок от князя пятьсот рублей, дорогую шпагу и набор из двух английских пистолетов. Но радоваться этому уже не было сил. Жить, разумеется, он остался в доме Голицыных. Следующий день – обед в его честь для близких голицынских друзей. Гордая княгиня Катерина, словно это она получила корнетские эполеты, представляла Рубанова своим гостям.
– Когда меня произвели в полковники, ты меньше радовалась, – с еле заметной ревнивой ноткой в голосе попенял своей супруге князь Петр, улыбаясь при этом и разводя руками, как бы приглашая всех посмеяться над своей шуткой.
Одним из первых прибыл старинный друг и бывший начальник Голицына и покойного отца Рубанова Василий Михайлович с супругой. За время, прошедшее с похорон Акима Рубанова, полковник еще более потолстел и обрюзг. Теперь он командовал пехотной бригадой и ждал производства в следующий чин. Козырнув толстяку, Максим представился, и был осчастливлен похлопыванием по плечу и пожеланием дослужиться до полковника – на что стоявшая рядом Голицына возмутилась и, перебив вояку, шутливо воскликнула: «До генерала! Только до генерала…»
Отказать в чем-то такой обворожительной женщине Василий Михайлович не мог и потому безропотно согласился, завистливо вздохнув при взгляде на фигуру корнета.
– Я бы с ним хоть сейчас поменялся годами и эполетами! – произнес он по-французски, развеселив княгиню и особенно супругу, кстати, моложавую и стройную женщину с несколько усталым лицом и полными яркими губами, которые больше бы подошли легкомысленной юной девице, а не этой зрелой особе…
– Полностью с вами согласна, мон шер, – сказала она и плотоядно облизала при этом губы, томно и отнюдь не с материнской нежностью поглядев на гибкую фигуру в ладно сидевшей конногвардейской форме. Данная мысль, видимо, очень занимала ее, потому как весь вечер она не спускала глаз с корнета.
– Полковник Арсеньев с супругой, – прокричал следующую пару от входных дверей молодой лакей, и продублировал дребезжащим дискантом в гостиной старый, слепой, хромой, глухой, простывший, трезвый и всем нынче недовольный пожилой лысый лакей в оранжево-рыжем кафтане со свежеиспачканным подливой карманом, который теперь он был вынужден загораживать от всех рукой.
Небрежно отодвинув «счастливчика» от входа, в гостиную уверенно вошел не полковник, а повар, тоже маленький и пожилой, как и лакей, человечек и о чем-то пошептался с князем. При этом временами он бросал победные взоры на старичка лакея, от которых тот дергался, как от змеиных укусов, и с бешенством пожирал глазами то повара, то свой измазанный карман. Похоже, между двумя этими объектами существовала прямая и непосредственная связь…
Наговорившись, наглец повар как ни в чем не бывало прошел мимо слуги, будто не заметив его. Он знал себе цену – две тысячи «рублев». А лакей, по его мнению, со всеми своими гнилыми потрохами не стоил и десятой доли этой суммы, даже если в смету включить его задрипанный кафтан с пятном на боку…
Максиму показалось, что из ушей бедного старца сейчас пойдет пар, так он закипел и заскрежетал деснами. «Были бы у него зубы, загрыз бы обидчика! – с уверенностью подумал Рубанов. – Поди, лет тридцать грызутся, а когда одного не станет, второй от тоски повесится», – браво щелкнул шпорами, легко поклонившись вошедшему командиру, и галантно поцеловал ручку его жене. Глаза княгини Голицыной на секунду вспыхнули, и она решила, что из парня выйдет толк…
Следом, чуть не наступая на пятки Арсеньеву и перегнав дребезжащий дискант, ворвался еще один военный – пожилой гусарский полковник. Не успев толком раскланяться с Рубановым и другими гостями и не дослушав каламбур хозяйки о трех полковниках, он уже вцепился в арсеньевскую супругу.
– Старый ловелас как всегда пьян и нетактичен, – шепнула княгиня на ухо Максиму, – не уподобляйтесь ему и имейте терпение дослушать даму, какую бы глупость она ни произносила… И ежели это несмешная шутка – засмейтесь, а ежели что-то грустное – пособолезнуйте… – учила она корнета.
«У князя Петра весьма своеобразные товарищи!» – раздумывала княгиня Катерина. Как ни старалась она не принимать близко к сердцу, пренебрежение и неучтивость гусара больно задели ее светское и женское самолюбие.
Затем старичок лакей продребезжал генерала с генеральшей и пожилого важного вельможу в партикулярном платье, но с лазоревой Андреевской лентой через плечо.
Гостиная постепенно заполнялась.
Княгиня Катерина, покинув Рубанова, улыбаясь, переходила от одной компании к другой и ловко, словом ли, шуткой, возобновляла затухающий разговор или, наоборот, одной репликой успокаивала готовящийся вспыхнуть неуместный, по ее мнению, спор.
Когда женщина одна, это очень приветствуется, но когда их много, то быстро устаешь, и поэтому князь Петр увел мужскую половину в библиотеку. Ушли все как один, даже Рубанов.
– Пусть их там хвалятся своими нарядами и украшениями, а нам и здесь неплохо! – облегченно расположился в кресле Голицын.
Гости последовали его примеру, разместившись кто в креслах, кто на диванах. Старичок-лакей, возникнув из ниоткуда, с неожиданной сноровкой ловко приоткрыл окно и тут же исчез.
Дым от турецкого табака, проходя различные метаморфозы, превращаясь то в спираль, то в облако, медленно клубился, выплывая в окно.
Прежде солидно помолчали.
– Гм-м, кхе-х! – подал голос статский генерал, поправив ленту. – Ну что, князь Петр, – густым важным басом произнес он, – расскажите-ка еще о финской кампании?..
И потек нескончаемый разговор о войне, затем о Наполеоне, который после Эрфурта неожиданно стал царским другом до такой степени, что русский корпус воевал на его стороне против бывших союзников-австрийцев, и дело дошло до того, что он сватался к одной из сестер Александра[12]… Слава Богу, что она русская патриотка и отказалась идти под венец с французским узурпатором!
Максим сидел молча и, поворачивая голову из стороны в сторону, с видимым удовольствием внимательно вслушивался в разговор. Рассказывать ему пока было нечего, да и не по чину.
Гусарский полковник, громко и часто чмокая трубкой, шумно пускал дым и безбожно врал о своих подвигах.
Голицын, брезгливо отмахиваясь от клубов его дыма, старался не слушать гусара, а весь ушел в наслаждение трубкой, мягко обхватывая губами янтарный чубук и бережно выпуская изо рта колечки. И дым-то от него, казалось, был душистый, светский и изысканный, словом – аристократический дым, не то что вонючее облако над гусарским полковником.
«Кто как курит, так и барышень любит…» – начал рассуждать Рубанов на более близкую и понятную тему, разглядывая гусара и сравнивая его с князем Петром.
Дверь в библиотеку растворилась, и раздалось громогласное: «Кушать подано!»
Максим повернулся на голос и увидел шеф-повара, произнесшего эту сакраментальную фразу, и старичка-лакея, стоявшего за ним и еще только со свистом набиравшего воздух в свои хилые легкие. «И тут опередил беднягу!» – подумал Максим, выходя после всех из библиотеки. Старикашка в это время выдыхал непонадобившийся воздух, попутно размышляя, что бы такое сотворить с горластым поваром, и автоматически захлопывая за Рубановым дверь.
Негромко, приятно и как-то по-домашнему уютно на хорах заиграла музыка. Вышколенные официанты отодвигали стулья, усаживая гостей. Гусарский полковник, оттолкнув лакея, поставил стул, как надо ему, и шепнул, чтобы тот наливал побольше лимонной, полынной или пшеничной водки, но не эту кислятину, – брезгливо указал на шампанское. «Я больше привык сам за собой ухаживать…» – подумал он.
Однако в начале обеда водка не подавалась. Безмолвные официанты в белых перчатках разливали в хрустальные с княжескими вензелями рюмки тонкие иностранные вина, благоухающие солнечными виноградниками Италии и Гаскони. Полковник жадно запивал «венгерским», «рейнтвейном» или «дреймадерой» кулебяку и рябчиков, заливного поросенка и телячий студень, с надеждой поглядывая на официанта; и лишь когда сам шеф-повар под аплодисменты гостей и душевные муки старичка-лакея внес поднос с отварной осетриной, стали подавать водку.
Максим сидел рядом с усатым гусаром и с интересом наблюдал, как наливался краснотой его нос. Водка сделала свое дело – полковник стал болтлив не в меру и постепенно начинал извиняться, поворачиваясь всем корпусом то к Рубанову, то к жене Арсеньева. Пальцы его полусогнутой руки цепко держали рюмку.
Еще через некоторое время, к облегчению Арсеньева и его супруги, гусар общался лишь с Рубановым. То ли ему стало тяжело вертеться, то ли после огромного количества выпитого он потерял интерес к женщинам, но от Максима не отворачивался до самого конца. Юный корнет узнал, что победить «Буонапарту» может лишь его сосед, так как у Мишки Кутузова было ранение в мозги, что стало особенно заметно во время Аустерлица; а Барклашка – и вовсе дурак, к тому же нерусский… «Извините!» – Опрокинул в рот рюмку полковник.
– В России осталось два военачальника, – уже громко, на весь стол, вещал гусар, – это, извините, наш император и, извините, ваш покорный слуга, – икнул он, проглотив еще одну рюмку пшеничной, чтоб не позорить свой род войск.
Усы его воинственно топорщились, и в середине их цвел нос, как роза на стебле. Максим с нетерпением ожидал, когда император в устах рассказчика станет просто «Сашкой», дабы вызвать его на дуэль. Но гусар, несколько раз извинившись и глянув мутными глазами на бесшумно меняющих свечи слуг, переменил тему.
– Милостивый государь! Извиняюсь, а вы не из тех Рубановых, что соседи генерала Ромашова? Извините… – с трудом выпил еще полрюмки и сморщил нос, утопив его в усах. – Ежели так, то я встречал новый, восемьсот шестой год в компании с вашей матушкой…
Максима пробрала дрожь, но в этот момент полковник свалил вазу с фруктами, и два лакея, повинуясь взгляду Голицына, подхватив его под руки, повели в княжеский кабинет отдыхать.
Сидевшие за столом, казалось, не обратили внимания на инцидент. Оживленные голоса обсуждали последние светские сплетни, слышались смех и поздравления с производством в офицеры.
Максим постепенно пришел в себя, взгляд его стал различать наряды и бриллианты на шеях дам, блеск эполет на плечах мужчин и свет, исходящий от толстых восковых свечей и отражающийся на хрустале посуды. «Чего это я так растерялся? – удивился он, наклоном головы отвечая на поздравления. – Гусар тогда, по всей видимости, свалился под стол, как и сейчас, в середине праздника, а наутро уехал в полк, вряд ли он знает про взаимоотношения моей матушки и генерала… Черт-дьявол! Чего это я так испугался?» – покрутил он головой и улыбнулся, заметив обеспокоенный взгляд княгини.
Стоявший за спиной официант чего-то налил ему из большой темной бутылки, завернутой в салфетку, и, не разбирая вкуса, он выпил пахучую жидкость, краем уха услышав об успехе какого-то Василия Федоровича… Затем мужчины снова направились в библиотеку, так как кабинет был занят, – выкурить по трубке, а дамы остались за столом поболтать и выпить кофею.
Максим приятно устроился на диване, на другой диван сел молчаливый генерал, а остальные четверо разместились в креслах за небольшим столиком, решив потешиться в бостон. Карты раздавал Голицын, напротив него сидел сановник с орденской лентой. Двое полковников составили еще одну пару. По причине солидного возлияния игра шла вяло, противники без конца отвлекались разговорами.
Максиму даже показалось, что мужчины являются большими любителями поболтать, нежели дамы; но в виду того, что темы, ими обсуждаемые, носят, на их взгляд, важный государственный характер, в отличие от женских разговоров о модах, украшениях и сватовстве, то сплетниками сильная половина человечества себя никак не считала.
– Гм-м, кхе-х! – первым опять начал вельможа. – Какой все-таки несносный болтун этот гусарик, с молоду он такой, поэтому никогда и не станет генералом!
Присутствующие полковники радостно хохотнули и согласно покивали головами. Князь Петр промолчал, быстро глянув на Максима. Вельможа поймал его взгляд.
– Вот именно, такие командиры своими разговорами и развращают молодежь, – указал на Рубанова.
Максим скромно потупился.
– Никакого уважения к заслугам и чинам… О Михаиле Илларионовиче так сказать… Ужас! – Пухлая рука его, унизанная перстнями, небрежно держала карты.
– Великий военачальник нашелся! – хохотнул Арсеньев.
– Да, господа! – почему-то перешел на шепот вельможа. – Рыба гниет с головы…
– Что вы этим хотите сказать, ваше высокопревосходительство? – удивленно нахмурился и задрожал толстыми щеками Василий Михайлович.
– Как что, милостивый государь?! – вскинулся сановник. – Первый либерал в государстве – это сам император… Начитался в юности Руссо и Вольтера – вот и думает совершить переворот…
Полковники внимательно подняли брови и насупились…
– Эти писаки-французишки что хотят могут сочинять, они ни за что не отвечают, а тут на плечах огромное государство… А этот поповский отпрыск – Сперанский! – презрительно и злобно бросил карты на стол вельможа. – Этот государственный преступник, что ведь надумал?.. – понесло статского генерала. – Придворные чины отменить, а главное, ввести экзамены на чины коллежских асессоров и статских советников… Изменить существующий порядок норовит… – чуть ли уже не кричал он, – и судебное, и финансовое, и административное управление сломать… Да это же государственный переворот, господа! Уже о конституции заговорил… попович! Семинарист! А самое удивительное, судари мои, ему аристократы помогают государя закружить и оболванить… Все эти Кочубеи, Строгановы, Новосильцевы и полячишка Чарторижский… Друзья юности…
Нет! Не должен русский царь быть либералом! Не должен… И в этом мы ему поможем.
– В чем – этом? – тоже бросил карты на стол Голицын. – И кто это мы?!
Взгляды переменить!!! – ответил сановник. – И граф Аракчеев с нами… Вот кто сумеет подхватить из слабых рук Россию и сжать ее в кулаке! – блаженно сощурился вельможа. – А вольности долженствует предоставлять лишь дворянству – становому хребту государства! И это государь должен знать наверняка. Его императорское величество сам того не понимает, какие силы в будущем может разбудить его либерализм… Чует мое сердце, разрушат Россию фарисеи и масоны, непременно разрушат!
Проводив всех, кроме гусарского полковника, княгиня сидела в своем будуаре на мягком пуфике, гляделась в зеркало и беседовала с Рубановым. Князь Петр, пожелав им покойной ночи, отправился спать, попросив супругу долго не задерживаться. Голицына внимательно, с огромным интересом и любопытством слушала рассказ корнета о поездке в поместье, о матери и Даниле, о его побеге и поимке, о друзьях и наглых кавалергардах… Смеялась над их пари и думала, как бы между делом разузнать, чего так испугался Рубанов во время разговора с гусаром. «Разумеется, каким-то боком это связано с Мари?!» – рассуждала она, при этом весело смеясь над кавалергардами, выбегающими из кладбищенского склепа.
– О такой занимательной шутке следует непременно рассказать в обществе… Отчего ты мне тотчас всего не поведал? – надула губки княгиня.
После ухода гостей она переоделась в узкий шелковый халат и теперь ежеминутно запахивала его на груди и одергивала на ногах.
В свете четырехсвечного шандала Рубанов успевал заметить то небольшую грудь, то холеную белую ногу. Однако посягать на эту женщину он не смел даже в мыслях.
– Господин корнет, – прикрыла полой халата свои ноги княгиня, но выставила напоказ грудь и не спешила прятать ее, ведь сосков пока же невидно… – чем этот пьяница, жуир и хвастун так расстроил вас? – откинув дипломатию, не подходящую к этому мальчишке, напрямую спросила и замерла, не мигая глядя в отражение своих глаз и в то же время внимательно наблюдая за лицом Рубанова.
Максим на минуту растерялся, быстро прокручивая в голове, как бы половчее соврать этой любопытной женщине. Княгиня с внутренней усмешкой наблюдала за игрой чувств на его простодушном пока лице и с завистью думала: «Эх, молодость, молодость! Счастливая пора свежих страстей, неопытных поцелуев и несмелых объятий, как все это быстро и безвозвратно проходит!»
Максим, слыша как княгиня вздыхает и относя это на свой счет, выпалил:
– Да опять тайные взаимоотношения маменьки и соседа генерала. – Щеки его пошли пятнами от смущения.
– Вы еще слишком юны, мон шер, и не знаете того, что в обществе все адюльтеры забываются на следующий же день, так как на смену одним идет масса других, а наши женские головки не настолько умны, чтобы все это помнить и держать в памяти, к тому же и самим приходится кое-что скрывать, так что не волнуйся и не переживай, все давно забыто, а может даже, и не всплывало нигде… – Запахнула все-таки халат на груди, заметив, что он практически ничего не прикрывает, при этом ноги ее далеко открылись, да к тому же она грациозно закинула одну на другую, на секунду представ перед юношей совершенно обнаженной до самого пуфика, на котором сидела; но переживающий о своем Максим даже не обратил на нее внимания, чем очень огорчил княгиню.
– Выбросьте все из головы, – поднялась она, запахнув халат, и направилась в спальную комнату, по пути, однако, будто только что вспомнив, язвительно произнесла, чуть растягивая слова:
– Ой, умираю… как эта пунцовогубая полковничиха глядела на тебя-а…
Чины канцелярии лейб-гвардии Конного полка, как всегда, прилежно скрипели перьями.
«Чего они вечно пишут?» – подумал Максим и тут же увидел улыбающегося Нарышкина.
– Серж! –вскричал радостно и, раскинув руки, двинулся навстречу другу, обратив внимание на любопытные глазки писарей: «Все ж отвлеклись, чернильные души…»
– Вайцман к полковнику за назначением направил?.. А Михайлы Андреевича сегодня не будет, я за него! – когда закончились обьятия, произнес Нарышкин. – Ты неплохо смотришься в корнетских погонах, – похвалил он Рубанова.
– Серж, без шуток, мне действительно к командиру надо…
– Говорю же, я за него! – хохотнул Нарышкин и указал на старшего писаря, на этот раз причесанного и с нормальным цветом лица.
Максим в душе тоже хохотнул, вспомнив, как гонял канцелярских чинов Арсеньев в самый первый его визит.
– Бумаги с назначением у него… – сел на стул и независимо закинул ногу на ногу Нарышкин, – тебя с Гришкой Оболенским помощниками командиров взводов нашего второго эскадрона назначили, а я от Вайцмана избавился, – перекрестился он и покосился на старшего писаря, – теперь полковой адьютант, – гордо выпятил грудь корнет.
Расписавшись на каком-то листке с полковой печатью у старшего писаря, Максим сел напротив Нарышкина.
Писарчуки, удовлетворив любопытство, уткнули носы в бумаги.
– Да, Рубанов, Вебер штаб-ротмистра получил! Никак в себя от счастья прийти не может… В дворцовый караул готов ходить каждый день, чтобы фрейлины на его эполеты полюбовались… Извини, как отдохнул?
– Нормально! А ты?
– Тогда пошли в казарму, по дороге все доскажу, – не ответив на вопрос, потянулся Серж за офицерской треуголкой, – а то Оболенский на дуэль вызовет, ежели узнает, что сразу к нему не повел…
-Хо!.. Рубанов! Господин корнет! – стиснули Максима огромные лапищи, и он уловил запах перегара, когда княжеские губы ткнули его в щеку. – Тебя, ваше благородие, в третий взвод откомандировали, а я в первом… Поруководим!.. – потер он ладони.
– Здравия желаю, ваше благородие! – по всем правилам отдал честь Шалфеев, а следом подходили улыбающиеся Кузьмин, Антип, вахмистр и другие конногвардейцы.
В горле у Максима запершило и отчего-то защипало глаза. «Только этого мне не хватало! – подумал он, пожимая протянутые руки. – Наконец-то я дома!» – блаженно вздохнул Максим.
И даже подошедший штаб-ротмистр Вебер не испортил настроения. Рубанов от души поздравил его с производством в новый чин.
– Сегодня в ресторацию закатим! – взял руководство в свои мощные руки Оболенский, когда корнеты остались одни. – Затем можно «гренадера» с «Мойшей» посетить, а завтра в нашу честь дает обед мой папà, так что милости просим! Кстати, уговорил Сержа жить у нас, а ты где остановился? У Голицыных?! – расстроился князь. – А я рассчитывал, что по-прежнему вместе будем…
И служба пошла отсчитывать дни, будто Максим никуда и не уезжал… Взводным у Рубанова стал высоченный худой поручик с зачесанными на виски черными редкими волосами, с глубокой морщиной на лбу и заботой в глазах. Он резко пожал руку корнету, выслушав рапорт, и представился сам.
«Дмитрий Гуров, – повторил про себя, чтоб не забыть, Рубанов, – Слава Богу – русский».
– А отчего, смею спросить, оранжевый приборный цвет? – удивленно указал Максим на воротник поручика.
– Сообразите мое положение, корнет, уже более недели, как перевелся из Екатеринославского кирасирского, и за делами все забываю поменять приборный цвет… Спасибо, указали!
«Ежели попадешься Арсеньеву, мигом вспомнишь! – подумал Максим, оглядывая длинную талию, карие глаза и аккуратный нос своего командира. По виду не более двадцати пяти, – определил он, – и звезд с неба не хватает, обычная провинциальная «кислая шерсть», за что такой почет?»
– Извините, Максим Акимович, у меня к вам просьба…
«О господи! То "батюшкой", то по отечеству величают, – гордо выпятил грудь Рубанов и нахмурился, чтобы выглядеть посолиднее. Когда же я, наконец, постарею?!»
– Господин поручик, ради бога! Любую услугу…
– Вы, я слышал, полтора года в Конногвардейском и во дворец в караулы ходили…
– Именно так. И не раз.
– Тогда окажите любезность и возьмите на себя командование послезавтра внутренним караулом в Зимнем, хотя формально старшим пойду я, а вы моим помощником…
– Отчего же, господин поручик, со всей душой! Ничего страшного в том нет. Мигом все покажу и обучу…
Побеседовав таким светским образом, довольные друг другом, сослуживцы разошлись по своим делам.
В один из вечеров, сидя у камина, слушая завывание бури за окном и играя с князем Петром в шахматы, Рубанов завел разговор о своем взводном. Княгиня Катерина, утонув в глубоком кресле, наслаждалась теплом, покоем и тем особым чувством защищенности, которое приходит к женщине, когда дома порядок, в наличии деньги и любящий муж… Она сладко, словно обласканная кошечка, жмурилась и потягивалась своим гибким телом, вслушиваясь в разговор мужчин и изредка вставляя реплику.
– Поручик, как бишь его… ах да! Гуров – звезд с неба действительно не хватал, пока неожиданно не посватался к богатенькой старой деве… Она, разумеется, долго не ломалась и, не жадничая, вручила поручику руку и средства…
Княгиня навострила ушки и отложила вышивку.
– Словом, проявил находчивость и женился на деньгах и положении!.. Правда, супруга несколько постарше, лет так на десяток… и с бельмом… Арсеньев имел честь видеть ее, но зато тестюшка похлопотал на радостях, позолотил кому надо ручку, и вот он, результат – зять в гвардии!
Слушая мужчин, княгиня то надувала губки, то хмурила лобик, то хихикала.
С друзьями Максим теперь виделся реже: Голицына произвела его в свои пажи и таскала за собой на обеды и званые вечера. Рубанов уже посетил молчаливого генерала, Василия Михайловича, двух голицынских подруг и готовился к выходу в «большой свет», как говорила княгиня Катерина, – намечался бал у вельможи с лентой.
– Возможно присутствие государя! – радовалась она и, усадив корнета в карету, помчалась с ним к французу портному.
Вне строя кирасирские и гусарские офицеры помимо общеармейских сюртуков носили вицмундир, являвшийся парадно-выходной формой. А у кавалергардов и конногвардейцев, по велению императора, имелось два вицмундира. Как раз их-то и пришлось примерять полдня бедному мученику, к тому же перед ними к портному пожаловала чопорная старушка с двумя кавалерийскими сосунками-корнетами.
«Видно, бабушка и внуки», – решил Максим.
Мальчишки были на голову ниже Рубанова, худенькие и щуплые и, ко всем прочим недостаткам, служили в драгунах.
Княгиня с бабушкой с таким жаром принялись обсуждать форму, забыв о своих подопечных, словно ждали этого момента всю жизнь. Щупленьких драгунов, извинившись перед княгиней и Максимом, француз повел примерять панталоны: бальной одеждой в драгунских и уланских полках при строевом мундире были белые панталоны, белые чулки и башмаки с серебряными пряжками.
– Вам легче! – горячилась княгиня. – Вам вицмундира не положено, а у нас их целых два… – закатывала она глаза, жалея в душе, что не три…
Наконец дошла очередь и до Максима. Пока он надевал в примерочной комнате чулки и панталоны, княгиня еще терпела, но, когда за дверью послышалось с акцентом: «А потом вицмундирчик-с!» – терпение ее лопнуло, и дикой кобылицей с горящими глазами она ворвалась в примерочную, едва не затоптав посланца далекой Франции, который, лежа на полу, размечал место для пуговиц на панталонах, застегивающихся под коленом.
Княгиня, приподняв платье, шмякнулась рядом с ним и деятельно включилась в обсуждение длины панталон, при этом вступив в спор с французом. Временами она с такой силой теребила Максима за ногу, что тот едва не терял равновесие.
Подошла очередь вицмундира. Щеки княгини раскраснелись, и, невежливо оттолкнув француза, она сама накинула на плечи Максима красный вицмундир. Он оказался точно впору. Поспорить здесь было не о чем, что весьма озадачило княгиню. Она окинула взглядом темно-синие воротник и обшлага с золотыми петлицами, отодвинулась на шаг и, кажется, осталась довольна, внимательно проверив, как пришиты петлицы на рукавах и фалдах.
– Прекрасно! – выдала ремарку.
Затем подошла очередь второго вицмундира – темно-зеленого. Здесь у княгини нашлись десятки замечаний.
– Не-ет! У кавалергардов цвета на втором вицмундире продуманы с большим вкусом – черный бархат воротника и серебряные петлицы много импозантнее и более подходят к зеленому цвету, нежели конногвардейские темно-зеленые воротник и обшлага, – затараторила она по-французски.
– Зато, мадемуазель, взгляните на эти прелестные красные выпушки с золотыми петлицами!. – осмелился перебить ее портной.
По лицу княгини Максим догадался, что замечательные красные выпушки не принесли покоя и облегчения ее истерзанной душе…
После француза портного направились к русскому сапожнику за бальными башмаками и еще одной парой ботфортов.
По дороге Максим размышлял о том, что навряд ли он потянул бы без Голицыных службу в Конногвардейском полку.
18
В оставшиеся до бала несколько дней княгиня Катерина самозабвенно взялась обучать корнета танцам.
– Надевайте, мон шер, красный вицмундир, чулки и башмаки… это должно стать вашей второй кожей.
В качестве «второй кожи» Максима больше бы устроили ботфорты со шпорами и белые колет и рейтузы. Страдальчески вздохнув, он шел за ширмы переодеваться, а княгиня, посадив за клавикорды гувернантку-француженку, нетерпеливо ждала партнера.
– Господин корнет! Ежели вы тотчас же не явитесь, то я буду вынуждена пойти помочь вам…
Тяжко вздыхая, Максим выбирался из-за ширмы, застегивая на ходу вицмундир.
– Не сутультесь, душа моя, не на лошади скачете… – делала замечание княгиня, забрасывая одну руку на плечо Максима, а другую вкладывая в его ладонь.
– Я и на лошади не сутулюсь, – ворчал он.
– Князь Петр, погодите, куда вы? Пройдитесь со мной глиссадом для примера, – по-французски взывала она к мужу, вспомнившему об одной важной встрече и вероломно исчезающему из дома, напоследок жалостливо улыбнувшись Рубанову.
В результате такого активного обучения, Максим полностью забросил службу, изредка появляясь лишь на дежурствах по полку и во внутреннем карауле во дворце.
Наконец, наступил исторический день долгожданного бала…
Максим отдыхал от уроков последнюю ночь перед балом, поэтому пришел домой поздно утром и лег спать. Княгиня, напротив, в ночь перед балом никуда не ездила. Ей было скучно без своей живой игрушки, она устала от безделья и придумывала наказание противному корнету. Спала она плохо и проснулась с головной болью. Едва приведя себя в порядок, велела позвать Рубанова, но ей доложили, что корнет отдыхает…
За завтраком сидела хмурая и за что-то обругала князя Петра, а после этого пролила на халат чай, обругав старичка лакея. Корнет все не просыпался. «Скорее бы в отставку, что ли, вышел!» – подумала княгиня и отправилась еще раз примерить платье. Тут она с отчаянием поняла, что платье, оказывается, ей не идет… ну совершенно не подходит… делает ее на полгода старше, и ни на какой бал она решительно не поедет. Усевшись в кресло и упав головой на стол, она с наслаждением зарыдала. А корнет все спал!..
В будуар к жене заглянул князь Петр, с ходу восхитился платьем и и так же с ходу вылетел вон, отряхивая с парчового халата пудру.
«Метко пудреницу швырнула! – не обиделся, а рассмеялся он. – Действительно, скорее бы корнет просыпался, пока она меня не убила со скуки».
Максим проснулся лишь после обеда и, позвонив в колокольчик, велел подавать умыться. Затем, накинув халат, направился поздороваться к княгине. Пройдя в будуар, он широко раскрыл рот, зевая, и стал стучать по нему ладонью, выводя заунывное: «а-а-а-а!».
Дозевать он не успел. Сложенный веер довольно-таки чувствительно ударил его в грудь.
На секунду распахнулась дверь, и князь Петр с веселой миной и со словами: «А вот и Максим проснулся» хотел пройти к жене, но, увидев, что назревает кровавое побоище, почел за благо скрыться, услышав, как загремел по полу небольшой круглый столик с бронзовой греческой богиней, держащей факел в вытянутой руке. Богиня катилась и дребезжала довольно долго, пока не уткнулась в стену.
– Идите досыпайте, корнет! – вскричала княгиня, высматривая по комнате, что бы еще такое бросить на пол.
Но все, на чем останавливался взгляд, не смогло бы как следует загреметь. Еще немного подумав, она бросила толстенную книгу. Но та, не оправдав ее надежд, упала не на паркет, а на ковер и нужного звука не издала. Как нарочно, Максиму захотелось зевать, и он опять широко раскрыл рот.
– Да вы что, надо мной издеваетесь, что ли, несносный мальчишка! – Ухватилась княгиня за деревянную спинку стула, прикидывая, словно пьяный гусар, как бы половчее метнуть его в зеркало.
Но Максим опередил ее действия, усевшись на этот самый стул верхом лицом к княгине, обхватил ее за талию, прижавшись головой к животу, и сжался, словно ожидая удара. У княгини от жалости брызнули слезы и, нагнувшись, она поцеловала светлые волосы корнета, в свою очередь, обхватив его голову руками.
– О-о! – простите меня! Это все мигрень… – Еще раз поцеловала Максима. – Да, как нарочно, и платье неудачное… – Отойдя от него чинно уселась на диван и позвонила в колокольчик, постепенно успокаиваясь. – Князя позовите! – велела прибежавшему слуге.
Совесть начинала мучить ее.
– Милый князь! – бросилась на шею вошедшему мужу. – Ежели можете, то простите меня… – нежно и страстно поцеловала его в губы.
– Княгинюшка! – произнес расчувствовавшийся князь Петр и подарил ей ответный поцелуй.
Тихонько, на цыпочках, Максим попытался выбраться из будуара, но его остановил строгий окрик:
– Стойте! Куда вы? А кто оценит мое прекрасное новое платье?..
В десять вечера большая карета, поставленная на полозья, повезла Рубанова и Голицыных к дому вельможи. Немного не доезжая, остановились и, как показалось княгине, «целую вечность» лакей, стоявший на запятках, с кем-то ругался. Наконец, тронулись дальше. Даже в темноте кареты виден был выдыхаемый на морозе пар. Голицына зябко жалась к плечу мужа. Затем снова остановились, на этот раз слушая переливистый мат своего и чужого кучера. Княгиня неожиданно рассмеялась.
«Почему матюги приводят ее в хорошее настроение?» – поразился Максим. Затем еще немного проехали толчками – без конца трогаясь и останавливаясь, – и только тогда лакей открыл дверь.
Первым выпрыгнул Максим и галантно подал руку княгине. Последним вышел князь, и тут же все трое услышали крики и, забыв о холоде, с интересом стали наблюдать, как их кучер за что-то мутузил чужого. Мат стоял выше трехэтажного дворца вельможи…
Закончив поединок, княжеский кучер с поклоном принял от своего господина целковый «за храбрость», и тогда только Рубанов с четой Голицыных направились к ярко освещенному подъезду, оживленно обсуждая происшедшее. Настроение у княгини стало прекрасным, она весело болтала. «Как все-таки моя жена любит простой народ!» – радовался князь Петр.
Скинув на руки лакеям верхнюю одежду, по лестнице поднялись наверх и попали в объятия хозяев. Княгиня долго целовалась с супругой вельможи, успев обсудить двух дам и их туалеты, – и то и другое, разумеется, было препротивным и безвкусным! Голицын с Максимом раскланялись и солидно пожали руку хозяину. Княгиня Катерина оторвалась от хозяйки, лишь когда подошла очередная пара гостей.
– Я к вам непременно подойду, милочка! – пообещала ей супруга вельможи, улыбаясь вновь вошедшим.
– О-о! Какое на вас чудное платье, – приложился к княгининой ручке выпавший откуда-то из толпы Василий Михайлович.
Тут же подоспела и его супруга.
Княгиня Катерина в секунду определила, как прекрасно смотрятся ее мужчины в сравнении с полковником.
«Все-таки я научила корнета элегантно носить вицмундир! – полюбовалась она на Рубанова. – Да и князь Петр у меня молодцом! – Быстро окинула взглядом невысокую стройную фигуру мужа в зеленом гусарском вицмундире. – Ну почему у гусаров к вицмундиру ввели не белые панталоны и башмаки, как у всей нормальной конницы, а эти ужасные зеленые чакчиры[13] и сапоги-ботики?! – чуть было не расстроилась она. – И после всего перечисленного не хочет из гусаров переводиться…» – не успела додумать злободневную мысль, как на нее накинулись две подруги графини и, подхватив под руки, чуть не насильно куда-то увели.
Князь Петр сразу воспрял духом.
– Вы подождите княгиню, а я через минуточку подойду, – нежно улыбнулся Рубанову, и до конца бала Максим его больше не видел.
Прислонившись к стене, он стал разглядывать гостей, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать зевать.
За время дежурства во дворце Рубанов привык к избранной публике и не смущался ею, но до него пока еще не дошло, что сегодня он не наблюдатель, а участник сего красочного и яркого зрелища. При виде генерала в ленте и орденах он чуть было не вытянулся во фрунт, но вовремя спохватился, покраснел и затесался в толпу. «Господи! А ежели придется танцевать?» – вдруг ужаснулся он, наконец-то начиная понимать, что нынче является участником и приглашенным гостем, а не разводящим или даже начальником караула… «В такой массе народа княгиня меня не сразу отыщет», – не успел порадоваться он, как толпа перед ним растаяла, бросившись посмотреть и поприветствовать какого-то важного гостя – им оказался военный министр Алексей Андреевич Аракчеев, и Максим остался стоять в одиночестве. Мимо него скорым шагом, почти бегом, пронеслись две юные дамы, оставив после себя волну духов, пудры и еще чего-то такого остро-женского, что у Максима перехватило дыхание и щеки пошли пятнами. Поглядев вслед дамам, он еще пуще покраснел, так как увидел, что одна из них повернулась, глянула на него и что-то сказала подруге, после чего обе рассмеялись. «Надо мной, наверное!» – сжался он в углу. Рубанов еще не мог правильно оценить себя, казался себе неловким и угловатым, не умеющим сообразить, что сказать и куда деть руки… «Нет ни палаша, ни узды, за которую можно было бы ухватиться…» – Убрал он ненужные ладони за спину и опять привалился к стене, вздрогнув от неожиданности, когда кто-то дотронулся до его плеча.
– Не беспокойтесь за стены, они здесь крепкие, подпирать ни к чему, к тому же это не рекомендуется этикетом, – услышал голос княгини, полный язвительных интонаций, – а пойдемте-ка я вас представлю одной даме! – Куда-то потащила его, спросив без интереса про князя Петра.
Дама, к которой подвели корнета, оказалась теткой вельможи с лентой, и по виду ей было лет сто – не меньше. Она важно и недвижимо сидела в кресле, не опираясь на спинку, и разглядывала подходящих в лорнет, а затем долго чмокала губами, подыскивая нужное слово.
«У-у-у! Вот бы кого в склеп к кавалергардам запустить!.. Тотчас бы в отставку ушли по состоянию здоровья», – подумал Максим и, сдерживая брезгливость, наклонился к сморщенной руке, клюнул ее носом, уловив запах тлена, – и один из всех удостоился ответного клевка в лоб.
– Бабушке ты очень понравился! – шепнула ему княгиня, отводя в сторону.
В этот миг рядом, с хоров, грянула музыка, и Максим не расслышал, что еще сказала княгиня. Центр залы очистился, все расступились к стенам.
– Так где же князь Петр?! – опять вспомнила она, на минуту пожалев, что его нет рядом. «Как было бы здорово стать второй парой!» – размечталась Голицина и окинула взглядом Максима, прикидывая, хорошо ли он усвоил ее уроки.
В этот момент на середину свободного пространства, согласно бальному этикету, вышли хозяин с хозяйкой и стали озираться по сторонам в ожидании поддержки от других пар. Заиграли полонез, и княгиня потащила Максима в центр залы. Ноги у него стали мягче ваты: «Ну почему сразу я? Как было бы здорово очутиться сейчас в гуще боя с палашом в руках!» – размечтался Рубанов, с трудом, как ему казалось, переставляя ноги.
Со стороны же шаг его выглядел упругим, легким и пружинистым, фигура в красном вицмундире – стройной и ловкой, а побледневшее от напряжения лицо с ярко выделившейся из-за этого темной родинкой на щеке, чуть растрепавшиеся белокурые волосы и рассеянный, ни на кого в отдельности не смотрящий взгляд у многих дам вызвали вздох вожделения…
Крепко держа Максима за руку, княгиня встала за ведущей парой. Он замер в какой-то прострации и ничего не ощущал, кроме дыхания и руки партнерши. Только это дыхание и связывало его еще с жизнью. Он не слышал ни музыки, ни смеха, ни разговоров – только рука и дыхание…
И вдруг стало еще тише. «Уже невозможно тише!..» – подумал он и пошел ничего не видя за княгиней, часто дыша грудью и неосознанно улыбаясь. Первое, что он ощутил, вернувшись в реальный мир, – это подрагивающие ноги, затем различил гул голосов и услышал музыку, потом почувствовал поцелуй на щеке и нежный шепот: «Ах какой вы, право, душка!» – Уловил духи, пудру и легкий запах пряного женского пота. Голова постепенно очистилась, и он стал понимать – где он, кто он и что только сейчас совершил!..
Княгиня просто цвела от счастья. «Фурор! Настоящий фурор… Видела я, с какой завистью на меня смотрели многие дамы!»
– Господин корнет! – обратилась она к приходящему в себя Рубанову. – Доставьте мне радость, пригласите дочку моей подруги, – указала глазами, кого именно.
– Да вы что, ваше сиятельство! Совсем, что ли, с ума сошли!.. – попробовал он поднять бунт. – Да это же натуральная старуха! Ей лет восемнадцать, полагаю!..
«Хотела бы я стать такой старухой…» – мечтательно вздохнула княгиня и капризно наморщила носик.
– Ну, ради меня!.. Ну, пожалуйста… вот мазурку заиграли, а в следующий раз пригласишь, кого захочешь! – уже приказным тоном добавила она.
– Ну хорошо, мадам! – согласился Рубанов. – Где там ваша протеже?
Вблизи «протеже» оказалась очень даже ничего, и танцевала она легко и грациозно. Ее открытые до самых плеч руки были нежны и пластичны.
Затем Максим станцевал с ее матерью – графиней Страйковской. Эта дама с таким тщанием ухаживала за своим лицом, что ей не давали более тридцати, хотя было тридцать пять; а самый приятный комплимент для нее, от которого она задыхалась от удовольствия, – это если дочь называли кузиной, желательно, конечно, старшей…
Обе дамы остались без ума от корнета.
Через пару часов, когда обнаглевший и зарвавшийся Рубанов медленным шагом дефелировал по залу, высматривая очередную партнершу, он неожиданно услышал, как вельможа жаловался Аракчееву:
– Государь на бал так и не приехал, вероятно, с Михаилом Михайловичем Сперанским что-то важное для государства решают! – иронично хмыкнув, произнес он, неожиданно расстроив Аракчеева. Через четверть часа тот решительно откланялся и уехал.
Домой все трое ехали молча и в возвышенном настроении. Отчего возвысилось настроение у князя Петра, Максим мог лишь догадываться. Он не ощущал холода, а ноги его в высоких ботфортах, надетых после бала, выбивали такты вальса. Шинель он не застегнул и так и ехал до самого дома, перебирая в уме, кого бы еще из дам можно было пригласить. «Обидно то, что самые красивые – все старше меня, а с этой плоской мелочью, своими ровесницами, и танцевать-то противно… Ну ничего, через два месяца мне грянет семнадцать!»
После бала тайные надежды Рубанова не оправдались, так как княгиня не оставила его в покое, а начала обучать «хорошим манерам».
– Мадам, пощадите, у меня же насморк! – но этот вопль души был для княгини бесшумнее гласа вопиющего в пустыне, а может, она поняла его как намек…
Поднявшись из кресла, она будто случайно обронила платок…
– Ежели дама встала, то и кавалеру должно встать!..
Нехотя Максим поднялся с дивана.
– …А ежели дама обронила платок, кавалер должен, грациозно склонившись, поднять его и протянуть даме с какими-нибудь приличиствующими случаю приятными словами… Наградой за это может стать лобызание дамской ручки! Учитесь, мон шер, – опять обронила платок… И так раз десять кряду!
В последний раз она не успела принять его от корнета, понадобилось срочно выйти в столовую к шеф-повару – видимо, в ее головку неожиданно пришла какая-то гастрономическая идея, и Максим со страшным удовольствием обильно высморкался в эту ненавистную тряпицу с княжеской монограммой, сунув ее затем в карман.
Через день Рубанов начал гулко кашлять, а еще через день окончательно свалился с сильной простудой. Но отдыхал и блаженствовал в одиночестве лишь до вечера. Перед сном явилась княгиня Катерина со свертком в руке и дежурной улыбкой на лице.
– Мон шер! – произнесла она, распуская сверток. – Вам непременно следует надеть эту чудную ночную рубаху.
– А ночной колпак или дамский чепчик вы не принесли?..
– Ваши шутки в данном случае неуместны, а в этой рубахе вам будет очень покойно и удобно.
– Во-первых, в вашем доме топят жарко, и я привык спать нагишом, – сопротивлялся Максим.
– Я никогда не размышляла над тем, как вы спите, моя душа, – произнесла княгиня и свободной от рубашки рукой сбросила одеяло на пол.
Рубанов действительно лежал голым и под взглядом княгини начал извиваться ужом, стараясь прикрыться.
– А была бы на вас рубаха, то вы бы быстро закрылись! – начала напяливать на него ночную сорочку.
Максим сам натянул рубаху и затравленно взглянул на мучительницу. На миг ему показалось, будто Голицына пожалела, что он уже не голый.
– А что, «во-вторых»? – неожиданно спросила она.
– В каких, «вторых»? Ах да-а! Вдруг ночью приспичит, так ведь подол не найду, – развеселил свою госпожу.
– Это еще не все! – отсмеявшись, произнесла та. – Доктор прописал вам лекарства…
– Какой доктор? Какие лекарства? Велите подать водки с царьградским стручком, и все как рукой снимет! – раскашлялся он.
– Фу, какой вы! Вам прогреться следует… Пойду скажу Мавруше насчет грелки.
– Фу, какая вы! – передразнил княгиню. – Распорядитесь лучше, чтобы грелкой была сама Мавруша.
Голицына расцвела:
– Гадкий мальчишка! В присутствии дамы говорите такие пошлости… Кстати, благодаря насморку у вас прекрасный французский прононс, не желаете ли усовершенствовать произношение? Шучу, шучу! – успокоила собравшегося стреляться больного. – Что бы вам такое дать понюхать? – задумалась она, сморщив лобик. – Следует у лекаря проконсультироваться.
– Есть хорошее средство! – облизал Максим пересохшие губы.
– Мавруша?!– улыбнулась княгиня.
– Ага! Только погоняйте ее хорошенько по этажам и пошлите ко мне понюхать, насморк как рукой снимет…
– Нахал! – от души развеселилась женщина.
«Как удивительно она любит скабрезности!» – не впервой поразился Максим.
Через два дня навестить болящего зашли друзья-корнеты. Нарышкин был сама любезность и даже поцеловал Голицыной ручку, однако Оболенский более пришелся ей по душе, случайно ляпнув какую-то мерзость.
«Они стоят друг друга!» – отметил про себя Рубанов.
Корнет постепенно учился разбираться в людях…
19
Перед самым Рождеством, когда голова его пылала от жара, получил письмо из Рубановки. Долго всматривался в расплывающиеся в глазах каракули, с трудом улавливая смысл. Изот сообщал ему, что все хорошо – навоза к весне скопится достаточно. «Скоро вышлю пятьсот рублей, – писал он. – Все живы-здоровы, чего жалают Вам и Кешка, и Лукерья, и Агафон… – начал терпеливо перечислять всю Рубановку. И в конце приписал: – А барыня Ольга Николаевна ушла в монастырь, куда-то в Подмосковье, но об этом она напишет вашему благородию сама».
«Какой монастырь? Причем здесь монастырь?!» – ничего не понял Максим и снова перечитал письмо, опустив приветы и пожелания… Голова гудела, словно монастырский колокол, боль в висках пульсировала и стучала, будто кто-то живой сидел там и взламывал череп, чтоб выбраться наружу. «Ушла в монастырь! Ушла в монастырь! Ушла в монастырь!..» – что-то черное ворочалось в мозгу, мешая ему спать и выздоравливать.
Болел он тяжело и долго.
Без его участия отшумело Рождество и веселые Святки, и лишь на Крещение Максим почувствовал себя несколько лучше. В комнате было жарко натоплено, и он, накинув халат, подошел к окну. Небольшой сквознячок сквозь не плотно проконопаченную раму приятно охлаждал лицо. Максим прижался лбом к замерзшему стеклу, с наслаждением впитывая кожей прохладу. Продышав пятно величиной с ладонь, стал смотреть на улицу: на торопящихся по делам обывателей, на сани, летящие куда-то в неизвестность, и на веселых мальчишек, стремящихся прицепиться к задку саней и прокатиться. «Ушла в монастырь… – уже спокойно вспомнил про письмо, – следует непременно узнать, в какой именно, и навестить», – подумал он, оборачиваясь на скрип двери.
– Слава Богу!.. Господину корнету лучше, – услышал Рубанов и увидел довольную улыбку княгини Катерины. Как вы всех перепугали, несносный мальчишка, – чмокнула его в щеку. – Сейчас же в постель, а Марфуша принесет чаю с малиной, – распорядилась она. – Если бы вы знали, как я скучала, то ни в жизнь бы не заболели…
Молодость брала свое, и Рубанов быстро пошел на поправку, катаясь с княгиней на санях и даже делая светские визиты.
В ночь на Крещение Голицыны и Рубанов отстояли службу в церкви, а по окончании княгине пришла в голову мысль посетить графинь Страйковских. Князю Петру хотелось спать, и он уговаривал ехать домой, хотя прекрасно знал, что переубедить супругу не удастся.
– А как их зовут? А то что-то в голове после болезни все перемешалось, – поинтересовался у княгини Рубанов, трясясь в знакомой уже карете.
– Дочка – Ангелина, а ее маман – Катрин, – опередил жену князь Петр.
– Не перепутай! – предупредила Голицына.
– И не забудь какой-либо комплимент насчет юного возраста маменьки, – съехидничал недовольный визитом князь.
– Ва-а-ше сиятельство?! – укоризненно глянула на супруга княгиня Катерина и потеплее укутала шубой корнета.
Разумеется, то ли нарочно, то ли случайно, Максим все перепутал. Облобызав ручку маменьке, он спросил:
– А где ваша маман, мадемуазель Ангелина?
Княгиня ужаснулась, а графиня, напротив, просто расцвела… «Вот это обрадовал, так обрадовал!» – У нее даже голова закружилась от удовольствия.
«Мощный комплимент!» – уважительно и с оттенком зависти оценил князь Петр.
– Ой, простите, сударыня, сразу не разглядел… – будто только сейчас заметив оплошность, произнес Максим, но Голицына, разобравшись в ситуации, на всякий случай, будто в шутку, закрыла ему рот, чтобы не испортил громадный эффект.
Домой вернулись лишь поздним утром, оставив старшую Страйковскую в весьма приподнятом настроении. Вечером нанесли визит царскому другу и любимцу, дяде князя Петра – Александру Николаевичу Голицыну.
– Наконец-то, наконец-то появился, господин полковник, – подставляя щеку для поцелуя племяннику, произнес этот малого роста вельможа с уже начинавшей лысеть головой.
Лицо его в ранних морщинах довольно улыбалось. Он галантно раскланялся с княгиней и пожал руку Максиму. Отведя князя Петра в сторону, тут же начал жаловаться на Аракчеева. Александр Николаевич ненавидел Аракчеева до такой степени, что даже не раскланивался с ним в присутствии государя.
– Ваше сиятельство! – обратился к дяде князь Петр, терпеливо выслушав поток жалоб. – Недавно встречался с Марьей Антоновной, и она очень просила вас быть у нее, очень просила! – дотронулся он до маленькой холеной руки князя.
– Увидишь, скажи, что непременно буду! Что же она сама-то ко мне не пожалует? «Видимо, снова с государем поссорилась!» – подумал он. В любовных ссорах императора Александра с Нарышкиной Голицын являлся всегдашним и постоянным их примирителем. В данном вопросе Аракчееву было далеко до своего конкурента на царское сердце.
В свете очень завидовали этой добровольной обязанности князя, а граф Аракчеев, разумеется от зависти, бранил его «старым сводником». Александр Николаевич знал это от доброжелателей и особенно обижался на «старого».
Чуть погодя в их разговор, не выдержав, включилась и княгиня.
Максим, словно губка воду, впитывал в себя светские сплетни.
В конце января Голицына протянула Рубанову письмо от Ольги Николаевны.
– Что же вы не интересуетесь, господин корнет, Ромашовыми? Разлюбили уже Машеньку? Какие вы, мужчины, все-таки непостоянные… – оставила она его одного.
«Что хотела сказать княгиня?» –думал Максим, читая письмо. На этот раз он уже не был так потрясен, узнав, что мать стала послушницей в женском монастыре. «Я очень и очень виновата… – читал он, а думал о том, что же не досказала княгиня, – буду замаливать свои грехи…» – бегали по строчкам его глаза, а мысли были о другом. Наконец, не выдержав, сложил письмо и направился к княгине.
– Ваше сиятельство, извольте до конца изъясниться. – Встал он в воинственную позу.
– О непостоянстве?.. – расчесывая волосы, глядела на него через зеркало Голицына. Глаза ее смеялись.
– Черт-дьявол! – вскипел Максим. – Разумеется, о Мари.
– Так бы и сказали! – миролюбиво произнесла она. – Вы не спрашивали, я и не говорила… Еще перед Рождеством генерала направили в Малороссию за новым назначением – принимать дивизию. Дочь он забрал с собой.
Постепенно жизнь начинала нестись по накатанной колее, и Максим даже появился на службе.
– Ха-а! Рубанов. Сколько лет сколько зим… Скоро забудем, как ты выглядишь, – колотил по его спине Григорий Оболенский и радостно улыбался. – Слава Богу – выздоровел! Говорю же вам, самое лучшее лекарство – это трактир… Смотрите, какой я здоровый! Потому что регулярно занимаюсь самолечением…
Казарма дрожала от княжеского баса.
– Пойдемте куда-нибудь сядем, – предложил Нарышкин.
-В «Гренадера» ежели… – поддержал Оболенский, усаживаясь на свои бывшие нары. – Наконец-то втроем собрались! – гремел он. – Говорю тебе, Рубанов, переходи жить ко мне… Хотя вон Нарышкин с сеструхой больше времени проводит, нежели со мной, – обидчивым голосом произнес он. – Домашние спектакли ставят… – язвил князь. – Меня как-то пастушком назначили… Га-га-га! – видно, вспомнил он что-то приятное. – А там еще нимфы были и сатир!
– Сатира играл пожилой господин, майор в отставке Ильин, – перебил князя Нарышкин.
По виду его Максим понял, что он не поддерживает шутки князя и к домашнему театру относится серьезно.
– Старичок был безобидный и с удовольствием играл пиесу. К тому же больной… – укоризненно глянул на князя Нарышкин.
– Ага, больной! – опять встрял в разговор князь. – Замучил меня и нимф разговорами о своем почечуе.[14] Сатир – тоже мне!
– А почему «был»? Скончался, что ли, на нимфе? – поинтересовался Максим.
– Ха-ха-ха! – радостным смехом отметил его шутку князь. – Да нет, я поджег его козлиную шкуру! Вот это сатир метался… и о почечуе забыл! – веселился Оболенский.
– Зато теперь дедушка ни в какую не соглашается играть сию роль, – горестно произнес Нарышкин, и вдруг глаза его загорелись творческим огнем.
– А вы, Рубанов?! Вы же превосходный сатир!
– Не слушай его, – обнял за плечи Максима князь, – моя кузина совсем графа Сержа запутала в своих тенетах, как впрочем вас, Рубанов, княгиня Катерина.
Мы с Нарышкиным густо покраснели.
– Ведь чего они читают? – не мог успокоиться князь. – Я как-то подсмотрел – толстенную книгу под названием «Дамской врачъ».
Нарышкин покраснел еще сильнее.
– Я не поленился раскрыть эту книженцию и тут же наткнулся на главу «О способах предохранить линяние волосов». Это же надо!
Нарышкин что-то слабо попытался возразить, а Максим пригладил свою прическу, с трудом удерживаясь от смеха.
– А Серж впридачу закладкой отметил страницы, в которых можно прочесть «о благоприятных минутах исполнить должность брака…». Ха! Да для этого каждая минута благоприятна!.. А сеструха отметила главу «Как сделать старое лицо наподобие двадцатилетнего», а самой только еще пятнадцать будет. Во чудя-а-т! Да лучше несвежую водку у Мойши пить, чем такую дребедень читать…
– Почему несвежую? – удивился Максим.
– Да блюю после четырех бутылок! – заржал Оболенский.
– Князь, – вступил в разговор гордо поднявшийся с нар Нарышкин, – ежели не перестанете таким тоном отзываться о наших занятиях, то я буду вынужден предложить вам сатисфакцию[15]. – Театрально выставил грудь и отставил ногу назад корнет.
– Сатир-р-факцию! – передразнил с ухмылкой князь. – Во-о! – показал свой кулачище. – Сразу волосы слиняют… – оглядел присутствующих, – и никакой «Дамской врачъ» не поможет, – ласково улыбнулся друзьям.
– Кстати, пока не забыл, – спохватился Максим, подумав, что разговоры после разлуки можно вести бесконечно, – сообщаю заранее… У меня, как вы помните, девятнадцатого февраля – день рождения… Намечается бал в доме Голицыных… Окажите любезность… Осветите своим присутствием, – дурачась, забормотал он.
– Тьфу, артисты! Пьянка, что ли, ожидается? Так и скажи… – обрадовался Оболенский.
– И кузину, и родных пригласите, – успел произнести Максим перед тем, как князь потащил их к «Мойше».
В трактире после ерша из шампани с водочкой Нарышкин принялся обличать пьянство и превозносить искусство.
– Господа! – обращался он к друзьям. – Какое это счастье – прислониться к высокому!..
– А еще к мягкому и теплому! – заинтересованно подтвердил Оболенский.
К искусству, князь Григорий, к искусству! – опрокинул в себя вторую рюмку Нарышкин.
– К нимфам, что ль? Со всей душой! – не отказывался князь, в свою очередь с удовольствием хлебнув напитка. – Но я не считаю актеришек этих и их болтовню со сцены – высоким искусством. По-твоему, сударь, получается, что ежели крепостная девка хорошо роль вызубрила да оттарабанила с подмостков, так она уже аристократка духа? Образованна и умна?.. А по мне – как была дурой, так дурой и осталась, только не простой, а избалованной… Да я культурнее ее буду. Ей-богу!..
– Господин корнет, что вы несете? – злился Нарышкин. – Даже наши друзья, незабвенные кавалергарды, и то думают о возвышенном – по подписке распространяют среди молодых гвардейских офицеров билеты на итальянскую оперу…
– Что за вздор?! – поперхнулся князь. – Неужели, и они сбрендили?.. Не верю!
– Не верите?.. Да я у них целую дюжину билетов купил на лучшие места. И в партер на первом ряду, и в ложу. Кроме вас, милый князь, все с восторгом относятся к искусству.
Оболенский сделал недоверчивое лицо и принялся разглядывать билеты.
– А вам, Рубанов, настоятельно рекомендую посетить оперу. Не берите пример с Григория, – протянул Максиму три билета в ложу.
В первых числах февраля Рубанов с княгиней Катериной отправились в театр. У князя Петра нашлась масса важных дел, и он от посещения оперы отговорился. Максим впервые попал в театр и с интересом осматривался. Оделся он не в вицмундир, а в любимую белую форму, поэтому чувствовал себя весьма уютно. Откуда-то снизу раздались звуки музыки – оркестр налаживал инструменты, и он, наклонившись из ложи вниз, принялся разглядывать партер. Все первые ряды занимала гвардейская молодежь и, что поразило корнета, – в основном без дам. Далее за ними сидели чиновники и провинциальные офицеры, попавшие по каким-то своим делам в столицу. Здесь дам было уже поболе.
– Странное сегодня общество… – Разочарованно отняла от глаз лорнет княгиня Катерина, – из высшего света – единицы. Я собственно посещала спектакль, пока вы болели, душа моя, но тогда было совсем иное дело… – Опять подняла лорнет к глазам и принялась рассматривать ложи напротив. Все же кого-то высмотрела, так как подняла руку и помахала, радостно улыбаясь.
Максим, наконец, увидел, как чинно, друг за другом, вошли и сели с краю в первом ряду Нарышкин и Оболенский с сестрой и теткой. Оркестр, словно только их и ждал, с облегчением заиграл увертюру.
Занавесь пока не поднималась. Князь Григорий, зевнув, протянул руку и поковырял рампу. С другой стороны первого ряда сидели трое кавалергардских корнетов и увлеченно что-то обсуждали. В руках у Волынского Максим с удивлением обнаружил небольшую подзорную трубу. Наконец занавесь поднялась, и все обратили взгляды на сцену. В глубине ее Максим различил колышущиеся от сквозняка стены замка из черного полотна и рядом с ними бугор из картона и фанерный крест. «Видать, могила!» – отметил для себя. Перед могилой стоял на коленях какой-то толстый субъект. Затем он нагнулся, наставив на ложу, где сидел Максим, жирный зад, обтянутый панталонами, – княгиня при этом с интересом навела лорнет; потом с трудом поднялся с колен, покраснев от натуги, и, широко раззявив рот, запел. В партере раздались громкие хлопки в ладоши. «Так и есть… Оболенский! – хмыкнул про себя Максим. – Великий ценитель искусства…» Толстый субъект несколько раз подпрыгнул, тряся ягодицами и подняв руки к потолку. Тут же откуда-то сверху на голову ему по веревке спустился тощий высокий мужчина в черном костюме в обтяжку и с длинным веревочным хвостом. При этом толстый субъект сумел проворно уклониться от трагического соприкосновения и что-то опять запел, к нему тут же присоединился прилетевший, поправляя шпагу и черную шляпу. «Вообще-то черному полагалось из-под земли вылезти», – нашел ошибку Рубанов. Между тем, скривившись, толстый рухнул на колени и стал кланяться дьяволу, что-то выклянчивая у него. Нечистый гордо выпятил впалую грудь и подошел к краю сцены, затем, чего-то запев, резко развернулся, и хвост его, сделав оборот, свесился с рампы и тут же был придавлен к ней ботфортом князя Оболенского. Нечисть, сделав грозное лицо, шагнула было к толстому, но почувствовала, что штаны на тощих ляжках оттопыриваются. Потоптавшись на месте, дьявол с испугом подергал хвост руками, и, если бы не сердобольный Нарышкин, он его в этом акте мог и не освободить, даже если бы переметнулся к Богу.
В партере дьявольский конфуз заметили не все, но в ложах раздался смех. Из-за могильного картона неуверенно выглянула женская голова, и толстый махнул ей рукой – вставай, мол, душу по случаю загнал… Женщина обрадовалась и стала прыгать по сцене и петь.
Рубанов заметил, как Волынский поднял подзорную трубу и тут же опустил ее. «Ослепли, что ли, на первом ряду и с окулярами…» – задумался Максим. На этом первый акт закончился, и трое кавалергардов помчались за кулисы. Нарышкин обернулся к ложам и стал выискивать Рубанова, лицо его что-то не было одухотворено искусством. Оболенский в это время о чем-то заспорил с кузиной, а старая тетка крепко спала. Мирские страсти уже не волновали ее, главное – Софьюшка находится под присмотром.
Княгиня Катерина во время антракта направилась поприветствовать какую-то даму, а Максим поленился выходить и со скукой таращился то на сцену, то в партер. «У Мойши интереснее посидели бы, – сделал он вывод, – но может, вся «соль» еще впереди?..»
Во втором акте на сцене, кроме трех предыдущих лиц, появилось много девиц в коротких юбочках. Они стали бегать, треща половицами, и петь, потом построились в ряд, затем из ряда выбежали две и запрыгали, высоко вздергивая ногами и смеясь. Кавалергардские корнеты рвали друг у друга подзорную трубу и радостно причмокивали. Нечистый удивленно выкатил глаза и попятился от двух веселых девиц к краю сцены, но остановился, вовремя вспомнив про Оболенского. Толстый снова рухнул на колени, только лицом не к дьяволу, а к девицам. Вызволенная им с того света невеста стояла с таким видом, словно раздумывала – не уйти ли ей обратно в могилу… Две девицы, кончив прыгать и махать ногами, убежали за спины своих подруг… Гвардейские офицеры бурно зааплодировали, а княгиня Катерина удивленно глядела на них, отложив лорнет. «Явная мура!» – зевнул Максим, стыдливо закрыв рот ладонью.
В третьем акте намалеванные на полотне деревья изображали лес. По доскам сцены, взявшись за руки, медленно шествовал толстозадый пожилой жених со своей невестой. Вид у них был такой, будто весь антракт они дрались. Дьявола на этот раз поблизости не наблюдалось. «Видимо, хвост подшивает», – подумал Максим. Под звуки музыки из-за полотна, изображавшего лес, весело вымахнули две давешних веселых девицы и снова принялись взбрыкивать ногами, звонко вереща при этом. Жених, увидев их, опять было собрался рухнуть на колени, но невеста удержала нареченного, пнув его коленом, как показалось Максиму, по толстой заднице. В первых рядах партера раздались бурные овации, и гвардейская молодежь вырывала друг у друга подзорные трубы. Самыми спокойными в этом вопросе были офицеры гвардейского флотского экипажа, потому как у них на каждого приходилось по мощной морской трубе. «Что-то тут не так!» – подумал Максим, глядя, как выбежавший на сцену дьявол, обхватив за талию девиц, утащил их за кулисы…
Все он понял лишь на следующий день, когда расстроенный Оболенский разъяснил ситуацию:
– Я теперь тоже искусство полюблю! – вещал князь. – Вот так кавалергарды! Ишь чего учудили, а я и не знал…
– Да в чем дело-то? – перебил его Максим. – Чем тебя кавалергарды потрясли.
– Как чем, господин корнет?.. У девиц под юбками, оказывается, ничего не было… За это им хорошие денежки гвардейцы собрали! Теперь этих бестий ищут… а они с утра труппу покинули. Полагаю, к кому-нибудь из кавалергардов в имение уехали, – с завистью произнес он. – А все вы с графом виноваты! – горестно взвыл князь. – Закружились со своими дамами…
Когда Рубанов рассказал княгине Катерине, в чем заключалась «соль» вчерашней оперы, она весь вечер не могла успокоиться от восторга.
– Жалеете наверное, что в партер билеты не взяли? – допытывалась она.
– Да нет! Чего там жалеть? – ответил Максим, но кислый вид выдавал его.
В середине февраля вечером, когда Рубанов ехал на извозчике домой, одновременно пытаясь зарыться в бобровый воротник шинели и в то же время глядеть по сторонам, он вдруг заметил на Невском под тускло освещенным окном второго этажа знакомцев кавалергардов. Чуть в стороне от них стояли сани. Задрав головы, кавалергарды пялились на тусклое окно и что-то эмоционально обсуждали.
– Здравия желаю, господа корнеты! – ткнув извозчика, чтоб остановился, поприветствовал он на миг растерявшихся гвардейцев и вылез из саней.
«Неплохо смотрятся, черти!» – оценил трех друзей Рубанов и протянул им руку в перчатке.
– Лопни мои глаза, ежели это не Рубанов, – пошутил Шувалов, в свою очередь протягивая ему руку.
– Рад приветствовать вас, господин корнет, – расшаркался Волынский, и, ловко щелкнув шпорами, молча пожал руку медведеподобный Строганов.
«Пожалуй, он скоро здоровее Гришки Оболенского станет», – подумал Максим.
– Кого-то ждете?
– Нет, нет, нет! – дружно отказались кавалергарды, косясь на окно.
«Врут, мошенники…» – Ну что ж, не стану вам мешать мерзнуть, господа, а разговоры приятнее вести в помещении, посему милости прошу девятнадцатого на бал в честь моего дня рождения! – пригласил их и назвал адрес Голицыных.
День рождения начался для Рубанова как обыкновенный рядовой день – лишь не надо было идти на службу. Поздравлений от императора не последовало, и звезду на молодецкую грудь корнета вешать никто не собирался. Однако после обеда князь Петр поздравил Максима и преподнес тысячу рублей – вот это да-а!!! А княгиня Катерина долго целовала именинника, прижимаясь к нему маленькой упругой грудью, и подарила еще один красный вицмундир.
– Извольте нынче на бал надеть непременно его, мон шер, – строгим голосом дала она рекомендацию.
На этот раз Рубанов являлся центральной фигурой и самостоятельно встречал гостей. Внимательно выслушав дребезжание старого лакея, широко улыбаясь, раскланивался с очередным гостем.
Кавалергардские корнеты явились одними из последних, сразу вслед за вельможей. Сняв шинели внизу, они энергично поднимались по лестнице, на ходу оправляя свои красные, как и у конногвардейцев, вицмундиры. Неожиданно для себя Максим с интересом сравнил их черные с серебряными петлицами воротник и обшлага со своими темно-синими с золотыми петлицами. Конногвардейские ему понравились больше. «Тьфу ты! – подумал он. – От княгини Катерины заразился, наверное…» К огромнейшему огорчению Оболенского, присутствующая гвардейская молодежь воспринимала кавалергардских корнетов после истории с оперой как национальных героев? Да плюс ко всему в день, когда их встретил Рубанов, они помогли Волынскому похитить юную белошвейку. Подставив лестницу, умыкнули ее из окна второго этажа и теперь пожинали лавры восхищения. Максим даже заподозрил, что им важнее восторг и известность в кругу гвардейцев, нежели сама бедная белошвейка.
Мрачный Оболенский, завистливо стиснув зубы и нахмурившись, сидел на диване в гостиной, когда Рубанов подвел к нему графиню Страйковскую с дочерью и познакомил их. Часть морщин на челе князя разгладилась, и через полчаса он вовсю танцевал мазурку со Страйковской-дочерью. «Как бы князя на котильон в стиле а-ля Оболенский не потянуло…» – волновался Рубанов, но вечер прошел спокойно, весело и со вкусом. Оболенский покинул общество почти трезвым и с какой-то идеей в хмурых глазах. Максим переглянулся с Нарышкиным: чего-то задумал князенька. Не дает ему покоя кавалергардская слава.
Поздно ночью после бала, когда князь Петр отправился спать, княгиня Катерина, сидя перед зеркалом в уютном своем будуаре, обсуждала с Максимом прошедший вечер и гостей.
– А один из кавалергардских корнетов очень даже ничего… – Снимала она льняным платочком пудру и румяна с лица. – Ну тот, черноволосый, с красивой улыбкой…
– Волынский, что ли? Баба длинноволосая! – неожиданно приревновал Максим.
– Баба не баба, – повернулась к нему княгиня, причем халат разломился надвое у нее в ногах, высоко открыв их, – …а большинство дам без промедления готовы были отдаться ему!
– Ва-а-а-ше сиятельство… – укоризненно произнес Рубанов. – А сами-то вы как? – через минуту, покраснев, поинтересовался он.
– Хладнокровно! У меня другие планы… – снова повернулась она к зеркалу, натянув халат на своих аккуратных ягодицах.
Глядя на нее, Максим непроизвольно вздохнул и забросил ногу на ногу, скинув одну туфлю на ковер.
– Пятку натер! – пожаловался княгине. – Даже чулок протерся. – Подняв ногу, продемонстрировал ей дырку.
– Прекрасно! – неожиданно обрадовалась та. – Завтра по магазинам поедем – чулки покупать. А я палец растерла. – В свою очередь подняла ногу, снова повернувшись на пуфике, и удобно устроила ступню на коленях у корнета.
– Видите, большой палец с боку покраснел? – Халат снова распался на две части, потому как был завязан лишь на поясе.
«Ой!» – вздрогнул Максим.
Произведя нужный эффект, княгиня запахнула халат и придержала руками.
– Разотрите мне палец, – велела она, – да не так сильно жмите, медведь вы этакий…
Через неделю после бала на плацу конногвардейского полка к Рубанову с таинственным видом подошел Григорий Оболенский. Взяв под руку, отвел в дальний угол и, оглядевшись – нет ли кого поблизости, прошептал:
– Господин корнет, требуется ваша помощь…
– А чего тихо говоришь?
– Ай, ай! – замахал руками князь и опять закрутил головой. – Вдруг кто услышит? Тогда все сорвется. Пока я особо не афиширую мероприятие… – Чего так удивленно глядишь, Рубанов? Пора и конногвардейцам размяться! – расправил он плечи.
– Да в чем дело-то, скажи ради бога. И не крути пуговицу на шинели, это тебе не купчихин сосок…
– Ха-ха! Хм! – прихлопнул рот ладонью Оболенский. – Тихо, тихо, – кому-то посоветовал он и вновь огляделся по сторонам. – Сегодня лезу в окно к младшей Страйковской… вроде бы она не против, чтоб ее похитили и тайно обвенчались.
– Так ты влюбился, князь? – хлопнул его по плечу Рубанов.
– Причем здесь влюбился, – обиделся он. – На что только не пойдешь, дабы кавалергардов переплюнуть. Вы с Нарышкиным затихли, самому думать приходится!
– Желаешь обвенчаться, лишь бы уесть кавалергардских корнетов? Стоит ли? – с сомнением произнес Максим.
– Именно стоит! Сегодня в восемь вечера будь дома, но в боевой готовности. Мы с Нарышкиным заедем за тобой, – ушел он к своему взводу.
«Вот чудак! – рассуждал Максим, дожидаясь вечером князя. – Венчаться ради приключения и чтоб говорили в гвардии… Чушь и глупость! Но попробуй-ка отговори…»
Поздним вечером слуга доложил Рубанову, что его на улице ожидают друзья.
– Сударь. Скорее в сани, – зашипел откуда-то из темноты князь.
Рубанов с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, когда глаза его привыкли к темноте и он увидел на санях длиннющую лестницу и голову Нарышкина между перекладин.
– Вот! – тоскливо вздохнул тот.
– Вижу, что «вот», – полез в сани Рубанов.
– А в это время мы с Софьюшкой «Нанину» репетировать должны… Она – Нанина, а я – граф.
– Тише, тише ради Бога, – взмолился Оболенский, – а то Голицына случайно выглянет и чего-нибудь раньше времени заподозрит… Трогай! – велел он извозчику.
– А чего она заподозрит? – кое-как расположился в санях Рубанов. – Подумает – подрабатываем… Едем дымоходы чистить!
Нарышкин грустно хохотнул.
– Да ну тебя, Рубанов. Не до смеха сейчас, – осудил его поведение Оболенский. – Я уже и со священником договорился… А что? Девушка она чувственная, из хорошей семьи, – сам с собой общался князь, – я буду с врагами биться, а она меня дома ждать…
– Первого сынка назови Максимом, – подал голос Рубанов, опять развеселив Нарышкина.
Князь на шутки не реагировал.
– Будто подъезжаем! Тише! Вон тот дом. Остановимся подальше. Стой, тебе говорят, – схватил за плечо кучера и выпрыгнул из саней, громко зазвенев шпорами. – Какое же окно? Что-то кругом свет горит… – задумался он. – Ну что ж, подождем немного. Пойду-ка я до арки прогуляюсь…
– Серж. Однако прохладно сегодня, – помог Максим другу выбраться из-под лестницы и благополучно вылезти из саней. – Чего ты не попытался отговорить его от этой аферы?
– Великим романтиком их сиятельство стал. Кавалергардов обойти захотел… Те – белошвейку, а он – графиню… Ради этого и жениться согласен, – запрыгал Нарышкин, загремев шпорами. – Зябко, однако… Скорее бы, что ли, свою пассию похищал. И зачем ты их познакомил?
Максим поднял бобровый воротник шинели.
– И не подумаешь, что весна через день, – тоже запрыгал он. – Давай лестницу, что ли, с саней снимем, а то вон будочник полюбопытствовать идет.
Маленький худой будочник, высунув нос из бараньего тулупа, подозрительно оглядел господ, затем перевел взгляд на лестницу, пожал плечами и направился в свою полосатую будку.
Ямщик молча дремал на облучке. Заплатили ему прилично, за такие деньги можно и холод потерпеть. Стараясь не греметь шпорами, к ним подошел князь.
– Гаснут окна! Скоро все решится. Эх, выпить бы сейчас! – вздохнул он и опять отправился под арку.
– Ежели мне в таких условиях жениться предложат даже на принцессе – то я непременно откажусь! – дрожащим голосом произнес Нарышкин. – Вызвездило как! Морозец прямо крещенский…
– Чу! – поднял руку Максим. – Со свечой кто-то вышел… Пойду гляну… Увели нашего князя в дом, – через некоторое время сообщил он Нарышкину.
– Похоже, прислуга вышла.
Время тянулось необычайно медленно. Корнеты бегали, прыгали и приседали, но Оболенский все не шел.
– Полночь уже! – с трудом шевелил губами Нарышкин. – Я лучше бы два караула подряд на посту отстоял, нежели здесь мерзнуть… Да над нами вся гвардия ржать будет, когда два трупа утром найдут, – дрожащим голосом говорил он.
Рубанов молча терпел пытку холодом.
– Полагаю, в данную минуту чай с графиней пьет. Когда наконец он ее похитит? Я сейчас сам пойду и выкраду! – начинал злиться Нарышкин.
Ямщик медленно вылез из саней и накрыл лошадь попоной.
– У меня имеется выпивка, коли господа желают… – произнес он.
– Чего же молчал? Еще как желают! – оживился Нарышкин.
При слове «выпивка» будто из-под земли неожиданно вырос будочник.
«Мистика какая-то, – подумал Максим, направляясь к кучеру, – видимо, это слово служит паролем для вызова духов».
– Мало здесь, всего полбутылки, – отшил будочника ямщик, и тот так же неожиданно исчез.
После водки на некоторое время стало теплее. Все окна в доме погасли.
«Сейчас выйдут», – решил Максим, но еще долго никто не появлялся.
Осерчавший будочник под утро стал придираться.
– И чего вы, господа, всю ночь тут прыгаете? Злодейское что надумали? Узнал я вас! Думали, не узнаю… – многозначительно произнес он и высморкался в снег. – Помню, как вы в трактире позапрошлым летом бучу затеяли!.. После того, как меня головой стукнули, память хо-о-ро-шая стала, все помню, – мстительно сипел будочник. – И опять чего-то удумали! Сейчас свистать зачну!.. – пригрозил он.
– Чупыга, что ли? – чему-то обрадовался Максим.
– Не Чупыга, а Чапага! – поправил его Нарышкин довольным голосом, так как из-под арки наконец-то показался Оболенский без треуголки и в кое-как накинутой на плечи шинели.
– Ради бога, простите господа! Вечный ваш должник теперь…
– Чипига! – перебил его будочник, правильно назвав свою фамилию. – Попался голубчик! – ухватил он за рукав шинели князя и тут же получил легонько в лоб. Но этого для него оказалось достаточно, чтобы улететь в грязный сугроб, обильно помеченный собаками.
– После все расскажу, судари, скорее уезжаем.
Когда сани тронулись, будочник начал медленно вылезать из мусорной, пополам со снегом, кучи.
– Теперь память вообще прекрасная станет! – произнес Рубанов.
Нарышкин рассмеялся, а Оболенский, ничего не поняв, принялся рассказывать о случившемся.
– Представляете, господа!.. Сейчас, кстати, ко мне едем. Согреться вам надо. Так вот. Вышла служанка и пригласила меня войти. Я удивился, конечно, но вида не подал, потому как договор был в окно лезть. В комнату вошел – темно и тихо! Растерялся поначалу, затем увидел: в кресле кто-то сидит. Ага, думаю… ждет. Но почему не в шубе? «Раздевайтесь!» – услышал шепот. Сбросил на диван шинель. Женщина встала из кресла и начала помогать. Лица не вижу – темно. Затем взяла меня за руку и повела в постель. И знаете, господа, все у нас получилось…
Ямщик хмыкнул, но, крепко получив по спине, стал внимательно следить за дорогой.
– Это было прекрасно! – вдохновенно пел князь. – Но, о ужас! – понизил он голос. – Позже я догадался, что это не дочь, а мать…
– Вот так номер! – удивился Нарышкин.
– Такой приятной путаницы мамаша Страйковская, полагаю, еще не испытывала… – задыхался от смеха Рубанов, – грандиознейший комплимент… почище моего.
– А может, она кого другого ожидала? – предположил Нарышкин.
– Да какая теперь разница, – легкомысленно отмахнулся Оболенский. – И венчаться не надо! Теперь через неделю к ней в окошко полезу, а уж там – куда попаду…
Однако лезть ему никуда не пришлось. Через неделю графини Страйковские срочно отбыли в родовое поместье.
– И чего они так рано в деревню уехали? – удивлялся Нарышкин.
– Видимо, дочка что-то от служанки узнала и скандал маменьке учинила! – предположил Максим. – Вот и уехали от греха…
– Ну и бог с ними! К следующей зиме вернутся, – не князем, а королем ходил Оболенский, так как слухи стали просачиваться в гвардию и общество.
И, как позапрошлым летом, полицейский офицер вместе с Чипигой пришли жаловаться на корнетов. Чипига, как и в тот раз, бесконечно улыбался.
«Видимо, сначала смеется, а затем память начинает улучшаться», – сделал вывод Максим, находясь на этот раз в кабинете полковника Арсеньева, а не поручика Вебера.
– Да случайно задел его, ваше высокопревосходительство, – божился Оболенский. – Вот делов-то! Ежели желает, дам денег на лекарство.
Будочник желал…
Теплым мартовским днем три конногвардейских корнета медленно ехали верхами по Невскому и лениво шутили по поводу сегодняшнего церковного праздника, из-за которого государыня решила посетить церковь – был День святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся. По легкомыслию и юной привычке все высмеивать они абсолютно не соболезновали несчастным, пострадавшим в Севастии Армянской.
Максим еще подумал: «Слава Богу, что рядом нет старой няньки, досталось бы мне на орехи, услышь она такое богохульство…»
В этот-то момент на глаза ему и попался пьяненький Чипига. Увидев корнетов, он независимо выпятил свою впалую грудь и напыжился.
В голове у Максима неожиданно созрел «дьявольский» план, с которым он тут же ознакомил друзей. Оболенский от счастья чуть не вывалился из седла и с нетерпением стал ожидать ночи.
Ровно в полночь, как и положено во всех злодейских начинаниях, друзья подъехали на извозчике к местопребыванию будочника Чипиги. Тот еще не спал, но, помянув каждого из сорока мучеников: и Кириона, и Кандида, и Домна… – сидел в будке весьма ослабший. Пост в этот день облегчался, поэтому он еще и натрескался скоромного… В животе было всего вдоволь, а на сердце тепло и уютно. Будочник ни с кем не гавкался, а сидел благожелательно, тихо и скромно, пока не заметил трех конногвардейцев. «Вот нехристи, – миролюбиво подумал он, – за их денежки мне так хорошо».
Корнеты на этот раз оделись в походную форму, так как для начала им пришлось слазить на чердак. Там, смеясь и чихая от пыли, они распили из горлышка бутылку мадеры и начали осуществлять свой «дьявольский» план. Оболенский в слуховое окно выбросил длинную веревку, которую купил втридорога днем у Мойши, и они с Рубановым остались ждать условного сигнала, а Нарышкин спустился вниз и несколько раз обмотал будку со спящим уже Чипигой этой самой веревкой. Затем отошел на противоположную сторону, зажег свечу и помахал ею. Поднатужившись, двое корнетов потянули будку вверх и, подняв ее примерно на уровень второго этажа, крепко привязали жидовский канат к стропилам. К их огромнейшему разочарованию, Чипига спал сном праведника, свесив из будки ноги, – видимо, в процессе подъема съехал со скамейки.
– Ну что ж, дождемся его пробуждения! – решили они, распивая еще одну бутылку мадеры.
Неизвестно, кто кого больше измучил, потому что будочник, как и положено людям с чистой совестью, проснулся только утром по зову мочевого пузыря. Некоторое время он искал ногой твердь земную, но не найдя оной, выглянув, внимательно осмотрелся и, сопоставив факты, огласил окрестности тоскливым утробным воплем. Будка начала опасно раскачиваться, и в этот момент мочевой пузырь благополучно опростался…
Усталые конногвардейцы покатывались со смеху, глядя на испуганное и озадаченное лицо Чипиги. К ним присоединилось несколько прохожих, среди которых случайно оказался и Строганов.
– Ваша работа? – завистливо поинтересовался он и тут же куда-то заспешил с огромной тоской в похмельных глазах, что окончательно искупило все муки ожидания.
Чипига через час внешне успокоился и гордо стал сравнивать себя с сорока мучениками, осужденными пробыть ночь в озере, покрывшемся льдом. «Мне легче! Сейчас не дует северный пронзительный ветер, как тогда, – радовался сорок первый страдалец, – a штаны скоро высохнут». Окончательно успокоившись, он сел на скамью и терпеливо принялся ждать освобождения, рассчитывая хотя бы на медаль за перенесенные страхи и мучения.
Вызволили его лишь к обеду, крепко наклав в шею за сон на посту. У Чипиги, конечно, нашлись свидетели, и на этот раз корнетам пришлось отбыть трое суток на Сенатской гауптвахте.
Содержали их там с величайшим уважением и почетом…
И до тех пор, пока кавалергарды не вывалили на Никольском рынке одного слишком хитроумного купчишку в его же бочке с медом и не распороли потом над ним подушку, заставив несчастного кукарекать на весь рынок, Оболенский ходил по Невскому уже даже не королем, а императором…
Прослышав обо всех этих историях, княгиня Катерина простила Рубанову его ночные отлучки. К тому же время ее было занято подготовкой к отъезду князя Петра в Вильну. Он получил назначение адъютантом к литовскому военному губернатору Михаилу Илларионовичу Кутузову, хотя по-прежнему оставался в штате своего гусарского полка.
После проводов мужа княгине неожиданно стало грустно и одиноко, и она с нетерпением ожидала прихода Рубанова со службы, ощущая временами какое-то томление в теле. Неожиданно ей стало холодно, и она велела подбросить дров в камин. Потом уселась перед зеркалом и принялась тщательно разглядывать свое лицо. Случайно обнаружила неизвестную доселе морщинку на лбу и взахлеб, громко и по-детски жалобно, разрыдалась. «Князю Петру хорошо! – думала она. – Он при деле, у него есть какая-то цель и заботы, а у меня? Ну для чего я живу?.. Чтобы танцевать на балах, сплетничать и устраивать званые вечера? Надоело! – Поднялась она с дивана и принялась ходить по комнате, яростно стирая слезы с лица. – Еще чуть-чуть – и все! Я старуха… Господи, ну почему я так несчастна, ну почему у меня нет детей? Я так хочу ребеночка, так хочется быть нужной кому-то! Любить до самозабвения, отдавая всю себя…»
В эту-то минуту и застал ее Рубанов. Тоже зябко ежась, он подошел к камину и протянул к огню руки.
– Ну что вы, право! Нельзя же так расстраиваться и переживать о муже… Он прекрасно доедет и напишет вам письмо, – обнял княгиню и поцеловал в пульсирующий висок, в тонкую голубую вену. – А будете плакать, у вас начнется мигрень, разболится голова, и вы станете плохо спать.
– Я и так не усну… – отстранилась она от него, но вдруг неожиданно прижалась грудью, смяв ее о колет, и, крепко обхватив корнета руками, потянулась чуть распухшими от слез губами к его лицу.
Рубанов ощутил слабый аромат духов, и голова его приятно закружилась, когда ее губы коснулись подбородка. Руки ее передвинулись на затылок и притянули голову корнета к себе, а губы жадно искали губы. Максим не понял, как сорвал с нее одежду, и, подняв, понес на диван. Она не оказывала сопротивления. Тело ее обмякло и стало безвольным и податливым в его жадных руках.
Блики огня от камина делали ее тело то розовым, то белым. То вдруг она скрывалась в тени, а то раскрывалась вся навстречу ему. От его поцелуев она выгибалась и горела… Обняв за плечи, потянула его на себя и вдруг замерла на какое-то неуловимое мгновение, словно в последний раз решала, надо ли ей это? Хочет ли она его!..
Затем она глубоко вздохнула и стала подаваться вперед, навстречу ему. С этим вздохом, казалось, ушли все ее сомнения, и для себя она решила тревожный вопрос, поставленный еще господином Шекспиром: «Быть или не быть?!»
Она хотела ребенка!. И ничто теперь не могло ее остановить.
Живот ее стал мелко подрагивать, маленькие груди напряглись с такой силой, будто собирались оттолкнуть мужское тело от своей хозяйки. Острые соски уперлись крупными розовыми головками в кожу Максима. Затем живот ее задрожал сильнее, и Максим услышал слабый вздох. Пальцы княгини впились ему в спину, но боли он не ощущал. Раскрыв глаза, он увидел ее лицо. Оно исказилось, превратившись в невиданную им прежде маску наслаждения и экстаза… Глаза она зажмурила с такой силой, словно боялась, что если кто их увидит, то она ослепнет навеки. Сквозь плотно сжатые губы вырывались то ли стоны, то ли хрипы. Неожиданно это до неузнаваемости изменившееся лицо вселило в Максима бешеную страсть и неистовство.
Ничего важнее этой женщины не существовало теперь для него. Ради нее он готов был забыть все на свете, предать друзей и растоптать свою честь и совесть, лишь бы она стонала в его объятиях. Ему захотелось, чтобы лицо ее еще больше исказилось от страсти, и он не стал щадить ее.
Пространство как бы преломилось в его сознании, и ему казалось, что не здесь, рядом, а где-то там, далеко, он слышит жалобные женские крики… и от криков этих он приходил в еще большую ярость и неистовство, мял и целовал женское тело, наслаждаясь ее болью, ее страстью и ее счастьем. Он чувствовал, как ногти царапали и рвали ему спину, но ничто не могло отвлечь и остановить эту бешеную пляску!
Затем в какой-то миг дыхание их смешалось… Спазм перехватил горло и не давал кричать… и наступила тишина, от которой хотелось плакать и молиться… тела их расслабились, не в силах даже отпрянуть друг от друга, а влажные волосы спутались и перемешались на подушке…
Проснулся Рубанов один. Княгини Катерины рядом не было.
Вспомнив бурную ночь, он с истомой потянулся усталым телом и неожиданно с еще большей страстью захотел эту женщину… Совесть не мучила его, и стыда за содеянное он не испытывал. Не он первый пожелал близости… Но, о Господи! До чего теперь он хотел ее… Хотел почувствовать ее губы, прижаться к божественным трепетным бедрам, вдохнуть в себя аромат возбужденной женщины, услышать ее стоны и увидеть страсть на ее лице…
Он будто воочию увидел ее всю, пылающую от желания, ласкающую его с искаженным от чувственности, блаженства и боли лицом. Откинув мятую простыню, он собрался искать ее. Тело его дрожало от с трудом сдерживаемого желания…
– В каком вы виде, корнет? – услышал он сухой, негромкий и безразличный голос из приоткрытой двери, и вошла ОНА. В строгом темном платье, скрадывающем фигуру и закрытом до самого горла. Глаза ее не излучали больше чуда любви и страсти. Искусанные губы сурово сжаты, а брови нахмурены.
– Княгиня! – не успел произнести Максим, как она остановила его.
– Ничего не было… И никогда больше не будет! – Она отчужденно отстранилась, когда он попытался взять ее за руку. – Оденьтесь, – бросила ему, – в доме слуги, и я не желаю разговоров… И вот еще что… – обернулась в дверях к обескураженному корнету, – завтра или самое позднее послезавтра я уезжаю в деревню. Вы можете пока здесь жить, но как только вернусь, вам, Максим Акимович, надлежит немедля покинуть сей дом. Вы и сами понимаете, что так надо… – оставила его одного.
Он ожидал всего, но только не этого ледяного тона и не этих слов. «Максим Акимович!.. – грустно усмехнулся он, одеваясь. – И где они взяли моду – после ночи любви… и сразу в деревню!»
Через месяц конногвардейский полк, согласно традиции и приказа, в полном составе отбыл на «травку» в благословенную, ленивую, вольную и пьяную Стрельну. Никогда еще с такой радостью Максим не покидал холодный, напыщенный, вальяжный, жеманный и аристократичный Петербург. Впереди было лето и целая жизнь… Так стоит ли грустить, когда рядом друзья? Когда ты молод, красив и силен, – а в необъятном будущем столько женщин мечтают о тебе?!
Кровь бурлила в жилах… Хотелось драться на дуэлях, скакать на коне, чтоб ветер в лицо, и в конце умереть за Россию!!! Что прекраснее этой судьбы?
20
В середине августа русская гвардия стягивалась в Красное Село. Следом за гвардией приехали скучающие жены, любовницы и подруги офицеров. Женщины из высшего света тоже мечтают о романтике!.. На берегу живописного пруда они разбили палатки, выписали итальянский оркестр и французских поваров, это не считая русских слуг и мосек.
И пожалуйста… Можно устраивать балы, менять любовников и заставлять мужчин выглядеть дураками, что дамы с успехом и проделывали. Гвардейские офицеры, дабы заслужить благосклонную улыбку, красовались перед женщинами на своих лошадях при полной парадной форме. И пока генералы, как всегда в это время, планировали атаки, перестрелки и «неожиданные» наступления, офицеры учили дам стрельбе из пистолетов, будто случайно показывая свою меткость, фехтовали на шпагах и саблях, ну и, конечно, потребляли разнообразный алкоголь, так как абсолютно трезвый гвардеец – это нонсенс!
Ожидали приезда государя с супругой.
Женщины постепенно начинали скучать… К тому же крестьянские клопы, возбужденные поболе офицеров аристократичным женским телом, каким-то образом стали проникать в палатки, не терялись и тараканы. Этого добра было в достатке, а чего не хватало, так это свежих сплетен, до тех пор, конечно, пока за дело не взялись корнеты.
Кавалергарды – либо случайно, но скорее всего, специально – в состоянии легкого опьянения, дефилируя в нанятой для смеха скрипучей крестьянской телеге, зацепились осью за колесо кареты, в которой находился немецкий полковник, то ли с родственницей, то ли – с любовницей.
– Сдвиньте телегу! – высунувшись в приоткрытую дверцу, заверещал немец, а из окошка выглянула прелестная женская головка и неотразимо улыбнулась кавалергардам.
Ну как тут можно быстро разъехаться?
– Сударыня! Приносим свои извинения, – свесив ноги с телеги, снял треуголку Волынский.
Ее румяное круглое лицо с прямым носом и мягким, чуть скошенным к шее подбородком с шаловливой небольшой ямочкой дышало свежестью, весельем и радостью жизни. Смеющиеся глаза смотрели приветливо. Маленькие ушки с красивыми бриллиантовыми серьгами делали лицо миловидным и юным. Хотелось припасть губами к ее щечкам, несколько излишне набеленным и облепленным мушками.
Строганов с Шуваловым, спрыгнув с телеги, подошли к протянутой дамской ручке.
– Не сметь! – завизжал немец. – Смир-р-на! Вольна! Кругом!
– Да пошел ты, БРУДЕР! – расталкивая друзей, протискивался к даме Волынский.
– Чта-а-а? Си-би-и-рь! – вопил полковник. – Я есть денщик!..
– Не денщик, лапочка, а адъютант! – поправила его подружка и, на секунду исчезнув в недрах кареты, открыла дверцу и легко спрыгнула на землю. – Господин полковник! Придется вам идти за помощью! – смеясь, произнесла она, облизываясь на корнетов.
– Мне-е? – глаза ее спутника вылезли из орбит. – Всех вызываю на дуэль! Всех! – рассвирепел немец.
И не зря! Вечером прекрасная незнакомка, покинув адъютанта великого князя Константина, вовсю веселилась в палатке корнетов, а полковник, позоря себя, бегал по лагерю и жаловался на кавалергардов и неверную особу…
– Так дело не пойдет! – сделал вывод Оболенский, приканчивая второе ведерко мадеры. – С завтрашнего вечера и до утра начнется стояние в главных силах. А перед этим мероприятием, полагаю, следует повеселить дам… Дадим, так сказать, пищу для разговоров… – глаза его пылали вдохновением.
– И что же, господин корнет, вы придумали? – неожиданно заинтересовался Рубанов.
– А чего тут думать?! В то время как женщины будут пить свой вечерний чай и любоваться природой, мы вылетим нагими, словно кентавры, это я книжку у Сержа брал почитать, вернее, картинки поглядеть, – объяснил он, – из того вон лесочка, проскачем мимо дам и снова скроемся в посадках… Представляете, сколько будет истерик и визга?! – радостно потер он ладони. – А наши дядьки тем временем станут ожидать там с одеждой, – загоготал князь.
– Черт-дьявол! – опустил глаза к паху Максим. – Мне-то что, а ваш орган, господин корнет, обязательно между седлом и крупом коня защемит, а то и вовсе под копыта попадет!
Нарышкин, махая рукой, покатывался от смеха.
– Заглянув в книгу, вы все понимаете превратно, милый Григорий, – веселился он.
– По-вашему, кавалергарды должны взять над нами верх? – зарычал Оболенский. – Не желаете, так я и один смогу!..
Ну разве можно не поддержать друга и уступить кавалергардским корнетам? На следующий вечер перед заходом солнца, когда так приятно дышится после дневной жары и пыли и когда хочется сидеть расслабившись и мечтать о чем-то недоступном и высоком, резкий цокот копыт нарушил дамскую идиллию, и трое всадников в масках, белея телом, проскакали вначале рысью и, удивившись, что никто из присутствующих не упал в обморок – таких дур не нашлось, в обратную сторону ехали шагом, кое-чем бряцая по седлам. Причем у одного из кавалеров эта штука, словно палаш, свешивалась с ноги.
Дамы выхватывали друг у друга лорнеты, вскакивая со стульев и небольших креслиц…
И лишь когда мужские зады слабо белели вдали и невозможно стало ничего интересного разглядеть, некоторые на всякий случай решили упасть в обморок.
– Это вам, Серж, не Вольтера играть! – делился после акции впечатлением одетый по полной форме Оболенский, держа под уздцы коня. – Дамам теперь на неделю бессонница обеспечена, – ржал князь.
– Да вы что там, господа? – вежливо сделал замечание Вебер. – А если бы невдалеке был враг? – Теперь с корнетами он разговаривал почтительно, а то еще пристрелят на дуэли.
– А вдруг никто не узнает, что это мы? – неожиданно заволновался князь.
И напрасно! Узнали!..
Днем, после стояния в главных силах, сонный Синепупенко разбудил офицеров, сообщив, что их ожидает барон. Вайцман, выпучив глаза, собрался что-то сказать, но русские слова вылетели из головы, а немецкий язык не мог точно передать всю гамму чувств, кипевших у него в груди.
– Командир полка вызывает! – с трудом выдавил из себя и вместе с корнетами направился в палатку генерал-майора Янковича.
– Вы с ума сошли! – вспылил тот. – Дело до великого князя дошло. Прошу следовать к нему, – не стал он воспитывать друзей, а, надев треуголку, первым зашагал к палатке цесаревича. – У его высочества, кстати, преотвратительнейшее настроение, – по дороге предупредил генерал. – Такие же повесы, как вы… – только из кавалергардского полка – здорово насолили его адъютанту, – довольным тоном произнес командир конногвардейцев, но тут же напустил на себя приличествующий случаю хмурый вид.
Не доходя приличного расстояния до палатки, корнеты, генерал и Вайцман услышали забористую русскую речь. Великий князь, в отличие от Вайцмана, умело воспользовался нужными, по его мнению, словами, ловко связав воедино кавалергардов, обиженного адъютанта и растакую-то гвардейскую мать…
Когда они вошли в палатку, довольный своим ораторским искусством командующий царской гвардией перекинул словесный поток с кавалергардских головушек на конногвардейские.
– А вот и мой подшефный полк, – горестно воздел руки, – цвет гвардии…
При этих словах Янкович гордо поглядел на командира кавалергардов генерал-майора Депрерадовича, стоявшего чуть в стороне от своих корнетов и уныло запустившего два пальца под красный воротник мундира, словно он душил его.
Конногвардейские корнеты, вытянувшись во фрунт, встали рядом со своим командиром, а Вайцман, делая вид, что он здесь случайно, расположился поближе к обиженному немцу.
– Сразу и не рассудишь, кто более виновен, – патетически возвысил голос великий князь, – одни надерзили старшему начальнику, обозвав его «бутербродом».
Рубанов с Нарышкиным при этих словах, покосившись на княжеского адъютанта, а затем на кавалергардских корнетов, тоже вытянувшихся во фрунт, с трудом сдержали смех. Оболенский стоял с безразличным видом и спокойно разглядывал бушующего князя Константина.
«Здорово, однако, мы успели к высшему начальству привыкнуть, – отметил Рубанов, – уже не трепещем, как раньше».
– …А другие, – метнул строгий взгляд царский брат на конногвардейцев, – и вовсе учудили… так перепились, что позабыли одеться и ездили перед добродетельными дамами в чем мать родила…
Кавалергарды уважительно глянули на конногвардейцев, тут же расстроившись, почему им не пришла в голову такая дельная мысль…
– …Чем смутили их до обморока, некоторые и сейчас еще не пришли в себя… Ну, что вы заслуживаете за это? – осмотрел присутствующих великий князь и, видимо, остался доволен произведенным эффектом. – В Сибирь, конечно, я вас не отправлю, но сегодня же подам рапорт его Императорскому Величеству о разжаловании вас, господа корнеты, в рядовые, отчислении из гвардии и отправке в Молдавскую армию… Все! Свободны! – махнул он рукой. – И чтоб завтра на маневрах показали себя в лучшем виде!
На царском совете после удачно проведенных маневров подняли вопрос и о нарушителях воинской дисциплины и субординации. Император вспомнил бывших юнкеров, глядевших на него с любовью и благоговением, и решил не губить их карьеру, к тому же некоторые генералы заступились за неразумных.
– Молодость! – говорили они, улыбаясь и вспоминая, что сами творили во времена царствования Екатерины Великой. – По службе-то они молодцы? Так ведь? – обратились к генералу Янковичу.
– Нареканий к корнетам не имею! – ответил тот.
– Тогда сделаем так! – решил государь. – В рядовые разжаловать не станем, но следующий чин задержим.
Присутствующий тут же адъютант великого князя обиженно вздохнул.
– Однако в Дунайскую армию их направим, как просит в рапорте великий князь, но из гвардии отчислять не будем… – взяв тонко отточенное перо, написал свой рескрипт Александр.
– Я спокоен, как палаш в ножнах! – образно отреагировал, узнав о наказании, Рубанов.
– Главное, не разжаловали, значит, до генералов дослужимся! – успокоил себя и друзей Нарышкин.
– Это почетная ссылка, чреслами чтоб поменьше трясли! – сделал глубокомысленный вывод Оболенский. – Но главное, кавалергарды нас не обскакали!
Согласно приказу по полку, у корнетов было десять дней на сборы. Пять дней прощались с полком и Петербургом, на шестой, помолясь, кортежем из трех карет направились в Москву. В одной из карет ехали маман Оболенского и Софья. Они решили проводить сына и кузена до Первопрестольной.
Честно признаться, Софья страдала не столько по кузену, сколько по этому лицемеру и вульгарному ветренику Сержу. Нарышкин большую часть времени проводил в карете с дамами.
– Как вам было не совестно, граф! – щурилась на него юная княжна.
– Граф! И много женщин видели вас обнаженным? – интересовалась мамà Оболенского.
Княжна Софья кипела яростью от ревности.
– Оказывается, вы и будочника терзали! – смеялась Оболенская.
– Он нас сильнее мучил! – отбивался, как мог, Нарышкин.
– А зачем несчастных кавалергардов в склепе пугали? – веселилась княгиня. – Ну от сына-то я нечто подобное ожидала, но вы-то, граф?!
Почему-то в душе и княгиня, и княжна Софья не осуждали корнетов.
– Петербургское общество только о вас и говорит, – произнесла Оболенская.
Они еще не могли до конца свыкнуться с мыслью, что корнеты едут на войну. За третьей каретой, набитой вещами опальных гвардейцев, ехали верхами денщики и были привязаны офицерские кони. По просьбе корнетов, в денщики к ним, по получении офицерского чина, генерал Янкович, посоветовавшись, конечно, с Арсеньевым, определил бывших дядек. Сбылась давняя мечта Егора Кузьмина – времени на сон значительно прибавилось, так как дома форму и ботфорты корнетам чистили лакеи и денщикам лишь оставался уход за лошадьми при облегченных занятиях и строевой выездке.
Побывавший на войне Янкович, жалея наказанных подчиненных, принял решение откомандировать в боевую армию и их дядек – пусть приглядят за непутевой молодежью. Дядьки были весьма довольны – прежде отдохнули в Стрельне, а теперь поваляем дурака в Дунайской армии. Красота, а главное, не стоять на постах и долго не видеть Вайцмана.
По совету Максима, жену с грудным ребенком Шалфеев отправил в Рубановку и теперь предвкушал внеуставные отношения с молдаванками либо, на худой конец, с турчанками. До самой Москвы он делился с приятелями своими мечтами и планами на будущее.
– С турчанками у тебя ничего не выйдет! – безапелляционно замечал Антип, язвительно усмехаясь.
– Поча-а-му?
– То, что у нашей бабы вдоль, у ихней – впоперек! Долго приноравливаться надо….
– Да ну-у?..
Москва поразила Рубанова какой-то своею сказочностью, истинно русским хлебосольством и малиновым церковным звоном.
Родители Нарышкина встретили приезжих, как самых дорогих гостей. Неделю гремели балы и званые обеды. Все высшее московское общество побывало в доме Нарышкиных.
В Петербург срочно полетела депеша о том, что все трое корнетов серьезно больны – отравились грибами и к месту службы в ближайшее время следовать не могут. Прилагалось заключение врача… и не простого, а профессора Московского университета.
Софи Оболенская ни на шаг не отпускала Сержа, мрачно щурясь, когда он вступал в беседу с какой-нибудь московской красавицей.
Родители Нарышкина и мамà Оболенского переглядывались и о чем-то таинственно шептались за рюмкой рейнтвейна, посматривая на молодых. Через неделю вымотанный бесконечными праздниками Рубанов на одной из карет, управляемой опытным нарышкинским форейтором, направился в монастырь к матери.
Выехав рано поутру, в обед он стучал в монастырские ворота.
Мать поразила его своею бледностью и какой-то одержимостью во взгляде. И хотя монашеское одеяние скрывало ее фигуру, Максиму показалось, что она похудела и осунулась, но больной не выглядела, напротив, жизненная сила так и кипела в ней.
– Какой ты красивый! – полюбовалась Ольга Николаевна сыном, целуя его в лоб. Улыбка тронула ее губы.
Они стояли вдвоем в узкой комнате с окошком, напоминающим бойницу, тусклый свет из окна тонкой полосой падал на неструганый стол с горящей свечой посредине и лавку, вплотную придвинутую к столу. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленькой иконы с мерцающей лампадкой в углу.
До Рубанова вдруг дошло, что вот перед ним единственный и самый родной человек в этом мире – его мать. У него будут, наверное, жена и дети, но второй матери не будет никогда. Как зло и глупо вел он себя дома, в Рубановке.
– Садись, – кивнула на лавку Ольга Николаевна и села сама. – Рассказывай!
– Мама, ну зачем ты?.. – неожиданно для себя, словно ему пять лет, всхлипнул Максим и бросился на колени, уронив голову на материнские ноги. – Я ведь люблю тебя… Очень люблю! – Слезы текли и скатывались с щек на грубое сукно материнской одежды. – Простишь ли ты меня?! Ну зачем? Зачем ты сюда пришла…
Вдруг какая-то новая мысль зажглась в его глазах, когда он поднял голову и поглядел на мать.
– Хочешь, я брошу службу и мы вместе вернемся в Рубановку?.. Ты и я! Нам больше никто не нужен…
Ольга Николаевна медленно, с любовью глядя на сына и нежно вытирая чуть подрагивающими пальцами его слезы, покачала головой.
– Поздно! Я уже подняла три раза ножницы[16]…
Взяв сына за плечи, она усадила его рядом с собой.
– А я всегда ношу твой образок! – словно маленький мальчик, похвалился Максим, потянув за цепочку и пытаясь показать матери ее подарок.
Ольга Николаевна сжала его руку и опять незаметно, уголком рта, улыбнулась . Ей тоже очень хотелось заплакать, обнять сына и никуда-никуда не отпускать… Но она сдержалась. И здесь, словно сама судьба устремилась ей на выручку, в дверь постучали, и, с любопытством стрельнув красивыми глазами в Рубанова и тут же потупив взор, зашла молоденькая послушница.
– Матушка игуменья зовет вас, сестра, – поклонилась она и сразу вышла.
Ольга Николаевна поднялась, следом вскочил на ноги и Рубанов.
– Помни, сын, что ты ни в чем не виноват! Живи счастливо и долго и не осуждай меня, если можешь… Знай! Я любила и люблю тебя… – Вышла она следом за юной послушницей, напоследок уже от самой двери ласково перекрестила сына, прощально улыбнувшись ему.
Ножницы были подняты!..
21
Через неделю после этой встречи корнеты наконец-то тронулись в путь. Как водится, первый день расставания был самый грустный. Офицеры ехали молча, думая каждый о своем. Даже Оболенский притих и мрачно поглядывал по сторонам с поскрипывающего седла. В карете ему показалось душно, к тому же черт-те откуда налетело мух. Рубанов и Нарышкин ехали в каретах, отдельно друг от друга. Нарышкин, глядя в окно, уже скучал о Софи.
«Как она сказала, – бесконечно пережевывал он: "Вы известный плут! Смотрите там у меня!" – и пальчиком погрозила. – Громко сморкался в надушенный платок. – "Буду ждать!" – говорит. – Глядел он в туманную от слез даль. – Ждать будет!..» – недоверчиво улыбнулся граф.
А Максим, вспоминая свидание, все корил себя, что не смог найти нужных слов и убедить мать покинуть монастырь. И бесконечно ругал себя за черствость, за гордость, за хамство… Потянув цепочку, вытащил наружу образок. За край его зацепился маленький золотой крестик – подарок Мари. Так и качались они перед глазами, перепутавшись и сцепившись. «К чему бы это?» – начал он гадать, откинувшись на спинку сиденья.
По мере удаления от Москвы уходили и грустные мысли. Новые заботы начинали волновать корнетов: где заночевать, чего выпить, испортится ли погода и каково-то им будет без родного полка в этой Дунайской армии.
С каждым днем погода ухудшалась. Стоянки в деревнях делались все дольше и дольше. На одном из перегонов конногвардейцев нагнали трое кавалергардов, ехавших не на своем транспорте, а – как и положено – на перекладных. Встреча прошла в дружественной обстановке – двое суток веселились в трактире…
На третьи сутки, покинув развалины, двинулись дальше уже вместе. Генерал Депрерадович, в отличие от Янковича, не выделил своим корнетам денщиков, поэтому те были очень довольны, влившись в такую большую и дружную компанию.
Незаметно въехали в первое молдаванское село. Путешествие подходило к концу. У самого Бухареста, где находилась главная квартира командующего Молдавской армией, дело чуть было не дошло до дуэли между корнетами. Спор зашел о полках.
– Ваш, кавалергардский, был сформирован лишь в 1800 году… – горячился великий историк Нарышкин.
К удивлению Оболенского, свара началась с этого тихони.
–…А наш, лейб-гвардии Конный полк, – в 1730-м…
«Надо бы записать!» – гордо выпятил грудь князь.
Рубанов в споре не участвовал.
– Так какой напрашивается вывод? – ввязался уже Оболенский.
Выводом-то чуть не стала дуэль. Однако уже в самом Бухаресте гвардейцы помирились, сойдясь на том, что это лучшие полки в гвардии, не говоря уж об армеутах. С трудом отыскав главную квартиру, спросили у постового – пожилого лысого солдата с сонной рожей и огромными усами, плавно переходящими в бакенбарды, а те – в скобочку волос на затылке:
– Дела идут, служивый?
На что тот, как и положено в действующей армии, бодро отрапортовал:
– Наше дело маленькое: знай службу – плюй в ружье и не мочи дула!
За что, к зависти денщиков, получил по целковому от каждого из корнетов. После царского подарка лысый ветеран все толково разъяснил, доверив Шалфееву подержать свое оплеванное ружье, пока заначивал деньжата в какой-то потайной карманчик на исподних штанах.
– Так что, ваши благородия, командующего сейчас нема – уехал осматривать крепости, а за него генерал Ланжерон, – только успел взять у Шалфеева оружие, как на крыльце появился горбоносый с высокомерным взглядом карих глаз генерал.
Недовольно оглядев вытянувшихся перед ним гвардейцев, он процедил по-французски, лениво разжимая узкие губы:
– За что вас сюда, господа?
– За чресла! Ваше высокопревосходительство, – молодцевато доложил Оболенский по-русски, нажив себе и остальным гвардейцам смертельного врага.
– Носом здорово Мойшу напоминает, – подвел итог встречи Максим.
После Аустерлица Наполеон убедил султана Селима III, что теперь-то уж точно у Турции хватит сил вернуть Крым и Причерноморье, что с 1806 года тот и пытался сделать. Война шла с переменным успехом. Главнокомандующий князь Прозоровский придерживался прусской тактики Фридриха II – хотел овладеть турецкими крепостями, не стараясь разгромить живую силу противника, не навязывая врагу главного сражения. В семьдесят семь лет приятнее сидеть на месте в военном лагере, чем гоняться по обеим сторонам Дуная за противником. В войсках его прозвали «сиречь» за пристрастие к этому слову. «Сиречь пора обедать» или «Сиречь можно и мадерки хватить!» – только и слышали от него. К тому же он был глух как тетерев и – то ли от этого, а может, от приближения конца – придирчив, угрюм, тщеславен и мелочен. Скончался он у себя в лагере под Мачином.
За пять лет войны сменилось пять командующих.
Кроме полководца Прозоровского тут были победитель Пугачева Михельсон, французский эмигрант Ланжерон, Багратион, и в данное время командовал армией Николай Михайлович Каменский. Он выбрал ту же тактику, что и Прозоровский, – штурмовал крепости, на что распылял и без того небольшие силы русских.
Один умный историк, не Нарышкин конечно, верно подметил: «Половину года мы делаем ошибки, а вторую – употребляем на их исправление… – и так бесконечно».
Безрезультатная война утомила и Турцию, и Россию.
Обе стороны желали заключить перемирие, но не сходились в условиях: Александр настаивал, чтобы граница шла по Дунаю, а турки не соглашались.
Граф Ланжерон своей властью направил конногвардейцев в Яссы, в 9-ю дивизию генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, сына прославленного полководца Суворова-Рымникского.
Кавалергардам совсем не повезло. Они рассчитывали остаться в Бухаресте ординарцами у командующего, но были командированы в недавно отобранную Ланжероном у турок крепость Силистрию.
Этим генерал убивал двух зайцев: во-первых, он положил глаз на юную валашскую боярыню, а она – на красавца Волынского, во-вторых, молодым корнетам очень нравоучительно узнать, какой он непревзойденный гений стратегии и тактики. После взятия Силистрии генерал с уверенностью считал себя первым в русской армии полководцем.
Двадцатишестилетний Суворов встретил корнетов «на ура» и приказом по дивизии тут же назначил своими адъютантами. Охота, вино и карты являлись главными его развлечениями. Высокий, белокурый и красивый, он совсем не походил на своего отца. Ничего не читал, не получил систематического образования, зато в двадцать пять лет имел чин генерал-лейтенанта, что намного полезнее… Однако ум имел ясный, был добр, общителен и прост. Через неделю службы корнеты его просто боготворили.
В данное время боевые действия не велись, и гвардейцы занимались любимыми развлечениями своего командира, разумеется, при его активном участии. Петербург, вахтпарады и дежурства в Зимнем отошли на задний план и постепенно забывались.
Рубанов реже вспоминал о Мари и матери. Перемена обстановки развеяла его грусть.
Весело, с гвардейским шиком, с валашскими цыганами, с французским шампанским и русской водкой встретили новый, 1811 год. Это был двойной праздник – перед Новым годом пришел рескрипт из Петербурга о присвоении корнетам следующего чина. Аркадий Суворов в немалой степени посодействовал тому, чтобы его друзья и адъютанты стали подпоручиками.
Как оказалось в дальнейшем, праздник для Рубанова являлся даже тройным. В конце февраля он получил письмо от князя Петра, из которого узнал, что два месяца назад на свет появился еще один Голицын. Князь по этому поводу радовался до сумасшествия. «Весь вильненский гарнизон напился и лежал в лежку, – сообщал он. – Я посчитал, народили его с княгиней в день моего отъезда… Вот радость-то… И еще – военный министр Барклай де Толли ввиду болезни Каменского предполагает назначить вместо него в Дунайскую армию Михайлу Илларионовича Кутузова. Так что – жди! Скоро встретимся».
31 марта князь Петр вместе с Кутузовым были уже в Бухаресте, и в начале апреля новый командующий затребовал конногвардейцев в главную квартиру. Вместе с ними приехал и Аркадий Суворов. Ему ни в какую не хотелось расставаться с полюбившимися гвардейцами.
13 апреля, после бала, по дороге в Яссы Суворову предстояло переправиться через речушку Рымна, прославившую отца. Когда Суворов-сын впервые увидел сию речонку, он развеселился и пошутил, что батюшка, мол, изволил преувеличить насчет этого ручья, в котором во время сражения потонули тысячи турок. Здесь даже на пари не утонешь. Но недавно прошли дожди, река вздулась, превратившись в глубокую и бурную.
– Чего встал? Поехали! – велел Аркадий Суворов ямщику.
Не успели отъехать от берега, как возок перевернулся, и ямщик начал тонуть. Генерал кинулся ему на помощь – нельзя оставить русского человека в беде. Ямщика он спас, а самого, побитого о камни, выбросило в полуверсте от переправы уже мертвого.
Это было ударом для всей армии и командующего. Михаил Илларионович знал и любил Аркадия с самого его детства.
– Кому Бог дает сразу все и смолоду, те долго не живут!.. – произнес старый полководец, морщась и вытирая единственный глаз.
Для подпоручиков, которые сделались друзьями Суворова, потеря была просто невосполнимой… Это трагическое происшествие долго не выходило из головы и бередило их молодые души, точно они были виновны в его смерти.
Над генералами Дунайской армии лежало какое-то проклятие: здесь скончались командующие Михельсон и Прозоровский, Аркадий Суворов, и вот теперь умирал от лихорадки тридцатичетырехлетний Николай Михайлович Каменский. Кутузов искренне жалел командующего. «Следует быстрее кончать эту войну! – думал он. – Ежели такие молодые уходят, что же обо мне говорить?!» – И энергично принялся за дело.
– Силенок у нас маловато! – кряхтел он, просматривая различные ведомости вместе со своим старшим адъютантом.
– По спискам сорок шесть тысяч человек, – уточнял Голицын.
– И с такими силами занимаем тысячу верст… Надо громить живую силу врага, а не сидеть по крепостям. Пишите-ка, батенька, приказ. – С трудом поднялся он с кресла и, заложив руки за спину, принялся топтаться по комнате. – Пусть все наши силы стягиваются к трем пунктам: Бухаресту, Журже и Рущуку.
«Трудновато будет драться с турком, имея всего четыре пехотные и две кавалерийские дивизии, – думал командующий, – но надо бить не числом, а умением». – Вытер заслезившийся глаз, вспомнив слова своего учителя и судьбу его сына.
Кавалергарды тоже получили подпоручиков и вместе с конногвардейцами были назначены ординарцами к командующему.
– Неизвестно, что лучше – то ли бездельничать в Силистрии, то ли носиться как угорелые из Бухареста в Рущук и обратно, – делились они своими мыслями.
Осторожный Кутузов тщательно готовился к кампании и старался все предусмотреть, поэтому менял диспозиции, улучшая их, а ординарцам приходилось доносить эти улучшения до самых отдаленных гарнизонов.
Но конечно, все неприятности забывались, если случалось танцевать на балу с юными женами валашских бояр или бесить надменного Ланжерона. После Силистрии граф Ланжерон уверовал в свой полководческий дар. До приезда Кутузова он временно командовал армией вместо больного Каменского и рассчитывал стать постоянным командующим… и теперь считал себя обойденным. Где только можно он нагло уверял, что стареющий командующий ничего не предпринимает без его совета. Гвардейцы где только можно, нагло уверяли, что генерал Ланжерон ничего не предпринимает, пока не посоветуется с ними…
Красавицы валашки млели от столичных офицеров, и носатому французу все чаще приходилось оставаться с носом.
В болгарских деревнях правого берега Дуная распространился слух о том, что Селим III назначил вместо престарелого Юсуф-паши нового визиря. Надменный француз тут же отрядил конногвардейцев на разведку в Шумлу под предлогом пересылки в Турцию писем турецких пленных, находящихся в России.
По прибытии с задания гвардейцы пошли на доклад не к Ланжерону, а к Кутузову.
– И кто же назначен вместо Юсуфа? – барабанил пальцами по столу командующий.
– Какой-то Ахмед-паша. Как нам сказали, он был начальником Браиловского гарнизона и в прошлом году удачно отбил приступ князя Прозоровского.
– Я, сынки, с Ахмед-пашой познакомился лет двадцать назад – разбил его при Бабадаге… а потом встречался в мирной обстановке – он сопровождал меня в поездках по Константинополю. Так что этот азиат – мой старый знакомец. А сейчас, сынки, идите отдыхайте и спасибо за службу… Скучаете, поди, по столице-то? – по-отцовски улыбнулся Михаил Илларионович.
Для скорейшего заключения мира с Турцией в помощь Кутузову из Петербурга прислали известного дипломата Италинского с двумя помощниками – надворным советником Петром Антоновичем Фонтоном и его младшим братом Антоном Антоновичем. За несколько дней до их приезда визирь Ахмед-паша предложил прислать к нему в Шумлу уполномоченного для переговоров. Обрадованный Кутузов направил так кстати прибывшего Фонтона-старшего и с ним трех кавалергардов. «Конногвардейцы теперь пусть с донесениями побегают», – решил он. Посольство не возвращалось долго.
– Гляди-ка, как кавалергардам у турок понравилось, – удивлялся Оболенский.
– И чего там хорошего? Кормят каким-то бурьяном, лучше бы мяса побольше давали, поят шербетом… вот уж гадость-то в сравнении с водкой, тьфу.
– А может, в гарем проникли? – предположил Нарышкин. – С Волынского станется!
Наконец посольство прибыло и привезло с собой турецкого посланника, молодого рыжебородого Абдул-Гамид-эфенди. Турок сразу же заявил, что если русские настаивают на границе по Дунаю, то он тут же уезжает.
– Какой азиат горячий! – хмурился Кутузов. – Его величество еще Каменскому писал: «Мир же заключать, довольствуясь иной границей, нежели Дунай, я не нахожу ни нужды, ни приличия».
Италинский был растерян.
– Полагаю, следует задержать Абдулку подольше в Бухаресте, – высказал предположение Голицын, – а тем временем может что и изменится…
– Как же его задержишь? – совсем загрустил Италинский. – Не в крепость же сажать.
– Зачем в крепость?.. – улыбнулся Голицын. – Есть более надежное средство. Турок молодой, любит поесть и повеселиться. Давайте сведем басурмана с конногвардейцами или кавалергардами?.. Да он плакать станет, когда его будут отзывать.
– Сомневаюсь, конечно, но так и порешим! – закончил совещание уставший Кутузов.
По его приказу и для пользы отечества, трое конногвардейцев по самое горло окунулись в дипломатическую жизнь, развлекая турка. От командующего ему прислали горностаевую шубу и выделили прекрасный дом. Конногвардейцы начали с разговоров о лошадях и женщинах, постепенно переходя к мадере и водке.
– Религия не велит! – не совсем уверенно закрывал рюмку рукой турок.
Переводчиком к ним подвязался Фонтон-младший.
– Жуткая религия! – вздрогнул Оболенский. – Это переводить не надо. Неужели станем кофий с пастилой пить? – ужаснулся он.
– Шалфеев! А принеси-ка, братец, груздочков солененьких, красной рыбки и пару бутылок мадерки, – распорядился Рубанов, брезгливо отодвигая халву. – Господин дипломат!– обратился он к турку через Фонтона-младшего. – Нельзя обижать дом, в котором находишься, и друзей… – обвел рукой застолье.
– Нельзя! Аллах накажет! – согласился Абдул-Гамид-эфенди, решительно выпивая пиалу вина. – Из рюмки все равно пить не стану!
– Аллах с тобой, о достойнейший! Пей из чего желаешь, – жизнерадостно согласился Оболенский, наполняя пиалу водкой. – Отведай сего божественного нектара и закуси русской пищей, а то всё травы жуете.
После мадеры, на зависть трезвым джиннам и непьющему пророку Мухаммеду, посол тяпнул водочки, со смехом принявшись гоняться двумя пальцами за скользкими грибками. Конногвардейцы, выпив за здоровье эфенди, задумчиво наблюдали за ним.
– Не поют ли еще гурии в цветущих садах твоего ума, о несравненнейший? – поинтересовался заплетающимся языком начитанный Нарышкин.
Оболенский от зависти даже подавился грибком.
– Сколько у тебя жен-то? – полюбопытствовал князь, отбросив дипломатию.
Тот растопырил четыре толстых жирных пальца и по очереди облизал их.
– Так я ласкаю своих жен…– начал он. – Они стройны, как молоденькие тростинки… – с трудом поднялся на ноги турок и, покачиваясь, запел… – они легки и воздушны, как облака, цветы вянут в их присутствии…
– Как у нас от Вайцмана, – шепнул Нарышкину Максим.
– …Они обвиваются вокруг возлюбленного виноградной лозой, кожа их благоухает розами… – щеки, как персики, – икнул янычар – и со словами: – … лицо, как луна», – свалился на ковер и захрапел.
– А речи их колючие, словно засохшие ветки, и язык их острее гвоздя! – продолжил за павшего знаток восточного фольклора Нарышкин.
Тут даже Рубанов пришел в восторг.
К вечеру эфенди с удовольствием опохмелился…
И когда через неделю Михаил Илларионович справился у турка, не пора ли ему домой, не надоело ли ждать известий от визиря… Тот ответил, пряча трясущиеся руки за спину и отворачивая в сторону лицо, дабы не дышать перегаром:
– Будем ждать, о великий господин!.. Как цветок алоэ ждет двадцать лет, чтоб расцвесть навстречу солнцу, так и мы станем ждать, чтоб расцвесть навстречу миру…
«Красиво выражается, собака!» – сделал вывод Оболенский, тоже отворачиваясь в сторону.
– Князь! Передайте своим протеже, чтоб они до смерти не опоили турка, а то международный скандал учинят, – смеясь, велел Голицыну командующий. – Слишком сильно о службе пекутся…
Уладив дело с турецким посланником, Михаил Илларионович решил заняться великим визирем.
– А пошлем-ка мы ему золотую табакерку с бриллиантами, золотые часы, соболью шубу… и прибавим к этим пустякам пару фунтов чаю.
И Кутузов отослал к визирю с Фонтоном-старшим и кавалергардами сей небольшой подарок. Визирь в ответ прислал арабского белого скакуна и несколько лимонов. Контакт, таким образом, был налажен.
Кроме того, Кутузов узнал, что армия визиря насчитывает 60 тысяч человек при 78 орудиях, да в Софии сосредоточился корпус Измаил-бея, сераскира македонского. Чтобы это разведать, Фонтон-старший раздарил окружению визиря до трех десятков золотых колец с бриллиантами, яхонтами и сапфирами, а также несколько золотых табакерок. Но сведения того стоили. А самое главное, стало известно, что в Константинополе тоже тяготятся войной.
«Ну что ж, – думал Кутузов, – в открытом поле я турок не боюсь, но как заставить великого визиря выйти из Шумлы? Хочешь мира – готовься к войне!»
Он велел срыть крепости Никополь и Силистрию, чем поразил в самое сердце Ланжерона, и перевезти орудия на левый берег Дуная. На правом берегу оставил для приманки Рущук.
Пока Абдул-Гамид-эфенди развлекался с конногвардейцами в Бухаресте, великий визирь со своей армией решил ударить на Рущук. Как и надеялся Кутузов, приманка сработала и Ахмед-паша выступил с армией из Шумлы. Кутузов подвинул корпус Ланжерона к Дунаю, и сам тоже перебрался поближе к войскам.
Зной стоял невыносимый. Русские купались в реке, а турки активно окапывались.
– Князь! – обратился к Голицыну командующий. – Пошлите ординарцев к Ланжерону и велите ему скрытно переправиться ночью на правый берег… Пора сделать визирю еще один подарок!
Туманным июньским утром главную квартиру разбудили крики «алла» и выстрелы. Все высыпали из палаток, но в тумане ничего не разглядели.
– Князь, отправьте ординарцев на разведку, – приказал Кутузов.
– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Кавалергарды! Слышали команду?
Трое подпоручиков с удовольствием взлетели на коней и с места взяли в галоп, растворившись в тумане. Отсутствовали недолго.
– Ваше высокопревосходительство, – доложил запыхавшийся сильнее коня Волынский, – турки наступают… кавалерия… сколько… в тумане не видно, но судя по топоту – много.
– Генерал Воинов ввел в бой чугуевских улан и ольвиопольских гусар, – добавил Строганов и, прижав руку к сердцу, попросил: – Господин генерал от инфантерии, разрешите нам принять участие в сражении. – Рядом с ним стояли и конногвардейцы.
Командующий подумал и покачал седой головой.
– Успеете еще! Как же я без ординарцев?.. – и, видя расстроенные юные лица, завистливо вздохнул, вспомнив свою молодость.
«Выходит, визирь клюнул на приманку!» – подумал он.
– Вот что, братцы, – обратился к гвардейцам, – скачите-ка к Ланжерону да передайте, пусть начинает… Людей у него маловато, ежели разрешит – помогите… – не успел он докончить, как услышал затихающий в тумане топот копыт.
Ланжерон разрешил. Он не больно заботился о гвардейцах.
Впервые в жизни юные подпоручики принимали участие в кавалерийской сшибке. Палаш в руках и два пистолета у седла придавали некоторую уверенность молодым воинам. В первом ряду петербургских драгун мчались они на первого в жизни врага, ярко выделяясь среди зеленых драгунских мундиров. Вместе с ними участвовали в атаке и дядьки.
И тут выглянуло солнце, разогнав утренний туман и осветив турецкую кавалерию. Малиновые, синие и зеленые чепраки, расшитые золотом, огромные белые и красные чалмы, всех цветов значки и бунчуки двигались в сторону русских. Серая пыль, поднятая тысячами копыт, пришла на смену туману, плотно закрывая солнце.
Спаги приближались, делаясь все выше и крепче в плечах, – так, по крайней мере, казалось гвардейцам. На Рубанова летел огромный спаг с оскаленными зубами, не уступающими лошадиным.
– Алла! – раздавался хрип из его глотки. Глаза искали место для удара на теле гяура. Широченный ятаган вспыхивал на солнце.
«С пистоля, что ль, янычара шваркнуть! – подумал Максим, поднимая палаш. – Не успею достать. Что же это рука какая тяжелая?» Больше он ничего не видел, кроме турка.
Вокруг, как когда-то на балу, все стихло. Звуки боя исчезли. Только скрип седла под турком, топот копыт его иноходца и хриплое дыхание спага… Максиму казалось, что он ясно слышит дыхание, и вдруг даже уловил запах чеснока и потного тела.
Спаг все ближе! Максим отстраненно наблюдал, как конь нес седока, плавно перебирая копытами, но не летел, а медленно плыл по воздуху, иногда преломляясь в пучках света, становясь то больше, то меньше, оказываясь то слева, то справа. Огромный кривой ятаган блеснул в солнечных лучах, на долю секунды ослепив Рубанова, и стал медленно, плавно, но неуклонно подниматься вверх…
Грозный – как сама судьба! Безжалостный – как смерть!
Вот он замер в верхней точке и также медленно, плавно и неуклонно начал опускаться. Максим почувствовал удар и качнулся в седле – то столкнулись кони, но он не обратил на это внимания. Его глаза, его ум, его душа следили за опускающимся ятаганом. «Ну почему, почему так тяжела моя рука?! Я не могу ее поднять…»
Левая рука натянула поводья, и где-то на груди, у сердца, под кирасой и колетом он почувствовал жжение и стал отклоняться назад, – то его конь поднимался на дыбы. Но поднимался он медленно, вздрагивая всем телом, напрягаясь и колотя воздух передними копытами. Максим чувствовал, как мышцы жеребца вздувались и перекатывались под кожей… Но тут же мысли рванулись к опускающемуся на голову ятагану – тяжелый, безжалостный, острый металл с каким-то треском то ли резал, то ли рвал кожаную каску, сдвигая ее назад, к затылку…
Максим не видел и знал, что не может этого видеть, – но почему-то видел или так обостренно чувствовал, как разваливается под ятаганом каска, сползая к спине и открывая его голову и горло. Белое, хрупкое, беззащитное горло… Острию ятагана поддался и медный налобник, но тут не выдержала и лопнула застежка под подбородком и каска свалилась с головы…
Ятаган, хищно сверкнув у горла – Максим ясно увидел зазубрину на лезвии – столь ясно, будто глядел на нее через увеличительное стекло, – впился в кирасу и начал крушить ее на груди, проникая все глубже и глубже… и коснулся материнского образка.
Максим не видел, но знал это точно! Конь под ним высоко поднялся на дыбы и начал опускаться, норовя ухватить зубами холку вражеского коня, раз не удалось ударить его копытами… Но тут ятаган спага выскользнул из кирасы и, лишь чуть царапая ее, заскользил по металлу. Прямой палаш Рубанова сам, Максиму показалось, что он не направлял его, уперся турку в бок и начал легко и свободно погружаться в тело спага. С удивлением прищурив глаза, Максим наблюдал за своим палашом, уходящим все глубже и глубже, по мере того как передние копыта жеребца опускались на землю. И в тот момент, как они коснулись земли, спаг затрясся, открыл рот и, наверное, дико закричал, но Максим не слышал крика и ничего не видел, кроме вошедшего в человеческое тело металла… Ятаган выпал из ослабевших пальцев спага, и сам он начал клониться с седла…
И тут Максим услышал шум боя: крики, стрельбу и топот… Но он не мог, не хотел больше сражаться… У ног его, щекой в пыли, лежал убитый им человек… В данный момент это был не враг, а мертвый человек, и убил его он… он – подпоручик Рубанов – веселый и добрый парень…
Рот у спага открылся, и оттуда стала вытекать красная густая масса… В желудке у Рубанова что-то взорвалось и закрутилось, и корнета стошнило на пыльный ботфорт и землю.
Таким и застал его подъехавший Нарышкин. Поглядев на мертвого врага, а затем на Максима, он тоже склонился с седла, и его начало рвать.
Следом за Нарышкиным подлетел оживленный Оболенский.
– Ух ты! Во дают! Спага завалили, – задышливо произнес он и тут же врезался в гущу боя – тошнота не беспокоила его…
Черные от пыли, потные и усталые, на грязных конях, плелись гвардейцы по направлению к главной квартире. Гогоча и размахивая руками, оживленно обсуждали бой, хвастаясь друг другу, сколько врагов порубили, временами завистливо поглядывая на помятую кирасу Рубанова и разрубленную каску его, которую благоговейно держал Оболенский. И Максим понял, что он первый из них убил ЧЕЛОВЕКА!..
Михаил Илларионович встретил принявших боевое крещение друзей поначалу хмуро. А Голицын прямо-таки побледнел, увидев пробитую кирасу Рубанова и каску.
– Все нормально? Жив, цел и невредим? – ощупал руки и шею Максима. – Слава Богу! – погладил усталое, серое лицо.
– Ведь что творят?.. Ланжерон тоже хорош – отправил мальчишек в самое пекло… – Кутузов взмахивал пухлой ручкой с зажатой в ней маленькой в царапинах подзорной трубой.
– Зато враг отступил! – рявкнул Оболенский, показывая все тридцать два зуба.
– Дали азиатам прикурить, – поддержал его Волынский, красуясь на коне и будто ненароком демонстрируя обрызганный чьей-то кровью рукав колета.
«Эх! Молодость, молодость! – Поднес к глазам подзорную трубу Кутузов, но тут же прижал ею карту, лежавшую на барабане и поднявшую от налетевшего ветра угол. – Враг отступил… – недовольно подумал он, – потому и отступил, что это были не главные силы, а лишь разведка, хотя и многочисленная. Да туман еще не вовремя растаял, турок и увидел все русские войска… Ну что ж! Голова на плечах имеется, еще что-нибудь придумаем…»
Конногвардейцы переодевались в своей палатке, с любопытством поглядывая на Рубанова, когда тот сбросил кирасу, колет и снял мокрую от пота рубаху.
– Даже царапины нет! – несколько разочарованно произнес Оболенский.
– И слава Богу! – перекрестился Нарышкин.
В ту же минуту, пригнувшись, в палатку шагнул князь Петр.
– Переволновался я за вас, господа… – и, заметив, что лица нахмурились, добродушно усмехнулся, поднял две бутылки мадеры. – Следует отметить первый бой!
Гвардейцы сразу воспрянули духом.
– Но прежде бегом марш на Дунай мыться! – приказал он.
Ночью Рубанову снился убитый спаг. Голова его вдавилась в землю, глаза белели, закатившись под лоб, а изо рта беспрестанно текла и текла кровь, грозя утопить Максима. Он принялся убегать, но кровь поднялась выше ботфортов и уже приближалась к груди.
Закричав, весь мокрый от пота, Максим проснулся и сел на кровати, пошарив вокруг себя руками. «Слава те господи, никакой кровищи». – Испуганно поглядел на две стоявшие рядом походные кровати и укрытых шинелями друзей. После боя спали они как убитые и крика его не слышали.
Утром Рубанов направился в палатку к полковому священнику, покаялся ему и рассказал про ночные кошмары. Батюшка был стар, мудр и сед. Высокий лоб его глубокими шрамами пересекали морщины. Умные глаза светились любовью и пониманием. Улыбнувшись, он взял за руку Максима и подвел к низкому столику с развернутым походным киотом и горящей перед ним тонкой восковой свечой.
– Бог все видит и знает! – произнес он. – Убил ты не в пьяной драке, а в честном бою… и не за кошелек, а за Родину. Грех твой церковь берет на себя!.. Потому и крепка Россия, что ее берегут такие, как ты… А придется умереть?.. Так и смерть сладка за Бога, Царя и Отечество!
22
22 июня, когда солнце только еще поднималось, готовясь к трудовому дню, а русский лагерь завтракал, турецкое ядро шлепнулось в котел с кашей, забрызгав сидевших кругом него егерей и конногвардейцев, охранявших командующего.
И началось…
– Ладно в кашу, а ежели бы шкалик расколол? Голыми руками задушил бы османа! – схватился за ружье Шалфеев.
Турки стреляли по всей линии русских войск.
Из палатки с кряхтением выбрался недовольный Кутузов с полуобглоданной куриной ножкой вместо подзорной трубы. В сердцах он сорвал с шеи и бросил на пыльную траву салфетку.
– Позавтракать не дали! – жалобно произнес командующий. – Теперь весь день насмарку пойдет, и в животе колики замучают. Чего стоите? – напустился на ординарцев. – Мигом узнать, что там происходит! – неопределенно махнул жирной рукой с зажатой в ней курицей, причем от взмаха половина ножки отломилась и упала ему под ноги. – Лучший кусо-очек! – совсем расстроился он. – Этого визирю я уж точно не прощу…
Ядра между тем падали все гуще и гуще.
– Ваше высокопревосходительство, может, поедете в третью линию к кавалерии? – не успел произнести Голицын, как осколок распорол ему ногу выше колена.
Охнув, князь осел на землю.
– Доктора! – крикнул Кутузов. «Это, Ахмед-паша, я тебе тоже припомню».
Отбросив, наконец, остатки курицы, взял протянутую казаком подзорную трубу и увидел лавину турецкой конницы, хлынувшую на русскую пехоту. «Куда же подевались ординарцы?» – мимолетно подумал он, подходя к карте и с головой уходя в планы контратаки.
Ординарцы же в это время, сидя в передовом окопе, по мальчишеской привычке к похвальбе друг перед другом, высовывали голову из неглубокого окопа в момент наивысшего обстрела и наслаждались остротой опущений – попадет или не попадет!.. Они еще не верили в смерть! С кем угодно, но не с ними…
«У турок главное – кавалерия! Их артиллерия, по сравнению с нашей, – пустяки. Пушки не для османов». – Переваливаясь уткой, расхаживал перед картой командующий, вновь посылая с приказом ординарцев – они уже пощекотали нервы и вернулись, ловко оправдавшись за долгую отлучку. Кроме них, правда, за палаткой стояла казачья сотня.
Максим успел наведаться в лазарет и удостовериться, что рана у князя Петра не смертельная. Это успокоило его.
Русская артиллерия и ружейный огонь пехоты смели первые ряды спагов и отбили их атаку по всей линии. Перестроив ряды, элитная анатолийская конница переключилась на левый фланг. Десять тысяч отборных всадников прорвали пехотную линию и сшиблись с кинбургскими драгунами и белорусскими гусарами.
Визирь рассчитывал отрезать русские войска от Рущука и окружить их. Кутузов, однако, сумел предвидеть даже этот прорыв, и оставленные им в заслоне восемь батальонов пехоты штыками встретили гостей. К тому же в тыл османам ударили чугуевские уланы, ольвиопольские гусары и петербургские драгуны… и турки сами попали в окружение.
В сражении наступил перелом, и по приказу командующего, дабы не упустить победу, на турецких янычар и бестолково мечущихся спагов двинулась русская пехота… С распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой военного оркестра, ощетинившись штыками, русские каре равномерным шагом, плечом к плечу, неотвратимо двигались на врага. Ничто не в силах было остановить грозное шествие непобедимых ветеранов. Падали мертвые, но их место занимали живые, и каре двигалось вперед, как непробиваемая стена, как мощный таран, сметающий все на своем пути.
Русское сердце Михаила Илларионовича трепетало в такие минуты… Слезы восторга щипали глаз, и старый ветеран снова становился молодым, сбросив с плеч года, готов был вместе с юными подпоручиками преследовать неприятеля во славу России. «Какое это счастье – быть крепким, юным и с саблей в руке лететь на врага!» – Пожевав губами и старчески сгорбив спину, главнокомандующий пошел в палатку.
– Ничипор, подавай обед, – велел он.
Турки бежали, бросая все…
И в то время как любимые Кутузовым егеря стаскивали к палатке командующего отбитые турецкие знамена, возбужденные боем ординарцы всё не могли отдышаться и в волнении выдергивали палаши и тут же звонко кидали их в ножны.
Подъехавший Ланжерон, театрально поведя рукой над вражескими знаменами, произнес:
– С победой, господа!
Кутузов, сидя на низком стульчике, жевал мясо и недовольно отчитывал денщика за то, что тот пережарил его. Выигранный бой будто не интересовал командующего – пережаренное мясо занимало ум больше всего. Видя такое безразличие, диву давались не только молодые гвардейцы, но даже видавшие виды генералы…
Простояв у Рущука четыре дня, Кутузов приказал оставить крепость, хотя вся армия ждала приказа наступать.
– Как? Ваше высокопревосходительство! Рущук наш последний плацдарм на этом берегу, – кричали генералы, и их всей душой поддерживали молодые гвардейцы.
«Действительно, что-то не то у деда с головой! – думали они. – Одержав победу – оставить крепость!..» Армия не понимала своего командующего! Не понимала того, что он берег их, дорожил жизнями солдат и офицеров сильнее, нежели даже они сами…
– Да мы отстоим Рущук! – горячился Ланжерон.
Кутузов, удивляясь недальновидности своих генералов – не подпоручики уже, – приоткрыл план:
– Главное теперь – заманить визиря на левый берег. Увидев наше отступление, он кинется догонять… А не то мы еще пять лет воевать будем!
– Да что скажут в Петербурге? – произнес Воинов. – Получат рапорт о победе и турецкие знамена, а через несколько дней донесение, что мы оставили Рущук…
– Пусть сейчас говорят что угодно – главное, что скажут потом! –безразличным тоном произнес Кутузов.
Рубанов в сердцах взлетел на коня и, нахлестывая его плетью, поскакал жаловаться Голицыну.
– Как ты вовремя, – обрадовался тот, – я ведь завтра еду домой… Наконец-то увижу сына, – счастливо вздохнул князь Петр, – и жену! А на Михаила Илларионовича не обижайся… Он знает что делает!
– И при Аустерлице знал? – зло произнес Рубанов.
– Там ему все мешали! – успокаивающе накрыл руку молодого офицера князь. – И австрийцы, и даже… – Покрутил головой по сторонам, – император! Все считали себя выдающимися полководцами, а он лишь исполнял их приказы… Посмотришь! Он вскоре разобьет визиря… И жалко, что не могу его поддержать морально, когда вся армия недовольна им, когда генералы считают решение командующего малооправданным! Через некоторое время его станут носить на руках, только каково-то Михаиле Илларионовичу будет прожить это «некоторое время!..»
После того как в конце августа Ахмед-паша спокойно переправился через Дунай, а Кутузова, казалось, это не слишком беспокоило, в Молдавской армии уже никто не понимал действий командующего.
– Мы воевать сюда пришли или бесконечно уступать позиции? – злились гвардейцы. – Турки вон, как черти, на нашем берегу окапываются! Ударить бы сейчас по ним, пока в землю не зарылись…
Вместо этого пришла команда рыть редуты.
«Да что же это такое?» – генералы Марков, Энгельгард и Ланжерон побежали к командующему…
– По сведениям лазутчиков, на нашем берегу лишь тридцать шесть тысяч турок и полсотни пушек. А у нас сотня орудий и около двадцати пяти тысяч человек… Да мы их запросто в Дунае утопим!
Кутузов, сложив ручки на животе, как на нерадивых учеников, глядел на своих генералов и произнес совсем уж, на их взгляд, дикую фразу:
– Чем их здесь больше будет, тем лучше!
– Господа! Это уже смахивает на предательство, – выходя от командующего, произнес Ланжерон, – я буду писать в Петербург!..
Когда большая часть турецкой армии оказалась на левом берегу, обжилась и окопалась, Кутузов вызвал генерала Маркова и велел ему не ударить, как он ожидал, на окопавшихся турок, а тайно переправляться на правый берег и занять высоты позади турецкого лагеря у Рущука.
– То отдаем крепость, то опять берем… – бурчал недовольный Марков, однако вечером 1 октября его семитысячный корпус с тридцативосемью орудиями начал переправу и к утру 2 октября, не замеченный турками, встал на ночевку в пяти верстах за Рущуком.
Ранним утром Кутузов вышел из палатки в парадном генеральском мундире, чем удивил своих ординарцев, и, поднеся к единственному глазу подзорную трубу, внимательно оглядел турецкий лагерь у Рущука.
Все было тихо. Турки спали.
Зевнув, Михаил Илларионович послал ординарцев за генералами. Не успели те собраться, как на турецком берегу началась стрельба.
– Что такое? – недоумевал Ланжерон. – Марков, что ли, начал…
У турок начался переполох.
«Это вам за солдатскую кашу и мою куриную ножку», – улыбнулся своим мыслям командующий и увидел в подзорную трубу русских солдат, входящих в неприятельский лагерь.
Несмотря на то, что турок было в три раза больше, они не сопротивлялись.
«Не совершив утренний намаз, нельзя воевать – вовек рая не увидишь!» – И спаги мужественно улепетывали в разные стороны, спешно запрягая в арбы лошадей.
Через час турецкие пушки перешли к новым владельцам и открыли яростную и меткую пальбу по бывшим хозяевам на левом берегу. Марков захватил турецкие перевозочные средства на Дунае, оставив левобережным туркам лишь несколько дырявых лодчонок… Бежать им было не на чем.
– Победа! – вскричал Кутузов, воздев шпагу.
– Ур-р-ра!!. – подхватили войска.
Ланжерон не кричал, а, понурившись и спотыкаясь, побрел в свою палатку. Кутузов перехитрил его и всех остальных, а он так славно все отписал государю.
Поздним вечером у ног командующего лежали двадцать два турецких знамени.
– Так, так! – жизнерадостно произнес он, вытирая платком слезящийся глаз. – Знамена – это хорошо! Но еще лучше, что Ахмед-паша со своей армией оказался в русском мешке!..
Генералы оживленно переговаривались, армия снова боготворила своего полководца!!!
Не выдержав артиллерийской стрельбы и голода, великий визирь через спившийся цветок алоэ, Абдул-Гамид-эфенди, предложил перемирие… Кутузов согласился начать переговоры, которые открылись в октябре 1811 года. Через десять дней Александр пожаловал Михаилу Илларионовичу графский титул. Вся Дунайская армия была поражена этим решением. Видимо, письма Ланжерона все же сыграли свою роль. Сам он получил графский титул лишь за то, что предал Францию и принял русское подданство.
– Графом быть, конечно, неплохо! – шли толки по армии. – Но за уничтожение лучших турецких войск можно бы, кроме титула, и фельдмаршальский жезл преподнести!..
23
В конце октября гвардейцев отозвали в Петербург. Ссылка закончилась!.. По дороге в столицу Оболенский уговорил друзей пожить у него. Нарышкин дал согласие, так как у Оболенских мог чаще видеть Софи, а Рубанову просто негде было остановиться, он хорошо помнил наказ княгини Катерины.
Но по приезде в Петербург вежливость требовала нанести визит Голицыным, к тому же там оставались вещи: вицмундиры, бальные туфли, парадный мундир и шинель с бобровым воротником. Максим неожиданно для себя разволновался, подъезжая к дому Голицыных.
«Чего это я? – подтрунивал он над собой. – Князь Петр будет просто рад видеть меня! Княгиня Катерина тоже должна быть довольна, что на этот раз остановился не у них… Вот еще! Я уже и забыл о той ночи… Так чего же нервничать?..» – анализировал Рубанов свое состояние.
В это время, натянув вожжи, извозчик во всю глотку завопил: – Тп-р-р-у-у! Ро-д-е-е-м-м-ы-е! Приехали, барин, – обернувшись, уже спокойно произнес он.
Не успел он подойти к дверям, как услышал за спиной:
– Н-н-о-о! Ми-и-л-а-и-и!
«Черт горластый!» – только поднял руку, чтоб постучать, как дверь приоткрылась и высунулась голова старого, больного, хромого и прочая, и прочая… лакея.
– Пожар? Ась? – глядел он сквозь Рубанова слезящимися глазами.
– Всего лишь наводнение, – отстранил старичка.
Навстречу ему летел молодой лакей.
– Как прикажете доложить? О-о-о! Ваше благородие! – заорал тот, пожалуй погромче извозчика.
«Чего они сегодня вопят все?» Докладывать, разумеется, не пришлось. Сверху уже спускался, расставив руки для объятий, князь Петр, а за его спиной стояла и с тревогой глядела на Рубанова, тиская в руках платочек, Катерина Голицына.
– Милый Рубанов! Друг мой! Живы и здоровы… Слава Богу! – на ходу говорил князь и, подойдя, крепко обнял Максима, прижимая его к своей груди.
Рубанову стало стыдно и захотелось поскорее уйти. Максим с удивлением подумал, что в Молдавской армии, где не было княгини Катерины, совесть его не мучила и никакого стеснения по отношению к Голицыну он не испытывал. Все произошедшее с ним и княгиней казалось давно забытым и ушедшим в прошлое… Но получается, что это не так…
– Когда приехал? – не убрав рук с плеч и отступив на шаг, разглядывал его князь Петр и расстроился, узнав, что жить Максим станет у Оболенских.
– Как же так? – удрученно повторял он.
Максим уже взял себя в руки и даже пошутил:
– Княгиня! Вы намерены вновь обучать меня хорошим манерам? – кивнул на платочек и поцеловал ее подрагивающую руку.
– Как нога, не болит? Смотрю, даже не хромаете? – когда прошли в комнаты и сели в кресла, произнес Максим.
– У флигель-адьютанта и кавалера ордена Святого Георгия 4-й степени ногам не положено болеть, господин поручик…
«Поручика» Рубанов пропустил мимо ушей.
– Господин флигель-адьютант?! – по слогам произнес он, поднявшись с кресла. – И кавалер? Поздравляю! – пожал руку князю.
– Благодарю, господин поручик! – произнес тот, поудобнее устраиваясь в кресле и подмигнув жене.
До Рубанова наконец-то дошло:
– Пор-р-у-чик? Ошибаетесь!..
– Никак нет-с. Полковники не ошибаются… И кроме того – кавалер! Жалованы орденом Владимира 4-й степени с бантом.
– Кавалер! – как эхо, повторил за ним Рубанов.
– Поручиками стали вы все! А вот кавалер – ты один… – наслаждался произведенным эффектом Голицын. – Наверстали! Корнетами переходили, так поручиков раньше получили… – радовался князь едва ли не сильнее Рубанова. – А теперь самое главное! – рывком поднялся с кресла. – Извольте следовать за мной, – указал рукой на дверь.
Поднимаясь, Максим заметил, как побледнело лицо княгини. «И чего волнуется? – пожалел ее. – Может, и ребенок еще не мой?! А грех молодости Бог простит…»
Ступая на цыпочках, князь прошел в детскую.
– Все спит? – шепотом спросил у кормилицы, хотя и сам прекрасно видел, что спит.
Максим взглянул на княгиню, успев приметить ее пылающие щеки, и тут же с любопытством принялся всматриваться в маленького человечка, лежащего в колыбели и укрытого атласным стеганым одеялом. Его головку покрывал синенький чепчик в рюшечках и оборочках.
«На меня ничуть не похож! – обрадовался Максим. – И нос князя Петра, ну и, наверное, все остальное…»
– Его сиятельство князь Александр Голицын! – благоговейно шептал Голицын-старший. – Продолжатель рода и семейных традиций!
Максим до сей поры никогда не видел таких счастливых людей.
– Вылитый отец! – тоже шепотом произнес он.
В это время проснувшийся младенец улыбнулся, и Максим – то ли с ужасом, то ли с восторгом – увидел маленькую родинку в углу рта…
«Родинка ни о чем еще не говорит!.. – рассуждал Рубанов, трясясь в коляске по Невскому. – У каждого родинки есть… И у самой Катерины под соском имеется… Может, она и перескочила к мальчишке?! Отцовских чувств-то я не испытываю!» – Глазел на гуляющих по проспекту барышень, одетых в салопы и шубы, и на гвардейских офицеров, пытающихся с этими самыми барышнями познакомиться.
Навстречу ему – еле разъехались – спешила открытая коляска, в которой, облокотившись на деревянную, обитую бархатом спинку, ехала прекрасная юная дама в собольей шубке и меховой шапочке. Равнодушным взглядом зеленых глаз она окинула встречного офицера… и… Максим утонул в этих огромных, с поволокой, глазах. Ему показалось, что сердце перестало биться, а дыхание замерло в груди…
Коляска с прекрасной дамой проехала, а он в каком-то трансе глядел на дорогу, не в силах обернуться, хотя больше всего желал этого…
Постепенно Рубанов обживался на новом месте. Папà и мамà Оболенского, не говоря уже о Софи, встретили вернувшихся воинов с такими любовью и почетом, что позавидовал бы и сам император. После обедни и благодарственного молебна офицеров закружил вихрь балов и приемов, к тому же надо было обмыть новые чины и рубановскую награду с полковыми товарищами.
В конногвардейском полку произошли большие перемены: так, командиром полка был назначен Арсеньев, Вайцман стал по должности старшим ротмистром и командовал теперь дивизионом из двух эскадронов, а Вебера поставили наконец-то эскадронным начальником. Поручик Гуров получил штаб-ротмистра и считался заместителем командира эскадрона, хотя по совместительству командовал и взводом.
Не успели обмыть поручиков и штаб-ротмистра, как Вебера произвели в ротмистры…
– Гвардейский ротмистр вам не фифти-мифти, а тем более – не поручик… – это штаб-офицерский чин, – важничал Вебер, – что дает право носить бахрому на эполетах, – совал всем под нос свой погон.
А чтобы даже с пьяных глаз было заметно, что он – штаб-офицер, а не «фифти-мифти», бахрому Вебер сделал намного длиннее, чем положено по уставу. Ходил ротмистр теперь боком, выставляя вперед то правое, то левое плечо.
– Майн Готт! – обратился он как-то к трем друзьям. – Судари, конногвардейский полк процветает, когда вы в отлучке… Шучу, шучу! – заржал, показывая крупные зубы и выдвигая вперед правое плечо.
Рубанов тут же обиделся и, поглядев на его эполет, сказал:
– А вам, господин ротмистр, дай волю, так вы бы бахрому до локтей развесили !
Тут уже заржали Оболенский с Нарышкиным, а обиженный немец, развернувшись кругом, гордо удалился, выставив плечо и тряся ненаглядной своей бахромой.
В первых числах декабря приказом по полку Рубанов назначался командиром третьего взвода вместо штаб-ротмистра Гурова, который выполнял теперь лишь функции заместителя Вебера. Этим же приказом командиром взвода назначался и Оболенский, но в другом эскадроне. Нарышкин оставался по-прежнему адъютантом полка.
По приезде из Молдавской армии Рубанов получил в полковой канцелярии письма от матери и своего старосты. Теперь же еще одно письмо и пятьсот рублей привез от Изота Шалфеев, получивший отпуск и ездивший за женой в Рубановку.
– Деревня на месте! Ближе к Волге или Петербургу староста ее пока не передвинул, – доложил он Максиму, – все живы-здоровы, чего жалают вам и Михеич, и Кешка, и Лукерья, и Агафон…
– Стоп, стоп, стоп… – остановил его Рубанов. – А чего деньжат маловато прислали?
– Дак оне там, как объяснил Изот, мельницу ставят, да кабак, да зерно по деревням скупают, а как продаст – хотит еще людишек подкупить. Вот об этом в письме все прописано, ждут вашего соизволения.
– Прочитаем и обдумаем! – согласился Рубанов, отпуская денщика.
«Финансы теперь имеются! – подумал он, убирая во внутренний карман колета пятьсот рублей. – Голицыны подарили тысячу, да жалованье, да из Рубановки прислали – есть на что погулять!»
В огромном доме Оболенских у Рубанова была своя комната и спальня на втором этаже. Напротив, такую же комнату со спальней занимал Нарышкин. По соседству с ним располагались апартаменты Гришки Оболенского.
– Весьма удобно! – рассуждал молодой князь. – Когда кому захочется выпить – все под рукой. – Чаще всего, конечно, выпить хотел именно он.
Нарышкин, под присмотром старой тетки Оболенских, все свободное время проводил с Софи. Тетка им не мешала. Сидела за пяльцами в кресле где-нибудь в углу комнаты и вышивала, затем внимательно рассматривала вышитый узор на розовом или синем атласе и, удовлетворенная созидательным трудом, засыпала сном праведницы.
Рубанов повесил исковерканные кирасу и каску на стену, чтобы, как он говорил, всегда быть готовым к смерти!
Первое время вся семья Оболенских по нескольку раз на дню стучалась к Максиму и просила еще разочек взглянуть на доспехи. Особенно восторженно разглядывала пострадавшие кирасу и каску Софья. Нарышкину это чрезвычайно не нравилось, и он попросил Максима на какое-то время убрать доспехи куда-нибудь подальше или подарить ему, что Рубанов и сделал.
Через несколько дней, заглянув в комнату друга, Максим увидел Нарышкина в своей кирасе и каске, что-то увлеченно повествующего Софи. Максима они не заметили, и тот с любопытством прислушался, с удивлением узнав, что эти кираса с каской принадлежат Нарышкину и в бою были на нем, а отдал он их Максиму, дабы не расстраивать своих родителей… Девчонка, уже не прищурив, а вытаращив глаза, глядела на него с обожанием, а сиятельный болтун, снимая кирасу, еще взял с нее клятву, что она никому и ничего не расскажет…
«Есть же на свете бессовестные вруны… Да как складно заливает! И эта тоже хороша. Подумала бы хоть своей головой, почему наградили меня, а не ее свистуна… Впрочем женщина и логика – вещи суть противоположные!» – прикрыл дверь и забежал в свою комнату, потому как они направились в залу. «Чего, интересно, этот господин сочинитель еще наплетет?» – подумал Максим и решил все узнать досконально. Выглянув из комнаты, он собрался было последовать за влюбленными, как наткнулся на Оболенского.
– О-о! Рубанов. Вот славно-то… Как ты вовремя появился. Мне как раз захотелось выпить!
«Будто бывают такие минуты, когда выпить ему не хочется!» – подумал Максим.
– Согласен! Давай только немножко послушаем этого трепача Нарышкина! – и он коротко объяснил князю суть дела.
– Ну и что? Пройдет время, так ты со своими способностями еще и не то придумаешь! Пойдем прежде выпьем!
– Нет! Давай встанем за портьеру и послушаем…
– Но это же некрасиво!
– Зато интересно.
– Ну полно скромничать! – услышали они голос Софьи, когда подкрались к влюбленным. – Расскажите еще, как сражались…
– Скромник нашелся! – язвительно зашептал Оболенскому Максим и прислушался.
– Да что рассказывать… Схваток с турком было достаточно… Однажды меня окружили двое османов, нет – трое! Бородищи – во! – широко развел он над подбородком ладони. – Плечищи – во! – расставил руки во всю ширь. – И вооружены вот такенными ятаганами, – выставил руку над полом на уровне своего лица.
Оболенский уже не жалел, что согласился подслушивать. Закрывая себе рот ладонью, он подмигивал Максиму и кивал в сторону Нарышкина, одобрительно покачивая головой…
– …Я одного – хвать палашом! – вошел в роль Нарышкин. – Другого – бац из пистоля, а третьего не успел…
Княжна в ужасе закрыла глаза.
– …Он «бах» по мне, я пригнулся…
– Пуля лишь по языку скользнула… – шепотом прокомментировал Рубанов.
– …Пуля в каску попала, – захлебывался словами граф, – тут я его палашом и развалил!..
– Ах! Какой вы, право, жестокий! – млела Софи.
– После него я еще троих зарубил, – скромно потупился Нарышкин.
– Боже! Да вы просто зверь! – восторженно захлопала в ладоши княжна.
– После боя глянул на свою форму – каска прострелена в двух местах!
– Ой! – в ужасе всплеснула руками Софья.
– А мундир – как есть у сердца – распорот ятаганом.
– Бедненький! – обняла она графа, чувственно жмурясь.
– Кхе! Кхе! – вовремя проснулась старушка.
– В детстве паучкам лапки отрывал, чудовище, – зашептал Максим Оболенскому, и тот, оборвав портьеру, грохнулся на пол и замер…
На смех сил уже не оставалось.
– Ой, мамочки! – вскрикнула пораженная княжна.
– В сердце ранен! – вылез из-за портьеры Максим.
– Да нет, в зад! – произнес умирающий и поглядел на Нарышкина. Тот сразу догадался, что спокойная жизнь для него наступит не скоро.
Днем в караульном помещении Максим написал два письма – матери и в Рубановку; а вечер посвятил своему внешнему виду – трое поручиков и Оболенские готовились к балу.
«Надо же! Узок под мышками и жмет в плечах… – разглядывал себя в зеркале Рубанов, нарядившись в красный вицмундир и белые панталоны. – На новый денег жалко. До весны этим обойдусь, а там в летние лагеря на "травку", затем учения, а осенью закажу…» – размышлял он, когда в дверь постучали, и, не дождавшись разрешения, просунулась голова Нарышкина.
– Мы готовы! Тебя ждем.
– Где же готовы? – вышел из комнаты Максим и окинул взглядом ладную фигуру друга в вицмундире. – А кирасу с каской разве не наденешь?
– Ха-ха-ха! – вывалился из своих апартаментов Оболенский, выдыхая с каждым «ха» свежий запах лимонной водки.
– Уже лимончика откушать изволили? – пропуская мимо ушей рубановскую колкость, поинтересовался у князя Нарышкин.
Оборвав смех, тот побежал одеколониться.
На улице ожидали три кареты. В одной разместились Нарышкин, Софи и старая тетка, в другой – папà и мамà Оболенского с братом и его женой, в третью сели князь Григорий и Максим.
– Не желаете прополоскать рот, господин поручик? – тут же достал откуда-то плоскую стеклянную бутылочку князь.
– Конечно желаю! – взял у него фляжку Рубанов. – Для смелости!..
На бал он ехал с тайной надеждой встретить Мари.
«Тогда точно она была. Лишь у нее такие глаза!» – вспоминал он.
Не успели выйти из кареты, как Софи тотчас подхватила задумавшегося кузена под руку и потащила к ярко освещенному крыльцу.
Первыми, на кого наткнулся Григорий, снимая шинель, были причесывающиеся перед зеркалом мать и дочка Страйковские…
«Лучше бы к Мойше пошел, – затосковал он. Но графини не замечали его или сделали вид… и, покачивая бедрами, начали медленно подниматься по устланной ковром лестнице на второй этаж.
Оркестр заиграл полонез, и Рубанов, независимо улыбаясь, направился выбирать напарницу. Тут же его взяла оторопь, когда взгляд наткнулся на стройную девичью фигуру в светло-зеленом платье, открывающем плечи и небольшую грудь. Белокурая головка повернулась в сторону Максима, и его закружило в зеленых омутах.
«Черт-дьявол – она!» – Он мечтал об этой встрече, но когда она произошла – растерялся.
– Господин Рубанов? Извините! – кто-то тронул его за плечо. – Весьма рад вас видеть, – улыбался из-под усов гусарский полковник, – а я думаю – вы, извините, или не вы? Возмужали, извините, батенька, возмужали… Кстати! – икнул он, вытаращив глаза от удачной, на его взгляд, мысли. – А пойдемте-ка я вас представлю… вот так оказия, – крепко, не вырвешься, словно рукоять гусарской сабли, схватил за кисть Максима и повел в сторону высокого крупного мужчины в генеральском мундире и тонкой фигурки в зеленом платье.
Лоб Максима покрылся испариной.
«Господи! Да что я какой трус?.. Надо быть мужественным, как Нарышкин в бою!» – пытался взбодрить себя.
– Позвольте представить, господа! – хитро улыбался гусар. – Владимир Платонович Ромашов с дочерью, а это, извините, кавалер и гвардейский поручик Рубанов Максим Акимович.
Генерал, хмурясь и пощипывая левой рукой пушистый бакенбард, правую протянул молодому человеку.
– …К тому же ваш сосед по имению! – радостно хохотнул полковник.
Генерал отпрянул, а его дочь, напротив, удивленно глянув на молодого офицера, непосредственно всплеснула руками:
– Помню! Помню! – чуть было не запрыгала она.
На них стали уже оборачиваться.
– Мари! – строго одернул расходившуюся дочь отец. – Очень рад, очень рад! – произнес генерал таким тоном, что сразу стало ясно обратное.
Полковник удивленно поглядел на приятеля и пожал плечами.
– Сосед по поместью, извините, – без прежнего уже энтузиазма произнес он.
– А по-моему, я вас видела в прошлом году, – зеленые глаза Мари ласкали Максима. – Видела, видела! – убеждала она себя. – Но тогда вы были в потрепанном смешном мундире с протертыми локтями и с вытянутыми на коленях панталонами, – засмеялась Мари, – а рядом такие же мятые товарищи.
– Это нас с гауптвахты выпустили! – радостно подтвердил Рубанов.
«Такой же жук, как и его папаша!» – подумал генерал. – Весьма рад встрече, но разрешите откланяться… Дела!
Его дочь удивленно распахнула глаза.
Полковник подергал свой ус:
– Какие дела? Извините…
– Разные! Разве все упомнишь?..
Максим ничего не соображал. Он глядел на Мари и улыбался.
– Рубанов! – полуобнял его кто-то за плечо, и мужской голос привел в чувство.
– Василий Михайлович! Сегодня сплошные сюрпризы, – пожал Максим протянутую руку.
– А разве со мной не хотите поздороваться? – ярко алела губами его жена.
– С удовольствием! – шаркнув ногой, поцеловал женскую руку Максим. – Василий Михайлович! Поздравляю генералом! – оглядев форму на пышной фигуре, произнес Максим. – А вас, сударыня, – генеральшей! – улыбнулся женщине.
– Голицыны говорят, что вы их покинули… Князь Петр очень переживает. И где вы теперь? – довольно покосился на свой новенький эполет Василий Михайлович.
– Остановился у Оболенских.
Собравшийся было уходить Владимир Платонович остановился и о чем-то задумался.
– Папà! Ну давайте останемся… – капризничала Мари, – не успели прийти и вот… Отчего вы вчера не делали свои дела?
– И правда, Владимир Платонович. Успеешь! Извини меня, но всех дел все равно не переделаешь… – поддержал барышню гусар.
Ромашов колебался…
– Простите, господа! – подошел к ним Оболенский-старший и, попросту взяв Рубанова под локоть, поинтересовался. – Григория не видели?
– Ну хорошо, останемся! – дал согласие Ромашов.
«И когда этот мальчишка успел обзавестись такими связями? – удивился он. – Может далеко пойти…»
– Всех дел и правда не переделаешь… А как поживает ваша маменька? – спросил он у Максима, и тот спокойно, без внутренней дрожи и трепета ответил:
– Постриглась в монахини… Не перенесла смерти отца! – Светская наука положительно сказывалась на нем.
– Да! Жаль Акима, славный был рубака и к тому же гусар!
Оркестр заиграл мазурку.
– Разрешите, сударыня!– галантно поклонился Мари Рубанов и, взяв ее под руку, тут же повернулся к Ромашову. – Господин генерал, разрешите пригласить вашу дочь?
«Прыток! Весьма прыток и, кажется, умен и вежлив. Знакомства какие – Голицыны, Оболенские в друзьях ходят, генералы за своего принимают, даже этот дурак- полковник с ним подружился».
– Разрешаю! – милостиво кивнул он. – Молодежь и ездит сюда для танцев… Это уж нам, старикам… стены подпирать… потанцуем, мадам? – щелкнул шпорами перед женою Василия Михайловича.
«Шустрый мальчишка! – Вполне еще сносно танцевал Ромашов. – Не успел из облезлой Рубановки вылезти, а уже свой в высшем свете… кавалер и гвардейский поручик… порхает на балах и часто видит в Зимнем царя… Я в его годы не смел и мечтать об этом, – косился на дочь и Рубанова генерал. – Ишь как Машеньку развеселил… Что за вздор, интересно, несет, коли она так смеется? – занервничал Владимир Платонович. – А мать его, значит, оставила мирскую суету… жаль, пылкая была женщина», – вздохнул он и стал шептать партнерше любезности.
Рубанов чувствовал необычайную легкость в теле и подъем духа. Он грациозно и ловко вел даму, чуть касаясь ее, и наслаждался капризной прядью, щекочущей шею, и мягким светом зеленых глаз. Он упивался танцем, музыкой и ощущением бесконечной радости от близости своей мечты… И – о Боже! Она улыбалась ему, говорила с ним, и ладонь ее касалась его руки. Он ощущал ее дыхание, гибкий стан и тонкий аромат духов… И это не сон! А может, сон?..
Рубанов сладко зажмурился, прекратив кружение люстр, лиц и стен, и тут же раскрыл глаза, чтобы снова увидеть Ее.
«Господи! Если есть на свете счастье… – думал он, – то я познал его! Прекраснее, наверное, ничего не будет!..»
– Мари! – прошептал он.
– Что?.
А ему просто приятно было произнести ее имя. Ощутить его на своем языке, отведать вкус этого слова… Оно жило в нем, вдохновляло его и делало сильным и счастливым.
– Мари! – опять прошептал он, а может, произнес ее имя мысленно…
Это было приятно, словно поцелуй на губах.
– Не слышу! – смеялась она. – Говорите громче.
На миг глаза их встретились, и он утонул в ее взгляде, чувствуя, что пожелай она сейчас звезду, он сорвет ее с неба, пусть от этого гибнут миры и рушатся галактики… Что ему до какого-то там мироздания, ежели ей захотелось звезду…
Но, к сожалению, после танца она пожелала лишь воды. Отняв у перепуганного лакея поднос с лимонадом, он устремился к ней, заметив краем глаза загнанного в угол Оболенского и графинь Страйковских возле него.
«Не может всем на свете быть хорошо!» – философски отметил Рубанов, наливая в стакан лимонад и протягивая Мари.
– Куда вы столько?! – смеялась она. – Я собираюсь пить, а не тушить пожар.
Блаженно улыбаясь, Максим допил воду, касаясь стакана в том месте, где недавно были ее губы. «Чудо как хорошо!» – усадил даму на небольшой диванчик и сел рядом, будто случайно коснувшись сукном мундира ее обнаженного локтя. Отдернув руку и чуть покраснев, она стала всматриваться в танцующих. «Лишь недавно танцевала со мной и вот уже краснеет от малейшего прикосновения», – поразился Максим.
Неожиданно они почувствовали какую-то смутную неловкость, волной накатившую на них и заставившую отодвинуться друг от друга к подлокотникам дивана.
Максим мучительно искал что сказать… все слова казались наивными, пустыми и глупыми в сравнении с тем чувством, которое он ощущал к этой невысокой, хрупкой девушке.
–А вон мой папà, – произнесла она, вглядываясь в зал.
– Я был в вашем парке в прошлом году…– будто выискивая ее папà среди танцующих, сказал Рубанов и повернулся к ней.
– Да-а?! – чему-то обрадовалась она, в свою очередь поворачиваясь к нему и обволакивая своим взглядом и улыбкой.
«Ой! Когда я привыкну к ее глазам?.. – чувствуя, как краснеют щеки, подумал Максим. – Словно мальчишка пятнадцатилетний смущаюсь».
–…Деревья как раз сбрасывали лист… под ногами шуршит… приятно так… я детство вспомнил… и вас в нем… – путаясь в словах, сумбурно заговорил он.
– И что вы вспомнили? – заинтересовалась она, чуть придвигаясь – не на весь же зал кричать.
Он тоже чуть придвинулся к Мари, чувствуя, как проходит неловкость.
– Вспомнил маленькую девочку, – улыбнулся краешком рта, – с прекрасными глазами…
– Скажете тоже! – с удовольствием произнесла она, опять краснея.
– А потом эта девочка поцеловала меня… вот сюда! – показал на щеку.
– Этого не было! Стыдно неправду говорить, – укоризненно прошептала Мари, еще сильнее покраснев и потупившись.
– …И подарила золотой крестик, который с тех пор ношу на груди, – приложил руку к вицмундиру.
– Боже мой! Неужели это правда? – откинулась она на мягкую спинку дивана, случайно при этом задев туфелькой ногу Рубанова.
Взрывная волна пронеслась по его телу, постепенно поднимаясь к сердцу и заставляя его биться с бешеной скоростью.
– Истинная правда! – дрогнувшим голосом пылко воскликнул он.
– Тише! – приложила она палец к губам. – Вполне вероятно, что вы все выдумали, дабы позлить меня!
– Ничего я не выдумал, – оглянувшись по сторонам, быстро расстегнул пуговицу и показал ей крестик.
– Простите, что отрываю вас от душеспасительной беседы на божественные темы… – откуда-то сбоку возник Нарышкин, держа под руку Софью.
При этих словах та ехидненько поджала губки и прищурилась.
«Делать, что ли, нечего? – возмутился в душе Рубанов. – О кирасе, видимо, подзабыл…»
– …Но не угодно ли будет господину поручику представить нас даме?
– Нахалы!– незаметно для Мари шепнул Максим в сторону Нарышкина и Софи, поднимаясь с дивана.
Те расплылись в улыбке, будто услышали комплимент.
Софи при этом сделала книксен. Мари ответила ей и позволила Нарышкину поцеловать свою ручку.
«Наглец! Каков наглец!» – кипел Рубанов, но представил всех ровным голосом.
– Оч-ч-ень приятно! – бормотал Нарышкин, пытаясь еще раз поцеловать ручку.
Софья, улыбаясь, ревниво сморщила носик.
– Надеюсь, мы будем друзьями, – бубнил Серж.
«Экий беспардонный тип! Лимонной, что ли, хватил? – злился Максим. – Ну конечно, это не с турком воевать…»
Юные дамы смерили друг дружку оценивающим взором, высчитывая в уме плюсы и минусы соперницы, затем улыбнулись и взяли под руки кавалеров.
– Разрешите пригласить вас на танец, – обратился Максим к своей даме, услышав звуки музыки, но танцевать ему не пришлось.
Дорогу загородила мощная фигура Гришки Оболенского с вцепившейся в его руку Страйковской-младшей. За то время, что ее не видел Рубанов, юная графиня явно изменилась – она целеустремленно искала жениха… Лицо ее от этого приняло хищное выражение. Глаза перескакивали с мужчины на мужчину, а ноздри трепетали, словно у загнанной кобылицы. На свою маменьку она не надеялась – приходилось устраиваться самой. Графиня крепко держала пойманную жертву и, даже когда Оболенский, страдальчески морщась, словно от зубной боли, представил ее собравшимся, она не выпустила его локоть и книксен сделала, приподняв край платья одной рукой.
Рубанов пожалел друга, но помочь ничем не мог. Неожиданная помощь пришла со стороны генерала Ромашова – на этот раз ему действительно пора было ехать. Рано утром предстоял прием у Аракчеева, и Владимир Платонович заранее трепетал. Дочь познакомила его со своим окружением, и ноздри у Ромашова задрожали, как у графини Страйковской – он смолоду неравнодушно относился к титулам и временами ловил себя на мысли, что завидует даже прапорщику – этой пыли под генеральскими сапогами, ежели тот является графом… Он без раздумий поменял бы чин на титул, пусть даже баронский. Мечтательно вздохнув, поклонился Оболенскому, Нарышкину и поцеловал пальчики графини.
– Служба, господа! – развел руками.
Максим вызвался проводить Мари, с ними увязался Оболенский, оставив якобы на минуточку свою приставучую пассию на попечение Нарышкина. «Вот где подвиг прояви, ибо любая женщина страшнее янычара!» – злорадно подумал князь.
– Рубанов, друг, поехали домой! – предложил Григорий.
На бал идти он больше не собирался.
«Приятное общество. Весьма приятное! – рассуждал Владимир Платонович, сидя в карете и для чего-то подсчитывая в уме светящиеся в домах окна. – Князья, графья… двадцать четыре, а Рубанов, хоть и гвардии поручик и кавалер, а титула не имеет… Лучше бы вместо Владимирского креста графа выслужил… тридцать шесть. А Оболенский с Нарышкиным – орлы… и не женаты еще. Вот каких мужей Машеньке надобно… а не этого нищего гвардейца… сорок пять. У него и отец дальше ротмистра не выслужился, и этот, поди, выше не залезет… Следует отказать ему от дома. Нечего девчонке голову зря кружить… пятьдесят восемь».
– Да будут в этом городе сегодня спать! – заорал Ромашов.
– Что с вами, папенька? – вздрогнула Мари.
– Ничего. Прости, дочка. Это я так… задумался. Всё мысли, – смутился генерал.
24
Рубанов недовольно хмурился, разглядывая пыльный шкаф в офицерской комнате караульного помещения. «Вот! Пар изо рта идет. – Выдохнул он воздух и мрачно обозревал небольшое мутное облачко, быстро становящееся прозрачным под неярким светом свисавшей с потолка лампы. – …Вечно после этих кавалергардов колотун! Дрова, что ли, экономят? – Пнул сапогом изразцовую печку с фигурным карнизом. – Твердишь Шалфееву – принимай как следует помещение, так нет! – Провел пальцем по дверце шкафа и, вздохнув, обтер его платком. – Безобразие! – Отцепив палаш, в сердцах бросил его на ясеневый стол. – Ну что это такое? – Страдальческий взгляд его упал на заплывший воском четырехсвечной канделябр, стоявший в углу стола. – …Вместо свечей одни огарки… Да чтоб у всего третьего взвода такие палаши в штанах стали! – разозлился он. – Погоняю этих чертей на занятиях! А сегодня заставлю караулку вылизать… научатся смену принимать!» – Прицепив палаш, направился проверять постовых.
После обеда, ближе к вечеру, Рубанову доложили, что к императору прибыл Аракчеев. «Надо возле кабинета находиться, – подумал он, – Алексею Андреевичу непременно что-либо понадобится… Хотя военный министр сейчас Барклай, однако власти и влияния у этого инспектора всей артиллерии поболе любого министра будет».
В кабинете императора, в отличие от караулки, было жарко натоплено и тихо. Торжественный покой нарушали лишь уверенные шаги Александра Павловича, который, держа руки чуть ли не по швам, размеренно шагал от одного зеркального окна к другому. Из глубины просторной комнаты с высокими потолками Аракчеев внимательно наблюдал за царем, восхищаясь в душе его осанкой и прекрасно пошитым измайловским мундиром. Сам он упрятал свою высокую костлявую фигуру в темно-зеленый поношенный артиллерийский мундир без орденов, но с образком Павла I между двумя верхними пуговицами. В умных глазах его таилась великосветская скука. Он всегда скучал во дворце.
– Значит, говоришь, купец умер прямо в бане? – остановившись, потер раздвоенный подбородок Александр.
– Точно так, ваше величество, – подергал впалыми щеками Аракчеев, – как есть в бане и преставился, – перекрестился он, как всегда не сразу находя икону на увешанных оружием и картинами стенах кабинета.
– Может, пару много поддали? – снова задал вопрос император.
– Может и так, к тому же супружница его рассказывала, что он с утра на здоровье жалился… все в грудях горит, мол… – иногда граф любил выражаться по-народному, чтоб император видел, что он простой человек и всего достиг лишь верной службой и милостью государя. А особенно Аракчеев терпеть не мог тех, кто без запинки тарахтел по-французски.
– А чего же в баню поперся? Прости господи, – тоже перекрестился на образа император, подумав: «С кем поведешься, от того и наберешься!»
– Смею полагать, грешил на простуду…
Аракчеев знал, что император очень интересуется мелкими ничего для государства не значащими происшествиями, и поэтому, в отличие от полицмейстера и петербургского генерал-губернатора, входил в самые ненужные тонкости.
– Да-а! Все мы смертны… – убрав руки за спину, опять принялся маршировать Александр.
– Но зато мещанка на Васильевском тройню родила… – разглядывая женский портрет над камином, произнес Аракчеев.
Император снова остановился, щурясь близорукими глазами в глубь кабинета.
– Это хорошо! Выдай-ка ей от моего имени десять, нет, девять рублей – по три на брата… Или там девчонки?
– Никак нет, ваше величество! Все солдаты…
– Хорошо! – снова повторил император. – Несмотря на купца, народонаселение в стране увеличилось!
«Бережлив государь! – с удовольствием отметил Аракчеев, поджав и без того узкие губы. – Даже мебель в чехлах держит, правильно, нечего зря средства расходовать!»
– Ну что там еще, Алексей Андреевич? Да сядь, ради бога, поближе, к столу, что ли? А то и не разглядишь тебя.
Поскользнувшись на гладком паркете, Аракчеев перебрался к большому письменному столу, стоявшему в простенке между окнами, положительно оценив содержавшийся на нем порядок.
«Стол – это душа государственного человека! – стал рассуждать Алексей Андреевич. – У которого все навалом навалено, у того и в делах беспорядок, а тут все строго и на месте». На рабочем столе государя симметрично стояли два канделябра со свежими свечами. Ровно по центру – чернильница с остро отточенным гусиным пером. Стопка чистой бумаги – с одной стороны стола; указы, документы и доклады – с другой. «Все чинно, ровно и симметрично, – радовался Аракчеев, – как и должно быть в государстве!»
– А еще у барона фон Швейделя сбежал крепостной парикмахер, – отбросив рассуждения о столе, сказал он.
– Это который такой Швейдель? – заинтересовался Александр.
– Он недавно стал вашим подданным… Саксонец. От Наполеона бежал.
– Он, значит, от Наполеона – а лакей от него?! – засмеялся император, и его тут же поддержал Аракчеев, хотя не видел причины для смеха.
Дождавшись, когда император отсмеялся и вытер белоснежным платком глаза, скрипучим голосом произнес:
– Осмелюсь доложить, ваше величество, что сие есть самый злостный непорядок и подрыв основ государства… Что с нами станется, ежели все слуги разбегутся?
– Конечно, конечно! Алексей Андреевич… Велите от моего имени полицмейстеру поймать и строго наказать крепостного… А с чего он убежал?
– Ну-у-с… ежели разобраться, ваше величество, этот немец сам порядочная свинья! – Помявшись и видя удивленные глаза императора, продолжил: – Барон лыс как…– хотел сказать «женская коленка», но, взглянув на лысеющего императора, не осмелился, – хрустальный шар, а цирюльник ловко скрывал…– собрался сказать «немецкую плешь», но, взглянув на Александра, опять передумал, – благородную лысину под париком… Что являлось страшной тайной, о которой знали лишь цирюльник барона фон Швейделя…
– …И вы, граф! – перебил рассказ Александр и улыбнулся.
– …Поэтому слугу он держал в сыром подвале, – кивнул головой Аракчеев на слова царя, – чтоб не дай бог кто не узнал… особливо дамы! А теперь лакей сбег!.. Барон лежит больной и стонет, держась за… – вместо «лысину» произнес «голову».
– Непременно следует крепостное право отменить! – сквозь смех произнес Александр. – Сперанский того же мнения…
– Вероятно, вы шутить изволите, ваше величество! – вздрогнул Аракчеев. – Ведь это смерть для государства!
– Скажете тоже, Алексей Андреевич. В других же странах живут?
– Другие страны нам и в подметки не годятся! Всему свое время!.. А сейчас мужик доволен. Государство процветает… Зачем же страну тревожить? – пристально взглянул на императора.
– Шучу! Шучу, мой любезный Алексей Андреевич, – устав ходить, император уселся в кресло.
Аракчеев, видя, что государь устал от городских новостей, решил перевести разговор на другую любимую царем тему.
– Ваше величество! Я всю ночь не спал и думал… может, следует ввести на мундире вместо пяти пуговиц семь?
– Семь? – с удовольствием переспросил император. – Алексей Андреевич, дорогой! Не в службу, а в дружбу… вели кликнуть к нам солдата!
Опять поскользнувшись на паркете и насмешив этим своего государя, граф кинулся выполнять повеление.
Когда всемогущий придворный выбежал из кабинета, Рубанов расслабленно дремал в кресле неподалеку от высокой резной двери, вытянув ноги в белых лосинах и воткнув шпоры в паркет. Он мечтал о Мари, забыв про служебные дела.
– Офицер! – на низких нотах зарычал Аракчеев.
Раскрыв глаза, Максим попытался встать, но сразу у него не получилось – слишком глубоко вогнал шпоры в дерево. Наконец, вытянувшись во фрунт, доложил:
– Начальник караула командир третьего взвода второго эскадрона лейб-гвардии Конного полка поручик Рубанов. – И смело уставился на всесильного фаворита.
Аракчееву понравилась точность доклада: «А ведь мог бы просто сказать – начальник караула поручик Рубанов, – подумал он. – Надо предложить государю внести изменения в устав».
– Надеюсь, вы не скучаете, господин поручик? – все равно не сумел он удержаться от ехидства.
«Верно, оттого, что слишком смело глядит!» – оправдал себя граф.
– Никак нет, Ваше высокопревосходительство, – с чистой совестью соврал Рубанов, отметив, как выпучил глазки и раздул ноздри стоявший на посту Шалфеев.
– Тогда быстро найдите и приведите к государю пехотного солдата. Выполняйте, поручик! – внимательно глядел он вслед, пока Рубанов бегом не скрылся в другой зале. Затем резко повернулся к Шалфееву и грозно оглядел его, ища, к чему бы придраться.
На гвардейце все было по форме.
– Ладно! – расстроенно буркнул граф и прошел в кабинет.
Пробежав одну залу, Максим никого не обнаружил и, придерживая палаш и гремя шпорами, заспешил дальше на чей-то голос в соседнем помещении.
Влетев туда, к своему разочарованию, наткнулся лишь на пьяного печника, обнявшего теплые бока круглой выпуклой печки и жалующегося ей на какого-то гоф-фурьера Хфедора. «Клавдя-а!» – услышал Максим вопль души, пробегая мимо. «Мне бы его заботы! – даже не улыбнулся Рубанов. – Видно, думает, что жена…» – И тут ему дико повезло – прямо на него двигалась ничего не подозревающая жертва. Рядом с унтером вразвалку шел не нужный Максиму маленький пузатый ламповщик, и приятели что-то оживленно обсуждали, жизнерадостно размахивая вместительными узелками. Заметив офицера, семеновский унтер вытянулся во фрунт, уронив узелок, который тут же подобрал ламповщик и спрятал за спину.
Унтер на своей шкуре испытал, коли офицер солдату улыбается – жди беды… Это так же верно, как ежели дорогу перебежит заяц, черная кошка или столкнешься с попом.
«А-а-а! Точно! – содрогнувшись, вспомнил он. – Когда с кумом от меня вышли, навстречу отец Епифан попался… да еще похмельный, да матерно лающийся и, в придачу, с подбитым глазом… Тут с порядочным, тверезым попом повстречаешься – не повезет… А с этаким?!»
– Господин унтер-офицер! – строго произнес Рубанов, ликуя в душе: трезвый и не первогодок. – Прошу следовать за мной…
На стук открыл Аракчеев – камердинеры мешали им.
– Ваше величество, солдатика привели, – обрадовался граф.
– Скорее давай его сюда, – раскрыв шкаф с аккуратно разложенными по полкам образцами щеток для усов и сапог, огромным количеством воинских ремней, пряжек и другой солдатской амуниции, Александр достал два мелка и в раздумье остановился перед солдатом.
Семеновский унтер изо всей силы ел глазами высшее начальство, моля Бога лишь об одном – в целости и сохранности вернуться в родной полк. «Ну, отец Епифан! – думал он. – На том свете чертям придется с тобой потрудиться… ни один котел им загадишь…» – жалел он чертей.
– Вот здесь, здесь и здесь, – ставил мелом метки на солдатском мундире император.
– Простите, ваше величество, а не лучше ли будет чуть опустить эту пуговку?
– Гм-м! Надо подумать.
– И еще, ваше величество, какие сделать «клапанца» – прямые или зубчатые?
«Какой все-таки умница этот Алексей Андреевич… Что бы я без него делал?» – с упоением пятнал мелом мундир император.
– Потрудитесь, сударь, стоять спокойно! – делал замечание замершему солдату Аракчеев, в свою очередь, ставя метки у него на груди. «Освободить холопов со Сперанским мечтают… – думал он между делом. – Самодержцу российскому не след быть таким либералом, ибо подобные рассуждения несут вред и беспокойство государству; в пожилом возрасте императора будет мучить совесть за свои юношеские взгляды! А с поповичем я разберусь… Вредный для России человек!»
– Не тот нынче народишко пошел…– произнес Аракчеев, отступив на шаг от унтера и рассматривая его мундир.
– Отчего же – не тот? – полюбопытствовал император, отложив мелок и вытирая платком испачканные ладони и пальцы. – Извольте, ваше сиятельство, развить мысль до логического завершения.
– Чего же ее развивать? Не те людишки пошли, что раньше, – дерганые и не серьезные! При батюшке вашем, благословенном императоре Павле, – приподнял с груди медальон и поцеловал его, – я видел унтера, который мог носить на кивере стакан с водой и, маршируя, не разлить!.. Вот уж выучка так выучка была, теперь и без стакана словно инвалиды ходят – игры в носках прежней нет… ногу не тянут и в строю кашляют! Лишь измайловцы – молодцы! – уточнил Аракчеев, так как измайловский слыл любимым царским полком.
Александр покраснел от удовольствия.
– У измайловцев строевой шаг бесподобен, – подтвердил он, – не то что у семеновцев. – С иронией воззрился на бледного от усталости и переживаний унтера.
– А мы сейчас, ваше величество, испытаем, – с ходу уловил его мысль Аракчеев, аккуратно положив остатки мела на краешек стола. – Где там мой хронометр?..
И целый час бедный служивый «тянул носочек» и маршировал по кабинету. Наконец, заработав трое суток гауптвахты от Аракчеева, был отпущен восвояси.
Немного передохнув, граф со своим венценосным другом вдруг вспомнили о новой дощечке для чистки пуговиц…
– Непременно следует испытать! – решил император, и Аракчеев побежал за подопытным.
– Ага, солдатик! – злорадно схватил он за локоть Шалфеева, собиравшегося с минуты на минуту меняться с поста. – А у тебя, родимый, почему мундир в мелу? – исподлобья оглядел отряхивавшегося унтера. – Двое суток ареста! – окончательно осчастливил семеновца.
Внимательно исследовав колет Шалфеева, вначале император, а затем Аракчеев старательно вычистили по две пуговицы, использовав новую дощечку, и долго затем любовались на дело своих рук.
– Ваши две пуговицы как жар горят! – произнес Аракчеев. – Дощечку непременно следует внедрять в войсках.
Император, стараясь скрыть удовольствие, прошелся по кабинету.
«Без лести предан!» – гласила надпись на гербе графа.
– Ваше величество, а давайте сравним выправку конногвардейца с семеновской?
Государю мысль понравилась, и несчастный Шалфеев, вместо того чтобы валять дурака в караулке, более часа старательно шлепал ботфортами по паркету.
Александр с Аракчеевым пришли к выводу, что выучка у унтеров одинаковая, и Шалфеев тоже получил трое суток гауптвахты.
– Марш на пост! – наконец разрешил Аракчеев, и служивый с колоссальной радостью и облегчением тотчас исчез.
Так насыщенно, в приятной беседе и делах, провели вечер два высших сановника государства российского.
Потрясенный Шалфеев рассказал Рубанову, кто ему чистил пуговицы, и даже указал, какие именно.
– Вот что, Степан! – похлопал его по плечу Максим. – Пуговицы оторви и молись на них, но о происшедшем советую молчать! Что ежели Вебер или Вайцман услышат такую чушь, будто Аракчеев с государем чистили тебе пуговицы? Где ты очутишься, а? Верно! Станешь лет двадцать пять путешествовать по северным районам владений его императорского величества… Все понял?
Шалфеев согласно кивнул головой, хотя точно знал, что внуки будут гордиться своим дедом…
25
Декабрь и январь в Российской империи славны морозами и балами.
12 декабря – в день рождения императора Александра – Максим направился с визитом к Ромашовым, дабы узнать, будут ли они сегодня на балу в Зимнем. Главная же причина визита – желание увидеть Мари.
К его удивлению, толсторожий лакей в бакенбардах в дом не пустил, сказав, что господа отдыхают. Ближе к вечеру повторилась та же история. «Все это весьма странно: наверное, она просто не хочет видеть меня?» – молча страдал Рубанов.
К началу бала он опоздал: наняв извозчика еще раз объехал дом Ромашовых, но зайти не решился. «А может, они с отцом уже в Зимнем? Владимир Платонович не упустит такой возможности». – Велел извозчику ехать во дворец.
Гостей на балу было множество: весь сановный и родовитый Петербург. «Хорошо, что опоздал! – подумал он. – Настоящее вавилонское столпотворение… разве здесь кого найдешь? – принялся хмуро оглядывать зал.
Полонезы сменялись мазурками, французские кадрили – русскими… Рубанов не танцевал. Тоскливо наблюдая за улыбающимися дамами и выделывающими па де-зефир и антраша кавалерами, он вздыхал, раздумывая, почему вдруг столь неожиданно Мари охладела к нему, что произошло?
Взгляд остановился на резвящихся кавалергардах: «И эти здесь…» – Недалеко от него, на диванчике у стены, сидели четыре почтенные матроны в чепцах и, поднося трясущимися руками лорнеты к глазам, обсуждали присутствующих:
– Батюшки светы! – прошамкала одна из них, указывая на соседний диванчик, где сидели три такие же старухи. – Леонелла с ума сошла!.. Смотрите, какой на ней чепчик?
– Хи-хи-хи! – прыснули, зажав беззубые рты, екатерининские фрейлины. – В наши дни он назывался «утраченная невинность!»
– Да она ее шестьдесят лет назад утратила с князем Прозоровским!
– И неправда. Первым у нее был Федька Апраксин. Помню, я его чуть не убила за это! – произнесла вторая дама, мечтательно улыбаясь. – Шувалов его еще на дуэль вызывал.
– Это который Шувалов?
– Иван Иванович. Елизаветинский фаворит. Императрица некоторое время по нему с ума сходила.
– Которая? Екатерина?
– Елизавета Петровна.
– Что за вздор! Она его терпеть не могла.
– Ах, душа моя! Терпеть его не могла Екатерина. Ему даже в шестидесятых за границу уехать пришлось… в «отпуск по болезни».
– А рядом-то с ней? Ой! Ой, не могу… Софочка Куракина… Сто лет ее не видела. С тех самых пор, как она мужу с графом Паниным изменила…
– Кто, Куракина?.. Да нужна она ему была…
– Тише, тише! А на ней-то какой чепчик?.. «Нескромных желаний»?
– Будто?! Это чепчик «подавленных чувств» называется, а «нескромных желаний» пошит по-другому. На нем рюшечки схожи с «чепчиком печальным».
– Тише, тише, на нас глядят. Помню… Ну точно! В тыща семьсот семьдесят седьмом, в год рождения императора Александра, она обозвала меня, а я вцепилась ей в волосы.
– А Леонелла-то! Как-то императрица поинтересовалась, что она читает… «Я – синенькую, а сестрица – желтенькую книжицу!» – Дамы аж задохнулись от смеха.
– Леонелла!.. Да весь двор за глаза ее Левонтьевной звал… Леоне-е-л-ла! Ай, ай. Она к нам идет! – дамы поднесли к глазам лорнеты и уставились на танцующих, временами фыркая от смеха.
Кряхтя и ехидно поджав губы, к ним подошла «Левонтьевна».
– Леонеллочка, рады тебя видеть! – наперебой затараторили дамы.
– Что, милочки, на бал в каретах приехали? – поинтересовалась та.
– А на чем же еще? – удивились старушки.
– А метлы изломались, что ли? – и, довольная, пошла на свое место, улыбаясь беззубым ртом Софочке Куракиной.
Максим, слушая старых сплетниц, незаметно для себя так увлекся, что на время даже забыл свои горести.
Отвернувшись от екатерининских фрейлин, он заметил толпу придворных, окруживших императора. Процессия медленно двигалась в его сторону. Александр беседовал с какой-то дамой.
– Французская литераторша мадам де Сталь, – услышал он тихий голос одной из фрейлин. – Глядите-ка, и этот фрондер Аракчеев рядом… Деревенщина, – дамы жгли взглядом толпу приближенных.
«И откуда они все и всех знают?» – удивился Максим, склоняя перед императором голову.
– Я желал бы видеть всюду конституции и республики, – услышал он царский голос, – так как это единственная форма правления, сообразная с правами человечества.
На что мадам де Сталь ответила:
– Ваш характер, ваше величество, уже конституция для России; а совесть – гарантия этой конституции! – победно поглядела она на идущего рядом Державина.
Тот что-то стал плести о солнце, взошедшем над Россией тридцать четыре года назад. «Нелегка судьбина придворного поэта, – сделал вывод Рубанов, – зато, видимо, хлебная!» – оценивающим взглядом окинул необъятный живот баснописца Крылова. – Правда, этот увалень редко при дворе бывает… Сейчас, похоже, продолжение про лисицу и виноград сочиняет, наблюдая за Державиным и царем!» – повеселел Максим и тут же увидел генерала Ромашова с дочерью. Они шли в самом хвосте придворной кавалькады.
Мари тоже заметила поручика, и лицо ее радостно вспыхнуло. Максим шагнул к ней и, коротко поклонившись, взял за руку. Генерал, в трансе от близости императора, прошел дальше, не заметив, что потерял дочь.
– Мари! – глядел на нее Максим, и сердце его воспарило ввысь, в безоблачные сферы счастья. – Я был сегодня у вас, но передали, что вы отдыхаете!
– И что же, я отдыхала весь день? – засмеялась она.
Услышав этот смех, Максим задохнулся от радости.
– А вечером вы куда-то уехали!
– Смотря во сколько! Может, уже на бал? – оглянулась на прицелы старушечьих лорнетов и высунула кончик язычка в их сторону.
Фрейлины чему-то заулыбались, а одна из них даже смахнула слезу.
Заиграли любимую Максимом мазурку.
– Разумеется, я согласна! – снова засмеялась Мари и потащила его в круг танцующих.
И начался праздник!..
Снова кружились звезды и вселенная…
Он нежно держал ее пальцы и купался в омутах глаз.
И опять весь мир стал подвластен ему, потому что рядом была любимая.
– Какая же счастливая эта де Сталь! – улыбаясь, говорила Мари. – Попросту беседует с самим императором… Интересно, о чем они говорят?
Рубанов любовался ее улыбкой и сочными губами, с удовольствием слушал певучий голос, но не воспринимал смысла сказанного.
– Вы совсем меня не слушаете, – обиделась она.
– Неправда! Очень даже слушаю.
– Ну, что я сказала?
– Что-то про государя! – неуверенно произнес он. – Здесь слишком шумно, – на всякий случай решил оправдаться.
– И еще я говорила про писательницу… Она, наверное, необычайно умна, коли все эти мужчины с таким вниманием слушают ее, даже поэт Державин.
– Гаврила Романович сейчас что-нибудь про эросов рассказывает! – предположил Рубанов.
– Фи! Это у вас, Максим Акимович, наверное, одни эросы на уме! Вон как покраснели сразу, – победно произнесла она.
– Покраснел вовсе не от эросов, а от того, что танцую, – нравоучительно произнес он. – Завтра непременно нанесу вам визит. Вы хорошо знаете Петербург?
– Не очень! Центр знаю.
– Может, папенька отпустит вас покататься по городу?..
– Разве что вместе с гувернанткой.
На следующий день тот же самый мордастый лакей изволил соврать, что господа отъехали.
– Сударь! – возмутился Максим, но дверь перед его носом захлопнулась. «Не иначе это Ромашов. Его происки! – с облегчением рассудил Максим и направился к Голицыным. – Это он не желает, чтобы Мари встречалась со мной. Нет, господин генерал, не отступлюсь!»
Когда хромой, слепой, глухой и прочая и прочая лакей провел его в кабинет князя, Максим увидел, что Голицын, обложившись журналами и книгами, выписывает в толстую тетрадь какие-то мысли и фразы.
– Господин Рубанов! Наконец-то осветили своим визитом сей тусклый дом, – отложил в сторону тетрадь, – а я уж, грешным делом, подумал: живой ли ты? Совсем друзей забыл…
– Ничего не забыл, князь Петр, – покраснел Максим. – Как Голицын-младший? – перевел он разговор в другое русло.
– О-о-о! Растет… в основном во сне. И сейчас спит, – засмеялся князь. – А мы недавно с княгиней вспоминали тебя… Видно, ни одного бала не пропускаешь, коли дорогу сюда запамятовал… Ну все, все! – улыбнулся он. – Забыто! Сейчас и княгиня придет. А я, как видишь, светскую жизнь забросил… Семья и служба! Больше ничего. Вот военную периодику читаю… Не интересуешься? Правда, не по летам и не по чину тебе! А много интересного… В «Военном журнале», например, – раскрыл он заложенную страницу. – Умнейшая статейка под названием «Краткое обозрение бывших в последнее время в употреблении боевых порядков». Рассматриваются линейные построения, колонны и рассыпной строй стрелков. Конница расположена в боевых порядках позади пехоты. Автор отдает предпочтение действию пехоты, построенной в колонны, и я склоняюсь к этой же мысли… Вот смотри, я даже записал, – взял он тетрадь и прочел: – Фрунт не столь удобен в движении, как колонны, которые тем способнее к оным, чем мельче.
Максим с трудом скрыл зевоту, но попытался сделать умное лицо и зажечь интерес в глазах.
– А вот «Артиллерийский журнал», – с жаром продолжил Голицын, – умно, точно и емко пишет об использовании в бою конной артиллерии.
– Да мне, князь Петр, интереснее о коннице что-либо узнать, нежели об инфантерии или артиллерии, – решив, что дальше неудобно молчать, высказался Рубанов и поглядел на дверь: «Куда же княгиня Катерина подевалась?» – подумал он.
– Есть и о коннице, господин поручик, – стал рыться на столе Голицын и раскрыл какую-то книгу, – «Общий опыт тактики» называется, – потряс он фолиантом, – сочинение господина А.И. Хатова. Лично не имею чести его знать, но по всему видно, что умница… Слушай: «Кавалерия нередко решает сражения и часто довершает успехи: она прикрывает разбитую и рассеянную инфантерию, делает разъезды, содержит передовые посты и по быстроте движения способна ко всем спорым предприятиям…» Каково, а? Вот еще… о вооружении: «…Может сражаться только одним образом, то есть ударом; всякая пальба ей не свойственна, ибо известно, сколь бесполезен и неопасен огонь фланкеров, хотя оные, будучи рассыпаны, могут стрелять с большою удобностью». Тут позволю себе полностью не согласиться с А.И. Хатовым, но все равно – молодец! – еще раз похвалил автора и аккуратно положил книгу на стол. – Но это все вам не обязательно, а вот «Предварительное постановление о строевой кавалерийской службе» будет изучаться командирами младшего звена.
«Бедный Оболенский», – не успел подумать Максим, как дверь раскрылась и в кабинет влетела княгиня.
– А у нас гость! – нежно улыбнулся ей князь Петр.
– Вы, полагаю, уже успели затуманить его голову своими науками, – поцеловала мужа в лоб, в то время как он коснулся губами ее руки.
Следом коснулся губами ее пальцев и Максим. Благосклонно взглянув на Рубанова, княгиня села в кресло и поинтересовалась:
– По делу, господин поручик, или просто навестить?
Оглядев ее округлившуюся фигуру и пополневшую грудь, он ответил:
– И так, и этак, ваше сиятельство, – подумав про себя, что она с ним по-прежнему не очень-то церемонится.
– Ну что ж! – произнесла княгиня. – Тогда идемте в столовую пить чай, заодно и поговорим…
Со вниманием выслушав про историю встречи молодых людей и отношение к Рубанову отца Мари, княгиня возмутилась поведением «этого деспота Ромашова» и с удовольствием вызвалась помочь Максиму.
– Да! Вот еще что, – встрепенулся князь, отставив чашку с чаем, – непременно примите от меня в дар «Предварительное постановление о строевой кавалерийской службе» и внимательно изучите.
Княгиня, отвернувшись от мужа, закатила глаза и извинилась перед Рубановым улыбкой.
– Он и меня замучил уставами… Постепенно в вахмистра перевоплощается! – рассмеялась она и стала той прежней княгиней Катериной, которую не так давно знал Максим.
– А помните, как вы меня муштровали? – тоже развеселился он.
В прекрасном настроении княгиня с Рубановым подъехали к дому Ромашовых.
– Вы пока оставайтесь в карете! – распорядилась она и постучала тяжелым бронзовым кольцом в дверь. – Княгиня Голицына к генералу Ромашову! – важно вымолвила высунувшейся в дверь бакенбардной роже, недоверчиво оглядевшейся по сторонам и побежавшей докладывать.
На приглашение войти с улыбкой кивнула Максиму.
Лакейское лицо сразу поскучнело, и обе извилины заработали над вопросом – будут драть или нет? Верх взяла та, которая доказывала, что будут.
Владимир Платонович восторженно улыбнулся вошедшей в гостиную княгине и быстро пошел ей навстречу с намерением приложиться к ручке, но увидев появившегося следом Рубанова, на секунду остановился и так глянул на лакея, что у того сразу засвербело пониже спины.
– Дык… дык, – разведя руки, надумал оправдаться тот.
«Мудык!» – хотел сказать генерал, но удержался при женщине.
– Вы и представить себе не можете, как я рад вас видеть! – произнес он, целуя душистую женскую ручку.
«Но не тебя! – зыркнул на Максима. – Это же надо, на балу дочь из-под носа увел… насилу нашел свою Машеньку. Так и из-под родительской руки умыкнешь…» – все же склонил голову в ответ на приветствие Рубанова.
– А мы с поручиком по пути к вам заехали… Проезжали мимо и думаем: – А не посетить ли нам любезнейшего Владимира Платоновича?.. Какая замечательная картина, – тараторила княгиня, расхаживая по комнате и атакуя генерала волнами духов, женского обаяния и красноречия, – и статуэтка премиленькая, – подняла и тут же опустила на камин ужасную греческую поделку, приобретенную генералом в Рязанской губернии. «Удушение Лаокоона с сынками бесстыжим морским гадом» – намалевано было в ее основании.
Еще раз глянув на высунувшего язык грека, она фыркнула и спросила, где дочь.
– У себя! – ответил генерал. «Так вот они зачем приехали», – подумал он и распорядился подать чаю.
– Что читаете, господин поручик? – прищурился генерал, силясь разглядеть название, и будто ненароком, случайно, от глубокой задумчивости, взял княгиню за локоток.
Та не спеша, но уверенно освободила локоть и тоже присела к столу.
– Предварительное постановление о строевой кавалерийской службе, господин генерал, – резво поднялся на ноги и доложил Рубанов.
– Садитесь, господин поручик, вы в гостях, а не на плацу, – чуть более доброжелательно произнес Ромашов.
Княгиня Катерина с трудом удержала улыбку.
«Название уже запомнил», – порадовался за себя Максим и, поплотнее усевшись в кресле, продолжил:
– Состоит из двух разделов, – раскрыл он книгу, – «Основание учения» и «Об эскадронном учении».
– Хорошо! Хорошо! – остановил его Владимир Платонович, подумав: «Неглупый мальчишка – жаль, что не имеет титула!»
В этот момент, словно случайно, княгиня задела туфелькой генеральскую ногу. Лицо Ромашова поначалу замерло, а затем расплылось в блаженной улыбке, и он, думая: «Зачем это я?» – сам предложил:
– А не пойти ли молодому человеку к Машеньке? Чего ему с нами сидеть! Княгиня Катерина глянула на Рубанова, и в глазах ее заплясали бесенята.
– Конечно, Владимир Платонович, – нежно и многообещающе, как ему показалось, произнесла она.
Генерал таял, словно холодец.
– Нам с вами есть о чем поговорить, – накрыла своей рукой волосатые генеральские пальцы.
И все… Это был уже не мужчина и тем более не генерал, это был воск в опытных женских руках, из которого можно лепить что угодно. «Что же на меня больше влияет – титул или она?» – млел Ромашов, мечтая стать ее пажем, слугой или даже рабом, – всем, чем она пожелает.
«Вот как молниеносно можно покорить мужчину!» – с каким-то даже восторгом ужаснулся Рубанов, обернувшись от двери и посмотрев на поглупевшее генеральское лицо. – Моя мать не сумела постичь эту науку, поэтому всегда покоряли ее». – Вышел он из гостиной.
Первое, что услышал Максим, ступив в комнату Мари, – яростный лай, местами переходящий в вой, и скорее угадал, чем почувствовал, укус в ботфорт.
«Спасибо, что я не в туфлях!» – с облегчением подумал он.
– Зи-зи! Нельзя, Зизишка! – Мари ухватила бодро сопротивляющуюся собачонку и передала ее гувернантке, распорядившись присмотреть за песиком, пока у нее гость.
Не теряя времени, Максим схватил левой рукой якобы доску, а правой – прибил ее несуществующими гвоздями. Затем, немного подумав, привалил дверь огромным невидимым камнем и, вытащив из-под стола несуществующий здоровенный засов, окончательно заложил им вход… Довольно оглядев проделанную работу, вытер невидимый пот и молча уселся в кресло, устало вытянув ноги: «Нынче я, определенно, совершенный дурак!»
Мари вначале с испугом глядела на него широко раскрытыми глазами, а когда поняла, свалилась на диван в приступе беззвучного смеха, при этом платье плотно облепило ее тело, и поручик с удовольствием разглядывал его.
– Как вы меня напугали! – отсмеявшись, произнесла она.
– Так же, как меня ваша распоясавшаяся Зюзюшка.
– Зизишка! И чего она вас так невзлюбила?
– Элементарная ревность! Чувствует, что меня вы полюбите сильнее…
– Вздор! Все это ваши фантазии, – покраснев, отошла она к резной этажерке с книгами.
– Мне все время попадаются удивительно начитанные женщины! – поднявшись с кресла, разглядывал он авторов на корешках книг. – Княжнин, Державин, Дмитриев… А это что?..
– А это письма из чужих краев Карамзина, а рядом – модные сейчас басни Крылова и стихи Жуковского, а ниже на полке – моралисты-французы: Жан-Жак Руссо, д’Аламбер, Бернарден де Сен-Пьер, де Местр.
– Никогда таких имен не слышал… И вы все это прочитали? – с уважением спросил Максим.
– Конечно нет… но обязательно прочту.
– Слава Богу! – облегченно сел в кресло. – Я ведь тоже пришел с книгой, только оставил ее в гостиной.
– Позвольте угадаю, с какой?
– Извольте! Ничего против не имею.
– Константин Николаевич Батюшков.
Гвардеец удивленно уставился на даму и похлопал глазами.
– …Жуковский, Гомер, Петрарка, Тассо, Парни, Шиллер, – перечисляла она, но Максим, словно китайский болванчик из Зимнего дворца, мотал головой.
– А может, Байрон? – с надеждой воскликнула Мари.
– Кавалерийский устав!.. Точное название только что позабыл.
Девушка опять упала на диван, захлебнувшись смехом, и Максим снова с удовольствием полюбовался ее фигурой.
«Что бы еще такое сказануть, – лихорадочно размышлял он, – дабы подольше не вставала!»
– И много этих начитанных женщин? – вдруг перестала смеяться и села на диване, поправив платье.
– Каких женщин? Ах, же-е-нщин! Вы и княгиня Голицына. Она, кстати, сейчас здесь и развлекает вашего батюшку.
– Вы, мужчины, известные лжецы, – по-взрослому наморщила лоб Мари. – Так разбирайте же завалы и пойдемте к ним.
– Какие завалы?.. – подозрительно поглядел на нее Рубанов. – Ах да! – засмеялся он, принявшись за работу.
– Ну почему вы такой несерьезный? – жалостливым голосом поинтересовалась Мари.
– Боже мой, как вы выросли, душенька, и похорошели. Скоро мужчины станут стреляться из-за вас! – улыбалась княгиня, отвечая на книксен и любуясь порозовевшим девичьим личиком.
«Несомненно, вкус у поручика имеется!» – мысленно похвалила Рубанова.
– Есть в кого быть красавицей, – довольно заметил Владимир Платонович.
– Да, вы правы, сударь. Судя по портрету, мать ее была прекрасна, – безжалостно вылила солидный ушат воды в душу Ромашова.
«Нисколько со мной не церемонится, а ведь я все-таки дворянин, генерал и, полагаю, не плох собою…» – словно юная кокетка, скосив глаза, разглядел себя в зеркале и сколь можно втянул живот, задержав дыхание. Лицо его от этого начало принимать багровый оттенок.
– Вы хорошо себя чувствуете? – поинтересовалась княгиня.
– Отменно! – выдохнул воздух и вывалил живот Ромашов.
Лицо его сразу стало всегдашнего сероватого цвета.
– Сегодня прелестная погода, не правда ли, генерал?
– Так точно! Погоды нынче отменные, – подтвердил он.
– Только в карете по проспекту кататься, – высказала мысль княгиня.
– Ваша правда! – обрадовался Ромашов. – Самое время по городу покататься и подышать свежим воздухом.
– Ну так и отпустите, ваше превосходительство, свою дочь с нами, – прикоснулась к генеральскому подбородку пальцами, – а то она что-то слишком бледненькая.
Зажмурившись, словно кот, от женской ласки, Ромашов неожиданно для себя произнес:
– Только чтобы сделать вам приятное, княгиня, – блаженно поцеловал ручку, чуть дольше положенного задержав у своих губ ее пальцы и вдыхая аромат духов.
Голицына позволила эту небольшую вольность.
«Вообще-то мне показалось, что она намерена пригласить меня…» – вздохнул он, расставаясь с сиятельной ручкой.
– Вы восхитительны, Владимир Платонович, – послала ему воздушный поцелуй княгиня.
«Ах! Многое бы я отдал, может даже, один из орденов, ежели бы она поцеловала не воздух…»
Дочь его захлопала в ладоши и запрыгала от восторга.
– Мы ненадолго, не более двух часиков, – успокоила отцовские чувства княгиня, – и обратно завезу ее сама, – улыбнулась генералу, – так что ваша гувернантка не понадобится, – кивнула в сторону вошедшей в гостиную и поджавшей губы при этих словах немки.
– Через два часа заезжайте за мной, – наказала Голицына, выходя из кареты у своего дома, – смотрите, сударь, – погрозила пальчиком счастливому поручику, – под мою ответственность…
Ничего не ответив, он благодарно склонил голову.
– Хм-м, хм-м! – прочистил горло Рубанов, оставшись без поддержки княгини и думая, о чем бы начать разговор.
В руках он крутил подарок князя Петра.
– А что вы в последнее время читали? – выручила его Мари.
– Очень многое! – встрепенулся поручик. – Господина Шекспира, например.
– Так! – загнула пальчик Мари.
– Круги ада, этого, как бишь его? Э-э-э…
– Ну?! Ну?!
– Господина Данте!..– облегченно вздохнул он и выглянул в окошко в надежде переменить тему разговора.
Но ничего нравоучительного на глаза не попалось.
– Царьградские стру-у-у-чки! – вдруг завизжала, увидев его лицо купчиха.
– У-у-у! Дура! – сел он, откинувшись на спинку сиденья.
– Ясно! – подвела итог Мари, и глаза ее блестели от смеха, а лицо разрумянилось от легкого морозца. – Еще имеется какой-нибудь господин, кроме автора кавалерийского устава?
Щеки ее придвинулись близко к губам Рубанова. «А как хорошо и приятно было бы поцеловать ее», – подумал он, но тут же отогнал эту крамольную мысль – обидится и больше не поедет.
– Я не только читаю, но и в театры хожу! – пропустил он вопрос про «господина».
– Ой! Как мне хочется в театр! Ну когда я, наконец, стану взрослой?..
– Так я приглашаю вас! – взвился Рубанов, чуть не протаранив головой крышу. – Театр для меня – дом родной, – на всякий случай соврал он для повышения авторитета.
– Какой вы счастливый. А меня папà не пустит. Сам он театры терпеть не может…
– Пустит! – торжественно пообещал Максим. – Отпустил же гулять…
Ровно через два часа заехав за Голицыной и благополучно передав Мари на руки отцу, Максим на извозчике ринулся домой. Ни Оболенского, ни Нарышкина, ни Софи дома не оказалось. Отсутствовала и их тетушка. «Где же они могут быть?.. Ну конечно! – хлопнул себя по лбу. – У графини Страйковской», – выбежал ловить извозчика.
Предположения его полностью оправдались. Грустный Оболенский и довольная кузина с Нарышкиным находились в гостях у Страйковских.
– Кто к нам пожаловал! – возликовал Григорий, увидев входившего в гостиную Рубанова.
Барышни лишь кивнули головами и тут же принялись рассматривать привезенные из Парижа рисунки модных причесок. Нарышкин молча поднялся с кресла и пожал ему руку. В углу комнаты у окна, в которое когда-то рассчитывал влезть Оболенский, дремала тетушка.
– Выпивки предложили мало и то кислятину, – кивнул на все же пустой графин, – но зато велели записать что-либо в альбом, – пожаловался князь и протянул Максиму довольно толстую тетрадь с переплетом из свиной кожи и надписью на обложке: «Сии птички укажут тебе мой хладный прах».
Под надписью Максим увидел рисунок – два голубка на могильной плите.
– Рубанов! Ты же гений! – горячо и убежденно взмолился Оболенский. – Напиши что-нибудь такое… такое, чтоб она отвязалась от меня!
Сев в кресло и перелистав альбом со стишками и рисунками, Максим раскрыл его на последней исписанной странице и задумался, читая чью-то запись: «Пчела живет цветами, Амур живет слезами!».
– Сразу не могу! – разочаровал Оболенского. – Прежде на черновике надо, – взял остро отточенное гусиное перо и придвинул лист синеватой с дворянской короной бумаги.
Князь смотрел на него, как распоследний греческий ученик на Гомера… Через некоторое время, что-то выводя на листке и зачеркивая, брызгая при этом чернилами, Рубанов наконец закончил литературное произведение и подозвал друзей.
Дамы по-прежнему обсуждали прически.
– Слушайте! – и негромко прочел свои перлы: «Юный поручик гулял не спеша, навстречу прекрасная барышня шла. Тут подтолкнул его дьявол-злодей… Рука очутилась меж пышных грудей!»
– Руба-а-а-нов! – ахнул князь. – Да ты поэт!..
Нарышкин, закрыв руками лицо, аж стонал от смеха.
– Господин поручик! Я для тебя все сделаю, только подари сии вирши мне.
– Дарю! – не стал кобениться Максим. – Перепиши их в альбом своей рукой… А насчет «все сделаю» у меня как раз к тебе и Сержу есть маленькая просьба.
Но Оболенский, не слушая его, переписывал стихотворный опус в тетрадь Страйковской.
«Подожду немного, – подумал Максим, – завтра нам на службу, а вот послезавтра можно ехать в оперу… Обязан уговорить сего театрала! – поглядел на высунувшего язык от усердия князя. – Коли он согласится, то и другие не откажут…»
Вскоре очумевшие от французских причесок и споров дамы обратили взоры на скучающих офицеров. В предчувствии триумфа и изгнания за «свой» литературный шедевр, от избытка чувств даже подрагивая голосом, Оболенский с выражением прочел великолепное, на его взгляд, произведение русской словесности и, гордо выпятив грудь, стоял в ожидании произведенного эффекта. «Сейчас завизжат и откажут от дома!..» – счастливо улыбался он.
Кузина, как до этого Нарышкин, закрыла покрасневшее от смеха лицо ладонями. Ей ли осуждать брата?
Страйковская-младшая, выслушав плод поэтических усилий, с таким обожанием глянула на князя, что у того сразу испортилось настроение. Ее маман ревниво воззрилась на дочь – какого оригинального и остроумного кавалера отбила у матери, но мужчинам свойственны причуды и капризы. На секунду с удовольствием представила себя на месте литературной барышни.
– Князь! Да у вас поэтический талант, – опередила с комплиментом собственную дочь.
Страйковская-младшая тут же согласилась с матерью:
– Восходящее солнце отечественной поэзии! – подтвердила она.
Оболенский уже и не знал – радоваться ему или печалиться… Удивительно приятные вещи говорили графини.
– Дамы и господа! – решил взять бразды правления в свои руки Рубанов. – В глазах великого русского поэта я прочел желание послушать итальянскую оперу…
Удивившись, Оболенский уставился в зеркало. Кроме желания выпить, ничего в своих глазах не прочел. Но столь щекочущее самолюбие звание «великого поэта» обязывало… К тому же он – должник Рубанова.
– Моей поэтической натуре просто необходима итальянская опера! – подтвердил он, рассуждая, что еще необходимей итальянское вино, но сошла бы и русская водка.
Через день вечером к дому Ромашовых подъехали две кареты. Схватив за шкирку мордатого лакея в бакенбардах, чтоб не захлопнул дверь, Максим начал вразумлять его:
– Скажешь барину, мол, прибыли их сиятельства. Оболенские, а так же граф Нарышкин и графини Страйковские. Уразумел? И мигом! Одна нога здесь, а где другая? – обратился к лакею, заставляя работать его немногочисленные извилины.
– Тама! – сглотнув слюну, неопределенно махнул тот рукой.
– Молодец! Соображаешь!
На шум вышел сам генерал.
С неудовольствием разглядывая толпу молодежи в дверях, он неодобрительно покряхтывал и хмурился, но морщины на генеральском челе тут же разгладились, когда услышал, кто его посетил.
Страйковская-старшая любовалась дородной фигурой мужчины: «Какой душка! Как же я его пропустила?..»
– А мы, по-моему, не знакомы с генералом? – глянула она на Рубанова.
Тот с полуслова все понял и с удовольствием представил графиню.
«Графиня!!! – кашлянул генерал. – Не следует пренебрегать таким знакомством! К тому же недурственна… и даже весьма… – окинул даму долгим оценивающим взором. – С моим соседом по имению не соскучишься, как и ранее с его родителями…»
– Владимир Платонович! – обратился к нему Рубанов. – Все общество, – обвел рукой собравшихся, – с замиранием сердца ждет вашего решения…
– Гм-м! – важно сопел генерал. – Позвольте узнать, какого именно?
– У меня разболелась голова! – кокетливо улыбнулась Страйковская-старшая, перебивая Рубанова. – Так кружится, что не могу ехать в карете и надо срочно где-то присесть!.. Но пропадает билет в итальянскую оперу…
– Я не любитель опер! – с некоторым сожалением констатировал Ромашов.
– Честно говоря, я тоже! – поддержала его графиня. Может, я останусь… – робко поглядела на Ромашова, – у вас… – потупила глаза, – а ваша дочь по моему билету посетит театр?!
В поддержку своих слов она расстегнула шубу, будто ей душно, и дала возможность полюбоваться ядреной грудью под роскошным платьем с глубоким декольте.
На штурм несдающегося бастиона ринулся светоч и надёжа русской словесности.
– Господин генерал, можете за дочь и приличия не беспокоиться… С нами в театр едет моя тетушка. Она следит, чтобы Нарышкин не обидел кузину, а графиня Страйковская – меня! Заодно присмотрит и за вашей дочерью…
«Ну, коли все приличия соблюдены, – прикинул Ромашов, – и в придачу со мной останется графиня Страйковская… Гра-фи-ня!!! – еще раз мысленно произнес он, смакуя титул. – Да к тому же дочь станет вращаться в высшем обществе, где есть возможность найти жениха получше…»
– Согласен! – решился он, и все с облегчением вздохнули. – Не знаю только, изъявит ли желание поехать с вами Мари? – даже чуть забеспокоился он.
Но беспокоился напрасно…
Мари не то что изъявила желание, а в порыве восторга чуть не задушила сидевшего на коленях шпица, а затем – проявившего заботу отца.
В театре был аншлаг!
«И почему это русские так любят театр?» – любовалась тетушка Оболенская яркими люстрами, зеркалами, нарядными дамами и стройными, как вязальные спицы, в своих белых парадных мундирах конногвардейцами. Ее молодежь расположилась не в ложе, а во втором ряду партера. Сама она случайно заметила старинную подругу, тоже пасущую внучку и, расцеловавшись, они очень мило провели вечер, оставив в покое поднадзорных. В ложе подруги находились вдвоем, поэтому болтать можно было сколько душе угодно. Сцены из истории Древнего Рима абсолютно не волновали их.
– Смотрите-ка! Мадам Барклай с супругом… – указывала лорнетом в партер старая знакомая.
– Где, где… Господи? – вглядывалась в зрителей тетушка Оболенская с таким азартом, словно от этого зависело счастье ее Софьюшки. – А-а-а! Вижу… – радовалась она.
– Так вот, милочка, в обществе говорят… – наклонилась подруга к самому уху приятельницы, – и, полагаю, не зря! – ехидненько поджала сморщенные губки, – что мадам Барклай выбирает в прислугу самых безобразных девиц, дабы на их фоне выглядеть привлекательной. – В приступе язвительного восхищения старушки хлопали в ладоши.
В соседних ложах тут же начинали аплодировать, думая, что пропустили изюминку…
– Не больше не меньше! – продолжала знакомая. – А ее супруг назначает адъютантами самых тупых офицеров…
– Дабы выглядеть умным, – докончила Оболенская, и подруги задохнулись от смеха.
Давно так прекрасно, и главное – с пользой, не проводила вечер старая княгиня. Жалела лишь, что быстро закончилась опера и они успели обсудить не более дюжины известных фамилий.
Для Рубанова и Мари опера закончилась еще быстрее. Мари наслаждалась музыкой, сочными итальянскими голосами и всей окружающей ее обстановкой. Максим наслаждался присутствием Мари. Он любовался ее замершим от волнения лицом с приоткрытым по-детски ртом, ее точеной шеей и белыми плечами. Временами вороватый взгляд его ловил вздымавшуюся от переживаний небольшую грудь, и однажды, в момент кульминации действия, она даже вложила свою ладонь в его руку…
Господи! Как это было волнующе и приятно…
А самая счастливая минута пришлась на смерть главного героя! Слезы градом полились из чудных глаз Мари, и Максим нежно промокнул их платком, а для окончательного успокоения коснулся губами ее руки, жалея про себя, что злодеи пристукнули лишь одного древнеримского придурка.
Дольше всего опера тянулась для Григория Оболенского. «Черт бы побрал всех этих римлян вместе с их голосистыми потомками! – маялся он, стараясь вырвать свою ладонь из цепких пальцев Страйковской. – И когда же это мучение кончится?.. Да для меня быстрее два месяца в Стрельне пролетели, чем два акта в опере…»
Всю обратную дорогу в полутемной карете Максим занимался тем, что втягивал в себя выдыхаемый Мари воздух, моментально превращавшийся в пар. Когда подъехали к ее дому, он очень преуспел в этом деле. На прощание она опять произнесла ставшую тривиальной фразу:
– Ну почему вы такой легкомысленный?..
Однако напоследок все же улыбнулась ему.
«Плохо это или хорошо? Вот в чем вопрос!» – несколько переиначил он дилемму господина Шекспира, ломая над ней голову всю ночь и весь следующий день.
26
Приближались Рождественские праздники…
Засыпанный снегом Петербург, преображаясь, становился похож на большую детскую игрушку. Каждый уважающий себя купец норовил поставить в лавке или трактире елочку. Кто жмотился раскошеливаться на елку, нанимал богомаза, чтоб намалевал на стекле Деда Мороза, зайца, Петрушку или тому подобную дребедень. Весьма популярны были выложенные из сахара или хлеба сценки библейского Рождества.
Улицы Петербурга заполонили кареты, сани, возки, розвальни, в которых пели, пили, орали, целовались, ругались купцы, офицеры, студенты, приказчики, чиновники, вельможи.
В неуклюжей карете и двух вертких открытых санях носились по Петербургу конногвардейцы с дамами. Старушка Оболенская заболела и оставила молодежь без присмотра. Поэтому-то Нарышкин и Софи выбрали карету, чтобы прохожие не видели, чем они там занимаются, а Оболенский со Страйковской и Рубанов с Мари мчались на тройках в открытых санях. Ромашов без слов отпускал дочь кататься по городу, оставив графиню Страйковскую заложницей. «Княгиня Голицына, конечно, звучит много торжественнее, зато графиня Страйковская не замужем и много доступнее», – рассуждал он.
Замерзнув кататься, молодые господа «шли в люди», со смехом рассматривая цыган с медведями и кукольников с Петрушками. Слушали прибаутки разносчиков и пробовали пряники, конфеты и сбитень.
– Максимиан![17] – обращался к Рубанову Нарышкин – после оперы он увлекся древнеримскими императорами. – А не посетить ли нам ресторацию?
После ресторации ехали к Оболенским обедать, греться, играть в карты и танцевать.
На большом Рождественском балу в Зимнем Нарышкин сделал сообщение:
– Господа Римский сенат! Мы с Софи обручились, так что можете поздравить нас.
Мари запрыгала, захлопала в ладоши и расцеловала Софью. Она была необычайно хороша в этот момент, и Максим залюбовался ясным девечьим лицом и зелеными «елочными» глазами.
– О-о-о! Это дело стоит того, чтоб его крепко обмыть, – глубокомысленно произнес Оболенский и тоже чмокнул кузину в щеку.
Страйковская-младшая коснулась позеленевшим от зависти лицом розовой щеки Софи.
– Господа! Мы тоже хотим, – услышали они и, обернувшись, Рубанов увидел трех кавалергардов.
Волынский, видимо, только что танцевал. Он стоял чуть запыхавшись и улыбался, показывая белые, словно первый снег, зубы. Его не по уставу длинные черные волосы растрепались и в беспорядке рассыпались по плечам, а глаза оценивали Мари. Рубанову не понравился этот взгляд, он повернулся к Мари и замер, вначале в недоумении, а затем в досаде. На него она так никогда не смотрела. В ее глазах читались восхищение, вызов, нежность и что-то такое, от чего у Максима защемило сердце и опустились руки. «Ежели бы хоть раз она глянула так на меня!» – закусил он губу.
Оболенский представил Волынского Мари, тот, разразившись уместным комплиментом, надолго припал губами к ее руке, и Мари цвела и смеялась, даже не стараясь отнять руку от жадных губ.
«Дуэль! Только дуэль!» – подумал Максим.
Бестактность Волынского заметили все. Оболенский уже недобро разглядывал кавалергарда. А Мари, казалось, ничего не замечала, кроме нового знакомого.
«Да что с ней такое?» – страдал Максим.
Раздались звуки вальса.
«Надо увести Мари», – подумал он, но было поздно.
– Не откажите в удовольствии танцевать с вами кадриль сударыня, – потянул ее за руку Волынский, и Мари не противилась. Напротив, она с радостью пошла танцевать.
Софья удивленно пожала плечами, а Страйковская злорадно улыбалась, блестя глазами, не одной мне мучиться, говорил ее взгляд.
Следующий танец Мари все же танцевала с Рубановым, но мысли ее витали где-то далеко. Она не слушала, что говорил Максим, и отвечала невпопад, глаза ее искали Волынского и, найдя, запылали ревностью, увидев, как цепко он держит за руку партнершу.
«Скорее бы закончился этот дурацкий бал, – думал Рубанов, – я не узнаю ее».
Дома он остановился перед зеркалом и долго разглядывал себя. «Лишь глаза сумасшедшие – и то из-за сегодняшнего бала, а в остальном неплохо выгляжу. И чего она нашла в этом кавалергарде?»
До глубокой ночи он метался по комнате, стараясь понять, что случилось: недоразумение или крах?! Спать не ложился. Глядел на луну и думал о Мари! «Нарышкин обручился, – завидовал он, – Софья души в нем не чает… А Мари? Неужели я ей совсем безразличен?.. Застрелиться, что ли? – приходила в голову нелепая мысль. – А может, все еще образуется? Может, это всего лишь каприз избалованной девчонки? Может, я в чем провинился, и она решила позлить меня? Следует непременно с ней встретиться и поговорить…»
Однако на следующий день, когда Рубанов приехал к ней, Мари была не одна. Вальяжно развалившись, в кресле расположился Волынский. Увидев Рубанова, он даже не поднялся, а лишь небрежно кивнул головой. Максим заиграл желваками, но сдержал себя.
– Мы обсуждаем маскарадные костюмы, – защебетала Мари, слегка нахмурившись: «Денис Петрович все-таки должен был встать и поздорововаться с Максимом. Слишком он уверен в себе», – нежно глянула на кавалергарда.
– Ну что ж, обсуждайте! – развернулся я и вышел из комнаты, заметив мстительный взгляд толстомордого лакея.
В доме Оболенских тоже активно готовились к новогоднему балу-маскараду. Григорий не долго думая заказал портному костюм дьявола, велев особое внимание обратить на хвост – чтоб был длинный, с кисточкой и крепко пришит к штанам. Нарышкин вначале хотел нарядиться римским императором – Нероном[18] там, или Калигулой[19], но не решился, так как на новогоднем маскараде ожидалось присутствие русского императора – могут не так понять… и заказал, после долгих сомнений, костюм венецианского гондольера.
В зале перед зеркалом стояла крепостная девушка, фигурой напоминавшая Софью, и на нее примеряли шитые золотом платья принцесс, наряды французских и английских щеголих. Три швеи запутались в шелке, бархате, парче, кружевах и воланах, но Софи никак не могла на чем-либо остановиться.
Накинув шинель, Нарышкин куда-то таинственно исчез и через час появился, довольно вертя в руках здоровенное весло – грязное и облупленное. В тепле комнаты оно стало активно потеть и чем-то вонять.
– Купил на набережной! – радостно сообщил Софье Серж. – У отставного матроса, сторожившего дырявый бот, – уже без прежнего энтузиазма произнес он, видя, что никто не восхищается покупкой. – Морячок рассудил, что бутылка пшеничной зимой нужнее весла, – уже совсем тихо закончил граф.
– Фу-у! Чем здесь несет? – вошел в комнату Оболенский.
– Вот весло по случаю приобрел, дабы лучше в роль гондольера войти, – протянул ему покупку Нарышкин.
– Тьфу-у! – отступил на шаг Оболенский. – Похоже, это весло все лето в матросском гальюне простояло…
– Гораций![20] Вы не правы! – обреченно промямлил Серж.
– Мон шер! Выбросьте ради бога эту дрянь! – после слов кузена закрыла носик платочком Софи.
– Ну я же в роль не войду! – возмутился Нарышкин.
– Тогда лучше бот во дворец притащи! – разразился дьявольским хохотом Оболенский и поглядел на Максима.
В другое время у того нашлась бы тысяча шуток, но теперь, с трудом выдавив улыбку, он молча прошел в свою комнату. Друзья переглянулись, жалея его.
– А ты, о Максенций[21], кем на маскараде будешь? – услышал Максим вопрос Нарышкина.
«Главное, чтобы они меня не жалели… Этого я не выдержу», – не раздеваясь, бросился на кровать.
Вечером в комнату, осторожно постучав, вошел Серж, на этот раз не с веслом, а с каким-то костюмом и маской с загнутыми кверху углами рта, что должно было означать смех.
«Как раз к моему настроению», – подумал я.
– Что это? – без интереса спросил у него.
– О, мой друг Магненций[22], это наряд Арлекина. Вначале я сам хотел быть в нем, но затем подумал о гондольере… Так что можешь взять себе.
«Как он меня достал своими императорами». – Но, чтобы сделать ему приятное, принял подарок.
Я стоял у стены, скрестив на груди руки, и хмуро разглядывал ряженых. Передо мной мелькали греческие и римские морские и небесные боги, домино, нимфы, ведьмы, домовые, лешие, гондольер… и вовсе черт знает кто с бантиком на плече. «В этой толчее Мари и без маски не найдешь, а в маскарадном костюме – тем более… – ревниво всматривался в зал. – А Волынского непременно вызову на дуэль. Вчера еще следовало… Ага! – увидел двух пьяных сатиров. – Чем-то они мне знакомы… Понаблюдаю!» – Пошел за ними. И оказался прав.
Сатиры привели меня к меланхоличному Пьеро. Но когда он, собираясь выпить, поднял маску с горестно опущенными книзу углами губ, под ней оказался смеющийся рот Волынского. Чокнувшись с сатирами, Пьеро опрокинул в себя стаканчик и направился к невысокой стройной пастушке в полумаске. Сердце мое затрепетало – я тут же узнал Мари. В это время трое придурков демонов, громко смеясь, встали передо мной и закрыли Пьеро с пастушкой. Пока я обошел их, Мари с Волынским исчезли. Демоны подняли рогатые маски и залили в себя по стакану вина. «Лейб-гвардейские драгуны», – узнал я их, углубляясь в толпу.
Какая-то нимфа, удержав меня за руку, встала на цыпочки, чмокнула в щеку и, засмеявшись, ускользнула. Гневный пузатый морской бог с трезубцем громко ругал за что-то лакея. Тот виновато стоял перед ним, опустив голову.
«Да куда же они делись?» – проследовал я в другой зал. Неподалеку увидел дьявола с початой бутылкой в одной руке и хвостом в другой. Нечистый приветственно помахал бутылкой, но, сделав вид, что не заметил, я последовал дальше.
В зимнем саду целовались парочки, и мне показалось, что одна из них походила на пастушку и Пьеро – но, слава Богу, обознался. Облегченно вздохнув, вернулся в зал.
Поглядев на танцующих, флегматично направился вдоль анфилады комнат, вспугивая обнимающиеся парочки. «Может, и они сейчас где-то целуются?» – с угрюмым видом шел я дальше, когда вдруг услышал шум в одном из боковых помещений. Заглянув туда, увидел, как дьявол вначале три раза врезал меланхоличному Пьеро, приговаривая: – Это что за божий скоморох? – Затем сосредоточенно стал душить его хвостом, сбив маску. На этот раз углы рта Волынского и маски полностью совпадали…
У противоположной стены венецианский гондольер, сдерживая двух сатиров, во всю глотку вопил:
– Как бы сейчас пригодилось весло!..
В этот момент в комнату вбежала пастушка и, с ходу цапнув дьявола за плечо, принялась отталкивать его от Пьеро.
«Как я устал от этой буффонады!» – вздохнув, помог оттащить нечистого. При виде меня Мари, вскрикнув, закрыла Волынского, прижавшись к нему спиной:
– Сейчас мы друзья, а ежели чего сделаешь с ним, станем врагами.
«Господи! Как надоела эта шутовская интермедия!.. И какая мне разница, коли она не любит меня?..»
Сняв, я бросил в угол комнаты маску веселого Арлекина.
Встретившись со мной взглядом, Мари отошла от Волынского и взяла меня под руку. На глаза ее навернулись слезы.
– Я уезжаю домой, пожалуйста, проводите!
Надежда зажглась в моем сердце…
Ехали молча.
Никто из нас не мог первым начать разговор.
– Мари!.. Я совсем не нравлюсь вам?..
Она всхлипнула и, вытирая чудесные свои глаза, отвернулась к окошку кареты. «Зачем я унижаюсь? Ведь любовь не выпросишь…» В эту минуту карета накренилась на повороте, и моя рука неожиданно легла на ее грудь. Она оказалась упругой, но одновременно удивительно мягкой и нежной. Это было божественно!.. Я поцеловал ее, чуть коснувшись губ, и ощутил дыхание, запах духов и слабый стон то ли желания, то ли протеста…
– Я люблю тебя, Мари!
Ощущение счастья потрясло мою душу, подняв ее в горние выси.
– Я люблю тебя! – снова произнес я, чувствуя, как тело ее напряглось и отстранилось. А затем пощечина обожгла мою щеку.
Открыв дверцу кареты, она выпрыгнула на мостовую.
– Я всегда буду любить тебя!.. – держась за щеку, в отчаянии крикнул вслед, но она даже не обернулась…
В сердце моем стало пусто и холодно. «Жизнь окончена! – подумал я, вспоминая ее губы. – Сейчас приду домой и застрелюсь!..»
Я подумал, что теперь, после ее губ, не смогу целовать другую женщину, и что кроме нее мне никто не нужен, что ради нее брошу все… пойду на любое унижение, на коленях стану просить прощения…
Однако на следующий день после бессонной ночи поехал отвозить ей крестик. «Зачем он теперь мне? Как напоминание, что она разлюбила меня?!»
Дверь открыл лакей в бакенбардах. Глаз его украшал традиционный рождественский фингал. Слуга молча посторонился, пропуская меня.
Мари, видимо, только пришла с улицы, и я, замерев душой, ощутил благоухание вошедшей с мороза любимой женщины. Она зябко кутала плечи в пуховый платок и смотрела холодно и отстраненно.
– Мари!..
Мне многое хотелось сказать ей, но я лишь протянул золотой крестик, который раскачивался на цепочке от меня к ней и обратно.
– Положите на стол, – обхватив себя руками за плечи, произнесла она, повернувшись ко мне спиной.
Я поклонился, собираясь уходить, но в этот миг дверь распахнулась, и на пороге возник сияющий Волынский. Его улыбка потухла, когда встретился со мной взглядом. И тут я услышал вскрик…
Но это был не вскрик радости, скорее, в голосе Мари слышался испуг. Закрыв глаза рукой, она рухнула в кресло.
«Что ее так поразило?» – подбежал я к ней, но она уже приходила в себя. Ее зеленые глаза приняли стальной оттенок, с ужасом, жалостью и любовью она глядела на графа.
«Что ее испугало?» – окинул взглядом удивленного и несколько шокированного Волынского. У сердца он держал пламенеющую ярко-красную розу. Алый цветок кровавым пятном выделялся на белом колете.
«Значит, я его убью!» – оставив их наедине, подумал Рубанов.
За день до Нового года секунданты, Нарышкин и Оболенский, повезли Волынскому мой вызов…
Стрелялись ранним утром в первый день января 1812 года.
«Фатально год начинается! – ехал я в карете за город. Страха абсолютно не испытывал.- Пусть он боится! Судьба уже все решила… Буффонада, именуемая жизнью, для одного из нас сегодня должна закончиться…» – и я знал – для кого.
– Григорий! Что это в карете звенит? – обратился к сидящему напротив Оболенскому.
– Радикюль с водкой. Ежели вдруг убьют тебя, хотя я в это не верю, – обстоятельно принялся объяснять он, – следует сразу же помянуть, пока твоя душа рядом. Думаю, ей будет приятно… Ежели ты уложишь Волынского, – поискав, постучал костяшками пальцев по деревянной дверце, – что ж, с почетом проводим и его… В любом случае выпить придется!
– Послушайте, уважаемый Гиероним[23], – заинтересовался Нарышкин философическими рассуждениями князя, – а коли оба промахнутся… тогда как?
– Тогда тем более стоит выпить, друг мой Сулла[24]…
«С кем поведешься…» – невесело улыбнулся Максим, подумав про исторические познания Оболенского.
–…За боевую подготовку кирасирских гвардейских полков! – докончил мысль «Гиероним».
Серж кивнул, удовлетворенный ответом.
– А коли не убьют, а только ранят… – увлекся темой князь, – опять-таки без водки нельзя – сгодится облегчить страдания…
– Их секунданты уже здесь, – перебил его Нарышкин, – и Волынский с ними. Следовательно, сейчас начнем… – оценивающе оглядел мое лицо и, видимо, остался доволен.
– Снегу-то, Господи! – услышал я голос Оболенского уже снаружи, и тоже выбрался из кареты, провалившись почти до колен.
Небольшая полянка блаженствовала под нетронутым пушистым снегом – жаль было топтать ее, а тем более пачкать кровью. Сороки осуждающе трещали, перелетая с ветки на ветку и осыпая нас белой холодной пылью. На Оболенского с разлапистой еловой ветви свалился целый сугроб. Стряхнув с треуголки снег, он тщательно прицелился и шарахнул из пистоля по сороке. С презрением выпустив на снег приличную струю, она улетела, язвительно стрекоча на весь лес.
– Кровь брызнула! – заржали секунданты Волынского, и в ту же минуту были наказаны еще одним свалившимся с ели комом снега.
«Наверное, до них еще не дошло, что один из нас сейчас может погибнуть», – с жалостью оглядел развороченную поляну.
Воткнув палаш в снег, Нарышкин обстоятельно отмерял десять шагов – так они договорились вчера.
Первый выстрел я загадал на решку и проиграл. «Ну что ж, пусть первым стреляет он!» – взглянул на Волынского. Бледное лицо его выдавало сильнейшее волнение. Я точно знал, что он промахнется.
Мы встали на отведенные места. Пистолет приятно холодил руку.
Неожиданно, ослепив меня, выглянуло солнце.
– Господа! – заволновались мои секунданты. – Так нечестно. Следует изменить позицию.
Строганов согласился, но запротестовал я.
– Жребий брошен! Будем стреляться как решено.
Оболенский с гордостью поглядел на меня.
– Тогда начинаем, господа, – произнес он, – по счету «три» сходитесь, дойдя до палашей, первым стреляет поручик Волынский… – он хотел сказать: «Затем Рубанов», но побоялся сглазить.
Услышав «три!», я пошел навстречу судьбе, медленно поднимая пистолет. За несколько шагов до палаша Волынский споткнулся и упал, выронив оружие. Сегодня явно был не его день… Мы оба это знали.
Подбежавшие секунданты помогли графу подняться на ноги и отряхнули, затем Строганов вытащил из-под снега замерзшую корягу.
– На пулю непохожа! – постарался как можно веселее заорать он.
Но все понимали, что это скверная примета.
– Начнем сначала! – суетился Строганов.
– Нет! Пусть стреляются не сходясь, – неожиданно стал спорить Нарышкин.
Мне было безразлично… Я знал, что убью своего противника. Похоже, ему тоже было известно это…
– Господа! – подошел к палашу Волынский. – Пора заканчивать…
– …Клоунаду… – продолжил за него и, улыбаясь, встал на свое место.
– Прикрой грудь пистолетом! – давал советы Оболенский.
«К чему! – подумал я. – Он обязательно промахнется…» – И улыбнулся еще шире, иронично глядя на трясущуюся руку Дениса Волынского.
– Смелее, граф, – подбодрил его, и в ту же минуту раздался выстрел.
Моя треуголка закувыркалась на снегу.
Я заметил, как постепенно сошло напряжение с лиц моих друзей и напряглись секунданты Волынского. «Глупо промахиваться с десяти шагов. Он в моих руках». – Поднял пистолет и сощурил глаз, почувствовав, как ласково греет щеку солнце… и тут до меня дошло, что через секунду оно угаснет для него навсегда… А ведь он мой ровесник… и ежели бы Мари не дала повода, то сейчас и дуэли бы не было…»
Порыв ветра сорвал с его головы треуголку, и он стоял с развевающимися волосами, прикрыв грудь пистолетом. В глазах его была безнадежность и покорность судьбе.
«Хотя я не Бог, но сейчас могу порвать роковую карту!» – подняв пистолет, выстрелил в воздух…
Разумеется, Нарышкин все рассказал Софье, а та – Мари.
– Вы очень благородны, Максим Акимович, – всхлипывала она и вытирала глаза платочком.
Мы вдвоем были в моей комнате. Я сидел в кресле, забросив ногу на ногу, а Мари металась от окна к двери и восхваляла мой поступок.
– Ежели бы вы знали, как я уважаю вас, – твердила она, искренно и доверчиво разглядывая меня. – Простите меня… – опять поднесла платочек к глазам, – и за последний инцидент тоже… Дома я поняла, что карета подпрыгнула на кочке, и вы, дабы не упасть, схватились за меня.
«Лучше бы она произнесла лишь одно слово: "Люблю!.." И все! Больше ничего не надо… Просто она перепутала жалость с благородством… – Я становился циником и больше не верил в рыцарство. – Есть жалость, выгода или элементарная рисовка, которую выдают за честь и достоинство, но самого благородства нет!»
– Вы не проводите меня домой? – промолвила она, исчерпав комплименты.
«Хочет сделать мне приятное!» – усмехнулся я.
– Извините, Маня! Но мне скоро на службу…
«Это послужит ей уроком», – стал увлеченно обрабатывать пилочкой ногти, заметив, как удивление в ее глазах медленно переходит в неприязнь. Фыркнув, она хлопнула дверью и выбежала из комнаты.
Господи! Как мне хотелось поехать с ней…
27
После нашего объяснения наступила хандра, точнее, смертная русская тоска. Неожиданно для себя я научился от Оболенского курить, и теперь, лежа на диване, глядел в окно и пускал дым в потолок, думая о Мари и временами любовно гладя ствол пистолета. «Вот оно, облегчение и свобода! Стоит только нажать на курок…»
На службу не ходил, сказавшись больным. А скорее всего, я им и был. Глядя на мое бескровное лицо и пустые глаза, даже Гришка Оболенский терялся.
Не улучшила настроения и свадьба Вайцмана, на которую он пригласил всех офицеров полка, начиная с чина поручика. Нарышкин с Оболенским и другие младшие офицеры весьма потешались над тем, что главным поводом, так ускорившим свадебное торжество, было приобретение в наследство невестой барона огромного дома в Москве. Старшие офицеры и особенно Вебер поддерживали решение Вайцмана – невесты с домами на дороге не валяются.
Фрау Вайцман, на взгляд молодых офицеров, являлась форменной кикиморой. Ходили упорные слухи, что ради кикиморского дома барон бросил весьма симпатичную, но бедную девицу.
В середине января на смотрины пожаловали родители Нарышкина. В Москве для него они давно присмотрели невестку, но Оболенская им глянулась больше.
– Экую красавицу нашел! – хвалил сына Нарышкин-старший. «К тому же и приданое немалое…» – рассуждал он.
После многодневных застолий папà Оболенского предложил мужчинам развеять похмельные головы в одной из его деревень и пообещал прекрасную охоту. Предложение приняли «на ура».
«Заодно и Рубанов отвлечется! – думали друзья. – А то совсем хандра скрутила…»
Собирались, словно трубач сыграл «тревогу». За день до намеченного отъезда папà Оболенского направил в деревушку огромный транспорт с провизией, вином и ружьями, затем двинулись сами.
Деревня Максиму понравилась, она чем-то неуловимо напоминала родную Рубановку. Барский дом был невелик и сложен из дерева. Рядом конюшня и чуть дальше – огромная псарня, в которой скулило, визжало и лаяло более сотни борзых и гончих собак. Строения опоясывал невысокий дощатый забор. С одной стороны сразу за деревней начинался лес, с другой – засыпанное снегом поле. Все это являлось охотничьими угодьями Оболенских, и деревня выполняла лишь одну функцию – охотничьего хозяйства. Во время сезона постоянно должна быть готова принять господ и устроить им молодецкую забаву. Крестьяне пестовали барских собак и лошадей, зорко наблюдая за местами волчьих выводков.
По приезде гости два дня отдыхали, а братья Оболенские принимали соседей и некоторым оказывали великую честь – приглашали поохотиться вместе.
И вот намеченный день настал. Выдался он таким, будто братья Оболенские дали заявку, а Бог учел и выполнил все их пожелания. Слабоморозное, ясное и свежее утро бодрило. Воздух был чист и прозрачен. Легкий ветерок не беспокоил, а лишь напоминал о своем присутствии. На просторный двор усадьбы въехал последний из приглашенных соседей. Собак оставляли за оградой под присмотром выжлятников и борзятников. Максим пожал руки и тут же перепутал всех этих Зябловых, Борковских, Ерганиновых и Юрасовых.
Ловчий Василий – средних лет, невысокий плотный мужик, приглушенным голосом, словно боялся спугнуть дичь, доложил барину, что волчий выводок по-прежнему за оврагом, в мелколесье, собак с утра не кормили и к охоте все готово.
Папà Оболенского самолично осмотрел выведенную из псарни свору и проверил, как оседлан жеребец, строго при этом глянув на сына, злившего шестилетнего мускулистого кобеля по кличке Бухало, которого в далеком отрочестве Григорий выпестовал и так поэтично, и главное – дальновидно, назвал. К удивлению Максима, Оболенский-младший тут же бросил баловаться с собакой, почувствовав историческую важность момента.
Приехавшие столичные камердинеры, на которых местные псари, доезжачие и ловчие глядели, как на дичь, обнесли господ чарками с водкой, после чего Оболенский-старший назначил всем дело и место.
Перекрестясь, охота выехала за ограду и растянулась по дороге к лесу. Гончих соединили в одну стаю.
Рубанов вполуха прислушивался к негромким разговорам бывалых охотников об отъезжих полях и собаках. Своих борзых и гончих они превозносили до небес. Каждый страстно уверял, что ежели бы нынче император Александр решил поохотиться в их местах, то непременно бы выбрал именно его собак… Проехав версту, остановились и еще раз уточнили кому где стоять. Всех, кроме Максима, лихорадило от охотничьего азарта. Посовещавшись, откуда бросать гончих, разъехались.
Братья Оболенские, Нарышкин-старший и ловчий Василий направились в заезд над оврагом. Григорий с Максимом расположились в редких кустах перед опушкой. Через сто шагов затаился Серж.
Рубанов зарядил свой «ланкастер» и повесил ружье на плечо. Оболенский зорко всматривался вдаль и прислушивался. Бухало улегся у копыт лошади, положил голову на передние лапы и, обратив глаза кверху, переводил их с хозяина на меня.
– Максим, слышишь? Наткнулись! – Оболенского аж трясло.
Где-то в стороне и вдали я услышал приглушенный лай полудюжины гончих. Хотел сказать «слышу» и открыл было рот, но увидев замершего в напряжении князя, промолчал. Наклонив голову, он внимательно прислушивался, по-крестьянски поднеся ладонь к уху.
– Ведут! – дрожащим голосом произнес Оболенский и нервно подтянул кушак с длинным кинжалом в серебряных ножнах.
Где-то далеко в лесу гулко затрубил рог Василия, сообщившего, что волка гонят, и я услышал дружный рев всей стаи. Оболенский, как и его кобель, вытянулся и нюхал воздух.
– Ко мне! Место! – осадил он попытавшегося выскочить на поляну пса.
Лай приближался. Бухало дрожал от носа до кончика хвоста.
Бледный Григорий, выпучив глаза, куда-то указывал, безмолвно раскрывая рот, и вдруг заорал:
– Вон он! Ату его!..
И тут я заметил огромного матерого волка, уходившего от собак.
Нас он пока не видел. Оглянувшись на погоню, волчара схватил пастью снег и скакнул через поляну в мелколесье. Бухало пошел наперерез, попеременно горбатя и расправляя спину. Следом поскакал Оболенский, настегивая коня и вопя во всю глотку: «О-го-го-гой!». Еще через минуту мимо промчалась и исчезла в лесу вся охота.
Тогда следом не спеша тронулся и я. Ехал около часа, но никого не встретил. Лай слышался то в одной, то в другой стороне. Проплутав еще столько же, наткнулся на счастливых охотников, крутивших лапы волку и просовывавших меж ними жердь.
– И тогда я… а он… гляжу, Бухало летит… и тогда я… а он… – что-то бессвязно бормотал Григорий.
Подъехав ближе и успокоив лошадь, взглянул на волка. Он лежал, не двигаясь и не сопротивляясь. В желтых глазах его застыла смертная тоска…
– Рубанов! – кинулся ко мне князь. – Гляди какой волчище…
По лесу растекались лай и шум… Охотники преследовали других волков. Немного отдышавшись и успокоившись, Оболенский с аппетитом хряпнул неведомо откуда взявшуюся чарку водки и не успел занюхать ее конской гривой, как к нему подлетел молодой охотник из крепостных.
– Барин!.. – загнанно дышал он, куда-то указывая арапником и дергая непроизвольно щекой.
«Наверное, на медведя наткнулся!» – решил я.
– …Матерый! Там… за лесом… Заяц! – задышливо объяснял он.
– Заяц? – обрадовался вошедший в азарт князь. – Рубанов! Поскакали зайца травить, – пролетая мимо меня, предложил он. Кобель, играя спиной, мчался у его стремени. Двое находившихся рядом соседских помещиков увязались за молодым князем.
«Что плохого ему заяц сделал? – Медленно поехал следом. –Правда, князь Григорий находится в таком настроении, что предложи ему сейчас поохотиться на лягушку, он, по-моему, с радостью согласится».
– Куда головой лежит? – где-то вдалеке спросил он у приметившего зайца охотника.
Мелколесье закончилось, и я выехал вслед за ними в поле. В какую сторону лежал заяц, уже не имело значения.
Почуявший опасность косой чесал по полю, заложив уши за спину и взбрыкивая задними лапами.
– Кидай гончих наперерез! – неизвестно кому орал Оболенский. – О-го-го-го! – вопил он набежавшим собакам.
– Ого! Как приняли! – нервно кричал то ли Зяблов, то ли Ерганинов.
– Свалились! Помчали! Вот он, вот он! Лови! А-а-т-у-у его! – взвыл другой помещик, подслеповатый, худенький старичок, словно мячик, подпрыгивающий на лошади.
Заяц повернул к лесу, оставив свору далеко позади, но наперерез ему устало бежал здоровый рыжий кобель.
– Ату его, Буян! – аж завизжал старикашка.
Заяц наддал и успел проскочить прямо перед мордой обескураженного пса. Не успевшая, да и не хотевшая оббегать его стая сбила рыжего кобеля и, подвывая, понеслась дальше. Вперед вырвались две собаки – княжеский Бухало к поджарая пегая сука Зяблова-Ерганинова.
– Давай! – сипел посадивший голос помещик. – Хватай его…
Собака, казалось, услышала хозяина и, напрягая последние силы, нацелилась схватить косого, но зубы ее, щелкнув, укусили лишь воздух, так сладко пахнувший ускользнувшей добычей…
Заяц присел, и собака пронеслась мимо. В ту же секунду он скакнул в бок и в сторону и снова помчался к лесу, до которого оставались считанные шаги.
– Бухалушка, дружочек, давай! – услышал я стонущий голос Оболенского и увидел, как опередивший всех собак княжеский кобель в каком-то акробатическом прыжке уцепил зайца на самом подступе к лесу и улетел с ним в глубокий сугроб.
– Ушел! Эх, ушел! – чуть было не заплакал князь, подъезжая к вылезавшей из снега собаке.
Он видел лишь ее бок и дергающийся хвост. Через несколько секунд пса скрыли от глаз набежавшие борзые.
– Ушел! – страдальчески морща лицо, словно ребенок, у которого отняли игрушку, жаловался он подъехавшим охотникам.
Но увидев их расширенные глаза, повернулся к отряхивающейся от снега собаке, и каким же неземным счастьем осветилось его лицо, когда заметил в зубах ее слабо трепыхавшегося зайца.
– Бухалушка! – ласково произнес он и с такой нежностью поглядел на пса, что Страйковская-старшая за этот взгляд согласилась бы иметь на морщинку больше. – Родной ты мой! – подойдя ко псу и забирая у него добычу, всхлипнул Оболенский.
И я подумал, что он согласился бы не пить целый месяц за еще одну такую минуту в своей жизни.
Весь следующий день шел снег…
Безмолвный, метафизический, безразличный снег…
Зачем?!
Я во всем искал какой-то тайный смысл, догадываясь уже, что живу в бессмысленном, ирреальном мире, бесконечно меняющем свои очертания.
Ночью, как всегда, стало тоскливо…
Думалось и не спалось…
В клетке, во дворе, выл пойманный волк!
С иконы, обогреваемый лампадкой, безразлично и высокомерно глядел Христос. «Что я ему? Маленькая песчинка, затерявшаяся во времени и пространстве. Тысячи подобных песчинок суетились в его пригоршнях до меня, и многие тысячи станут суетиться после… надеясь, что он заметит и окутает своей благодатью или хотя бы подаст знак.
Как тоскливо воет этот волк!»
Взяв со стола подсвечник, подошел к окну. Серебром вспыхнули ледяные узоры. Поднеся свечу ближе, я всматривался в искрящийся рисунок. «Может, в нем есть какой-то смысл? Послание высших сил, играющих моей судьбой?.. Но что они хотят сказать?»
Свеча нещадно трещала, недовольная, что я побеспокоил ее.
Вьюга стучала ставнями и шумела деревьями.
А во дворе невыносимо выл волк.
Поставив свечу, я взял пистолет. Здесь все было ясно, только нажми на курок. Мертвый холод металла колол руку, поднимаясь к плечу и постепенно распространяясь по всему телу.
Стало холодно и одиноко…
Темный зрачок ствола в прищуре примеривался к виску.
«Здесь покой… Здесь избавление и тишина… Нажми на курок… –казалось, шептал он. – Покой и тишина…»
Я поглядел на икону, но Бог молчал, не давая совета.
А во дворе выл волк…
И эта бесконечная ночь… и темный зрачок пистолета… и шепот его… и вьюга за окном… и холодная земля… и ледяное небытие…
Я продрог.
Бросив пистолет на неразобранную кровать, накинул шинель и заметался по комнате.
«Как я люблю ее… Господи! Как я ее люблю…» – прижался лбом к ледяному стеклу и поглядел на пистолет.
«Я помогу тебе!» – снова зашептал тот.
«И поко-о-о-й! И изба-а-в-л-е-е-ние!»
А Бог молчал!
А во дворе выл волк!..
Неожиданно захотелось движения, захотелось бури и чего-то еще… То ли сбить и растоптать мутную от налипшего снега луну, то ли просто застрелиться…
А пойманный волк все выл!..
Страдал по свободе?
По близкому лесу?
По ласковой и теплой волчице?
Я уже любил этого несчастного зверя… и понимал его!
На псарне временами заливались лаем собаки. «Мечтают затравить и разорвать тебя…» – подошел к деревянной из брусьев клетке. Волк перестал метаться и молча разглядывал меня. В глазах лампадками желтели две луны и тоска… Тос-к-а-а-а!!!
«А может, он чувствует обостреннее, коли ближе к природе? И его тоска горше и сильнее моей? А может, звери страдают тяжелее нас – равнодушных, запутавшихся во лжи и погрязших в суете людей?..»
– У-у! Ирод! Зубищи-то какие, – отвлек меня от раздумий подошедший дед, замахиваясь на зверя колотушкой. – Ужо тебе!
Волк в ярости заметался по клетке, но вдруг, словно поняв, что отсюда не выбраться, сел и, подняв морду вверх, к луне, испустил протяжный, исступленный, тягостный стон, зазвучавший, как мне показалось, не в этом безразличном мире, а в моей промерзшей душе…
Сторож отступил на шаг, со страхом разглядывая встопорщившего загривок и оскалившегося зверя.
– Разбуди конюха и скажи запрягать тройку, – велел я ему.
Он не нравился нам, раздражал и мешал.
Волк успокоился и тоскливо улегся, положив лобастую голову на лапы, как давеча княжеский пес, и разглядывал меня. Без раздумий я подошел к клетке, откинул щеколду и растворил дверь ровно на столько, чтобы он смог выйти.
Волк не верил мне… Услышав лязг щеколды, он забился в угол и зарычал, сверкая глазами-лунами. Но вдруг резво вскочил, встряхнувшись всем телом, и, громко стуча когтями по настилу, прыгнул к двери. Выбравшись из клетки, тяжело глянул в мои глаза и на слабое, вкусное горло. Он был голоден и зол…
Сложив руки на груди, я улыбался своему судье и молча ожидал приговора. «Вот он, посланец Бога! – подумал я. – Сейчас свершится…»
Волк, пригнувшись и блеснув клыками, схватил черной пастью снег и не спеша, вначале медленно, а затем все быстрее, без конца оборачиваясь, потрусил к забору. Затем, напружинив лапы, оттолкнулся и, мелькнув темным силуэтом, исчез…
«Значит, надо жить!..»
Недовольный конюх охлопывал коренника, подготовив тройку.
– Гликось, гликось! – послышался вскрик сторожа. – Убег зверюга… Конюх, бросив лошадей, забегал по двору.
Неожиданно мне стало легче. Это был не покой, не умиротворение, но чуть отпустило, и душе стало теплее.
– Как он вас не задрал, барин? – услышал голос старика сторожа.
Я уселся в сани и, перебирая вожжи, завидовал волку. Кони били копытами и волновались – то ли еще чуяли запах зверя, то ли готовились лететь в метель. Конюх уже открывал ворота.
Кровь моя забурлила от предчувствия дороги и ветра.
– А-а-а! – подняв лицо к луне, завыл что есть мочи, и кони понесли, тут же оставив в сумраке вьюги спящий дом, пустую клетку, зрачок пистолета и шепот его…
Все это осталось позади…
А рядом успокаивающе-дробно стучали копыта, разворачивая передо мной ленту дороги. Мелькали оцепеневшие деревья, дрожала невзрачная луна, и тоскливо стонал колокольчик…
И вот уже кажется, что я замер в невесомости, что кони, не двигаясь, на одном месте перебирают копытами, а мимо скользят ожившие деревья, овраг и дома небольшой деревушки.
Коренник замедлил бег, сбившись с дороги, провалился в глубокий рыхлый снег, затем, скачками, путаясь в провисших постромках, выбрался на колею и зарысил, недовольно бросая в меня снежными комьями из-под копыт – будто я виноват, что он сбился с дороги.
Снег прекратился, и буря утихла.
Лошади пошли шагом, устало поводя боками и всякий раз вздрагивая, когда с густых черно-белых елей срывался и гулко падал на подмерзший наст пласт чистого снега, поднимая возле дерева белую пыль.
Все вокруг дышало заповедной, сказочной жизнью.
Лошади окончательно встали, и я увидел на невысоком, серебряном от снега и лунного света пригорке мистически-печальную, небольшую церквушку. Тоскливый голос колокольчика замер и слышался медленный, басовитый, приглушенный рокот церковного колокола.
«Кто же звонит? Верно, ангел!..» – перекрестился я, вылезая из саней. Томимый тоской о себе и о ней, проваливаясь в мягкий снег, словно по облаку, стал подниматься к церкви и вошел в нее, проскрипев замерзшей тяжелой дверью.
Пусто!
В сером сумраке семь тусклых огоньков…
«Почему семь?»
Но я точно знал, что именно столько их и должно быть…
Запах ладана… воска… и грусти… но уже не тоски!
Я упал, прижавшись лбом к полу, словно в детстве к маминым коленям, и горько зарыдал, прощаясь с любовью, с утерянным счастьем, прощаясь с Мари и прощая ее… И мне казалось, будто чья-то теплая ладонь гладит меня, успокаивая и утешая.
Постепенно я затих и, встав на колени и подняв голову к иконостасу, жарко зашептал молитву, прося лишь об одном – дабы все черное, слепое и страшное, что было в этой ночи, прошло… и чтобы в жизни моей не было больше таких ночей!
Обратно я ехал шагом, спокойный, чистый и выздоравливающий. Уставший за ночь колокольчик жалобно тренькал на дуге. Пристяжные, красиво изогнув шеи, отвернулись от коренника и с опаской косились на лес. Я залюбовался ими и тоже внимательно вгляделся в чащу, вспоминая отпущенного волка.
«Почему-то нас сравнивают с медведями!» – усмехнулся я.
«Но, как всегда, иностранцы не понимают и никогда не поймут русскую душу… Не медведи – а волки и лошади нам ближе всего и всегда вдохновляли русского человека!!!»
28
Вернувшись в Петербург, Максим внешне успокоился: начал ходить на службу и посещать с Оболенским ресторации, но что-то изменилось в нем, в его поведении и характере. То ли он стал серьезнее, то ли давала себя знать затаившаяся грусть, но шутил он заметно реже и, к удивлению князя Григория, увлекся книгами. Заходя в его комнату, Оболенский с содроганием замечал на столе друга раскрытые журналы и книжные тома.
А князь прекрасно знал, на примере Нарышкина, как отрицательно книги влияют на ум. «Вот что эти бабы с нами творят… – сочувственно глядел на Максима, – губят мужиков на корню. Как бы и меня Страйковская не достала. А ведь есть ценности поважнее женщин!..»
– Рубанов! А не пойти ли нам в кабак?
Сходить в кабак Максим соглашался, а вот на балы и маскарады больше не ездил.
Свое девятнадцатилетие отметил скромно, без особого шума.
Как всегда, балов и фейерверков по этому поводу в Петербурге не устраивали. На следующий день, после обильной трапезы в доме Оболенских, Максим нанес визит Голицыным. Здесь вовсю велись сборы – князь Петр собирался отъезжать к полку, стоявшему на биваке
– Скоро и вас побеспокоят, – сказал он на прощание и снова оказался прав.
В конце февраля гвардия двинулась в поход к границе.
Приказ идти на запад к польско-литовской границе Максим встретил с облегчением. «Почему-то, когда у меня не ладится с женщинами, я всегда куда-либо уезжаю, – радовался он. – В данных обстоятельствах нет ничего полезнее, нежели сменить обстановку».
Оболенский и вовсе был на седьмом небе – давно мечтал отвязаться от Страйковской.
Расстроился лишь один Нарышкин. В апреле должно состояться венчание, а вдруг задержат дольше? Гонцы полетели в Москву к его родителям, а папà Оболенского с богатыми дарами отправился к возлюбленной императора – Марии Антоновне Нарышкиной – приглашать ее на свадьбу.
Московские Нарышкины, видимо, тоже времени напрасно не теряли… И в тот день, когда гвардия, прилично напоследок побуянив в ресторациях, тронулась в путь, пришел приказ о назначении поручика лейб-гвардии Конного полка графа Нарышкина адъютантом к московскому градоначальнику графу Федору Васильевичу Ростопчину.
– Ежели полк к апрелю в Петербург не вернется, проситесь у Арсеньева в отпуск и сразу же ко мне в Москву.
Венчаться с Софьей в Первопрестольной будем… Жду! – обнимал он друзей. О войне никто из них не думал, хотя высоко в небе мерцала зловещая комета. Гвардия выступила в поход, как и осенью 1805 года, под командой великого князя Константина, гордо ехавшего перед первой ротой таких же курносых, как сам, преображенцев.
Преображенцы шли, держа строй и так отбивая шаг, что расшугали мирно дремавших в Летнем саду ворон. Стоявшие, несмотря на мороз, по краям дороги обыватели шумно приветствовали марширующую гвардию. За это гвардия, несмотря на мороз, гремела барабанным боем и музыкой. Константин Павлович вгорячах протрясся в седле до Гатчины и наконец сообразил, что толп обочь дороги нет, и пересел в коляску. Попервоначалу он еще следил за равнением и дистанцией, но затем плюнул и на это, в результате чего гвардия далеко растянулась по белорусскому тракту, не соблюдая уставных интервалов.
Кормили в походе исправно, ночевали по деревням, поэтому солдаты были довольны и, уминая с кашей зазевавшуюся курицу, вспоминали прежние походы, обильно приправляя вранье ядовитой махрой.
Крестьянская детвора, затаив дыхание от любопытства и дыма, слушала солдатские байки лежа на печи. Тараканы не были столь любопытны и мужественны. Вытаращив глаза, они в ужасе удирали на улицу, предпочитая смерть от холода удушью.
Как на Нарышкина повлияли восточные мудрости и Древний Рим, так на Оболенского – охота! Временами степенное и размеренное движение Конного полка нарушалось диким ревом и свистом:
– Гы-гы-гы! Лови! Ф-ь-ю-ю! – то Оболенский замечал зайца.
Вайцман, красный от учащенного сердцебиения, делал Григорию строгое внушение, а полковник Арсеньев, сам страстный охотник, приказал Оболенскому изучать «Предварительное постановление о строевой кавалерийской службе», надеясь этим охладить охотничий азарт поручика. Всякий раз после адских воплей, он вызывал князя к себе, устраивая ему строгий экзамен, и к концу похода Григорий досконально знал расчет эскадронов и полка, их боевой порядок и характер построений кавалерии.
– Как следует переходить в атаку, милостивый государь? – пытал его Арсеньев. – Отметьте, сударь, скорость движения! – и князь без запинки отвечал:
– Эскадрон идет шагом первые пятьдесят шагов, затем сто шагов двигается рысью, последующие восемьдесят шагов – галопом, после чего подается команда «аллюр». В уставе предусматриваются также и атаки «с места в карьер!».
Полковник гордился своим учеником и ставил его знания в пример другим молодым офицерам. Разбуди Оболенского ночью, и он с закрытыми глазами мог бы перечислить различные эволюции в построениях кавалерии, перестройку эскадронов из колонн во фронт, виды марша, развертывание в боевой порядок…
И все это благодаря зайцам!
– Поход – это славно! В Петербурге мы разнежились – привыкли к комфорту, балам, концертам… – внушал молодым офицерам князь.
Офицеру нужен контраст. Переход от неги к суровости. Временами следует менять мягкий диван на жесткое седло. Лишь тогда он будет ценить жизнь и наслаждаться ею…
Всегда надо чего-то хотеть – но не иметь!
После Петербурга Вильна показалась Рубанову настоящим захолустьем – узкие грязные улочки, католические костелы, лапсердаки евреев и самодовольные улыбки польской шляхты раздражали его, и он редко ездил в город, предпочитая находиться в деревне, где стоял биваком полк.
Оболенский тоже не посещал балы местной шляхты, а замечательно проводил время в забегаловке, которую содержал местечковый еврей по фамилии Шмуль.
Шмуль являлся точной копией Мойши, и в первый вечер Оболенский даже поинтересовался, нет ли у него родственников за границей.
Родственники у Шмуля были кругом, даже в Африке, про которую Оболенский и слыхом не слыхивал, но от сродства с петербургским Мойшей он отказался. Юношеского куража в трактире князь больше не учинял, видимо, стал взрослее, и к тому же следовало быть примером для лопоухих корнетов и подпоручиков.
От такой жизни он сделался необычайно религиозным. С утра интересовался у полкового священника, какой сегодня день, и направлялся отмечать его в трактир.
Шмуль был женатым, и Шмулиха, издалека завидев месящего грязь князя, тщательно протирала стол и выставляла бутылку водки. Полдюжины шмулят всех калибров кланялись князю и принимали от него кто палаш, кто перчатки, кто шинель и шляпу.
«Такие маленькие, а уже евреи», – жалел их Оболенский, солидно усаживаясь за стол и сообщая главному из Шмулей, каких мучеников следует сегодня поминать.
19 марта это были Хрисанф, Дарий, Клавдий и иже с ними Преподобный Иннокентий Комельский.
20 марта – очень обстоятельно помянул преподобного Иоанна, Сергия и Патрикия, а также преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского чудотворца. И отдельно от преподобных мужиков с чувством выпил за мученицу Фотину.
Вельми преудачнейший день!..
Зато 22 марта была передышка, так как в наличии имелся всего один священномученик – Василий.
Но во искупление княжеских страданий, 25 марта православная церковь отмечала большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы… со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Рубанов не был столь верующим и в свободное от службы время – читал. Кстати, свободным был весь день, так как Зимний дворец остался далеко, а проводить учения в грязи по колено желающих не находилось. С собой он, помимо господина Шекспира, захватил томик Державина и карамзиновский «Вестник Европы», несколько книг прикупил в Вильне.
О Мари старался не думать и, как ему казалось, стал забывать ее. Кавалергарды стояли в соседнем селе и сюда пока не совались. Поэтому с Волынским он тоже не сталкивался. Однако Оболенский замечал рассеянность своего друга, вредную задумчивость и при разговоре видел, что мысли Рубанова иногда улетали далеко в сторону от темы беседы.
За уважение к великомученикам Господь Бог послал Григорию превосходного собутыльника. Шмули, то ли специально, то ли нарочно, посадили за соседний столик огромного, под стать князю, мужичищу. Все части его тела были одинаково громадными – и рожа, и живот, и задница. К тому же он постоянно рыгал.
Вначале Оболенский окинул соседа ироничным взглядом с приличной примесью брезгливости, но постепенно изменил о нем мнение в лучшую сторону, наблюдая, сколько жратвы и водки поглощает этот поляк.
В конце обеда, благодарно рыгнув, краснорожий сосед произнес, обгладывая поросячье ребрышко:
– Не пепшь вепша пепшем, бо пшепепшешь вепша пепшем! – и подмигнул при этом князю. – Не перчь вепря перцем, а то переперчишь вепря перцем! – перевел на русский польскую шутку и оглушительно заржал. Оболенский поддержал его и взмахом руки пригласил за свой стол.
– Вагуршик Ршигуршик, – представился новый знакомый и рыгнул, галантно прикрыв рот ладонью.
– Поручик Оболенский, – в свою очередь назвался князь.
С удовольствием оглядев друг друга, они решили продолжить трапезу сообща и сделали заказ. Несмотря на то, что прислуживал им весь отряд Шмулей, но даже он с трудом успевал подтаскивать выпивку и закуску.
По меткому выражению Шмуля-старшего, семья стерла ноги до самой задницы, пока накормили и напоили гостей.
После обеда расставаться новым друзьям стало невмоготу, и Ршигуршик пригласил русского поручика к себе.
– Заодно с дочкой познакомлю! – несколько изгадил так чудно начавшийся день.
Слава создателю, дочки дома не оказалось.
– Уперлась к тетке в соседнее село, – сообщил не слишком опечаленный отец и велел прислуге собрать на стол что бог послал.
А послал он весьма щедрое угощение. До самого вечера шла проверка на крепость. Бойцы подобрались достойные. Оболенский бился за честь полка, а Ршигуршик сражался за достоинство польской нации. Запыхавшаяся прислуга с трудом успевала уносить пустые бутылки и подтаскивать полные.
Когда наконец половина винного погреба опустела, буйные головушки брякнулись на стол.
Ничья!
Разбудила их поздним вечером приехавшая из гостей дочурка. По стародавней женской традиции она было кинулась на них, призывая на голову папашки и гостя стрелы огненные, череду лихоманок, трясучку и общее недомогание, вызванное похмельем.
Чуть позже последнее и предпоследнее пожелания пани Ршигуршик полностью оправдались.
Правда, как следует рассмотрев гостя, она тут же пожалела о своих жестких, но справедливых словах и побежала подкраситься и причесаться.
С пьяных глаз, Оболенскому девица показалась просто красавицей. По-быстрому подремонтировав организм, поручик представился даме, благожелательно оценив доставшуюся по наследству стать.
Ночевать он благоразумно отказался, и был доставлен домой на телеге, так как у коляски лопнула втулка.
В таком состоянии Максим своего друга еще не видел. Пробормотав: «Вепше-пепше», – тот замертво рухнул на постель.
Утром сбылись второе, третье и четвертое пожелания девицы, и князь сломя голову помчался лечиться к Шмулям, успев лишь спросить у Рубанова, что он вчера говорил.
– Какую-то фамилию назвал, – ответил Максим, – Пепшев, кажется.
– А-а-а! Помню, – хлопнул князь дверью.
Его вчерашний знакомец прибыл в трактир гораздо раньше.
– Господин Пепшев, – обрадованно протянул ему руку поручик.
– Господин Обезьянский, – с достоинством пожал ее поляк.
Шмули, как один, повалились по лавкам.
– Никакого уважения к достойным людям у этих жидов, – заметил князь и поправил нового друга.
Познакомившись по-новому, день они провели по-старому.
Дисциплина в полку от безделья катастрофически падала, а это сказывалось и на внешнем виде. Офицеры брились в неделю раз, носили мятую форму и грязные сапоги. Слава Богу, пока еще умывались.
На замечания командира полка реагировали слабо, а гауптвахты поблизости построить не успели. Да весь полк и не посадишь.
Арсеньев ломал голову над тем, как хотя бы улучшить внешний вид, не говоря уж про дисциплину. «С утра до вечера пьют и в карты дуются, – горевал полковник, – что делать, ума не приложу… а ну-ка Константин Павлович визит нанесет?.. А мои, того и гляди, полковое знамя пропьют или кавалергардам в карты проиграют, – несколько утрировал он ситуацию. – Господи! Помоги мне…» – От нервного своего состояния и находящей временами волны зловредности прошение об отпуске, поданное в апреле Рубановым и Оболенским, не подписал, и расстроенные поручики продолжали заниматься прежними своими увлечениями: Рубанов читал, а Оболенский с новым другом пили за святых великомучеников в трактире Шмуля.
Благо с каждым днем добираться до него становилось все легче и легче. Грязь подсыхала, и к стоявшему на окраине трактиру вела не какая-то там тропинка, а хорошо утрамбованный тракт, которому позавидовали бы даже в Баварии.
Деятельный Шмуль на вырученные деньги возводил в соседнем селе, где стояли биваком кавалергарды, еще один кабак.
Слезные молитвы Арсеньева тронули сердце Всевышнего, и он подписал рескрипт о поддержке командира полка и посрамлении нарушителей формы одежды.
В апреле, вместе с весенним теплом, в приткнувшийся за селом полуразвалившийся замок прибыла красавица полячка с немногочисленной прислугой. Первыми ее увидели Оболенский с Ршигуршиком, которые сидели в трактире с раннего утра и синхронно поднимали стаканы за мучеников Савву Стратилата и Евсевия, а также за преподобных Савву Печерского и Алексия затворника Печерского.
И Шмули, и Вагуршик Ршигуршик благодаря мессионерской деятельности князя стали склоняться к православию.
Именно в тот момент, когда поминали затворника, Оболенский и заметил открытую бричку с прекрасной женщиной.
– Ба! Это что за дама? – произнес он, вглядываясь в мутное окошко. – Давно не встречал в сей глуши столь симпатичных мамзелек… Кроме вашей дочки, конечно, – после небольшой паузы докончил он, обращаясь к Ршигуршику.
Тот нехотя обернулся к окну, всмотрелся, повернулся обратно, выпил за затворника, рыгнул, закусил и произнес:
– Пани Тышкевич из Варшавы. Когда-то эта деревушка принадлежала ее покойному папеньке. Каждый год на лето приезжает сюда. Господин поручик! А не могли мы пропустить какого-нибудь мученика? – с надеждой поинтересовался он.
И услышав, что все сегодняшние мученики закончились, загрустил, проклиная в душе людскую гуманность.
Князь, схватив шляпу, помчался в полк доложить об увиденном.
На Рубанова его сообщение впечатления не произвело, зато остальные офицеры были ужасно заинтригованы.
Особенно Вебер и штаб-ротмистр Гуров. Они-то первыми и посетили полуразрушенное строение с прекрасной незнакомкой.
– Господа! – потрясенно рассказывали потом. – Хозяйка замка – удивительная красавица… А как умна, как держится… Словно королева!
– Ну скорее опишите нам ее, не томите, – просили офицеры.
– Давайте, Гуров. У вас лучше получится, – переложил трудности пересказа на плечи подчиненного Вебер.
– Ну, я не знаю, господа, – замялся тот, – представьте огромные черные очи! Длинные, вьющиеся черные волосы…
– И смуглое гладкое лицо, – вставил Вебер.
– Да-да! – подтвердил штаб-ротмистр. – И приятные свежие губы, и тихий волнующий голос…
– И большие груди! – развеселил офицеров Вебер.
– У нее действительно тонкий стан и божественная грудь, – поддержал начальника штаб-ротмистр.
С этой минуты спокойное время для денщиков осталось лишь в приятных воспоминаниях.
Заборно ругая приехавшую красотку, ночи напролет они чистили ботфорты, палаши, медные налобники касок, пуговицы, кирасы, шпоры.
Полковник поначалу не мог нарадоваться на преобразившийся полк и благодарно крестил лоб. «Даже в Петербурге они так не следили за своей внешностью, ибо там не было столь отчаянной конкуренции», – размышлял Михаил Андреевич. Подумав, что пора подтянуть и дисциплину, полковник Арсеньев издал приказ, обязующий офицеров проводить занятия с вверенными им подразделениями.
Ротмистры адресовали приказ штаб-ротмистрам, те – поручикам и так – до корнетов. А романтичные корнеты ночи напролет проводили у стен замка, пытаясь увидеть несравненную фею…
Утром они сладко спали, оставляя эскадроны на вахмистров. Но конногвардейские вахмистры были не дураки, и среди низших чинов тоже существовала субординация: заботу о подчиненных они переложили на унтеров, и так далее…
Словом, вторым эскадроном командовал капрал Тимохин. Разумеется, всякие занятия он отменил.
Посовещавшись, офицеры полка решили устроить парадный обед и пригласить пани Тышкевич. Обед устроили на свежем воздухе под стенами замка. Поваров выписали из Вильны.
Во время обеда пани Тышкевич огнем своих глаз зажгла сердца всего лейб-гвардии Конного полка. Офицеры по очереди вставали и произносили тосты в ее честь. Лишь один поручик с бледным лицом и тоской в глазах не обращал на нее внимания, чем заинтересовал пани.
Когда после обеда полковник подал ей руку, галантно подсаживая в кабриолет, пани Тышкевич чуть задержалась, поставив одну ногу на перекладину раздвижной лесенки, и, придерживая подол платья рукой, туго натянула его на выпуклом бедре.
Услышав дружный стон офицеров, искусительница с улыбкой обернулась, и взгляд ее встретился с безразличным взглядом бледного поручика, который к тому же отвернулся и зевнул.
«Это вызов! – фыркнула пани Тышкевич, усаживаясь в кабриолет. – Попляшет же у меня этот мальчишка».
Через десять саженей, подъехав к замку, пани Тышкевич выбирала из леса рук, жаждущих оказать ей помощь, руку поручика, но он не удосужился пробежать этого расстояния и невозмутимо сидел за столом. Нахмурившись, она вышла из кабриолета, приняв услуги Вебера, и, не улыбнувшись на прощание, вошла в ворота замка, соблазнительно покачивая при этом бедрами.
Проводив даму взглядом, офицеры завистливо уставились на немца.
«Теперь месяц руки мыть не будет», – подумал Максим, направляясь домой. Именно он и был тем поручиком, который расстроил красавицу полячку. После парадного обеда офицеры лейб-гвардии Конного полка по очереди ездили в Вильну и везли оттуда драгоценности и флакончики с духами для пани Тышкевич и ведра с французским одеколоном для себя. Одеколонили даже коней.
Навозом в деревне больше не пахло.
Одурели все поголовно, причем пожилые сильнее: начали умываться молоком и перетягивать талию корсетом.
На подозрительный запах, с ветром доходивший до бивака кавалергардов, приехали их разведчики, и через два дня кавалергардский полк разбил палатки у стен замка.
Встревоженные конногвардейцы раскинули лагерь с противоположной стороны. Чувствуя витающее в воздухе поклонение, пани Тышкевич стала еще очаровательнее в своем декольтированном розовом платье с вуалькой, спускающейся до половины ее прекрасных, томных глаз, из-за которых конногвардейцы всерьез собирались стреляться с кавалергардами.
Полковник Арсеньев уже не радовался подтянутому виду своих офицеров.
«Господи! Ну зачем ты так?» – упрекая Всевышнего, поднимал он к небу глаза и, дабы сохранить гибнущую царскую гвардию, собирался уговаривать пани Тышкевич уехать на время в Вильну за его счет.
Под влиянием красавицы полячки из Оболенского улетучился религиозный фанатизм, и он перестал поминать у Шмуля святых страдальцев. Порвав с кабацким богомольем, Оболенский трезвыми глазами увидел, что пани Ршигуршик – обыкновенная перезрелая корова, а ее отец – боров. Натуральный польский вепша.
Однако Вагуршик Ршигуршик имел другое мнение на сей счет. После долгих раздумий он понял, что лучшего зятя ему не найти, и решил прибегнуть к банальному приему безутешных отцов, мечтающих поскорее сбагрить с рук свое чадо – то есть оставить молодых наедине, поэтому отпустил ненаглядную дочурку проводить князя.
Молодые люди ехали в коляске, и девица развлекала офицера видами на урожай. Неожиданно под копыта лошадей самоуверенно выскочил здоровенный жирный заяц. У «жениха» загорелись глаза и пробудился охотничий инстинкт. Он резво вскочил на ноги, чуть не опрокинув коляску, и дико заорал, указывая на зайца и подпрыгивая на месте. Пани Ршигуршик успела ухватиться за сиденье и с ужасом смотрела на провожатого, попутно проклиная решившего избавиться от нее папеньку и особенно улепетывающего во все лопатки зайца.
Несмотря на отсутствие гончих и борзых, «суженый» прыгал как сумасшедший и при этом дико орал, до невозможности выпучив глаза:
– Ату его! Ату!.. А-а-а-а… У-у-у-у… Го-го-го!
С панночкой случился глубокий обморок, и в дальнейшем она наотрез отказывалась наедине оставаться с князем. Едва завидев его, начинала сильно заикаться и косить левым глазом.
Поручик был очень доволен зайцем. «Эти создания, положительно, приносят мне удачу – хоть в герб вписывай!..»
29
Прогуливаясь в обществе кавалеров, пани Тышкевич несколько раз сталкивалась с гордым поручиком и пыталась приручить его, но у нее ничего не получалось. Впервые за двадцать пять лет жизни столкнулась она с подобным казусом – на нее не обращали внимания… «Умен, остроумен, красив, а главное, независим и горд… – пылала она по ночам. – А может, он просто стеснителен… и не встречался еще с женщинами? Нет! Он обязательно должен стать моим».
Неожиданно для себя, эта избалованная вниманием поклонников женщина потеряла покой и душевное равновесие. «Да что со мной творится? – удивлялась она. – Не сплю по ночам из-за какого-то мальчишки поручика… Да из-за меня генералы стрелялись…»
Однако утром, тщательно приведя себя в порядок, она выходила на прогулку с надеждой снова увидеть этого несносного офицера.
«Все равно добьюсь своего, он будет валяться у моих ног… вот тогда-то я отыграюсь на нем…» – мстительно оглядывалась по сторонам, нервно раскручивая над головой зонтик.
Вестовой доставил из Вильны в штаб полка депешу о приезде государя-императора и передал Оболенскому письмо, адресованное ему и Максиму. Письмо было от Нарышкина. Граф написал, что обвенчался и теперь приходится родственником этому жлобу Оболенскому, который даже не соизволил прибыть на свадьбу. И передавал приветы от Софи ему и Максиму.
Полковник Арсеньев, получив депешу, срочно велел явиться к нему командирам эскадронов. Как следует намылив им шею и приказав проводить занятия с эскадронами, направился к кавалергардам и, посовещавшись с полковником Левенвольде, вместе с ним посетил пани Тышкевич, умоляя ее отправиться в Вильну.
– Там будет весело! – убеждали ее полковники. – Приезжает сам император. Дом мы вам снимем…
Пани капризничала… Наконец соизволила произнести:
– Пусть меня попросит поручик Рубанов… Ежели хорошо попросит – соглашусь! И откуда берутся такие вредные офицеры? – надула она губки.
Полковник Левенвольде хмыкнул. Полковник Арсеньев нахмурился.
– Это ваше последнее слово?
– Да, господа! Ежели он меня уговорит – уеду. Ежели нет – останусь.
Вызвав к себе Рубанова, Арсеньев сказал:
– Сынок! Спасай полк и всю гвардию… Эта женщина желает, чтобы ты лично уговорил ее ехать в Вильну! Нас с Левенвольде она не слушает. Ты единственный, кто устоял против ее чар и не поддался… Болеешь, что ли? – участливо поинтересовался Михаил Андреевич.
Максим рассмеялся.
– Никак нет, ваше превосходительство! Разрешите выполнять приказ? – повернулся кругом и со смехом вышел из штабной палатки.
«Неисповедимы пути твои, Господи, – размышлял он, направляясь вечером к замку полячки. – Я люблю женщину, которой безразличен; в меня влюбилась женщина, которая безразлична мне… Однако уговорить ее я обязан. Еще этот Волынский ходит за ней как привязанный, перед глазами мельтешит. Ежели она уедет, пореже его видеть стану… Мало ему Мари… – сжал кулаки Рубанов, – теперь по пани Тышкевич с ума сходит. Ну уж нет! Полячку ты не получишь…»
В замке, несмотря на теплый день, было прохладно и сыро. Максим заметил по стенам потеки и плесень. «Как она тут живет? Видимо, не богата… или транжира».
Служанка провела его в комнату пани. Здесь было тепло и уютно. Жарко пылал камин, отбрасывая по стенам изломанные тени. На столе стоял тяжелый медный шандал на пять свечей и вокруг стола – два мягких стула. Недалеко от камина, над которым висел большой серебряный крест, виднелась широкая постель под балдахином. Рядом с кроватью стояло трюмо с огромным зеркалом, перед которым кавалерийским каре выстроились флаконы с духами, баночки с мазями, коробочки с пудрой и черт знает что с черт знает чем. В комнате витал пряный аромат парфюмерии и молодой женщины.
Максим затрепетал ноздрями, втягивая душистый волнующий воздух.
– Добрый вечер, пан офицер, – услышал он нежный пленительный голос, и в комнату вошла, нет, скорее вплыла, так легки были ее шаги, прекраснейшая из земных женщин.
«Черт-дьявол! То-то вся гвардия рехнулась… и даже сердцеед Волынский ходит сам не свой, потому что не в силах ее покорить».
– Сударыня! – произнес Рубанов и, щелкнув каблуками, склонил голову. – Каюсь! Я был слепцом.
Лицо пани Тышкевич вспыхнуло от удовольствия, и, чтобы скрыть смущение, она подошла к камину и протянула руки к огню. «Господи! Отчего я покраснела? Сто лет со мной такого не случалось…»
– Позвольте представиться, мадемуазель? Поручик Максим Рубанов! – хотел добавить: «По вашему приказанию явился», но передумал.
Женщина, казалось, никак не отреагировала на его слова, и в комнате повисло молчание.
Только Максим подумал: «Чего это она?..», как полячка, словно спохватившись, отпрянула от огня, быстро повернулась и шагнула в его сторону.
– Пани Тышкевич. – И губы ее приоткрылись, будто в ожидании поцелуя.
Максим собрался сказать: «Очень приятно», но лишь молча поцеловал руку.
Когда он отпустил ее и выпрямился, рука безвольно повисла вдоль тела. Взглянув в лицо женщины, Рубанов увидел, что она закрыла глаза, почувствовал, что дыхание ее стало неровным и частым, а губы, казалось, тянулись к нему и что-то шептали. Будь на ее месте другая, он без раздумий прикоснулся бы к ним, но эта была слишком красива, а яркая красота отпугивает мужчин.
Он смутился и лишь произнес:
– Позвольте присесть? – Хотя рядом с ней стоять ему было приятно.
Она опять покраснела и, чуть заикаясь, промолвила:
– Да, да, конечно. Простите. – И снова отошла к камину, словно огонь мог защитить ее и спасти от самой себя.
«Да что это я? Как девчонка!» – Взяв с каминной полки колокольчик, нервно затрясла им и велела заглянувшей служанке нести шампанское. Через минуту та внесла поднос с вином, фруктами и конфетами в вазочках. Глупо хихикнув, составила все на стол, поклонилась Рубанову и выбежала за дверь.
«Эту кошечку мог бы запросто охмурить, – поглядел Максим вслед служанке. – Я гвардеец, я гвардеец! – повторил он два раза для бодрости. – К тому же боевой офицер… – И взял шампанское. – Мадам Клико? Великолепно! – Выстрелил в потолок пробкой и наполнил два хрустальных бокала, немного пролив на скатерть. Скотина неловкая! – обругал себя. – И боевой офицер…»
– Сударыня! Прошу к столу.
– Убирайтесь!..
Он вытаращил глаза и поставил бокал, думая, что ослышался.
– Я согласна! Уеду! А вы убирайтесь… Какая же я дура! – Нервно сжав пальцы, заметалась по комнате.
Лицо ее побледнело и сделалось прекрасным, как у богини.
Или у ведьмы! У молодой, любящей ведьмы.
– Уходите, я прошу вас, – спрятала лицо в ладони и зарыдала. – Это же все несерьезно. Я пошутила… вы вовсе мне не нужны, – всхлипывала она, – и никто не нужен… никто! Уходите!
– Это я вас обидел, сударыня? – подошел он к ней и, убрав со лба черную прядь, ласково-ласково, нежно-нежно поцеловал в мокрый от слез глаз, затем в другой.
– Я ненавижу вас… Ненавижу… – обхватила руками его шею и прижалась лицом к груди, продолжая вздрагивать от рыданий.
Максим осторожно гладил ее голову, плечи и напряженную спину.
– Как я вас ненавижу… – услышал он шепот, в интонации которого подразумевалось: «Как я вас люблю…»
Она крепче обхватила его, постепенно успокаиваясь и прижимаясь к нему всем телом. Он почувствовал тепло ее ног и упругую нежность груди. Исходящий от нее запах кружил голову и мутил сознание.
Он легко поднял ее на руки, удивляясь про себя, как мог столько времени не замечать эту женщину, не думать о ней и быть от нее вдалеке. Осторожно положив ее поперек кровати, он не стал тратить время на расстегивание многочисленных крючочков и пуговиц, а одним страстным движением разорвал платье, обнажив грудь.
На секунду он замер в восхищении, а затем медленно склонился и благоговейно, словно к иконе, приложился губами к божественной плоти. Она чуть слышно вздохнула и закрыла глаза, отдавая себя во власть его губ и рук.
Приподнявшись, он разорвал платье на две половины и увидел всю ее…Прекраснее в своей жизни он ничего не видел.
Она раскрыла глаза и, захлебываясь воздухом и дрожа телом, произнесла:
– Ненавижу!..– затем притянула к себе, впиваясь в его губы и сдергивая колет и рубаху.
Быстрыми движениями он помог ей, и губы его принялись исследовать ее тело. Сначала она отвечала как бы нехотя, но постепенно ласки ее становились все жарче и жарче, и вскоре она пылала, словно огонь передал ей силу своего пламени. Она не трепетала от страсти, она была самой страстью! И Максим сгорал в ее пламени… возрождался… и снова сгорал!
– Сегодня мы вместе уедем в Вильну, – сообщила лежащему в кровати Рубанову пани Тышкевич.
Сама она, накинув халат на голое тело, сидела перед зеркалом и колдовала над своим лицом, время от времени любуясь крепким телом мужчины.
– Кто меня отпустит, сударыня? – лениво потягивался, откинув одеяло, Максим.
Увидев его отражение в зеркале, пани Тышкевич привстала, уже собираясь броситься к нему, но благоразумие одержало верх – солнце давно в зените, а у нее есть кое-какие дела.
– Да сколько уже времени? – заволновался Максим, вспомнив, что он офицер и ему пора на службу.
– Не волнуйтесь, пан поручик! – засмеялась женщина, повернувшись к нему. – Главным условием моего отъезда станет ваш недельный отпуск… Кто-то же должен помочь мне обустроиться?..
Неожиданно для себя Максим почувствовал какое-то внутреннее волнение и недовольство. Резко поднявшись с постели и повернувшись к ней спиной, он стал одеваться.
Почувствовав его настроение, пани Тышкевич замолчала и, отложив пушистый заячий хвостик, которым пудрила нос, повернулась к Рубанову. Заметив, что ноги ее оголились, прикрыла их халатом. Затем, чуть подумав, сбросила халат и, не стесняясь, начала надевать приготовленное платье.
– Что бы вы обо мне ни думали, я люблю вас… Я… – польская графиня, первый раз в жизни говорю это… И говорю русскому! Да знаете ли вы, сударь, как я ненавижу русских?!. – застегивая пуговки и крючочки, произнесла она.
– Позвольте поинтересоваться – за что? – одевшись, спросил Рубанов.
– Да за все! – шагнула к нему пани Тышкевич, и глаза ее зажглись яростью. – За то, что издеваются над Польшей! За то, что чувствуют себя здесь хозяевами! За то, что богаты! Да просто за то, что русские…
– Ваши мужчины, пани, разучились сражаться, а умеют лишь болтать языком и кичиться своим родом и предками…
– Наши мужчины, – чуть не вцепилась ногтями в лицо Рубанову полячка, – ласковы, нежны, романтичны… и, в отличие от русских, – образованны и умны! – кричала она в полный голос, и Максим залюбовался графиней – так прекрасна была она в гневе.
– Конечно! Мы для вас северные варвары, а полячишки величают себя северными французами и ждут не дождутся Наполеона… Что же у ваших образованных панов не хватает ума и смелости завоевать свободу самим… своими саблями? – поддразнил он ее.
– Русский медве-е-дь! – бросилась она на него, колотя в грудь кулачками, и свалила на постель. – Я сейчас разорву тебя…
Максим чувствовал каждый дюйм ее яростного тела, навалившегося на него: ее груди, трущиеся об его грудь, ее ноги, скользящие по его ногам.
– Только не рвите платье!.. – вскрикнула она, но было поздно.
Мощное желание охватило поручика, придав силу рукам и вскружив голову.
– Сударыня! Вы были прекрасны и восхитительны! – после бурных объятий уже спокойно поцеловал ее в щеку.
– Русский медведь! – беззлобно произнесла она, целуя его в губы. – Скоро вы оставите меня без гардероба.
– В Вильне я куплю вам десять платьев, – пообещал он.
Пани Тышкевич засмеялась и чмокнула его на этот раз в нос.
«Не поймешь, чего больше любят женщины – мужчину или его подарки?» – задумчиво нахмурившись, стал прилаживать оторванную на рубашке пуговицу.
«Он согласен ехать со мной!..» – ликовала графиня.
Ради спасения полка Арсеньев согласился выделить поручику Рубанову недельный отпуск. К тому же пани Тышкевич категорически отказалась от любой материальной помощи, заявив, что в Вильне ей принадлежит небольшой двухэтажный домик, а в деньгах она не нуждается. «Лжет! – сделал для себя вывод Михаил Андреевич. – Нуждается… И еще как! – Но ему понравилась запоздалая гордость польской аристократки. – Не надо так было с ней! – корил себя полковник. – Унизили женщину…»
Весть, что пани Тышкевич уезжает, мигом облетела оба полка, и провожать ее вышли все офицеры гвардии.
С милой небрежностью и показным равнодушием прошла она сквозь строй отдающих честь офицеров и решила напоследок устроить спектакль. Садясь в карету, грациозно и томно выгибая спину, высоко подняла двумя пальчиками платье, выставив на обозрение туфельку и часть ноги в чулке. Дружный вздох восхищения зазвучал аплодисментами.
Максим, сидя верхом, усмехнулся, наблюдая за происходящим. Устроившись в коляске, графиня, склонив очаровательную головку набок, пленительно улыбнулась и послала воздушный поцелуй окружившим ее военным.
Это было выше их сил. Не зная, как высказать даме свое обожание, очумевшие от горя и ее вида гвардейцы выпрягли лошадей и, схватившись за оглобли, сами повезли коляску, постоянно меняясь и почитая за честь оказать ей эту услугу. Стоявшие в стороне Арсеньев и Левенвольде хмурились и думали об одном и том же:
«Что будет, ежели император узнает, что лучшие фамилии России впряглись вместо лошадей и везли польскую графиню. Скандал!..
Слава Богу она уезжает…» – одновременно перекрестились они и, глянув друг на друга, рассмеялись.
Когда наконец вместо офицеров, как и положено, впрягли лошадей и графиня осталась наедине с Рубановым, она устало откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, загораживаясь от солнца зонтиком.
Максим ехал верхом рядом с экипажем.
– Вы, пани, величайшая актриса!
– Актриса устраивает представление за деньги, а я за удовольствие… Мне нравится унижать всех этих высокомерных русских аристократов, гордящихся голубой кровью… К вашему сведению, поручик, любовница русского государя Мария Антоновна Нарышкина по рождению полячка. И, мстя за поруганную честь своей родины, она изменяет вашему императору направо и налево… Все говорят… Лишь он один не догадывается, – язвила графиня. – Садитесь в коляску, – пригласила Рубанова.
– Мерси! Мне и здесь неплохо, – обиделся за державу поручик.
Графине безумно нравилось поддразнивать его.
– Да, да, сударь. Вот и получается, что страной правит царь, им любовница, а ей – какой-нибудь пьяный красавец поручик. Так кто правит Россией?..
– Я сейчас порву на вас третье платье! – пригрозил Максим, рассмешив пани Тышкевич.
– Не-у-же-ли?!– по слогам произнесла она, игриво поднимая подол и оголяя ногу до самой подвязки.
Ехавший навстречу возок принудил ее одернуть платье.
Переведя дыхание, Максим зло поглядел на проехавший экипаж с важным флигель-адъютантом в аксельбантах.
– Сударыня, скоро ваш дом? – развеселил он графиню.
– Сегодня ночевать будем в гостинице… В разных номерах! – уточнила она – и снова рассмеялась, заметив, как сразу померкло лицо ее провожатого. «Он удивительно хорош, и мне с ним приятно и весело». – Ну коли вы не боитесь ночевать в доме с паутиной по углам, то тогда…
– Конечно не боюсь…– не дал ей досказать Рубанов, – хоть с летучими мышами!
«Определенно он душка», – передернула она плечами, представив летучих тварей.
Дом пани Тышкевич по ветхости не уступал замку, только был гораздо меньше. Здесь уже прибиралась служанка, хотя паутины по стенам было еще предостаточно и пахло мышами. Правда, не летучими, а ползучими. Растревоженные пауки наперегонки носились по потолку, переживая за порванные тенета. Благодарные мухи жужжали на окнах.
«Может, и правда лучше в гостиницу?» – оглядывал потрескавшиеся стены Рубанов.
– Госпожа! Вашу комнату я уже приготовила, – зашипела по-польски служанка.
– Комната прибрана! – перевела на французский пани Тышкевич.
– Мерси! – стряхнул раненого паучка с рукава Максим, подумав, что сырость и плесень нравятся ему больше паутины и пауков.
Отодвинув ногу, он пропустил браво ковыляющего инвалида под стол. Но в дальнейшем все оказалось не совсем уж и плохо… Съев жилистую польскую курицу, купленную служанкой в лавке, и пребольно из-за нее прикусив щеку, Максим умиротворенно лежал в более или менее чистой комнате на широкой тахте, застеленной простыней. На правой руке его покоилась самая красивая в мире головка, а в левую ягодицу упиралась самая острая в мире пружина.
«Курица, по-видимому, тоже была патриоткой», – зализывал он травму, задумчиво наблюдая за маневрами ползущего над головой грустного паука.
Поскользнувшись, тот безмолвно рухнул прямо Максиму на щеку. «И этот мстит за поруганную Польшу! – Щелчком сбил насекомое. – Страна может гордиться своими героями!» – Отодвинулся с пружины. Та рассерженно завизжала.
Проснувшись первым, Максим подбежал и выглянул в окно. Солнце, как и вчера, было в зените. Он хотел разбудить пани Тышкевич, но заметил, что женщина не спит, а, прищурив глаза, улыбается ему. Догадавшись, что хитрость разгадана, она села и сладко потянулась. Они с удовольствием оглядели друг друга.
Неожиданно он поймал себя на мысли, что рядом с пани Тышкевич не вспоминает о Мари. Ему даже стало немного грустно от этого.
– Что случилось, мой друг? – заметив, что он нахмурился, поинтересовалась графиня и, вплотную подойдя к нему, разгладила пальцами морщинку у глаз.
– Не надо дуться! Я люблю вас… – поцеловала его в губы.
Позавтракав, или, точнее, пообедав в трактире, поехали выбирать платье. Деньги у Рубанова еще оставались.
Русский император за недолгое время успел покорить Вильну. Кругом только и говорили, какой он обходительный, удивительно остроумный и веселый человек.
Как раз вечером этого дня давали грандиозный бал, где ожидалось присутствие самодержца.
– Пан поручик! Сегодня едем на бал, – заранее радовалась графиня, любовно поглаживая коробку с платьем. Платье купили одно, но роскошное.
– Положим, у вас есть в чем идти, а моя парадка осталась в деревне.
– Какой ужас! – ахнула пани Тышкевич, насмешив Максима, и лихорадочно стала думать, что можно предпринять, дабы не пропустить бал.
Коляска подъехала к дому и остановилась, а она, задумавшись, все не выходила, не обращая внимания на протянутую руку Рубанова. Неожиданно лицо ее озарилось улыбкой.
– Эврика! Что означает, придумала, – произнесла она специально для Максима и, чуть коснувшись его руки, легко спрыгнула на мостовую. – Все очень просто! Мы посылаем кучера с экипажем в полк, и он привозит форму.
– Гениально! – подтрунил над ней Максим. – Я давно уже решил проблему. Милейший! – обратился к кучеру. – Спросишь в полку Шалфеева – его там каждый мерин знает – и передашь записку… нет, лучше передашь на словах, что поручику Рубанову требуется парадная форма и начищенные ботфорты. За три часа, думаю, обернешься?
– Господи… Ну почему русские офицеры такие ругатели… и любители скабрезностей? Неужели нельзя оказать, что знает каждая собака? – возмутилась пани Тышкевич.
– Именно нельзя, сударыня, даже совершенно невозможно, – взяв под руку, повел ее в дом. – Во-первых, местным собакам он абсолютно незнаком, а полковые мерины прекрасно знают его еще по Петербургу.
Дворец губернатора чуть не перевернули – столько оказалось желающих попасть на бал. Скучающие гвардейцы и польская шляхта, хотя глядели друг на друга волками, однако, согласно этикету и правилам приличия, улыбались и обменивались любезностями.
Дам катастрофически не хватало, поэтому даже жена Вайцмана, приехавшая в Курляндию к родственникам, пользовалась большим успехом. Можно представить, какой фурор произвело во дворце появление пани Тышкевич… Денис Волынский так и вился возле нее, но она не обращала на него внимания.
Через час после начала празднества появился Александр. Из-за большой скученности Максим и графиня не успели вовремя отойти в сторону, чтобы уступить дорогу его императорскому величеству со свитой.
– Э-э-э!.. – остановившись перед ними, щелкал пальцами и улыбался государь. – Ах да Рубанов! У вас, сударь, удивительно красивая женщина, – произнес он по-французски, разглядывая полячку.
Стоявшему рядом Аракчееву комплимент его венценосного друга почему-то не понравился, и, вначале внимательно оглядев форму поручика, он искоса окинул взором свою даму – сухопарую высокую курляндку.
– Спасибо, ваше величество! – дуэтом произнесли Максим и графиня, с удивлением воззрясь друг на друга, а затем на императора.
Столь слаженный ответ неожиданно рассмешил Александра, следом засмеялись Рубанов и пани Тышкевич, а за ними, естественно, все окружение государя.
– Ваше величество! – смело обратилась к царю графиня, делая книксен и приподнимая двумя пальчиками платье, конечно не так высоко, как два дня назад перед гвардейцами. – Ваш комплимент предназначается мне или поручику?
– Обоим, сударыня, – окончательно развеселился император. – Надеюсь, ваш кавалер не станет возражать, коли я приглашу вас на полонез? – произнес он и улыбнулся даме.
Разумеется, Рубанов не возражал.
Пани Тышкевич на этом балу пользовалась необычайном успехом. После императора ее приглашали генералы и даже один прусский принц, надеявшийся разбогатеть у русского престола.
«Ну вот!.. Все как всегда. – стоя у стены и сложив руки на груди, рассуждал Максим. – И эту увели…»
Проходивший мимо Волынский злорадно улыбнулся, нагло глядя ему в глаза. С кавалергардом, однако, пани Тышкевич не танцевала ни разу.
– Сударыня! Вы ведете себя удивительно вызывающе! – устроил Рубанов ей дома разнос. – Танцуете со всеми, кроме меня…
– Бедненький! – чмокнула она его в щеку. – Со всеми желающими танцевать я была бы не в силах.
– Перестаньте паясничать, сударыня, потому как говорю с вами весьма серьезно! – бушевал Рубанов.
«Боже! Как я люблю его…» – Отчего-то ей стало тоскливо и страшно… Она почувствовала, что счастье будет недолгим… Она даже была уверена в этом. Ей сделалось грустно, и тонкая морщинка легла поперек бровей.
– Что с вами, сударыня? – заметил перемену в ее настроении Максим. – Устали от тан… – Она закрыла его рот поцелуем, думая: «Хоть миг, да мой».
Вильна оглохла от музыки! Балы сменялись балами. Словно предчувствуя ожидающие их испытания, трудности и даже смерть, люди стремились как можно больше получить от жизни. Гвардейцы упивались музыкой, вином и любовью. Местные дамы сходили с ума по Волынскому, а он – по пани Тышкевич. Где бы ни появлялись Рубанов с графиней, Волынский был уже там. Независимо глядя на Рубанова, он приглашал его даму на танец, но всегда получал отказ. Как отталкиваются друг от друга однополюсные стороны магнита – так красавица полячка отталкивала красавца гвардейца.
Делая вид, что ничего не случилось, бледный от злости и от этого еще более красивый, Волынский приглашал первую попавшуюся даму, абсолютно не обращая внимания на эмоции ее кавалера.
Офицеры хмурились, когда высокий стройный кавалергард в своем белоснежном колете и лосинах, гремя шпорами, входил в танцевальную залу. Дамы трепетали и томились, словно степные кобылицы рядом с породистым жеребцом. Глаза и мысли всех без исключения девиц и женщин были обращены на него. Забывая о своих кавалерах, они досадливо обмахивались веерами, завидуя и ревнуя к счастливой сопернице, кружащейся с ним в танце.
Уже не один Рубанов думал вызвать его на дуэль.
Все расставил по своим местам князь Оболенский. Кавалергарда он спас от неминуемой смерти, а офицеров – от холостой жизни.
– Кого я вижу! Друг Волынский! – похлопал его по плечу князь. – А не выпить ли нам пуншику?
Влюбленный поручик согласился, забыв: то, что для Оболенского – разминка, для него – смертельная доза. Любовь дам тут же остыла, и они отворачивались от недавно желанного кавалера.
В довершение всего Волынский чуть не опрокинул старого пехотного полковника, отдавив ему любимую, заслуженную в суворовских походах мозоль.
– Вы наступили мне на ногу, – топорщил усы и пыхтел полковник.
Вместо того чтобы извиниться и уйти, Волынский вступил в дискуссию и поинтересовался, глупо при этом ухмыляясь:
– Кому?
Ветеран подпрыгнул, словно его ужалила оса, и, брызгая слюной, заверещал:
– Мне!.. Мне!.. Полковнику вы наступили на ногу…
– Мы все здесь полковники! – заявил поручик, с трудом сосредотачивая взгляд на своем оппоненте.
После такого заявления старый офицер, раскрывая словно пойманная рыба рот, пробежал толстыми, короткими пальцами по карманам и ухватился за плечо.
– Ружье ищет! – объяснил Оболенский заинтригованным конногвардейцам, столпившимся вокруг спорящих.
Так ничего и не сумев ответить, полковник куда-то убежал.
Через некоторое время двое седоусых солдат под руки вывели его противника из зала, и несколько последующих балов он провел на гауптвахте. Кажется, даже кавалергарды остались довольны и не особо переживали о своем товарище.
30
Как всегда, русские и их вожди были наивны и верили в заключенные с врагом договоры о мире. Верили даже тогда, когда полчища Наполеона, не таясь, концентрировались у Немана. Верили даже тогда, когда он, красуясь на коне перед войсками, изрек:
– Россия увлекается роком! Она не избежит судьбы своей… Вперед! Перейдем через Неман, внесем оружие в пределы России!
И через два дня французская армия перешла Неман, к немалому своему удивлению, не получив отпора и не встретив на своем пути каре русских войск.
Когда, танцуя на балу, Александр узнал о переправе неприятеля, он не запаниковал, оставался спокоен и даже не остановил бал, а лишь произнес, всматриваясь близорукими глазами в сторону реки и где-то там собирающейся угрозы:
– Я не положу оружия до тех пор, пока останется хоть один неприятель в моем государстве!
Чуть позже он подписал приказ по армиям, заканчивающийся следующими словами: «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и войскам нашим об их долге и храбрости.
В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество и свободу.
Я с вами. На зачинающего Бог».
Ни на одну нацию так вдохновляюще не действует вовремя сказанное слово, как на русскую.
Между тем переправа продолжалась… И хотя поливший как из ведра дождь испортил дороги и перешедшим через Неман войскам трудно было взбираться в гору – особенно артиллерии и обозам, 12 июня они заняли Ковно.
Разъезды лейб-гвардии Казачьего полка первыми заметили врага и доложили по команде, но им было велено отступать, на стрельбу не отвечать и не поддаваться на провокации – с французами у нас договор…
У Наполеона даже в голове не укладывалось, что при явном нападении русские еще могут верить в царственные закорючки, поставленные на бумаге в Тильзите. Тем не менее, это было так.
Проскакав три версты за взятый без боя город, он не нашел и следа русской армии. «Здесь кроется какая-то азиатская хитрость!» – решил император французов. Гигантскую русскую простоту и доверчивость прожженные лжецы, интриганы и завоеватели всегда называли «азиатской хитростью» и ломали над ней голову.
В дальнейшем, стараясь разгадать, где ему подложили свинью, Наполеон три недели сидел в Вильне.
Три недели!!!
И эти золотые деньки во многом решили исход войны. Бонапарт не сумел справиться с Россией до зимы!.. Вот она. Свинина по-татарски!..
К тому же, жалея Вильну, Александр приказал отдать город без боя, хотя на подступах к нему французы убедились в храбрости русских и их умении воевать.
С таким же подъемом, с каким недавно встречали императора Александра, горожане встретили императора Бонапарта.
Городской голова выбрал самый здоровенный ключ – им он запирал свою «целомудренную» молодую супругу – и с большим апломбом, в окружении именитых сограждан, преподнес его Наполеону как ключ от города Вильны.
Взвесив в руке ключ и прикинув, какой к нему нужен замок, Наполеон весьма благосклонно отнесся к городской депутации, но въехал в город лишь после того, как балконы обвешали коврами, а окна домов убрали цветами и венками. Поляки приветствовали императора восторженными воплями и приготовили ему дворец, из которого три дня назад выехал Александр.
Когда, русский государь услышал об этом от министра полиции генерала Балашова, посланного им с письмом к Наполеону, то весьма огорчился.
– Да не обращайте внимания на этих поляков, ваше величество. Когда мы возьмем город обратно, они восторженно станут лизать ваши сапоги, тут же забыв про французские.
– Вечные наши враги! – вставил Аракчеев, недовольный, что остался в тени. – И сколько бы они не пыжились, Россия всегда будет держать верх!
Пропустив патриотический выпад своего любимца мимо ушей, государь спросил у Балашова:
– Значит, Наполеон наотрез отказался вывести свои войска за Неман, велев передать на словах, что у него в три раза больше солдат, причем дал почувствовать, что Польша и Литва за него?
Ну что ж! Больше переговоров не будет… Значит, война!
В основе гениальности и везения императора французов лежала гигантская работоспособность, аналитический склад ума и талант быстро принять решение, которое становилось единственно верным на данный момент. А некоторая доля артистизма и широкое афиширование своих успехов и делали его гениальным в глазах окружающих.
К походу в Россию он начал готовиться сразу после подписания Тильзитского договора в 1807 году. За год до открытия боевых действий Наполеон писал маршалу Даву: «Никогда еще до сих пор не делал я столь обширные приготовления».
Он внимательно вчитывался в документы, начиная с эпохи Ивана Грозного. Лучше любого профессора Московского университета разбирался в войнах, которые вел Петр I. Досконально изучил топографию будущего театра боевых действий. Знал русскую артиллерию не хуже фельдцейхмейстера Аракчеева. Знал, что в русской кавалерии 6 гвардейских полков, 8 кирасирских, 36 драгунских, 11 гусарских и 5 уланских… то есть около 70 тысяч человек и более 100 тысяч казаков.
Помнил, что в русской армии еще сохранялись павловские нововведения, согласно которым армия делилась на четырнадцать инспекций, а высшей тактической единицей был полк.
Характеристики русских генералов знал так же хорошо, как и своих. Учел даже интриги иноземцев в свите Александра и в русской армии. Уверен был, что окружающие русского царя генералы: Армфельд, Фуль, Вольцоген, Бенигсен – лишь затруднят действия армии.
А старательные и честные иностранные генералы, такие как Барклай де Толли, не популярны у солдат.
Да и как быть популярным Барклаю, если он не умел говорить с солдатом и окружил себя адъютантами с фамилиями Рейд, Клингер, Келлер, Бок. Хотя бы для приличия взял одного русского…
Наполеон знал даже о том, что острый на язык генерал Ермолов, когда царь спросил, какую награду он желает, ответил:
– Ваше величество. Назначьте меня немцем…
Казалось, учтено было буквально все. И это сказывалось в первые дни войны. Разобщенные армии отступали.
План Наполеона был прост как картошка, – разбить русские армии поодиночке, тем более что перевес в силах был у него.
Не учел он одного – что Россия нелогичная страна!
Петербург пока жил обычной жизнью.
Как и прежде по улицам сновали кареты и коляски. По Неве белые ночи напролет плавали богато устланные коврами и убранные цветами и бумажными фонариками огромные лодки с духовыми оркестрами из крепостных или хорами. Между ними шныряли простые челноки с полупьяными мастеровыми, приказчиками, купцами или мелкими чиновниками.
Здесь сами гребли, пели, пили, целовались и бренчали на балалайках. Единственно, чего не хватало на бульварах и проспектах столицы, так это стройных гвардейцев в блестящих мундирах. Но именно от этого дамам было грустно.
Мари Ромашова одна скучала в большом петербургском доме. Отец уехал к дивизии, оставив дочь на попечение немки-гувернантки и домоправительницы. Все знакомые давно разъехались по деревням.
Было скучно и одиноко…
Сидя за столом перед чистым листом бумаги, она мучительно выискивала в своей душе нежные слова, которые как можно полнее выразили бы ее чувство к Денису Волынскому.
Макнув гусиное перо в чернильницу, Мари написала:
«Милый друг! Мне так скучно без Вас… – И задумалась, щекоча губы пушистым кончиком перышка… – Можете себе представить – весь Петербург в отъезде».
– Кар-р-р-раул! – раздались под окном крики подгулявшей черни. – Режут! Убива-а-ют! Помоги-и-тя-а!
«Господи! Скорее бы уж его…» – В раздражении подошла к окну и задернула гардины, продолжив затем писать письмо.
«…Надеюсь, вы не скучаете? Буду Вам очень признательна, коли напишите о себе. Как служите и чем занимаетесь? Не встречаете ли общих знакомых по Петербургу?..» – Отвлеклась на шум в этот раз рядом с дверью. «Дадут мне сегодня покою или нет? – прислушалась она. – Гувернантка с домоправительницей и прислугой болтают, другого места найти не могли», – бросила на стол перо, посадив кляксу на письмо, и услышала:
– А вы знаете, сударыня, что чулки цвета трубочиста уже считаются вульгарными?.. Мне одна белошвейка сказала, а она слышала от великосветской барышни, что в моде теперь чулочки телесного цвета…
– Ага! Цвета отмывшегося трубочиста! – подкрался к ним лакей с пушистыми бакенбардами.
– Накурился махры… Как от козлищи несет! – забурчала сорокалетняя пышная домоправительница.
Пригладив бакенбарды, лакей тут же ухватил ее за талию.
– Значит, чулочки цвета свалившегося в нечистоты золотаря в моде?.. Посмотрим!.. – задирал он ей юбку.
«Совсем без папеньки обнаглели!» – распахнула дверь Ромашова и увидела, что гувернантка с подвизгиванием лупит кулачком лакея по спине, а тот увлеченно возится с домоправительницей.
– Бессовестные! Как вам не стыдно!..
– На обед «счи», «каклеты» и компот!– оставив в покое тетку, доложил лакей.
– Вон отсюда! – крикнула Мари и, хлопнув дверью, ничком бросилась на диван. «Ну почему, почему мне так плохо?»
1-я Западная армия отступала к городишке Дриссы.
Отступала, как волк, – огрызаясь и кусая французов. Где находилась 2-я армия, никто не знал.
– У нас всегда так! Готовимся, готовимся к большой войне, а как начнется – наступает неразбериха, – тяжело вздыхал командир конногвардейцев.
Сидевшие вокруг пропыленные офицеры хмурились и молчали.
– Но ничего, господа… вспомните шведов и поляков. Лжедмитрий даже Москву занял… и чем все кончилось? А в эту кампанию Наполеон навряд ли до Москвы дойдет. Ноги коротки! – Но офицеры не рассмеялись шутке полковника. – Не будем унывать, господа. Война только началась, а все большие войны заканчиваются у русских взятием столицы потенциального противника, – старался он подбодрить уставших командиров. – Уже входили в Берлин. Бог даст – будем и в Париже! А сейчас умойтесь, господа, и отдыхайте, хотя пыль – это пудра героев, как говорят поэты.
На этот раз офицеры улыбнулись.
«Лагерь, конечно, ни к черту! – оставшись один, рассуждал Арсеньев. – Никаких стратегических направлений не защищает. Отсюда мы даже не сумеем прикрыть наши две столицы… Бонапарт может, окружив нас небольшими силами, с основной армией двинуться куда угодно. Захочет – на Москву. Захочет – на Петербург.
А мы будем сидеть в этом мешке, отрезанные от хлебных южных губерний, и питаться одними огурцами, которые насажали местные жители…»
В первые несколько дней так и получилось.
По причине того, что полевые кухни где-то затерялись, солдаты объелись огурцами, росшими на огородах вокруг городка в огромных количествах. Сидя после на корточках, прозвали поганый городишко Дриссеем.
– После нас в будущем году этой зеленой отравы и вовсе завались будет, – кряхтели они.
Во взводе Григория Оболенского появился свой Огурец и в придачу к нему – Укроп. Именно с такими фамилиями перевели к конногвардейцам в Вильне двух малороссов из Харьковского драгунского полка.
Харьковский драгунский был сформирован в 1801 году из одноименного кирасирского полка, а Укроп с Огурцом начали службу в 1800 году, еще кирасирами.
Лейб-гвардии Конный полк комплектовался в основном не из новобранцев, а из опытных, отличившихся по службе кавалеристов. Так в него и попали два малоросса, с радостью сменивших зеленые драгунские мундиры на белые колеты.
«И форма здесь исправнее, и жалованье выше, чем в войсках», – учли все плюсы украинские друзья. Не учли только одного – что попадут во взвод князя Оболенского.
– Салат! – орал он, проснувшись, и бедные хохлы со всех ног неслись к нему с рюмкой водки и соленым огурчиком.
Из-за этого просыпаться им приходилось раньше других. Денщик поручика Егор Кузьмин в это время мирно спал. Чистить ботфорты и мундир взводного он тоже доверил малороссам.
Умывшись и поев огурцов с хлебом, полковник Арсеньев велел седлать жеребца и отправился к своему другу, командиру стоявшей неподалеку пехотной бригады.
– Как дела, Василий Михайлович?
– Да какие здесь дела? – взмахивал толстыми ручками генерал. – Недавно узнал в штабе, что князь Багратион со своей армией в Несвиже… Представляете, Михаил Андреевич? Разрыв между армиями достиг трехсот верст… и это с первоначальных ста. А посмотрите на сам лагерь! – понизил он голос. – Только великому военному авторитету барону Карлу фон Фулю могло прийти в голову затащить сюда армию.
– Неужели государь не видит? – горячо поддержал друга Арсеньев. – Пока ехал к вам, еще раз внимательно все оглядел: во-первых, конь чуть не свернул шею – весь лагерь в оврагах; во-вторых, спуски к четырем мостам через Двину до того круты, что даже повозки солдаты спускают на руках, не говоря уж об орудиях. А самое главное, вплотную к левому флангу подступает лес! Может, неприятель сейчас там? Может, ничего не видим… Поехали к великому князю Константину? – уже спокойным голосом произнес Арсеньев. – Пусть он все объяснит государю, пока этот великий стратег фон Фуль еще чего-нибудь не придумал…
– Я плохо знаю Константина, – отказался Василий Михайлович, – а вот с Барклаем можно переговорить…
Через два дня после этого разговора Александр распорядился уходить из лагеря на соединение с Багратионом и приказом по армии вместо фон Фуля назначил начальником штаба генерал-майора Ермолова.
Император также послал распоряжение в Петербург к председателю государственного совета Николаю Салтыкову вывозить в глубь страны святыни Александро-Невской лавры, Сенат, Государственный совет, Синод, все архивы и департаменты, а также учебные заведения и монетный двор. После Аустерлица он понимал, что в военном плане Наполеон стоит гораздо выше его. Значит, дело государя – вдохновлять на борьбу армию и народ. Александр знал, что в ставке шушукаются: раз император сам не командует армиями, то почему не ставит единого главнокомандующего?
Но впрямую сказать об этом приближенные не решались.
Статс-секретарь адмирал Шишков еще в Вильне составил письмо, в котором убеждал императора покинуть армию, но вручить его не посмел. В письме говорилось: «…Нет государю славы, ни государству пользы, чтобы глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы и части государственного управления другим».
Осмотрительный Шишков предложил подписать послание Аракчееву и Балашову.
– Мне дороже всего жизнь государя, – упрямился и не ставил подпись Аракчеев. – Скажите, будет ли в опасности государь, ежели и дальше останется при армии?
– Ну конечно же, будет! – воскликнул Шишков. – Вдруг Наполеон окружит лагерь? Что станется с государем?..
Взяв письмо, Аракчеев сам пошел с ним к Александру.
Пришел он очень вовремя. Его венценосный друг был умным человеком и прекрасно понимал положение вещей: коли свита просит уехать и поднять на борьбу с врагом всю Россию, он сделает это, хотя и не хочется покидать армию. Но государство превыше всего!.. «Даже царь Петр покинул армию перед Нарвским сражением и потом разгромил Карла ХII», – вспоминал император.
Из ставки у Полоцка с помощью статс-секретаря Шишкова он составил воззвание не к Петербургу, а к «первопрестольной столице нашей Москве».
Получив распоряжение государя вывозить все самое ценное, Петербург заволновался. Его жители с тревогой посматривали на запад, прикидывая, сумеет ли защитить город единственный корпус под командой генерала Витгенштейна.
Сопровождаемая лакеем, Мари Ромашова гуляла по городу, с тревогой наблюдая, как в учреждениях упаковывают горы папок, а сторожа, заколотив ящики со связками дел, волокут их на подводы. Остановившись, в раскрытых окнах она наблюдала переставших сутулиться и громко говоривших чиновников, разбирающих и сортирующих какие-то бумаги, вытащенные из распахнутых шкафов. Кипы папок с делами громоздились на столах и даже на пыльном паркетном полу по углам комнаты.
«Господи! Что же с нами будет?» – думала она, глядя на баржи, приткнувшиеся у пристани напротив здания Сената, в которые грузили архивы и имущество. Затем она подходила к толпе, облепившей приклеенный к столбу листок с царским воззванием, и в который раз слушала, как какой-нибудь мастеровой или приказчик по слогам громко читал:
– Неприятель вошел в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество…
При этих словах многие женщины принимались креститься и плакать, а Мари думала, как там ее мужчины? Живы ли? Исподтишка мелко крестилась, обзывая себя дурой. «Ну конечно, живы! Они ведь слишком молоды и красивы, чтобы умереть!»
Рубанова, к своему удивлению, Ромашова перестала отделять от графа Волынского. «Не может того быть, чтобы я любила двоих! Так не бывает… однако не переставала думать и о Максиме. – Надо еще одно письмо Денису Петровичу написать… Хотя отвечать ему и некогда», – оправдывала она графа, медленно проходя по Невскому и вновь останавливаясь у группы людей послушать воззвание:
…Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на голову его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!..
– Все как один пойдем! – шумели мужики. – Не дадим порушить могилы наших отцов!.. Умрем за Родину, за единственную нашу Россию…
Кроме воззвания, император выпустил манифест об организации народного ополчения: «Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина» – написано было в нем.
Руководствуясь воззванием и манифестом, синод отправил по церквам молитву о спасении России от вражеского нашествия, и священники зачитывали ее народу, вдохновляя на битву с врагом:
«Се враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны. Хотят погубити достояние твое, возлюбленную тебе Россию. Владыко Господи! Услыши нас, молящихся Тебе», – гремели с амвонов басы священников, пробуждая православный народ и вдохновляя граждан своих.
И бывало, прямо из церкви шли люди записываться в ополчение, чтобы постоять за Родину и окропить кровушкой землю Русскую.
В мае 1812 года турки ратифицировали договор, и Кутузов, попрощавшись с армией, отправился в Петербург.
Однако долго без дела генерал не оставался – в июле он стал не только начальником ополчения, но и был назначен командующим Нарвским корпусом, всеми сухопутными и морскими силами в Петербурге, Кронштадте и Финляндии. За два дня до этого Кутузова возвели за мир с Оттоманской Портой в княжеское достоинство с титулом «светлости».
Почувствовав себя вновь нужным государству человеком, Михаил Илларионович приободрился и, казалось, помолодел, энергично принявшись за дела.
Кутузов сам сидел на приеме ратников, ездил смотреть, как на Измайловском плацу учили ополченцев. Прятал улыбку, когда слышал, как кадровые унтера поучали ополченцев-петербуржцев:
– Нагулялись вчера с тросточкой по прешпекту, так нонче с ружьем погуляйте!
После Петербурга и Москвы ополчения создавались по всей России. Война всколыхнула всю страну.
Русские армии по-прежнему отступали.
1-я армия от Полоцка, где государь написал воззвание, двинулась к Витебску. Положение 2-й армии оказалось более тяжелым.
Даву раньше Багратиона занял Минск, и 2-й армии пришлось круто повернуть на юг, к Бобруйску.
Как ни скудны были сведения, получаемые о 2-й армии, однако до Оболенского и других офицеров и солдат дошли рассказы о героическом сражении 7-го корпуса генерала Раевского с французами у деревни Салтановки.
Григорий Оболенский, сидя в кругу офицеров, с гордостью слушал, как на плотину у Салтановки Раевский вывел двоих сыновей, чтоб ободрить своих солдат и повести их в атаку на врага. Шестнадцатилетний Александр и одиннадцатилетний Николай вместе со своим отцом возглавили колону русских войск, которые опрокинули французов и обратили их в бегство.
Дончаки атамана Платова являлись своеобразной завесой русской армии. Это были ее глаза и уши. Находясь в постоянном движении, они нападали на вражеские отряды и обозы. Неожиданно возникали, атаковали и так же неожиданно исчезали.
Так, 27 июня под местечком Мир завязался бой между казаками и польскими уланами генерала Рожнецкого. Казаки применили свой излюбленный прием «вентарь» – заманивание противника с последующим его окружением.
«Поляки были смяты и опрокинуты. К совершеннейшему поражению их способствовал также неожиданный случай: появление генерал-майора Кутейникова. Возвращаясь с бригадой из дальней командировки, он пришел во время дела на поле сражения в тыл неприятелю и тотчас пустился в атаку.
Рассеянные остатки полков Рожнецкого спаслись бегством, оставив в наших руках много пленных».
Слушая подобные рассказы участников сражения, Оболенский скрипел зубами от желания самому вступить в дело с неприятелем.
Особенно отличался лейб-гвардии Казачий полк под командой генерал-майора Орлова-Денисова.
В 1796 году на основе Донской команды императорского конвоя был создан лейб-гвардии Гусарский Казачий полк, разделенный в 1798 году на лейб-гвардии Гусарский и Казачий полки.
Гвардейские казаки первыми встретили французов у Немана под Ковно и последними покинули Вильну.
Ранним летним утром под Витебском казак-малоросс разбудил князя Григория, проскакав рядом с его палаткой. Выбравшись на воздух и почесав грудь под белой рубахой, князь оценил состояние погоды, отчего его пухлые, резко очерченные губы растянулись в улыбке, а крылья его носа с небольшой горбинкой довольно затрепетали, внюхиваясь в запахи просыпавшегося лагеря.
Князь залюбовался восходящим солнцем и, откашлявшись, а затем зевнув, он во все горло гаркнул:
– Окро-о-шка!
Однако на его зов из палатки малороссов никто не выбежал.
«Куда, интересно, подевались эти отпрыски гетмана Мазепы? Наверное, где-нибудь в закутке сало жрут».
Не успел додумать, как из-за палаток выскочили хохлы. Огурец нес огурцы, а Укроп бежал налегке.
«Где он их всегда достает?»
– Здоровеньки булы! – поприветствовал их Оболенский. – Господин Сельдерей, – обратился к Укропу, – а как там поживает утренняя рюмка?
– Нэма мабудь! Щас спроворю.
– Ежели к французу в плен попадете, они вмиг фамилии вам изменят… Ты будешь Артишок, – указал на Огурца, – а ты – Спаржа, – заржал князь. – А шо? Звучит! Иван Спаржа, – совсем развеселился поручик.
Укроп сморщился, представив, как бы к этому отнеслось многочисленное семейство Укропов.
– Вон казачки дают французу прикурить! – перешел на нравоучительный тон Оболенский. – А вы всю ночь напролет сало с огурцами жрете и моей водочкой запиваете…
Что – «никак нет»? Так я и поверил. Живо тащите ботфорты и колет, бисовы дети, – снова улыбнулся князь.
К обеду из ставки главного командования пришел приказ – отступать.
– Да сколько можно?! – возмущались офицеры. Старички даже больше молодежи: в них еще жил дух Суворова. Роптали даже солдаты.
Отступления не понимал никто. За месяц оставили территорию, равную Пруссии.
– Предательство!!! – чуть не открыто говорили в армии.
И подозрение, конечно, падало на командующего.
При всей своей обязательности, честности, порядочности и смелости военный министр, коим являлся командующий 1-й Западной армией Барклай де Толли, абсолютно не имел авторитета в среде военных. Более того – его ненавидели и презирали. Смеялись над педантичностью, сухостью и холодностью в обращении. Он не являлся полководцем, который, как Суворов, мог зажечь сердца и повести за собой в невероятную по опасности атаку – хоть на штурм чистилища. Уходившая все дальше на восток армия изнервничалась и нуждалась в простом и ясном объяснении событий.
Но Барклай не мог, не умел да и не хотел снизойти до этого.
Наполеон спешил и настиг 1-ю армию у Витебска. Радости его не было предела – наконец- то будет генеральное сражение…
Но утром русская армия исчезла. Отошла так, что не оставила после себя никаких следов. «Мой Бог! Как я устал гоняться за ними… Надо дать их армиям соединиться! У меня хватит сил и умения разбить и объединенные русские силы, – рассуждал он, войдя в Витебск. – Я становлюсь кумиром русских провиантских чиновников. Лишь их радует отступление. Как мне доносят, они показывают в отчетности, что уничтожены тысячи пудов продовольствия, сваливают все на нас, продают и кладут барыши в карман. Правильно говорит русская пословица – кому война, кому мать родна! Торгаши эксплуатируют меня.
Однако многие русские купцы, на самом деле, сжигают магазины и склады с мукой, крупой и фуражом или все вывозят. Это первая война, когда мои солдаты начинают голодать», – заложив руки за спину, Бонапарт ходил в полумраке небольшой комнаты генерал-губернаторского дворца.
Наполеон жил в Витебске уже около двух недель.
«Главный интендант Дюма пишет в записке, что за время наступления от дезертирства и болезней армия сократилась на треть, что из двадцати двух тысяч лошадей пало восемь, что войска снабжаются скверно, продовольствия в достатке хватает лишь гвардии, что вокруг Витебска все съедено и на фуражировку приходится посылать на десять, а то и пятнадцать лье».
Наполеон придерживался мнения, что война должна кормить войну! Но Россия не Европа. Здесь складывалось все не так, как он привык. Здесь шли по опустошенным, оставленным жителями городам и селам.
Что за нация?
Начиная русскую кампанию, он был уверен, что продовольствие достанет на месте, как и везде в Европе.
«Варварская страна! – злился Наполеон, поджидая стада быков, застрявшие где-то в литовских песках. – Голодный солдат – это не солдат!».
Перестав ходить, он прислушался – по плацу процокал копытами конвой, и все затихло. Он любил ночную тишину, именно в это время в голову приходили наиболее верные решения. Вздохнув, он подошел к столу с картой, освещаемой с боков двумя канделябрами со свечами, и взгляд его задержался на городе Смоленске.
«Русские здесь! Если напасть с фронта, они снова отступят. Надо заставить их принять бой».
– Ужинать! – велел вошедшему ординарцу.
Ел он отдельно за маленьким столиком. Рядом – за большим столом – сидели генералы.
Хмуро оглядывал смеющихся и пьющих вино генералов. Неожиданно Наполеон резко поднялся и, вытерев салфеткой губы, произнес:
– В Смоленск!.. Пора идти в Смоленск, – про себя усмехнулся, глядя, как вскочили, чуть не перевернув стол, военачальники.
«Мюрат облил вином свой павлиний камзол! Так ему и надо…»
– Мой план кампании – сражение, моя политика – успех! – перешел почти на крик император. – А здесь мы сидим и бездарно проигрываем войну…
На следующий день лавина французской армии покатилась к Смоленску. Наполеон, хоть и не любил ездить верхом, все же вскарабкался на белого жеребца Евфрата и пропускал мимо себя по обсаженной березами дороге войска.
В авангард он послал Мюрата. Авангард наткнулся на дивизию Неверовского у города Красного.
«Слава Создателю! – обрадовался Мюрат. – Я первый доложу императору о победе».
Однако русскому генералу на целые сутки удалось задержать наступление противника, что дало возможность русским армиям соединиться в Смоленске.
Поначалу для французов все складывалось удачно. 15 тысяч мюратовской кавалерии обошли Неверовского и атаковали его левый фланг. Харьковский драгунский полк бросился вперед, но, как потом злословил Оболенский, – без Укропа и Огурца был опрокинут и преследуем двенадцать верст.
В результате артиллерийская батарея осталась без прикрытия. Неприятель на нее напал и захватил пять орудий. Остальные семь – ушли по Смоленской дороге. Таким образом Неверовский с самого начала остался без кавалерии и артиллерии.
Сомкнув пехоту в каре, он отходил, отбиваясь ружейным огнем и удачно заслоняясь от конницы Мюрата естественными прикрытиями – рвами по краям дороги и деревьями.
Особенно отличились солдаты Полтавского полка. Они отбивали одну атаку за другой, усыпав местность вокруг себя французскими и польскими гусарами, уланами, драгунами и конноегерями – какие только полки не бросал на них Мюрат, в бешенстве крича: «Вперед!» и размахивая саблей, на которой было выгравировано «Честь и дамы».
«Мою честь отнимают эти упорные русские… А витебские еврейки не дамы!»
– Сметем этих скифов! – заорал Мюрат. – Впереди Смоленск и русские женщины…
Снова и снова посылал он в бой кавалерию и только ночью прекратил атаки, так и не опрокинув солдат Неверовского.
Однако французская армия все же подошла к стенам древнего Смоленска.
31
Конец июля для Петербурга сложился удачно.
Прогремели два салюта. Первый – по поводу возвращения в столицу императора Александра. Второй – по поводу победы генерала Витгенштейна над войсками маршала Удино.
В результате французы отошли к Полоцку.
Народ бурно обсуждал победу над врагом.
– Н-да-а! – говорил один мастеровой.
– Не всякая блоха плоха! – поддерживал его другой.
Кабаки заполнились как в доброе старое время.
Следом снова радостная весть – русские армии соединились в Смоленске.
Петербург повеселел… К тому же установилась теплая погода. По Неве плыли баржи и лодки с приказчиками, везущими глиняную или деревянную посуду для простолюдинов и фарфоровую или серебряную – для господ. Чипига, как и остальные будочники, красовался в летних белых штанах, а на Сенатской площади, как и всегда, высился памятник Петру Великому.
Его собрались было вывезти из Петербурга, чтоб не достался французу, но почт-директору Булгакову приснился вещий сон – будто, когда он проходил мимо памятника, бронзовый конь вдруг соскочил с постамента и понес всадника на Каменный остров, где жил император.
Увидев Александра, Петр сказал: «Не бойся за Петербург – я охраняю его. Доколе я здесь, Петербург вне опасности!».
Свой сон почт-директор поведал сенатору Голицыну, отвечавшему за отправку памятника, и тот решил не вывозить его.
Мари Ромашова теперь каждый день ходила смотреть, не увезли ли памятник, и на сердце становилось как-то легче, когда видела, что бронзовые конь и всадник на месте.
С утра и до позднего вечера она вместе с другими девицами и дамами, спасающимися в Петербурге от неприятеля, щипала корпию и обсуждала военную обстановку и действия военачальников.
Мари неплохо читала карту – научилась этому от отца – и поэтому слыла среди псковских и новгородских помещиц авторитетом.
От Дениса Волынского писем по-прежнему не было.
«Раз он так, то и я ему писать больше не стану», – злилась она. Но тут же ее начинала мучить совесть. – А может, он ранен? – с ужасом думала Мари. – Не сильно, конечно, в руку там или даже в палец… И это в самом конце войны!
Ведь, когда мы щипали корпию, баварец Шмидт, а на мой взгляд, он очень порядочный человек, пообещал уничтожить за пару дней всю армию Наполеона посредством воздушных шаров, наполненных горючими материалами…
"Останется всего лишь пустить эти шары в середину врагов и поджечь", – объяснил он нам.
Я не пожалела на это колье, три золотых кольца и сто червонцев, да и другие дамы для спасения отчизны от напасти не жалеют средств на постройку шаров. Так что скоро мы покажем французу…»
Несмотря на то, что Смоленск под горло был забит военными, большинство жителей не верило в способность армии остановить француза и уходило из города, унося все, что можно было унести.
Выйдя на Московский тракт и пройдя несколько верст, толпа беженцев редела и вскоре рассасывалась по проселкам и тропам.
Не хотелось слишком далеко уходить от родного дома. «А вдруг?! – жило в душах этих людей. – А вдруг все же враг будет если не разбит, так хоть остановлен под Смоленском?..
Тогда соседи все, что осталось, и растащут, а свалят на солдат… Нет! Далеко от дома уходить не след…
Да и куда уйдешь со стариками и малыми детьми?»
Взвод Рубанова занял просторный купеческий дом с пристройками и обширным двором. Через дорогу, в чуть меньшем доме, расположился взвод Оболенского, которого перевели во второй эскадрон. На страже у ворот он поставил Огурца с Укропом и правильно сделал – всюду шлялись толпы солдат, так и норовящие втереться в чужие владения и что-нибудь спереть. Достать что-либо съестное было трудно – всё съели и выпили дочиста.
Однако к вечеру, когда большая часть местных жителей ушла, стало просторнее. Из ближайших деревень привезли печеный хлеб, крупу и сало.
Шалфеев подсуетился и откуда-то приволок чуть не полкабана и тут же принялся его солить.
Рубанов заметил своего денщика из окна и позвал к себе, а сам уселся на широченную струганую лавку, покрытую пестрым ковром с длинной желтой бахромой по краям.
«Вот какую Веберу на эполеты нужно!» – подумал он, когда в дверь просунулась голова Шалфеева.
– Чем разжился?
– Маленьким кусочком сала, ваше благородие!
– Видел я мешок у тебя за плечами… Поделись «маленьким кусочком» с другими…
«Как же! – думал тот, припрятывая подальше приличный кус. – А ежели я бабу уговорю, тоже с другими делиться? Хренушки! Да через день самому есть нечего станет… вот сальцо и сгодится, – возмущался Степан. – Да за пласт сала у хохлов из соседнего взвода что угодно выменяю, окромя горилки, конечно!»
4 августа гвардии приказали покинуть город.
– Все ясно! – рассуждали офицеры. – Барклай и на этот раз не хочет давать генерального сражения.
Навстречу им двигались войска.
– Чего вытворяет?! – возмущался действиями главнокомандующего Оболенский. – В игры, что ли, играет? Словно колоду карт тасует! Чьи будете? – И узнав, что это корпус генерала Багговута, позавидовал им: – Везет же людям! С часу на час в дело вступят…
«Перевестись, что ли, из гвардии?» – подумал он, услыхав артиллерийскую канонаду в направлении Смоленска.
– Похоже, француз бьет! – определил князь и оказался прав.
Наполеон приказал подвезти к стенам города осадные орудия и бомбить Смоленск.
Французская пехота в это время неоднократно бросалась штурмовать стены, но солдаты генерала Дохтурова крепко держали оборону, сменив уставшие, прокопченные порохом полки Раевского.
Багговут остановился на правом берегу Днепра. Отсюда как на ладони виден был Смоленск, окруженный каменной зубчатой стеной, построенной еще при Борисе Годунове. Стены прорезаны двумя воротами – одни ведут на дорогу к Красному, другие – на Мстиславль и Москву.
Наступившая ночь освещалась всполохами пламени – весь город горел, и вдруг среди этого ада раздался торжественный благовест в соборе, и тут же откликнулись колокола других церквей, призывая ко всенощной накануне великого праздника Преображения Господня.
И русский народ, крестясь и надеясь, со всех сторон потянулся на этот звон, ища успокоения и благодати Божией.
А вокруг рвались ядра и гранаты, свистели пули, падали пораженные люди, и огонь… огонь… огонь… куда ни кинешь взгляд – огонь… и колокольный звон!
Грохот пушек и звон колоколов!.. Грохот… и Звон… Пушек… и Колоколов…
Это переплетение земного и небесного поражало странной своею взаимосвязью: Греховного и Святого, Добра и Зла, Жизни и Смерти! И огонь… огонь… огонь…
Бой постепенно затихал, но огонь безжалостно уничтожал старинный русский город.
– Кажись, на этот раз остановим француза, – рассуждали, укладываясь спать, солдаты.
Офицеры, выставив часовых, тоже говорили об этом.
Только они собрались лечь, как услышали голос проезжавшего мимо ординарца командующего:
– Господа! Отступаем!
Юный прапорщик после этих слов чуть было безвинно не погиб.
– Куда?! Неужели, опять… Да мы положили тыщ двадцать французов… Пошутил, быть может, офицер?
Но вскоре пришли подтверждение команды и приказ строиться.
С развернутыми знаменами и барабанным боем входила в Смоленск французская армия, рассчитывая здесь отдохнуть и отъесться.
Никто не встречал Наполеона с ключами. Лишь трупы лежали у домов и церквей, и едкий черный дым, поднимаясь к небу, приветствовал завоевателей.
«И здесь не воплотится мой лозунг о женщинах», – подумал Мюрат, ехавший за Наполеоном. Такая война начинала ему надоедать. В ней не было красоты, романтики и женщин… Лишь кровь, грязь и трупы!
– Может даже, зазимуем здесь, – буркнул через плечо Наполеон, недовольно разглядывая город.
«Опять нечем будет снабжать армию… Мой транспорт с продовольствием приспособлен для европейских трактов и коротких расстояний, а не для этих, с позволения сказать, дорог и бесконечных пространств.
Русская страна никогда не кончится. Сколько лошадей пало на каждой версте этой разбитой дороги?
А где взять запасных? Оставшихся нечем подковывать – нет ни гвоздей, ни железа, чтоб сделать подкову.
Мои солдаты выдержат всё! И усталость, и голод, но кони не имеют патриотизма, поэтому их нельзя заставить голодать.
Моя армия составлена так, что одно движение поддерживает ее. Во главе ее можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать, это армия нападения, а не защиты.
Нет! Зимовать здесь не будем, – решил он. – Немного отдохнем и на Москву».
– Мюрат! – негромко произнес Бонапарт, и Неаполитанский король тут же поравнялся с ним. – Со своею конницей перережешь русской армии дорогу к Москве. Да не так, как генералу Неверовскому, – уколол он своего шурина, подумав, что это сделает его более боевым и азартным.
Русские войска к восьми утра 6 августа вышли на большую Московскую дорогу и быстрым маршем стали удаляться от Смоленска.
Мюрат со своей конницей не думал встретить неприятеля, но неожиданно его передовой полк был обстрелян.
«Замечательно!» – обрадовался Неаполитанский король, обмахиваясь шляпой с широченными полями.
Весь штаб, по обыкновению следовавший за Мюратом, блаженствовал от свежего ветерка, который производила шляпа их начальника.
«На этот раз я восстановлю свою честь!»
– Занять возвышенность артиллерией и бомбить русских! – приказал он.
Генерал Павел Тучков, егеря которого и обстреляли кавалерию Мюрата, приказал им сжечь мост на Строгани, лишь только они переберутся через него, и занять более высокую Валутину гору.
Поставив там пушки, русские артиллеристы весь день 7 августа гвоздили неприятеля, снова покушаясь на честь короля Неаполитанского.
Вырвав из шляпы и растоптав два пера из трех, Мюрат вопил во всю глотку, приказывая взять русскую батарею. Гасконский темперамент так и лез из него, но батарея держалась.
– Послушай, Нансути! Вели своим кавалеристам идти в атаку и взять этот чертов русский буг-о-р-р! – заорал он, ломая последнее перо. – И привези мне их пушки.
Но Аракчеев в бытность свою фельдцейхмейстером так выучил своих артиллеристов, что им было легче отдать неприятелю жену, нежели пушку. Поэтому, прежде чем Мюрат доскакал до пошедшей в атаку кавалерии, та уже улепетывала, и подъехавший потный и пыльный Нансути одышливо объяснил, размахивая руками поактивнее короля Неаполитанского, что нет возможности переправиться вброд под плотной картечью русских пушкарей.
Перьев больше не осталось. Спрыгнув с коня, Мюрат растоптал шляпу, а затем порубил ее дамасской саблей, не подумав, что любой из кавалеристов с радостью приспособил бы ее остатки под попону для лошади или взял бы себе на плащ.
– Ведите этих дармоедов лощиной в обход! – успокоившись, отдал команду Нансути. – И вы, маршал Ней, ведите в бой свою пехоту.
Однако казаки Орлова-Денисова опередили французскую кавалерию и занимали уже лощину до самого Днепра.
– Братцы! Держитесь! Нельзя, чтобы француз обошел наших.
Казаки Черноморской сотни уже завязали рукава за спиной и ждали неприятеля.
В это же время генерал Коновницын успешно отражал атаку Нея. Два эскадрона изюмских гусар, краснея доломанами, рубили французскую пехоту. На помощь им кинулись гусары Сумского полка, за ними в бой вступили мариупольцы и елизаветградцы. Гусары показали французской пехоте и коннице, на что они способны.
Враг отступал.
Мюрат был просто вне себя от такой неудачи и до вечера прекратил наступление. Но только солнце пошло к закату, как французская артиллерия открыла огонь и пешие колонны пошли в атаку, на этот раз сумев переправиться через речку Строгань, но овладеть русскими батареями не успели.
Полки с обозами и артиллерией отошли по Московской дороге и готовы были дать отпор врагу. Но Барклай де Толли решил, что местность неудобна для генерального сражения, и приказал отступать через Вязьму к Цареву Займищу. Гвардия снова не участвовала в деле.
Русская армия опять отступала!
Терпение всех истощилось, да к тому же командующие армиями не ладили между собой. Багратион написал Аракчееву: «Я никак вместе с министром не могу. Ради Бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу, и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет».
Необходим был единый командующий.
В августе Александр дал указ Сенату и рескрипт Кутузову о назначении его главнокомандующим.
17 августа Кутузов прибыл в село Царево Займище, где находилась в то время русская армия. Как писал очевидец этих событий, «минута радости была неизъяснима. Имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генерала.
Все, кто мог, летели навстречу почтенному вождю – принять от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли друг друга. Солдаты припоминали походы с князем еще при Екатерине…»
Михаил Илларионович ехал в небольшом возке, запряженном парой спокойных гнедых лошадок. В своем простеньком сюртуке без эполет и в фуражке без козырька с красным околышем он был для солдат каким-то удивительно родным и своим, понятным, русским.
Глаз его слезился на ветру, и он беспрестанно тер его то средним пальцем, то тыльной стороной ладони.
– Ишь! Наш-то плачет! Радуется, что к армии приехал, – говорили солдаты, строясь в шеренгу.
Поднявшись на ноги и раскачав этим тарантас, Кутузов снял фуражку и, обнажив седую голову, перекрестил русский лагерь.
– Не надо, ребятушки! Ничего этого не надо! – увидел он, как солдаты схватились чистить обмундирование и амуницию. – Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать – ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе!
– У-р-ра! – восторженно кричали солдаты, крестя лбы и утирая слезу. – Приехал наконец-то наш батюшка. Теперь-то начнем чехвостить хранцуза!
Это тебе, брат, не Толька Барклаев… Это наш! Рассейский…
В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полку, он велел освободить дорогу:
– Солдату в походе каждый шаг дорог; скорей придет – больше отдыхать будет!
Конечно, после этих слов войско обожало своего предводителя и пошло бы за ним бить хоть черта, хоть дьявола.
На следующий день главнокомандующий занимался рутинной штабной работой – бумагами. Он выяснил, что резервов мало, ружей, патронов, снарядов и шанцевого инструмента на крупный бой не хватит, продовольствия – в обрез.
Кутузов всегда помнил наставление Румянцева, что войну надо начинать с сытого солдатского брюха.
А самое главное, мало оставалось самих солдат – полки были не укомплектованы. По спискам в обеих армиях числилось около 113 тысяч человек, а на самом деле оказалось 96. Почти вдвое меньше, чем у Бонапарта.
«Нет! Никак нельзя давать здесь генерального сражения! – отбросив в сторону бумаги, думал Михаил Илларионович. – Никак нельзя… Следует прежде собрать резервы. И позиция у Царева Займища не годится – за спиной болотистая долина реки Сежа. Нет! Как это ни тяжело, следует отступать, а то положу тут солдатских голов… – Бог и матери не простят!»
– Приехал Кутузов бить французов! – доедал кабанчика Шалфеев.
Рядом с набитыми ртами сидели хохлы и согласно кивали головами. Перед компанией в палатке на самодельном столе изобильно лежали огурцы и в бутылках при свете свечей блестела и искрилась жидкость, радуя гвардейское сердце.
Почуяв неладное, в палатку, кряхтя, залез вахмистр.
– Вот они где! Бисовы дети! И Шалфеев с ними. Пьють горилку, а вахмистр в стороне?!
А вы знаете, что я щас конхис-к-хую все ваше богатство, потому как завтра объявлен поход? Вы должны спать и отдыхать, а не водовку глохтать… Да еще без вахмистра, скотины.
Хохлы, не разобравшись толком, кого обозвали, мигом налили наиглавнейшему своему командиру стаканчик.
– Вот это дело другое! – проглотив жидкость и занюхивая огурцом, крякнул вахмистр.
Тем временем за другой частью так пригодившегося кабанчика расположились в палатке Рубанов и князь Голицын.
Вечерело. Заросшие камышом берега речушки стабильно поставляли комаров. Максим приказал разжечь рядом со входом небольшой костерок и бросать в него зеленые ветки для дыма.
Однако мужественные насекомые все равно проникали в палатку, и разговор прерывался звонкими шлепками ладоней по кровопийцам и заодно по родным щекам и шее.
– Жена с сыном в деревне. А деревня, слава Богу, весьма далеко от Москвы.
– Да какая разница, далеко или близко… Француз до Москвы не дойдет. Моя матушка в монастыре под Москвой. Что же монахиням теперь бегством спасаться?
– Первопрестольную, конечно, не отдадим, но до ее стен отступить можем.
– Как это, до ее стен? Теперь же Кутузов главнокомандующий.
Армия оставила Царево Займище и стала отходить на восток. Квартирмейстеры во главе с генералом Беннигсеном выбрали позицию для генерального сражения, а Кутузов ее утвердил.
Позиция находилась в 12 верстах от Можайска у деревни Бородино, принадлежавшей в то время господам Давыдовым.
Утром 22 августа русские полки расположились на берегу речушки Колочи и активно принялись обживать опустевшие деревни.
Главнокомандующий со своим штабом проехал Бородино, сделал остановку в деревеньке Горки и проследовал далее, обосновавшись в селе Татариново. Михаил Илларионович поместился в пустовавшем господском доме, тут же велев укреплять позицию, начал расставлять войска.
Конногвардейцы и кавалергарды обосновались в деревушке Михайловское. Хохлы сразу побежали исследовать огороды.
На правом крыле русских позиций главнокомандующий поставил 1-ю армию Барклая де Толли.
Левое крыло занимала 2-я армия Багратиона, и там срочно стали возводить земляные укрепления в форме угла, получившие название – Багратионовы флеши.
Еще левее находился корпус генерала Тучкова.
На другой день граф Марков привел из Москвы ополчение. Вместо знамен над их рядами реяли хоругви.
Увидев бородачей в серых кафтанах, вооруженных пиками, Шалфеев, покуражившись для начала: – Зимы не слыхать, а вы приперлись лед колоть! – побежал выяснять, чем можно разжиться.
Но обидевшиеся на зубоскала мужики послали его на «хутор, бабочек ловить». Ростом они были пониже кирасира, но до того коренастые и крепкие, что Шалфеев решил оставить грубость без последствий. К его зависти, миролюбивые хохлы сумели выменять у рыжего мужика приличный шматок сала на спертые где-то порты.
Вместе с московским ополчением прибыл Нарышкин. С превеликим трудом отыскал он маленький домишко с подслеповатым окошком, в котором ютились друзья.
На его вопрос: «Как дела?» удивленные и обрадованные Оболенский с Рубановым бодро ответили: «Знай службу – плюй в ружье и не мочи дула». – Затем со смехом обнялись.
– Ну, тебя моя кузина и раскормила! – отстранив от себя гостя, произнес Оболенский. – Но ничего, похудеешь! – пообещал он.
– Плохо ли ему естся у московского градоначальника?! – не преминул съязвить Максим.
– Да. Это вам не по полям от французов бегать! – тут же отдарился Нарышкин и, улыбнувшись, протянул князю Григорию пухлый кошель. – Папà прислал.
– Куда мне их здесь тратить? – взвесив на руке подарок, небрежно бросил его на стол князь.
– А я, господа, назначен адъютантом к Кутузову, упросил Ростопчина…
– Ну, как там Москва? Как кузина? – взгромоздился на перевернутую бочку из-под огурцов Оболенский. – Располагайтесь, господа! – радушно указал на два бочонка из-под капусты.
– Мебель у вас что надо! – похвалил Серж, осторожно усаживаясь на подстеленный платок, – лосины и колет его сверкали белизной.
Максим, не жалея грязных серых рейтузов, плюхнулся на бочку, с удовольствием разглядывая графа.
– Москва пока на месте. А кузина жива-здорова и велела вас целовать… но перебьетесь, – переменил тему граф. – Вот бы я ей похвалился, ежели бы художник Кипренский нарисовал меня на этом кресле. – Осторожно постучал ботфортом по бочке.
– Смотри, рассыпется! – предостерег Максим. – Ну, давай скорее выкладывай свежие московские сплетни, – с обожанием поглядел на друга.
– Какие у нас сплетни?.. Дворянство из Москвы разъезжается… Карет не хватает… За пятьдесят верст – триста рублей платят.
Апраксины уехали в свое поместье в Орловскую губернию, Толстые – в Симбирск.
Простой народ пока верит Ростопчину, а тот в своих афишах уверяет, что Первопрестольной опасность не угрожает.
Все зависит от нас, господа… Но жена и родители тоже уехали в имение. Чиновники целыми семействами бегут.
Кстати, это о них Ростопчин написал Кутузову, что Москву покидают женщины и ученая тварь!.. В результате город становится просторнее и чище. Оболенский от смеха расшатал бочку и, видимо, прищемил кожу. Вскочив, он потер зад.
– Кстати, о бочках, господа! – развеселился Нарышкин. – В Москве недавно поймали шпиона – немца Шмидта, который обещал посредством наполненных горючими веществами шаров сжечь всю армию Наполеона.
– Ну дает! – поразился Рубанов.
– Да, да, господа! На это предприятие он собирал с доверчивых москвичей деньги…
Так вот… Когда его привели к Ростопчину, тот повелел наполнить бочку смолой и посадить на нее дрожащего афериста, угрожая самолично поднести факел.
«Ах ты, каин баварский! Рвань собачья! – ревел он. – По-твоему, армия России не нужна?.. Ты один с Бонапартой сладишь?»
– Ну молодец, твой градоначальник! – заходился смехом Оболенский. – А что немец?
– Что?! Перехитрил Ростопчина. По всей видимости, Шмидт недавно выдул пару ведер пива и от страха так активно мочился, что московский градоначальник не смог к нему подступиться… Плюнув, бросил факел и ушел, приказав как следует выдрать брудера, а заработанные им денежки перечислил в фонд города.
– Видите, как полезно пить! – отсмеявшись, сделал вывод Оболенский. – Ты ничего не привез?
– Ну как же, господа?! Целый возок еды и выпивки… Берите людей и пригоним его сюда.
– Зелень! – крикнул хохлов князь, удивив Нарышкина.
– Шалфеев! – позвал денщика Максим.
Палаточную ткань расстелили у края гречишного поля под сенью трех берез в стороне от деревни. Конногвардейские офицеры обедали, добрым словом поминая Нарышкина. Тот же, попрощавшись до вечера, направился в Татариново, в главную квартиру.
– За Россию, господа! – поднимали тост офицеры, и Рубанов отчетливо, до боли в сердце, вдруг понял, что вот она, рядом, вокруг него и раскинулась Россия.
Что эта гречиха и вытоптанные через дорогу овсы, и зеленые пригорки, и недалекий лес, и речка Колоча – все это и есть Россия!
И что он сам, и веселые товарищи, сидевшие подле него в белых рубахах, и жаворонок в высоком небе – все это Россия, за которую сегодня, завтра или в любую минуту он готов умереть.
А уже звучала гитара, и душистый дым трубок поднимался вверх, к облакам.
И смех… и молодость… и песня… и звон подпруги… и воткнутый в землю палаш с кирасирской каской на нем… и червленая сталь пистолетов рядом с бутылкой вина… и жизнь!.. и жизнь!.. и жизнь!.. которая для многих из них скоро закончится.
Господи! Как он любит их… своих друзей, как он любит это небо с далеким жаворонком… как он любит эти березы… и белую Рождественскую церковь, мимо которой вчера проезжал.
Как он любит Россию!..
«Господи!.. Сохрани все это!» – безмолвно взмолился он.
«Господи! Спаси Россию!..
Ведь она у Тебя одна!!!»
32
Петербург жил надеждами, ожиданиями, известиями и слухами.
Присутственные места были почти все закрыты, гражданская жизнь затихла, зато двери церквей день и ночь стояли распахнутыми, призывая христиан верить и молиться.
Мари Ромашова сидела одна в своей комнате и со слезами на глазах читала ответное письмо митрополита Платона императору Александру. Копии с него были весьма популярны в столице и ходили по рукам. «Ах как прекрасно сказал Первосвященник наш, – вытерла она слезы: "Покусится враг простереть оружие свое за Днепр, и этот Фараон погрязнет здесь с полчищем своим яко в Черном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра провести третью новую реку – реку крови человеческой!"» – Упав на колени она стала горячо молиться за воинство и особенно за лучших его представителей – Волынского и Рубанова.
«И чего это медлит баварец Шмидт? – удивлялась она. – Давно пора укоротить Бонапарта».
Неожиданно ей захотелось к людям. Стало страшно и тоскливо одной. Кликнув лакея, она торопливо вышла из дома и направилась в церковь, а там с удовольствием слушала молитву, часто вытирая слезы и крестясь. Молились за воинство, молились за плавающих и путешествующих, молились за любящих нас и ненавидящих, молились за царскую фамилию и Синод.
«Миром Господу помолимся!» – гремел бас священника.
«Сами себя и живот наш Христу-Богу предадим!» – крестился дьякон, и все крестились за ним.
«Они так молоды, Господи! Оставь их в живых…» – шептала она.
Русская армия готовилась к бою.
Субботний день 24 августа выдался по-летнему ясным, звонким и жарким. Рывшие окопы ополченцы через час работы скинули кафтаны, но и в рубахах им было жарко.
Они с любопытством разглядывали пушки:
«Эка страсть, дядя Филимон».
«Да, Гришака – эт те не ружжо!»
Чмокали губами, качали головами, крестились – кабы не бахнула, – а самые смелые даже вылезали из окопа потрогать ствол.
Но зоркие артиллеристы отгоняли бородачей.
«Неча лапать! Бабу свою лапай!» – злились они.
Плотно позавтракав, Михаил Илларионович решил перебраться поближе к войскам, в Горки.
К обеду у Колоцкого монастыря послышались ружейная пальба и гул артиллерии – французы пошли вперед. Их огнем и штыками встретили солдаты Коновницына.
Русские жаждали боя! Отступление надоело всем.
Получив команду, Изюмский гусарский полк с таким пылом налетел на врага, что тут же положил три неприятельских эскадрона. Но силы были неравны. Это оказалась не простая авангардная сшибка.
Коновницын приказал отступать к Бородинским высотам. Было уже четыре часа дня. Дальнобойные пушки большого калибра, что стояли на Шевардинском редуте, громили живую силу врага.
Князь Горчаков готовился отбивать первый напор. Позади редута он растянул в линию полки 27-й дивизии Неверовского. Стрелков и легкую кавалерию направил в окрестности деревушки Доронино.
Наполеон наводил мосты через Колочу, тесня русских егерей.
Михаил Илларионович надумал переместиться поближе к Шевардино, чтобы лично наблюдать бой. В сопровождении штабных офицеров, адъютантов и ординарцев поехал к деревне Семеновской, вернее, к ее остаткам – все избы солдаты раскатали на топливо и другие нужды.
Усевшись на скамеечку, главнокомандующий внимательно стал следить за ходом боя.
В начале пятого французская дивизия Кампана, подкрепленная конницей, пошла на Доронино, охватывая и лес, окружавший деревушку. Пороховой дым затенял место боя, мешая следить за ходом битвы.
К тому же уставший глаз начал слезиться, и Кутузов ничего не мог рассмотреть, кроме красных всполохов выстрелов.
– Сынок! – обернулся он к стоявшему рядом адъютанту – им оказался Нарышкин. – Скачи туда, – махнул рукой с зажатой в ней подзорной трубой куда-то на опушку леса, нет-нет проглядывавшую в клубах дыма, – да возьми парочку вестовых, все как следует рассмотри и мне доложишь.
Козырнув, довольный Нарышкин помчался на треск выстрелов. За ним следовали двое казаков. Когда он добрался до места боя, то увидел, что поляки Понятовского теснят наших стрелков.
И тут же Киевский драгунский и Новороссийский полки ринулись в атаку.
«Следует отыскать Багратиона, – подумал Серж, – или хотя бы его начальника штаба Сен-При».
Вокруг кипел бой…
Одного вестового Нарышкин отправил к Кутузову доложить обстановку. Через час ускакал и второй казак – с донесением о двух атаках полковника князя Кудашева и об отбитых им шести пушках.
Но превосходящие силы врага наступали.
Вечерело. Дыму помогал туман, особо плотный в низинах.
Генерал Кампан все же подошел вплотную к редуту и велел 61-му полку взять его штурмом.
Русские штыки показывали чудеса, но превосходство в количестве сказалось, и редут остался за французами.
В хаосе сражения Нарышкин все же отыскал Багратиона. Князь лично повел 2-ю гренадерскую дивизию на штурм, чтобы вернуть редут. Серж, конечно, увязался за ним.
Две неприятельские колонны решили обойти гренадеров, но малороссийские и глуховские кирасиры разметали врага. С другой стороны харьковские и черниговские драгуны так же изрубили две атакующие колонны французов.
Сквозь треск выстрелов раздалось русское «ура!» – и редут был взят, французы отступили. Батальон 61-го полка покрывал телами землю.
Кутузов написал Багратиону:
«Князь Петр, очень не ввязывайтесь. Берегите людей!»
Закопченный словно трубочист, но довольный собой, Нарышкин привез ответ:
«Держусь, Михайло Ларионович. Никто, как Бог!»
Темнело. Черноту ночи разгоняли яркие всполохи – то горело Шевардино.
Красные в темноте ядра летали в обе стороны. Редут уже несколько раз переходил из рук в руки.
«У Горчакова всего одиннадцать тысяч человек, – размышлял Кутузов. – У французов – на порядок больше! Пора отходить. Нечего зря людей класть!»
В одиннадцатом часу вечера главнокомандующий велел Багратиону отходить к Семеновской. Бой стал затихать.
В воскресенье Михаил Илларионович до вечера отпустил Нарышкина, а сам поехал еще раз все осмотреть.
«Как всякому нерадивому кадету, в бытность мою директором 1-го кадетского корпуса не хватало одного дня, чтобы подготовиться к экзамену, так мне сейчас не хватает дня, чтобы как следует подготовить позицию к обороне! – думал он, осматривая с высоты Центрального кургана недоконченные укрепления.- Мой отец, инженер-генерал Кутузов, прежде надрал бы мне уши, а потом заплакал над такими фортификационными работами, когда враг всего в ста двенадцати верстах от Москвы», – вздохнул главнокомандующий, направляя зрительную трубу на французское расположение.
Нарышкин, напротив, был весьма доволен собой.
Сидя на бочке из-под огурцов и мотая ботфортом, он оживленно пересказывал друзьям вчерашние события, безбожно привирая насчет своих подвигов.
Оболенский от зависти даже осунулся, а прислуживающие хохлы, подтаскивающие закуску, с гордостью расправили плечи, когда услышали про подвиги земляков – харьковских драгун.
Кончался и этот день.
Когда Нарышкин возвращался на главную квартиру, то видел, что солдаты достают из ранцев и надевают чистые белые рубахи.
В ставке главнокомандующего не оказалось.
– Уехал к войскам, – доложил вестовой казак.
Михаил Илларионович в легкой своей бричке объезжал полки и дивизии.
«Вы защищаете родную землю, сынки!» – обращался он к солдатам в одном полку.
«Отечество надеется на вас!» – говорил в другом.
«Послужите верой и правдой!» – подбадривал солдат и офицеров в третьем.
Уезжая к полкам, Кутузов распорядился перед каждой дивизией отслужить молебен и пронести по лагерю икону Смоленской Божией Матери. И теперь где-то вдалеке услышал пение – то духовенство шло с иконой по линии фронта. Сняв белую с красным околышем фуражку, он перекрестил лоб, подумав: «В который раз уже православное воинство сражается за землю свою, за Святую Русь! Так же вот молились русичи перед боем с немецкими рыцарями на Чудском озере и перед Куликовской битвой!..»
Неожиданно как-то приятно, по-домашнему, пахнуло прелыми листьями, травой и грибами. И то ли от родного этого запаха, то ли от церковного пения, или от старости своей и физической немощи и от того, что для многих этот вечер будет последним, побежали из единственного его глаза слезы и потекли по морщинистой пухлой щеке.
Громко высморкавшись, он стер их ладонью и неожиданно успокоился и застыдился своей слабости.
«Да что мы за русские люди такие?.. Мягкие и чувствительные».
– Трогай! – велел сидевшему впереди казаку.
«Мы победим! – с уверенностью подумал Михаил Илларионович. – Не можем не победить!»
На душе у него стало спокойно, чисто и светло. Он даже улыбнулся в темноте, оглянувшись на следовавшую за ним свиту. «Поди, многие напишут потом, как мужественно нес я бремя ответственности!
А благодарные потомки, скорее всего, даже отольют бронзовый памятник, – развеселился Кутузов. – Видели бы они пять минут назад своего вождя и главнокомандующего…
Ох, Рассея, Рассея!.. Что-то завтра тебя ожидает?!»
Ярко освещенный кострами французский лагерь шумел и бурлил – рокотали барабаны, ревели трубы, слышались крики и песни.
Наполеон стоял в окружении маршалов, гордо скрестив короткие ручки на груди, и важно рассуждал о предстоящем сражении.
Чуть позже французские полки построились, и полковники, стоя рядом со знаменем, зачитали наполеоновский приказ:
«Солдаты! Вот битва, которой вы так желали! Изобилие, отдых, все выгоды жизни, скорое примирение и слава ожидают вас в столице русской. От вас зависит все получить, всем воспользоваться, только ведите себя, как при Аустерлице, Фридланде, Витебске, Смоленске. Сражайтесь так, чтоб позднейшие потомки могли с гордостью сказать о каждом из вас: «И он был на великом побоище под стенами Москвы!»
Молчание царило на русских биваках.
Квартиргеры, привезшие водку, сзывали к порции:
– Давай, робяты, навались! Подходи к чарке!
Но, к их огромному удивлению, обычного оживления не произошло. Никто не побежал к ним от костров, лишь слышалось:
– Спасибо за честь! Не к тому изготовились, не такой завтра день! – и с этими словами многие солдаты, освещенные догорающими огнями, крестились и приговаривали: – Мать Пресвятая Богородица! Помоги постоять нам за землю свою!..
– Выпьем по чарочке? – предложил Оболенскому Максим, протягивая к костру озябшие пальцы. «От нервов, что ли, мерзнут?» – подумал он.
– Даже солдаты отказываются! Неужели, я стану пить?.. – мужественно произнес тот, заворачиваясь в шинель и подвигаясь ближе к огню.
«Да-а-а! Коли Гришка Оболенский от водки отказался – берегитесь враги! – Последовал примеру друга Рубанов. - Француз от волнения проявляет себя суетой, криком и шумом, – подумал Максим, – а русский человек глубокой сосредоточенностью и задумчивостью, – глядел он на костер, наслаждаясь исходящим от него теплом и любуясь то желтыми, то зелеными, то синими языками пламени. – Переживу ли я завтрашний день? Кажется, Рубановку бы гадалке отдал, чтоб она мне предсказала судьбу… – Отодвинулся подальше от взметнувшихся искр и зажмурил глаза от дыма. – А сегодня прохладно. Вот бы было здорово оказаться этой ночью на балу и пригласить Мари на танец…
Да нет! Даже просто увидеть ее. Увидеть улыбку, волосы и зеленые глаза… Услышать голос и вдохнуть ее запах…
Вот счастье-то! А она, полагаю, сейчас об этом дураке Волынском грезит. Тьфу! Что за вздор в голову лезет? – Снова придвинулся он к костру. – Что-то спина совсем замерзла». – Завозился, укладываясь поудобнее.
– Рубанов! Кончайте вертеться, – услышал голос Оболенского.
– Скажите, князь, о чем вы сейчас думаете? – поинтересовался у Григория.
– Ну уж не о бабах, как вы, поручик, – уселся и достал трубку.
Максим покраснел и порадовался, что Оболенский не видит в темноте его лицо.
– А с чего вы взяли, что я думаю о бабах?
– Ха! Да не о том же, как наточен палаш и заряжен ли пистолет?
Я вот честно сознаюсь, что вспоминал, как выбросил в окно надоеду француза, – соврал князь. – Да так, знаете ли, ярко вспоминал, словно это случилось час назад.
На самом деле он мысленно прощался со всеми, кого любил: с папà, маман, кузиной и даже с этим приставучим Рубановым.
Выкурив трубку, он снова улегся у костра.
Максим неожиданно вспомнил полячку.
«Вот кто действительно меня любил, – думал он. – Не то что Мари! А как пани Тышкевич рыдала, когда я уезжал! Господи! Ну почему всегда любят не те?..»
Каждый из сидевших или лежавших подле костров солдат вначале думал о Боге, молился Ему, просил за себя, знал, что все живыми не будут, но надеясь на чудо, везение и Божью Милость.
Затем вспоминали родителей, жен и детей и, наконец, мысли опускались к обыденности и повседневности.
Так Шалфеев, после жены и ребенка, переживал о новой рубахе, которую выменял у ополченцев:
«Ежели завтра убьют, и поносить не придется, ну на кой черт мне понадобилась вторая новая рубаха?» – до такой степени расстроился он, что даже плюнул в костер.
Хохлов столь же жестоко мучила судьба заначенного куска сала, вымененного у тех же самых ополченцев одновременно с шалфеевской рубахой. «Кому он достанется после нашей смерти? – страдали они. – А-а-а?! Неужто, вахмистру?» – от одной этой мысли Огурца с Укропом бросало в дрожь и пот.
А есть, как нарочно, не хотелось…
26 августа, еще до зари умывшись, позавтракав и выслушав донесения, что пока все спокойно, Михаил Илларионович велел заложить коляску. В маленькой зальце было темно, и у расстеленной на столе карты мигала свеча.
Штабные офицеры, адъютанты и ординарцы тихо сидели в соседней комнате, не решаясь зайти к главнокомандующему, – боялись помешать или отвлечь от мыслей. Михаил Илларионович был один.
Блаженные минуты одиночества…
Выглянув в запотевшее окошко, он сел на расшатанный стул и, сложив руки на коленях, замер.
Пушистая серая кошка, мягко спрыгнув с печи, осторожно кралась к столу и вдруг замерла, вслушиваясь в понятные только ей шуршание и звуки.
«Кто же из нас станет сегодня мышью? – подумал о Наполеоне Кутузов. - Пора! – громко шлепнул ладонями по коленям и тяжело поднялся со стула. Разочарованная кошка запрыгнула опять на печь.
Перекрестившись на икону архистратига Михаила, которую всегда возил с собой, вышел к штабным офицерам.
И сразу все задвигалось и зашумело. Куда-то помчались вестовые, забегали ординарцы, заговорили штабные офицеры, потрясая свернутыми картами. Проснулась вся деревушка Татариново.
– В Горки! – велел казаку главнокомандующий, усаживаясь в возок.
Подъезжая к тому, что осталось от некогда богатой русской деревни, Кутузов с удовольствием увидел, что 2-й кавалерийский корпус Корфа и 4-й пехотный Остермана уже на ногах, а солдаты завтракают кашей, готовясь к делу.
С трудом выбравшись из коляски, главнокомандующий поднялся на заранее облюбованный пригорок. Молодой красивый ординарец нес за ним небольшую скамеечку, любуясь собой как бы со стороны и радуясь возможности услужить любимому командиру.
– Ставь сюда, – велел ему Кутузов.
Но поглядев на вылезавших из колясок генералов и штабных офицеров, затем глянув в сторону французского лагеря, передумал.
– Нет! – прошел ближе к краю холма. – Пожалуй, здесь будет лучше.
Ординарец с удовольствием перенес скамейку и проверил, прочно ли она стоит на земле, не попал ли под ножку камешек.
Взяв подзорную трубу, Кутузов надолго припал к ней, обозревая строившиеся квадраты французской пехоты с кавалерией на флангах.
Со стороны французского лагеря раздавались шум и галдеж, ясно слышимые даже здесь.
Михаил Илларионович перевел трубу на свои войска.
Внизу, за широким оврагом, расположился 6-й корпус Дохтурова. На батарее, рядом с Горками, Кутузов увидел Барклая. В отличие от него самого, тот нарядился в парадный мундир с орденами.
В русских линиях стояла тишина… Но то была тишина зловещая!
Неожиданно что-то блеснуло, на секунду ослепив глаз.
«Из пушки, что ли, стрельнули?» – опустил он подзорную трубу.
Но вокруг пока все молчало.
«Да это же вышло солнце! – улыбнулся Кутузов. – Русское солнце!»
И тут же где-то на французских позициях рявкнула пушка. Через мгновение все потонуло в гуле сотен орудий.
Пушки сотрясали и взламывали землю по всей шестиверстной линии. Русские артиллеристы ни в чем не уступали французским. Даже Наполеон считал русскую артиллерию лучшей в Европе, конечно, после французской.
Русские артиллеристы думали в точности до наоборот.
Пороховое облако, поднимаясь от орудий, медленно окутывало войска.
Русские генералы и офицеры, передергивая плечами от озноба, переминались за спиной Кутузова. Кто-то из них зевнул.
«Туда бы тебя сейчас: поди, не до зевков стало бы!» – беззлобно подумал он.
Французы обрушились на левый фланг Багратиона, атаки следовали одна за другой. Дым и поднятая пехотой и кавалерией пыль сделали бесполезными подзорные трубы, хотя свита главнокомандующего что-то пыталась высмотреть в этом чаду.
– Сынок! – подозвал взмахом руки адъютанта Кутузов.
Им, по обыкновению, снова оказался Нарышкин.
– Узнай, что там у князя Петра.
Чтобы услышать приказ, Сержу пришлось подставить ухо под самые губы командующего – сплошной гул, идущий от взрывов снарядов и выстрелов ружей, топот ног и вопли сражающихся ясно доносились сюда, мешая нормально говорить.
Надрываясь от крика, генералы и штабные офицеры высказывали свое мнение.
– Ваша светлость! – наклонившись к уху Кутузова, прокричал Ермолов. – Следует помочь Багратиону!
Михаил Илларионович, казалось, даже не услышал его. Не отрываясь глядел он в гущу боя, что-то шепча, а может, просто шевелил губами.
– Литовский, Финляндский, Измайловский – к князю Петру! – тихо сказал он и тут же поднял подзорную трубу, надеясь что-либо разглядеть, когда порывы ветра разрывали дымовую завесу.
У Кутузова не было столь громадной работоспособности, как у императора французов. Он был стар и любил поспать. Не обладал он и гигантскими аналитическими способностями Наполеона, однако, был по-стариковски мудр.
Любовь к родине, мужицкая хитрость и склад ума, который в народе называют русской смекалкой, и огромный воинский опыт – вот что противопоставил он Наполеону.
А также – терпение и веру. Веру в Бога, Солдата и Победу!
Ранним утром конногвардейский полк подняли по тревоге, да никто толком и не спал – все ждали боя. Без аппетита позавтракав под рев орудий, построились и стали ждать. Через два часа Арсеньев разрешил спешиться и стоять вольно.
Шальные снаряды и пули долетали даже сюда. Двух конногвардейцев уже унесли в лазарет. Хохлы благоразумно схоронились в оставшемся от дома погребе. «Зачем рисковать раньше времени?» – думали они.
«Ну когда? Когда же нас бросят в бой? – не мог дождаться Оболенский. – Непременно переведусь в армию! – решил он. – Слишком нас жалеют!»
Офицеры полка с трепетом ловили доходящие до них слухи.
Какой-то раненый солдат сообщил им, что французы взяли Багратионову плешь.
– У-у! Деревня! Не плешь, а флешь, – вразумлял его Шалфеев, и тут пришла команда строиться.
«Побегу испорчу настроение хохлам», – решил он.
– Строиться! Строиться приказано! – заорал, наклонившись к погребу. – Братцы! Да они тут сало жрут! – возмущенно произнес он, разглядывая, как вылезшие хохлы умиротворенно вытирают жирные губы.
– Теперь нам сам черт не брат! – произнес Огурец.
– Теперь нам смерть не страшна! – поддержал его Укроп, поглядывая на вахмистра.
Эта огромная масса войск служила прекрасной мишенью для французской артиллерии, но была необходима для защиты Курганной батареи.
Ядра и пули косили солдат и кавалеристов, но войска пока не двигались с места. Вскоре пришло известие, что деревню Семеновскую взяли. Затем прискакавший вестовой сообщил, что Коновницын и Бороздин отбили деревню, но через некоторое время пришло сообщение, что ее снова занял француз, а конногвардейцы в бой всё не вступали, потеряв между тем несколько человек от залетевших пуль и снарядов.
Это не лучшим образом сказываюсь на моральном духе. Одно дело погибнуть в бою, а другое – вот так, не успев взять с собой врага.
Даже у Оболенского стали сдавать нервы.
– Черт побери, Рубанов! – подъехал он к Максиму. – По всему видно, что вот-вот в нашем эскадроне освободится вакансия взводного. – Прислушался к свисту пуль.
– Ну да! И он избавится от вредной привычки пить по утрам шампанское! – поддержал его Максим.
– Га-га-га! – заржал во всю глотку князь, заглушив даже артподготовку.
Таким же громким смехом поддержал его Рубанов.
«Заболели, что ли?» – поглядел на них вздрагивающий от взрывов бомб и гранат ротмистр Вебер.
– Господи! Клянусь тебе! – патетически воскликнул Оболенский, воздев руки. – Коли останусь жив – шампанского ни капли не выпью! – поднял глаза к небу, внимательно поглядев ввысь, перекрестился и подумал, что здорово ошарашил Бога, до крайности удивив этой огромной жертвой.
– Здорово загнул! – посильнее Бога и особенно княжеского ангела-хранителя поразился Рубанов. – Тогда я, ежели буду жив, устриц в рот не возьму! – дал обет Максим.
– Но это нам не грозит! – пессимистически подытожил Оболенский, отъезжая к своему взводу и видя, как рядом замертво упал кавалерист.
Через час к конногвардейцам подлетел Нарышкин.
– Господа! Багратион тяжело ранен! Все произошло на моих глазах, когда мы вместе ходили в атаку, – произнес он. – Скоро и вам в дело! – Стегнув запаленную лошадь, умчался прочь.
Почему-то забыл сообщить, что нес перед полком знамя! – кивнул в сторону ускакавшего друга Рубанов.
– Да разве все упомнишь?! – повеселел Оболенский.
Бой переместился на Центральный курган.
– Вице-король Италийский Евгений Богарне штурмует батарею! – передавали из уст в уста.
– Француз взял редут! – докатилось по рядам до конногвардейцев.
Через полчаса таким же образом пришла весть, что генерал Ермолов всего лишь с одним батальоном Уфимского полка отбил люнет.
«Наполеон получил то, чего так долго добивался – генеральное сражение! – думал Кутузов, слушая донесения штабных офицеров. – И, по-моему, он не совсем доволен сложившимся положением вещей – русские дерутся упорно и не отступают. Ему удалось лишь немного потеснить наш левый фланг, и теперь он вплотную занялся центром, следовательно, на правый фланг сил у него не хватит…
А мы, ко всему прочему, преподнесем Бонапартию сюрприз – щелкнем по носу, вернее, по мягкому месту». – Подозвал он Платова и Уварова, приказав им обойти левый фланг французов и ударить в тыл.
1-й кавалерийский корпус и казаки Платова переправились через Колочу у поселка Малое и неожиданно налетели на противника.
В рядах французов и немцев возникла паника.
После этой атаки обозленный Богарне, в отместку русским и чтобы поправить свое положение, всерьез занялся Курганной батареей. Многочисленную свою кавалерию он послал в обход Центрального кургана, рассчитывая разрезать русскую позицию и, как недавно казаки, выйти в тылы противника.
Французская пехота в это время ударила на батарею «в лоб».
Конногвардейцам подвезли кашу.
– Братцы! Налетай кушать! – орали повара, но аппетита ни у кого не было.
– Какой там кушать? А ну-ка прикажут в атаку? – нюхал душистый пар Шалфеев.
Однако Огурец с Укропом были иного мнения и подошли с котелками к повару.
– И куда в вас только лезет? – осудил обжор Степан.
– Можа, последний раз едим… – крестились они свободной от котелка рукой.
– Славно у вас тут! – спрыгнул с лошади подъехавший к офицерам полковник в семеновском мундире. – А мы там голодные стоим, – произнес он мягким голосом, снял треуголку и вытер платком лысину.
«Ба! Да это же Николя! Старый картежник! – тут же узнал его по лысине и замедленному, убаюкивающему голосу Рубанов. – Правда, тогда он был помладше чином. Да и я – корнетом! – с удовольствием глянул на свой эполет.
– Произвожу рекогносцировку! – между тем сообщил семеновец, здороваясь за руку с Вайцманом, Вебером, Гуровым и, наконец, с Рубановым.
– Не узнаете, господин полковник, проигравшегося корнета?! – улыбнулся он.
– Позвольте, позвольте?! Нет, извините, не припоминаю.
– Ну и ладно! А то, может, сыграем в картишки? – засмеялся Максим.
– Непременно! Непременно после боя сыграем. Приходите к нам на позицию, – произнес мягким своим голосом, направляясь к полковнику Арсеньеву.
– Пехтура чего-то верхами разъезжать стала! – подойдя к Максиму, стрельнул глазами в сторону гостя Оболенский. – Ищет, куда улепетывать ловчее, – сделал он вывод.
В это время впереди, в рядах 4-го корпуса раздались крики и стрельба – то кавалерия графа Коленкура, обогнув Семеновский овраг, ринулась на линии русских полков.
Русские не растерялись: Кексгольмский, Пернавский и 33-й егерский выдержали самый тяжелый первый натиск и ответили мощным огнем.
Быстро переговорив с Арсеньевым, семеновский полковник взобрался на лошадь.
– Да куда вы? – попытался остановить его штаб-ротмистр Гуров. – Видите, что началось? Как раз в плен угодите…
Но семеновец уже скакал в сторону своих позиций.
– Похоже, дело нешуточное! – радостно произнес Оболенский. – А вон опять гости… Вроде бы даже генерал. И снова лысый! – увидел он подъезжающего Барклая.
Шляпу тот где-то потерял.
– По коням! – хрипло зарычал Арсеньев, заметив командующего 1-й Западной армией.
Через минуту полк построился. Невдалеке строились кавалергарды. Два этих полка объединили в бригаду под командой генерал-майора Шевича.
– Второму эскадрону правое плечо вперед! – услышал Рубанов голос Вебера.
Эскадроны построились к бою. Впереди встал сам Барклай де Толли. На голове его уже красовалась шляпа с черным петушиным пером.
– Ура-а-а! – не выдержав, заорал Оболенский, и эскадроны поддержали его ликующий крик.
– С места – марш, марш! – взмахнул палашом командир лейб-гвардии Конного полка, и отборнейшие русские латники, размахивая тяжелыми палашами, стали набирать скорость.
Это надо видеть – атаку гвардейских кирасиров!
Земля гудит под копытами мощных коней, грозно сверкают палаши, рослые кавалеристы с криком «ура!» несутся на врага. Не у всякого выдержат нервы перед этим могучим тараном.
Русские батальоны расступались, пропуская конницу.
В это время граф Коленкур, брат французского посланника в России, храбрый, веселый и честный француз, откинувшись на спину, сползал с коня – пуля попала ему прямо в лоб.
Французский 5-й кирасирский полк, потеряв генерала, растерялся и был ошеломлен несущимися в его сторону русскими богатырями. Французские кирасиры не выдержали и стали поворачивать коней. Но не успели. Конногвардейцы настигли врага. Через несколько минут полк оказался сметен, разбит и рассеян.
Следом из дыма сражения вылетели французские гусары и, размахивая саблями, ринулись на помощь своим. Гусарики-французы были просто раздавлены, как попавшая под сапог устрица. В такой рубке французы еще не участвовали.
И их, и русских вдохновляла Москва. Только одни мечтали ее разграбить, другие – отстоять! И русские, и французы подтянули конную артиллерию, и поле боя утонуло в дыму.
Оболенский рубился с упоением – его палаш покраснел от крови. Экстаз смерти захватил князя и пьянил посильнее вина. На глазах Рубанова одним яростным ударом он разрубил до самого седла грузного кирасира. Максим даже успел заметить, как ужас в глазах этого француза сменяется пустотой вечности, а потом тело вдруг распалось на две части, вывалив дымящиеся внутренности на конский круп.
Рубанова больше не тошнило от таких картин.
Заглядевшись на работу Оболенского, он сам чуть не пропустил молниеносный удар гибкого как угорь гусара, но реакция не подвела, и голова кавалериста брызнула мозгами на черную рубановскую кирасу, а белая кашица медленно стала стекать вниз, к красному канту на кирасе, оставляя густые белые капли на своем пути.
Правый рукав колета окрасился вражеской кровью.
– Неплохо приложил! – похвалил заваливший очередного противника Оболенский. – Теперь не сразу сообразит что к чему! – умчался гонять какого-то гусара.
«Циник!» – не успел подумать о своем друге Максим, как из дыма выскочил пехотинец и тут же ударил штыком. Метил он в живот, но вертевшийся в горячке боя конь спас Рубанова, и штык лишь распорол седло рядом с ногой. Максим поднял палаш, но задержал руку: противник одет был в зеленый русский егерский мундир. Пропыленное лицо его пылало ненавистью, рот ощерился белоснежными зубами.
– Не угадываешь, барчук, А я тебя враз приметил… – услышал Максим хриплый знакомый голос.
В растерянности он опустил палаш. Егерь же снова замахнулся штыком.
– Данила! – поразился Максим, а штык уже рвался к его груди.
«Поздно. Не успею отбить! Обидно от своего погибать…» – все же поднимал палаш Рубанов, но в этот момент зеленый мундир Данилы побурел на груди, а сам он отшатнулся назад, выронив ружье и зажав рану руками. Сильная шея его надломилась, гордая красивая голова упала на грудь. Раненый с трудом поднял ее, пытаясь что-то сказать, но рухнул на колени, и на губах запузырилась кровь.
– Рехнулся парень от страха! – убирал пистолет Шалфеев. – На своих полез. Так и не сумев ничего произнести, егерь упал на землю, вытянув перед собой руки. Ноги его задергались и через несколько секунд замерли.
Пораженный Максим стоял над поверженным телом и все не мог поверить, что в такой день русский хотел убить русского…
– Господин поручик! – похлопал его по плечу Степан. – На вас хранцуз скачет, – привел он в чувство Рубанова, и вихрь боя снова закружил конногвардейца, вытеснив мысли о бывшем крепостном.
Солдаты дивизии Лихачева, покрытые потом и порохом, один за другим падали под ударами врага, но никто из них не сдался и не отступил.
Французы не успели порадоваться своей победе, как на батарею ворвались конногвардейцы и принялись рубить растерявшуюся пехоту.
На этот раз люнет был отбит.
Спрыгнувший с коня Рубанов устало отер потный лоб – кожаной каски на голове уже не было, – и оглядел позицию.
Курган устилали трупы. На опрокинутых лафетах распростерлись тела канониров. Тут же, на батарее, рядом с убитым французским офицером Максим увидел семеновского полковника – он лежал на боку. Глаза Николя глядели на мертвого француза. Левой рукой он упирался в землю, а правую спрятал за спину, будто боялся выказать свои козыри. Нагнувшись, Максим закрыл его глаза.
Батарею уже занимала русская пехота.
– Отходим! – услышал он голос Гурова. – Рубанов, дружище, чего вы там?
«Неисповедимы пути твои, Господи!» – подумал Максим, тяжело взбираясь на коня.
Позже французы опять заняли батарею.
После боя Оболенский был просто в трансе.
– Рубанов! Ты видел, как я их?.. В Москву лягушатникам захотелось! Шалишь, брат! А как я кирасира развалил?! Да и ты молодец! – спохватившись, снисходительно похвалил друга. – Сейчас бы мадерка неплохо пошла. – Не успел он добахвалиться, как дали команду строиться.
Возглавил гвардейских кирасиров генерал Шевич.
– Снова в атаку! – счастливо улыбнулся Оболенский.
Лошади тяжело вздрагивали боками – не успели отдохнуть после первого боя.
– За Россию! Господа! – поднялся на стременах Шевич, держа над головой палаш, и эскадроны молчаливой лавиной, набирая скорость, пошли за сербом.
Пехотные взводы расступились, и гвардейцы столкнулись с неприятельской конницей.
– Отдохните, братишки! Сейчас мы вам подсобим!.. – проезжая сквозь строй пехоты, крикнул Шалфеев.
Французы сразу узнали гвардейских кирасиров, и их кавалерийские офицеры – потомки благородных рыцарских родов – вызывали на поединок офицеров первых фамилий русских и рубились один на один, защищая честь Франции и России.
Оболенский на этот раз подобрал себе равного по силам соперника – такого же огромного французского кирасира. Француз был молод, силен и, по-видимому, учился фехтованию у лучших парижских учителей. Чистокровный жеребец под ним составлял как бы единое целое со всадником и оказывался то справа, то слева от князя. Кирасир ловко перебрасывал палаш из одной руки в другую и умело рубился обеими руками. Он уже полоснул Оболенского по кирасе и продолжал теснить его.
На Рубанова бросился тридцатилетний французский кирасир. Черные глаза его на аристократичном худом горбоносом лице вызывающе глядели на Максима, а рука искусно парировала удары противника и молниеносно наносила удары сама.
– Месье! – с придыханием, нанося и отражая удары, произнес француз. – Ваше имя?
– Поручик Рубанов. К вашим услугам.
– Капитан Лагуссе. Запомните перед смертью эту фамилию…
– С удовольствием, месье. При случае поставлю за вас свечку. – Отбил палаш француза и ударил прямым в грудь, но и Лагуссе отразил выпад.
– Вы опытный фехтовальщик, месье! – похвалил Максима французский кирасир. – Но тем приятнее будет вас уложить.
Рубанов применил свой коронный прием, и Лагуссе остался без палаша.
– По-моему, вы что-то потеряли, месье? – улыбнулся Максим, опуская руку и давая возможность французу снова вооружиться.
– Руби лягушатника! – заорал Оболенский, вразумляя друга, и тут же затерялся в толпе сражающихся.
У него взаимоотношения с противником были не такие рыцарские.
– Окаянные французишки! – услышал Максим где-то вдали княжеский бас. – И так по вашей милости мне всю жизнь шампанского не пить…
– О-о! Весьма вам благодарен, месье. – Продолжил бой с Максимом Лагуссе.
– Поверьте, мне было бы много приятнее угостить вас тонким вином где-нибудь в Пале-Рояль или в каком-нибудь кабачке неподалеку от Тюильрийского дворца, чем убивать… Но рок влечет!
– Звучит красиво! – отсалютовал палашом Максим и вновь продолжил поединок. – И мне тоже не хочется вас убивать, но… – он не успел договорить, как увидел Волынского.
Тот бился не с рыцарем, а с какими-то двумя гусарскими капралами. С обеих сторон нападали они на графа, и их сабли жалили его – по лицу стекала кровь, и он морщился, отбивая удары.
«Сейчас не такой день, чтоб помнить зло!» – подумал Максим.
– Извините, месье! Вынужден на минуту прервать наш поединок, – бросился на помощь Волынскому.
Но было уже поздно!
Граф легко ранил одного из нападавших, но другой поднял пистолет и в упор выстрелил в него. Пуля попала в грудь.
Максим увидел, как Волынский выронил палаш и ухватился за кирасу.
Другой его противник, разъяренный ранением, поднял саблю и зловеще улыбнулся. С этой улыбкой его голова и покатилась по земле, а тело, держась еще несколько секунд на коне, фонтанировало кровью.
Ранивший Волынского капрал растерялся и щелкнул разряженным пистолетом в Рубанова. Максим не испытывал к нему рыцарских чувств и, несмотря на то, что противник был безоружен, воткнул свой палаш ему в горло.
Француз с такой силой ухватился руками за лезвие, что Максим не сумел сразу извлечь его из тела и, видя, что Волынский заваливается с седла, выпустил рукоять и кинулся на помощь кавалергарду. Поддержав его за плечи, он спрыгнул с коня и бережно опустил графа на землю. Красивые глаза его уже подергивались предсмертной пеленой. Он закашлял, и тонкая струйка алой крови потекла изо рта на красный воротник колета, закрашивая серебро офицерских гвардейских петлиц.
Он раскрыл глаза и, казалось, не удивился, увидев Рубанова.
– Неужели, я умираю? – прошептали его начинающие синеть губы. – Я любил ее! Коли увидишь, передай, что она единственная женщина, кого я любил, – шепот его становился все тише, и Максим приложил ухо к самым губам Волынского.
Он не видел, что Лагуссе стоял рядом и защищал его от французских кавалеристов, потеснивших в этот момент русскую конницу.
Он прощался с одним из друзей-соперников своей юности.
Он видел, что Волынский умирает, но как-то не верилось в это…
Красавец Волынский… Его друг и соперник… Умирает!
Господи! Неужели, мы смертны?!
– Вот письма… – безуспешно старался поднять тот руку, – возьми на груди, Рубанов. Одно письмо передай ей! Пани Тышкевич! Я теперь не сумею…
– Тышкевич? – удивленно отпрянул Максим.
– Да! Тышкевич! И скажи, что я любил ее. Оч-чень! – закрыл он глаза и тяжело задышал.
Лоб его покрылся прозрачными капельками пота.
Максим поднял голову, рядом звучало «У-р-р-ра!» – то русские взяли верх и погнали французов. Лагуссе рядом уже не было.
– Волынский! Денис! – соскочил с коня запыхавшийся Строганов. – Волынский… – встав на колени, поднял его безжизненную руку. – Как же так?! – шмыгнул он носом, и тяжелая слеза скатилась из глаз этого мужиковатого кавалергарда, а ладонь с такой силой сжала эфес, словно хотела сплющить его. – А-а-а! – заорал, выхватывая из ножен палаш и взбираясь на коня, Строганов. – А-а-а! – слышал Рубанов его удаляющийся и сливающийся с «ура» крик.
Неожиданно Максим почувствовал слабое пожатие руки и заметил, как зашевелились губы Волынского. Он быстро наклонился к нему.
– А три письма передай Мари… – с трудом шептал тот. – И попроси за меня прощения… я не ответил ей… закружил голову…
Прости меня… Рубанов… Боже!.. Какой ты счастливый! – Потерял он сознание.
– Ваше благородие, – постучал кто-то по плечу Максима, – позвольте, ваше благородие, раненого унесем. – Увидел он двух бородатых мужичков в ополченской форме. В руках они держали пики.
– Из смоленского ополчения мы. Михайло Ларивоныч поручил раненых из боя выносить… Господи помилуй! – нагнулись они к Волынскому.
– Сейчас, только письма возьму, – отстегнул застежку и сдвинул кирасу Рубанов.
Весь колет на груди был залит кровью.
«А где же мое оружие? – огляделся Максим, когда ополченцы унесли графа. Французский гусар лежал неподалеку – пальцы его сжимали торчавшую из горла сталь. – Отдай!» – Потянул Максим на себя эфес, заметив, как плавно выходивший палаш срезал гусару два пальца, и они упали в лужу натекшей из раны крови.
Верный жеребец ткнулся Рубанову в щеку, как бы успокаивая и обещая свою помощь.
– Не балуй, – погладил жесткую гриву Максим, устало усаживаясь в седло.
Кавалергарды и конногвардейцы возвращались в свое расположение.
– Господин поручик! – услышал Рубанов радостный голос Шалфеева. – Живы! А мы потеряли вас. Его благородие поручик Оболенский целый эскадрон противника рассеял, вас разыскивая. А вон и они сами, – на всякий случай отъехал в сторону Шалфеев.
– Рубанов! Слава Богу – живой! А я смотрю – твой французик скачет. Ну, думаю, уложил друга. В капусту его изрубил, – приложил платок к порезанной щеке князь.
– Лагуссе?!. – опешил Максим и опустил голову.
«На войне как на войне!» – подумал он, жалея в душе погибшего француза.
– Волынского ранили, – сообщил он князю.
– Да ну-у? Тяжело?
– Полагаю, смертельно!
– Даже не верится! – перекрестился Оболенский. – А у нас штаб-ротмистра Гурова убило. Наповал! Картечью. Арсеньева ранило. А Веберу ноготь оторвало! Он так палец перевязал, словно тот толщиной с ногу у него, и в тыл лечиться уехал.
– Прибалтийские немцы такие недотроги! – подвел итог Рубанов.
Голова у него кружилась, состояние напоминало похмелье после грандиозной пьянки. До него не дошла еще вся трагедийность событий. Он безразлично разглядывал лежащие кругом трупы и даже не вспоминал об убитых им французах.
Все это придет потом, ночью, когда схлынет нервная горячка боя и он поймет, какой день пережил, – что нашел и что потерял!..
33
А бесконечный день клонился к вечеру…
Закопченное солнце, словно русский егерь, маскировалось за росшими на бугре деревьями. Воздух пропитался запахами ада – серой, порохом и кровью!
Уставшие пушки по-прежнему терзали людей и землю.
Невыносимо ныло натруженное правое плечо. Все тело ломило, будто прошел сквозь строй шпицрутенов.[25]
И что удивительно, хотя Максим не ел весь день, – есть не хотелось. Зато ужасно хотелось пить. Казалось, что мог бы выпить всю речушку Колочу.
Жеребец Гришка тоже умирал от жажды, тяжело поводя боками и нервно подрагивая кожей.
– Сейчас отдохнем и напьемся, – похлопал его по крупу Максим. – Потрудились сегодня на славу.
«Интересно, что она ему писала?» – подумал он, спрыгивая с седла на землю. Ноги не повиновались, и он с трудом сделал первые несколько шагов.
Все бросились к воде, но тут снова послышалась команда – «На конь!»
– Снова в бой?! – без всегдашнего энтузиазма и особой радости произнес Оболенский.
У него тоже ныли натруженные мышцы.
– Взво-о-д, строиться! – хрипло заорал князь.
Максим похлопал по спине жеребца и с трудом взобрался в седло.
– Взвод строиться! – не слишком громко скомандовал он.
Кони тяжело переходили на рысь.
Палаш весил сто пудов и не хотел выходить из ножен.
Пистолет по весу сравнялся с пушкой…
Но когда увидели, как французская артиллерия косит русскую пехоту; когда увидели, как падают наши солдаты, все встало на свои места – палаш легко выходил из ножен, пистолет сам прыгал в руку.
– За Россию! Господа!
На этот раз была занятая французами русская батарея.
Французские канониры зарядили русские пушки и успели дать залп картечью в сторону русской кавалерии. Но это был последний залп. Конница ворвалась на батарею и стала рубить канониров и бросившуюся им на помощь пехоту. Люнет у французов отбили.
Следом за конногвардейцами на батарею влетели оставшиеся в живых русские артиллеристы, и Максим наблюдал, как маленький, до костей прокопченный пушкарь любовно гладит черный от копоти пушечный ствол, и на глазах его блестят слезы облегчения и радости, словно вызволил из плена мать.
Уже не раз замечал Рубанов столь трепетное отношение русских артиллеристов к своим пушкам. У тех считалось, что нет тяжелее позора, нежели потеря орудия. Пушка становилась для солдата родной… Это была его пушка! И во время отдыха, думая, что никто не видит, подходил он к орудию и любовно протирал его ветошью, ласково с ним разговаривая и охлопывая ладонью ствол и лафет.
Может быть, оторванный от крестьянского хозяйства артиллерист перенес извечную мужицкую любовь к быкам, лошадям и коровам на пушку?..
– Братцы! – прихрамывая, взобрался на батарею артиллерийский капитан и обратился к кирасирам: – Задержите немного француза, а мы вмиг лошадей впрягем и пушки утащим…
Его солдаты вовсю суетились возле орудий.
Между тем на отбитую батарею уже неслись французские гусары и польские уланы.
– За Россию! – повел свой взвод Оболенский.
– За мной! – поскакал на врага Рубанов.
Французские гусары были свежи и злы! Они бодро врубились в русские ряды. Не отставали от них и поляки.
– Руби шепелявых! – размахивая палашом, налетел на польских уланов Оболенский. – Не пепшь вепша пепшем!.. – распевал он во всю глотку, размахивая палашом и распугивая ляхов. – Бо пшепепшешь вепша пепшем!..
– Здорово поручик сказанул! – восхитился Шалфеев, опрокидывая улана вместе с конем.
– Уж наш-то скажет – так скажет!.. – бился рядом с ним Егор Кузьмин.
Огурец с Укропом просто озверели, завидев ляхов, и палаши их тут же окрасились католической кровью. Бок о бок с земляками сражался Синепупенко. Все кружилось, стреляло, ревело, материлось и рубилось… рубилось… рубилось!..
Об усталости никто и не вспоминал – открылось уже не второе, а третье, или может, десятое дыхание. На помощь сникшим уланам и гусарам подошло несколько кирасирских эскадронов. Гвардейской бригаде приходилось туго. Полковник Арсеньев был ранен, и его заменил полковник Леонтьев.
Бой кипел, перемещаясь то вправо, то влево, то вперед, то назад.
Артиллеристы давно увезли ненаглядные свои пушки, а кавалеристы все не могли расцепиться. Гвардейские полки перемешались. Рядом с собой Максим увидел Николая Шувалова. Тот, казалось, ничего не замечал, кроме синих французских мундиров, которые целеустремленно и вдохновенно раскрашивал палашом в красный цвет.
Чуть сзади него мстил за друга Строганов.
Поляки отшатывались не столько от палаша, сколько от перекошенного ненавистью лица его.
Потом Рубанов неожиданно оказался в окружении французских гусаров. Краем глаза он успел заметить, как на помощь ему рвется Шалфеев, но и на него насело несколько французов, оттесняя от русского поручика. Затем Максим сосредоточился только на отражении ударов трех французов.
«Наверное, друзья убитых мною капралов… – подумал он, выбивая саблю из рук одного из них. – Все-таки у рядового состава нет понятия о чести. – Полоснул палашом по плечу худого француза, но тут на него насело еще двое врагов. – Офицеры ни в жизни не позволили бы навалиться толпой на одного. – Пропустил он удар и почувствовал жало клинка на груди. – Смотри-ка, даже кирасу пробил». – Попытался дотянуться до обидчика.
Но рука стала уже не та, утратила утреннюю резкость, крепость и ловкость.
Француз увернулся от палаша, и тут Максим почувствовал, как его ударили в левое плечо. Рукав колета окрасился кровью – на этот раз своей. Он уже с трудом отбивал удары.
В этот момент откуда-то из копоти и шума боя на загнанном жеребце вынырнул французский офицер. Был он бледен и играл желваками. При виде Максима глаза его расширились от изумления. Левой рукой он провел по густым черным волосам, пачкая их кровью, – головного убора на нем не было – и воскликнул:
– Рубанов!
От неожиданности Максим пропустил еще один удар и остался безоружным – палаш у него выбили.
– Стоп! – закричал французский офицер и своей грудью заслонил русского поручика, отразив смертельный выпад одного из гусаров. – Это мой пленник! – произнес он, загораживая собой Рубанова.
Спорить с полковником, разумеется, бесполезное дело, и французы кинулись в гущу боя, кляня командира полка и всех офицеров:
– Мы побеждаем, а они пользуются плодами наших побед!
Максим чувствовал, что теряет сознание, но пытался понять – кружится ли земля или он кружится вокруг нее… Сосредоточился и потряс головой. На минуту мир прояснился.
– Вы правда – Рубанов? – поддержал его в седле полковник.
– Да! Максим Рубанов, – даже не удивляясь, ответил он, стараясь удержать сознание.
– А я Анри Лефевр. Оля-ля! – воскликнул француз. – Вы весь в крови! Вам нужен врач… А ротмистр Аким Рубанов случайно не ваш родственник?
– Это мой отец, – сумел произнести Максим, и опять все закружилось, а в глазах замелькали оранжевые и красные круги и пятна.
Он успел еще почувствовать, как Анри Лефевр бережно опустил его на землю, и потерял сознание, окунувшись мыслями в детство, где не было крови и войны, а лишь любовь и нежность.
Он видел себя маленьким мальчиком. Вокруг него белел снег, а с неба нестерпимо жгло солнце. Он катался на коньках по льду речки, но не Колочи, а Волги, а может, еще какой реки.
Тонкий лед хрустел под ногами.
– Максимушка, сынок, сейчас же выходи на берег! – звала его мать.
Но он не хотел. Ему нравилось кататься и слышать хруст льда.
А родной материнский голос все звал его и не велел удаляться, но Максим смеялся и скользил по тонкому льду – все дальше и дальше от берега, и вдруг впереди увидел черную полынью…
Зловещая ледяная вода расступилась, желая принять его в свою вечность. Ему не было страшно. Он хотел повернуть, но не мог. Ноги сами несли его к свинцовому холоду черной воды.
А сверху неудержимо палило солнце, раскаляя грудь, но боли он не ощущал.
Неожиданно из воды на него уставились белые глаза на мертвом лице. Лицо медленно поднималось, и Максим узнал убитого им спага.
«Неправда! Я не мог убить тебя! У меня не хватило бы сил…»
Рядом с головой спага появились еще две головы.
«Нет! Нет!» – безмолвно кричал он, а ноги несли его к полынье…
И тут увидел отца!
На душе стало спокойно и тихо. Страшные головы куда-то исчезли. Отец стоял на краю полыньи и не пускал его дальше, а затем взял за руку и повел назад, к далекому уже берегу.
От отца исходило столько нежности, любви и тепла, что Максим заплакал от счастья.
На берегу он увидел мать. Она глядела на них и улыбалась.
Наконец лед кончился, и он ступил на сушу.
Мать почему-то не подошла к нему, а взяла за руку отца, и они вместе куда-то пошли, растворяясь в солнечных лучах.
Солнце так ярко светило, что он не мог разобрать, куда они ушли…
Земля была жесткой, и щеке стало больно и неудобно лежать на ней. Невыносимо пекло грудь и плечо.
«Мама! Куда вы ушли?!» – безмолвно закричал, пытаясь подняться. Но руки не повиновались ему.
– Да вот же он! – услышал Максим голос Шалфеева.
– Слава Богу – живой! – склонился к нему Оболенский.
– Не трожь француза! – прошептал Максим, снова проваливаясь куда-то в небытие между жизнью и смертью.
– Бредит, ваше благородие!..
Солнце закатилось. Бой затих. После грома пушек наступила тишина, прерываемая стонами раненых.
Наполеон стоял на Шевардинском холме.
«Вроде все, как всегда, но что-то не так… Ах да! Нет неприятельских знамен у ног, – удивился он, – и не проходит строй пленных с усталыми, потными и закопченными лицами. Нет захваченных вражеских орудий. И главное… – Покрутил по сторонам головой и бросил наземь подзорную трубу. – …Главное, вокруг царит тишина… куда-то исчезли льстецы, первыми поздравлявшие меня с победой…»
Не было в этот раз и улыбающихся маршалов, докладывающих, сколько неприятельских батальонов и полков капитулировало… а в остальном, все как всегда после боя – трупы, разбитые пушки и исковерканная земля. Причем французских трупов не меньше, чем русских.
Позже Наполеон узнал о потерях… о своих потерях! Такого еще никогда не было!
«Франция мне этого не простит!» – с ужасом думал Наполеон.
В последующем он так оценил это сражение:
«Из всех моих сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой. Французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми!»
Огромные потери были и у русских. На следующий день Михаил Илларионович решил не продолжать сражение, а отступить:
«Когда дело идет не о славе выигранных только баталий, но вся цель устремлена на истребление французской армии… Я взял намерение отступить!»
На этот раз Максим очнулся уже не на земле, а на тряской телеге. Хотя он лежал на ворохе шинелей, однако чувствовал каждую кочку.
Перед глазами маячила широкая спина в сером кафтане.
«Куда это меня везут? И где все? Где мой взвод?..» – хотел он подняться, но боль раскаленной сталью плеснула в грудь, и, застонав, Максим рухнул на пропитанную кровью шинель.
Через некоторое время он опять раскрыл глаза и огляделся.
Ночь! Тишина! Озноб! Костры биваков! Больше не трясло. Он лежал все на той же телеге, укрытый шинелью.
– Пить… – с трудом разлепил губы, хотя ему показалось, что громко закричал.
Никто не подошел… Сделать еще одну попытку подняться он не решился. Расслабившись, стал смотреть в звездное небо, пытаясь вспомнить прошедший день… или месяц?.. а может, год!.
Перед глазами всплыли какие-то образы, лица… и среди них – лицо матери и отца.
«Но это же бред! Их не могло быть рядом со мной».
Затем необычайно ясно вспомнил француза-полковника, спасшего ему жизнь.
«И откуда он знает меня?. Ах да! Он знал моего отца… Странно все это!»
Кто-то подошел к нему и поправил шинель.
– Пить! – снова прошептал Максим, вглядываясь в силуэт.
– Ваше благородие, Максим Акимыч! Очнулись, – услышал он негромкий довольный голос Шалфеева. – Мигом водичку спроворю и господину Оболенскому доложу…
Пил воду или нет, Максим не помнил.
Очнулся он от боли, когда злосчастная телега, словно живая, подпрыгнула на каком-то бугре. На этот раз было светло, хотя солнце запуталось в низких облаках и не светило. Голова стала абсолютно чистой и свежей. Максим даже ощутил желание подняться и сесть.
В ту же минуту рядом с ним очутился Шалфеев.
– Слава Богу! – перекрестился он. – В тот раз вы меня напугали.
Чем напугал, Максим выяснять не стал, а лишь спросил:
– Куда это мы едем? И где французы?
Спросить, кто выиграл сражение, не решился.
– Меняем позицию. Отходим к Москве! – доложил Шалфеев.
– Значит, проиграли?
– Никак нет, господин поручик. Выиграли!
– А почему тогда отходим?
– Ищем удобную позицию! – бодро отрапортовал Степан. – Попить или еще чего не желаете?
Максим ничего не желал.
Вскоре показалась Москва. Армия и обозы подошли к Дорогомиловской заставе. День выдался ясным и солнечным.
Кряхтя и хватаясь за грудь, с помощью неотлучного денщика Максим уселся на телеге, по-мужичьи свесив босые ноги. Степан заботливо накинул на его плечи шинель.
И тут же, словно из-под земли, появились Оболенский с Нарышкиным.
– Как себя чувствуете, господин раненый? – Покрутив головой по сторонам, Оболенский, словно колдун, материализовал из воздуха бутылку водки. – Первое средство от ран. Поверь моему опыту. Щеку только этим средством и лечу. – Так же неожиданно в его руке появился небольшой стаканчик. – Эскулап увидит, тут же полкану рапорт накатает, потому как недавно я его немного погонял, чтобы лучше тебя лечил.
Рубанов собрался уже сказать: «То-то я смотрю, он ко мне не подходит», но побоялся за жизнь врача.
– А Нарышкин без единой царапины вышел из боя, – протянул наполненный стакан Максиму князь, – хотя нес знамя дивизии, увлекая ее на врага, и лично распластал эскадрон противника.
– Хватит язвить, Оболенский! – улыбался Нарышкин, протягивая руку за стаканом. – Во-первых, увлекал я в атаку не дивизию, а полк!..
При этих словах князь незаметно подмигнул Рубанову и стрельнул глазами в сторону Сержа – заливает, мол…
– …Во-вторых, распластал, как ты выражаешься, всего десяток французов, – не замечая подвоха, выпил он свою долю.
Оболенский с Рубановым зашлись от смеха.
Максим тут же схватился за грудь.
– Болит?! – хором спросили друзья.
– Уже не так! – ответил он, протягивая руку за порцией.
– Господа! Я сегодня глядел на Москву с Поклонной горы, – похвалился Нарышкин.
– Молодец Рубанов. Жить будешь, – протянул ему стакан Оболенский, не слушая Сержа.
– …Москва все такая же! Будто и нет войны, – вдохновенно продолжал Нарышкин, – ясная, златоверхая, гордая, яркая от осенних садов и бульваров, и благовест… господа. Представляете, слышно колокольный звон! Ну, за Москву-то, князь, как вам ни завидно, я точно положу эскадрон лягушатников, – смахнул он с лица тонкую серебристую паутинку. – Бабье лето, господа, – улыбнулся друзьям.
«Интересно! Что же она ему написала?» – с неожиданно острой ревностью подумал Максим, вспомнив о письмах.
В руках Оболенского появилась вторая бутылка.
– Помянем погибших, господа!.. Волынский скончался! Ты последний, кто с ним говорил, Рубанов…
Когда Максим остался один, то чуть заплетающимся языком спросил у Степана.
– Братец! А где мой колет?
– Колет на месте, вашбродь. Насилу от крови отмыл, – доложил подбежавший Шалфеев.
– А письма там были?
– Так точно! Сейчас предоставлю…
Через минуту Максим держал в руках красные от засохшей крови его и Волынского конверты. Один из них к тому же оказался располосован почти напополам.
«Нет! Не стану читать, не мне писаны», – решил он, отдавая письма Степану.
– Прибери их, братец, и сохрани, – велел ему.
«А как-то теперь моя матушка? – подумал, поудобнее располагаясь на телеге. – Ведь в ее монастыре хозяйничают сейчас французы…»
34
В воскресенье 1 сентября главнокомандующий приказал известить генералов, что в четыре часа пополудни приглашает их на военный совет.
У небольшого потемневшего от дождей домика толпились штабные офицеры. Устав стоять, они расселись на завалинке и достали трубки.
Первым приехал в коляске Барклай де Толли – аккуратный шотландец не любил опаздывать. Штабные офицеры резво вскочили на ноги, приветствуя генерала. Следом прибыли Ермолов и Дохтуров. Затем приехали Багговут, Коновницын, Уваров, Милорадович, Толь.
Замучившись без конца вставать и садиться, Нарышкин нашел у трухлявого забора толстенную колоду, на которой кололи дрова, и, подстелив платок, уселся на нее.
Последним явился Беннигсен.
«Делать старичкам нечего! – рассуждал, сидя на колоде Нарышкин. – Ну чего собирать совет? И так ясно, что надо бить врага и не пускать в Москву!» – Как и другие, он с нетерпением ожидал результата.
У молоденького любопытного подпоручика Елизаветградского гусарского полка не выдержали нервы, и – с молчаливого одобрения всех штабных офицеров – он подкрался к открытому окну комнаты, в которой сидели генералы, и стал подслушивать.
Его серый доломан и ментик очень этому способствовали, так как сливались с серыми бревнами избы.
Подпоручик беспрестанно подносил указательный палец к губам и тихонько сам себе шипел: «Т-с-с-с! Т-с-с-с!».
Наконец он отлип от темных бревен, чуть не по-пластунски прополз под окном и доложил слушателям:
– Михайло Ларионыч опрашивает генералов – ожидать ли неприятеля в позиции и дать ему сражение или сдать оному столицу без боя.
Нарышкин тоже разлучился с колодой и подошел послушать.
– То есть как это – без боя? – возмутился он.
– Вот что, поручик! Хоть это и стыдно, но идите и слушайте дальше! – велел ему кругленький лысый полковник, без конца от волнения облизывающий губы.
Поломавшись и выторговав себе десять бутылок шампанского, подпоручик пополз под окно, тем более что его повысили в чине.
Через двадцать минут офицеры вовсю махали ему руками, подзывая к себе.
– Ну что, что там говорят? – набросились они на гусара.
Тот важно помолчал, подогревая нетерпение, и, с удовольствием закурив, рассказал:
– Барклай де Толли ответил, что сражение принять невозможно и лучше отступить.
Москвичи негодовали:
– Как это отступить?
– …Генерал Беннигсен предлагал ожидать неприятеля в выбранной позиции и дать в оной сражение, – перечислял елизаветградец, мучительно раздумывая, как бы еще раскроить штабных.
– Ну дальше, дальше-то что? – торопили его офицеры.
– …Генерал Коновницын предлагал идти на неприятеля и атаковать его там, где встретят…
– Молодец! Правильно! – приветствовала молодежь.
Пожилые офицеры молчали и внимательно слушали гусара.
– …Полковник Толь предложил немедленно оставить позицию при Филях… и, если обстоятельства потребуют, отступать по старой Калужской дороге.
Вот все, что я услышал, – закончил он.
Штабные чуть не на коленях стали умолять его подслушивать дальше.
Слупив с каждого по три бутылки шампанского, ушлый гусар уполз под окно. Через полчаса, за несколько минут до того, как из дома вышли генералы, он поведал окружающим о том, что услышал:
– Толь убеждал, что опасно отступать через Москву, на что светлейший ему ответил: «Вы боитесь отступать через Москву, а я смотрю на это, как на счастье, потому что оно спасет армию. Наполеон – как быстрый поток, который мы не можем остановить.
Москва – это губка, она всосет в себя всю армию Наполеона!»
– Отступать через Москву? – опешили офицеры.
На этот раз удивились даже все повидавшие на своем веку ветераны штабной службы.
– Как же так? – недоумевали они, но потом остудили горячие головы. – Тише, тише господа. Дайте подпоручику докончить.
Гусар, красный от оказанного ему внимания, и весь в раздумьях, кого он пригласит на пьянку, морща лоб, продолжил:
– После сего Кутузов сказал, что с потерей Москвы не потеряна еще Россия и что первою обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю, и потому намерен, пройдя Москву, отступить по рязанской дороге… и, встав со стула, подытожил, – рассказывал гусар, – «Господа! – произнес Михаил Ларионыч. – Я вижу, что мне придется платить за все. Я жертвую собой для блага Отечества!
Как главнокомандующий, приказываю – отступать!».
От этого известия штабные офицеры и адъютанты затихли.
На следующий день Кутузов составил императору письмо.
«После столь кровопролитного, хотя и победоносного с нашей стороны от 26 числа августа сражения, должен я был оставить позицию при Бородине по причинам, о которых имел счастие донести Вашему Императорскому Величеству.
После сражения того армия была приведена в крайнее расстройство. В таком положении сил приближались мы к Москве. Войска, с которыми надеялись мы соединиться, не могли еще придти, а потому не мог я никак отважиться на баталию, которой невыгоды имели бы последствием не только разрушение армии, но и кровопролитнейшую гибель и превращение в пепел самой Москвы.
В таком крайнем сумнительном положении, по совещанию с первенствующими нашими генералами, должен я был решиться пропустить неприятеля взойти в Москву».
Рубанов трясся в своей телеге по московской булыжной мостовой в череде таких же телег с ранеными.
«Ну ладно тогда, в Дунайской армии, после победы у Рущука оставили крепость для приманки, – думал Максим, – это я могу понять. Но Москва не может быть приманкой!
Это ни какая-нибудь крепость, а первопрестольная столица Отечества нашего, оставлять которую грех!..
Неужели, Кутузов этого не понимает?» – Разглядывал он суетящихся москвичей.
Одни из них, у кого не было телег, закапывали добро во дворах. Другие таскали на телеги сундуки и перины.
Купеческие жены не хотели расставаться с нажитым и грузили поверх коробов с чаем, изюмом и орехами птичьи клетки и горшочки с геранью и жасмином.
– Дуры! – матерно ревели их мужья, скидывая клетки с горшочками, и пичкали на свободное место кули с сахаром, рулоны холста и ситца или бочонки с вином и медом.
– Это пользительнее вашего дерьма! – Довольно осматривали проделанную работу, а вот и наши защитнички идут! – Оборачивались к колоннам понурых солдат, не смевших глядеть в глаза москвичам.
«Прости нас, Москва», – прочел Максим чью-то неровную надпись на стене обшарпанного дома, нанесенную торопливой рукой.
И слезы навернулись на глаза.
«Да мы все как один полегли бы, но отстояли Москву», – подумал он, сжимая кулаки, и неожиданно вспомнил слова Голицына, сказанные там, на Дунае у Рущука в подобной же ситуации: "А каково-то сейчас нашему командующему? Петербург не поймет его решения, и вся армия недовольна им!"» – Рубанову стало жаль этого пожилого седого человека, взявшего на себя гигантскую, непосильную ответственность, недовольство армии и гнев москвичей.
«Пусть сейчас говорят что угодно, главное – что скажут потом!» – так, кажется, ответил Михаил Илларионович на нападки генералов там у Рущука.
«Значит, и здесь он окажется прав!» – с какой-то внутренней уверенностью знал Максим.
На дорогах творилось нечто невообразимое – давка и заторы.
С места колыхнулась вся двухсоттысячная Москва да еще плюс армия и обозы. Возки и телеги цеплялись осями и прочно затыкали дорогу. К тому же артиллеристы спешили вывезти обожаемые свои пушки и тоже надежно перегораживали движение.
Здесь уже не смотрели, кто дворянин, кто купец, а кто мещанин.
Какой-то пузатенький московский барин, не успевший вовремя смотаться, выбрался из возка и, строго гавкнув на мужика, понукающего лошадь, чуток – для острастки и чтоб место знал – стегнул его плетью и тут же получил ответно в челюсть…
«А чо-о?! Полиция и пожарники смылись!..»
Пухлая барыня, тоненько подвывая, помогла ненаглядному подняться и забраться в возок. С непривычки у того очень кружилась голова…
Транспорт с ранеными надежно застрял среди пушек, возков, колясок и телег. Мужики посрывали горло от ора, но дело, хотя, как водится, бесконечно поминали матушку, не двигалось. Затем, с помощью кулаков гвардейского батальона, пробка рассосалась, и часть раненых направили в Головинский дворец.
Там-то к вечеру 2 сентября и нашли Рубанова друзья.
– Как самочувствие? Нет ли желания распрощаться с родной телегой? – гудел князь.
Нарышкин помогал Шалфееву собирать и укладывать вещи.
– Серж тебе шикарный возок отыскал. Немного подправили и можно ехать… А какую перину постелили! – почмокал он губами. – На такой перине только…
Но что «только» не успел досказать, как на них налетел врач.
– Забираем в полк! – орал князь.
– Не пущу больного! – не уступал ему доктор.
Однако через некоторое время, взяв что-то у Оболенского и положив в свой карман, успокоился…
Поддерживая под руки, друзья вывели Рубанова и усадили в возок.
– Ну как перина? – взбираясь на коня, поинтересовался князь. – Сказал же тебе, что на ней только… Куда прешь, козья морда! – заорал на ражего бородатого купчину. – Не видишь, раненого везем, треанафемская кубышка…
Ошалевший купец, уступая дорогу, так накренил телегу, что она чуть не перевернулась. Две его дочери и супруга заверещали, задрав ноги кверху.
Но теперь остановился Оболенский.
– Почему же ты, отвратный алтын, на штанишках для своих баб экономишь?
Купеческие дочки, взвизгнув, нырнули куда-то под короба, а их мамаша, уперев руки в бока, собралась открыть военную кампанию, но струхнувший муженек ее благоразумно увез их от греха.
Максиму отчего-то стало любопытно насчет перины.
«Все равно доскажет!» – подумал он, показывая товарищам ростопчинскую афишу.
– Все-таки, Нарышкин, твой градоначальник молодец, что б о нем не говорила всякая «ученая тварь», сочувствующая французской революции… Вот послушайте: «Сюда раненых привезли, они лежат в Головинском дворце. Я их смотрел, накормил и спать уложил. Ведь они за вас дрались, не оставляйте их: посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это государевы верные слуги и наши друзья, как им не помочь!»
Закончив читать, он аккуратно сложил листок.
– Настоящий русский патриот! – подытожил Максим.
Оболенский и Нарышкин молча с ним согласились.
Возок тем временем подъезжал к заставе.
– Очень удобная перина! – попытался Рубанов вызвать на разговор князя.
Но тот, возбужденный купеческими дочками, перемигивался с какой-то молодой чиновницей.
В принципе Максим и так догадывался, что он подразумевал, но хотел удостовериться наверняка.
– Господи! Ну доскажешь ты сегодня насчет перины? – взвыл он, обращаясь к Оболенскому.
Тот сделал удивленное лицо и, повернувшись к Нарышкину, произнес:
– По-видимому, доктор был прав. Сударь еще тяжело болен! – кивнул в сторону Рубанова. О перине, конечно, не обмолвился.
У Максима даже ладони вспотели – так захотелось дать князю взбучку.
Неожиданно Рубанову стало стыдно за то, о каких пустяках говорят и думают они в такой ответственный для России момент.
«Либо молоды, либо бесконечно глупы! – вздохнул он. – Ежели первое – так это еще исправимо, но коли второе?..»
Медленно и важно, чтоб растянуть удовольствие, въезжал на Поклонную гору Наполеон. Распушив усы и выкатив от усердия глаза, гвардейцы приветствовали своего императора.
Делая вид, что ему безразличны крики восторга, так как привык к ним с пеленок, этот гениальный корсиканский выскочка любовался Москвой, млея от блистательных русских соборов, купола которых сверкали под солнцем, и наслаждаясь возгласами своих солдат.
– Да здравствует император! – надрываясь, орали они, облизываясь на красоты церквей, дворцов и огромных кирпичных домов.
Штатные льстецы шептались за спиной Бонапарта, стараясь, чтобы он услышал:
– Пальмира Востока перед новым Александром… Сказочная Индия под ногами нашего императора… Северные Фивы раскрыли свои врата перед гением Франции…
«Другое дело. Совершенно другое… – довольно думал он. – Не то что после Бородина!..» – Взяв подзорную трубу, стал любоваться Москвой.
– Вот Успенский собор, ваше величество, – аккуратно, пальчиком, направляли его зрительную трубу адъютанты, – а вот Архангельский, а это храм Василия Блаженного…
«Вот он, город русских царей! Русских Иванов и Петра…»
– В Москву! – не выдержав, отдал команду.
У Дорогомиловской заставы Наполеон удивленно огляделся: ни депутации бородатых бояр с каким-нибудь бутафорским ключом на подушечке, ни русских вельмож, ни народа…
Вспомнилось, какой уникальный ключ поднесли ему в Вильне.
«Чего, интересно, им запирали?.. Ну и лентяи, эти русские… даже французского императора не могут вовремя встретить». – Сцепив ладони на зрительной трубе за спиной, мерил шагами площадку перед шлагбаумом, поднимая пыль сапогами.
– Ваше величество! – подскакал к нему польский полковник на танцующем под ним и грызущим удила взмыленном жеребце. – Москва пуста!.. Жители покинули город.
Глянув на полковника, как на клинического идиота, император французов оседлал своего белоснежного жеребца и, злобно пришпорив, помчался в город. За ним шумно ринулись свита и гвардия.
Улицы действительно оказались пусты и безлюдны. Ветер гонял бумагу, путавшуюся в серой траве у деревянных заборов.
Такого на его памяти еще не было: Варшава, Вена, Берлин, Лиссабон, Рим, Милан, Венеция, Амстердам, Каир… – сколько городов занял он за пятнадцать лет беспрерывных войн, но никогда жители не покидали насиженные места и свои дома.
Сильный порыв ветра высоко поднял пыль и бросил ее в лицо императора. Защищаясь, Наполеон прикрылся ладонью, и вдруг сердце его застыло от страха… Предчувствия никогда не обманывали его. Этот вымерший русский город – начало его конца!..
И первое, что он сделал в Москве, – написал письмо в Петербург с предложением заключить почетный мир.
Победитель, каким считал себя Наполеон, униженно просил мира у побежденного.
Льстецы тут же превознесли его, назвав это прекрасным жестом.
– Ну что может быть великодушнее, нежели предложить мир побежденному! – восхищались они.
На самом деле Бонапарт просто боялся…
Боялся этой так и не покоренной азиатской столицы…
Боялся роскошных кремлевских покоев.
Боялся пожаров, начавшихся сразу же, как французы заняли город…
Боялся необъятной России и непонятного ее народа…
«Скифы! Хитрые скифы… Какую свинью подложили вы мне на этот раз?!»
35
Русская армия и часть москвичей отходили по Рязанскому тракту на Бронницы. Арьергардом командовал генерал Милорадович, и войска его удачно сдерживали французов.
Рубанов в удобной коляске на мягкой перине ехал со своим взводом. Полковой врач неотлучно находился рядом, но, видя, что больной неплохо себя чувствует, посвятил свое время другим раненым, в частности Веберу, который тоже пришел из лазарета в полк.
Вебер поначалу гордо нес свой перебинтованный палец, наставив его в небо, словно ствол гаубицы, затем расположил его на плече, словно дубину. Убедившись, что вся гвардия и особенно начальство заметили его «страшную рану», попросил доктора сделать перевязку.
Полковой лекарь доказывал, что бинтовать не следует, так как на свежем воздухе царапина быстрее подсохнет и заживет. Вебер же говорил эскулапу, что тому просто жаль перевязочного материала. Устав спорить, врач наложил ему легкую повязку.
На вторую ночь армия и уходившие с ней жители заметили огромное зарево над оставленным городом.
– Господи – крестились москвичи. – Никак Белокаменная занялась!..
– Пропала моя избушка у Боровицких! – рыдала худая, измученная баба.
– Избушка у нее пропала! – философски смолил махру дед. – Тут почище дело… Поди, все Зарядье пылат, и Моховая впридачу. – Солидно высморкался двумя пальцами и незаметно стер слезу.
Настроение у всех было подавленное.
Офицеры конногвардейского полка, кто – прищурившись, а кто – в подзорную трубу, глядели в сторону Москвы.
– Какое незабываемое, величественное зрелище, господа! – наставив забинтованный палец на пылающую Первопрестольную, патетически воскликнул Вебер.
– Особенно для старшего ротмистра Вайцмана! – поддержал его Оболенский. – У него там приданое горит!..
Неожиданно получили приказ идти не в сторону Рязани, а повернуть к Подольску. Вечером 5 сентября армия подошла к Подольску, и Кутузов сделал смотр. Впервые после сдачи Москвы потрепанные полки приветствовали его криками «Ура!».
Долго не задерживаясь в Подольске, армия двинулась на старую Калужскую дорогу и стала у Красной Пахры. Здесь получили радостную весть: за Бородино государь произвел Кутузова в фельдмаршалы.
Не забыл император и об армии.
Солдаты получили по пять рублей, а офицеры – третное жалованье. Армия повеселела и ободрилась.
К тому же уже несколько дней их не беспокоили французы.
Мюрат потерял русскую армию. И лишь в середине сентября он узнал об ее местопребывании, разорвав и растоптав за это время около десятка роскошных своих головных уборов. За столь крупную потерю Бонапарт при множестве генералов обозвал шурина «шляпой».
«Позор и бесчестье! – стонал Неаполитанский король. – Я этого не переживу. И белотелые москвички, как нарочно, покинули свой город… Ну зачем мне такая война!»
21 сентября Кутузов отошел еще на два перехода к Калуге и встал у села Тарутино на левом берегу реки Нара. На другом берегу виднелось сельцо Гранищево. Часть армии, переправившись через реку, заняла позиции в полуверсте за селом.
Главная квартира расположилась в деревушке Леташовке.
Михаил Илларионович занял избу о трех окнах направо от выезда со стороны Тарутина, состоявшую из столовой, кабинета, приемной и спальни за перегородкой.
По армии ходили слова Кутузова: «Теперь – ни шагу назад!»
Главнокомандующий отдал приказ: «Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество на нас взирают».
Нашлись льстецы и у Кутузова. Даже среди генералов. Они хвалили его осмотрительность и дальновидность, восхищались удачным фланговым маршем, намекая, что это они подсказали «старику» сей замечательный маневр.
На этот раз время у Кутузова имелось, и инженерно-фортификационные работы велись на совесть. Инженерно-саперные части генерал-майора Ивашева вдоль всего фронта соорудили земляные укрепления, перед фронтом и на флангах возвели люнеты и редуты, построили шесть мостов на реке Наре.
В лагере образовалось множество улиц, получивших название «Шестой корпус», «Четвертый корпус», «Гвардейская».
Самой крайней была «Кирасирская». На этой улице располагались 1-я и 2-я кирасирские дивизии под командой генерал-лейтенанта Голицына, кузена князя Петра. 1-й дивизии особенно повезло. Она располагалась по квартирам, а не палаткам и шалашам, как другие…
В Тарутино солдаты пришли грязными и обносившимися. Офицеры ходили в латаных мундирах с оторванными эполетами, пестревшими замытыми кровавыми пятнами.
Но через неделю каптенармусы выдали сукно. Тут же, пронюхав об этом, со всех близлежащих губерний съехались евреи-портные, и армия приоделась.
Тарутино заменило собой обе русские столицы. Взоры всей России были обращены сюда. Русская армия регулярно получала продовольствие из южных губерний, вооружение с калужских военных складов и плотно прикрывала бесперебойную работу тульских оружейных заводов.
В Тарутино двигались воинские пополнения, везли снаряды, порох и ружья, обмундирование, хлеб и фураж, гнали табуны лошадей и скот.
Ушлые торговцы, почуявшие барыши, везли сюда крупу, мед, яйца и масло.
Достать здесь можно было что угодно, имелись бы денежки, а они как раз-то в армии водились.
Маркитанты продавали ставропольские арбузы, астраханскую селедку, киевские паляници и кахетинские вина.
Войска отдыхали, становясь с каждым днем бодрее, энергичнее и сильней. Как потом вспоминали участники: «Укрепленные высоты Тарутина среди веселых отзвуков музыки и пения, освещенные необозримыми рядами вечерних огней, представляли вид не простого воинского стана, но некоего великолепного города».
В Тарутино шли пешком и ехали в телегах крестьяне, а в колясках и возках господа – дабы проведать служивших в армии мужей, сыновей и братьев.
Взводу Рубанова достались два крепких домика. Более просторный заняли Максим, Шалфеев и пятеро легкораненых кирасиров. Другой дом занимали пятнадцать оставшихся в строю конногвардейцев.
На тесноту не жаловались, радуясь тому, что имелось. По ночам теперь становилось прохладно, а тут истопил печку – и грейся. К тому же во дворе – чудесная небольшая банька.
В соседних двух домах разместился взвод Оболенского.
Жизнь шла своим чередом…
Проведать Рубанова приехал Петр Голицын. Максим начал уже ходить, и они медленно гуляли по селу, разглядывая бивак.
– Полагаю, вы довольны, поручик? – улыбался князь. – Мой кузен здорово посодействовал 1-й кирасирской дивизии. Живете как люди. А я ючусь, словно крот, – смеялся он, – в землянке, правда, весьма сносно оборудованной. Солдаты сделали даже камелек для своего любимого командира.
Вы уже слышали, наверное, господин поручик?.. – Заботливо поддержал Рубанова под руку, когда тот споткнулся.
– О чем, господин полковник? – Кивком головы поблагодарил за помощь Максим.
– …Что Василий Михайлович убит при Бородино? – Желваки заиграли на княжеских скулах.
Посмотрев вдаль на облако, Рубанов перекрестился:
– Василий Михайлович?! – прошептал он и опустил голову.
Через несколько секунд, вытерев кулаком глаза, Максим, чтобы отвлечь князя и сделать ему приятное, спросил:
– А как поживают княгиня Катерина и Голицын-младший? Не пора ли записывать его в конногвардейский полк?
– В гусары, сударь! Только в гусары, – повеселел полковник. – Когда-нибудь заменит нас с твоим отцом и Василием Михайловичем…
– Отца заменю я сам, – невежливо перебил князя Рубанов.
– …А жена чувствует себя прекрасно и передает вам привет, – не обратил внимания на мальчишескую спесь и бестактность Голицын.
Вечером, не успел Шалфеев доложить, что прибыли гости, как в комнату ввалился Оболенский с двумя кавалергардами. Следом Огурец с Укропом корячились под приятной тяжестью вин и закусок. Шалфеев тут же бросился им помогать.
– Встретил на ярмарке! – басил Оболенский. – А они как раз-то вас, Рубанов, и искали. Так что принимай гостей, – велел хохлам сервировать стол.
Сало, чтоб у украинских любителей сего продукта не кружилась голова и от этого не отрезали себе пальцы, поручили резать Шалфееву.
– Вскоре и Нарышкин подойдет, – довел до сведения присутствующих Григорий, – специально вестового прислал для солидности, дабы тот заранее сообщил о прибытии героя, – иронично хмыкнул князь.
Кавалергарды были малость под хмельком, и он им дико завидовал. Сам Оболенский весь день провел в делах и не успел даже пообедать – приказом по полку он теперь исполнял обязанности заместителя командира эскадрона вместо погибшего штаб-ротмистра Гурова, и «тяжелораненый» Вебер все взвалил на него.
Отпустив денщиков, Оболенский разлил по стаканам водку – после рубки французов это являлось самым приятным занятием.
– Ну, господа, помянем павших!
Все встали и молча выпили…
– Рубанов, вы были последним, кто разговаривал с Волынским, – через некоторое время произнес Шувалов, – мне Мишка Строганов рассказал, – кивнул на друга. – Не могли бы вы поведать о последних его минутах?
– Извольте! Погиб Денис как герой! – знаком показал Оболенскому, чтоб наполнил стаканы. – Два лягушатника-капрала напали на графа… и, не сумев сладить саблями, один из них застрелил его, за это проглотив мой палаш, голова другого и сейчас улыбается, уткнувшись в траву. Провидению было угодно, чтобы я отомстил за него.
Господа! – поднял стакан Рубанов. – За поручика Волынского, господа! Героя и кавалергарда!
Строганов, сопя носом, молча смахнул слезу.
– Спасибо, сударь! – выпив, поблагодарил Максима Шувалов. – А что он вам сказал перед смертью?
Максим тяжело вздохнул.
– Грустно все это… Я думаю, господа, что мы, наверное, никогда не станем такими как прежде! Юность наша осталась истекать кровью на Бородинском поле… Вы помните, как славно мы чудили в Петербурге? Даже не верится, что Волынского нет с нами.
И поверьте мне, господа, я забыл все плохое, к тому же, умирая, он попросил прощения. – Спазм перехватил горло Максима, и, опрокинув стул, он поднялся и вышел, через минуту вернувшись с бурыми от крови конвертами. – Его последняя воля, господа… Но позвольте этого вам не открывать, так как это носит личный характер.
– Надеюсь, вы не скучаете без меня? – вихрем влетел в горницу запыхавшийся Нарышкин. – Я привез кучу новостей, скорее налейте штрафную. – Брякнулся на свободный стул и все никак не мог отдышаться.
– Кто на ком скакал, сударь? – усомнился, протягивая ему стакан, Оболенский.
Постепенно все заулыбались, глядя на раскрасневшегося графа.
Жизнь-то ведь продолжалась…
– Господа! Все мы теперь кавалеры! – Обвел он взглядом присутствующих и немедленно занялся штрафной.
– Постойте, постойте! Вы что, поручик, в чужом мундире? – обратил внимание Оболенский на его эполеты.
– Не поручик, а штаб-ротмистр! – гордо хряпнул о стол пустым стаканом. – Напрасно, что ли, дивизию в бой водил?! – с удовольствием глянул на свой эполет.
После штрафной дыхание его пришло в норму.
– …И к тому же кавалер ордена Святого Владимира 4-й степени!.. На завтра назначено торжественное построение и достойные получат свои награды! – важно произнес он. – Ну мне-то, полагаю, крест преподнесет сам Кутузов.
Впервые Оболенский потрясенно глядел на графа. Нарышкин просто упивался его взглядом.
– Кстати, кузен,– обратился к нему, под горло насладившись уважительным удивлением, – получил письмо от вашей кузины – со дня на день будет в Тарутино. – Но князь не обратил на это сообщение никакого внимания.
Чтобы несколько привести его в чувство, Нарышкин произнес:
– Не помню, упоминал ли о том, что вам тоже присвоен чин штаб-ротмистра и завтра вашу грудь, как и мою, украсит Владимирский крест?!
От такого известия Оболенский из горлышка выдул полбутылки водки.
– Эх, жаль шампанского нельзя! – воскликнул он. – А вы, Рубанов, полагаю, не отказались бы от устриц? – басовито заржал князь. – Штаб-ротмистр и кавалер, – все еще не веря, покачал головой. – Несмотря ни на что, нет ничего лучше службы в армии…
– Рубанов пока оставлен в прежнем чине, но за заслуги перед Отечеством награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Как вы все знаете, господа, этот небольшой красной эмали крест крепится на эфес холодного оружия.
Максим почему-то не обрадовался награде.
«За Россию сражался, а не за орден!» – подумал он.
Нарышкин, захлебываясь словами, перечислял:
– Шувалов тоже оставлен в прежнем чине, но заслужил Владимира 4-й степени, поручик Строганов произведен в штаб-ротмистры с присвоением Владимира 4-й степени. Кажется все, господа! – улыбнулся Серж. – Выпьем за кресты и чины! – поднял стакан.
На следующий день, пока Арсеньев находился на излечении, полковник Леонтьев зачитывал приказ по армии и награждал отличившихся.
Грудь Вебера тоже украсил Владимир. После этого он разбинтовал палец и выкинул бинт, посчитав, что тот свою миссию выполнил.
Всей душой ненавидевший французов Вайцман получил Анну 2-й степени, а Шалфеев, Кузьмин, Синепупенко и Огурец с Укропом – солдатских Георгиев.
Весь день в Тарутино отмечали награды.
Армия восстанавливалась морально и физически.
В занятой французами и сожженной Москве дело обстояло иначе… Французская «великая армия» медленно, но неуклонно разлагалась, как оставшиеся под Бородино трупы. Войска начинали голодать.
А голодный солдат – это не солдат. Ему наплевать на дисциплину и своих командиров. Все его мысли вертятся вокруг собственного живота.
Наполеон мрачно ходил от одной провонявшей дымом двери кремлевской залы – к другой. Огромный круглый стол, покрытый картой, светился ярче рождественской елки от множества стоявших на нем свечей. Большое зеркало у стены коверкало фигуру императора, и это делало его еще раздражительнее. «Доходит до того, что мои собственные солдаты не обращают на меня внимания и не отдают честь, – прошел он мимо зеркала, гротескно увеличившего его живот. – Черт возьми! Не верю, чтобы Александр долго терпел подобное надругательство, не иначе Мюрат притащил его сюда, мстя за "шляпу", – переместил он маршрут в другую часть комнаты. – Вчера своими глазами наблюдал драку пьяных французских гвардейских артиллеристов с баварскими гусарами… Ну откуда в Москве столько водки?.. И почему огонь пощадил винные погребки? Или мои солдаты отбивали у пламени только эти заведения?..
А что творится на улицах? Кругом валяется дорогая разбитая мебель, книги в сафьяновых переплетах, изваленные в золе ковры и персидские шали…
Но мои непобедимые орлы варят в серебряных чашах конину. Хлеба нет вовсе, и достать его невозможно.
Я велел платить русским крестьянам без обмана наличными, но они все равно не везут продовольствие в Москву», – задумавшись, отклонился от выбранного маршрута, и путь его снова пролег мимо зеркала, которое, со свойственным ему ехидством, сделало Бонапарту великолепные кривые ножки и длинный нос.
Плюнув на свое отражение, он шарахнулся к противоположной стене. «Надо велеть убрать из комнаты это безобразие и заодно разжаловать Мюрата в рядовые, – вздохнул император, медленно успокаиваясь. – Следует написать еще одно воззвание, чтобы русский мужик не боялся везти нам питание, и выпустить несколько бюллетеней, в которых необходимо склонять жителей Московской губернии на свою сторону любыми обещаниями и посулами. Надо распустить слух, что у нас много хлеба и мы намерены тут зимовать! – решил он. – Русская нация есть непредсказуемая нация! – думал Наполеон. – Я обещал русским крестьянам освободить их из крепостной неволи, если они будут относиться к нам лояльно, а мужик взял топор и стал уничтожать французов не жалея живота своего, как говорит простонародье.
Дворянство, докладывали мне перед войной, презирало родной язык, свой народ и боготворило все французское, заимствуя от нас моду, философию и образ жизни… Так что сильного сопротивления, по моему мнению, русская аристократия оказать не должна.
Но вышло все по-иному! Лучшие русские фамилии почитают за честь сражаться с нами и погибнуть за Россию!
За ту самую Россию, которую ругали и презирали…
Никогда не поймешь, что творится в душе у этих русских!..» – Увидел в зеркале свой огромный отвисший зад и, заорав, в бешенстве схватил тяжелый подсвечник и швырнул им в ненавистное стекло, наслаждаясь хрустальным звоном.
«Так я должен разрушить и русское царство! – Велел денщику убрать стекло и кликнуть секретаря. – Но прежде чем разрушать, надо набраться сил; а для этого, как воздух, необходимо перемирие. На прошлое мое послание Александр ответил, что лучше согласится питаться одним хлебом в недрах Сибири, чем подписать постыдный мир для своего отечества. "Провидение испытывает нас, будем надеяться, что оно нас не оставит!" – эти его слова весьма актуальны и для меня…
Следует предложить им выгодный и почетный мир! До царя письмо без Кутузова не дойдет, значит, напишем и ему».
– Посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с Вами о многих важных предметах, – начал диктовать он. – Прошу Вашу светлость верить словам его, особенно когда он станет выражать Вам чувства уважения и особенного внимания, издавна мною к Вам питаемые. Засим молю Бога о сохранении Вас под своим священным кровом. И ниже, – посмотрел на календарь. – Москва, 20 сентября 1812 года. Наполеон. Оставьте, я подпишу, – отпустил секретаря и взял написанный текст.
– Уважения, к вам питаемого! – язвительным голосом прочел Бонапарт. – Да я его в хвост и гриву разнес под Аустерлицем, – с удовольствием вспомнил то время, ставя подпись.
«Не везет мне с этими одноглазыми… – подумал Наполеон. – Английский адмирал Нельсон разбил мой флот! – заскрипел зубами от бессильной ненависти. – А этот русский может уничтожить сухопутную армию… – загрустил он. – Не зря царь Петр издал рескрипт, что косым и рыжим запрещается свидетельствовать в суде, понеже бог шельму метит! Это явно и к одноглазым относится…
То-то он мне подкладывает свинью за свиньей… Думаю, что перед тем как поседеть, Кутузов был рыжим!» – С опаской отшатнулся от пустой рамы, но тут же успокоился, увидев, что стекло отсутствует.
За рамой виднелась старинная кладка непробиваемой русской стены…
«Неужели выхода нет?!. – сжалось от суеверного ужаса сердце французского императора. – Надо скорее покинуть этот мистический дом славянских царей!»
Наполеон склонял русских на свою сторону, печатая воззвания, но его политический и литературный противник граф Ростопчин в своих лубочных афишах старался уничтожить вредное воздействие на народ Бонапарта.
Он писал в своей афише:
«Крестьяне и жители Московской губернии! Враг рода человеческого, злой француз пришел в Москву, предал все мечу и пламени, ограбил храмы Божии, осквернил алтари и церковные сосуды.
Он разграбил дома и имущество, осквернил кладбища, заловил, кого мог, и заставил таскать, вместо лошадей, вещи, им краденые. Морит наших с голоду, а теперь, как самому есть стало нечего, пустил своих ратников, как лютых зверей, пожирать все вокруг Москвы и вздумал ласково сзывать вас на торги, мастеров – на промысел, обещая порядок и защиту всякому. Неужели вы, православные, верные слуги царя вашего, кормильцы матушки каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному?
Проведет он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые, с ними же вам будет беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианами, воинами Божией Матери, не слушайте пустых слов.
Истребим остальную силу неприятельскую, погребем их на Святой Руси, станем бить, где ни встретятся, уж мало их осталося, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, как стада орлиные.
Истребим гадину заморскую, предадим тела их волкам, вороньям, а Москва опять украсится, покажутся золотые верхи, дома каменные, повалит народ со всех сторон.
Отольются волку лютому слезы горькие, еще недельки две, так кричать пардон будет».
Когда Рубанову становилось грустно, он доставал и читал этот шедевр российской словесности.
Особенно его приводили в умиление «большие стада орлов…».
А когда посмеешься, вроде и жить хочется!
«Даже Гришка Оболенский не сумел бы лучше написать».
Но, что самое удивительное, изложенные народным языком мысли московского градоначальника постепенно начинали сбываться на практике. Как бы ни смеялся над его афишами высший свет, но кроме него с народом никто не говорил, и простой мужик действовал согласно этим простым словам.
Ростопчин гордо ходил по Тарутинскому лагерю и при встрече с Кутузовым отворачивался от него: не мог простить сдачу Москвы неприятелю. Градоначальник не ладил с военачальником.
И еще Ростопчин на дух не терпел молодого да раннего пиита ополченского офицерика Ваську Жуковского.
«И чего общество находит в его слащавых виршах?» – недоумевал граф и страдал от ревнивой зависти, когда слышал, как вечером какой-нибудь безусый мальчишка прапорщик восторженно читал звучные слова: "На поле бранном тишина, огни между шатрами, друзья, здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами. Наполним кубок круговой! Дружнее! Руку в руку! Запьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя… О всемогущее вино, веселие героя!" – У меня намного патриотичнее и лучше, – злился Ростопчин, – вот, например: "Он разграбил дома и имущество, осквернил кладбища, заловил, кого мог, и заставил таскать вместо лошадей вещи, им краденые". Все ясно и доходчиво. К тому же не прославляю вредное для русского человека пьянствие…»
36
Дождило!
Ветер метил окно мелкими каплями.
Мари, сжавшись, глядела в затухающий серый денек, и беззвучные слезы нежно гладили щеку. Она смотрела на редкие кареты, разбрызгивающие колесами лужи, но не видела их. Перед опухшими от слез глазами стояли безжалостные в своем безразличии строки приказа по армии об убитых и раненых, среди которых прочла фамилии двух любимых людей – Волынского и Рубанова.
«Может, это ошибка? Ведь я так молилась за них…
Это мой грех! Нельзя любить одновременно двоих. Бог наказал меня… – глядела в пустоту хмурого вечера. – Что же мне теперь делать? Что?!»
Взгляд ее сосредоточился на худой мокрой дворняжке, Мари следила за ней, пока та не скрылась за углом. «Папа прислал письмо, что ведет в Тарутино пополнение из Воронежа – два полка рекрутов.
И умирающий Рубанов в Тарутино! Вдруг я еще могу спасти его… Хоть одного из двоих». – Отошла она от окна и нервно заходила по комнате, хватая какие-то вещи и затем бросая их.
«В Тарутино! Непременно поеду в Тарутино…» – решила она.
Мюрат, бодро подойдя к Милорадовичу, первым отвесил поклон и, подняв ветер, помахал у ног шляпой, забыв, что он уже не сын трактирщика, а король Неаполитанский.
Русский генерал тоже склонил в поклоне голову, а затем они принялись мило беседовать, прогуливаясь по лужайке под руку.
Уже более недели командующие французским авангардом и русским арьергардом начинали утро с милой беседы.
С одной стороны казаки, а с другой – французские гусары, наблюдали за своими начальниками.
– Месье! Вам не надоела война? – начинал беседу Мюрат.
– Не мы ее начинали! – отвечал Милорадович.
– Но почему вы не хотите мириться?.. Ведь мы дружественные народы! – удивлялся король Неаполитанский.
– Вспомните слова нашего императора, что пока Россию не покинет последний вооруженный француз, о мире не может быть и речи, – парировал генерал.
Легкомысленный француз тут же начинал хвалиться своими воинскими и амурными подвигами. Русский генерал не уступал ему.
Язвительный Ермолов, наслышанный об их беседах, как-то обмолвился в главной квартире, что «в хвастовстве не всегда французу принадлежало первенство».
И это действительно было так. Милорадович ни в чем не уступал Мюрату.
Неаполитанский король, помня трудное босоногое детство, любил броско одеваться. Вот и сегодня на нем были красный бархатный плащ, расшитый золотом, зеленые сапоги и желтые панталоны. Сверху все это прикрывала от солнца умопомрачительная синяя шляпа, увенчанная страусовыми перьями.
Щеголеватый Милорадович тоже любил показать себя. Чисто выбритый и надушенный, этот потомок гордых сербов одет был в сшитый с иголочки генеральский мундир с золотыми эполетами и звездой на груди. Голову его украшала прекрасная шляпа с плюмажем, а шею – три разноцветных шарфа.
Ермолов смеялся, что «третьего, подобного им, во враждующих армиях не было». Может, он просто завидовал?..
На этот раз Мюрат постоянно отвлекался и крутил головой, полностью уступив пальму первенства своему сопернику.
– Вы кого-то ждете? – наконец догадался Милорадович.
– А вот и генерал-адъютант, – заулыбался гасконец, – я думал, уже не приедет. Ваше превосходительство, месье генерал! – напыщенно произнес он, обращаясь к Милорадовичу. – Его величество император Наполеон шлет к фельдмаршалу Кутузову парламентера…
В это время высокий генерал, вся свита которого состояла из двух кирасиров, ловко спрыгнул с коня и, подойдя к беседующим, отвесил поклон.
– Генерал-адъютант императора Батист Лористон, – представил его Мюрат.
– Мой император изволил направить меня послом к вашему главнокомандующему, – с опаской поглядел на бородатых казаков приехавший генерал.
«Именно такими я и представлял чертей! – подумал он. – Все-таки смелый человек Иоахим Мюрат, хотя и клоун», – улыбнулся посол, пытаясь скрыть тревогу.
– Простите, но я не могу сразу отвезти вас к Кутузову… может, фельдмаршал болен или просто не в настроении вас принять, – с достоинством произнес Милорадович, думая про себя, что раз запросили мира, могут и подождать. – «Силенки, месье, нынче у вас не те…» – послал он казака в главную квартиру.
– Ну что ж! Мы приучились ждать, – галантно бросил на траву свой плащ Мюрат, предлагая присаживаться.
Приехавшие с Лористоном кирасиры тихо спорили в стороне, кому из них он потом достанется.
К обеду вестовой вернулся и доложил, что посол императора будет принят, а для его сопровождения едет князь Волконский. Обрадованный Лористон первым встал с плаща. Не уступая ему в резвости, вскочил на ноги и Мюрат. Последним поднялся и оседлал коня Милорадович.
Казак, поводив по сторонам карими блудливыми глазами, быстро поднял плащ и сунул его в торбу, приведя этим в страшное уныние двух кирасиров.
Михаил Илларионович принял французского посланника без всякой торжественности, не удосужившись надеть парадный мундир. «Даже при Бородино не наряжался, а для этого французика много чести будет».
Но когда тот вошел в избу, кряхтя, все же поднялся с лавки: «Полагаю, какое-то уважение следует оказать… Хотя, что понимают в этикете и правилах приличия эти парижские булочники, мясники и кондитеры…»
– Садитесь, господин генерал! – указал он вошедшему на стул.
Прежде чем сесть, Лористон протянул Кутузову пакет.
– Письмо вашей светлости от его императорского величества, – склонил он голову.
«Вежлив, вежлив и хитер! – улыбнулся про себя фельдмаршал. – Наверное, из дворян, – вскрыл он конверт. – Эта записка меня убеждает, что Наполеону мир нужен как воздух!» – прочитав, аккуратно положил письмо на липовый стол.
– Передайте мою благодарность императору, – произнес фельдмаршал, тяжело усаживаясь на скамью.
«Как может этот старый простофиля противостоять нашему императору? – удивился француз. – Такого ничего не стоит вокруг пальца обвести. "Соглашайтесь на что угодно, но привезите мне мир!" – вспомнил он слова Бонапарта. – Надо усыпить его внимание», – решил француз.
– Я в восторге от русской осени! – представляясь наивным, воскликнул Лористон. – Этот желтый лист, прозрачный воздух и русские березки… Я влюбился в Россию, господин фельдмаршал!
«Через пару недель ты ее разлюбишь!» – внимательно поглядел на парламентера князь и улыбнулся, раскинув по щекам добрые стариковские морщины:
– Кроме этого вам что-то еще поручили сказать?..
«Не сильно, но ущипнул!» – широко улыбнулся француз.
– Кроме слов уважения, которое питает к вашей светлости его величество, мне предложено довести до вашего сведения предложение императора об обмене пленными.
«Уже горячее!» – пустил морщинки на лоб фельдмаршал.
– Ну конечно! – припечатал ладонью письмо. – Хотя пленных вы захватили ничтожное количество, я с удовольствием обменяю их. Партизаны каждый день ведут в лагерь захваченных французов.
– Да, да! Наполеон считает партизанскую войну варварской и недостойной великого русского народа… Ваши крестьяне нападают на наших солдат и убивают их…
– А вы объясните это мужику, у которого сожгли дом и изнасиловали жену! – убрал морщинки князь.
«Э-э-э! Да он не так прост, как кажется, этот добродушный толстый лис!»
– Ваша светлость знает, что на войне творятся жестокости! – попытался оправдаться француз, но этот выпад обернулся против него.
– Полагаю, вы сами и ответили себе!
– Но злоба не может быть вечной! – патетически воскликнул Лористон, постепенно подходя к главному. – Мой великий повелитель желает помирить два народа и покончить с этой кровавой войной. Людям нужен мир! – Обхватил колени руками, стараясь унять дрожь, и со страхом ожидал, что ответит русский фельдмаршал.
«По-моему, я был красноречив и убедителен», – успокаивал себя.
«Наконец-то! Тонкий дипломат, – с уважением подумал о своем оппоненте князь. – Но, к сожалению, буду вынужден несколько разочаровать его…»
– К глубочайшему, ну просто к огромному моему сожалению, вынужден разочаровать ваше превосходительство,– напустил на лицо все морщины, бывшие в его распоряжении, при этом добродушно улыбаясь французу. – Не в моей компетенции подписывать мирный договор. Император не уполномочивал на это. Он велел мне лишь уничтожить вашу армию… и все, – наивным голосом произнес Михаил Илларионович, с трудом поднимаясь с лавки.
«Дает понять, что аудиенция закончена, а я так ничего и не добился», – тоже встал француз.
– Ваша светлость! Умоляю вас, – глазами голодной собаки глядел на князя посол, – разрешите мне поехать с этим вопросом к его императорскому величеству Александру.
– Простите, генерал! Но я не вижу в этом необходимости. Не стоит так утруждать себя… К тому же на дорогах пошаливают партизаны… Не проще ли будет мне самому доложить о вашей просьбе его величеству?
– Да, это так! – подошел уже к двери Лористон. – Но не могли бы мы прекратить военные действия, пока не придет ответ из Петербурга?
– Еще раз прошу прощения, генерал, но солдаты проклянут своего фельдмаршала, ежели я прекращу сражаться. Но вы не волнуйтесь. Ради Бога, не волнуйтесь! – обнял его за плечи князь. – Завтра же, ну, в крайнем случае – послезавтра, так как на завтра намечен смотр, я отошлю рапорт государю.
Кутузов ласково глядел на Лористона, словно дедушка на внука.
Поклонившись фельдмаршалу, тот вышел из избы с таким видом, словно его принародно высекли.
Михаил Илларионович смотрел на него в мутное оконце и улыбался.
Не успел Лористон добраться с аванпостов до главной квартиры, как весь лагерь уже знал о прибытии французского посла и заинтересованно обсуждал, чем закончится его миссия.
Впрочем, итог заранее просчитывался, но все может быть… С Москвой тоже думали, что иначе выйдет, ан вон что получилось…
Закончив необременительные занятия, рубановский взвод активно прорабатывал данную тему.
– Лошадятина тоще устриц оказалась! – сидя в кругу товарищей, язвил Шалфеев. – Москву им подавай… Насытились ужо! Наелись Москвой до отвалу.
– Да-а-а! С хлебушком у них тесно! – было общее мнение. – Скоро повернем незваных гостей домой. Какой может быть мир с Бонапартой?..
Когда грустный Лористон ехал обратно, солдаты, как и их фельдмаршал, тоже улыбались. По лицу посла ясно читалось, чем закончились переговоры.
– Вона, вона хранцуз едет!.. – слышал он за своей спиной язвительные солдатские голоса.
«Почему название нашей нации они начинают с буквы «х»? – размышлял Лористон. – Может, мы ассоциируемся у них с тем местом, на которое они так любят всех посылать?..» Встречаясь с русскими пленными, он заучил самое популярное народное слово.
Проводив гостя, Кутузов позвал штабного офицера и продиктовал приказ об организации новых отрядов и активизации партизанской войны. «Наполеон рассчитывал победить нас в генеральной баталии, а мы разобьем его малой войной!»
С юга и юго-запада Москву охватила сеть партизанских отрядов. Молодые офицеры завалили главную квартиру рапортами с просьбой выделить им отряд и направить бить французов.
Оболенский и Рубанов тоже написали рапорты на имя Кутузова.
Французские солдаты боялись удаляться от Москвы. Город жил, словно в осаде. Во французской армии начался самый настоящий голод. Чтобы достать немного фуража и хлеба, приходилось посылать чуть не полк. Однако осмелевшие партизаны не боялись вступать в бой и с неприятельским полком.
Тарутинский лагерь жил мирной жизнью.
Через день после Лористона к Нарышкину приехала жена. Так как улица «Кирасирская» являлась крайней, следующие проулки составляли шалаши простонародья и маркитантов, а за ними, но в некотором отдалении, раскинула палатки аристократия из тех, кто не желал жить по крестьянским избам в соседних деревнях – и далеко, и клопов много.
Там-то приехавшие с Софьей слуги и разбили палатку.
Осень стояла сухая, теплая и солнечная. Спать на свежем воздухе было одно удовольствие – романтично и приятно.
Кутузов на время приезда Софи освободил Нарышкина от исполнения адъютантских обязанностей, и день он проводил наедине с женой. Они катались в кабриолете и любовались принарядившимся ярким лесом и ласковой уютной речкой, наслаждались покоем и одиночеством – и целовались… целовались… целовались… медленно, по глотку выпивая чашу, называемую счастьем.
Вечером, когда кавалерийские кони неровной цепочкой тянулись с водопоя, а барабаны стучали «доброй ночи», их ненадолго посещали Оболенский и Рубанов.
– Господа, господа… – жмурилась от переполнявших ее чувств Софи, – как я рада, что вы живы! – целовала она кузена с Максимом. – Я только сейчас поняла, какое это счастье – жить!
Потом друзья шли к себе, оставляя Сержа и Софи одних.
Те из офицеров, к кому приехали гости, шли к ним, а одинокие собирались где-нибудь на природе. Денщики разводили костер, и под чашу с пуншем велись бесконечные разговоры о последней кампании и о подвигах, совершенных при Бородино. Пили за князя Багратиона и за Кутузова, пили за павших друзей и за Москву. Пили за Россию и за Победу.
А однажды кто-то из офицеров привел Жуковского.
– Кто не знает, знакомьтесь, господа! Автор великой баллады «Людмила» Василий Андреевич Жуковский. Прошу любить и жаловать. А теперь, при свете бивачных костров, он пишет свою великую поэму «Певец во стане русских воинов». Поаплодируем, господа!
Аплодировали и пили за поэта. И плакали, когда он читал свои строки: «Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, златые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит? О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?»
Вскоре после Бородинской битвы Жуковский перевелся в штабную канцелярию Кутузова, и здесь с двадцатидевятилетним поэтом очень сдружился Нарышкин, став его ярым почитателем и поклонником. У графа после римлян, вероятно, появился новый объект поклонения – русская поэзия.
После отъезда жены он проводил с Василием Жуковским больше времени, нежели с друзьями. Вечерами, после выстрела зоревой пушки, после молитвы «Отче наш» и прекраснейшей для солдата фельдфебельской команды: «Водку пить!», они гуляли по лагерю, наслаждаясь бивачной жизнью и задушевными разговорами; а однажды, затаив дыхание, слушали простую солдатскую песню, сложенную уже здесь, в Тарутино. Молодой сильный голос звонко выводил, а чуть не целый взвод подпевал ему:
«Хоть Москва в руках французов, это, братцы, не беда: наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть впустил сюда! Вспомним, братцы, что поляки встарь бывали также в ней, но не жирны кулебяки – ели кошек и мышей! Свету целому известно, как платили мы долги; и теперь получат честно за Москву платеж враги. Побывать в столице – слава, но умеем мы отмщать: знает крепко то Варшава, и Париж то будет знать!»
При ярком свете костра Жуковский записал немудреные слова.
– Какой все-таки русский народ!.. – произнес он, вытирая слезу, набежавшую то ли от песни, то ли от дыма.
Нарышкин не совсем понял, что он этим хотел сказать. К тому же невдалеке заметил московского градоначальника, тоже записывающего песню.
«Про кошек и мышей обязательно присвоит себе», – улыбнувшись, подумал Серж и, взяв под руку поэта, увел его подальше от Ростопчина.
Также любила гулять по лагерю, только не вечером, а днем, и приехавшая к отцу Мари Ромашова.
«Какая у меня прекрасная дочь! – радовался генерал, любуясь белокурой головкой и глазами Мари. – Как жаль, что погиб граф Волынский».
Вначале он отругал Мари за приезд в Тарутино, но потом стал очень доволен, видя, что и к другим приезжают жены и дети. Гулять по лагерю он отпускал ее лишь в сопровождении своего адъютанта, который тут же влюбился в красавицу. Мари хитро выведала у влюбленного капитана, где стоит биваком конногвардейский полк, и как-то, издалека, заметила Рубанова.
Сердце ее забилось от радости, видя, что он жив и здоров, но затем защемило от тоски и печали, потому как считала, что Максим никогда не простит ее.
«Он не знает, что я молилась за него! – думала Мари, глядя на Рубанова. – Оказывается, смерть существует!» – вспомнила она Волынского.
Разумеется, подойти к нему она так и не решилась.
Но Максима тоже посетили гости: два мужичка из Рубановки привезли целую телегу припасов. Причем один из мужичков оказался другом детства.
– Кешка! – увидев его, заорал Рубанов и бросился обнимать высокого рыжего парня, смущенно переминающегося с ноги на ногу. – Да брось ты свой кнут и обними меня… Как там наши? Как Рубановка? – забросал его вопросами.
Рядом, улыбаясь, стоял Шалфеев.
– Ну, пошли в дом, – потащил красного от смущения Иннокентия, приказав Степану разобраться с телегой, заметив ошивающихся возле нее любопытных хохлов.
– Дед велел кланяться и передал пятьсот рублев, – откуда-то из недр поддевки достал пачку мятых купюр.
– Все пятьсот да пятьсот, когда же, наконец, хоть шестьсот пришлет? – со смехом забрал деньги Максим. – Ну, рассказывай, как там нянька, как Изот и Агафон?
– Все живы-здоровы, чево жалают и вам. Агафон по-прежнему выпивает, но это у него, видать, врожденное, никто уже и внимания не обращает…
– Так-так! – улыбнувшись, подбодрил рассказчика Максим, усевшись на лавку и кивнув головой на место рядом с собой.
Присев, тот продолжил:
– Нянька Лукерья в доме руководит всем. Даже деда гоняет, ежели в грязных сапогах запрется… варенья вам прислала… вишневого…
Шалфеев в это время, распахнув задом дверь, внес варенье и еще какие-то припасы.
– Распорядись-ка самоварчик взбодрить, – велел ему Максим и присоединяйся к нам.
– Ноги у бабушки болят, но еще ходит, куды там… Молодым не угнаться, – продолжил Кешка. – Дед построил мельницу и кабак, торгует лесом да зерном… а на вырученные денежки людишек скупает по вашей доверенности… потому и мало высылает.
А крестьяне щас дешевы! Деревни-то хранцуз разорил… Самое время скупать. Лес им на избы дедушка в долг дает и солому – крышу крыть. И землицу у соседних помещиков прикупает… Хотит какой-то заводишко ставить. Батяня мой ему во всем помогает.
– Воруют, видать, грешники! – хохотнул Максим.
– Не без этого! – солидно подтвердил гость. – Быва-а-т, что и прилипнет к рукам какая копеечка.
– Не копеечка, а рублик, поди? – ввернул свое слово вошедший Шалфеев.
Иннокентий улыбнулся ему.
– А вам супружница кланяться велела… У нас щас живут! – сообщил он вытаращившему глаза унтеру. – Говорят, голодно в Петербурге стало. Да оне вам обо всем в письме прописали и велели кланяться, – протянул Шалфееву мятый листок бумаги, – я лично с ее слов записывал, – скромно потупился приезжий.
Степан подозрительно оглядел молодого высокого парня и нахмурился.
– И долго диктовала? – поинтересовался у Иннокентия.
– Да всю ночь! – ответил за него Рубанов. – Ступай прочти и придешь потом. Ну, рассказывай дальше, – обернулся к Кешке.
– И вам весточку привез! – полез тот в карман. От маменьки вашей!
– Как? Она в Рубановке? – опешил Максим и выхватил письмо. – Да когда? Давно? – В волнении забегал по комнате. – Чего молчишь? – прикрикнул на друга.
– Болеют они! А прибыли незадолго до моего отъезда.
– Чем болеет? Да что ты жилы тянешь? Язык, что ли, шершавый?!
– Простыли в пути. Хранцуз из монастыря их выгнал… А как в Рубановку приехать, они рассказывали, что в Москве за ранеными ухаживали…
– За ранеными? – присел на лавку Максим. – Рядом со мной была, и не встретились… – расстроился он.
– Саввишна ее лечит, говорит, как Бог даст! Ну конешно, Ольга Николавна похудели, но держатся. Все за вас молятся, целуют и здоровья жалают.
– Ну, отдыхай! А я пойду пройдусь и письмо прочитаю! – оставил он Кешку.
Сидя на берегу речушки, Рубанов прочел письмо и, вытирая глаза, поднес к губам круглый образок Спасителя, подаренный когда-то матерью. «Господи! Ну почему я был такой дурак?!»
Вечером его навестили друзья. Причем Нарышкин, к неудовольствию Оболенского, притащил с собою нового товарища, известного, по его словам, поэта.
Князь, разумеется, ничего о сочинителе Жуковском не слышал, но, к его облегчению, пиит оказался не таким уж тухлым собутыльником и к тому же ловко поддерживал разговор.
Пили, как всегда, со вкусом и удовольствием.
В конце застолья Оболенский, побратавшись с поэтом, хлопал Рубанова по плечу:
– Подчиненненький ты мой! Гордись, что с начальством гуляешь, – и неизвестно чему смеялся.
А Нарышкин после войны приглашал всех в Тарутино:
– Вы, наверное, не знаете, господа, что владелица этого села обер-гофмейстерина Анна Никитишна Нарышкина – моя тетушка.
Утром, когда голова еще гудела с похмелья, в ноги Рубанову бухнулся Кешка.
– Максим Акимыч! Возьмите меня к себе в полк, – просил он, – враг русскую землю топчет, а я дома сижу…
– Что по этому поводу твой дед скажет? Он же тебя раньше француза прикончит… – сомневался Максим. – Да и не простое это дело – сразу в наш полк попасть. Встань, чего елозишь! – велел Иннокентию.
Узнав, в чем дело, за Кешку горячо принялся просить Шалфеев.
– Да я его обучу, вашбродь! – вился унтер вокруг Рубанова.
«Чего это он?» – удивлялся Максим.
«Зачем возле моей бабы держать молодого здоровенного парня? – рассуждал Шалфеев, упрашивая поручика. – Да и дедулька его препротивная личность, мимо юбки спокойно не пройдет… И почему на службу до семидесяти лет не берут? – вздыхал Шалфеев. – Ну, ежели что!.. – заскрипел он зубами. – А можа, и к лучшему? – успокаивал себя. – В Петербурге тоже хлыщей хватает, способных чужое ухватить… Во жисть-то! Башка лопнуть от мыслей могет».
Кешка глядел на унтера благодарными глазами.
– Сходите к Арсеньеву, господин поручик. В полку людей не хватает, может, и возьмет парня, – просил Шалфеев. – Вакансий после Бородина полно.
К удивлению Рубанова, почти оправившийся после раны командир полка тут же согласился записать в полк новобранца.
– Отвечаешь за него полностью! – сказал он Рубанову, позвав старшего писаря. – Зачислим его в твой взвод. Главное, по росту подходит.
Мари Ромашову Рубанов не встретил, но о том, что она приезжала, узнал от случайно встреченного в лагере гусарского полковника.
Хотя в лагере и скопилось более ста тысяч человек, встретить знакомца не составляло труда, так как размещены все были на небольшой по площади территории.
Однако спокойная жизнь начинала утомлять.
Что ни говори, в двенадцати верстах от Тарутино стоял авангард Мюрата. Отдохнув, русская армия жаждала боя.
Даже генералы, не говоря уж о молодых офицерах, тонко намекали Михаилу Илларионовичу о наступлении.
Но Кутузов не спешил наступать:
«Каждый день, проведенный нами в этой позиции, был золотым днем для меня и всей армии, и мы воспользовались этими днями!» – говорил он впоследствии.
Но полученное от царя письмо изменило его планы. «По всем сим сведениям, – писал самодержец, – когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам с своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед Вами, были значительны и не позволяли Вам действовать наступательно?» Свое послание Александр закончил словами: «Вспомните, что Вы еще должны отчетом оскорбленному Отечеству в потере Москвы».
К тому же казачки разнюхали, что авангард французов стоит у речки Чернишня и абсолютно не ожидает нападения. Казаки даже указали, какими силами располагает Мюрат – всего-то 8 тысяч кавалерии и около 20 тысяч пехоты при 187 орудиях.
– Тьфу для нас! – уговаривали командующего.
Кутузов уступил.
Для обхода левого фланга Мюрата, согласно диспозиции, были назначены три пехотных и один кавалерийский корпус с десятью казачьими полками под руководством Орлова-Денисова.
Войска, назначенные в обход левого крыла, двинулись с вечера 5 октября. Погода благоприятствовала наступлению. Дождь прекратился, и мокрая земля заглушала топот солдатских ног.
«Чуть не половина армии – новобранцы, – вздыхал Михаил Илларионович, – не по силам им еще фланговые марши!»
Так и получилось.
Пехота сбилась с пути и к назначенному времени не успела. Подошли лишь войска Орлова-Денисова.
На рассвете, без поддержки других двух колонн, они и напали на французов, сумев обратить неприятеля в бегство и занять лагерь.
Не ожидавший удара Мюрат отступил до Спас-Купли.
Под завистливые взгляды пехоты казаки привезли в русский лагерь 38 неприятельских пушек и отбитый штандарт кирасирского полка.
– Именем Отечества! Благодарю вас, дети мои! – поздравил их Кутузов.
Мощное русское «ура!» зазвучало после слов командующего.
В полдень 6 октября Наполеон уже знал, что хвастун, болтун и бабник Иоахим Мюрат разбит и отступает. Нечто подобное ожидалось им с конца сентября. Уже две недели он мучительно размышлял об одном и том же, не решаясь отдать приказ к отступлению. Он понял, что Александр мириться не станет, а зимовать в Москве нельзя.
Одна мысль о том, что надо покинуть Москву, угнетала его, доводя порою до исступления.
«Я же так тщательно подготовился к этой кампании! – Угрюмо сидел он в кабинете, наблюдая за пламенем свечи. – И такой провал!..»
Наполеон поднялся, отшвырнув ногой кресло, и в раздражении забегал по кабинету. «А что скажет Европа?! А Париж?! – Опять устало упал в кресло. – Как достойно уйти?.. Как? Это же бегство! Сам Наполеон убегает от старичка Кутузова! – Стиснул он зубы и до хруста в суставах сжал кулаки. – Это невозможно!»
Но он ясно видел, что тщательно спланированная русская кампания заканчивается трагическим провалом.
Предчувствия не обманули его… Наполеон понял главную свою ошибку, если не считать всю кампанию, – он засиделся в Москве.
Сжав голову руками, Бонапарт думал, думал и думал, как сохранить многолетнюю славу победителя. И все-таки он был гений!..
Взяв чистый лист бумаги, Наполеон написал свой последний московский бюллетень: «Великая армия, разбив русских, идет в Вильну!».
И все!.. Никаких проблем!..
Приняв решение, император развил бурную деятельность: им был подписан приказ, чтобы дальше Можайска, Гжатска и Вязьмы не продвигался бы ни один артиллерийский парк или воинская часть, идущие с запада; дал указание вывозить из Москвы и Подмосковья раненых, а также распорядился сжечь дом градоначальника Ростопчина и взорвать Кремль, предварительно захватив ценности из кремлевских соборов.
«Главное, ничего не упустить! – подписывал он приказы. – Ах да! Чтобы сохранить лицо, оставлю-ка я в Москве Мортье с молодой гвардией», – набросал рескрипт и кликнул вестового, чтобы тотчас отправить его маршалу. Заслышав шаги, император обернулся и замер, держа конверт в руке. Перед ним, улыбаясь, стоял пьяненький солдатик в собольей шубе, обильно перепачканной вареньем.
Видя, что император о чем-то раздумывает, он на всякий случай щелкнул разбитыми сапогами и бодро доложил, что прибыл по приказанию его императорского величества.
Тяжело вздохнув: «Лицо, пожалуй, сохранить не удастся», Бонапарт протянул ему приказ.
Построив перед Кремлем французских, немецких, итальянских, португальских и черт знает еще каких солдат и стараясь не заострять внимание на их выправке и особенно внешнем виде, Наполеон, прохаживаясь вдоль строя, соизволил произнести речь:
– Мы имели основание надеяться на перемирие, но русский император не желает мириться. Наши войска хорошо отдохнули в Москве, – вспомнил пьяненького солдата и его обляпанную вареньем шубу, – сейчас мы имеем возможность отойти к Смоленску, соединиться с подкреплениями и расположиться на зимних квартирах в Литве и Польше.
Я с вами! – И, сняв треуголку, блаженствовал от криков: «Да здравствует император!», в которых, правда, больше было вина и водки, нежели любви к Наполеону.
37
Партизанский отряд капитана Александра Никитича Сеславина располагался на опушке леса неподалеку от брошенной деревеньки. Ночевали они в деревне, а днем уходили в лес, для маскировки оставляя нараспашку ворота и калитки.
Сеславин уже собирался ехать на ночевую, когда увидел скачущего казака. Ловко спрыгнув с лошади и бросив поводья, он заорал, подбегая к командиру и показывая рукой в сторону дороги:
Валом хранцуз валит!.. Обозам конца не видать…
Услышав про обозы, казаки приободрились.
– А еще громче можешь? – спокойно произнес капитан, с иронией разглядывая урядника. – А то французы не все расслышали.
Но казак никак не мог успокоиться. Энергия била из него ключом.
Хлопнув себя ногайкой по сапогу и пометавшись по поляне, он немного успокоился и уже нормальным голосом доложил:
– Хранцуз, ваше благородие, отступает… Награбленное в Москве добро везет… Тыща возов! – снова начал он распаляться.
– Поехали, – сел в седло Александр Никитич, – а то обоз тебе покоя не дает.
Осторожно выглядывая из редкого у края дороги березняка, капитан присвистнул: дорога, насколько хватало глаз, была забита войсками.
Около часа простоял он в густом кустарнике, а мимо него шествовали войска, орудия и повозки с наваленными в беспорядке коврами, мебелью и тюками, прикрытыми грязной рогожей. Было ясно, что движется не дивизия и даже не корпус, а вся французская армия.
«Надо доложить генералу Дохтурову, что Буонапарте идет к Боровску в обход наших войск».
Когда Кутузову донесли, что Наполеон оставил Москву и движется по направлению к Боровску, старый фельдмаршал, не стыдясь своих слез, заплакал, крестясь на икону. Вместе со слезами выходило скопившееся напряжение и мучившая неизвестность.
– Господи! – благодарно крестился он. – Теперь я спокоен за Россию!
Фельдмаршал тут же составил диспозицию, в которой велел Платову «не медля нимало» идти к Малоярославцу и прикрывать с флангов движение русской армии. Милорадовичу предписал обнаружить неприятельский авангард, а затем идти за войсками. Инженерной службе дано было задание посмотреть дорогу и поправить мосты.
Нарышкина Михаил Илларионович отправил в Калугу, чтобы он сообщил губернатору о движении французских войск.
Словом, все утро штаб и главнокомандующий лихорадочно готовились к сражению.
Кутузов понимал, что Наполеон будет рваться к Калуге, где сосредоточены все запасы, и главное – продовольствие.
Основные силы русской армии уже подходили к Малоярославцу, когда услышали пушечную и ружейную стрельбу: в городке кипел бой.
От Малоярославца к ставке фельдмаршала и обратно засновали вестовые и ординарцы. Генерал Дохтуров просил подмоги – он бился уже больше восьми часов и французы вытесняли его из города.
На помощь Кутузов послал Коновницына с 3-й пехотной дивизией. Но вскоре и Коновницын запросил «сикурсу». К нему главнокомандующий отрядил Раевского, и после ожесточенной штыковой атаки враг был отброшен к речке Лужа.
Уже в пятый раз русские взяли Малоярославец, и в пятый раз их оттеснили к южной Калужской заставе.
На смену Раевскому и Дохтурову пришел 2-й корпус генерала Бороздина, а его конницу Кутузов усилил конногвардейским и кавалергардским полками.
Города, как такового, уже не существовало, он состоял из разбитых и сгоревших домов и печных труб. С новой силой загрохотали ядра и засвистели пули.
С криком «ур-ра!» русские ударили в штыки, и французы отступили до стоявшего на окраине Черноострожского монастыря. Здесь они остановили русских и удачно отстреливались из-за толстых монастырских стен. И тут на русскую пехоту налетела итальянская конница.
Русские снова начали отступать. Именно в этот момент на итальянцев навалилась гвардейская кавалерия.
Впервые в своей жизни Оболенский вел за собой эскадрон, так как у ротмистра Вебера скрутило палец, и он доверил командование князю. С итальянцами гвардейские полки пока не сталкивались.
«Что-то новенькое! – размахивал палашом Оболенский. – Сейчас отведаем итальянской кровушки», – врубился он в чужой строй, опрокидывая коня с всадником, загородившего ему дорогу.
Рубанов скакал перед своим взводом, его конь громко чмокал копытами по грязи и разбрызгивал неглубокие лужицы.
«Как землю растолкли! Того и гляди в какую-нибудь ямищу влетишь, лишь бы не в такую, как «кирасирское горе», – улыбнулся он и поглядел на скачущего рядом Кешку.
Лоб у парня был мокрым от пота, но страха в его глазах Максим не увидел. «Толковый конногвардеец получится, коли не убьют, – подумал он. – Оставлял его в обозе, так чуть не со слезами просился в бой. Ну что ж, пусть пороху понюхает. Да и Шалфеев с другого бока его прикрывает».
– За Россию! – поднялся он на стременах, обернувшись ко взводу, и сосредоточился, выбирая противника.
Итальянцы не выдержали мощного натиска гвардейских кирасиров и повернули коней. Но французская пехота, оттеснив русскую, заняла круговую оборону в торговых рядах Соборной площади.
Расправившись с итальянской конницей, Оболенский призадумался: «Кого бы еще распушить?» – и повел эскадрон на пехоту.
Французский пехотный батальон бился уже несколько часов и зверски устал, а когда солдаты увидели надвигающихся на них огромных людей на огромных лошадях – небо им показалось с овчинку, и, даже не произведя залпа, они дружно бросились врассыпную.
Рубанов наблюдал за Кешкой. Перед его конем наутек мчался молоденький худенький француз. Ружье он бросил, чтоб не мешало отступать. Глаза у французика побелели от страха. К удивлению Максима, такие же глаза были и у Кешки, хотя ему ничего не угрожало.
Подняв палаш, он примеривался, с какого бока ударить француза, и все не решался.
«Не так-то легко впервые убить!» – вспомнил турка Максим.
– Чего церемонишься?! – догнал пехотинца Шалфеев и запросто, словно яблоко или тонкое деревце, срубил несчастного под корень…
Высморкавшись, обтер палаш о гриву жеребца и, даже не взглянув на убитого, поскакал искать другого противника.
Пораженный Кешка, закрыв рот ладонью, глядел на распростертое тело. Он еще не терял друзей и не был ранен, поэтому осознавал погибшего не как врага, а как человека.
«Заплачет, наверное…» – подъехал к нему Рубанов и положил руку на вздрагивающее плечо.
– Мы не звали их сюда! – вдохнул Максим запах горелого вишневого дерева – рядом пылал вишневый сад. – Посмотри, сколько наших ребят лежит… – обвел рукой сад, улицу и близлежащие огороды.
К французам подошло подкрепление, и на этот раз русские отошли к окраинам уездного городишки. Но дальше враг пробиться не сумел!
Темнело! Восемь раз городок переходил из рук в руки, но похвастаться победой Наполеон не мог.
«Русская армия надежно заперла дорогу на Калугу, – думал он, – даже ключом от Вильны не отопрешь!.. Здесь никакие бюллетени не помогут… Придется идти в Смоленск. Собственно, об этом я и говорил в Москве», – успокоил он себя.
И «великая армия» двинулась к Смоленску.
Смоленск стал путеводной звездой для французов и манил их, как Индия – Александра Македонского.
Топча разбитой обувью грязную осеннюю дорогу и стараясь не замечать остовы повозок, оставленных ими при наступлении, стараясь не смотреть на изрубленные каски и разбухшие конские туши, они мечтали о Смоленске, о теплых казармах, о битком набитых жратвой, одеждой и обувью складах, о белом пшеничном хлебе и сочном мясе, конечно – не лошадином.
Неужели, все это есть на свете?!
О боях они больше не думали. А когда солдат не мечтает о победе – это уже не солдат! Когда армия не думает сражаться – это уже не армия!
И хотя численность французских войск равнялась русским, хотя не было еще трескучих морозов, на которые так любят ссылаться разбитые иностранные генералы, Наполеон проиграл войну!.. Потому что потерял армию! Деморализованный голодный сброд в женских капотах больше не являлся армией!.. Это была толпа!
Потому-то Наполеон отступал не как полководец, а как император, спрятавшись за штыки последнего своего оплота – старой гвардии.
Убедившись точно, что Наполеон отступает по Смоленской дороге, Кутузов отрядил за ним авангард под командой Милорадовича и Платова, а сам с остальной армией двинулся по параллельной дороге. Это было весьма удобно…
Во-первых, идущая параллельно русская армия заставляла торопиться Наполеона – как бы не обошли.
Во-вторых, войска Кутузова не зависели от остановок французов и шли менее разоренной местностью.
Казаки и партизаны тоже не давали отдыха французским солдатам, и в результате те совершали столь форсированные марши, что русские с трудом могли угнаться за ними.
Французским арьергардом руководил маршал Даву. Его 1-й корпус еще не полностью разложился и оказывал сопротивление русскому авангарду. В результате французский арьергард не успевал за армией. Но Наполеон спешил к Смоленску и не желал ждать отстающих.
Этим-то и воспользовались Милорадович с Платовым. 22 октября под Вязьмой они атаковали французов. Основные их войска ушли не столь далеко, чтобы не услышать звуки начавшегося боя. В другое время Наполеон вернулся бы и выручил своих, но сейчас перед ним стояла другая цель – Смоленск. К тому же все командование он передал своим маршалам. Они-то и помогли арьергарду.
Вице-король Евгений Богарне и Понятовский с трудом повернули солдат и кинулись на русских.
Казаки Платова вначале отошли, так как к ним не успела вовремя подойти пехота, но затем вместе с Милорадовичем обратили французов в бегство, причем уставшие от боев войска Даву спаслись тем, что укрылись за относительно свежими дивизиями вице-короля и Нея.
Сопротивление врага было сломлено, и Милорадович с Платовым заняли Вязьму.
Русские вошли в город с музыкой. Вся армия ликовала. О непобедимости французской армии никто больше не заикался. Слава ее была полностью развенчана!
Пораженный приездом матери в Рубановку, Максим написал ей нежное-нежное письмо, в котором сообщил и про Кешку. А затем азарт погони выветрил из головы мысли о Мари, пани Тышкевич и даже о матери. Казалось, они существовали в какой-то другой, полузабытой уже жизни. Сейчас лишь одна страсть жила в его сердце – настичь врага.
38
Наступил ноябрь. Днем дождило, а ночью подмораживало, и уставшие кони понуро плелись, разбивая первый тонкий ледок стертыми подковами. У французов лошади в большинстве своем и вовсе не были подкованы, и сотни их худых туш с переломанными ногами, пристреленных своими седоками, лежали обочь дороги, радуя русских ворон.
Конногвардейский полк постепенно пополнялся как рядовым, так и офицерским составом.
Заместителем к Рубанову назначили девятнадцатилетнего подпоручика, недавно окончившего 1-й кадетский корпус и неплохо показавшего себя в бою под Тарутино.
Хотя они с Рубановым были ровесниками, подпоручик смотрел на Максима почти как на Бога и чуть не молился на его две награды.
Тощую грудь Семена Сокольняка пока украшали лишь пуговицы.
Рубанов, напротив, глядя на узкие плечи, длинную нескладную фигуру, тонкую шею с торчащим кадыком и огромные уши, удивлялся, чем это он мог отличиться в бою – уж больно безобидный вид был у его заместителя.
Однако на трудности и тяжелый быт парень не жаловался, к обязанностям относился серьезно и с рядовыми общий язык нашел.
Единственно, кого он боялся как огня, так это Григория Оболенского, который сдал взвод поручику Лесницкому, переведенному из Новгородского кирасирского, и официально стал заместителем командира эскадрона.
Как оказалось, штаб-ротмистр Оболенский весьма прохладно относился к выходцам из кадетских корпусов, считая их неженками, и потому взялся перевоспитывать в соответствии с традициями полка.
Вспомнив, что ранее сам терпеть не мог уставы, проводил с молодыми офицерами занятия по изучению воинской науки, как только находил свободное время.
Вебер просто гордился своим заместителем, чего не скажешь о трех переведенных в эскадрон офицерах.
Третьим был однокашник Сокольняка, подпоручик Малахов, являвшийся заместителем Лесницкого.
Несмотря на быстрые темпы наступления, Оболенский требовал от своих офицеров, чтоб они были подстрижены и побриты сами и строго следили за внешним видом солдат.
В результате 2-й эскадрон Конногвардейского полка выглядел бодро и свежо. Заметив это, великий князь Константин вынес благодарность Арсеньеву, тот – счастливому Веберу, а Вебер – Оболенскому… Но был не так понят и послан к хранцузу.
Заместитель своего прямого начальника ни во что не ставил.
Однако Вебер терпеливо сносил такое к себе отношение, вспоминая как сказку то время, когда помыкал как хотел юнкерами.
Наступил холод, и Григорий Оболенский с помощью Нарышкина раздобыл копию кутузовского приказа, который совал в нос интендантам. «Итак, мы будем преследовать врага неутомимо. Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети Севера?.. Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Идем вперед, с нами Бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие».
– Сами вы не догадаетесь, что скоро зима, и главнокомандующий вынужден напоминать, – говорил он интендантам. – А мне нужно теплое белье для солдат и новые сапоги, можно и валенки с полушубками, чтоб погреться.
Как нету?.. – бушевал он.
Интенданты тоже ссылались на этот приказ.
– Сказано же: «Вам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов!» Тут не написано, что железная грудь в полушубке! – доказывали интенданты, но, глянув на яростные глаза князя и огромные, нервно сжимающиеся кулаки, сдавались, понимая, что их похороны обойдутся дороже.
Поэтому 2-й эскадрон был обут и одет в зимнее.
У французов дело обстояло намного хуже – бодрым императорским бюллетенем голый зад не прикроешь.
Тяжелый удар ожидал армию в Смоленске – никаких запасов там не оказалось. Все давно съели, разбили и разграбили.
Голодные солдаты, укутанные в женские шали и салопы, шныряли по оставшимся домам, высматривая воспаленными от дыма и бессонницы глазами, что бы найти съедобное и слямзить, проклиная между делом Наполеона. Было ясно, что зимовать здесь нельзя, и французы, покинув Смоленск, покатились дальше, к границам России.
С тех пор как в штабе Кутузова появился Василий Жуковский, там принялись изготовлять прокламации к наполеоновским войскам с призывом сложить оружие и сдаваться. Нарышкин деятельно помогал своему новому другу. Затем эти воззвания партизаны разбрасывали на путях отхода французов, нанося где только можно урон живой силе и обозам. Боевой дух неприятеля от этого, конечно, не возрастал.
У города Красного Наполеон приостановил движение своих войск с целью дождаться присоединения всех вышедших из Смоленска эшелонов и, чтоб не тратить времени напрасно, безуспешно оттеснял авангард Милорадовича от дороги.
– Ща-а-с! – рассуждали казаки. – Уступим им при таких-то обозах…
Казачки стали самыми богатыми людьми в русской армии. У них было все!.. Начиная от собольих шуб и кончая бутылками мадам Клико. Оболенский углубился в философию: относится ли к шампанскому сей напиток? Он находил много доводов и примеров, что это простое вино, но полностью уверен не был и гневить Бога не стал.
За сто рублей ассигнациями казаки отдавали мешок серебра, оттого что было тяжело возить его.
Маркитанты скрипели зубами от зависти – покупать шли к казакам, а не к ним. Донские орлы не жадничали и отдавали все за бесценок. «Чего жалеть-то – дорога дармовыми обозами запружена».
Михаил Илларионович решил нанести удар по растянувшимся войскам противника, дабы воспрепятствовать их соединению и перерезать путь отхода от Смоленска к Красному.
Все течет, все изменяется! Теперь он принял роль старого, умудренного жизнью кота, а Наполеон стал загнанной, убегающей мышью.
Кутузов разделил армию на три отряда.
Отряд под командованием генерала Голицына в составе 3-го пехотного корпуса и 2-й кирасирской дивизии, выдвинувшись к деревне Уварово, должен, по замыслу главнокомандующего, атаковать противника в Красном. 1-ю кирасирскую дивизию, в которой находились конногвардейский и кавалергардский полки, согласно диспозиции, отрядили в отряд генерала Тормасова с заданием: утром 5 ноября выступить из села Шилово и, обходя Красный с юга, через Сидоровичи, Кутьково и Сорокино выйти к Доброму в тыл французам, перерезать дорогу и закрыть пути отхода к Лядам.
Название этого населенного пункта в устах солдат заискрилось всеми красками богатого русского языка.
Отряд Милорадовича, скрытно расположившись у сел Мерлино и Ржавка, должен был пропустить корпус Даву к Красному и затем выйти ему в тыл.
В приказе Кутузов писал Милорадовичу: «Сего дня предполагается атака на неприятеля… Вы же при приближении неприятеля к Красному не тревожьте его в марше, но как он Вас минет, дабы поставив его между Вашим и нашим огнем, заставить сдаться».
Конногвардейцы стояли в стороне от дороги у нахохлившегося леса. Сеял мелкий дождь, переходящий в снег. Отощавшие за время наступления лошади вздрагивали и шумно фыркали, тряся головами.
Всадники уныло сидели в седлах, пряча замерзшие руки в рукава шинелей и стараясь поглубже втянуть голову в плечи, чтобы за шиворот не текло с кожаной каски.
– Как вороны на плетне, – резюмировал Оболенский, разглядывая меланхоличные лица, покрытые капельками влаги. – Ежели бы мадамочку увидали, враз, полагаю, оживились бы, – заржал он, но на шутку никто не отреагировал.
Люди устали и были голодны. Провиант и фураж затерялись на казавшемся бесконечным Смоленском тракте.
– Ну и место нам досталось, – прочистив горло, произнес Рубанов, глядя на мокрое поле, покрытое низким жестким кустарником и к тому же изрытое рвами и ямами. – Егерям как раз впору, а не кавалерии, – бурчал Максим,– я бы того квартирмейстера, кто оную позицию выбрал, заставил бы вместе с нами наступать и с удовольствием бы поглядел, как он расшибет свою глупую башку, когда конь влетит в яму.
– Что вы там бубните, Рубанов? – поинтересовался Оболенский.
– Да вот, делаю предположение о происхождении сих отверстий в земле, – склонился Максим, заглядывая в наполненный водой небольшой ров.
– Ну и к какому выводу пришли, господин поручик? – тоже заглянул в яму князь.
– Скорее всего, здесь брали глину для кирпичей на постройку провиантского склада, набитого мясом и хлебом, – сглотнул слюну Рубанов.
– Или для винной лавки, – в свою очередь, захлебнулся слюной Оболенский.
– …Однако не исключено… – не слушал его Максим, – …что здесь искали клады на Ивана Купалу. Может, на дне этой затопленной водой впадины находится сундук, полный…
– …Водки! – перебил его, алчно сверкнув глазами, Оболенский, и друзья засмеялись, с удовольствием видя повеселевшие лица гвардейцев.
Но далее развить тему впадин и трещин они не успели.
Отдаленный гул канонады стал быстро приближаться к ним, и на дороге показалась неприятельская пехота.
– Палаши к бою! – взвыл обрадованный штаб-ротмистр. – Сейчас согреемся, – уже тише произнес он, по старой привычке занимая место перед своим бывшим взводом.
Лесницкий оказался позади него, разглядывая холодными голубыми глазами противника.
У Вебера, от непогоды что ли, заломил палец, и он незаметно уехал с первой линии.
– По-о-о-лк! – услышали голос Арееньева. – С места в карьер – марш!
И куда делось уныние… Размахивая над головой палашами, полк пошел в атаку. Усталые лошади, стараясь не попасть в яму и скользя по грязи, медленно набирали скорость.
Французы, не ожидая встретить здесь русскую конницу, растерянно крутили головами. Затем кое-как пришли в себя и дали не дружный залп. Построиться в каре пехотный полк не успел и был изрублен русскими.
Максим наблюдал за Сокольняком, рассчитывая в случае чего подстраховать его. Но подпоручик преобразился, лицо его пылало вдохновением боя, а длинная нескладная фигура, казалось, стала продолжением палаша.
Он бесстрашно врубился в ряды пехоты, хлестко нанося удары, гибко наклоняясь то вправо, то влево, хорошо контролируя поле боя перед собой и вовремя реагируя на противника, стремящегося нанести удар.
«Неплохо, неплохо!» – мысленно похвалил его Рубанов, поискав глазами Кешку.
Тот бился невдалеке, и сбоку его опекал Шалфеев.
«Тоже привыкает!» – с удовольствием отметил, привстав на стременах и нанеся страшный удар пытавшемуся поразить его штыком усатому пехотинцу. И тут же заметил две небольшие полевые пушки, полностью подготовленные к стрельбе и направленные на его взвод.
– А-а-а! – раздирая губы коню удилами, направил жеребца на суетящихся артиллеристов.
Один из них подносил к фитилю горящий запал. Рука сама, не успел он решить что делать, рванула пистолет, и, не целясь, Максим выстрелил в канонира. Француз в это время повернулся к нему боком, и пуля ударила его под лопатку. Взмахнув руками, он рухнул сначала на колени, а затем голова его ударилась о лафет, а руки обняли ствол родной пушки.
– Взво-о-о-д! – заорал Рубанов, стараясь привлечь внимание к другому орудию.
В это время грянул выстрел, он даже не расслышал его в грохоте боя, а только почувствовал шелест картечи у виска. На секунду ему показалось, что смерть обняла его и что-то призывно шепчет.
Стряхнув наваждение, он налетел на артиллеристов, и палаш стал яростно кромсать мягкую теплую плоть.
Затем Рубанов плакал, стоя над изуродованным картечью телом друга детства.
– Кешка-Кешка! – шептал он, глядя на развороченную грудь под искореженным колетом. Рядом стоял Шалфеев и тоже шмыгал носом, вытирая кровь со лба.
Потом снова в бой…
Больше он не кричал. Стиснув зубы и сузив глаза, молча рубил попавших под руку французов, итальянцев или пруссаков. Ни капли жалости к людям не было в его сердце. Жалел лишь лошадей, стонущих от ран и умирающих по прихоти этих жестоких людей, которым они так верили и которых любили.
39
Со всех сторон обрушились удары на отступающую французскую армию. Войска Милорадовича теснили противника с тыла, Голицын наносил удары в центре, а Тормасов отрезал путь к отступлению.
Французы метались, словно мыши.
Двигавшийся к Красному корпус Богарне был разбит. Такая же участь постигла корпус Даву.
Французы прятались по лесам, бросая оружие, пушки и обозы.
Корпус Нея русские разгромили полностью. Остатки войск сложили оружие и сдались в плен. Сам Ней убежал через лес к Днепру, переправился у Сырокоренья и с большим трудом добрался до Орши.
Такого поражения Наполеон еще не испытывал!
Поначалу он пытался организовать сопротивление, не жалея на этот раз даже гвардии, которую не рискнул бросить в бой у Бородина, но ничто уже не могло спасти его.
Русские научились воевать лучше французов. Не дождавшись конца сражения, но уже предвидя его результат, Наполеон бросил армию и проселочными дорогами, через лес, ускакал с места боя.
Трехдневное сражение под Красным закончилось крупнейшим поражением Наполеона.
Кутузов так оценил это сражение: «Российская армия покрылась неувядаемою славою, ибо в сии дни понес неприятель сильнейшие удары в течение всей кампании… расстройство, в которое он приведен был, почти невероятно».
7 ноября в своем рапорте генерал Тормасов писал Кутузову: «Имею честь Вашей светлости донести, что по повелению Вашему, последовавшему в диспозиции на 5-е число сего месяца, атака неприятельских сил, расположенных при городе Красном, произведена с громадным успехом…
Все гг. генералы, штаб- и обер-офицеры и нижние чины оказали в сем сражении отличное усердие, мужество и решительность; а об особенно отличившихся буду иметь честь вслед за сим представить Вашей светлости список для исходатайствования им достойного награждения».
А зима еще не наступила. Температура была даже выше, чем при Прейсиш-Эйлау, где те же самые солдаты прекрасно выдерживали вьюгу и холод, побеждая при этом.
7 ноября, дабы еще выше поднять боевой дух своих солдат, Кутузов объезжал биваки русской армии.
Десять отобранных генералом Арсеньевым конногвардейцев и десять кавалергардов везли за Михаилом Илларионовичем отбитые неприятельские знамена.
– Здорово, молодцы! – подъезжал к полку фельдмаршал. – Не надо, не надо! – останавливал он собирающийся строиться полк. – Поздравляю с победой!
– Ур-р-а! – дружно орали солдаты, разглядывая поверженные знамена и думая, неужели это они сумели разгромить столько полков и дивизий?
– Кто ни услышит, скажут: «Хвастают ведь!» – Ан нет! Вот они, неприятельские штандарты!
– Под «Вечную память» три залпа, господа. И все! Их больше нет… – Офицеры второго эскадрона поминали товарищей.
В крестьянской избе было натоплено, накурено и натоптано.
«Приехал, чтобы умереть!» – выпив стакан водки, мрачно пускал дым в потолок Рубанов.
– Не в тот день, когда вышел приказ по полку, а сегодня стали вы конногвардейцами, – поднял наполненный стакан Оболенский. – Запомните этот день, господа! – поочередно оглядел молодых офицеров. – И считайте, что сдали самый важный экзамен, – выпил он водку. – Не грусти, Рубанов. Зато твой друг предстанет перед Всевышним в конногвардейском мундире. Хотел бы я для себя такой чести… – князь стал ярым патриотом лейб-гвардии Конного полка. – После нас лишь Милорадович кое-чего стоит, а остальные и в подметки не годятся, – бахвалился Оболенский, – особенно кавалергарды.
Молодые офицеры еще не «прониклись» и поэтому недоверчиво улыбались.
– Милорадович – это да-а! – подхватил Вебер, ловко выбивая гвардейским своим пальцем какой-то марш. – Ермолов сказал про него, что следует иметь две жизни тому, кто находится при генерале.
– Ермолов много чего про него говорил, правда, Рубанов? – старался приободрить друга князь.
Но Максим лишь кивнул головой и не поддержал разговора. Вздохнув, Оболенский жалостливо уставился на Вебера. Тому стало неуютно под взглядом князя.
– Чего это вы на меня так смотрите, господин штаб-ротмистр? – кончил он стучать и гордо глянул на свой эполет. – Извольте объясниться.
– От того же Ермолова я слышал, что вас хотят назначить адъютантом к Милорадовичу, так как у него после каждого боя освобождаются вакансии…
Вебер почувствовал, что сначала заломил палец, а затем боль перешла в живот и постепенно распространилась по всему организму.
Видя побледневшее лицо своего командира, князь продолжил: – Но я отстоял вас. – «Без такого храброго офицера полк пропадет!» – сказал я Ермолову, и он согласился с моим мнением.
– Вы настоящий друг! – с облегчением пробормотал Вебер, медленно приходя в себя.
– Ну что ж, господа! Еще раз поздравляю вас со вступлением в лучший эскадрон лучшего в русской армии полка, – дружелюбно хлопнул Григорий по могучему плечу Лесницкого. – А вот и герой всех баталий граф Нарышкин летит, – радостно улыбнулся он, заметив в окно своего друга. – Готов с вами биться об заклад, Рубанов, что сей доблестный воин сейчас расскажет, как разгромил одного из маршалов Франции… интересно только, кого именно, – с любопытством уставился на дверь.
– Здравия желаю, господа! – чуть не снес дверь с петель Серж.
– Явление адъютанта его светлости народу! – несколько приободрился Рубанов, выбивая из трубки пепел.
– Выпей за павших и рассказывай! – протянул Сержу стакан князь.
– Сейчас сделаю и то, и другое! – Бодро справившись с первой задачей, перешел он ко второй части программы. – Господа! Желаете ли услышать из первых уст о разгроме славного маршала Нея?
– Коне-е-е-чно, желаем! – язвительно произнес Оболенский и улыбнулся присутствующим. – Садись поближе, Рубанов.
– Да, Максим, чего ты там на отшибе устроился? – поддержал князя Нарышкин. – Так вот, господа, – начал он. – Вчера утром генерал Милорадович получает донесение от разведки, что из Смоленска к Красному движется маршал Ней с тридцатитысячным корпусом, – сделал паузу рассказчик.
– Посоветовавшись с тобой, Милорадович…
– …Ежели вы, князь, не хотите слушать… – обиделся Нарышкин.
– Извините ради Бога! – незаметно для Сержа, мигнул Рубанову.
– Его высокопревосходительство решил окружить маршала, – продолжил Нарышкин, – и для этого послал генерал-лейтенанта Раевского на правый фланг, а войска генерала Голицына – на левый, генерал-лейтенант Уваров командовал конницей.
Словом, взяли его в мешок. Ему оставалось или сдаваться, или умереть, и доблестный француз решается на последнее. Когда мы с Милорадовичем допрашивали пленного полковника…
Оболенский поперхнулся водкой и с трудом удержался от высказываний.
– …Единственная слабая сторона генерала – он плохо говорит по-французски, хотя и любит побалакать, – просветил слушателей Нарышкин, увлеченно размахивая руками.
Молодые офицеры почтительно слушали штаб-ротмистра.
– …Полковник нам рассказал, что маршал держал перед войсками речь: «Неприятели теснят нас с тылу, а впереди ждет император. Сии толпы русских, дерзающие представиться глазам вашим, тотчас рассеются, исчезнут, побегут, коль скоро вы решитесь ударить на них с мужеством, французам свойственным», – пересказывал речь маршала полковник…
– Отошло то время! – наперебой заорали офицеры. – Теперь сами как зайцы бегут.
Оболенский расстроился, увидев, что рассказ захватил воображение молодых офицеров.
– Не зря он с Державиным сдружился… то есть с этим, как его… с Жуковским… – зашептал Рубанову князь, – нахватался кое-чего от литератора.
– …«Не взирайте на гром неприятельских пушек: они страшны только для малодушных. Победим русских их же оружием – штыками!» – закончил свою речь маршал Ней, – оглядел слушателей Нарышкин.
– В рукопашке никогда француз русского не брал! – вскочил на ноги Сокольняк.
– Верно, господин подпоручик. Так и получилось. Русские солдаты смело ринулись на врага. С криком «ура!» налетели они на французов…
– …И опрокинули их! – закончил за него вдохновленный рассказом Лесницкий. – За непобедимый русский штык, господа! – подняв стакан, заорал он.
Выпив, Нарышкин благожелательно оглядел молодых слушателей, а затем устремил взгляд на Оболенского:
– Почему же меня не познакомят с прибывшими в полк офицерами?
Им адъютант его светлости понравился с первого взгляда.
Преследование врага продолжалось…
Входя в разграбленную деревню, конногвардейцы тут же занимали избы и стапливали в печах остатки заборов и сараев, блаженствуя в тепле.
Погода не баловала. Похолодало! Небо стало хмурым и низким, временами вытряхивало на землю крупные хлопья снега.
Полевые кухни окончательно отстали, и армия голодала. Голодали и кавалерийские кони. Особенно доставалось крупным кирасирским лошадям. Эти отощавшие и обросшие грязной клочковатой шерстью животные даже близко не напоминали тех конногвардейских рысаков, которыми были недавно. Привыкшие к сытному и отборному корму, сейчас они ничего не видели, кроме гнилой соломы да плесневелого сухаря, которым делились с ними хозяева.
Но несмотря ни на что, армия наступала! Враг топтал еще русскую землю…
За полгода кампании кутузовская армия и генералы научились воевать, блестяще производя фланговые марши, маневры и засады, а главное, действуя при этом согласованно, точно выдерживая указанные в диспозиции время и место. Случаев, чтобы пехоту не успевала поддержать конница, и наоборот – больше не наблюдалось.
Однако у русских имелись еще две армии. Одна под командой Витгенштейна, считавшего себя после победы под Полоцком в сто раз гениальнее Наполеона. И Молдавская армия адмирала Павла Васильевича Чичагова, считавшего Наполеона с Витгенштейном своими нерадивыми учениками. Как подозревали его подчиненные, адмирал путал сухопутную армию с флотом.
Поначалу этим двум главнокомандующим просто везло.
Маршал Виктор, сражающийся с Витгенштейном на петербургском направлении не сумел отбросить русских за Двину. А Чичагов, идущий с юга, занял Минск.
Наполеон ломал голову, как его потрепанным войскам проскочить между армиями Кутузова и Витгенштейна, прижавшими французов к Березине, у которой поджидал Чичагов, занявший все переправы.
«Перейти Березину ниже Борисова невозможно. – Метался в маленькой пыльной комнатке Наполеон, опустив голову и согнув корпус… Надо переправиться выше Борисова и выйти к Вильне кратчайшей дорогой на Сморгонь. – Больно ударился ногой о лавку. – А на какую ногу споткнулся? – Потер он коленку. – На левую… Это к добру!
Что-то здесь в России я стал весьма суеверным, – удивился Наполеон. – Но как бы то ни было – это к добру! Моя звезда еще засияет!» – глянул он в закопченный потолок.
И зажгла эту звезду самонадеянность Чичагова.
Командующий авангардом – то есть, по разумению адмирала, передовым кораблем – генерал Пален наткнулся на превосходящие силы противника и запросил подкреплений. Чичагов не поверил ему.
«По сообщению Кутузова тут не должно быть неприятельского флота, и Наполеон плывет в полном расстройстве».
Однако через час вестовой доложил, что французы теснят авангард.
«Каррамба! – услыхал Чичагов невдалеке артиллерийскую канонаду. – Сушить весла!» – растерялся он, не зная – принять бой или переправиться на противоположный берег.
«Штурман был прав, черт побери, фок-[26], грот-[27] – и бизань[28] мачты, фальшборт[29] трещат от бриза на траверзе[30]. Надо поднимать якорь и делать поворот оверштаг[31], – кликнул он ординарца и штабных офицеров, – а то буря порвет паруса и сломает стеньги[32], рангоуты[33] и реи.
Да! Зря я не ответил на сигнальные огни, – отдал он команду отступать на правый берег. – А то как бы не сделали мне кренгование![34]» – первым кинулся наутек, бросив многочисленные свои фургоны со столовым серебром, фарфоровой посудой и одеждой.
«Черт с ним, с рундучком[35], – подумал он, – своя тельняшка ближе к телу. Ежели бы Суворов командовал корветом, он бы тоже отступил».
Заняв Борисов, маршал Удино начал разыскивать переправу через реку, так как мост был сожжен, а на том берегу «качался на волнах» Чичагов.
Адмирал наблюдал в морскую подзорную трубу и злорадствовал:
«Не скоро их лотовый[36] найдет переправу. А ежели даже переплывут, то дорогу на Минск мы им перекроем тут, у Борисова».
– Вахтенный! – заорал морской волк, подзывая старшего адъютанта. – Прикажи двум матросам быстро садиться в баркас…
«Значит, на лошадей», – сообразил адъютант.
– …И плыть в дивизию Чаплица с приказом шкиперу дрейфовать против брода у деревни Студенка, – уточнил он по карте название деревушки.
«Шкиперу, значит, генералу», – наконец разобрался адъютант и передал приказ вестовым.
Вечером к Чичагову прибыли борисовские мещане и, перебивая друг друга, стали орать, тараща глаза от переполнявших их чувств, что французы собираются переправляться в нижнем течении у деревушки Ухолоды. От их воплей у адмирала заложило уши.
«Словно во время бури», – подумал он и рявкнул, перекрыв горластых мужиков:
– Молчать! Бушприт[37] вам в глотку. Докладывайте по одному. – И узнал, что понтонеры рубят лес, готовясь к переправе. – Свистать всех наверх! – приказал он сдвинуть флот на юг, к Шебашевичам.
Начальник его штаба генерал Сабанеев уговаривал Чичагова не спешить, пока обстановка не прояснится, но тот не прислушался к совету.
– Вот что, старпом, составьте приказ и отошлите Чаплицу, чтобы он плыл к Борисову, дабы укрепить оставленный здесь корпус Ланжерона – тоже великого стратега.
Генерал Чаплиц, стоя у деревни Брили, заметил ночью возле Студенки огромное число бивачных огней. Пленные французы дали сведения, что основные силы Наполеона находятся здесь, а не у Шебашевичей, куда увел армию адмирал. Чаплиц схватился за голову и послал вестовых к Чичагову и Ланжерону, собрав воедино свои силы и закрыв дорогу на Минск. Дорога на Вильну его не заинтересовала.
Адмирал не придал значения его донесению, а Ланжерон вторично приказал идти с дивизией к Борисову, подбавив этим масла в лампу везения Наполеона. Так выразился потом Нарышкин, встретившись со своим «старым другом» Ланжероном.
Закончив второй мост, предназначенный для обозов и артиллерии, в ночь на 14 ноября французы стали переправляться на другой берег. Все боеспособные части, кроме одной дивизии, охранявшей обоз, успели переправиться к тому времени, пока подошел Кутузов.
Витгенштейн не сумел отрезать французам дорогу к отступлению.
Русские захватили обоз, а охраняющая его дивизия на всякий случай сдалась, по-видимому, чтоб не расставаться с добром.
Узнав, что Наполеон благополучно переправился, Чичагов поначалу был поражен.
– Как? Наступают по всей ватерлинии?[38] – переспросил он привезшего донесение офицера. «Обманули!» – дошло до него.
– Клянусь брам-стеньгой[39], – завопил он, – что повешу Бонапарта на нок-рее![40] Где старпом? Как только пробьют вторые склянки[41], плывем на старое место, – распорядился адмирал.
Однако, подойдя к Борисову, Чичагов разглядел в подзорную трубу лишь арьергард французской армии, благополучно улепетывающей по Вильненскому тракту.
«Ежели враг показал корму, значит, победа!» – успокоил он себя, велев для острастки пострелять вслед из пушек.
Взбешенный Кутузов, благоразумно направив рапорт в Петербург об одержанной победе, плененной дивизии и огромных обозах, вслух воспитывать адмирала не стал, а послал ему письмо, захваченное у французского полковника.
«Я не могу понять действия русских в этот день, – читал адмирал, – тем более что генерал Чичагов…»
– Не генерал, а адмирал, сухопутная французская крыса! – возмутился Павел Васильевич, продолжая чтение.
«…Направил свой огонь на нас только 16 ноября… Он мог бы направить весь свой армейский корпус против нас, чего он, насколько я знаю, не сделал. Будь мы на их месте, перехода бы не последовало. Одним словом, мы спаслись сверх всякого ожидания».
«Все это благодаря вам, адмирал!» – приписал тактичный Кутузов.
Но Чичагова это не расстроило, так как ему привезли отбитые у врага фургоны, в которых находился императорский сервиз, украшенный золотыми вензелями Бонапарта.
«Прекрасно! У меня посуда пропала, зато вот наполеоновский рундучок прихватил», – обрадовался он. – Ничего! Мой бриг[42] еще доплывет до Парижа…»
К такой же мысли после Березины пришел и Наполеон.
«Черт с ним, с этим разлагающимся мясом, – брезгливо разглядывал он своих обмороженных солдат. – Необходимо спешить во Францию и собирать новую армию».
В сравнении с французами русские, конечно, выглядели справнее. И одеты они были теплее, и питались получше, и, черт побери, выигрывали кампанию…
Для поддержания морального духа нижних чинов и офицерского корпуса в конце ноября подошли приказы о награждении наиболее отличившихся в боях под Красным.
Укроп с Огурцом, а также Егор Кузьмин, Антип, Шалфеев и Тимохин получили медали. Тимохин, ко всему прочему, узнал, что стал унтером.
Это сразу подняло боевой дух рядового состава.
Тем более не обидели и командиров…
Раздобыв водки, обмывали награды. Кроме конногвардейских офицеров небольшой домишко осчастливили своим присутствием Нарышкин и двое кавалергардов.
Михаил Строганов, Оболенский и Серж украсили грудь сверкающими багряной эмалью Георгиевскими крестами.
Шувалову и Рубанову присвоили следующий чин.
Оболенский весьма удивлялся, почему не наградили Максима, ведь он захватил два неприятельских орудия.
«Начальству, конечно, виднее! – думал он. – Но как Вебер стал георгиевским кавалером, ума не приложу…»
Вебер награде не удивлялся.
«Мой эскадрон лучший в полку, вон сколько пушек в том бою захватили! – Нежно ласкал контуженным пальцем орден. – Теперь и чинишку неплохо бы получить…» – скосился на эполет.
Молодым офицерам приказом по полку Арсеньев объявил благодарность.
– Собирайся вкруговую, православный весь причет! Подавай лохань златую, где веселие живет! Наливай обширны чаши в шуме радостных речей, как пивали предки наши среди копий и мечей!
– Жуковский? – выслушал стих Оболенский.
– Да нет, сударь. Мой новый друг, гусар и партизан Денис Давыдов.
– Ну, положим, как Рубанов о юном поручике написал, он не сумеет, хотя и лоханями пунш лакает.
– Как – не сумеет? – обиделся за нового товарища граф. – Сейчас прочту… «К портрету Бонапарте» называется: «Сей корсиканец целый век гремит кровавыми делами. Ест по сту тысяч человек и серит королями…»
– Ух! – заржал князь. – Здорово! Надо переписать. Прав был атаман Платов, который сказал, когда ему представили Карамзина: «Люблю сочинителей, потому как все они такие пьяницы…».
Видишь, Рубанов, люди сочиняют, а ты что-то совсем творчество забросил, только лоханями пьешь, – применил понравившееся выражение.
– Когда говорят пушки, музы молчат! – безразлично махнул рукой Максим, подливая в стакан.
«К тому же недавно написал в Рубановку о гибели Кешки. Вот оно сейчас какое творчество». – Выпил и занюхал штаб-ротмистрским эполетом, чем вызвал у товарищей бурю восторга.
Все принялись пить и занюхивать орденами, у кого, конечно, они имелись.
Разошлись поздно.
Утром, тоже похмельный, Шалфеев с трудом растолкал Рубанова.
– А Сокольняка, вашбродь, никак не добужусь, – доложил он, разя перегаром.
– Известно, молодой еще! – заступился за офицерика Максим и, зевая, направился к струганому столу, на котором, подстелив шинель, дрых подпоручик. В головах у него лежал толстенный том воинского устава.
«Здорово их Гришка вымуштровал, – улыбнулся Рубанов, – даже во сне с уставом не расстаются…»
40
Остатки разбитой французской армии докатились до Вильны.
Наполеона среди них уже не было. Император, бросив то, что когда-то считалось «великой армией», мчался в Париж.
Максим наслаждался теплом и вкусной едой, находясь в гостях у Петра Голицына, занимавшего просторный замок какого-то польского шляхтича. Князь нежно смотрел на голодного штаб-ротмистра, подкладывая ему жареное мясо и подливая вино.
– Неплохо гусары живут! – с набитым ртом пытался сказать Максим.
– Это потому, что впереди гвардии наступают! – улыбнулся князь. – Слава Богу, сударь, вы живы и не ранены. В Вильне все отъедимся. Кстати, и государь из Петербурга туда едет – значит, обмундирование и продукты завезут. – Распорядился подбросить дров в пылающий камин. – Смотрите, не переешьте! – ужаснулся, наблюдая, с каким аппетитом молодой офицер поглощает пищу.
– Ничего страшного, господин полковник. Не в сугроб бежать! – развеселил гость князя Петра. – Арсеньев меня на целые сутки к вам отпустил.
Уютно трещали в камине дрова, окутывая теплом и блаженством Рубанова и князя.
– Жена и сын велели вам кланяться, – промолвил Голицын, вытягиваясь в кресле и мысленно отсчитывая удары напольных часов с бронзовой Палладой.
– Спасибо! – поблагодарил Максим, раздумывая, съесть еще что-нибудь или не стоит.
«Хватит», – решил он, по примеру князя откидываясь в кресле и ковыряя во рту зубочисткой.
– На войне тоже бывают приятные минуты, – помолчав, глубокомысленно произнес он.
Князь Петр улыбнулся, взяв со стола наполовину наполненный бокал.
– Вчера беседовал с генералом Ромашовым, – взглянул он на Рубанова.
Бросив в камин зубочистку, тот внимательно прислушался.
«Господи! Мне почти безразличны и Ромашов, и его дочь», – подумал он, но сердце застучало, бросив краску в лицо.
– …Мари навещала отца в Тарутино, – рассказывал Голицын.
«Наверное, по Волынскому заскучала… вот и примчалась. – Тоже взял со стола бокал Рубанов. – Да я уже знаю об этом».
– …Генерал говорит, все о вас с Волынским расспрашивала…
«Я-то ей зачем?.. Да и она мне… – с неожиданной злостью подумал Максим. – Не Денис виноват, а Мари! Закружила парню голову. – Нахмурившись, глотнул из бокала, поставив затем его на стол. – Очень точно и ясно высказался по этому поводу святой Иероним: «Хорошенькая женщина – это жало скорпиона и чертово отродье!» Даже господин Шекспир не сказал бы поэтичнее». – Вполуха слушал рассуждения князя о войне и анализ сражений.
– А Ромашова понизили в должности. Теперь не дивизией командует, а бригадой, – поведал между тем Голицын, – без конца ошибки делает. То вовремя не выйдет в назначенное диспозицией место, а однажды и вовсе заплутал… За всю кампанию ни единой награды не заслужил! – глянул на рубановский колет. – Отец гордился бы вами, – потрепал по плечу Максима. – В девятнадцать лет – штаб-ротмистр и кавалер!
Щеки Рубанова снова заалели – на этот раз от похвал.
– …Я в Ваши года еще только в юнкера поступил…
Когда подходили к Вильне, все конногвардейцы и кавалергарды, служившие в полках до войны, устремились к замку пани Тышкевич, а Оболенский – в корчму.
– Мамеле, папеле, – вопили шмулята, – русский офицер вернулся. – Принимали у него кто каску, кто палаш, кто шинель.
Взрослые Шмули, увидев князя, возликовали:
– Ну теперь-то дело пойдет!.. Эти французы все тут разграбили и чуть нас не съели… – жаловались они. – Ваше сиятельство! Я назову свою харчевню «Князь Оболенский», если русские ее не разграбят.
Поблагодарив за предложенную честь, Григорий велел оставить прежнее название «Шмули и шмулята», пообещав сберечь заведение.
Замок стоял пустой. Разочарованные офицеры один за другим потянулись к Шмулям.
На следующий день русская армия вступила в Вильну.
Первым делом Рубанов посетил известный ему домик. С сильно бьющимся сердцем прошел он в распахнутую дверь. Дом, как и замок, стоял в запустении. Вымерзли даже тараканы!..
Жители славного города Вильны с огромным подъемом встретили Александра I. За последние полгода они привыкли к встречам и расставаниям. Городской голова не изменил даже программу чествования. Согласно заведенному ритуалу, в окружении именитых сограждан со словами:
– Вручаю Вам ключ от города Вильны! – он преподнес российскому императору второй тяжеленный ключ от спальни своей супруги, подумав с опаской, как бы русские шпионы не разведали, что можно им открыть…
Город блистал огнями и иллюминацией. Поляки и литовцы, как и в первый раз, приветствовали царя восторженными воплями и приготовили ему тот же дворец, в котором император жил до войны, а затем поселился Наполеон.
Язвительно улыбаясь, Александр вспомнил слова своего министра полиции Балашова, сказанные ему, когда Вильну захватил Бонапарт: «Когда мы возьмем город обратно, они восторженно станут лизать ваши сапоги, тут же забыв про французов».
«Точно так и вышло!» – думал он, но все же в благодарность за встречу в своем манифесте простил предательство полякам и литовцам.
Не зря же современники называли его «кнут на вате».
Здесь же, в Вильне, император встретился с Кутузовым.
– Вы спасли не одну Россию. Вы спасли Европу! – воскликнул он, ревниво обнимая фельдмаршала.
В душе ему было жаль делиться славой с этим седым, тучным, одноглазым стариком.
Уже через несколько дней между ними возникла размолвка. Император горел желанием стать освободителем Европы, а Кутузов не одобрял заграничного похода: пусть своих солдат подставляют, а в Россию Бонапарт больше не сунется; но он был верноподданным Его Императорского Величества, и в декабре из канцелярии главнокомандующего вышел приказ за подписью фельдмаршала: «Храбрые и победоносные войска. Наконец вы на границах империи. Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем.
Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед; два месяца сряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами.
Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских; тысячи падали разом и погибали. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата.
Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Вышнего праведно отомстила их нечестие.
Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем.
Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России».
Эх! Русская простота и доброта!..
Ведь всякий раз после освобождения мы ничего не получали, кроме плевков и оскорблений!!!
А пока русская армия веселилась, отдыхала и отъедалась в Вильне, доказывая по ночам полячкам, что русские намного крепче французов.
Оболенский Вильну терпеть не мог и уехал в шмулятник.
Нарышкин проводил время с заболевшим Жуковским, а Рубанов трясся в коляске по мощенным булыжником мостовым, заглядывая в гостиницы, магазины и трактиры в надежде встретить пани Тышкевич.
Поэт и гусар по совместительству Денис Давыдов занял Гродно, который сдался со всеми своими потрохами – магазинами и складами.
Через несколько дней, немного отдохнув, армия двинулась дальше, к Неману.
В декабре 1812 года император выпустил манифест об окончании Отечественной войны, а армия ступила за границы России и 1 января пересекла Неман.
Встречая 1813 год, Михаил Илларионович думал, сидя в мягком кресле и глядя на колеблющийся огонек свечи:
«Сколь мне везло в прошлом году! За ратификацию договора с турками я стал светлейшим князем. За победу при Бородино получил фельдмаршальский жезл. Разбили француза под Тарутино, Малоярославцем, Красным и на Березине, за что император наградил меня высшими орденами. За изгнание французов из России Александр преподнес мне орден Святого Георгия 1-й степени.
Но Бог не дает даром столько в один год!..
Что-то он потребует от меня в наступившем тринадцатом?.. Сподобил бы Господь еще годок пожить…» – перекрестился на икону Михаила Архистратига.
Прибыв в Париж, Наполеон тут же принялся формировать армию.
Во всех трактирах и присутственных местах висели императорские декреты о новом наборе.
Наполеон проиграл кампанию в России, но Европа пока принадлежала ему.
27 января пала Варшава, и русская армия торжественно входила в столицу Польши под крики «Виват!».
Петр Голицын, участвовавший во взятии Варшавы, получил чин генерал-майора и гусарскую бригаду в подчинение.
Варшава Рубанову понравилась. Да и не только ему. Офицеры славно повеселились в кабачках и постелях варшавянок.
Максим, сам не зная зачем, упорно искал пани Тышкевич.
«Коли встречу, что скажу ей? Воображаю, как она удивится, увидев меня… А может, уже забыла?.. Да и я не испытываю к ней глубоких чувств. Рассказать про Волынского? Что ей за дело до погибшего русского офицера, влюбленного в капризную пани?»
Но он с надеждой вглядывался во встречных женщин, посетил оперу, театр и несколько балов; расспрашивал разговорчивых поляков и полячек. Некоторые знали пани Тышкевич, но никто не слышал о ней последние несколько месяцев.
Свое двадцатилетие Рубанов встретил в Польше. Двадцать лет – круглая дата. Сам командир лейб-гвардии Конного полка Арсеньев поздравил своего штаб-ротмистра и пожелал ему орденов, чинов и здоровья.
Армия получила приказ идти за Одер, и русские полки вступили на территорию Силезии и Саксонии.
Местное население встречало своих освободителей с восторгом, а освободители с удивлением взирали на просторные каменные дома, в которых жили зажиточные крестьяне, завидовали крепким конюшням и чистым скотным дворам.
«Ну почему у нас в России не так?» – думали солдаты, вспоминая родные деревни.
В начале апреля Рубанов с конногвардейским полком по прихоти судьбы оказался невдалеке от тех мест, где когда-то воевал его отец и где завещал Максиму захоронить орден генерала Ромашова.
«Арсеньев не отпустит… – переживал он, – что же придумать?» – Доставал орден и вспоминал отца – его улыбку, ласковые глаза и последние, сказанные на смертном одре слова… «Я должен! Должен выполнить его волю!»
Помог его величество случай!
Князь Голицын не спал ночами от охватившей его ностальгии по молодости и павшим друзьям.
Ясным и солнечным весенним, а для России – просто летним днем, он приехал в сопровождении двух ординарцев в конногвардейский полк и тут же направился к командиру лейб-гвардии Конного полка, ставшему после Бородино генерал-майором.
– Ваше превосходительство, – улыбнулся он Михаилу Андреевичу, – поздравляю вас генералом!
– Так же и вас! – пожал ему руку Арсеньев.
Буквально через час Голицын и Рубанов, в сопровождении Шалфеева и двух ординарцев, тронулись в путь…
С удовольствием вдыхая свежий и сладкий воздух, приправленный солнцем и песней жаворонка, Максим с интересом глядел по сторонам, любуясь открывшимся его взору ландшафтом.
Князь Голицын все это однажды пережил и сейчас снова с волнением обнаруживал знакомые места.
Ехали не спеша. Встречные фургоны отъезжали к краю ровного шоссе, уступая русским дорогу.
– А вы знаете, Рубанов, в молодости я ненавидел войну! – прервал затянувшееся молчание Голицын. – Хотя тогда большинство друзей еще жили… – поглядел он в безоблачную синюю даль. – Вы, наверное, не знаете, что недавно я схоронил полковника-гусара?! – Снова замолчал он, поиграв желваками.
– Гусарского полковника? – удивился Максим, но не особенно опечалился.
Он начинал привыкать к смертям, к тому же сам уже терял друзей. – Примите мои соболезнования, господин полковник… Ой, простите – господин генерал.
Голицын, казалось, не слышал его.
– Точно! Вот тот самый пригорок… и деревня в стороне. Все верно, – тихо говорил он, разглядывая поросшую веселой зеленой травой невысокую гору. – А вот здесь стоял наш полк! – Спрыгнул он с лошади, и подскочивший ординарец тут же принял повод.
Максим тоже с удовольствием ступил на землю и с любопытством и интересом оглядывался по сторонам.
– Вон оттуда, где пасется стадо, наступали французы, – говорил князь, скорее себе, нежели Максиму. – Так и есть! – нашел он только ему ведомую примету и замолчал, снова переживая то время, тот далекий вечер, когда пели цыганки и все еще были живы…
Он, казалось, воочию увидел костер и гибкую девичью фигурку, танцующую перед ним, и хлопающего в ладоши Акима, и раскачивающегося в брошенном на землю седле такого же юного, как Рубанов, Алпатьева, и пьяного вдрызг Василия Михайловича, стрелявшего в воздух из пистолета…
Он увидел свою молодость, оставшуюся здесь, на безымянном поле, после которого, к удивлению своему, стал рваться в бой, участвуя во всех кампаниях, которые вела Россия.
«Мне стала нравиться война?! – поразился он сделанному открытию. – А может, я воюю за них? За своих друзей! И за всех русских, погибших во все времена?..» – Велел ординарцам разложить на траве скатерть и выкладывать припасы.
Те мигом кинулись выполнять приказ, а Шалфеев, ослабив подпруги, пустил лошадей пастись.
«Может, когда-нибудь через сто или даже двести лет какой-нибудь русский офицер, проезжая по этим местам, помянет меня, князя Голицына, погибшего за Россию?..» – глядел он в глубокую даль поля, а может, своей души, удивляясь, как давно не вспоминал друзей юности.
Резко выдохнув воздух, князь хмуро глянул на ординарцев.
– Седла тащите! – произнес он. – На чем мы сидеть-то будем?
За твоего отца, Рубанов! За храброго русского офицера и его эскадрон. – Не чокаясь, выпили водку, выплеснув остатки на траву.
– Помяните и вы русских воинов, – разрешил Голицын ординарцам и Шалфееву, а затем принялся пересказывать все моменты боя, услышанные от оставшихся в живых гусаров рубановского эскадрона.
Слушая князя, Максим так ярко представлял разыгравшееся сражение, словно участвовал в нем сам.
Затем, оседлав коней, вдвоем поехали туда, к отстроенному мосту, и по дороге Максим поведал князю последнюю волю отца и протянул орден.
– Да что же ты раньше-то молчал? – укорил его Голицын, разглядывая попеременно то орден, то мост, то лениво текущие прозрачные воды реки. – Где-то здесь и был убит Алпатьев, – промолвил он, – и ранен твой отец.
Отъехав в сторону от дороги и обождав, пока проедет неповоротливая фура с любопытной крестьянкой и ее мужем, скинув мундиры, они медленно, палашом и саблей, выкопали неширокую, на глубину руки ямку, и Максим, перекрестившись, опустил в нее покрытый красной эмалью крест.
Склонив головы и помолчав, думая каждый о своем, направились к реке вымыть испачканные в земле руки.
«Вот я выполнил и второй наказ своего отца!» – когда ехали обратно, подумал Рубанов.
Про третий он старался пока не вспоминать.
41
Апрель 1313 года для Рубанова, конногвардейского полка и всей русской армии был насыщен событиями. В этом месяце полк наградили Георгиевскими штандартами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.».
Кавалергарды получили такие же штандарты.
А 16 апреля в маленьком прусском городке Бунцлау скончался главнокомандующий русской армии фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, что оказалось величайшей потерей не только для армии, но и для всего Отечества.
Кутузов являлся полководцем, может даже, единственным за всю историю мировых войн, который ДОРОЖИЛ солдатом не потому, что вдруг численность противника перевесит, и станет невозможно победить, а потому, что ему была дорога сама ЖИЗНЬ, как это ни парадоксально для военачальника.
Это видно из всех его сражений.
И изгнав Наполеона из России, он не хотел воевать за границей, не желал класть жизни русских солдат на весы интересов иностранных держав!
Гениальный Суворов в этом плане был не таков. Тот обожал саму войну, где бы она ни велась. Он жалел солдата, но только из-за перевеса в численности!
Но русская армия, выпестованная и обученная светлейшим князем, несмотря ни на что, – наступала… наступала… и наступала!
В Пруссии конногвардейцы наконец-то отъелись и обмундировались. У Оболенского при слове «водка» слюни больше не текли. Шнапса у пруссаков было достаточно, но князю не нравилась сама нация.
«Скушные люди – эти брудеры! – думал он. – Даже хуже поляков… Те, хотя хвастуны и орут словно петухи, однако выпить умеют.
А пруссаки целый день могут тянуть две кружки пива… Это какое же терпение надо иметь?.. И все веселье у них – несколько метров пропрыгать лягушками, оседлав стулья и наквакивая при этом какую-нибудь дурацкую песенку типа: «Ах, мейн либер Аугустин, Аугустин».
Тьфу! А не мужики. Правильно у нас в народе говорят: что русскому здорово, то немцу – смерть!
Нет у них настоящего русского куража! – размышлял Оболенский, приканчивая в пивной вторую бутылку шнапса и прикидывая, кого бы погонять или чего можно разгромить. – Впрочем, напиток придумали неплохой! – откопал он хоть что-то положительное и у немцев. – Хотя русская водка лучше!»
И опять поход! Опять конногвардейцы оставляют позади селения с островерхими кирхами и пышными фрау.
Создав новую армию из войск, находившихся в Италии и других европейских странах, Наполеон перебрасывал их в Пруссию.
Очередной набор поставил под ружье 200 тысяч человек, плюс к этому Бонапарт призвал досрочно тысячи подростков, которых во Франции черт знает почему тотчас прозвали «мариями-луизами».
Наполеон рассчитывал закалить их годичным обучением в военных лагерях, но армии союзников не дали ему столько времени…
В мае тихо тлевшая и коптившая звезда Наполеона несколько разгорелась, и он потеснил союзные войска, возвратив Дрезден.
23 мая было заключено перемирие, прервавшее на два месяца боевые действия.
За это время к России и Пруссии присоединились Англия, Швеция и Австрия. В результате после перемирия против Наполеона выступили три армии: Главная, Богемская – под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга, Силезская – под командой прусского генерала Блюхера, и Северная, которой руководил Бернадот.
Основу всех армий составляли русские войска.
Оставшись без Кутузова, Нарышкин стал адъютантом у графа Милорадовича, а в начале мая отпросился у генерала к своему другу Денису Давыдову, который получил под команду партизанский отряд, состоящий из четырех сводных эскадронов и части Татарского уланского полка.
Вместе с ним Серж участвовал в поисковых рейдах и громил неприятельские тылы, доставляя в штаб Милорадовича сведения о перемещениях французских войск.
Рубанов с Оболенским не заработали даже царапины, а штаб-ротмистр Нарышкин перед самым мирным договором получил довольно-таки серьезную рану. От Дениса Давыдова они узнали, что какой-то взбесившийся «мария-луиза», рыдая от страха, очертя голову бросился на графа, раскроив ему щеку рядом с ухом и порезав грудь, – в партизанском отряде Нарышкин сражался без кирасы.
Граф, конечно, болезненно морщась, рассказал друзьям прямо противоположную историю.
По его версии выходило, что целый французский полк, состоящий из обученных солдат, а не каких-то «машек с лизками», напал на отряд, и Серж мужественно отбивался от них, давая возможность партизанам отступить и перегруппироваться.
На этот раз Оболенский не улыбался, делая вид, что верит каждому слову, а Рубанов думал, что он специально пошел к Давыдову, дабы доказать друзьям, что награды заработал в бою, а не в главной квартире у светлейшего. В конце рассказа Нарышкин замогильным голосом продекламировал:
«Не нужны надписи для камня моего, пишите просто: здесь он был и нет его!»
– Эпитафия поэта Батюшкова, – жалобно добавил он.
Порезы были не глубоки, но весьма болезненны, к тому же рана на лице не прибавила графу оптимизма, окончательно изгадив настроение:
«Стану теперь на черта похож!» – страдал он.
Оболенский деятельно лечил друга самым сильнодействующим лекарством от всех болезней.
В результате через два месяца граф поправился, но на левой щеке, параллельно уху, осталась узкая полоска шрама с неровными краями и гладкой кожей прозрачно-голубого цвета. Он пытался замаскировать ее бакенбардом, но волос не рос на этом месте.
– Ничего! – успокаивал его Рубанов. – Отрастишь рядом, а туда сделаешь зачес. Зато шрам тебе к лицу – придает мужественный вид настоящего гвардейского рубаки.
Оболенский поддерживал Максима, добавляя от себя, что кузина, когда увидит супруга, просто осатанеет от страсти, так как шрам делает его дьявольски красивым.
– Представь, как он тебе пойдет, когда станешь генералом!
Постепенно Серж начинал гордиться полученной травмой, переживая только, что нанес ее «мария-луиза», а не настоящий солдат.
Наведался к раненому и Денис Давыдов.
Находившийся неподалеку Шалфеев с огромным доброжелательством разглядывал курносый нос приезжего и сравнивал со своим:
«Мой, конечно, краше! Больше с царским схож, – радовался за свой румпель унтер, – но и у этого гусара тоже нюхальник неплохой!» – сделал он вывод.
– Мне бы твои заботы, Нарышкин! – пройдя в комнату несчастного, взвыл Давыдов и деятельно забегал по помещению. – Совсем эти иностранцы распоясались, – отстегнул и бросил саблю на стол, чтоб не путалась под ногами, – и почему наш государь к ним благосклонен? Неужели, русаки хуже?
Представляешь?! Взял Дрезден, который, правда, французы сейчас отобрали. Да с каким почетом… Ты не видел, Нарышкин, как я любовался постными рожами лягушатников, когда, прежде чем покинуть город, они отдали нам честь, вскинув ружья «на караул» при барабанном бое. Незабываемая минута.
Весь вечер сверлил на мундире дырочку … и вот… – Устало плюхнулся он в кресло, в сердцах кинув на саблю голубой с серебряными жгутами доломан ахтырского гусарского полка, висевший у левого плеча.
«Слава Богу! – подумал граф. – А то голова закружилась». – Сфокусировал взгляд на госте.
– Так вот, милый граф, у вас что-нибудь попить есть?
– Найдется, конечно, – кликнул своего денщика Серж.
– Ох, хорошо! – напившись, расправил свои усы Давыдов и с жалостью глянул на конногвардейца. – Именно по этой причине вам следует расстраиваться, сударь.
И на вопросительный взгляд приятеля уточнил:
– Расстраиваться, полагаю, следует потому как нет усов, а не потому, что есть шрам! Я лишь из-за усов и не захотел в кавалергардах служить… Как можно жить с босым лицом? Не жизнь, а маета одна от этого…
Так на чем я остановился?.. Ах да! Командующий русским авангардом Винценгероде, разумею, тоже просверлил дрезденскую дырочку на мундире… а тут я! – хлопнул себя по коленям и заржал Давыдов, темпераментно вскакивая на ноги.
«Господи! Хоть бы снова бегать не начал», – взмолился Серж, подняв глаза к иконе. Бог услышал его молитвы.
Потоптавшись, гусар снова уселся в кресло.
– Представляете, граф?! Бросил войска на марше и на почтовых примчался на разборку. Аж пена у немчуры с губ капала. А по пути, от злости наверное, бутылку мадеры выкушал. Потому что разило от него… – завистливо втянул воздух гусар. – Нарышкин! Неужели у вас нет ничего крепче кваса?
Серж опять крикнул денщика.
Снова разгладив усы и жалостно оглядев пустое место под носом у графа, Давыдов продолжил:
– Этот брудер обвинил меня в смертном грехе: как это я осмелился подойти к Дрездену без его позволения и занять городишко… Во стервец! Правильно мои гусары и казаки прозвали его «винцо в огороде», – оглушительно захохотал полковник. – За подобное взятие Гродны светлейший пожаловал мне Владимира 3-й степени, а тут от командования отстранили.
Что?! Разве у тебя больше нет вина? – горестно возопил он. – А ты о какой-то пустяковой болячке переживаешь, – вздохнул Давыдов, пристегивая саблю и набрасывая на плечо не первой свежести доломан.
В августе, когда даже в одной белой полотняной рубахе кирасиры изнывали от зноя, русские кавалерийские гвардейские полки выдержали жаркий бой с неприятелем при Кульме.
Когда тело сочится потом, что может быть противнее тяжелой кирасы, с трудом напяленной на колет. Да в такой день махать палашом?..
Французы в этом бою потерпели разгромное поражение.
«Ну конечно, только дураки сражаются в такую жару!» – возмущались потом они.
Доблестной французской армии, как и русским крестьянам, всегда вредил погодный фактор.
Нарышкин сражался в составе родного полка, командуя взводом.
– Полагаю, непривычно после дивизии-то? – трунил над ним Оболенский, но Серж не слушал князя и, дергая щекой, проявлял чудеса героизма, гоняясь за «мариями-луизами».
Детишки криком кричали от него…
Именное золотое оружие с надписью «За храбрость», полученное за этот бой, окончательно примирило Нарышкина со шрамом.
Такой же награды удостоился и Оболенский. Рубанов получил Георгиевский крест 4-й степени.
Осенью в конногвардейском полку произошли судьбоносные перемены. Страстно ненавидевший французов Вайцман был произведен в полковники и назначен заместителем командира полка.
Первым делом он сменил денщика. Синие французские мундиры влияли на него как красная тряпка на быка. Вайцмана тошнило от всего синего, и фамилия «Синепупенко» приводила его в глубокое уныние, вызывая отрицательные ассоциации.
Приказом по полку штаб-ротмистра Оболенского поставили на должность командира третьего эскадрона, а Нарышкина назначили его заместителем. Кроме графа, он перетянул в свой эскадрон Огурца с Укропом – как же без «закуски» – и, разумеется, бессменного денщика, бывшего дядьку Егора Кузьмина.
Должность Оболенского во втором эскадроне занял Рубанов, передав свой любимый третий взвод под команду подпоручику Сокольняку.
Все эти огромные перемены не коснулись своим крылом лишь Вебера. Генерал Арсеньев не представил его ни к награде, ни к чину, ни к должности. От такой черной несправедливости у Вебера открылась рана на пальце, и он пышно замотал его, истратив весь эскадронный запас перевязочного материала.
Особую тоску вызывало именное золотое оружие, полученное этими бывшими юнкерами. Даже густая бахрома эполета не могла смягчить его горе.
«Майн Готт! Вернуть бы сейчас то времечко… – скрипел он зубами. – А штаб-ротмистр Оболенский и вовсе обнаглел! – вздыхал немец, в забывчивости пытаясь просунуть забинтованный палец в нос. – Я только и успел сказать: «Поздравляю вас, герр Оболенский!» – как он кинулся на меня, уязвив словами мою матушку, а меня толкнув в грудь… А за что? Может, что послышалось?..»
На биваке под Лейпцигом рядом с конногвардейцами краснел мундирами английский пехотный полк, и Оболенский весьма сдружился с английским лейтенантом, который привлек его плотным запахом спиртного, распространяющимся на несколько саженей, и носом под цвет своего мундира. Рыжий офицер враз и бесповоротно пришелся князю по душе.
Встречаясь вечерами, союзники яростно спорили, чей полк лучше. Как они понимали друг друга, для всех оставалось загадкой. Кроме своего родного, рыжий офицер не знал другого языка, а Оболенский не разумел по-английски. Но международный напиток сближает людей!
– Карашо! – научился русскому слову англичанин.
– Бьютифул![43] – поддерживал его Оболенский, смакуя во рту брэнди. – Хотя водка и лучше, – уточнял он.
За два дня до сражения они побратались, и растроганный князь, пересчитав пустые бутылки, пообещал своему английскому брату в случае чего отслужить по нему восемь панихид…
Тот, в свою, очередь, поклялся выхлопотать Оболенскому орден у короля.
На второй день Лейпцигского сражения, тут же получившего название «битвы народов», красноносого английского лейтенанта разнесло на куски французским ядром. Безутешный князь, как и обещал, заказал восемь панихид.
Наполеону был нанесен сокрушительный и невосполнимый урон. После сражения его армия, потеряв две трети своего состава, безудержно покатилась к пределам Франции.
Как бы то ни было, но война сопутствует офицерской карьере, разумеется для тех, кто остается жив.
В ноябре Григорий Оболенский получил чин ротмистра и орден Святой Анны 2-й степени.
Такие же кресты украсили грудь Нарышкина и Рубанова. К тому же они стали командовать эскадронами. Нарышкин – четвертым, вместо убитого ротмистра; а Рубанов – вторым, вместо Вебера, наконец-то отхватившего должность командира дивизиона, освобожденную Вайцманом.
В полку активно обсуждались полученные назначения и столь же активно обмывались заслуженные награды.
Кресты щедро сыпались на конногвардейцев.
Сокольняк был представлен земным начальством к Владимиру 4-й степени, а его друг, подпоручик Малахов, – небесным начальством к кресту из немецкой березы. У Семена Сокольняка погибший друг вызвал тяжелые переживания. Рубанов понимал его и не напрягал службой.
Когда конногвардейский полк, несколько оправившись и отдохнув, собрался передислоцироваться на новое место, Максим вместе с Сокольняком пошел проститься с Малаховым.
Помянув товарища и утерев слезу, грустный подпоручик положил в изголовье могилы потрепанный том воинского устава:
– Теперь времени у него бездна… Пусть изучает!
Оболенский, выпив за англичанина и заказав последнюю, восьмую панихиду, мрачно докладывал сияющему Веберу о состоянии эскадрона. Он снова попал к нему под начало.
Не слушая князя, Вебер сравнивал свою бахрому с густыми эполетами ротмистра и молча ликовал, видя, что его бахрома длиннее. И даже новенький орден на груди Оболенского не испортил ему настроения.
«Хотя мы оба и ротмистры, однако, он докладывает мне, а не я ему, – блаженствовал немец. – Арсеньев все же отличил мои заслуги». – Размотал он палец и выкинул бинт.
Нарышкин познакомился с еще одним поэтом – Батюшковым, чью эпитафию некогда с душевной горечью читал друзьям, а теперь с удовольствием цитировал его стихи:
«Но слаще мне среди полей увидеть первые биваки и ждать беспечно у огней с рассветом дня кровавой драки. Как сладко слышать у шатра вечерней пушки гул далекий и погрузиться до утра под теплой буркой в сон глубокий».
Зимой 1814 года армия форсировала Рейн, и русский сапог ступил на землю Франции.
Нарышкин, качаясь в седле, заучивал стихотворение Батюшкова «Переход через Рейн».
«То-то славно! – клевал он носом, наклоняясь к лошадиной холке: «И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов, под знаменем Москвы, с свободой и с громами!.. Стеклись с морей, от Каспия валов», – с трудом разлепляя уставшие веки, смотрел на иные, нежели у немцев, постройки, на другую одежду крестьян и вновь закрывал глаза, клонясь с седла то вправо, то влево и бормоча вирши Батюшкова.
Рядом дремали кирасиры. Уставший полк медленно двигался в длинной ленте наступающей армии.
13 марта у Фер-Шампенуаза конногвардейцы выдержали еще один кровопролитный бой. Ох как не хотелось им умирать этой весной… Ведь Париж был рядом. Казалось, протяни руку, и вот он, волшебный город.
Звезда Наполеона дымилась и гасла.
«Тринадцатое число! Вот напасть-то, – расстраивался французский император, – кто же сражается в такой день?» – единственное, что он вывез из России, так это дремучие русские суеверия.
Впрочем, они все чаще и чаще сбывались. Его воспаленный от военных поражений и крушения империи мозг запомнил обширную долину и темнеющие на ее фоне неприятельские каре. И любимую артиллерию, которую штурмовала русская конница. Запомнил рев пушек и визг картечи, стоны падающих лошадей, вспышки выстрелов, блеск палашей и сабель… И снова поражение!
18 марта русские офицеры и солдаты увидели долгожданный Париж…
Император Александр любовался городом с возвышенности, покрытой веселой зеленой травкой. В мареве голубого французского неба плыли и преломлялись готические башни Нотр-Дама, высоты Монмартра, храмы, дворцы, сады и бульвары…
«Ур-р-р-а!» – гремело у ног его коня, а в уши лез громкий шепот приближенных:
– О-о-о! Пальмира Запада под ногами императора Востока!
– Сказочный Париж раскроет свои врата пред гением Европы!
«Как это прекрасно!» – думал Александр, и слезы текли по обветренным царским щекам.
А вокруг раздавалось «ура!», и перед глазами – такой доступный и близкий Париж.
«Ах! Ну почему жизнь скупа на столь приятные минуты!»
Оболенский, Рубанов и Нарышкин тоже любовались раскинувшейся перед глазами столицей.
«Монмартр, Нотр-Дам, Бельвиль, Сент-Дени, Венсен, Шарантон, раздавалось вокруг – и чаще всего: Париж! Париж! Париж!»
– Господа! А это что за прекрасный позолоченный купол? – вытянув перед собой руку, поинтересовался Рубанов.
– Этот купол венчает Инвалидный дом! – проявил эрудицию Вебер.
– Как было бы замечательно спалить его, – плотоядно поглядел на каменные палаты Вайцман.
Максим улыбнулся: «Дом Инвалидов!» Критически поглядел на игравший на солнце купол. «После этого еще утверждают, что французы обладают безусловным вкусом! Кому пришло в голову столь поэтичное название?»
А с высот Монмартра на русских испуганно глазели парижане.
Здесь располагался центр французских войск. Левое их крыло простиралось до Нельи, а правое занимало Бельвиль, Бютшомон и Венсенский замок.
Множество стрелков засело по садам, скрываясь за деревьями.
Двести тысяч союзных войск готовились к штурму столицы Франции. Российская и прусская гвардия под командой графа Милорадовича располагалась в центре.
Раевский собирался штурмовать Бельвиль, а принц Вюртембергский на левом крыле должен был овладеть Венсеном и Шарантоном.
Справа силезская армия, согласно диспозиции, через Сент-Денис предполагала выйти к Монмартру.
Сражение начал генерал Раевский. Его солдаты штыками выбили неприятеля из Пантеня.
Затем в бой вступила гвардия Милорадовича. Следом силезская армия заняла Монмартр. Причем отличился корпус графа Ланжерона.
Войска под командой генералов Ермолова, Чеглокова, Паскевича, Воронцова и других, подавляя сопротивление французов, заняли высоты, направив пушки на улицы и дворцы Парижа.
Шестьсот пушек готовы были превратить Париж в сгоревшую Москву.
Вайцман, с замирающим от счастья сердцем, ждал этого незабываемого момента, но Александр помиловал город и принял его капитуляцию, которую составил и подписал от имени русского командования полковник Михаил Орлов. Государь тут же произвел его в генерал-майоры.
42
Гвардейцы расположились биваками на Елисейских Полях.
Конногвардейцы остановились в казармах военной школы.
Денис Давыдов въехал в Париж в составе армейской кавалерии во главе гусарской бригады, состоящей из Ахтырского и Белорусского полков. За сражении при Ла-Ротьере его представили к генеральскому чину. Представление своей рукой подписал прусский генерал Блюхер, командующий силезской армией, в которой состоял Давыдов.
Определив на постой своих бойцов, поэт, партизан, гусар и теперь еще генерал направился с визитом в гвардейские кавалерийские полки. Вначале он посетил кавалергардский, где когда-то начинал службу юнкером, а затем наведался и в конногвардейский.
На этот раз он не суетился – все ж генерал!
– Вы прекрасно выглядите, сударь! Клянусь рясой монашки Матильды из монастыря Святого Луки, – оглядел он Нарышкина, усаживаясь в предложенное кресло.
Трое друзей не пожелали жить в казарме и сняли чудную квартирку из четырех комнат и внутреннего дворика у мадам Женевьевы, дебелой тридцатилетней парижанки, зарабатывающей на жизнь трудом кружевницы – днем и легкомысленной особы – ночью.
Нарышкин дома был один, ежели конечно, не брать в расчет что-то вышивающую в соседней комнате мадам Женевьеву.
– Вы еще лучше, господин генерал, – поднявшись с дивана, поприветствовал его поклоном граф. – Ваше превосходительство, – растягивая слова, произнес он, – вы сменили полк?
– С чего вы взяли, сударь? – вальяжно развалился в кресле генерал, поправив коричневый доломан с желтыми шнурами и закинув ногу на ногу.
Мадам Женевьева, бросив шитье, прислушивалась к мужскому разговору.
– Да в прошлый раз на вас был доломан и ментик голубого цвета с серебряным шнуром, – указал Серж на форму гусара.
– Ах, это?! – воскликнул Давыдов и, заметив в дверях заинтересованное симпатичное личико кружевницы, явно рисуясь, произнес: – Это дело пикантное… – чувственно засмеялся он, любуясь порозовевшим лицом заинтригованной парижанки. – Наш полк под Ла-Ротьером голубые мундиры поизорвал, а биваком после боя встали у женского монастыря, посвященного святому Луке… – замурлыкал он, краем глаза следя за мадам Женевьевой и не обращая даже малейшего внимания на графа, – а тут гроза… святые сестры визжат… надо же было их успокоить?! – закончил он, расправив усы и подмигнув кружевнице.
Увидев, что она почти зашла в комнату к двум мужчинам, кружевница охнула, разыгрывая испуг, и отступила на свою территорию.
– А причем коричневые мундиры? – не понял Нарышкин.
– Гроза бушевала два дня и особенно две ночи, – нравоучительно произнес генерал, вытягивая шею в сторону ушедшей женщины, и довольно хмыкнул, услышав в соседнем помещении легкий, тихий смех, – а ночью монашкам особенно было не по себе в одиночестве келий… Вот они за оказанные услуги и пошили нам мундиры из своих сутан…
Полагаю, все были довольны, а особенно святой Лука. – Поднялся он с кресла и, не выдержав, направился в соседнюю комнату.
Но мадам Женевьева оказалась на целую голову выше гусара и не знала, что он известный поэт. Ее рельефные груди, словно две пушки, нацелились в поникшего партизана.
– Вы, мадам, удивительно авантажны! – пробормотал он и, повернувшись кругом, пошел к Нарышкину, поднявшемуся с дивана и направившемуся за гостем.
– Потерпел молниеносный афронт! – развел руками гусар и, брякнув саблей, плюхнулся в кресло, задумчиво пожевав ус и на этот раз с досадой вслушиваясь в веселый смех кружевницы.
В начале апреля Нарышкин с Рубановым стали штаб-офицерами лейб-гвардии Конного полка, получив чин ротмистра и эполеты с бахромой.
Видя такое дело, Вебер замотал палец, и на следующий день чуть сам не отдал концы, так как узнал о присвоении ему должности старшего ротмистра. Он даже не в силах был обмыть это событие, ибо голова кружилась юлой. - Теперь я официально командую двумя эскадронами.
«Старший ротмистр, старший ротмистр, – бормотал он, лежа в мундире на диване, – ведь это армейский подполковник… Остался еще один шаг!» – мечтательно всматривался он в потолок с мерещившимися там полковничьими эполетами.
Для Вайцмана в тот же день осуществилась мечта его детства: ему доверили полк… Но полк оказался уланским – наряженным в ненавистный синий цвет.
«Майн Готт! Ты издеваешься надо мной, – упрекал обмишулившегося немецкого бога. – Как же я сменю прекрасный белый мундир на синий? Это свыше моих сил…»
Новый полк его стоял за сотню верст от Парижа, и прощаться с бывшими однополчанами он пришел уже в синей уланской форме. От этого вид его стал таков, будто он съел что-то кислое. Даже двадцатитысячный годовой оклад не в силах был подсластить синюю пилюлю.
С апреля начались бесконечные парады. Целый сонм государей и принцев, оккупировавших Париж, хвалился своими войсками.
После двух лет боев привыкать к шагистике было просто невыносимо, и многие офицеры стали даже завидовать уехавшему подальше от государя Вайцману.
Командиры эскадронов целыми днями проводили занятия со своими подразделениями, наполовину укомплектованными обстрелянным уже, но не обученным строю пополнением.
На Вебера напал командный раж, и он зорко следил, как держит строй его дивизион, состоявший из третьего и четвертого эскадронов.
Вечера, однако, проводили каждый по своему усмотрению.
Париж постепенно становился Парижем.
Как грибы после дождя, росли дешевые притоны и роскошнейшие игорные дома и рестораны. Повсюду открывались бистро и кафешки.
Русские офицеры и казаки переходили из одного питейного заведения в другое, и самым популярным оловом стало «быстро!». Победители не любили ждать.
Владельцы, намекая на молниеносное обслуживание, называли свои забегаловки «бистро».
Три конногвардейских ротмистра целенаправленно прочесывали Париж. Начали они с Пале-Рояля.
– Господин ротмистр, – обратился к Оболенскому Максим, посмаковав слово «ротмистр», – тот французский капитан, которого вы уложили под Бородино, предлагал сводить меня в какое-то кафе у Тюильрийского дворца. Давайте его найдем и помянем несчастного капитана.
Вы князь, весьма погорячились, зарубив этого месье… – вздохнул Рубанов.
– Ай! Вон их сколько еще осталось, – повел рукой вокруг себя Оболенский.
Совесть не тревожила его душу, и нравственные страдания не нарушали сон.
Майским вечером трое друзей, фланирующих у Парижской оперы в поисках, разумеется, не лишнего билетика, а какой-нибудь актрисочки, увидели старинный экипаж, сопровождаемый эскортом кавалеристов. Восемь белоснежных лошадей, выгибая шеи, везли во дворец нового французского короля Людовика XVIII.
Парижане, поняв, кто перед ними, приветственно орали, подбрасывая вверх шляпы. Стоявшие на запятках кареты два огромных лакея в белых ливреях с вышитыми лилиями гордо взирали на прохожих и довольно щурились, будто горожане приветствовали их.
Увидев в окошке кареты пухлое лицо с осоловевшими глазами, Нарышкин возмущенным голосом произнес:
– И за это чучело я заработал шрам? Прав был старик Кутузов… Не стоило нам соваться за пределы России.
– Вы, ваше сиятельство, похоже, уже нахватались вредного якобинского духа! – засмеялся князь. – Но это поправимо, граф Аракчеев по приезде домой мигом выправит ваши взгляды…
– Да, господа! Пора в Россию, – ностальгически вздохнул Нарышкин. – Вон и Денис Васильевич получил отпуск и собирается в Москву… Василий Жуковский давно уже там. Получил отставку и Константин Батюшков… Следует и мне просить отпуск. – Долгим взглядом поглядел вслед проехавшей карете.
– А мне и с мадам Женевьевой не скучно, – подвел итог Оболенский. – По-моему, в этой кафешке мы еще не были? Смотрите, какая хозяюшка бьютефульная!
Половину посетителей кафе составляли русские офицеры. Чувствовали они себя здесь вольготнее французов.
Офицеры что-то орали, поднимая бокалы с вином или шампанским, спорили, хлопали друг друга по плечам, а служанок – по мягкому месту, словом, вели себя как настоящие завоеватели.
Однако, в отличие от французских солдат в Москве, – ничего не жгли и дома не грабили.
Оболенский азартно раздувал ноздри, обозревая такое буйное веселье, и мигом включился в застолье, освободив столик от занимавших его французов, между делом и как бы в рассеянности, хлопнув пониже спины хозяйку.
– Бьютифул! – промолвил он, сделав заказ.
Поздним вечером, когда русские уже изрядно накачались, а французы, от греха подальше, покинули заведение, в кафе вошли двое высоких, закутанных в черные плащи господ.
Один из них скинул плащ на руки другому и высокомерно оглядел собравшихся, поинтересовавшись у хозяйки, долго ли еще здесь будут находиться эти пьяные русские свиньи.
Один из офицеров, сидевший неподалеку от вошедших, порывался встать, но приятели удержали его.
Оболенский из французской речи вошедшего ничего не понял, а Рубанов подумал, что ослышался.
Лишь один Нарышкин нахмурился и гневно уставился на наглого француза.
Тот, не обращая внимания на произведенный эффект, спокойно занял столик, потеснив русских офицеров. Его приятель расположился рядом, отдав плащи подбежавшей хозяйке.
К удивлению Нарышкина, зарвавшегося француза никто на место не поставил, а в заведении стало заметно тише.
Даже Оболенский наконец понял это и поинтересовался у Рубанова, что сказал вошедший.
– Не надо было гувернера в окошко выбрасывать! – ответил Максим, с удивлением разглядывая гостей.
– Виконт Гийом де Жуанвиль, – услышал он позади себя негромкий голос драгунского капитана. – Вызвал на дуэль и убил уже четырех наших офицеров, – объяснял двум друзьям драгун. – На шпагах дерется как дьявол!
Француз между тем высокомерно обвел черными мрачными глазами зал и поиграл желваками, уставив горбатый нос на сидевшего рядом с ним русского артиллерийского поручика.
– Месье! Вы оскорбили меня, – сказал он побледневшему артиллеристу.
– Я, я, я? Ч-ч-ем? – стал заикаться тот, видно, слышал о дурной славе француза.
– С такими трусами, как вы, неинтересно сражаться! – язвительно усмехнулся француз и, отвернувшись, отпил из бокала.
Артиллерист облегченно вытер потный лоб:
– Ежели бы из пушек стреляться!.. – оправдываясь, зашептал он приятелям. – А на шпагах – дураков нет!
Виконт поймал пылающий взгляд Нарышкина и, усмехнувшись, направился к нему.
– Мне не нравится, как вы на меня смотрите, месье, – произнес француз и бросил перчатку в лицо Сержу.
Нарышкин в ярости вскочил на ноги, а недолетевшая перчатка опрокинула бокал, и вино забрызгало белый колет Оболенского.
Князь уже прилично выпил, и хотя не понял, что сказал длинноногий лягушатник, но колет-то ему испачкали…
– Так ты в конногвардейцев перчатки метать?! – зарычал он и, подняв за горлышко бутылку шампанского, швырнул ею в обидчика, подумав, пока она летела, что все равно сей напиток ему противопоказан. «Идиотская клятва!» – проследил он взглядом, как следом за нерасколовшейся бутылкой грянул о пол пораженный в лоб дуэлянт.
– Оболенский! Вечно вы портите игру! – недовольно произнес Нарышкин, тоже разглядывая поверженного врага.
Но на князя нашел русский кураж.
– А-а-а! – заорал он и, схватив тяжелый табурет, вынес им в дверь второго француза, заслонившего своим телом друга и наставившего на ротмистра шпагу.
Виконт пришел в себя и, сев на полу, затряс головой, пачкая кровью сюртук.
– Я убью вас! – с ненавистью глядя на Оболенского, произнес он, но тут же был поднят с пола мощными руками и вылетел в окно, словно пустая выпитая бутылка.
Истратив накопившуюся дурную энергию, Оболенский успокоился и мирно сел за стол, даже не полюбопытствовав, как чувствуют себя потерпевшие.
– Месье! У вас просто мания выбрасывать в окно бедных французов, – польстил князю Рубанов.
Многие офицеры выбежали на улицу – поглядеть на униженного виконта. Его приятель усаживал де Жуанвиля в подъехавший фиакр, бормоча, что от этих русских не знаешь, чего ожидать…
С тех пор в Париже о бретере никто больше не слышал.
В конце мая Рубанова навестил приехавший попрощаться Голицын.
– Уезжаю к родным очагам! – радостно сообщил он. – К жене и сыну. Парижа хорошо в меру. Когда его слишком много, он утомляет!
Война закончена, – ходил он по комнате и потирал руки. – Франция вернулась к пределам 1792 года и подписала отказ от всех своих захватов. Наполеон сослан на Эльбу. Словом… становится скучно! Да еще эти бесконечные парады.
В общем, как поют наши солдаты: «Ох! Тошно мне на чужой стороне, все уныло, все постыло…» – рассмеялся князь. – Поэт Юрий Нелединский-Мелецкой прям-таки окунулся в солдатскую душу оккупационных войск».
43
Летом Максим получил письмо из Рубановки, в котором Изот прописал, что его матушка, раба Божья Ольга, преставилась под Рождество 1813 года.
«Моей матери нет уже полгода, а я живу и не знаю!.. – потрясенно думал Максим. – Господи! Ну за что? За что мне это?»
Друзья как могли утешали Рубанова.
– Чем тут поможешь? Лишь время в силах сгладить потерю! – патетически говорил Оболенскому Серж.
Их совместные походы по кабакам закончились. Нарышкин увлекся Гегелем, Кантом, Руссо и Вольтером.
Оболенский – так же страстно – мадам Женевьевой.
А Максим после службы, или мрачно смотрел в окно, вспоминая мать, или гулял по старым улочкам города, иногда с ужасом думая, что остался совсем один.
«Слава Богу, есть еще друзья!» – успокаивал себя.
В одну из таких прогулок поздним вечером на пустой улице услышал, как кто-то окликнул его по имени. Удивившись, он оглянулся, на всякий случай обхватив рукоять палаша, и увидел темный силуэт, стоявший на границе света и тени, отбрасываемой слабо горевшим фонарем.
– Максим Рубанов?! – произнес незнакомец и шагнул в круг неяркого света
И голос, и вид невысокого человека, одетого в темный сюртук, из-под которого выглядывало белое жабо, ничего не говорили Рубанову. – Бородино! Французский полковник!.. – услышал он.
И тут же вспомнил своего спасителя.
– Анри Лефевр! Я рад вас видеть, – произнес русский ротмистр и пожал протянутую руку, а затем – в юношеском порыве признательности – обнял сухощавые плечи француза. – Лучше бы вы дали мне умереть…
И на удивленный взгляд Лефевра ответил:
– Я потерял свою мать и лишь недавно узнал об этом…
– Примите мои соболезнования, месье, – печально склонил курчавую, в обильной седине, голову француз и взял Максима под руку. – Куда вы идете? Разрешите мне проводить вас? – кивнул на стоявший неподалеку экипаж.
Когда фиакр, мелко вздрагивая, пересчитывал булыжники мостовой, бывший полковник пылко воскликнул:
– Представляете?! Вы очень похожи на своего отца, особенно сейчас, в сумраке ночи. Даже не по себе делается! И я, глядя на вас, словно попадаю в незабвенную свою молодость… А это, знаете ли, весьма необычное, но приятное ощущение – вновь почувствовать себя молодым!
Хотите, я отвезу вас к женщине, которая тоже его знала… Когда же это было? После Аустерлица или раньше?
Словом, сто лет назад, – скорбно вздохнул он и велел везти их на улицу Нотр-Дам де Грас.
Когда француз и чуть смущаюшийся Рубанов вошли в ярко освещенную свечами гостиную, в которой сидели в креслах несколько мужчин и женщин, одна из дам, одетая в элегантное бледно-зеленое платье, подчеркивающее все прелести ее фигуры, грациозно поднявшись из кресла, произнесла приятным голосом:
– Граф, очень рада видеть вас и вашего друга.
– Теперь я не полковник Анри Лефевр, а граф Рауль де Сентонж, – шепнул несколько удивленному Максиму и приложился к точеной ручке стройной женщины. – Знакомьтесь, господа, – обратился граф к присутствующим, – русский офицер, ротмистр Максим Рубанов! – обращаясь к одной лишь хозяйке, тихо уточнил он.
Прищурив глаза, та удивленно разглядывала гостя, вспомнив что-то свое – далекое и приятное.
– Вдова наполеоновского генерала, мадам де Пелагрю, – представил ее де Сентонж, и Максим, отчего-то замирая душой, коснулся губами тонкой ухоженной руки, а когда поднял голову, мадам де Пелагрю ласково поцеловала его в лоб.
– Мне очень приятно и удивительно смотреть на вас. – Повела она Максима к гостям.
Исподтишка он окинул взглядом просторную гостиную с античными мраморными статуями по углам и редкостными, то ли китайскими, то ли японскими вазами вдоль стен.
Женщина истолковала его любопытство по-своему:
– Такое наступило время, месье Рубанов, – тихо сказала она, глядя на портьеру с вышитыми белыми лилиями. – Пришлось поменять золотых пчел Бонапарта на герб Бурбонов!
Затем она представила присутствующих.
Из всех гостей он запомнил лишь имя Анжелы д’Ирсон, принадлежавшее прекрасной молодой француженке с голыми плечами и тонкой талией.
Когда поцеловал ее холодные пальцы, сердце напряженно и неровно забилось в груди. «Такая женщина не для меня…» – неожиданно подумал он.
На следующий вечер де Сентонж снова отвез его в дом мадам де Пелагрю, и Максим опять увидел мадемуазель д’Ирсон, увлеченно беседующую с каким-то высоким молодым человеком, которого не было вчера.
– Маркиз Жан де Бомон, – представил его де Сентонж.
Чуть кивнув головой, тот холодно отвернулся от русского офицера и, равнодушно улыбаясь, принялся дразнить вздорного зеленого попугайчика, вцепившегося клювом и лапками в золоченый каркас небольшой клетки.
Отходя от него, Максим услышал какую-то остроту о русских и попугаях, развеселившую Анжелу.
Максим дернул плечом, но де Сентонж крепко держал его за локоть, а на помощь спешила мадам де Пелагрю.
– Месье Рубанов, – чуть нервно улыбнулась она, – расскажите нам о России. После вчерашней встречи мне снился ваш отец.
– Вы, мадам, верно, втайне любили его! – рассмеялся граф Рауль.
Максим постепенно успокоился и даже порадовался, что не вспылил. Он подружился с графом и все вечера проводил в его обществе.
В конце июля Нарышкин выхлопотал полугодовой отпуск и после обильных возлияний в парижских бистро отбыл в Россию.
Оболенский все свободное время посвящал мадам Женевьеве, и Максим почувствовал себя лишним в уютной квартире.
Граф Рауль уже не раз предлагал Рубанову перебраться к нему, но тот отказывался.
Однако, как-то придя домой после службы, он услышал дикие вопли в комнате и, не разобравшись, ворвался туда, увидев на ходящей ходуном кровати полные женские ноги в спущенных гофрированных панталонах, обвившиеся вокруг мускулистых мужских ягодиц.
Огромные пыльные ботфорты с пристегнутыми шпорами дополняли эту картину.
«Бедные! Даже не разденутся толком… Хотят до моего прихода все успеть». – И в этот же день переехал к графу.
Оболенский особо не уговаривал остаться.
Дабы не позорить честь мундира на многочисленных пирушках, начальство велело русским офицерам носить в свободное от службы время штатское платье.
Графа Рауля это нововведение чрезвычайно обрадовало.
– Господин ротмистр. Позвольте я закажу вам фрак, сюртук и панталоны по своему вкусу. Я знаю прекрасного портного!
– Француза?
– Нет, русского! – съязвил граф, и они весело рассмеялись.
У двух мужчин сложились весьма доброжелательные взаимоотношения.
«По части обмундирования де Сентонж очень схож о княгиней Катериной», – подумал Максим.
В узких брюках со штрипками, в сером сюртуке и жилете с пуговицами из дымчатого топаза Максим казался себе каким-то шутом. В особое уныние приводили его черные лаковые штиблеты с тупо срезанными носами.
«Ежели бы к ним шпоры пристегнуть, да сбоку палаш, тогда бы еще ничего… А так?..» – тоскливо разглядывал себя в огромном зеркале.
Радовала лишь белоснежная рубашка с накрахмаленным вдоль пуговиц рюшем и тончайшего фуляра галстук-косынка с носовым платком. «Платок сгодится штиблеты протирать», – принял верное решение.
За время войны он абсолютно отвык от цивильной одежды.
Постепенно Рубанов коротко сошелся с обществом, собирающимся в гостиной мадам Пелагрю. Третировали его лишь маркиз де Бомон и недоступная Анжела.
Мадемуазель д’Ирсон делала вид, что не замечает русского офицера, а если сталкивалась с ним, то холодно отводила взгляд.
Жан де Бомон, напротив, рассказывая собравшимся что-то веселое, косился на Рубанова, и Максиму казалось, что он насмехается над ним.
«Не зная того, Сентонж перенял все дурные привычки Голицыной», – вздыхал Рубанов, когда граф занялся его воспитанием.
– Я сделаю из вас светского льва! – беспрестанно твердил тот и тащил молодого друга то на какой-нибудь светский раут, то в оперу.
Максим удивлялся и, более того, был поражен, видя, с каким волнением, внутренним трепетом и счастьем воспринимает музыку Россини, Моцарта или Баха де Сентонж, с каким блаженством он купается в волнах мелодий и звуков.
Для Рубанова его полковой оркестр звучал много приятнее «Севильского цирюльника».
И не успевал занавес подняться, а на балконе, потолке и стенах погаснуть фонари, огромный фигурный канделябр и боковые люстры, как Максим замечал маркиза с мадемуазель Анжелой.
«Преследует, что ли, меня, дабы чем-нибудь досадить?» – недоумевал он.
Постепенно Максим поведал графу историю своей короткой пока жизни.
– Все ваши беды, мой милый Рубанов, происходят от женщин и вашей неуверенности… А вернее, от неумения их завоевать.
Вы берете только то, что само падает в руки, а сорвать сладкий плод с дерева не решаетесь, боитесь, что он вам не по зубам.
Выберите себе цель, – применил бывший полковник военный термин, – и пойдем на приступ.
Чтоб отвязаться от него, Максим выбрал мадемуазель Анжелу.
– Правильно! Не стоит перебиваться черным хлебом, когда можно полакомиться сдобной булочкой, – произнес граф и, немного подумав, словно еще раз мысленно разглядел мадемуазель д’Ирсон, добавил:
– …С медом!
«Чудак!» – думал Максим.
Он-то был полностью уверен, что ничего у них не выйдет.
«К тому же рядом с ней всегда этот назойливый маркиз. На дуэли, что ли, его прикончить?..»
В августе лейб-гвардии Конному полку были жалованы Георгиевские трубы с надписью: «За храбрость против неприятеля при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 г.».
Александр с Аракчеевым весьма любили сначала наградить, а затем извести парадами.
Вызванные наградой праздники приутихли лишь в начале сентября, и Рубанов, под руководством графа, приступил к невыполнимой, на его взгляд, затее.
– Женщина любит ушами!.. Поэтому постоянно говорите комплименты, – наставлял граф Рауль Рубанова.
«Как же! Скажешь тут комплимент, ежели рядом с ней торчит этот тщеславный маркиз».
– …Бесконечно ее превозносите, а каким образом, это уже вам решать, – наставлял ученика граф. – Льстите, льстите и еще раз льстите… Не бойтесь. Много не будет. Я уверен – вы ей нравитесь!
– Да она меня и на дух не переносит…
– Не понимаю этого выражения, – перебил Максима граф, – попрошу запомнить, дорогой мой друг, что все женщины – лицедейки, и главная их цель – играть на нервах у понравившегося им мужчины. Взвинтить кавалера и заставить страдать – любимое занятие скучающих светских дам, и ничто не приносит красавицам столько счастья и радости, как сие развлечение. Недаром любимым занятием, отдыхом и философическим восторгом умирающего маркиза де Сада было бросить прекрасную розу в грязь и любоваться изгаженным цветком.
О чем он думал, не могу сказать, но знаю одно – из-за холодной красоты не стоит страдать. Страдание возможно только из-за любви.
А любовь – это огромное и редкое счастье, которое приходит лишь однажды, и то не ко всякому. Ее следует воспринимать как великую милость судьбы.
Глупец тот, кто считает красоту верхом совершенства и пределом всего. Именно любовь, а не красота спасет мир! Запомни это, мой мальчик. Красивое не любят, но любуются, а любить можно и безобразное!
После этих философских сентенций, лично выбрав в своей оранжерее и срезав три розы, де Сентонж, оглядев Рубанова и поправив галстук, повез его на именины к мадемуазель д’Ирсон.
Просторная гостиная огромного каменного дома с готическими фигурами и лепниной на карнизе была полна гостей – в основном молодежи. Убранство гостиной носило отпечаток новейшего снобизма и утонченного вкуса.
Цвет парижского общества поздравлял прекрасную Анжелу с днем ангела. Когда дошла очередь до Рубанова, он молча поклонился и протянул три прекрасные розы, собравшись сказать что-либо приличествующее случаю, но капризная именинница, тщательно рассматривая собственные пальцы, словно в данный момент не было ничего важнее этого, не удостоила Максима даже взглядом и велела служанке поставить цветы в вазу.
Наморщив лоб и слегка смутившись, Рубанов снова попытался произвести остроумный, на его взгляд, панегирик, но дама, увидев лишь ей понятный недостаток ноготка, рассеянно принялась водить по нему серебряной пилкой, а через секунду подлетевший де Бомон увел ее танцевать, оставив Максима с носом.
– Не расстраивайтесь, мой друг. У вас все еще впереди, – ободрил его подошедший де Сентож.
К Анжеле невозможно было приблизиться. Молодые повесы толпились возле нее, сменяя друг друга в танце.
«Даже маркиза оттеснили, – злорадно подумал Максим, наблюдая за Анжелой, – что уж обо мне говорить», – расстроился он.
Гостиная благоухала цветами. Теплый осенний ветерок свободно струился сквозь высокие, настежь раскрытые окна, шаля и играя с портьерами и хрустальными подвесками люстр.
Через некоторое время пригласили за стол.
Маркиз, проявив характер и оттеснив соперников, повел мадемуазель д’Ирсон к ее месту. Она над чем-то смеялась, по-детски непосредственно и безудержно. Проходя мимо Рубанова, даже не глянула в его сторону.
«Серьезная штучка! – вздохнул Максим. – Мне бы кружевницу, как у Оболенского, с ней бы мы быстро сплели фламандские кружева…»
Между тем за столом поднимали тосты за именинницу. К радости Рубанова, место ему отвели неподалеку от Анжелы.
«Наверное, Анри Лефевр похлопотал, то есть граф де Сентонж», – подумал он.
Как осмысленно ни пил Максим, но старуха Клико сделала свое дело. В голове слегка зашумело. «Сейчас произнесу тост», – решил он и стал строить в уме лестницу из напыщенных фраз.
– Месье! Вы не хотите отведать устриц? – услышал Максим и, подняв глаза, встретился с ироничным взглядом маркиза. – Мечтаете о свинине с водочкой? – сделал тот предположение развязным тоном.
Анжела чуть усмехнулась.
Максим собрался нахамить, но неожиданно действительно до ужаса захотел водочки с копченой свиной грудинкой. Аж слюнки потекли. Улыбнувшись, он произнес:
– Неправда, месье. Я действительно мечтаю об этих прекрасных, нежных устрицах, но не волен в своих желаниях, – постарался сосредоточить алчный блеск глаз, в которых отсвечивало названное маркизом блюдо, на жирненьких улитках.
На вопросительный взгляд француза ответил, стараясь, чтоб его услышала недоступная Анжела.
– Во время Бородинской битвы… Кстати, как храбрый солдат, вы, видимо, принимали в ней участие?
Маркиз покраснел.
– Я пацифист! – гордо воскликнул он, роняя устрицу на свои панталоны и стискивая зубы.
«Так тебе и надо!» – подумал Максим и, как заправский инквизитор, продолжил пытать де Бомона:
– То есть вы служили в Париже по интендантской части?.. – уточнил он, впервые вызвав интерес у загадочной д’Ирсон.
На этот раз она с трудом сдержала смех, решив, что он звучал бы нетактично по отношению к маркизу.
К их разговору внимательно прислушивались конкуренты де Бомона. А уж они-то не сочли нужным сдерживать эмоции и неприлично, с откровенным цинизмом рассмеялись.
– Не обижайтесь, милейший Жан, ведь это всего лишь безобидная шутка, – окончательно расстроила маркиза соседка. – Так что же во время Бородинской битвы? – спросила она Рубанова, и ангелы затрубили в серебряные Георгиевские трубы, жалованные недавно царем конногвардейскому полку.
«Заинтересовал, заинтересовал, заинтересовал!» – возликовал Максим. – Спокойно. Не суетись, господин ротмистр».
– Дал клятву, – безразличным тоном, с трудом скрывающим радость, сообщил он. – И произнес ее во время жесточайшего обстрела, когда известные своей меткостью французские артиллеристы картечью выбили половину моего эскадрона…
– Да уж! – гордо заметил один из гостей. – Стреляли мы на славу.
– Ради всего святого, не перебивайте, месье. Это же некрасиво! – произнесла мадемуазель д’Ирсон.
В ту же минуту вездесущие ангелы выклянчили у вахмистра полковые барабаны и с бодрым восторгом застучали в них.
Так же стучало сердце Максима. «Только бы не расплыться в дурацкой улыбке… Ох как мне плохо! Я – сирота!..»
С серьезным видом продолжил, на этот раз глядя мимо Анжелы на другую юную даму:
– Когда рядом со мной снопами валились товарищи, я поднял в безнадежной опустошенности окровавленное лицо к небу и воскликнул: «Го-о-споди! Коли останусь в живых, клянусь Тебе, что в рот не возьму этих прекрасных, вкусных, питательных, толстеньких устриц!»
– И Бог вас, конечно, услышал в таком грохоте? – встрял несколько оттесненный со своих позиций маркиз.
– Ну я же сижу сейчас с вами… Всевышний услышал и послал на помощь полковника Анри Лефевра, успевшего в последний момент спасти меня, когда я, израненный в неравном бою, рухнул к копытам коня.
Граф де Сентонж скромно потупился, думая про себя, что нашел талантливого ученика.
– Мадемуазель д’Ирсон! Разрешите пригласить вас на тур вальса, – решил взять быка за рога Максим.
– С удовольствием! – дала она согласие.
В великом горе маркиз де Бомон растоптал упавшую с панталон на ковер устрицу, подумав, что лучше бы Бог в тот момент маялся глухотой.
– Вы танцуете, словно грациозная нимфа… – нежно произнес Рубанов, прижимая к себе партнершу.
Парады размяли его ноги, и танцевал он превосходно. К тому же вальс являлся его давнишним коньком.
– Никогда не встречал столь пластичной партнерши с легкой поступью и отточенной плавностью движений, – учтиво произнес он.
Но все это показалось капризной Анжеле весьма банальным. Ей стало скучно. Прошло напряжение, вызванное любопытством, и она вспомнила, что танцует с оккупантом.
Остаток вечера высокомерная д’Ирсон не обращала на Рубанова абсолютно никакого внимания, словно его и вовсе не существовало.
Однако граф де Сентонж был доволен результатами, с чем и поздравил ученика.
– Вы подаете великие надежды, мой друг, – похвалил он его.
– Учитесь говорить комплименты, – продолжил обучение на следующий день де Сентож, – а самое главное, никогда не отчаивайтесь. Помните, что заставить мужчину страдать – любимое занятие светской львицы. Главное, она обратила на вас внимание – а это уже является несомненной победой. Вы разбили ее безразличие.
Ваше замешательство, бессонница и выкуривание множества трубок лишь развеселят ее, и она посчитает дело сделанным. Вы станете ей скучны и неинтересны. Мадемуазель д’Ирсон решит, что выиграла сражение без войны, что вы от нее зависимы…
Показать женщине свою зависимость – верный путь к расставанию, а вы еще даже не встречались.
Добейтесь того, чтобы она сама нервничала по вашему поводу…
Но главное, не забывайте про лесть. Ежесекундно напоминайте даме, что она богиня.
Запомните, любезный мой Максим Акимович, не существует в природе женщин, которые чувствуют себя прислугой – все королевы.
А сейчас садитесь и пишите ей письмо. Для достижения цели вы должны напоминать о себе как можно чаще. И в письме лгите, не стесняясь, о своих чувствах.
Маркиз де Бомон, разумеется, то же самое говорит ей вслух, но женщины – существа рассеянные и больше поверят написанному, нежели произнесенному. В подборе комплиментов помогать вам не стану, но советую подробно и с такими же деталями, как про Бородино, описать, что вы загнали двух коней, а лучше – трех, пока разыскали подаренные ей розы, а она столь снисходительно к ним отнеслась…
– А ежели она поинтересуется, почему я не купил их в цветочном магазине или не срезал в оранжерее у графа де Сентонжа? – наивно поинтересовался Максим, почесывая пером за ухом.
– Скорее всего, не спросит. Женщины с удовольствием верят в романтическую ложь. А коли спросит, ответьте, что добытые таким вульгарным образом цветы не достойны ее красоты…
Сударь! Да научитесь вы, наконец, говорить комплименты и изысканно лгать? – вскричал учитель. – И запомните еще одну неписаную истину, – успокоился он, – женщины верят не умом, но сердцем!
Поэтому Бог не сумел придумать такой вещи, в которую дама захотела бы поверить, но не смогла!..
«Господи! Как я устал от этих учителей», – подумал Максим, делая так, как велел наставник.
По пятницам высший свет собирался в салоне мадам Изабеллы, приятной сорокалетней женщины, давней приятельницы де Пелагрю.
Встретив гостей, подруги, уединившись, что-то принялись темпераментно обсуждать.
«Все, как у нас в Петербурге. Тот же язык, те же нравы и те же сплетни. Словно и не оставлял родные пенаты», – внутренне усмехнулся Рубанов, не сводя взгляда с прекрасных плеч Анжелы.
Грациозно повернув голову к де Бомону, она слушала его, изредка отстраненно улыбаясь и кивая.
«Ах, какая шея! А эта прелестная впадинка рядом с ключицей… Вот бы славно было коснуться ее губами…
«Да-да! Все это я должен ей говорить… – Встретился Максим со строгим взглядом учителя, незаметно указавшего головой и глазами в сторону д’Ирсон. – Требует, чтоб подошел к ней. – Вздрогнул плечами Рубанов и обреченно вздохнул, причем ему показалось, что грудь при вздохе надулась шаром немца Шмидта. – Эти ангелы слишком крепко спят вместо того, чтоб подтолкнуть меня в спину или подвести ко мне мадемуазель Анжелу… И почему архангел Гавриил не возьмет крепкую дубину из райской яблони и хорошенько не намнет лентяям бока?» – Закусив губу, направился он в изящную западню, заметив поощрительную улыбку Рауля де Сентонжа.
– Добрый вечер, месье, добрый вечер, мадемуазель, – два раза склонил голову, подумав: «При Бородино легче было…»
Красавица даже бровью не повела, а маркиз пошаркал ногой, словно давил устрицу.
Но этикет есть этикет!
– Присаживайтесь, месье Рубанов, – прищурив глаза, указал он на кресло.
«Морду-то скорчил! – еще раз поклонившись и улыбнувшись, утонул в мягком кресле Максим. – Батюшки. У меня такое чувство, что колени выше головы». – Поелозил он задом, передвигаясь к жесткому, но надежному краю.
– Вы пришли за деньгами? – стараясь выглядеть серьезной, своим божественным голосом спросила д’Ирсон.
Рубанов с удивлением взглянул на нее, прорабатывая в голове варианты ответа. Вариант был один – поинтересоваться насчет денег.
Но пауза слишком затянулась.
«Тугодум!» – и мадемуазель де’Ирсон сама ответила на поставленный вопрос:
– За двух или трех загнанных лошадей! – наивными голубыми глазами глянула она на кавалериста.
Де Бомон на всякий случай хихикнул, а Максиму захотелось провалиться сквозь землю, что он успешно исполнил, углубившись в кресло и вспоминая святого умника Иеронима.
«Получил, оккупант несчастный!» – с удовлетворением подумала Анжела, но в ту же минуту неожиданно ей стало жаль русского. – Как побледнел, бедненький! А какая изысканно-нежная родинка у него на щеке… и свежие губы… и неплохо танцует…»
– Но ваши розы были действительно великолепны! – удивляясь себе, произнесла она, окуная в пучину отчаяния де Бомона.
Чуть помедлив, Рубанов выбрался из своего убежища. Настроение его несколько улучшилось, и он даже засомневался в философской концепции Иеронима.
«Ах, как она аристократично-кокетлива», – размышлял он.
– Какие грустные обстоятельства! – сам не поняв зачем, произнес де Бомон, развеселив Анжелу.
«Этого только недоставало! – подумала она. – Пожалела захватчика, но он такой печальный и беспомощный…»
«Все-таки удивительными дураками иногда выглядят мужчины в обществе красивой женщины! – сделал вывод Максим. – Догадываюсь, что месье Иеронима при жизни женщины не раз ставили в глупейшее положение».
В этот вечер отношения Рубанова с д’Ирсон не продвинулись и на полвершка.
– Сообразите мое положение, граф, когда она укусила меня, вспомнив загнанных лошадей, – жаловался де Сентонжу Максим.
– Но затем она похвалила цветы?! – подбодрил ученика граф Рауль. – «Только, боюсь, сделала это из жалости!» – Будьте увереннее! Вам не хватает смелости и напора… Это и есть главный ваш недостаток в отношениях с дамами. Малейшее неприятие с их стороны, и вы паникуете и сдаетесь. Между тем сдаваться следует им! Вот мое кредо и глубокое убеждение. Прибавьте рыси, господин ротмистр! Отступать не допускаю возможности…
«Однако план атаки несколько скорректируем», – решил полковник Анри Лефевр.
– В следующий раз зайдем с фланга…
– А для начала следует напиться! – перебил его Рубанов.
– И этим вы покажете свою слабость… Ну почему у русских и горе и радость заливают водкой? Глупости! Это все эмоции, – более мягким тоном произнес де Сентонж, отбросив полковничьи интонации, – именно от них происходит не изысканное, но нервное пьянство… Добейтесь, чтобы она сама переживала по вашему поводу!
– Как же мне этого добиться? – спекшимся голосом поинтересовался Максим. – Она с любого бока ужалит…
– Требуется соперница! Я чувствую, что вы не совсем безразличны мадемуазель д’Ирсон. А в таком случае весьма полезна соперница… Потом поймете, мой мальчик, – в волнении забегал по комнате граф. – Впрочем, как говорил ваш Суворов, солдат должен понимать маневр командира… Теперь вы с ней встретитесь в доме мадам де Пелагрю.
Перед свиданием я самолично вылью на вашу голову полфлакона женских духов. Только безносый не почувствует их тошнотворный запах, а у мадемуазель д’Ирсон аккуратный носик, и ей не откажешь в логике и проницательности. Она сразу поймет, что духи женские… А вы, месье, ухаживайте напропалую за юной Беатрис, дочерью мадам Изабеллы. Эта особа не сводит с вас глаз, как же – герой Бородина!..
Извините. Скепсис проигравшего компанию. Так вот…
И не упоминайте более про Бородино!.. – взорвался граф де Сентонж.
– А я и не упоминал. Вы сами вспомнили! – заступился за себя Рубанов. «А это сражение и потомки не забудут!» – гордо подумал он.
– Вы о чем задумались? Слушайте меня!
«Граф становится занудой… Видимо, от моих неудач», – сосредоточился на обсуждении диспозиций ученик.
– Если мадемуазель д’Ирсон, как и положено в таком случае, своим ехидным голоском язвительно поинтересуется, почему от вас пахнет «этими прекрасными женскими духами», нагло уверяйте, что духи мужские!
«И вовсе не язвительный, а божественный», – мысленно поправил графа Рубанов, произнеся вслух:
– Что с вами, граф Рауль, вы что-то сегодня очень бледны?
– Это не из-за вас, а из-за проклятой русской кампании. – Открыв какой-то маленький граненый флакончик синего стекла, он вытряхнул на ладонь две пилюли и запил из горлышка стоявшего поблизости хрустального графина.
«Тут есть и моя заслуга!» – с гордостью подумал то ли о компании, то ли о графине Рубанов.
Мадам де Пелагрю, видимо в благодарность, что русские избавили ее от богатенького старикашки супруга, и в память Рубанова-старшего, принимала столь же деятельное участие в судьбе молодого человека, как и их общий друг – граф Рауль.
Нежно коснувшись его лба губами, генеральская вдова сходу представила Рубанова юной Беатрис.
«Полагаю, де Сентонж очень ее об этом просил, – подумал Максим, целуя девичью руку. – Эту мадемуазель я бы в два счета завоевал, – сделал он вывод, – но ведь граф опять придерется, ловлю, мол, то, что само валится в руки…»
– Господин офицер, – тоненьким голоском, ужасно робея, произнесла Беатрис, – расскажите что-нибудь о себе? Мне безумно интересно… – На исходящее от Максима благоухание она не обратила ни малейшего внимания.
Взяв ее под руку и угостив лимонадом, конногвардеец увел юную наивную даму в дальний угол. Затем они танцевали, снова пили лимонад и смеялись.
«С ней намного легче, чем с мадемуазель Анжелой», – не успел подумать он, как под руку с де Бомоном к ним подошла легкая на помине д’Ирсон и с ходу спросила:
– С кого это, господин оккупант, вы взяли контрибуцию женскими духами? – и недобро глянула на юную Беатрис.
– Ошибаетесь, мадемуазель, духи самые что ни на есть мужские! – как и учил его граф Рауль, нагло уверил даму.
– Фи-и! – фыркнула д’Ирсон и потянула к танцующим довольного де Бомона за руку.
В этот вечер Максим не сделал даже капельной попытки к ней подойти.
– О-о-о! Я был уверен в вас! – хвалил его граф де Сентонж. – Знал, что не подведете. Она нервничает… точнее, даже психует! – потер он руки. – От нее посмели отказаться… – иронично смеялся де Сентонж.
– Пишите-ка ей еще одно послание. И не забудьте: «Люблю! Люблю! Люблю!»
Но в следующий раз сделайте маленький шаг навстречу, не забывая, разумеется, и о Беатрис или о какой угодно другой даме.
На этот раз прием делаю я. Так что будете на правах хозяина.
Как нарочно, в день приема русское командование задумало провести смотр. А два армейских смотра, как известно, равносильны одному сражению…
В это время даже у самых аккуратных солдат, к огромной радости инспектирующих генералов, отвратительно бреют бритвы, в строю отлетают пуговицы, тускнеют начищенные бляхи и шпоры, топорщится колет и лошади испражняются в самый неподходящий момент.
А у офицеров нарушается глазомер, и они неровно строят подразделение, да еще, сукины дети, смеют нагло думать, что строй ровнехонек, будто генеральская извилина.
Словом – ураган!
Поэтому бледный от усталости Рубанов на приеме холодно коснулся губами руки мадемуазель д’Ирсон в надушенной перчатке.
Обругал себя и к Беатрис отнесся много теплее, чем еще более оскорбил Анжелу.
«Издевается, что ли, этот оккупант?!» – чуть не плакала светская красавица. – Отчего тогда пишет такие красивые письма?»
Танцевала она с ним, задыхаясь от возмущения, и сходу приняла приглашение встретиться.
«Вот когда я отыграюсь на нем и брошу сама», – решила она.
Прекрасным сентябрьским воскресным днем Рубанов с мадемуазель д’Ирсон ехали в открытом экипаже по ровным дорожкам Булонского леса и любовались осенью, нежным неярким солнцем и редкими белоснежно-дымчатыми облаками.
Анжела держала над головой светлый зонтик от солнца, напоминающий воздушное облако, и размышляла, чем бы посильнее уязвить сидящего рядом с ней хлыща и фата.
Максим, стараясь, чтоб она не заметила, любовался коварным блеском светло-голубых на солнце глаз и угадывал причину ее рассеянности. Вдруг, вспомнив слова де Сентонжа, что ему не хватает смелости и напора, склонил голову к руке, в которой она держала зонтик, отвернул край перчатки и долгим поцелуем приложился к тонкой ухоженной кисти, любуясь одновременно крупными коленями, туго обтянутыми платьем.
– Месье! – удивленно округляя глаза, отняла она свою руку. – Вы забываетесь…
Но Максим чувствовал, что ей приятен поцелуй и он сам.
Довольный, откинулся на спинку сиденья и даже мурлыкнул какой-то севильско-брадобрейский мотивчик, но, подумав, что это слишком вульгарно, солидно кашлянул и уставился на линяющие деревья.
Хотелось русского куража…
Анжела отвернулась от него и крутила над головой зонтик.
Француз извозчик, согнув спину, в полудреме следил за дорогой, краем уха прислушиваясь к разговору и лениво разрабатывая план выуживания лишнего франка.
– Мадемуазель! – произнес Максим. Глаза его блестели удалью, которую французы величают русской придурью. – Мадемуазель! – еще раз повторил он, привлекая ее внимание и шикнув на развесившего уши кучера.
Анжела с удивительной грацией повернулась к нему, собираясь оказать отпор этому нахальному захватчику, и вопросительно изогнула тонкую бровь.
– …Ваш зонтик с оборочками по краям удивительно напоминает женские панталончики, – улыбнулся Максим, думая про себя, что сказывается школа Оболенского, и подставил щеку для удара, чуть зажмурив в ожидании глаза.
– Ах! – услышал он. – Что вы сказали? – И смех вместо пощечины.
С удивлением поглядел на смеющуюся даму, закрывающую и раскрывающую зонтик.
– Это можно понять как намек?.. – поинтересовался он, и в ту же минуту почувствовал теплоту женских пальцев на своих губах.
– Перестаньте паясничать! – все еще не сумев побороть веселье, произнесла она.
Максим в это время целовал каждый по отдельности пальчик, а затем закрыл ее рот поцелуем, подумав, что Жан де Бомон моментально бы застрелился, увидь их сейчас.
Анжела застонала от наслаждения, но все испортил любопытный кучер. Увлеченный зрелищем, он забыл про дорогу и чуть не опрокинул возок, заехав в кусты.
Это опять вызвало бурный восторг со стороны дамы, а извозчик лишился не только лишнего, но и всех остальных франков, услышав от русского офицера пожелание радоваться, что не заработал пинка по устричной створке.
Анжела была потрясена… Такого в своей жизни она еще не слышала.
«Ну и нахал… С ним не соскучишься, хотя месье и весьма вульгарен», – подумала она.
Когда Рубанов отрапортовал графу о рандеву, тот надолго задумался – хорошо это или плохо…
«У русских своеобразное понятие о комплиментах, – решил он, – но раз дама не оттолкнула, значит, все под контролем».
– Теперь следует развить и закрепить достигнутый успех.
Слово «успех» он произнес с некоторой долей скептицизма и сомнения. «Французы так не ухаживают. У наших мужчин больше уважения к женщине. Но русские – молодая нация!..»
– Завтра вечером я подберу вам букет, отвезете его мадемуазель д’Ирсон.
Однако Анжелы дома не оказалось.
– Увы, мой милый! – сладким голосом пела смазливая служанка, открывшая ему дверь. – Она несколько минут назад отъехала в экипаже с месье де Бомоном.
На вопрос: «Куда?» жеманно пожала плечами, утопив голову в них до самых блудливых глаз и всем видом показывая: «Знаю, да не скажу!»
Подарив ей букет, Рубанов помчался к себе, с тревогой обыгрывая в мыслях ситуацию и твердо решив, что с мадемуазель д’Ирсон покончено. «Обиделась окончательно!» – сделал он вывод.
Граф де Сентонж поднял на смех умозаключение Максима и посоветовал в таких ситуациях не теряться, а включать голову.
– Разве вы не могли передать букет прислуге, вместо того чтобы дарить мои цветы, – ехидно вставил он, – что весьма удачно получилось, коли мадемуазель д’Ирсон нет дома…
Вы и приехали-то лишь для того, чтобы извиниться и предупредить, что будете заняты всю ночь…
Рубанов схватился за виски и ругал себя, почему сам не догадался так сказать.
– …Именно всю ночь, – кипятился граф, будто от ворот поворот получил сам, – и цветы следовало не дарить, а сунуть ей в морду и забрать с собой.
«Мое влияние! – отреагировал Максим на слово "морда". – Взаимопроникновение двух культур», – проследил взглядом, как граф проглотил лекарство и запил из графина без помощи стакана.
«Чем он все-таки болен?»
– Так вот!– перевел дух Анри Лефевр. – Военная кампания еще не окончена… Крепость пока не сдалась.
В следующий раз при встрече даже словом не обмолвитесь, что ее не было дома, а когда она сама поинтересуется, как вы провели прошлый вечер, ответьте: «У одной!..» – Тут же сделайте жест, будто хотите закрыть свой рот, закашляйтесь, покраснейте – для этого вам придется напыжиться – и исправьте оговорку: «У одного приятеля, – можете добавить: – По полку!».
Затем делайте озабоченное лицо, будто вспомнили о чем-то важном, и тут же, откланявшись, уходите…
Будьте уверены. Бессонная ночь ей обеспеченна!
«Учит как маленького», – надулся Максим.
Граф подумал, что ученик тренируется краснеть.
Буквально на следующий день мадемуазель д’Ирсон сама нанесла визит. Приехала она якобы по делу к де Сентонжу, но когда граф покинул их, даже не обратила на это внимания и с ходу принялась упрекать Рубанова в неверности.
«Ну конечно! Неверность – это прерогатива женщин, – усмехнулся он в нос и с удовольствием обозрел темные круги у нее под глазами. – Я-то спал сном праведника!»
– Моя совесть чиста, как у младенца! – произнес он, но Анжела так не думала, особенно когда случайно заметила под креслом золотую заколку для волос.
– Вот ваша чистая совесть, месье! – зарыдала она, а Максим с удовольствием принялся утешать ее, удивляясь про себя, откуда взялась эта заколка.
«Ясное дело, граф для ажиотажу подбросил!» – сделал он правильный вывод, с упоением целуя мокрые щеки мадемуазель д’Ирсон и ласково гладя ее вздрагивающие плечи и спину.
Выждав столько времени, сколько было положено, по его мнению, для возбуждения всех нервных центров приехавшей гостьи, граф постучал в дверь, извинился и, воскликнув: «А вот и моя потеря, спасибо, что нашли», выхватил заколку из слабых рук Анжелы и быстро вышел.
– Я же говорил вам, что сия вещь принадлежит не мне! – целовал Максим медленно успокаивающуюся Анжелу, подводя ее к софе.
Но, успокоившись, она оттолкнула Рубанова – и со словами: «Боже мой! На кого я похожа», – кинулась к зеркалу и стала приводить себя в порядок. Никаких вольностей больше позволено не было.
Проводив умиротворенную даму, Рубанов принялся упрекать тут же появившегося графа.
– Месье! Женщине из-за вас стало дурно, и она даже чуть не потеряла сознание.
– Не берите в голову, любезный мой Максим Акимович, – скрывая в улыбке иронию, произнес де Сентонж, думая про себя, какой же этот русский еще ребенок…
«Но я сделаю из него мужчину», – пообещал он себе.
– …Коли женщина плачет и устраивает истерику, картинно срывая шляпку или падая в обморок, – не верьте. Она играет! Верить следует только той, которую любите. Так что – ничего страшного.
Я вам уже говорил, что женщины – актрисы. И как опытная лицедейка, мадемуазель д’Ирсон имеет полное право открыто выражать свои чувства. Главное, не принимать их всерьез и быть снисходительным. Могли бы даже подыграть ей, упав на колени и обняв ее ноги…
Ручаюсь, получили бы огромное удовольствие…
– Я и без того получил удовольствие, – буркнул Максим.
– …Нет ничего более приятного, чем переиграть женщину, – цинично усмехнулся де Сентонж и, отбросив фалды фрака, уселся в кресло. Рубановскую реплику он пропустил мимо ушей. – Заклинаю тебя, мой друг… никогда не принимай женские истерики всерьез! Завтра я свожу тебя в одно место, где ты увидишь технические стороны любви и узнаешь, что представляют из себя дамы, – закинул он ногу на ногу.
– Но на завтрашний вечер мы договорились встретиться с Анжелой… – в волнении встал с дивана Максим, – а вдруг она махнет на меня рукой и бросится в объятия верного Бомона?
– Пустое, мой друг! – потер де Сентож сердце и болезненно сморщился.
– Что с вами? – подскочил к нему Рубанов.
– Все в порядке! – отстранил его граф. – Все в порядке… – со вздохом еще раз произнес он и потянулся в карман за таблетками.
Лицо его стало серым и старым.
Рубанов с жалостью глядел на графа.
– Чем я могу помочь вам? – спросил он.
– Только тем, что скрасите мои последние месяцы и отвлечете от смерти.
– От смерти?.. – дрожа губами, повторил Максим.
– Не будем на эту тему, – произнес де Сентонж.
Лицо его медленно розовело после приема лекарства.
– Просто сердце устало жить! – чуть слышно, скорее не Максиму, а себе, сказал он. – А потому и нечего его беречь!..
Вечером следующего дня де Сентонж исполнил свое обещание, и экипаж остановился у резной двери небольшого двухэтажного особнячка.
– Приехали! – Первым ступил он на мостовую и постучал тростью в дверь. – Весьма аристократичный и надежный притон под названием «Экстравагантная любовь», – сообщил де Сентонж и еще раз постучал. – Здесь мне нравится больше, чем в «Замысловатом пороке», – произнес граф, на которого упала яркая полоса света из раскрытой двери, и шагнул внутрь помещения, пригласив за собою Максима.
Щурясь после темноты улицы, Рубанов разглядел несколько молодых женщин, сидящих на диване в центре ярко освещенной залы, и толстую пожилую мегеру, которой де Сентонж, умело скрывая брезгливость, поцеловал жирную лапищу и представил Максима.
Прикладываться к медвежьей лапе хозяйки Рубанов не стал, чем весьма огорчил дамищу, но обрадовал сидящий на диване куртизанский контингент. – Чего господа желают? – не слишком любезно глядя на Максима, прорычала хозяйка и обвела рукой диван.
– Для начала бутылочку несравненной мадам Клико, – с этими словами граф протиснулся в центр шлюшечного цветника и обнял за плечи двух хихикающих дам. – Не стесняйтесь, месье, чувствуйте себя как дома, – обратился он к Максиму, обхватив грудь одной из женщин. – Симона, продемонстрируй гостю ножки,– велел он смазливенькой худенькой девице, сидевшей с краю.
Без всяких эмоций та задрала платье до стройных бедер.
– Самые лучшие ножки самого лучшего заведения, – похвалил де Сентонж, накрывая ладонью грудь другой женщины.
– Неправда! – вырываясь, возмутилась та, в свою очередь, задирая подол. – Разве мои хуже?..
От увиденной картины щеки Максима запылали, и он поспешил усесться в кресло напротив дивана.
Мадамка с интересом разглядывала молодого красивого гостя.
Выпив бокал шампанского, Рубанов несколько успокоился и перевел дух.
– Наверху кто есть? – поднял глаза к потолку де Сентонж, обращаясь к хозяйке.
– О-о-о! Хотите полюбоваться?..
После ее слов женщины опять захихикали.
– Нет ничего проще. Следуйте за мной…
– Я и сам дорогу найду, – отказался от услуги граф, легко вставая с дивана. – Девочки! Мы скоро придем, – обнадеживающе помахал рукой улыбающимся дамам.
Лишь одна Симона отстраненно сидела с краю и не участвовала в общем веселье.
Поднявшись по узкой лестнице с двусвечным канделябром в руке, де Сентонж провел Максима в тесный коридор и поставил канделябр на маленький столик в торце прохода.
Из-за тонких стен доносились голоса, стоны и скрип пружин.
– Вся хитрость вот в чем. – Подвел Рубанова к стене граф и отодвинул металлический кругляшок, заглянув сначала сам, а затем предложив Максиму. – Здесь можно увидеть много интересного и поучительного, – произнес он в то время, как Максим смотрел в круглое отверстие.
В небольшой комнатке на широкой кровати жирный пожилой мужчина с дряблыми плечами и огромным животом пытался овладеть огромной, под стать хозяйке заведения, дамой.
Как он ни старался, у него ничего не получалось.
– Но не в данный момент, – оторвался от глазка Максим.
– Что-что? – заменил его любознательный де Сентонж. – Вы правы! Поучительного здесь мало. – Прошел он дальше и снова отодвинул металлическую пластину. – Загляните сюда!.. Можете также смотреть в другие глазки напротив этих, а я пойду сопереживать, – поспешил он к толстякам.
В полумраке комнаты Максим увидел накрытый скатертью стол с пустой бутылкой из-под шампанского и рядом с кроватью двух мужчин, что-то бубнящих по-английски и раздевающих пьяную женщину.
После рыжего красноносого друга ротмистра Оболенского он неплохо разбирался в английском языке…
Один копошился сзади, развязывая зубами тесемки корсета, а другой, осилив панталоны, поднял ее ногу и занялся чулком.
У корсетчика дела шли намного лучше. Через какую-то минуту он оголил женские груди и тут же облапил их руками, зажав между пальцами соски. Женщина запрыгала на одной ноге и засмеялась.
– Ой-е-й! – переведя дыхание, шагнул Максим к другой металлической планке и поднял ее.
«Черт-дьявол! – снова поразился он. – Бабы без мужиков… знать, многих французиков мы ухайдакали», – внимательно следил за развертывающимся перед ним действом.
Здесь свет был ярок, но не слепил глаза. На кровати ласкали друг дружку две женщины. Были они полностью обнажены, но голову той, что выглядела покрупнее и постарше, украшал гусарский кивер.
«Батюшки! Да одна из них киргизка! – Всмотрелся он в раскосые глаза постанывающей от наслаждения маленькой юной девицы. – Так и есть! Кожа цвета безделушки из слоновой кости. Откуда здесь киргизки?.. Совсем дамы рехнулись». – Не отрывался он от глазка, наблюдая за неподвижно лежащей азиаткой, круглолицей, с плоским носом и маленькой грудью без сосков.
Рука белой женщины ласкала матовую кожу, перебираясь с груди к ногам и обратно. Азиатка не двигалась, если не считать чуть заметного подрагивания мышц, но тихонько попискивала и тяжело дышала.
Вторая женщина дышала ровно, и капризное лицо ее казалось равнодушным. Большие мягкие груди чертили сосками по фарфоровой коже подруги, когда она склонялась над ней.
«Нет! Я больше не могу. Следует отдышаться и успокоиться, – поднял он следующий глазок. – Завал!.. – Различил на белой простыне темное тело прекрасно сложенной дамы. – Ну и рожа! Эфиопка, поди».
Женщина, улыбаясь огромным толстогубым ртом и вращая белками глаз, водила рукой по простыне, приглашая жестом мужчину.
Тот стоял рядом и, казалось в раздумье, наблюдал за ее движениями, за точеной небольшой грудью с острыми фиолетовыми сосками и за бедрами цвета ржаного хлеба.
«Подумать, конечно, есть о чем…» – перебрался к другому глазку и заглянул в знакомую комнату с двумя джентльменами и одной дамой.
Она уже лежала на кровати и смеялась, сгибая и разгибая ноги. Грудь ее колыхалась, и один из джентльменов, стоя на коленях, безуспешно ловил губами коричневый сосок, а другой склонился над лоном женщины.
«В Англии все ол’райт, а как в Африке?..»
Эфиопка широко раскинула ноги.
Стоявший перед ней мужчина наконец решился и накрыл ее своим телом. Эфиопка тут же обхватила его бедра ногами, а шею руками и темпераментно принялась делать вращательные движения животом.
Через минуту мужчина закричал, вцепившись в ее плечи, а эфиопка выгнулась дугой, часто дыша и вздрагивая телом, а потом опустилась на кровать, постепенно затихая и прекращая бесовский танец.
Глаза ее увлажнились от полученного удовольствия.
Максим устало потер лицо и поглядел в сторону де Сентонжа.
Тот по-прежнему не отходил от толстяков и делал руками какие-то пассы, будто собирался дать им совет.
Тяжело дыша и чуть пошатываясь от увиденного, Рубанов снова заглянул в комнату к дамам. Азиатка по-прежнему лежала без движения, сведя ноги вместе, а женщина-гусар, не снимая кивера, склонилась над ней и ласкала языком маленькую грудь. При этом тяжелый белый зад ее был нацелен на Максима.
«Все. Мое терпение на пределе! Как я хочу мадемуазель д’Ирсон…»
Де Сентонж в это время радостно подпрыгнул и чуть не захлопал в ладоши.
– Получилось, получилось! – приплясывал он, будто в этом была и его заслуга. – Кстати, мой друг, не попадалось ли вам каких-либо вычурных поз? Нет? Жаль. Иногда такую экстравагантную любовь увидишь, что в мои лета и до половины не продержишься. Это только в ваши годы можно…
– Чего не видел, того не видел, однако, там две дамы с ума сошли – друг дружку тискают и лижут. Тьфу! Прости господи.
– Где?! – пуще прежнего оживился де Сентонж. – Это же для меня самое интересное…
А теперь спустимся вниз, к дамам, и займемся ими! – наглядевшись на гусарско-азиатский альянс, предложил Сентонж.
Но Максим отказался.
– Мне не надо того, что само падает в руки! – гордо произнес он, развеселив графа.
– Ну что ж, поезжайте домой, – согласился де Сентонж, – а я растормошу серьезную мадемуазель Симону…
Как-нибудь мы еще сюда приедем, чтобы вы познали технику любви.
Наступил октябрь, но погода радовала теплом и солнцем.
«У нас в России сейчас, наверное, дождь вовсю хлещет…» – думал Рубанов, наслаждаясь почти летним днем.
Печалила лишь холодность Анжелы.
При встрече она коротко кивала ему, но не подходила и от разговоров уклонялась. Де Бомон просто цвел от счастья. Он больше не считал русского за соперника.
– Видите, что получилось, граф, – укорял де Сентонжа Рубанов. – Она не хочет видеть меня, потому как я не пришел на свидание. – В волнении метался он по комнате, хватая то книгу, то шляпу, то галстук, и все тут же летело на пол.
– Месье! Мы с вами уже вели разговор о нервах, – улыбаясь, наблюдал за ним граф Рауль. – Коли вы хотите победить, то не стоит нервничать. Надо смирить эмоции и подключить ум. Вся женская холодность разбивается о мужской ум. Дамы все делают чувством, даже думают душой. Поэтому, чаще задавайте себе вопрос: «Отчего не хочет видеться, а при случайной встрече отворачивает лицо и молчит?»
– Тут все ясно! И вы прекрасно знаете причину… – хмуро сел на краешек стула Максим.
– Вот что я вам скажу, мой друг. После игры на нервах самое любимое занятие светской дамы – прощать мужчину. Сейчас она переживает больше вашего. Вскоре это выльется в истерику…
Как я вас учил, подыграйте ей, утешьте ее, но не принимайте женские эмоции близко к сердцу.
Вы видели в «Экстравагантной любви», что представляют из себя женщины, – подошел он к книжной полке, поводил рукой, что-то выискивая, и вытащил небольшой томик в синем переплете. – Когда у меня изредка случались срывы в отношениях с дамами, я всегда читал «Тускуланские беседы» Цицерона, – листал он книгу. – Вот, послушайте: «Если кто поражен страстью, то для исцеления нужно показать ему, что предмет его желаний – это нечто пустое, презренное, ничтожное, чего можно легко добиться в другом месте, другим способом или совсем не добиваться…»
«Святой Иероним сказал точнее и проще!» – успокаиваясь, вздохнул Максим.
– А в вашем случае все намного обыденнее… Пройдет еще несколько дней, и она сама не выдержит этой муки. Вы далеко не безразличны ей, и главное – с вами не скучно.
Сколько она уже прощала вам? – поставил он томик на место. – Это поднимает эмоции, щекочет нервы и делает жизнь интереснее.
А с Бомоном все пресно и однообразно – театр, светский прием, бал, ресторан… Но замуж она выйдет за него! Будьте уверены.
В замужестве для женщин главное – стабильность, а для мужчин в браке – верность… Разумеется, не своя, – уточнил граф, расхаживая по комнате заложив руки за спину и напоминая профессора, читающего лекцию тупым студентам.
– Поэтому проводить время нам нравится с легкомысленными дамами, но женимся мы на скромницах, – подвел он итог.
Несколько раз Рубанов собирался поехать к мадемуазель д’Ирсон, но не решался. Чего боялся – не понимал сам: то ли насмешек, то ли иронии, то ли холодного взгляда.
Де Сентонж ходил с каменным лицом и даже не соблаговолял дать совет:
– Выкручивайтесь сами, месье, – пожимал он плечами, – а главное, побольше думайте… Завтра пятница, и она обязательно нанесет визит мадам Изабелле. Единственное, что могу сказать вам, поменьше общайтесь с Беатрис на глазах у Анжелы. Теперь это лишнее.
Столкнувшись на приеме с Анжелой, Максим поразился ее бледному лицу и потухшим глазам.
Де Бомон чуть не кувыркался перед ней, но она не улыбалась и была печальна. Забившись в полутемный угол, загнанным зверьком глядела оттуда на людей, и у Максима просто сердце защемило от жалости. Отбросив всякую дипломатию, этикет, такт и зачатки хороших манер, которые растоптала война и не сумел восстановить де Сентонж, он направился к мадемуазель д’Ирсон и, сурово глядя на сникшего де Бомона, предложил ему долго танцевать с юной Беатрис.
Ради спокойствия Анжелы маркиз был готов на любые жертвы, поэтому не стал перечить и ушел.
Не думая, видит кто или нет, – скорее всего, кто-то непременно увидел – Максим упал на колени перед Анжелой, взял ее руки в свои и, прошептав: «Я вас люблю!» – прижался к ним лицом.
Мадемуазель д’Ирсон вначале замерла, сжавшись в кресле, а затем, тоже прошептав: «Ну за что вы меня мучаете?» – горько заплакала, достав из-за манжета платья носовой платок.
Максим целовал ее руки и не поднимался с колен до тех пор, пока она не коснулась мокрыми распухшими губами его лба и не сделала попытку поднять его за плечи. Тогда он сел в соседнее кресло, предварительно промокнув ее глаза своим платком.
К несказанному горю де Бомона, Рубанов проводил ее в этот вечер домой, и они долго не могли расстаться, находя все новые темы для разговора.
В конце октября осень одумалась и обильно плакала над Парижем.
Рубанов, чтобы купить цветы перед свиданием с Анжелой, отпустил фиакр неподалеку от ее дома и тут же был наказан за легкомыслие капризной осенью.
Насквозь промокший, ступил он в знакомую гостиную и, оставляя влажные следы на паркете, зашлепал к камину.
К его огорчению, цветочная лавка оказалась закрытой, и он пришел с пустыми руками.
– Месье! – воскликнула Анжела. – Вы похожи на водяного. Быстро раздевайтесь, чтоб не простудиться, а я тем временем принесу вам халат моего папà. Они с маман уехали на три дня к родственникам, – повернулась, собираясь уходить, но Максим задержал ее, нежно взяв за руку.
– Анжела, не уходите! – положил другую руку на ее плечо и сдавил его. – Не уходите… – еще раз повторил дрогнувшим голосом, отпуская ее и замерев взглядом на мокрых пятнах, оставленных им на ее платье.
Повернув лицо к Рубанову, она попыталась вложить безразличие в горделивую улыбку, догадываясь и пытаясь скрыть радость от слов, которые сейчас услышит.
– Я люблю вас, – сказал он просто, будто сообщил, что осень и идет дождь.
Она даже несколько разочаровалась, потому как ожидала, что он снова упадет на колени.
Думая, что Анжела не расслышала, он опять положил руки ей на плечи и, приблизив губы к ее лицу, прошептал:
– Я вас люблю!..
Она закрыла глаза и потянулась к нему, ощутив вначале на щеке, а затем на губах его холодные губы. Впрочем, через секунду они стали раскаленными и жгли ее кожу, заставляя тело трепетать. Затем она почувствовала ледяную дождинку, упавшую с его волос на ее щеку, а затем другую и третью, но те уже стали горячими и обжигали ее, словно кипятком. «О-о-о! Эта чудесная пытка…»
Она обхватила его шею руками и прижалась к груди, чувствуя, как становится влажным платье, а он опять поцеловал ее губы, и она ощутила крылья, выросшие вместо рук.
И эти крылья, взлетая и опускаясь, ласкали его голову, плечи, спину… И ей показалось, что она взмыла вверх, в голубое небо, и дыхание ее замерло от той высоты, на которой она оказалась.
– Я люблю вас! – услышала в третий раз и задрожала то ли от холода, то ли от счастья…
А его руки искали застежки и, не найдя их, рванули платье до самого пояса. Она даже не успела подумать, хорошо это или плохо, как лопнули шнурки корсета и сначала руки, а затем губы коснулись ее груди. Она тихо охнула, но тут же, застеснявшись, прервала стон.
Затем его руки, словно пушинку, подняли ее и увлекли на кровать черного дерева с резными ножками в форме обвившихся золотых змей. Оборвав балдахин, он осторожно уложил ее на бледно-розовое покрывало и почти без усилий разорвал платье дальше, и оно раскинулось под ней с обеих сторон. Разорванный корсет, отделанный кружевами, взлетел словно птица и упал на пол. Беленькие кружевные панталончики он пожалел и не спеша стянул с бедер, подумав про себя, что был недалек от истины, делая недавно умозаключение насчет зонта.
«Главное, не спешить…» – решил он и с наслаждением стал ласкать сначала одну грудь, затем другую, постепенно все ниже и ниже…
К его удивлению, Анжела затихла и не двигалась, лишь иногда тихо стонала, закрыв глаза и не реагируя на поцелуи. Руки ее раскинулись вдоль тела и не отвечали на ласки. Лицо покрылось капельками пота, словно это она только что попала под дождь.
«И эта уже не девушка!» – расслабляясь, подумал Максим, разочарованно замирая рядом с ней на обрывках платья.
На секунду ему показалось, что услышал издевку в ядовитом шипении золоченых змей. Нехотя он погладил ее грудь и, подняв голову, залюбовался фигурой, шелковистой кожей и прекрасным лицом. И вдруг новое желание бросило его к женщине.
В смущении и разочаровании покинул он дом д’Ирсонов.
«Скорее всего, я ей безразличен, коли в постели она так холодна, – с отчаянием думал он. – Лицедейка! Теперь играет в любовь…
Интересно, кто же был у нее первым?.. Скорее всего – де Бомон».
44
Отъезжающий из Парижа русский император давал грандиозный бал. Вся французская аристократия почла за честь присутствовать на нем.
Рубанов, затянутый в белую конногвардейскую форму, украшенную орденами, гордо прошелся перед офицерами своего полка с мадемуазель д’Ирсон. Мнение остальных людей, кроме, конечно, императора, его абсолютно не интересовало.
Счастливая Анжела нежно держала под руку завоеванного кавалера. Несчастный де Бомон, разумеется, на бал не поехал, а проводил время в компании мадам Клико.
Как и на большинстве балов, даму у Рубанова тотчас отбили и увели завистливые гвардейские офицеры.
«Сами ничего стоящего не могут найти… все Рубанов им приведи… а они станут танцевать!» – добродушно бурчал Максим, по привычке подпирая стену и разглядывая сияющую мадемуазель д’Ирсон.
От размышлений его отвлекло волнение офицерских масс конного и кавалергардского полков.
«Интересно, чего это они в кучу сгрудились и кудахтают?» –растолкал он толпу товарищей, и от удивления у него перехватило дыхание: прямо перед ним, держа под руку пожилого аристократичного вида мужчину в генеральской форме французской армии, стояла пани Тышкевич и мило болтала с обступившими ее кавалерами.
«Ну и встреча», – быстро справился с волнением и, смело шагнув к женщине, произнес, целуя руку:
– А вы ничуть не изменились, пани Тышкевич.
– Я не пани Тышкевич, – с напряжением в голосе ответила она, с интересом и внутренним трепетом разглядывая Рубанова, – а мадам де Куртенэ. Эти милые люди стояли лагерем рядом с моим замком, –объяснила супругу, нежно ему улыбнувшись.
Он молча кивнул головой и, нахмурившись, повел жену к выходу. На этом бал для нее закончился.
«Вот кто королева в постели», – подумал Максим, глядя вслед удаляющейся пани Тышкевич. Новое ее имя он не мог принять и тут же выбросил из головы.
«Бедный Волынский! Кого мы любили… Она давно забыла о нас!.. Впрочем, как и мы о ней», – стал искать взглядом Анжелу.
– Видите, мой друг, каким ошеломительным успехом пользуется в кругу ваших друзей прекрасная Анжела, – язвительно хмыкал граф де Сентонж, прохаживаясь поздним вечером перед устало сидящим в кресле Рубановым. – Прежде чем отправиться спать, вот что я вам скажу. – Зевнул он, тактично прикрывая рот ладонью.
Максим поддержал его, громко выдохнув воздух после зевка и сладко почмокав губами.
– Учиться обхождению с дамами никогда не поздно! – сделал глубокомысленное умозаключение граф Рауль. – Вам нужен талисман!
Выпрямившись в кресле, Максим хихикнул, живо припомнив фамилию своего петербургского знакомца трактирщика.
– Ничего смешного, так как я имею в виду фетиш – вещь, а не то, что Вы успели подумать…
Хотя глаза Рубанова слипались, он внимательно и даже с интересом слушал чуть хрипловатый голос графа.
– Именно талисман, – продолжал тот. – Вы никогда не обращали внимания на непонятную и таинственную связь женщин и некоторых предметов? Разумеется, нет? Так вот… Для мужчины любая вещь имеет значение лишь в связи с выполнением предназначенной ей функции.
Для женщины предмет важен исключительно сам по себе.
Смею вас уверить, что когда осуществится ваша заветная мечта, и вы женитесь на красивой и умной девушке, то будете несказанно удивлены по поводу истерики, которую она способна устроить из-за неподходящего цвета чайного сервиза, стоящего не там столика или гардин на окнах, делающих комнату темной… А так же из-за тысячи иных причин, которые ваш мозг не в силах объяснить и понять.
Но как только слуги сдвинут столик или поставят его к окну, она тут же успокоится, считая, что облик залы изменился в нужную ей сторону. Дама может поставить на камин какую-нибудь облупленную безделушку с отбитым хвостом и станет абсолютно уверена, что она улучшает ее настроение…
И, наконец, лишь женщина способна принести из сада сморщенный листик или увядший цветок и проплакать над ним целый день, так как он, видите ли, пробудил в ее душе что-то возвышенное и нам, грубым дуракам, недоступное…
А так как понять отношения между вещью и дамой не представляется возможным для мужского ума, то мы должны лишь этим воспользоваться…
Поэтому не волнуйся, ежели покажешься себе идиотом, но выбери что-нибудь на свое усмотрение – слоника там, статуэтку, да хоть ночную вазу – и со словами: «Любовь моя, эта штуковина принесет нам счастье», – поднеси вещицу мадемуазель д’Ирсон и будь уверен, что она обретет для нее чудодейственное значение и станет самым драгоценным предметом.
Проснувшись, первым делом она будет искать глазами эту чашку, камешек, статуэтку или ночную вазу и, найдя, удостоверится, что ваша любовь сильна и могуча, а отношениям ничего не угрожает.
Единственный нюанс!.. Коли она сама не догадается назвать сию фиговину талисманом, то вы ей подскажите, – уже в дверях произнес он.
«Оболенский был бы без ума от графа… и княгиня Голицына тоже, – засыпая, подумал Максим. – Армейский быт и русское влияние делают даже французских аристократов простыми, как рязанские лапти».
В ноябре пошли разговоры о том, что русская гвардия покидает Париж, и офицеры стали активно прощаться с этим прекрасным и легкомысленным городом.
«Слава Богу! – рассуждал Максим, прогуливаясь по мокрым от дождя улицам. – А то я начинаю мерзнуть от ночного холода мадемуазель Анжелы. Утомляют ее истерики и ревность.
А теперь еще выдумала, будто в положении и ждет ребенка.
Абсолютно не верю, что у этой аристократичной ледышки может быть ребенок. И, как нарочно, граф де Сентонж заболел… Не с кем посоветоваться», – внимательно глядел он под ноги, чтоб не наступить в лужу.
От раздумий его отвлек знакомый голос.
«Оболенский с извозчиком матерится! – улыбнулся он и тут же зачерпнул штиблетой воду. – Ну вот, какой-то бунтовщик булыжник из мостовой выбил», – пессимистически оглядел мокрую штиблету.
– Ого, Рубанов! Рад тебя видеть, – опять услышал бас Оболенского. – Представляешь! Уже почти год тут живу, а эти лягушатники все не могут русский язык выучить… Ох и необразованная нация!..
Куда идешь? Поехали в кабак, – гудел князь.
Максим с радостью согласился. Настроение его заметно улучшилось, когда увидел своего друга, одетого в цивильное платье и тупо срезанные штиблеты. Сверху все это было накрыто огромной круглой шляпой, которой позавидовал бы даже король Неаполитанский Мюрат.
– О-о-о! Вы весь в умопомрачительных кружевах, мон шер. А какая прелесть ваша шляпа… – полез вслед за князем в коляску. – Полагаю, вы еще и шляпнице голову вскружили, господин Оболенский?..
– Ха! И не только… Взгляни-ка на мои туфли! – поднял он ногу. – Владелица сапожной мастерской… Бьютифул!
Через несколько дней гвардия покидала Париж, и Максим зашел проститься к Раулю де Сентонжу. Графу стало немного лучше, и он даже сидел в кровати, обложенный подушками и лекарствами.
Маленький толстый доктор дал согласие на пятиминутный разговор и вышел из комнаты.
– Мне было интересно с вами! – улыбнулся граф и приподнял руку. – Не надо соболезнований… Я знаю, как выгляжу и что меня ожидает… Поговорим лучше о вас… Вы не любите ее?
– Мне казалось, что люблю…
– Коли вы произнесли «казалось», – перебил его граф, – то лучше порвите с ней и уезжайте.
– Но она сказала, что ждет ребенка… – потупился Максим.
– Шантаж, и больше ничего! – оживился де Сентонж. – А даже если и так, де Бомон с радостью женится на ней, а она задурит ему голову, родив как положено, а ему сообщит, что ребенок недоношенный и появился через шесть месяцев, или семь… возможны варианты. Может появиться даже через пять, – развеселился граф. – Де Бомон все проглотит! А чем она вам не угодила, кроме того, что вы ее не любите?
Весьма холодна в постели?.. – удивился он. – Но это же поправимо… Разумеется, решать вам, месье! Ежели не любите, то оставьте все как есть и уезжайте… – устало откинулся он на подушки. – И еще, милый Рубанов, – задержал собравшегося уходить Максима, – когда меня не станет, один из слуг непременно найдет вас и сообщит мою последнюю волю, – закрыл он глаза и замолчал.
Склонив голову, Максим тихо вышел, вытерев в другой комнате набежавшую слезу.
Однако окончательно порвать с Анжелой он не решился и, выслушав последнюю истерику, с облегчением отбыл с полком на новое место службы. Место это оказалось в сотне верст от Парижа, и мадемуазель д’Ирсон вскоре примчалась его навестить.
Местным дамам высокомерная парижанка абсолютно не понравилась, и они решили мстить ей, отбив у нее кавалера.
Максим тоже не собирался хранить верность и не успел написать несколько милых слов понравившейся даме, как она упала к нему в объятия. Звали ее мадемуазель Джулия. В ее обществе весьма приятно он провел целый месяц.
Француженка была просто без ума от русского любовника.
– В постели он чудо! – хвалилась она подругам. – Наши мужчины в сравнении с ним – вялые устрицы… Ах, какой темпераментный и умелый! – мечтательно восклицала она.
Теперь уже Максим отбивался от дам. Каждой было лестно опровергнуть мадемуазель Джулию, но это покуда никому не удавалось.
Оболенский удивлялся прыти своего друга.
– Чем тебе не угодила мадемуазель Джулия? – интересовался он.
– Оказалась павлином!
– Чем? – недоумевал князь.
– Павлином. Внешность приятная, но голос… Я имею в виду внутренний мир…
– Да на черта он тебе сдался? – изумлялся Оболенский. – Его даже не потискаешь… главное, есть на чем остановить глаз, – перебил он друга.
– …Лишь наряды, драгоценности и мужчины на уме, – все же докончил Максим.
– Ну, коли не возражаешь, я отобью ее у тебя.
«Чудак! Я уже третью после нее завоевал, и дело не то что до талисмана, даже до писем не доходило…»
– Ну, попытайтесь, князь, – милостиво согласился Рубанов.
В январе полк ушел и из этого богом забытого городишки, передислоцировавшись еще ближе к границе Франции.
День своего ангела Рубанов встретил уже в Германии.
«Видать, домой!» – радовались солдаты.
В Германии к ним присоединился отдохнувший от заграницы Нарышкин.
– Москва строится, господа! – после объятий были первые его слова. – А вот и ваши письма.
Оболенский получил два письма – одно от родителей, другое – от кузины, и столько же – Рубанов. Одно из деревни, другое от Голицыных.
После этого услышали от Нарышкина историю о том, что Денис Давыдов снова стал полковником.
– Оказывается, с присвоением генеральского чина что-то напутали в канцелярии, – саркастически поведал Нарышкин. – Ох, Рассея! – подвел он итог.
– Причем здесь Россия, граф? Во всем немцы виноваты! – заступился за родину Максим. – Винценгероде этот… Не простил знаменитому партизану взятия Дрездена, интриган. Но я думаю, разберутся и все будет «бьютифул», как говорит Оболенский.
Гвардия успела добраться лишь до Курляндии, как сосланный на Эльбу Наполеон бежал и высадился во Франции.
Сто дней золотые пчелы собирали мед с белых лилий, пока не последовало Ватерлоо, где Бонапарт был окончательно разбит, а потом сослан на остров Святой Елены.
Конногвардейцы не принимали участия в этой великой битве, но вступили в Париж, дабы восстановить власть Бурбонов.
Первым делом, Рубанов направился к де Сентонжу и с прискорбием узнал, что графа больше нет…
Однако русского офицера ждали, и лысенький нотариус проблеял завещание графа, по которому ошарашенный Максим получил тяжеленный саквояж с русскими золотыми червонцами. Сверху лежало письмо.
«…Мой милый друг, – читал он неровные строки и, казалось, видел графа, – …примите от меня сей маленький презент, который я вывез из вашей заснеженной России. Потому-то он и принадлежит Вам.
К тому же Вы скрасили последние месяцы моей жизни… Прошу в этой просьбе не отказать, так как прямых наследников у меня нет…
Помните обо мне.
Граф де Сентонж.
P.S. А насчет мадемуазель д’Ирсон мои слова полностью сбылись… Она вышла замуж за Жана де Бомона.
Либо она не любила Вас, либо в ней говорила отвергнутая женщина…»
«Даже умирая, этот великий циник не удержался от сентенций… – вытер слезы Максим. – И на черта нужны мне эти деньги? Велю-ка Шалфееву возить их в обозе… А графа я и так не забуду!»
Летом полк двинулся в Россию.
«Пора домой. Хватит тут де Рубановых плодить…» – с облегчением думал Максим.
45
В Петербурге их встретил сияющий Давыдов в шитом золотом генеральском гусарском мундире.
– Слава Богу, вы снова генерал! – поздравил его Нарышкин.
– Хотя и не извинились, но чин возвратили, – тень набежала на лицо Давыдова, и задрожали крылья курносого носа. – Ошибочка вышла! – изрекли канцелярские крысы и изволили прислать официальное уведомление, подтверждающее, что за бой при Ла-Ротьере полковник Давыдов жалован рескриптом Его Императорского Величества в генерал-майоры.
А чего мне это стоило?.. Да ну их всех к черту, право! Жизнь и так коротка… Давайте веселиться, господа.
– Полностью с вами согласен, – поддержал генерала Оболенский. – А не посетить ли нам «раки…»
– Поняли, поняли вас, сударь, – остановил напрашивающуюся рифму Нарышкин. – Вспомним молодость, господа, и навестим «Трактир у Мойши».
При слове «молодость» Давыдов то ли с насмешкой, то ли с завистью глянул на конногвардейцев и со вздохом покрутил усы.
Однако одноименного трактира более не существовало.
По тогдашнему российскому закону, который Аракчеев не только всецело поддерживал, но и заставлял генерал-губернатора рьяно его исполнять, жиды не имели права проживать в столицах, и кому-то вовремя не подмазавший руку Мойша был с треском выдворен из Петербурга.
Об этом узнали от одноглазого гренадера, у которого благополучно и провели вечер.
«Видимо, в честь себя заведение назвал, – догадался Давыдов. – Ишь дьявол! А вот коли мне пришлось бы трактир назвать, что бы я придумал?» – наморщил он лоб и поднял глаза к потолку.
Взглянувший на него Рубанов благоговейно подумал, что поэт обнаружил в клубах поднимавшегося вверх дыма свою музу и сейчас сочиняет стихи.
«Ушлый партизан, – между тем размышлял Давыдов. – Слишком вызывающе звучит… Генеральская выпивка! Нет, нет. Будто нижние чины не пьют.
Не такое это простое дело – назвать ресторацию. Разумеется, лучше всего подходит "Храбрый Давыдов", однако, сразу подумают, что хвастаю».
Остановившись на мысли, что трактир следует назвать «У Дениса», он прислушался к разговору за столом.
Что делается в нашей России, господа! – возмущался Нарышкин, вспоминая злосчастную участь Мойши.
– Вполне правильные вещи! – не соглашались с ним друзья.
– Может, этого жида сделать министром?.. – ржал князь. – Представьте только, господа, Мойша – министр, и мы должны ему кланяться… Это же парадокс, нонсенс и чушь собачья!..
Когда такое случится – погибла Россия! Да этого и не может быть!..
Затем как старший по чину Денис Давыдов взял инициативу в свои генеральские руки.
– Едем, господа, в театр – к балеринам.
– Мне нельзя, я женатый, – стал отказываться Нарышкин.
– А коли женаты, так даже обязаны поехать туда. Первые поэты России слагают вирши в честь стройных ножек танцовщиц. Хоть с поэтами пообщаетесь…
Однако к окончанию представления они опоздали, не застав ни только поэтов, но и юных балерин.
– Ничего страшного, – успокоил гвардейцев оптимистичный Давыдов, – я заранее разведал, где находится дом, в котором проживают воспитанницы театрального училища… Одна плясунья на это повлияла, – скромно потупился он.
Тайно, партизанскими тропами, компания подъехала к мрачному строению, битком набитому хорошенькими служительницами муз.
– Вон видите огромный зеленый фургон? Это на нем возят девиц на репетиции. Но, к стыду своему, должен сознаться, господа, что даже для меня, бравшего штурмом города, есть проблема.
Молодые ротмистры недоверчиво глядели на старшего друга.
– Мне ни разу не удалось проникнуть в этот дом! Лишь только в фургон перед репетицией. Может, с вашей помощью?..
– Да кто же вам мешает? – с удивлением поинтересовался Нарышкин.
– Хранитель юных дев бывший актер Церберов. Настоящую фамилию вечно забываю. Сговориться с ним не представляется никакой возможности, – уныло заключил Давыдов. – Даже на ассигнации не реагирует… Всю жизнь на сцене злодеев играл…
– Да полно вам! – не поверил Оболенский.
Нарышкин уже не жалел, что отправился с друзьями. Приключение начало захватывать и его. Вздрогнув от ночной прохлады, он приблизился к постучавшему в дверь Давыдову и еще раз вздрогнул, рассмотрев злобное и мрачное лицо, бледневшее в сумраке растворившегося маленького окошка. Хриплый голос насильника и убийцы поинтересовался, чего им надо.
– Попасть внутрь! – ткнул в нос сторожу крупную ассигнацию Давыдов.
После короткого грозного рыка окошко захлопнулось, а ассигнация полетела на землю.
– Клянусь рясой монашки Матильды, господа, это сущий пес Цербер и ненавистник мужчин, особливо офицеров.
Оболенский донышком бутылки постучал в деревянное окошко, которое снова распахнулось, и огромная ручища, вырвав бутылку, швырнула ее на дорогу, моментально закрыв деревянную створу.
Князь даже не успел среагировать.
– Ну и ну! – поразился он. – Экая скотина.
– Всей душой вжился в амплуа злодея!.. – грустно сообщил Давыдов. – Его уже не перевоспитаешь.
До самого утра офицеры пытались попасть внутрь «курятника», но на бывшего актера не действовали ни угрозы, над которыми он сатанински хохотал, ни деньги, которые он мял и бросал под ноги господам, ни уговоры, на которые он плевал.
– Это надо же так вжиться в роль! – поразился Нарышкин.
Так и не проняв злодея, друзья поехали к Оболенскому.
– Ничего, господа, завтра погуляем с цыганами.
После двух недель русского куража, французского шампанского и цыганских песен наступило затишье.
Генерал Давыдов получил назначение состоять заместителем при командире 1-й драгунской дивизии и отбыл в Брест.
Нарышкин срочно уехал в Москву, получив послание от родителей, что скоро станет отцом.
Нагулявшийся Рубанов занял двухкомнатную квартирку в конногвардейских казармах – ни от кого не зависишь и от службы недалеко. Тяжелый саквояж с золотыми червонцами он поставил за диван и накрыл скатертью. На жизнь ему пока хватало и своих денег. О завещании де Сентонжа Максим не рассказал даже друзьям.
Осенью Петербург начал заполняться прибывающей из имений и вотчин аристократией. В Зимний приехала царская семья. По дворцу сновали пажи и хихикали незнакомые Рубанову молоденькие фрейлины.
«Черт-дьявол! – думал Максим, инструктируя начальника караула поручика Сокольняка. – Сколь много случилось изменений в сей жизни. Я – ротмистр и провожу инструктаж, полностью отвечая за жизнь их величеств».
Из Рубановки пришло письмо, начало которого до отказа было забито приветами, а конец – слезными жалобами: «Барин, ваше высочайшее благородие, – самолично писал Изот, – вот вам Крест Святой, как только поставлю винокуренный заводишко, так сразу вышлю целую тышшу…»
«Как же, жди от него! – рассмеялся Рубанов, скользнув взглядом за диван. – Следом какую-нибудь фабрику по производству удобрений задумает организовать, а там и людишки понадобятся, так и придется в сентонжское наследство залезть. Новую шинель к зиме надлежит справить и вицмундир…»
– Вашскародь?! – отвлек его Шалфеев, протягивая конверт. – От их превосходительства генерала Голицына послание.
В субботу, надев парадную форму, Максим отправился с визитом к Голицыным. Князь Петр встретил его с распростертыми объятиями, чего нельзя было сказать о княгине Катерине. Ее напряженное лицо не могло скрыть тревоги, хотя она старалась выглядеть беззаботной и приветливой.
Это заметил даже князь: «Как супруга от Рубанова отвыкла», – подумал он, и тут в комнату вбежал мальчик, а следом – испуганный гувернер-француз.
Увидев сына, княгиня вздрогнула и растерянно глянула вначале на мужа, затем на Максима.
– Голицын-младший! – нежно погладил по светлой головке сына князь Петр. – Поздоровайся с гостем, – легонько подтолкнул его к Рубанову, и Максим увидел себя в детстве.
Лишь родинка на щеке была поменьше и с другой стороны.
Мальчик смело поклонился гостю и тут же обнял отца.
– Сколько же лет будущему генералу?
– На Рождество пять стукнет, – похвалился князь Петр. – Растет наследник.
Да-а, кстати, ротмистр. Сегодня званый обед дает мой дядя, Александр Николаевич. Вы непременно должны посетить его. Тем более что в бытность свою корнетом были представлены ему.
Максим глянул на опустившую глаза княгиню Катерину и решил отказаться, вспомнив, как она встречала его раньше.
– С удовольствием, князь! – неожиданно для себя произнес он.
«И зачем мне это?..»
– Возобновление знакомства весьма полезно для вашей карьеры, – словно ответил на его мысленный вопрос Голицын. – Ведь верно, Катеринушка? – поцеловал в лоб жену. – Ну иди, дружок, – потрепал по щеке сына и, взяв под руку Максима, повел в кабинет.
Царский друг и любимец встретил Рубанова приветливо и, с удовольствием оглядев его статную фигуру в белом мундире, похвалил за верную службу отечеству и императору.
Максим, разглядывая маленького лысенького царедворца, сморщил лоб, думая, чем бы ответить на комплимент и похвалу.
Не найдя в его внешности ничего примечательного, а в душе – никаких талантов, кроме умения мирить государя с любовницей, решил не то чтобы ругнуть, но несколько унизить или, точнее, уязвить влиятельного врага и конкурента на царские милости графа Аракчеева.
– Так точно, ваше сиятельство. Российский самодержец справедлив, в отличие от Алексея Андреевича, и щедро награждает верных слуг.
– О-о-о! Как вы правы, господин офицер, как правы. Несравненный Александр щедро жалует своих подданных и зря никого не обидит, не то что этот солдафон Аракчеев. – Посадил Максима за стол неподалеку от себя и с удовольствием весь обед вел с ним беседу.
Через неделю Петр Голицын повез Максима на бал к вельможе.
Пожилой сановник ничуть не изменился, был все так же толст и важен.
– Какие бравые у нас офицеры! – поправляя голубую Андреевскую ленту, похвалил он Максима.
– Все это благодаря стараниям и радению об армии его сиятельства графа Аракчеева! – бодро отрапортовал Рубанов, помня о великом уважении статского генерала к Алексею Андреевичу.
– Замечательный молодой человек! – подытожил вельможа, благосклонно отпуская Рубанова пойти поклониться двухсотлетней родственнице, которая столь высохла, что в монокль могла глядеть обоими глазами.
Голицын при словах Рубанова хмыкнул, удивленно поджал губы, а затем произнес:
– Ежели и далее станете так себя вести, то генеральские эполеты не замедлят оказаться на ваших плечах.
– Сами же, князь Петр, изволили недавно сказать о пользе связей при дворе!
В октябре из Москвы прибыл Нарышкин.
– Господа! Господа! Поздравьте. У меня сын!.. – восторженно вопил он, встретившись с Оболенским и Рубановым. – Предлагаю по этому поводу зверски напиться…
Оболенский, мягко говоря, не возражал.
С удовольствием принял предложение и Рубанов.
«Как все-таки славно, что у меня есть друзья! – в который раз подумал он. – С ними я могу быть самим собой. Тут мне не нужно лукавить, лгать и лицемерить…»
День стоял чудесный, и компания решила не брать извозчика, а идти пешком до первого питейного заведения. Печатая шаг по тротуару, Оболенский неожиданно остановился и уставился на окно первого этажа, в котором виднелась прелестная и, по-видимому, только что проснувшаяся девица. Ничуть не смущаясь полуголых плеч, она что-то подшивала, временами бросая бесстрастные взоры на улицу.
– Белошвеечка! – заорал князь, испугав худую клячу, понуро тащившую телегу.
Дремавшая в подворотне собачонка сочла за благо перебраться в другое место.
Лишь одна девица не обратила внимания на князя.
– А у меня шов разошелся на панталонах! – сделал он еще одну попытку привлечь ее внимание, но она, безразлично глянув в окно, опустила голову и перекусила нитку.
– Пойдемте, Григорий, – потянул его за рукав Нарышкин.
– Да! Есть более важные ценности, – подхватил друга под вторую руку Рубанов. – К тому же ясно видно, что она глухая, да и окно закрыто.
– О мой Бог, господа! – вдруг снова остановился Оболенский, на этот раз разглядывая вывеску «Князь Изяслав». – Ведь это же было Мойшино заведение. Неужели вернулся и переименовал? – С любопытством зашли они в тусклое помещение.
– Так же, как и всегда! – констатировали увиденное.
Кланяясь, к ним спешил носатый и пузатый жид, но не Мойша.
«Сумел-таки позолотить нужную руку», – подумал о нем Максим, усаживаясь за расшатанный стол с тусклой, издыхающей свечой.
– Неужели здесь будем рождение сына праздновать? – возмутился Нарышкин, брезгливо осматриваясь по сторонам; но любивший простоту Оболенский, осторожно устраиваясь на стуле, произнес:
– Посидим несколько минут и вдохнем пыльный воздух юности.
– Все-таки вы пиит! – улыбнувшись, польстил ему Рубанов.
– А ты быстро тащи водки и света, – велел князь трактирщику, чуть подвигая стул, чтоб уступить место Нарышкину.
Однако посидели прилично, поднимая тосты за юного графа, за молодость, за женщин и даже за красноносого англичанина.
Как и все евреи, владелец «Князя Изяслава» проникся глубочайшим почтением к князю Оболенскому. Подобострастно заглядывая ему в глаза и беспрестанно кланяясь, трактирщик ждал приказа и тут же бросался исполнять. Стол был заставлен водкой. От шампанского Григорий, помня клятву, благоразумно отказывался.
Оглядев пустые бутылки и слегка заикаясь, он промолвил:
– Для кого-то из нас пшеничная может оказаться несвежей.
Эй, любезный! – обратился к подбежавшему владельцу трактира. – А почему твоя забегаловка так называется?
– «Князь» – понятно, а «Изяслав» означает славный Изя! – скромно потупил коровьи очи хозяин.
Оболенский сначала вытаращился, а через секунду разразился громоподобным хохотом.
– Ну-у дает! Это мы, Оболенские, от черниговских князей произошли, и один из моих предков носил имя Изяслав.
– То есть вы с трактирщиком родственники, что ли? – предположил Рубанов.
Но, хвала Всевышнему, князь не расслышал его шутку.
Затем друзья навестили «Храброго гренадера», а вечер закончили в ресторане немца Фогеля, где Нарышкин вызвал на дуэль семеновского капитана, который имел наглость уверять, что государь, назначая в 1804 году супруга Марии Антоновны Нарышкиной оберегермейстером, то есть старшим егерем, якобы произнес следующую фразу: «Так как я ему рога наставил, то пусть же он и заведует оленями…»
А Оболенский, чтобы не уступить другу, подрался с пятью офицерами Польского уланского полка. Товарищи, разумеется, помогли ему, так как князь был отменно пьян.
Уланы закончили вечер в лазарете, а конногвардейцы – на Сенатской гауптвахте. Видя такую удаль, семеновский капитан приехал на «губу» просить у Нарышкина прощения. Дело дошло до Аракчеева и его стараниями – до императора.
Мнение всесильного фаворита было непреклонно – таким офицерам место не в гвардии, но в Сибири.
Однако за ротмистров венценосца просило пол-Петербурга.
Кроме папà Оболенского, простить неразумных просил друг императора Александр Николаевич Голицын, вельможа с Андреевской лентой, бывший егермейстер, а ныне гофмаршал двора Дмитрий Нарышкин и, главное, его супруга.
Такое количество великосветских голосов, конечно, перевесило голос Аракчеева, и государь велел пригласить провинившихся к себе, дабы лично разобраться в случившемся.
– Господа офицеры, как вам не совестно, право! – произнес император, потирая пальцем ямку на подбородке и любуясь отточенной выправкой конногвардейских повес.
До этого, сталкиваясь с ними во дворце, он не обращал на них внимания, а тут неожиданно всплыло в памяти, как юнкерами они свалились в яму.
«Видимо, по ассоциации с ямкой на подбородке вспомнил начало их послужного списка, – усмехнулся он и, убрав руки за спину, принялся вышагивать перед офицерами. – Как дальновидно поступил я в то время, оставив ребят в армии.
Вон какие орлы. Вся грудь в орденах. И как славно, что не разжаловал их, когда стали корнетами, а направил в Молдавскую армию…»
– Сколько вам лет, господин ротмистр? – обратился к Рубанову, припоминая, с какой красивой дамой встречал его на балу.
«Только вот не помню где: то ли в Вильне, то ли в Варшаве, то ли в Париже».
– Двадцать два года, ваше величество, – услышал ответ.
«Вот сколько он успел совершить за двадцать два года… Толковые и храбрые офицеры, а ведь, в сущности, еще мальчишки, – умилился самодержец, наблюдая, как преданно глядят на него эти прекрасные русские оболтусы. – Видимо, поляки сами задрались, – решил он. – Неужели, из-за них лишать армию столь мужественных офицеров?.. Коли в тот раз поступил дальновидно и мудро, то неужто теперь отправлю в отставку… о Сибири неуместно даже говорить… этих верных и храбрых защитников трона?
Алексею Андреевичу – что? Ему престол по наследству не передавать. А мне следует думать, кто будущего императора и державу защищать станет. Не поляки же?!
Аракчееву лишь бы сейчас во всем порядок был, а дальше своего носа видеть не желает, – разозлился на своего любимца Александр, но тут же успокоился. Порядок, конечно, необходим! – снова стал рассуждать он. – Но наказание за проступок они понесли… Неужели, стану второй раз наказывать?»
– Надеюсь, господа, впредь такого не случится? – стараясь выглядеть строгим, обвел глазами конногвардейцев.
– Так точно, ваше величество! – хором рявкнули офицеры.
«Хороши, – снова умилился император. – Однако Аракчеева тоже обижать негоже!»
– Так вот, господа ротмистры. Завтра поедете на прием к Алексею Андреевичу и попросите за содеянное прощения…
«А сегодня его увижу и намекну, чтоб простил офицеров, – поглядел вслед выходящим из кабинета гвардейцам. – Нельзя лишать армию таких командиров. Им бы жить во времена петровских ассамблей, когда сиволапые московиты пьянствовали с голландскими моряками… Вот бы где они были на месте», – развеселился Александр, несколько утрируя ситуацию.
– Ну, вот и он, огорчеевский домишко, – вышли из кареты Оболенского конногвардейцы у серого одноэтажного здания на углу Литейной и Кирочной.
К резиденции «железного графа» подъезжали кареты и возки, из которых выходили сановники, офицеры и всякая мелюзга. Объединяло всех одно: ужас в глазах и дрожащие руки. Перекрестясь на окно кабинета, посетители исчезали за высокой дверью.
– Пойдемте, господа! – отпустил карету князь Григорий.
– Креститься не будем? – поинтересовался хрипловатым голосом Нарышкин.
– Не в церковь идем! – стараясь придать интонации бодрые нотки, ответил Рубанов и первый шагнул за высокую дверь.
Приемная оказалась полна, но всесильный фаворит пока не принимал. Конногвардейцы заметили несколько знакомых, но те лишь кивнули головами, не испытывая желания подойти ближе – неизвестно, чем дело закончится…
– Мы тут как прокаженные! – усмехнулся Оболенский, независимо усаживаясь в продавленное кресло, накрытое чехлом.
Его примеру последовали друзья, чинно усевшись на стоявшие у стены истертые задами стулья.
– Сам уже здесь! – услышали глуховатый шепот седого генерала, обращающегося к лысому худому сановнику. И столько почтения и страха содержалось в слове «сам», что трое друзей неожиданно прониклись к графу уважением: надо же, как запугал чиновную Россию.
– Честен, честен батюшка и строг. Взяток не берет! – слышалось с другой стороны приемной.
Но вот – все стихло.
На пороге возник адъютант графа Клейнмихель и неторопливо назвал фамилию.
Побледневший генерал вскочил словно ужаленный, перекрестился и на трясущихся ногах направился за адъютантом. Многочисленные кресты и медали бряцали в такт шагам.
«И почему русские боятся начальства сильнее врага? – изумился Максим. – Неужели карьера для нас важнее жизни? Или так понимаем мы вопросы чести?.. Враг может лишь убить – это почетно, а начальник – разжаловать и сослать – это позор».
Сквозь неплотно прикрытую дверь слышался голос Аракчеева:
– Солдат, как вам хорошо известно, милостивый государь, в генералы сразу не попадет, а вот генерал в солдаты угодить может в одночасье.
Через минуту из кабинета, пошатываясь, выкатился седой генерал и плюхнулся на освобожденный сановником стул. Глаза его блуждали по приемной, а краска медленно возвращалась на бледное потное лицо. Вскоре взгляд начал принимать осмысленное выражение, а на губах проступила гримаса, должно быть означавшая улыбку.
С трудом приподняв толстый зад, он достал из кармана платок размером с полковое знамя и сосредоточенно стал вытирать лицо, шею, лоб, напоминая Максиму умывающегося кота, удачно избежавшего собачьих зубов.
Клейнмихель между тем вызвал другого посетителя и снова дверь плотно не прикрыл, должно быть для назидания – чтоб слышали и боялись.
Час шел за часом, а провинившихся гвардейцев всё не вызывали.
Уже ушли генерал и сановник, не говоря о более важных лицах, а они все сидели в приемной, слушая разговоры оставшихся посетителей, несколько уже пообвыкших и освоившихся в строгой обстановке.
К вечеру в приемной остались лишь они да две живучие мухи, целеустремленно и безнадежно бьющиеся в чисто вымытое стекло.
«Вот так всю жизнь можно колотиться лбом в стену и ничего не добиться, коли кто из верхних этого пожелает…» – вздохнул Рубанов.
Наконец усталый адъютант пригласил их в кабинет.
«Это, как я понимаю, ради воспитательных целей нас самыми последними позвали. Даже пехотный подпоручик раньше прошел, – вставая со стула, разозлился Максим. – И еще бы продержал, да более уже просителей не осталось, разве что мухи. – Удивленно глянул на уснувшего в кресле Оболенского. – Вот у кого нервы!..» – восхитился Рубанов. – Разморило на мягоньком?! – растолкал он князя, недовольного, что их рано побеспокоили.
– Вытрите глаза, господин ротмистр! – загородил ему дорогу Клейнмихель.
– Щас я их тебе вытру, как давеча уланам! – огрызнулся Оболенский, и опешивший и обескураженный адъютант отступил в сторону, пропуская его в кабинет.
Аракчеев, разумеется, навстречу им не поднялся и, казалось даже, в первую минуту не обратил на вошедших внимания. Склонив голову, он что-то увлеченно писал на оторванной половине листа.
Максим с интересом обвел глазами огромную комнату с безвкусной мебелью, и взгляд его остановился на макушке графа, а затем перешел на аккуратные стопки чистой бумаги.
«Ишь какой экономный, – поразился он, – на огрызке пишет». – Скосил глаза на Оболенского.
Тот уже полностью проснулся и пялился на графин с водой.
«Пить захотел!» – отметил Максим, и неожиданно его разобрал смех. Сжав губы, он уставился на Аракчеева.
Тот в эту секунду наконец отложил перо, сплел перед собой пальцы, нахмурился и поднял глаза на замерших кирасиров.
«Чегой-то средний как вытаращился?! – поразился он, глянув на Рубанова.
Максим аж вспотел, борясь с приступом смеха.
«Коли заржу, Сибирь обеспечена!» – запугивал себя.
– Ваше счастье, пока еще господа, что уланские офицеры прибыли в Петербург без надлежащего на то соизволения и даже не будучи в отпуску.
Инкогнито, так сказать, повеселиться захотели и повеселились… – Расплел он пальцы и опустил ладони на стол. – Понеже бог шельму метит! После излечения я их отправил под арест.
Поскольку его императорское величество просил за вас, – по слогам произнес он, согнав морщины со лба и сделав паузу, чтобы неразумные поняли и прочувствовали, что не он просит государя, а наоборот, – то я решил обойтись уже отбытым вами наказанием, то есть гауптвахтой, при условии, что вы, конечно, чистосердечно раскаиваетесь в содеянном, – снова нахмурил лоб. «Да чего этот средний таращится?!»
– Так точно, ваше сиятельство… Ошибку свою осознали! – рявкнул Оболенский, плотоядно глянув на воду.
У Рубанова глаза уже полезли из орбит.
– Ну, то-то же! – расслабился Аракчеев. – Впредь смотрите у меня! – милостиво отпустил он конногвардейцев.
Едва ступив в приемную, Максим напополам согнулся от смеха, и друзья быстро выволокли его на улицу.
На следующий день ротмистры стали знамениты на весь Петербург, и кавалергарды дико завидовали им, рассуждая в кругу гвардейских офицеров, что горбатого только могила исправит, всё никак перебеситься не могут, старички!
46
После всех этих нервных дней вновь наступило затишье. Максим исправно нес службу и танцевал на балах, постепенно начиная скучать от такой размеренной и однообразной жизни.
«Трудно все-таки сразу отвыкнуть от боев и войны, – думал он, – негде нервы пощекотать…»
После дня рождения, в конце зимы, на него и вовсе напала хандра.
Чтобы не одуреть от тоски, придумал себе занятие и неожиданно увлекся им: решил построить в своей Рубановке новый дом и возвести церковь. «Денежки-то имеются…»
А все началось с того, что случайно познакомился в трактире с голодным и оборванным молодым человеком, который оказался архитектором.
Накормив его и выслушав мечту создать что-либо на века, и сам загорелся этой идеей.
Всю весну они увлеченно спорили, планировали и чертили на бумаге, а в конце мая Максим не долго думая взял полугодовой отпуск, простился с товарищами и отбыл на почтовых с сытым уже архитектором в Рубановку.
Набитый золотом саквояж прочно и солидно устроился у его ног.
Проделав первый прогон, Максим с длинноволосым архитектором не устали и решали ехать дальше. Но помехой, как всегда, оказался станционный смотритель, у которого, хоть убей, не было свежих лошадей.
«Да это же та самая станция, где меня обчистил Николя, – чему-то обрадовался Максим. – Может, и смотритель тот же?»
Теперь, конечно, чиновник относился к нему с несоизмеримо большим уважением, нежели в то время. Рубанов успел привыкнуть и не удивлялся почтению будочников, нижних чинов полиции и всякой мелкой чиновной сошки.
«Оболенский пустил бы в ход кулаки», – хмыкнул он и сунул смотрителю рубль серебром… Рожа у того сразу расплылась от счастья, а память прочистилась, и он вспомнил, что в конюшне случайно завалялись три свежие лошадки.
На этот раз до родных мест добрались удивительно быстро.
Сердце забилось сильнее, когда увидел, подъезжая к Чернавке, Покровскую церковь. И тут же пришло озарение…
Вспомнились детские годы и далекие мечты о трехглавом храме, символизирующем Отца, Сына и Мать. Теперь он точно знал, какой будет рубановская церковь.
При въезде в Рубановку, сердце стучало, как копыта идущего на рысях коня.
Поначалу он даже не узнал родовое свое гнездо – домов стало в два раза больше, а следовательно – и народу. Веселые по виду крестьяне отступали к заборам и кланялись барину.
А когда въехал под арку с двумя цифрами и остановил взгляд на старом барском доме, окруженном акациями, то сердце перешло на галоп.
Старая нянька почти совсем ослепла и с трудом ходила, но, угадав каким-то шестым чувством или, скорее, любящим своим сердцем, что приехал ее ненаглядный «внучок», с трудом выбралась на крыльцо и упала бы, не подхвати ее Максим.
Прижавшись к его груди, она ничего не сумела произнести, а лишь тихо плакала, радуясь, что дожила до такого светлого дня, и печалясь, что радость эта последняя.
Рядом стоял Агафон и терпеливо ждал своей очереди обнять барина, шумно при этом сморкаясь и вытирая нос рукавом рубахи.
Следом за нянькой выбежали какие-то две девки, но Максим их не знал и никогда до этого не видел.
Не успела улечься пыль, поднятая его возком, как на тройке гнедых примчался Кешкин дед.
Вот кто ничуть не изменился.
– Изот Михеич! – увидев его, воскликнул Максим. – Мне кажется, ты умудрился даже время перехитрить… – обнял его худую спину.
– Да какие в нас хитрости, – потупился тот, откашлявшись и с удовольствием прикидывая, что барчук стал важным господином, а старосте большого барина и почета больше.
А когда, засуетившись, подхватил саквояж, чтоб помочь внести его в дом, лицо его приняло такое блаженно-восторженное выражение, что Максим рассмеялся, подумав: «Нюхом чует, старый черт, за что хвататься».
После того, как староста брякнул саквояжем, ставя его в комнате, и потер усталую руку, он почувствовал к его высокоблагородию безграничнейшее уважение, а когда увидел заслуженные им награды, то просто стал преклоняться перед барином.
Отдохнув и пообедав, Максим решил оглядеть свое имение.
Изот специально ждал его, чтобы сопровождать.
Начали они с конюшни.
– Рысака Гришки нет! – сообщил староста. – Продать пришлось, – и на вопросительный взгляд Рубанова добавил: – Старый стал, болеть начал. А заместо него вона каку красавицу приобрел, – хлопнул по крупу нервно задрожавшую атласной кожей и заплясавшую на задних копытах кобылу. Кукушкой зовут!
– Какой кукушкой? Отродясь у меня не было кукушек, а только гришки…
«Но это же кобыла… – задумался он и тут же решил назвать ее Грешиней – от слова "грех". – Все-равно когда-нибудь согрешит, и на Гришку похоже».
В деревню поехали на дедовой тройке. Правил он, как заправский ямщик.
– Сколь за день-то ездить приходится… – объяснял дед. – То поля поглядеть, то лесное хозяйство проверить, то мельницу, то заводишко… Маета, словом! – довольно говорил он. – А вот андбар, где я зерно храню, когда по уезду скупаю… А затем купцам продаю, но уже за другие деньги…
Деревенька-то, вишь как разрослась? Почти триста душ на тебе таперь числится… И души все работящие и крепкие.
А вот и винокуренный заводишко. – Радостно зачмокал на лошадей староста. – Как ягоду соберем, вино гнать начну. Деньга пойде-е-ет!..
– То-то смотрю, более пятисот рублев прислать не в силах?! – улыбнулся Рубанов.
– Да на кой они вам при таком-то саквояже?..
А этот длинноволосый кто будет? – перевел разговор на безопасную тему староста.
– Архитектор.
– А на кой ляд нам этот анхитектор? Только деньги лишние платить. Я и без него все построю.
– Архитектор надобен для возведения церкви и нового барского дома.
– Да зачем нам церква… и домишко еще крепок! – начал было
Изот.
– Это чьи ж такие хоромы?! – прервал его Максим. – Губернатор, что ли, летний дом построил?
– Моя избенка! – скромно потупился староста, отводя взгляд от крепкого и просторного двухэтажного дома под блестящей жестяной крышей со здоровенным медным петухом на коньке. – А вона невдалеке – кабак! – попытался еще раз сменить тему.
– Не юли! Проверять книги не стану, но барин не должен жить хуже старосты! Или не так?
– Тах-то, тах-то! – понурил голову приунывший Михеевич.
– А теперь можно и кабак посмотреть.
Питейное заведение понравилось Рубанову больше всего.
«Как Шалфеев подчистую выйдет, поставлю его кабаком командовать, – подумал он, – ежели, конечно, Оболенский место не отобьет…»
После кабака посетили торговую лавку, стоявшую у дороги при въезде в деревню. Торговал в ней разбитной молодой парень. Увидев, что староста мигнул ему, он бодро подхватил отрез ткани и затараторил:
– Господа честные покупатели… В лавку просим! Есть у нас атласы и канифасы, всякие дамские припасы – чулки, платки, батисты. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману.
Сдачи не даем и мелких денег не берем!
– Силен аршинник, – похвалил парня Рубанов и протянул полтину, чем испортил настроение старосте.
«Вона как деньгами сорит… Лучше бы мне дал!»
– А теперь просим в избу поужинать что бог послал, – пригласил он барина.
Хотя Максим и очень устал, однако отказать почел не удобным.
Прислуживали обе снохи. За время, что Максим их не видел, они стали ядреными сорокалетними бабами, с которыми и сейчас не грех было бы сходить в баню. Поймав себя на этой крамольной мысли, он даже покраснел.
Пока ужинали, Рубанов узнал, что ему принадлежат торговые лавки в уездном и даже губернском городах.
– Торговлишка идет бойко, – докладывал чуть опьяневший Изот.
– Людишки в Рубановке веселы, сыты и довольны, хотя в уездном городе нас считают бедными. И бог с ними… – ехидно произнес он. – Ан нет! У мужичков наших и хлебушко имеется в андбаре, и скот в зимнице стоит, и сани с телегами под навесом. Всего вдосталь у рубановских мужичков!.. Из-за этого и подати они исправно платят. Денежки-то в карманах водятся.
Лаптями и сбруей на ярманке не торгуют… Работать надо. А кто все ж надумает продать, так на то приказчик в лавке имеется. Продаст за малую мзду.
А в уездной газетенке господа про нас пишут, что скота в Рубановке мало, коль не торгуют, и промыслы пали.
Приехали бы, сукины дети, да поглядели…
А на кой наш мужик станет скот или телеги без нужды продавать?
В соседних деревнях – Чернавке там аль Ромашовке – как?..
Ихний староста за податями придет, а у крестьян денег нема.
В кармане - вошь на аркане, и та голодная…
«Так ступай, черт драный, да коровку продай!» – велит староста.
Ну, мужик, понятное дело, почешет в затылке – и в уездный город на базар. А господа отметят, что богатющий в Чернавке аль Ромашовке мужик пошел – скот продает от излишества.
Через некоторое время староста за оброком идет, а денег, мать иху растудыт, снова нет…
«Ну так ступай, в крестовину-железяку мать, телегу али сани продавай!» – велит он.
На базаре умнющие господа посчитали и в газетке тиснули, что промыслы в гору идут и всего у мужиков – страсть сколько, коли на продажу тащат… Тах-то вот!
Только жалко, помирать скоро… – пустил он слезу, – кто после управлять станет? Кабы не немец какой… – с опаской произнес он. – Все профукает.
– Немцев мне только и не хватало! – закусил водку осетровым балыком Максим.
После этих слов староста заметно повеселел.
– Сынка на смену готовлю, – будто так, между прочим, произнес он и озабоченно заглянул в глаза барину – одобрит ли? – Скоро к внучку, Кешке, уйду! – попытался разжалобить сердце Рубанова, и это ему удалось.
– Давай, дед, выпьем за храброго воина и твоего внука!
О делах говорить не хотелось. Было приятно сидеть вот так, по-простому, грустить об ушедших, думать о живых и радоваться, что завтра наступит полный неизведанного и приятного новый день.
– Ладно! Когда помрешь, тогда и поговорим… – обнадежил старосту Максим, и тот надолго задумался, как это будет выглядеть.
Прощались на высоком просторном крыльце, пахнущем сосновой смолкой. Провожать гостя дальше Изот был уже не в состоянии.
– Сынок домчит! – заплетающимся языком сообщил он и, когда разнеженный Максим с помощью Кешкиного отца устраивался в возке, произнес:
– С самой зимы, почитай, в своем именье генерал с дочкой живут! – махнул он рукой в сторону Волги.
Максим даже протрезвел:
– Ромашовы?
«Да кто же еще-то!» – подумал он.
– В отставку вышли его превосходительство! – раскачивался на крыльце староста.
Дома, утопая в мягкой перине и с удовольствием ощущая кожей прохладную чистоту льняного постельного белья, Максим наслаждался знакомым с детства хриплым боем часов, ночным скрипом половиц, вспоминал, как жутко от этого было в детстве, и даже хлопающая от ветра оторванная ставня не портила настроение, а наоборот, навевала приятные ностальгические чувства.
Не хватало одного, самого главного – родителей!..
Пуст был без них отчий дом…
Утром следующего дня Рубанов решил ехать на поклон к отцу с матерью и велел Агафону заложить тройку.
Прослышав про это, старая Лукерья стала слезно просить «внучка» взять ее с собой.
– Этого черта ить не допросишься – к дочке свозить! Ему бы, иродовой душе, лишь бы ничего не делать да нюхать свой табачище!
«Еще одну полезную привычку Агафон приобрел…» – с улыбкой отметил Рубанов.
– Ну, коли так, бабушка, то садитесь в коляску, – согласился он.
День выдался славный. Уже с утра солнце на совесть взялось за дело, Максиму было жарко в парадном колете, но он не решился расстегнуть его, а то вдруг отец осудит, подумает, что сын уставную форму одежды не соблюдает.
Поэтому, несмотря на припекающее солнце, он стоял перед двумя крестами, вытянувшись во фрунт, в наглухо застегнутом колете и прижимал к груди офицерскую шляпу.
Склонив голову, разглядывал веселую зеленую травку, покрывавшую два холмика, и стоявшую на коленях, громко причитавшую няньку.
Огромные дубы и липы слабо шелестели над головой.
«Отцовский крест совсем почернел от дождей, – подумал он, – а мамин – будто вчера поставили… – Сглотнул комок в горле. – Я – боевой офицер! Мне негоже…» – растер кулаком набежавшую слезу и вдруг почувствовал себя потерявшимся в этом мире одиноким маленьким мальчиком – и молча плакал, больше не вытирая слез.
После кладбища, оседлав Грешиню, носился по полям, уговаривая себя успокоиться, и остановил вздрагивающую боками и роняющую пену с губ лошадь на крутом берегу Волги. Всмотрелся в далекий и недоступный противоположный берег.
Ночью, раскрыв окно, долго не мог уснуть, вдыхая запах цветущих яблонь, груш и вишен из запущенного сада за домом.
Соловьи и акации пьянили голову.
Хотелось молиться, мечтать и любить!..
Несколько последующих дней вместе с архитектором выбирали место под церковь и дом. Свой старый дом Рубанов ломать не решился и для нового выбрал место рядом, пожертвовав кусочком сада.
– Станете без меня строить, так не дай бог хоть одну акацию загубите, – предупредил длинноволосого мэтра от архитектуры.
Тот согласно покивал головой и, ухватив рукой свое худое лицо, принялся усиленно о чем-то размышлять.
На эскизе дом Рубанову нравился. Особенно четыре крепких каменных колонны, поддерживающие балкон.
«Эти уж не упадут и не потеряются», – думал он.
– Арку тоже не трогайте, – распоряжался Максим, – можете только ворота навесить.
Для церкви место искали дольше. И подсказал его Изот.
Храм решили возводить на зеленой возвышенности, расположившейся неподалеку от Волги между Рубановкой и усадьбой.
Староста постепенно начинал загораться идеей.
«К тому же из прибыли отчислять не придется», – радовался он.
«При церкви склеп возведу… Туда потом деда с родителями перенесу и самому местечко найдется», – думал Максим.
А по ночам с ума сводили акации и соловьи…
Не спалось и Мари. О приезде молодого барина она узнала уже на следующий день.
«Он здесь, рядом!» – отчего-то замирало сердце.
И по ранней утренней прохладе, накинув на ночную сорочку шаль, босиком бежала по росе через сад в дальнюю заброшенную беседку у заросшего тиной пруда и там, поджав ноги и укутавшись в платок, встречала зарю, слушая соловьев и считая годы, предсказанные гулкой кукушкой, куковавшей где-то там, вдалеке, может даже, в Рубановке.
Вдыхая аромат сада, она наслаждалась одиночеством, деревенской тишиной, плавным падением капель росы с мокрых листьев и Его Присутствием…
От всего этого было так чудно-хорошо, что хотелось молиться, плакать и любить!..
Однако день проходил за днем, а с визитом в Ромашовку никто не ехал. Напрасно Мари выходила к чугунным воротам или по длинной липовой аллее шла к белой каменной беседке и оттуда глядела на Волгу и Рубановку на другом берегу.
«Господи!.. – беззвучно молилась она. – Ну что Тебе стоит… пусть он приедет сюда…»
И то ли была услышана ее молитва, то ли вдруг Максим почувствовал непреодолимое желание помолиться за преподобного Варнаву Ветлужского, двадцать восемь лет проведшего в пустынном месте близ реки Ветлуги на горе Красной, но 11 июня, в день святого апостола Варнавы, надев белый парадный мундир с орденами, он отправился на лодке в ромашовскую церковь.
На весла посадил похмельного Агафона, и тот, пыхтя и сопя, бодро прогреб с полверсты, а затем спекся, и лодку стало сносить по течению.
«Так вместо Ромашовки в Астрахань попадешь». – Сменил его Максим, и вторую половину пути греб сам, протерев на ладонях белые парадные перчатки и забрызгав лосины.
Дабы просохнуть, в гору поднялся пешком, хотя по пятам за ним следовал ромашовский мужичонка на худой кляче, запряженной в скрипучую телегу, и скрипучим под стать телеге голосом канючил сначала гривнягу, затем пятачок, а на вершине горы предлагал за копеечку отвезти барина «хоть к черту на куличики…».
Копеечку Рубанов ему принципиально не дал и, сопровождаемый прилипчивым мужичком, мечтавшим обмыть страдания святого старца, пешком добрался до церкви, где щедро одарил нищих, гордых своими культями и незаживающими гноящимися язвами, которые они старательно поддерживали в прекрасном рабочем состоянии, чтобы те не дай бог не зажили и не лишили их владельцев стабильного куска хлеба.
Преподобный Варнава, помня свое одинокое сидение на горе, расчувствовался и надоумил посетить в этот день церковь отставного генерала с дочкой. Мари и Рубанов сразу увидели друг друга и замерли, удивляясь, может ли такое быть…
Глядя на ее лицо, он подумал, возможна ли на этом свете подобная красота, и склонил голову, словно перед иконой.
А она, глядя на его склонившуюся голову, подумала, что это сон… Всего лишь прекрасный сон, навеянный огоньками свечей, душистым сумраком церкви, ликами святых и напевными звуками православной молитвы.
Перекрестившись и не понимая что делает, она зажгла тонкую свечу от другой и что-то зашептала, глядя на лик Христа, слушая и не слыша голос священника, а в душе все пело… и звонили малиновые колокола!
И когда после службы вышли из церкви, она по-прежнему боялась, что вот сейчас дивный сон закончится, и она проснется…
Будто откуда-то издалека услышала голос отца, что-то говорившего Ему о чинах и наградах, и слышала Его голос, что-то отвечавший отцу…
Затем он повернулся к ней и замер…
Смущаясь и делая безразличный вид, она протянула чуть вздрагивающую руку, другой рукой опираясь на зонтик, чтоб не потерять сознание и не упасть, любуясь им, стараясь скрыть это – и не умея…
Взгляд ее застыл поверх его головы, когда он склонился и, ласково приняв ее ладонь, нежно прикоснулся к руке таким романтичным и в то же время благоговейно-утонченным поцелуем, что она с трудом справилась с задрожавшими губами…
Солнце сверкало, просвечивая его волосы и делая их блестящими, словно ангельский нимб.
Отпустив ее руку, он выпрямился, хотел что-то сказать и, встретившись с ее взглядом, как когда-то давным-давно, утонул в нем, растворился и, забыв все на свете, любовался ее глазами, пил из них счастье… все глубже и глубже погружаясь в зеленую пучину любви…
47
«Ну зачем, зачем, зачем все это снова?!.
Опять эти зеленые колодцы глаз… Господи! Ведь я же утону в них…» – метался Максим по комнате вечером.
Неожиданно собрался дождь и забарабанил по крыше свой извечный мотив.
Из ящика стола Рубанов достал и положил перед собой привезенный из Петербурга один из двух английских пистолетов, подаренных в свое время князем Голицыным.
«Буду глядеть на вороненый ствол и вспоминать его зимний шепот». – Уселся в кресло и закурил трубку, вздрогнув от оглушительного выстрела грома.
Гроза бушевала над Рубановкой.
«Хватит! Один раз уже было…»
А утром в распахнутое окно тянуло божественной свежестью июньского дождя, чистого неба и мокрой травы.
Волшебные рубановские соловьи пели гимн солнцу, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы, и сводил с ума запах умытого сада…
«Господи! Как необъятно прекрасен твой мир!..» – думал он, седлая Грешиню, и мчался по спящей еще деревне в сторону молчаливых полей и темнеющего вдали леса.
Когда медленно возвращался обратно, крестьяне запрягали лошадей в телеги, а бабы выгоняли со двора коров.
Бородатый пастух для острастки громко щелкал бичом.
И от всей этой мирной сельской картины на душе у Рубанова делалось спокойно и радостно.
День он проводил то с архитектором, то с Изотом, стараясь не думать о Мари, но часто ловил себя на том, что нет-нет, а глянет на другой берег Волги, где в мареве солнечного дня терялась Ромашовка.
Забывал он о Мари и сельской идиллии лишь тогда, когда архитектор и староста начинали совместно решать какой-либо финансовый вопрос.
Староста все хотел достать подешевле, но худшего качества, архитектор для своего творения требовал лучший, но самый дорогой кирпич и другой строительный материал.
В данном вопросе Рубанов всегда был на стороне архитектора.
– Скользкий, как заплесневелый огурец! – жаловался тот на старосту.
Изот привез из уездного города подрядчика и старшину строительной артели, чтоб познакомить их с барином и чудаковатым зодчим.
Архитектору, разумеется, подрядчик не глянулся.
– Лиса в сравнении с ним выглядит много простодушнее! – доказывал он Рубанову, но Максим утвердил выбор старосты.
– Хозяйственные вопросы на нем, – отвечал скандальному мэтру.
«Не простое это дело – строительство! Но я хотел нервишки пощекотать…
На войне, оказывается, спокойнее было. Возможно поэтому прадед и не осилил дом…»
В конце месяца крепкий малый из ромашовской дворни привез Рубанову письмо от генерала, из которого следовало, что у его дочери завтра день ангела, и по сему случаю съедутся все ближайшие соседи: «А вы один из них…» – читал Максим, размышляя, ехать или нет.
«Поеду! – решил он. – А то неудобно получится. – Убрал в ящик стола послание, а сверху положил напоминающий о благоразумии пистолет, велев Агафону тотчас заложить тройку. – Слетаю в уездный городишко и куплю какой-нито подарок. – Сыпанул в карман горсть монет из саквояжа. – А завтра пораньше проснусь и нарву полевых цветов…»
Ранним утром его разбудил Агафон, притащивший отполированные ботфорты, и заплетающимся языком доложил, что чистил их всю ночь.
– Ну тогда ступай отдохни, – велел ему Максим, быстро одеваясь.
«Пора за цветами ехать».
Днем, отправляясь в Ромашовку, на весла посадил двух крестьян, оставив Агафона дома.
«А то с ним моряком станешь!.. – усмехнулся он. – Следует быть развязным до хамства, дабы она не имела на меня видов, ежели, конечно, оные имеются, – разрабатывал план действий. – Главное, не глядеть в ее глаза. И ежели сумею, вручу имениннице собственные ее письма, писанные Волынскому».
На ромашовском берегу его поджидала коляска с кучером, на которой и добрался до усадьбы.
Перед домом уже стояло несколько экипажей. Солидно выбравшись из коляски, он важно прошел в уважительно распахнутую толсторожим лакеем в бакенбардах дверь и не спеша поднялся по ступеням лестницы, где встречали гостей генерал с дочерью. Неподалеку от них стояли две молоденькие девицы.
Прежде поклонившись Владимиру Платоновичу, он повернулся к Мари – и со словами: – О радуйся, мой друг, прелестная Мария! Ты прелестей полна, любови и ума. С тобою грации, ты грация сама! – преподнес имениннице букет ромашек на длинных стеблях и цепочку с золотым сердечком с крупным бриллиантом посередине в сафьяновой коробочке, глядя при этом не на виновницу торжества, а на двух подруг.
От белой формы столичного гвардейца у барышень заблестели глаза. И на удивленный взгляд Мари ответил:
– Да Нарышкин все! Исхитрился вбить в мою голову вирши Батюшкова. – Поклонившись еще раз, прошел в зал, так как подошли с поздравлениями другие приглашенные.
У дивана лежали три красивые борзые, и мужская половина активно обсуждала их стати.
Женская половина с таким же жаром принялась обсуждать рубановскую стать.
– …Тот самый, – услышал он шепот, – хорош, хоша и веник подарил…
«Клуши провинциальные, – беззлобно ругнулся Максим. – А генерал сделался настоящим русским барином». – В свою очередь стал разглядывать собак. Они показались ему интереснее женщин.
Тоже, что ли, псину завести? Да ведь не успеет вырасти, как я уеду».
Подошедший в это время Ромашов представил его гостям, думая про себя, что наград у парня поболе, нежели у предводителя дворянства и уездного головы вместе взятых.
Мари к Рубанову не подошла.
«Наверное, все гостей встречает», – подумал Максим.
За столом его посадили неподалеку от именинницы рядом с лысым капитан-исправником, и тот завистливо принялся разглядывать рубановские ордена.
На груди доблестного защитника правопорядка, соперничая с лысиной, сверкала единственная медалька.
«Блестит, как начищенная розгами крестьянская задница! – подумал Максим то ли о медали, то ли о лысине. – Слава Богу, устриц не подают…» – развеселился он, поймав взгляды двух юных девиц.
Мари хмурилась, опустив глаза в тарелку.
– Господа! За именинницу! – поднявшись из-за стола, предложил тост Рубанов.
Его шумно и весело поддержали.
Неожиданно для себя Максим стал центром внимания. Гости с интересом расспрашивали его о баталиях, в которых он участвовал, и о Париже.
Правда, был еще молодой очкарик, умно рассуждавший о Гете, Байроне и Руссо, но у него не имелось даже вшивой медалюшки капитан-исправника, поэтому общество очкастая личность не интересовала, и Максим даже догадывался, что многие из присутствующих полагают, будто названные им фамилии принадлежат столичным генералам…
«Вот кого Мари надо при ее-то начитанности, – усмехнулся он, глянув на именинницу. – А я – что? Только руби-стреляй, – с гордостью подумал о себе. – Университетов не кончал, потому и не такой зануда, как этот очкастый умник».
Когда, несколько насытившись, гости стали откидываться на спинки стульев и ковыряться в зубах, на хорах заиграла музыка.
«Музыканты явно не столичные!» – подумал Рубанов, тоже откидываясь на спинку стула.
День выдался жаркий, вечерняя прохлада пока не наступила, поэтому пил он в весьма ограниченных количествах, чего не скажешь о местных помещиках. Даже генерал принял больше положенного и, взяв дочь за руку, решил открыть танцы.
Танцевать в такую жару гости были явно не расположены, но коли Владимир Платонович пожелали-c, медленно выползали из-за стола и вяло приглашали своих потных жен.
Максим вновь наткнулся на смешливые взгляды юных девиц. Они тут же сделали вид, что это случайность, прыснули в ладошку и стали о чем-то оживленно беседовать.
Наблюдавшая за этим безобразием именинница еще более насупилась.
Очкастый эрудит поднялся из-за стола одновременно с Рубановым и, бодро переставляя тонкие ноги в клетчатых панталонах со штрипками, направился к подругам.
С другой стороны к ним шел Максим.
У девицы, сидевшей со стороны «академика», настроение заметно испортилось, зато другая возликовала.
Максиму было абсолютно безразлично, с кем танцевать, но барышни придерживались другого мнения.
Не посмев отказать, понурившись, одна из них пошла с «ученым», зато другая, раскрасневшись лицом и счастливо улыбаясь, доверила свою руку гвардейскому ротмистру.
Музыканты изо всех сил пиликали на скрипках.
Танцевал Максим, как всегда, превосходно. А с умелым партнером даже дилетант выглядит мастером.
Словом, девица упоенно кружилась в танце, закрыв глаза и забыв обо всем на свете.
«Несомненно, эту минуту она станет помнить всю жизнь! – со скукой подумал Рубанов. – Черт-дьявол! Я становлюсь либо снобом, либо циником», – скептически подумал о себе, провожая улыбающуюся партнершу к ее месту.
«Профессор», победно поблескивая стеклами очков, вел грустную подругу.
Немного растрясшись, гости с новыми силами принялись за питье и еду.
Вечерело! Появились первые жертвы.
Двое лакеев унесли отдыхать капитан-исправника, а толсторожий в пушистых бакенбардах стоял за спиной предводителя дворянства, с минуты на минуту намереваясь подхватить и его.
«Ему бы вилы в руки – и словно дьявол грешника подстерегает», – улыбнулся Максим, поднимаясь, чтоб пригласить на танец подругу своей первой партнерши.
Он немного опьянел, и ему становилось весело.
Подошедший в эту минуту лакей с таинственным видом налил в фужер шампанское и протянул вместе с какой-то бумажкой.
У Максима хватило ума не прочесть ее тут же. Записка оказалась от Мари.
Выйдя в сад, якобы освежиться, он три раза внимательно прочел ее и уразумел, что его ждут в знакомой ему бывшей детской комнате и просят явиться тайно, по возможности без свидетелей, дабы не скомпрометировать даму.
«Черт-дьявол, как шпоры гремят», – осторожно ступал он по паркету, стараясь мягче ставить ногу.
Миновав зал, где на диване храпел капитан-исправник, Рубанов толкнул дверь и шагнул в комнату Мари. Окна здесь были плотно занавешены портьерами, и Максим даже несколько растерялся в полумраке помещения с тусклой свечой в дальнем углу, не зная куда идти и по привычке ожидая нападения собачонки.
Однако лая он не услышал, а почувствовал, как горячие пальцы взяли его за руку и подвели к небольшму дивану с деревянными подлокотниками.
Глаза его постепенно привыкли к темноте, и он ясно уже различал предметы и тонкую фигурку Мари.
«Больше дверь камнями не закладывает», – с грустью подумала она, усаживая Рубанова на диван. Взяв канделябр, подошла к тусклой свечке и зажгла от нее четыре новые свечи.
Не спеша села в кресло напротив Максима и замолчала, разглядывая его лицо.
– Гм-м! – откашлялся тот, не зная с чего начать разговор.
«А с какой стати я должен начинать? – подумал он. – Она меня пригласила, так пусть первая и говорит», – расслабился ротмистр, забрасывая ногу на ногу.
«Господи! Ну почему он так строг и серьезен? Ну почему не шутит, как прежде, – закусила губы Мари. – И к чему я его позвала?.. Ведь он стал совсем чужой!» – Глаза ее набухли слезами.
В этот момент Максим отвел взгляд от ромашек в высокой вазе, стоявшей на столе, и увидел подаренный медальон, висевший у нее на груди, а затем случайно встретился с ее полными слез и такими прекрасными глазами.
«Господи! Эта роса на зеленой траве…» – не понимая, как получилось, он уже стоял на коленях, прижимаясь лбом к ее ногам.
– Простите, Мари… Простите меня!..
А она гладила его волосы и, задыхаясь от слез, шептала:
– Отчего вы меня так мучаете?..
Это после он прочел: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».
– А сейчас я покажу вам мою любимую беседку в саду. – Немного успокоившись, только ей известными переходами вывела Максима из дома в сад и, все еще шмыгая носом и вытирая согнутым указательным пальцем глаза, повела его, держа за руку, по узкой дорожке, обсаженной деревьями. Через некоторое время дорожка перешла в тропинку, а сад постепенно превратился в дикий лес.
Справа от себя Рубанов увидел затянутый тиной пруд, а неподалеку от него деревянную, давно не крашенную беседку.
– Вот! – гордо произнесла она, будто перед ними виднелся королевский замок. – Правда же, прелестно? – По-прежнему не выпуская руку, потянула его в беседку.
То ли от буйного цветения сада, то ли от выпитого вина, то ли от близости Мари у Рубанова закружилась голова, и он тяжело опустился на деревянную скамью. Мари присела рядом и, повернувшись к нему, легонько стукнула ладонью по щеке.
– Снова кровь! – с дрожью в голосе произнесла она, и Максим увидел раздавленного комара и капельку крови на ее ладони. – Когда в тот раз я увидела красную розу у его сердца, мне стало плохо, и я отчетливо поняла, что он погибнет… И это случилось… Коли не на дуэли, так в бою! – стерла кровь платком. – Полагаю, между нами не должно быть недоговоренности, ведь так?
«Что ж, она права!»
– Не знаю, прав ли я сейчас. – Расстегнув пуговицы колета, достал письма в бурых пятнах, причем одно из них было располосовано почти напополам… – поверьте, Мари, я не хочу сделать вам больно… Сейчас не хочу… – уточнил он. – Волынский умер на моих руках и перед смертью наказал попросить у вас прощения и передать эти письма.
Может, и не надо было?..
Кровь на них не только его, но и моя!..
«Мальчишка! Не могу без бахвальства», – обругал себя.
– Простите нас обоих! – Взял ее руку и, склонившись, коснулся губами.
Слезы побежали из ее глаз, и, обхватив шею Максима, она зарыдала, прижимаясь мокрой щекой к его груди.
«Волынского оплакивает?.. Или нашу любовь?»
– И вы простите меня… – заикаясь, сквозь слезы произнесла она. – Я молилась за вас… Обоих… – Еще сильнее зарыдала она.
– Ну все? Все! – разомкнул ее руки и поцеловал мокрые глаза. – Полно плакать. Его не воротишь…
– Глупый! Я молилась и за вас! – снова спрятала лицо на его груди. – На именинницу-то не похожа стала… Страшная, как ведьма, да? – подняла она лицо и глянула на Рубанова.
– Ты сама не знаешь, как прекрасна! – Коснулся губами ее щеки. – Как тебя увидел, с той минуты и люблю!..
Глядя в ее глаза, простил ей и Волынского, и ту зимнюю ночь, и шепот пистолета.
– Да! С той поры и люблю! – то ли для нее, то ли для себя повторил он, и на этот раз губы его прижались к чуть распухшим от слез губам, и она с трепетом ответила на поцелуй.
– А отчего же тогда столь вызывающе вели себя и даже не пригласили на танец? – не успев набрать после поцелуя воздух, приступила она к допросу.
– Ну-у! Дык! – развел он руками, напомнив папенькиного лакея в пушистых бакенбардах, и ее неудержимо разобрал смех.
«Ну вот! То плачет, то смеется! Не в моих силах понять женщин, по крайней мере, ближайшие пятьдесят лет…»
– Когда еще вас увижу и где? – подошел к практической стороне вопроса, подумав, что теперь ему не по годам и не по чину, коли перед носом станут захлопывать дверь.
– Здесь же! Каждый третий вечер, – ответила она, подхватив его за руку, и быстро повела в противоположную от дома сторону по извилистой тропинке с кустами смородины и сирени по сторонам.
«Будто ожидала!» – поразился он, сминая ботфортами подорожник и лопухи, обильно произраставшие в неглубоком овраге за прудом, куда привела их тропинка.
Через некоторое время они оказались на поляне, и Максим увидел Волгу.
– Это в стороне от деревни, – стала объяснять Мари. – Вас здесь никто не увидит. Вечером приплывете сюда, и тропинка приведет вас к беседке. Только на этой полянке не останавливайтесь – тут же муравьи нападут, – рассмеялась она. – Да-а! Вот еще что! Не одевайте эту ужасную форму с орденами… Вас в ней за две версты заметно.
«Хм-м! Ну что ж. Оденусь, как очкастый "гений". Целую диспозицию передо мной развернула: откуда зайти, куда прийти, словно не с дамой, а с начальником штаба разговариваю», – улыбнулся он.
– Что?!.
– Да так! Штаб армии вспомнил…
– Вы, мужчины, непонятные существа! – сделала она глубокомысленный вывод и потащила его обратно.
– Зато уж вы, женщины… – не нашел он слов, способных охарактеризовать слабую половину человечества.
Потревоженные лягушки в пруду дико вопили.
«Дурак! Сколько времени потерял… Ведь я лишь ее люблю. А с остальными встречался, дабы узнать, что в мире нет прекраснее тебя, как, наверное, сказал какой-нибудь поэт», – рассуждал он по дороге, вернее, по тропинке к дому.
Все прошло удачно. Их никто не хватился, кроме двух юных барышень.
– К старой деве прилип! – проходя мимо них, услышал он язвительный шепот.
Вечером после дня ангела, для того чтобы все обдумать, Максим оседлал Грешиню и помчался через Рубановку к зеленеющим полям и лесу. По деревне недавно прогнали стадо, и бабы доили коров.
Пряно пахло пылью, молоком и счастьем!..
48
Староста с подрядчиком вели активную подготовку к строительству. Один платил деньги, другой поставлял материал.
Для доставки наняли в Чернавке и в уездном городе всяких бездельников, и они разгружали баржи, причаливавшие в полуверсте от барской усадьбы, – там имелся удобный пологий спуск и до будущей церкви было рукой подать. Рубановские крестьяне, разумеется не за бесплатно, в свободное от страды время, из отпущенного старостой леса мастерили тяжелые долгуши, на которых и возили строительный материал.
Для перевозки Изот купил несколько крупных лошадей-тяжеловозов.
У Максима осталось три фунта золотых монет, а саквояж с остальными деньгами как-то незаметно перекочевал к старосте, и тот единолично распоряжался огромной суммой – по предварительным подсчетам именно столько требовалось для строительства церкви и дома. Тут же в Рубановку зачастили какие-то темные личности из уездного города, и до Максима дошел слух, что староста дает деньги в рост под приличные проценты, а кому идут эти проценты, для всех, кроме старосты, оставалось загадкой.
«Все может быть! – рассуждал Рубанов. – Сразу-то вся сумма не нужна, и свободных денег у него полно. Да черт с ним… Вот ежели не построит, тогда и спрошу!»
А через каждые три дня вечером Агафон перевозил его на лодке к ромашовскому берегу.
«Кто кого перевозит – еще вопрос!» – усмехался Рубанов, так как вторую половину пути обычно греб сам.
Три дня с нетерпением ожидал он этой встречи, и поэтому, когда брался за весла, у Агафона ветер свистел в ушах. Так, по крайней мере, он сам потом говорил. Судно шло со скоростью боевого корвета под всеми парусами и при попутном ветре.
«Адмирал Чичагов с радостью бы взял меня в матросы», – усердно работая веслами, рассуждал Максим.
Напоминающий о благоразумии пистолет, разумеется, он давно убрал на дно своего походного баула.
«Странно у нас с Мари получается… Вся наука де Сентонжа летит в трубу!»
Как всегда, лето пролетело незаметно. Дни становились короче, а ночи длиннее и прохладнее. От занятий греблей Максим раздался в плечах, а мышцы стали железными. Он один свободно вытаскивал лодку на песчаный берег.
Парадный мундир сделался мал, и Максим с трудом застегнул пуговицы, когда однажды направился с официальным визитом в Ромашовку.
«Черт-дьявол! – изумился он. – В чем же я на службу пойду в Петербурге?»
Владимир Платонович встретил гостя без особой радости, но с уважением, и даже отпустил с ним дочь на верховую прогулку.
«Слава Тебе Господи! Хоть рядом лягушки не квакают, – иронично улыбнулся Рубанов. – Теперь, как их услышу, сразу с Мари целоваться хочется! Даже если ее поблизости нет…»
Изот привез откуда-то француза портного и знатного сукна на колет. Поэтому сентябрь Максим активно посещал генерала в новом уже колете, а в октябре попросил руки Мари.
Ответ Ромашова звучал непреклонно и категорично – «Нет!!!».
Не помогли ни слезы дочери, ни уговоры прослышавших об отказе уездного головы и лысого капитан-исправника с женами. Довольны были лишь две ее подруги.
Весь октябрь уездное общество ждало развязки интриги и осуждало генерала: «Зазнался» и «От добра добра не ищут» – был однозначный приговор уездных дам. – «Ну почему нашим дочерям такое счастье не привалило?»
Ромашов хорошо знал, чего можно ожидать от Рубанова, и не сводил с осунувшейся дочери глаз, никуда не выпуская ее из дома.
Максима не велено было пускать даже в Ромашовку.
«Самодур!» – думал о несостоявшемся тесте ротмистр, забыв про сон и потребляя фунты табака.
Старый колет опять стал впору.
«Ну, погоди! Поскрипишь еще зубами!» – Сжимая и разжимая кулаки, ходил Максим по комнате, отбрасывая ногами попадавшиеся по дороге стулья.
– Готовьте все к отъезду! – распорядился он.
Нянька не знала, как помочь горю своего ненаглядного «внучка».
Агафон, проснувшись, начинал рабочий день с похода к берегу Волги, где, скопив во рту приличное количество слюны, смачно плевал в сторону Ромашовки.
Староста готовил повозку, лошадей и припасы. Всё – на двоих человек.
Несколько раз Рубанов переплывал на лодке Волгу и поднимался в беседку, однако Мари так и не встретил. Вместо нее однажды наткнулся на гуляющего по саду толсторожего, в бакенбардах, лакея.
Увидев ротмистра, тот намылился дать деру и доложить барину, но был безжалостно схвачен, приперт к дереву и ознакомлен с гвардейским кулаком. Затем в карман его опустилась крупная ассигнация и записка к Мари.
В отличие от душегуба Церберова, толсторожий все понял правильно и купюру взял.
На следующую ночь укутанный в черный плащ и на всякий случай вооруженный английским пистолетом, Максим ждал Мари в беседке.
Моросил нудный дождь, и темень стояла непроглядная. К тому же, пока добирался до беседки, распорол о ветку щеку, и теперь она саднила и кровоточила.
«Не придет! – переживал он, прикладывая к щеке платок. – Ну зачем генеральской дочери простой дворянин и офицер? Ей графа подавай или полковника!» – поднимал в себе злость, чтобы легче было перенести потерю, коли она не явится.
Устав ходить, он уселся на мокрую скамью, завернулся в плащ и задумался.
Из-за шумевших на ветру деревьев Максим не расслышал шагов и, лишь когда ощутил на щеках ее прохладные ладони, вздрогнул от неожиданности и счастья.
– Мари! Вы пришли?! – прошептал он и поцеловал ее холодные губы.
– Что у вас на щеке? Господи! Снова кровь! – вскрикнула она и уронила намокший от дождя и крови платок.
– Пустяки! Напоролся на ветку. Главное, вы пришли! – Обнял ее, ощущая тепло женского тела сквозь влажную накидку, и сердце его чуть не лопнуло от любви к этой зеленоглазой колдунье. – Больше я вас не отпущу! Я люблю вас, Мари…
Туфли ее промокли, и она дрожала от холода. Положив руки ему на плечи и доверчиво прижавшись всем телом, замерла, ощущая в себе волну счастья и чувствуя на лице то его жаркое дыхание, то горячие губы. Ей было страшно и одновременно сладко…
– Вы правда любите меня? – прошептала она, прислушиваясь к себе, к своей душе и сердцу и понимая, что больше не сможет без него… Не проживет ни дня, ни часа, да что там час – даже минута без него делается длиною в год.
«Это, наверное, и есть любовь!» – сомневалась она, задыхаясь от счастья.
Глаза ее полнились слезами, а лицо обжигало приятное до изнеможения мужское дыхание, а нескромные, но горячие и сладостные губы искали ее губы, и глаза, и щеки, и скрученную спиралью прядь волос у виска.
«Господи! Как я люблю его!.. – подумала она, замирая от восторга. – А как же папенька? – мелькнула и тут же погасла мысль, когда он поднял ее на руки и бережно понес вниз, к лодке. – Ах! Все равно теперь!» – Плотнее прижалась к нему, чтобы унять дрожь.
В лодке он закутал ее в свой плащ, и пока Агафон, выбиваясь из сил, греб к берегу, держал Мари на коленях и покачивал, словно маленького ребенка.
Лодка причалила точно у беседки, и на едином дыхании Максим взлетел по лестнице, держа на руках бесценную свою ношу.
Дома, дрожа от холода и прогнав его из комнаты, она сняла влажное платье, накинув теплый халат, принадлежавший когда-то Ольге Николаевне, и села в кресло у печки.
Постучав, он прошел в комнату, отдал мокрое платье няньке и сел рядом, нежно проведя рукой по ее волосам, чтоб приободрить и успокоить. Чуть рассветет, и мы поедем венчаться! – тихо произнес он, глядя в ее зеленые, колдовские глаза.
«Как он просто и обыденно об этом говорит… – подумала она, зябко вздрагивая плечами и подставляя к огню ноги. – Ведь мы поедем ВЕНЧАТЬСЯ!..»
Склонив голову, он взял ее руку и поднес к губам.
– Я люблю тебя!
Она ничего не ответила.
Тогда он встал и, подняв ее с кресла, крепко обнял, больно прижавшись к ее губам своими.
Застонав, она чуть приоткрыла рот, чтобы уменьшить боль, и то ли с ужасом, то ли с восторгом почувствовала, как его язык проник в рот и бьется там, прикасаясь к ее языку.
Сердце ее сжалось, и ей показалось, что она падает, летит куда-то вниз, а по телу прошла горячая дрожь.
«А может, наоборот, я падаю вверх? Но вверх нельзя падать… Вверх можно только взлетать! Господи! Что это? – Закрыла она глаза и задохнулась, почувствовав мужскую руку на своей груди, а его губы на своем горле. – В беседке он такого не позволял. – С ужасом поняла, что халат слетел с ее плеч, и она стоит обнаженной. – Я сейчас умру от стыда» – Застонала от его рук, обхвативших бедра, и от губ.
Голова ее закружилась, и она вновь почувствовала, что летит. Ощущение было столь реальным и ярким, что она даже раскрыла глаза и вскрикнула, увидев, что он держит ее на руках и куда-то несет.
Затем она почувствовала спиной пух перины.
Она вновь закрыла глаза и закачалась на теплых волнах страха и удовольствия.
«Господи! Он тоже раздет. – С блаженством прижалась к его телу, ощущая тепло, нежность и ласку. – Боже мой! Что он со мной делает?.. Я никогда не думала, что его руки могут быть так нежны и требовательны. Я сейчас умру! – Дрожала от прикосновений губ и рук. – Это невыносимо… это невыносимо… это невыносимо, – стонала она. – О, Боже!..
Господи! Господи! Господи!.. Сейчас это произойдет… – думала она, ожидая, желая… и одновременно замирая от страха… а тело била дрожь, и она металась на жаркой перине, зарываясь в подушку, вскрикивая и выгибаясь.
Горло ее болело от густого, тягучего и раскаленного воздуха, и она хрипела, стремясь вобрать его в себя. Она задыхалась, пытаясь закричать и не умея сделать этого…
Подложив под голову руки, Максим глядел в потолок и боялся шевельнуться, чтоб случайно не разбудить ее.
Когда рассвело, он нежно поцеловал ее руку и поднялся, стараясь не касаться ее тела, почему-то думая, что она непременно испугается, коли он дотронется до нее.
Быстро одевшись, принес просохшее платье и вышел из комнаты, чтобы не стеснять Мари.
Во дворе их ожидали два возка с уложенными вещами. К тому же Изот, словно кто ему подсказал, где-то раздобыл женские сапожки и теплую накидку с капюшоном.
Усевшись в возок, Мари едва ли произнесла несколько слов, и Рубанов не тревожил ее, молча усаживаясь рядом.
Так и ехали они в каком-то недоумении нежности, чистоты и греха до чернавской церкви, где их ожидал заранее предупрежденный дьячок, за несколько золотых империалов не убоявшийся генеральского гнева.
Держась за руки, они прошли в пустую церковь, всю светящуюся от зажженных свечей, и медленно приблизились к старенькому священнику в застиранной рясе, готовясь принять от него таинство венчания.
Дальше все было как в тумане: что-то говорил священник и отвечали они.
И запах ладана… воска… и вечности…
Вышли они уже мужем и женой.
На улице рассвело, и у церкви толпились любопытные, жадно разглядывая новобрачных и с восторгом представляя, как обо всем расскажут соседям.
Новобрачные простились с нянькой и старостой, которые были у них посаженными родителями, и, перекрестясь, отправились далее, в уездный город, на одном возке, правил которым Агафон. Из уездного города они решили добираться в Петербург на перекладных.
Как после целый год судачили уездные кумушки и судили-рядили господа, Рубанов и Мари посетили несколько торговых лавок, и он купил ей шубу, платье, сапожки и целую кучу золотых безделушек.
Со слов лавочников выходило, что столичный офицер скупил товару на пять здоровенных телег-долгуш. Каждому было лестно сообщить, что молодые посетили именно его магазин и ушли не с пустыми руками.
В результате подобных инсинуаций торговля у них пошла бойко, словно в праздничные дни. Благодарные лопоухие слушатели обязательно приобретали такой же материал, или шубку, или золотую побрякушку, что купил своей милой гвардейский ротмистр.
Городишко просто трясло от прерванного сна и воображения.
Капитан-исправник хвастал, что даже раскланялся с Мари и Максимом, встретив их в лавке.
– Я сразу понял, в чем дело… Но любовь есть любовь! Не мог же я задержать влюбленных и передать деспоту отцу?!.
Среди молодежи авторитет капитан-исправника вознесся на недосягаемую высоту.
Генералу вечером он сказал, что Рубанов с его дочерью через городок не проезжали, а то бы беглецы непременно были пойманы и доставлены лично им к разгневанному отцу.
– Как же это можно без родительского благословения из дома убегать?! – честными полицейскими глазами смотрел он на Владимира Платоновича.
Общее мнение было таково – гвардейский офицер!.. Что с них взять? У них так принято. Они иначе не могут…
49
Генерал хватился дочери лишь к обеду. Сначала он думал, что она спит, и даже не стал ее беспокоить, позавтракав в одиночестве. Затем все-таки почуял что-то неладное и послал гувернантку разбудить Мари.
Та, поджав сухие губы, сообщила, что комната пуста. Тогда генерал послал слуг в сад – разыскать и привести к нему дочь.
Вместо этого толсторожий лакей принес испачканный в крови платок, рассчитывая на награду за проявленное усердие.
Когда, закрыв подбитый глаз, он улепетывал в лакейскую, то слышал позади горестные вопли Ромашова:
– Что он с ней сделал, с моей девочкой?!.
Многочисленная дворня под предводительством Владимира Платоновича на четырех судах переправилась через реку и штурмом взяла рубановский дом.
Не найдя там беглецов, разгневанный генерал велел сжечь гнездо порока.
– Разбойник! – плакала Лукерья. – Ишь! Что удумал!
«Ну, теперь-то мы его прижмем!» – радовался случившемуся присутствующий тут же староста – и помчался к себе – сочинять жалобу губернатору. В свидетелях у него были сыновья, подрядчик, архитектор, старшина артели, сами артельщики и несколько дюжин крестьян, словно случайно ошивающихся в дождь возле дома.
– А нам от этого одно лишь облегчение! – глядели они на горевший дом. – Место под строительство расчистилось…
После венчания Мари и Рубанова уезд потрясла волна похищений – это стало модным!
Через полгода даже «ученый» в клетчатых панталонах отважился… и, собравшись с духом, свистнул свою нареченную – девицу, с которой танцевал на именинах у Мари.
Другую барышню похитил гусарский поручик из стоявшего биваком близ уездного городка полка.
В столе капитан-исправника лежало более десятка жалоб, хода которым он не давал, так как знал по опыту, что через некоторое время все само собой утрясется.
А по ночам, лежа возле толстой супруги, он перебирал в памяти молодых девиц и размышлял, какую бы из них умыкнул, ежели бы не был похищен сам двадцать лет назад.
Словно во сне, добралась Мари до столицы, не заметив мест, по которым проезжала, не замечая, что ест и что пьет. Пришла в себя и несколько успокоилась лишь в крохотной квартирке Рубанова в конногвардейских казармах.
Свой дом в Петербурге Владимир Платонович продал еще в прошлом году, дабы поправить дела в разоренной французами деревне неподалеку от Москвы. Однако следом расстался и с деревней, чтоб на вырученные деньги подлатать дыры в Ромашовке.
Но даже ежели бы генерал и оставил петербургский дом, жить в нем Мари и Рубанов все равно бы не смогли.
На второй день пребывания в столице Максим снял приличную квартиру из пяти комнат у одной вдовствующей полковничихи, и они с Мари перебрались туда.
Не теряя времени, новобрачные нанесли визит Голицыным и вместе с ними – вельможе с лентой и дяде князя Петра.
На этот раз княгиня Катерина встретила Рубанова без внутреннего трепета и очень поддержала молодых.
Гвардейские офицеры безоговорочно встали на сторону Максима, а Оболенский клялся, что когда надумает совершить самую большую в жизни глупость, то поступит таким же образом, как его друг.
Через неделю в столицу прибыл рассерженный Ромашов, и его жалоба дошла до царствующего дома. Однако при дворе генерала не любили. В последнюю войну ничем положительным, в отличие от Рубанова, он себя не зарекомендовал. К тому же высоких связей не имел, и посему императору был представлен вельможей с лентой и Александром Николаевичем Голицыным как самодур, от которого даже родная дочь сбежала.
А от губернатора пришло известие, что Ромашов, словно тать, спалил огромную усадьбу и разрушил наполовину возведенную церковь. «Своими глазами видел повсюду разбросанные кирпичи, – писал губернатор. – Сие свойственно вору Емельке Пугачеву, но не русскому генералу, – докладывал он свое мнение, щедро сдобренное золотыми империалами… – Ромашов – уже съеденный пирог, а гвардейский офицер – пока ротмистр, а далее – кто знает; вращается-то он при дворе и может оказать услугу, к тому же через своего старосту вон какое подношение сделал…» – здраво рассудил генерал-губернатор.
Словом, до сведения отставного генерала высочайше довели, что прощать или нет молодых, к тому же венчанных по православному обычаю, – его личное дело, но вот разорять усадьбы не следует, и, коли пострадавший обидчика не простит, Ромашову это может дорого обойтись…
Рубанов – все простил! Ромашов его – нет!
Однако сделать против ничего не сумел и в ярости отбыл в свое поместье, решив, что дочери у него более нет.
27 июля 1817 года у Рубановых родился сын. По традиции и в память деда его нарекли Акимом, о чем и было отписано в Ромашовку.
«Так я и думал! – расстроился Владимир Платонович. – Внука, конечно, Акимом назвали. В честь покойного деда по отцу. Тоже мне – дочь!..
Слова этому супостату поперек не скажет. Могла бы настоять, чтоб мальчишку Владимиром назвали или хотя бы Платоном… – Больше на Мари он не злился. – Интересно даже взглянуть на наследника», – рассуждал Ромашов и отправил в столицу поздравление на имя Рубановых, а сам составил завещание, по которому все свое движимое и недвижимое имущество в случае смерти передавал внуку, Акиму Максимовичу Рубанову.
Через год послал дочери письмо, в котором прописал, что простил ее, и просил приехать погостить в Ромашовку. Вместе с наследником, разумеется.
Мари отписала, что непременно навестит отца, но только по прошествии года сдержала обещание.
В начале лета 1819 года старший ротмистр Рубанов взял отпуск и отбыл на родину. Настроение у Максима было прекрасное – в конце марта он стал старшим ротмистром, и жена снова ждала ребенка.
Проезжая губернский город, старший ротмистр лейб-гвардии Конного полка нанес визит губернатору, коим был с почетом принят.
Генерал-губернатор в свои сорок шесть лет уже четыре года нес тяготы новой должности, в результате чего у него появился солидный живот и строго нахмуренные брови.
Рубанов ему понравился, и вечер они провели в милой светской беседе. Губернатор угощал гостя шампанским, а столичный визитер его – свежими сплетнями.
Они остались довольны друг другом, и Максим получил приглашение бывать у губернатора по-простому, когда к тому случится оказия.
Владимир Платонович, увидев внука и взяв его на руки, прослезился и устроил дочери и зятю грандиозную встречу. Еще более грандиозную встречу устроил на следующий день барину Изот.
– Батюш-ш-шка вы наш! – шипел он, обнимая Максима.
– …И благодетель!.. – поддержал его присутствующий тут же подрядчик.
К удивлению Рубанова, староста, архитектор и подрядчик стали закадычными друзьями.
– Церковь почти готова, осталось лишь внутри расписать и колокола навесить… – докладывал староста своему господину. – Колокола уже отлили, вскоре привезут, а для росписи стен и потолка нашел чудного старца-изографа. Не церковь будет, а картинка.
– За дом, господа строители, и не принимались! – сделал Максим замечание присутствующим.
– Дом в один момент поставим, – заверил его староста, – а вот завтра глянешь, какую церкву возвели.
Постепенно и незаметно для себя Изот сделался истовым сторонником православного храма. Хозяйством он занимался ответственно, как и раньше, но уже без любви. Зато при виде церкви душа его замирала от радости, и он все силы и энергию отдавал на строительство храма, а особенно колокольни, как догадался на следующий день Максим.
Если церковь строилась в память Рубановых, то колокольню Изот воздвигал в честь своего погибшего внука Кешки.
За отливкой колоколов ездил следить лично, и между делом из меди ему отлили здоровенного петуха, в несколько раз превышающего размеры того, что у него имелся.
Но водрузить на колокольню рыжего пернатого староста не решился и прилепил его на крыше своего дома, потому как господского пока еще не существовало.
– А вот и изограф! – подвел к Максиму огромного бородатого мужичищу с тонкими женскими пальцами и то ли дурным, то ли безумным блеском в глазах.
«Ничего себе старец! – изумился Максим. – Такой, пожалуй, сумеет и конногвардейца завалить!.. Похоже, нашел его не столько церковь расписывать, сколько свой дом», – закралось подозрение в душу старшего ротмистра.
– Вот и напиши мне икону! – с сомнением разглядывая изографа, велел ему Рубанов. – Припасы все для этого имеются?
– Все есть! – зарокотал тот и принес откуда-то небольшую дощечку в ручную пядь величиной. – Грунт я кладу крепкий, – на совесть грунтовал дощечку. – Напишу я на ней лик Владычицы… Встарь перед большой работой постились и ежечасно молились, выспрашивая у Господа духовную силу, художественный разум и божественное вдохновение…
Сейчас и я пощусь, пытаясь найти в себе дивную и таинственную силу, имя коей – созидание!
Рубанов и староста оставили художника одного.
Через несколько дней он преподнес Максиму лик Богородицы, обликом своим напоминающий его мать.
Икона просто потрясла Максима, и он согласился с выбором Изота, заказав изографу расписывать церковь.
– С иконы лик перенеси на стену! – велел живописцу.
«Икону после заберу», – решил он, приказав кроме Божьей Матушки написать на стенах Николая Угодника, Рождество Иоанна Предтечи, Спасово Пречистое Рождество…
– Это непременно! А в остальном, что подскажет вдохновение художника, – распоряжался Рубанов, наслаждаясь гулким эхом внутри храма.
Артельщики доканчивали третий, последний, купол.
– Купола покроете позолотой, – велел старшине артели. – Отыщи для этого знатных мастеровых.
50
В конце сентября Мари родила мертвого ребенка – девочку. Роды были тяжелыми, и едва удалось сохранить жизнь матери. Доктора объявили, что детей она более иметь не сможет.
По времени это совпало с освящением церкви и переносом праха родителей Максима в церковный склеп.
Там похоронил он и свою дочь.
Через две недели Рубанов собрался в Петербург.
Жена поправлялась, и за ее здоровье он больше не волновался. Мари и сына Максим оставлял в Ромашовке.
За два дня до отъезда вечером вся строительная верхушка собралась у старосты, и Максим накачивал их насчет строительства дома.
– Черт знает что получается – приехать некуда! – опрокидывал в себя рюмку за рюмкой.
Когда прощались, Изот, чтоб утешить барина, рвался подарить ему самое дорогое и светлое – своего медного петуха.
– Да не нужен мне твой рыжий петух, – отказывался Максим, – когда дом построишь, я лучше конногвардейца отолью и перед окнами поставлю…
А вот ежели тысчонок десять соберешь на дорогу, то не обижусь. На следующий год двадцать вышлешь, потому как получается, что с поместья ты живешь, а я лишь с оклада…
В ноябре Рубанов приступил к службе, а вне ее – к холостяцким радостям жизни.
«Человеческая жизнь невозможна без потерь, – думал он. – искусство жить в том и заключается, чтобы помнить о пережитом, но не дать тоске раздавить себя… Следует жить!»
И опять, как и раньше до женитьбы, проводил время с друзьями, танцевал на балах, шумел в ресторанах и посещал театр. Ведь было-то ему всего двадцать шесть лет.
В театре однажды, хорошенько гульнув с Оболенским, наткнулись они на Сержа Нарышкина.
– Представляете, господа! – тихим голосом в антракте поведал друзьям Нарышкин. – В армии ходит слух, что офицерами образовано тайное общество, ставящее целью свержение монархии.
– Это же бунт! – не поверил Максим. – Офицеры не могут в этом участвовать.
– Еще как могут! Говорят, государь обо всем осведомлен, но не соглашается с Аракчеевым о принятии к заговорщикам строгих мер.
– Недаром его называют кнут на вате! – заключил Оболенский. – Ежели, все, конечно, не вымысел, а правда. По мне, что действительно портит жизнь, так это бесконечные парады.
Ну, на черта они сдались? Гвардейские офицеры из Семеновского, Преображенского и других полков в армию переводятся, чтоб подальше от столицы служить. Когда такое было? Шагистика надоела. Следует ограничить парады, а не монархию.
– Да! Благодаря Аракчееву на государя напала фрунтомания! – согласились друзья. – А не пойти ли нам за кулисы?
– Да, кстати, – вспомнил Нарышкин, – намедни мне в штабе рассказывали, будто генерал Паскевич обмолвился, что тоже, мол, насаждает строгую дисциплину, но не допускает трюкачества с носками и коленями солдат. «Но что можем поделать мы, дивизионные генералы, когда фельдмаршал Витгенштейн, например, припадает к земле, дабы проверить, насколько выровнены носки в строю гренадеров», – в сердцах воскликнул он.
Чуть не запамятовал, господа! – взмахнул рукой Нарышкин. – Прошу завтра пожаловать ко мне. Кроме вас будет присутствовать лишь Денис Васильевич. Танцовщиц не намечается, но зато и супруги не будет… Одни посидим.
– Выпиваем по какому-то поводу или просто потому, что хочется? – на всякий случай радостно поинтересовался Оболенский.
– По поводу. На пару месяцев меня командируют в Москву! – уточнил Нарышкин. – Так сказать, прощальное ревю.
«Прощальное ревю» происходило в строго мужской компании и изобиловало различными напитками. Через некоторое время хорошенько поднабравшийся князь решил проявить эрудицию.
– Господин генерал! – обратился он к Давыдову. – Слышали ли вы, что в армии образовано тайное общество?
Давыдов глянул на Оболенского, словно строгий учитель на ребенка.
– Я удивляюсь вам, князь, вы будто только проснулись, – с иронией хмыкнул он. – Да вокруг нас одни карбонарии! Лишь слепой этого не видит.
– Да где? – развеселил генерала Оболенский, покрутив головой по сторонам.
– Не стану напоминать, что мы все русские офицеры, господа! – чуть понизив голос, произнес Денис Васильевич. – Пальцев на руках у всех нас не хватит, дабы перечислить недовольных… А начать можно коли не с меня, так со старшего брата вашего командира полка Алексея Федоровича Орлова.
– Как? Генерал Михаил Орлов, который в 1814 году принимал и подписывал акт о капитуляции Парижа, заговорщик? – поразился Максим.
Ну, «заговорщик» – слишком сильно сказано, точнее, недовольный существующим положением вещей… И до такой степени недовольный, смею вас уверить, что может свободно перечеркнуть свою блестящую карьеру.
В двадцать шесть лет – генерал-майор! Мне такое и не снилось… Однако в те годы, каюсь, и я грезил конституцией и даже вместе с ним участвовал в разработке устава «Ордена русских рыцарей». Смею надеяться, что это было первое тайное общество в нашей стране.
А на следующий год Михаил Орлов пытался уговорить императора освободить крестьян… А ведь был еще только шестнадцатый год…
– Так неужели получается, что даже и вы бунтовщик? – изумился Оболенский, чем окончательно развеселил гусара.
– Хотите, я прочту вам выдержки из письма, которое недавно направил генералу Киселеву, – покопавшись в кармане, достал какой-то листок. – Слушайте, господа!
«Что мне до конституционных прений! Признаюсь в эгоизме, ежели бы я не владел саблей, и я может быть искал бы поприще свободы, как и другой… и при свободном правлении я буду рабом, ибо все буду солдатом. Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу. Я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды к службе своей, которою он мог бы быть полезным отечеству!..
Опровергая мысли Орлова, я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собой образуют народ. Вряд ли оно даст нам другие законы, как выгоды оседлости для военного поселения или рекрутский набор в Донском войске (простите, донские казаки, хранители русской армии).
Но рано или поздно мы поведем осаду крепости. Что всего лучше, это то, что правительство, не знаю почему, само заготовляет осаждающие материалы – военными поселениями и рекрутским набором на Дону.
Но Орлов об осаде и знать не желает; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия двигается…»
– Вот именно! Кто выдумал эти военные поселения? – в волнении воскликнул Нарышкин.
– Успокойтесь, граф. Скорее всего – сам император и из добрых, как всегда, побуждений… – сложил письмо и убрал его в карман Давыдов. – Когда был на приеме во дворце, то слышал, как Александр говорил одному из приближенных: «Как же ты не понимаешь? При теперешнем порядке всякий раз, как объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет. Когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов…»
– Действительно, мечты! – вздохнул Рубанов. – Теперь Россия стонет и от военных поселений, и от рекрутских наборов…
– А главный начальник поселений генерал Аракчеев, хотя и говорит, что они выдуманы не им, однако рьяно насаждает их, как всегда перегибая палку и делая из людей механизмы, – подхватил тему Нарышкин. – Едят по колокольцу в одно время всем скопом, словно в пруду рыбы ученые. Расписано все по минутам – когда полы мыть, когда бороду брить и в баню идти…
– …И бабу иметь!.. – добавил от себя Оболенский, несколько сбив напряжение.
– …А император доволен, – продолжил граф, – улицы метены, дома крашены, занавески, что у попадьи, накрахмалены, печки белены и на заслонках амуры отлиты…
– Ох уж этот сентиментальный Аракчеев, – нахмурился Денис Васильевич, – мальчишек заранее порет, дабы чего не сломали и не попортили. А заодно и взрослых… Потому и бунтовали в этом году поселяне…
– Император, конечно, хочет сделать как лучше, – поддержал разговор Рубанов. – Вот и свободный ввоз чужестранных товаров разрешил…
Мой староста пишет – грамотный мужик, между прочим, даже английскую газету выписывает, кто ему переводит, ума не приложу, наверное, Агафон, – улыбнулся Максим. – Так вот он довел до моего сведения, что поначалу, с введением континентальной блокады Англии, с русского рынка исчезли нитки английских фирм, зато их заменили русскими изделиями, да такого качества, что китайцы, признанные мастера тканей, стали покупать русское сукно.
Словом, русское купечество больше опасалось английских фабрикантов, нежели французских солдат; а при таком усовершенствовании русских фабрик в Англии дело едва не дошло до бунтов, так как английские изделия не имели рынков сбыта.
Староста недавно хотел завести суконную фабрику в моем имении, да с введением Тарифов 1819 года раздумал, прочитав в газете, что в Лондоне по этому случаю даже были устроены празднества…
– Празднества устроили, потому что он суконную фабрику не завел? – поинтересовался Оболенский, подумав, как было бы здорово оказаться в то время в Лондоне, да в компании красноносого английского лейтенанта.
– Нет! – хмыкнул Рубанов. – Потому что британские фабрики, которые до этого простаивали, пущены в ход и трудовой люд получил работу за счет России.
Выходит, теперь и купечество недовольно…
– Господа! Да ну вас к черту с вашей экономикой и политикой, – перебил Максима заскучавший князь, – по мне лишь бы парады пореже были, а в остальном – давайте лучше пить…
В начале весны, по волглому уже снегу, добрались до Петербурга Мари и сын.
Максим с некоторой долей изумления отметил, что счастлив их приезду, и его уже не тянет шляться с друзьями по театрам и ресторациям.
«Старею и становлюсь семейным человеком», – подумал он, с удовольствием занимаясь с сыном и все вечера проводя с женой.
Мари пережила потерю дочери и, зная, что у нее не будет больше детей, все свое время посвящала семье, полностью утратив интерес к балам и светским развлечениям.
Все вместе выезжали они в город, а когда потеплело и пробилась трава, – на природу. Особенно полюбился им Крестовский остров.
Подышать «бальзамическим воздухом» приезжали сюда пожилые статские советники и купцы, их жены и дочки. В «Новой ресторации» гуляла гвардейская молодежь, и Максим с удивлением ловил себя на мысли, что с удовольствием отправил бы на гауптвахту некоторых буйных офицеров.
«Явно старею и становлюсь брюзгой! Ведь совсем недавно сам такой был… – вздыхал он, отвечая на приветствия безусых прапорщиков и подпоручиков. – Детвора! Пороху еще не нюхали, а водку с шампанским вовсю хлыщут», – бурчал он.
Вдыхая свежий запах сосновой смолки и брусники, он выискивал место, где бы присесть. Лучшие кочки со свежей травкой заняли пожилые купцы с чадами и домочадцами.
«Словно кулики на болоте, – разглядывал Максим краснорожих торговцев, варивших уху на небольших костерках. – И Тарифы на них не влияют, – поражался обширным животам, отражавшимся в таких же пузатых самоварах. – И не лень их сюда тащить», – кивнул на прибрежный мох бредущему с узлами Шалфееву, по пути погрозив проплывающим на ялике и заглядевшимся на Мари подвыпившим молодым приказчикам.
Целые стаи их катались по Малой Невке, орали песни под балалайку и разглядывали барышень, коли в лодке не имелось своих.
«Красота, – осматриваясь вокруг, думал Рубанов. – И на кой ляд мне эти конституции и тайные общества?..»
Летом двадцать третьего года болота Белоруссии, где в то время квартировал Конногвардейский полк, содрогнулись от диких воплей – то Оболенский получил чин полковника.
Радости его не было предела.
Нарышкин, также ставший полковником, принял это известие много спокойнее и начал хлопотать об устройстве торжественного обеда.
Следом за пожалованием чинов пришел приказ о переводе полковников во 2-ю Южную армию фельдмаршала Витгенштейна, расквартированную в Киевской губернии.
Тут о торжественном обеде забеспокоился и Оболенский.
Подобного гулянья конногвардейцы еще не видели. Обед устроили для рядовых и офицеров в поле. Водка лилась рекой. Полковники по очереди обнимались и пили со всеми офицерами полка, и, напоследок, целуясь с генерал-майором Алексеем Орловым, князь Оболенский даже прослезился. Рубанова к чину полковника не представили.
Без приятелей Максиму стало грустно, и он целыми днями сочинял письма – то жене в Петербург, то товарищам во 2-ю Южную армию.
Друг Дениса Давыдова, начальник штаба 2-й Южной армии генерал Киселев, посовещавшись с фельдмаршалом Витгенштейном, доверил полковнику Оболенскому командование кирасирским полком, а полковник Нарышкин получил должность начальника штаба кирасирской бригады.
Тут же они встретились с генерал-майором Вайцманом, командующим кавалерийской бригадой. Вайцман был уверен, что через два-три года его бывшие подчиненные станут бригадными генералами, а вот он дивизионным – навряд ли, и потому принялся оказывать им содействие на правах ветерана 2-й армии, представив вновь прибывших некоторым командирам полков и бригад, среди которых были генерал-майор Сергей Волконский и полковник Павел Пестель.
С Волконским друзья сошлись сразу, а Пестель им не понравился, хотя Нарышкин после часто встречался с ним по службе и даже был зван в гости.
Первый из Пестелей – Вольфганг прибыл в Россию из Саксонии, чтобы основать в Москве почту. От него и пошла «почтовая династия» этого немецкого рода.
Отец Павла Пестеля в двадцать один год возглавил Московскую почтовую контору, а в двадцать два удостоился ордена Владимира и звания надворного советника. Семья Пестелей к тому времени почти целое столетие жила в России.
В 1792 году Иван Пестель женился на Елизавете Ивановне, дочери известной в то время писательницы Крок, и 24 июня 1793 года у них родился сын. Его назвали двойным именем Павел-Михаил и крестили в лютеранской церкви.
Служба у Ивана Пестеля шла удачно, и он даже имел особое тайное поручение от императора Павла читать письма и копии с «неблагонадежных» пересылать в Петербург.
Император был весьма доволен своей московской почтой и повелел Ивану Пестелю занять пост начальника столичной почты и председателя Главного почтового управления, удостоив его чином действительного статского советника, что равнялось званию генерал-майора.
Однако столичные интриги были не чета московским, а Иван Пестель где-то перешел дорогу любимцу императора, министру иностранных дел князю Ростопчину.
Тогда остроумный и любивший писать Ростопчин отправил по почте письмо, в котором говорилось о заговоре против императора.
Сначала вскрывший конверт Пестель задрожал от радости – есть повод отличиться, но затем затрясся от страха, когда прочел, что директор почты, то есть он, поддерживает заговорщиков.
И он уничтожил важную улику,
Ростопчину только этого и надо было. Павел обо всем, конечно, узнал, и блестящая карьера действительного статского советника в это царство закончилась…
Однако через четыре года граф Пален возглавил заговор, и император был убит, а на престол взошел Александр I.
Новый император назначил Ивана Борисовича Пестеля генерал-губернатором Сибири, и тот через некоторое время прославился как жесточайший тиран. Сибирь стонала под его игом, причем для того чтоб еще раз не подсидели, генерал-губернатор исхитрялся править краем из Петербурга, находясь в собственной своей квартире на Фонтанке.
Старинный его «дружище» Ростопчин по этому поводу шутил: «Кто самый зоркий на свете? – крутил пуговицу своему собеседнику, и когда тот пожимал плечами, отвечал: – Старый Пестель. Он из Петербурга видит, что делается в Сибири».
В 1819 году шутка дошла и до императора. Александр поручил Сперанскому проверить зрение сибирского генерал-губернатора, и оказалось, что видит он плохо. В крае процветало лихоимство, ставленники его превышали свою власть и обирали народ.
Пестелю была дана унизительная отставка, даже без упоминания о его сорокалетней службе, о чем напечатали в «Инвалиде».
Между офицерами по этому поводу шли злые и обидные толки, которые оскорбляли его сына.
«Нет! Власть следует менять!» – злился молодой Пестель и стоял за самые радикальные меры, издеваясь над умеренным крылом тайного общества, которое предпочитало «медленное действие, ведущее к постепенному исправлению нравов».
Он ставил ближайшей своей целью революционный переворот и доказывал, что весь смысл деятельности заговорщиков – направить удар на самодержавие, дабы свалить его как можно скорее.
Когда умеренные члены общества поставили ему на вид, какими кровавыми делами завершились во французской революции деяния Конвента, Пестель отвечал:
– Работа Конвента как раз и была самым мудрым этапом французской революции, – и, видимо, вспоминал обиженного своего папеньку, добавляя, что развитие революции в России должно привести непременно к цареубийству и, по крайней мере, к десятилетней диктатуре, чтоб удержать завоевания…
Члены Северного общества относились сдержанно к предложениям Пестеля.
Рылеев однажды при встрече прямо сказал, что видит в нем подражателя Наполеону, «похитителя свободы», завоеванной в ходе Великой французской революции.
Однако верный последователь и ученик своего царедворца-папаши Павел Пестель сумел втереться в доверие и к фельдмаршалу Витгенштейну, говорившему о нем: «Его хватает на все. Дай ему командовать армией или назначь министром – везде будет на своем месте…», и к начальнику штаба генералу Киселеву, который был поражен его знаниями, умом и глубокими суждениями.
Но Александр, помня «Записку» Бенкендорфа, получая из 2-й армии приказ со списком офицеров, подлежащих продвижению по службе, вычеркивал артикул, где говорилось о Пестеле.
Наконец Пестель все-таки получил под свое командование Вятский полк. По времени это совпало с приездом в Южную армию Нарышкина с Оболенским.
Бывая по службе в городе Тульчине, где стоял Вятский полк, Нарышкин поражался энергии Павла Пестеля и строгим мерам, которые он ввел в полку.
Офицеры не любили своего командира, так как он не жалел их служебной карьеры, ежели они в чем провинились, а солдаты просто ненавидели Пестеля за его жестокость и беспощадные розги.
Все было пущено в ход, чтобы блеснуть полком перед императором. Пестель целеустремленно подбирал себе новый состав офицеров отличной фрунтовой выправки и с навыками строжайшей дисциплины по отношению к рядовому составу.
В списке офицеров, которых Пестель полагал полезными для улучшения выправки полка, стояла и такая просьба, обращенная к Киселеву: «…Из 34-го егерского прошу Вас перевести ко мне штабс-капитана Майбороду». Этот офицер огромного роста пользовался в егерском полку прескверной репутацией, однако отличался рвением к фрунтовой службе.
Он впоследствии и погубил своего благодетеля доносом…
Высочайший смотр армии начался в конце сентября 1823 года.
Его императорское величество с тщанием заправского фельдфебеля проверял амуницию и внешний вид солдат. Проверке подверглось буквально все, начиная от штаба армии и кончая армейскими церковными заведениями.
На следующий день начались двухдневные маневры. В честь царя был устроен настоящий военный спектакль. Шестьдесят пять тысяч солдат и офицеров, растянувшись на пять верст, продефилировали перед цепким оком государя.
Кирасиры полковника Оболенского промаршировали неплохо, но не поразили Александра.
Пехотные полки шли, четко печатая шаг. Недаром фельдмаршал Витгенштейн, лежа на земле, следил, как пехотинцы ставят носок.
– Гляди веселей! – покрикивали на солдат офицеры, приближаясь к месту, где стоял государь и свита. – Больше игры в носках! Прибавь чувства в икры!
Перед царем полки проходили с четкостью оловянных солдатиков. Лицо императора разгладилось и повеселело, когда перед его придирчивым взором четко промаршировал Вятский полк во главе с полковником Павлом Пестелем.
Александр от удовольствия прищурил глаза, словно кот, которого почесали за ухом.
– Превосходно! Это как будто моя гвардия, – произнес самодержец, обращаясь к стоявшему поблизости генералу Дибичу.
Покрасневший от удовольствия Киселев тут же записал его слова, добавив от себя про «железный ритм, четкий шаг и безукоризненную стройность рядов».
Следом браво прошла бригада генерала Волконского. Ее командир, согласно порядку службы, остановился неподалеку от государя и пропускал мимо себя солдат. Когда прошел последний взвод, генерал стал поворачивать лошадь, чтоб следовать за своими подразделениями, и вдруг услышал усталый голос императора, подзывающий его к себе.
– Я очень доволен вашей бригадой! – глядя близорукими глазами на Волконского, произнес государь. – Азовский полк – из лучших полков моей армии, – продолжил он, тяжело и будто нехотя произнося слова, – Днепровский немного отстал, но видны и в нем следы ваших трудов… – Выпрямившись в седле и строго глядя на бригадного командира, Александр произнес, на этот раз с металлом в голосе:
– По-моему, гораздо для вас выгоднее будет продолжать оные, а не заниматься управлением моей империи, в чем вы, извините меня, и толку не имеете…
Волконский растерялся и ничего не сумел ответить государю, уяснив лишь одно, что самодержец осведомлен о тайном обществе и его в нем участии. Весь день он размышлял над словами Александра и часто невпопад отвечал на сыпавшиеся со всех сторон поздравления по случаю беседы с самим императором.
Когда Волконский после смотра зашел в штаб армии, генерал Киселев, взяв его под локоть и проведя в свой кабинет, произнес:
– Ну, брат Сергей, твои дела, кажется, хороши! Государь долго с тобой говорил.
– Но о чем говорил?! – передал слова самодержца Киселеву.
– Да-а-а… И что ты собираешься делать?
– Как что? Разумеется, подам в отставку.
– Это не дело, мой друг. Не дело! – Начальник штаба поднялся с кресла и начал ходить по кабинету, усиленно о чем-то думая.
– Вот что, милый мой Серж, – через некоторое время произнес он, – напиши-ка письмо государю, полное раскаяния и доверия к нему. Он примет твое оправдание и, выслушав тебя, убедится, что ты оклеветан. Отдай мне это письмо, и я при докладе вручу его императору.
Александр со вниманием прочел письмо два раза и, положив на стол, улыбнулся и произнес, глядя прямо в глаза Киселеву:
– Месье Волконский меня не понял, я ему выразил, что пора остепениться, сойти с дурного пути, им прежде принятого, и вижу, он это сделал. Мне кажется, я проеду через его бригадную квартиру, пусть он там будет с почетным караулом. Успокою его и исправлю то ошибочное впечатление, которое произвели на него мои слова…
После маневров офицеры 2-й армии дали торжественный обед, в начале которого провозгласили тост за здоровье Его Величества, после чего грянул залп и загремело многотысячное солдатское «ура».
Настроение Александра стало великолепным. На следующий день щедро посыпались ордена, чины и аренды.
Оболенскому с Нарышкиным ничего не досталось: мало секли солдат, а полковник Павел Пестель получил в награду незаселенные земли.
Александр заметно повеселел и отбыл в Петербург, успокоенный и умиротворенный оказанным офицерами приемом. Ему казалось, что многие горячие головы поняли наконец, что пришло время образумиться и не затевать игры с огнем.
«А как славно было бы отречься от трона и уехать куда-нибудь к морю или жить в отдаленной деревушке, не думая о заговорах и отдыхая душой на природе. Как устал я от бремени власти, – трясся он в карете по пыльной, избитой дороге и завидовал своему брату Константину, который с легкостью променял российский престол на любовь полячки… – Ох уж эти полячки…» – улыбнулся он, ярко представив Марию Антоновну Нарышкину… Он увидел ее так ясно, словно находился рядом с ней в доме на Фонтанке близ Аничкина моста в огромной белой зале с колоннами и с зеркалом во всю стену, в котором отражался его портрет, висевший напротив.
Он потряс головой, чтоб убрать наваждение, и снова позавидовал Константину, вступившему в морганатический брак с польской дворянкой Иоанной Грудзинской и заявившему императору и всем приближенным, что не имеет даже малейшего желания и намерения царствовать и править Россией.
Александр дал ей титул княгини, но отнял у брата российский престол. Манифест об отречении Константина и о назначении Николая наследником хранился в Царском Селе. Несмотря на это, Александр не только держал в тени своего младшего брата, он не делился с Николаем ни одной государственной тайной, не знакомил ни с одним документом или специальным докладом.
Как впоследствии скажет о себе Николай: «Меня воспитывали бригадным генералом…»
Так оно и было.
Николай Павлович занимал пост генерал-инспектора инженерных войск и натерпелся за это время немало унижений от своих прямых начальников и генералов из самой высокой элиты.
Чувствовал он и пренебрежение сановной знати, когда заседал в Государственном совете, куда по обычаю назначали великих князей, и никогда не думал, что в недалеком будущем ему придется править самой обширной в мире империей.
51
В 1824 году, сразу после дня ангела, отмеченного в белорусских болотах, наконец и Рубанову высочайше присвоили чин полковника.
Сразу подав рапорт об отпуске, он лишь в апреле получил положительный ответ и, забрав в Петербурге жену и сына, а также вышедшего в отставку Шалфеева с семьей, направился в Рубановку, прибыв туда в первых числах мая.
Родное имение с каждым приездом все сильнее и сильнее поражало Максима. Проехав по губернии, он сделал вывод, что его село одно из самых крепких и справных, а мужики сыты и довольны.
Въехав в имение, Рубанов сразу прикинул, что домов стало значительно больше, а значит, и населения.
«Старина Изот времени даром не теряет», – подумал он, услышав из соседнего возка удивленные «охи» четы Шалфеевых.
Над домом старосты гордо блестел на солнце здоровенный медный петух. Максим глянул в сторону барской усадьбы. Уже отсюда виднелась сверкающая белизной жестяная крыша двухэтажного кирпичного строения, а въезжая под беленую арку в распахнутые Агафоном ворота, он даже растерялся, не увидев своего старого дома-инвалида.
Жена с сыном радостно хлопали в ладоши, с восторгом рассматривая новые хоромы, чистенькие окна и солидные колонны, поддерживающие балкон.
Агафон, в предчувствии удовольствия, алел носом и перемигивался с Шалфеевым. От деревни уже пылила тройка со старостой. Вышедшие на крыльцо трое мужиков, заканчивающих какой-то мелкий ремонт, кланялись барину.
Пока приезжие с любопытством ходили вокруг здания, во двор влетела взмыленная тройка, и из нее вывалился запыхавшийся и тоже взмыленный Изот. Растопырив руки и не умея ничего произнести от неровного частого дыхания, прихрамывая, он засеменил навстречу Рубанову.
«Сдает! Сдает старик…» – с сожалением отметил Максим, обнимая старосту.
Поцеловав ручку Мари, потрепав по голове Акима и поздоровавшись с Шалфеевым, тот, наконец, отдышался.
– Во какую избу возвели! – произнес он и, заметив полковничьи эполеты на плечах барина, попытался вытянуться во фрунт.
Шалфеев с иронией хмыкнул, глядя на такую стойку.
– Ва-а-ше превосходительство-о-о! – с глубочайшим почтением не произнес, а пропел староста и зачем-то перекрестил лоб. – Слава Те Осподи! Свиделись! А нянька не дождалась, – нахмурил он седые брови, – прибралась в одночасье…
– А я ей платок привез!.. – вздрогнул от известия Рубанов, думая, что так и должно быть. Нет старого дома, а вместе с ним уходят и жившие в нем старые люди.
Не слишком расстроившиеся Мари и сын, помолчав для порядка и подталкивая друг друга, исчезли за солидной дубовой дверью с медной начищенной ручкой. Восторженные их голоса отдавались эхом где-то внутри. Слушая их, Максим несколько успокоился и, ничего не ответив старосте, тоже направился к двери, подумав, что для подрастающего сына именно этот дом со временем станет родным и близким. Именно сюда он будет приходить с трепетом в сердце и отдыхать душой, вспоминая детство.
«Здесь непременно следует поставить диван, а здесь – стол и кресла», – услышал веселый голос жены и поскользнулся на натертом паркете.
«Неплохо! Пожалуй, ромашовскому не уступит…» – отметил он.
Ближе к вечеру, все осмотрев и оставив Шалфеевых в усадьбе, Рубановы на огромной лодке с двумя мужиками на веслах переправились на другой берег. Здесь их уже ждал возок с запряженной тройкой.
«Ну, Михеич… Все успевает! – улыбнулся Максим. – Уже и генерала предупредил».
Владимир Платонович с нетерпением ожидал их. Расцеловавшись с дочерью и внуком, он покраснел от удовольствия, заметив эполеты на плечах зятя, и добродушно похлопал его по плечу.
– Я всегда знал, что ты станешь генералом! – произнес он. «И может даже, титул приобретешь» – подумал о своей недосягаемой мечте.
Через неделю, в честь приезда гостей, Ромашов дал бал, который своим присутствием почтил даже известный ему нелестно генерал-губернатор. Тот самый, что написал судьбоносное письмо в Петербург.
Глядя на уважение, оказываемое Рубанову губернатором, Владимир Платонович размышлял о превратностях судьбы и радовался, что дочь оказалась умнее его. «Чуть было не проглядел зятя, и внука какого славного родили».
Через месяц в Рубановку стали подвозить заказанную мебель, и Мари с головой ушла в хозяйственные хлопоты. Давно она не чувствовала себя такой счастливой. «Здесь разобью цветник, – планировала она, – а здесь следует поставить какую-нибудь статую из греческой мифологии – Гермеса там или Афину, нет, все же лучше Гермеса. Батюшка, конечно, копию со своего "Лаокоона" посоветует воздвигнуть», – хихикнула она.
Жена Шалфеева вместе с четырнадцатилетней дочерью активно ей помогали. Сам отставной унтер пробовал силы на поприще трактирной торговли, и у него здорово получалось… У Агафона вожжей бежала слюна от зависти.
27 июля был даден еще один бал – на этот раз Рубановым. Отмечалось семилетие сына. За день до этого освятили новый дом.
В Петербурге Рубановы жили скромно, и им в основном хватало служебного оклада. Деньги, что посылали староста и Ромашов, оставались целы. И сейчас они весьма были кстати. Причем сумма набежала довольно-таки значительная.
Изот отчитался, что в Рубановке проживают без малого 700 крепостных, а в Ромашовке – 1200, и, несмотря на это, доход имения имеют равный, причем рубановские мужики много богаче ромашовских.
К тому же от строительства осталось более фунта золотых империалов, и староста отдал их пораженному до глубины души Максиму.
«Стареет, стареет дед!» – подумал он, взвешивая на ладони увесистый кожаный мешочек.
Словно услышав барина, старик подтвердил:
– Уставать чтой-то начал… ноне еле-еле поднялся. Ноги болят, спина ноет, и глаза перестали видеть… Следует и мне в отставку иттить, а на свое место сынка поставить… Или как?..
– Ну, загудел! – с грубоватой лаской перебил его Максим. – Еще нас всех переживешь.
– А все ж насчет сынка как? – не сдавался староста. – Со мной все могет быть… Часто Кешку во сне видеть стал, – закряхтел он, усаживаясь в новое кресло. – Гликось, мягкая мебеля какая, – похвалил обнову. – А я, пока жив, во всем ему помогать стану!..
– Будь по-твоему! – дал согласие Максим. – Сейчас бумагу напишу…
Лето пролетело незаметно, и в сентябре стали собираться в Петербург.
– Ну что, Шалфеев, со мной поедешь или в Рубановке останешься? – поинтересовался Максим перед отъездом.
– Останусь, ваше превосходительство! Клянусь двойной порцией водки – мне тут ндравится…
По глазам жены и сына видел, что и они бы с удовольствием еще пожили в деревне, но когда предложил Мари погостить до зимы у отца, она наотрез отказалась.
В Петербурге накопилась целая пачка писем от друзей – в основном от Нарышкина, но попалось несколько конвертов и от Григория.
Читали по очереди вслух – то Мари, то Максим.
Из первого письма узнали, что графиня Софья переехала в Киев и снова ждет ребенка.
– Какая прелесть! – с завистью воскликнула Мари. – Теперь ваша очередь читать, сударь, – расслабленно и томно облокотилась на круглый валик дивана.
Рубанов выудил из пачки письмо Оболенского, в коем Григорий по поводу своей сеструхи и Сержа сделал умозаключение, что киевский воздух много «пользительней» петербургского и что сам он тоже парень не промах и подыскал для себя сдобную купчиху-хохлушку, и ко всем прочим ее прелестям – владелицу трактира, что, на его взгляд, намного лучше какой-нибудь чахлой и заумной княгиньки или графиньки. И к тому же все под рукой.
А далее пошли такие подробности, что Максим читать вслух не решился, несмотря на горячие просьбы жены.
Следующее письмо читала опять она.
Послание, слава Богу, было от безобидного Сержа. В нем он восторженно описывал свою встречу с новым общим знакомым – молодым поэтом Пушкиным: «Сначала он рассказывал о Кишиневе, где в свое время побывали и мы с тобой, дружище Рубанов. После мамалыги, варенья и кофе Александр Сергеевич прошелся по поводу боярынь-кукониц, нарумяненных, набеленных, с безвкусно подведенными глазами, с неизменной турецкой шалью на плечах и дурацкими сапожками на ногах…
А нам они вроде бы нравились… Помнишь ту, шестнадцатилетнюю?» – Через полчаса, выяснив все о юной молдаванке у супруга, Мари продолжила чтение…
Нарышкин поведал о путешествии Пушкина вместе с семьей Раевского по Крыму и Кавказу. Александр рассказал, что ехали они в виду неприязненных полей свободных горских народов. "Вокруг нас ехали шестьдесят казаков – что за прекрасные люди: вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности…
За нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем.
Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению!" – воскликнул Пушкин.
Как всегда, он безумно влюблен. На этот раз, кажется, в одну из дочерей Раевского».
Наступила очередь Рубанова. Ему снова досталось письмо от Оболенского. На этот раз – последнее. Все остальные были от Сержа. В письме князя шли такие скабрезности и подробности о купчихе, что Максим даже покраснел и начал читать про себя. Мари попыталась выхватить письмо, но ей это не удалось.
Успокоившись, она достала из конверта послание Нарышкина и с выражением произнесла:
«Мой друг, у меня одни встречи. На этот раз – это был Михаил Фонвизин, который ехал от Ермолова. По его словам, генерал Ермолов, увидев бывшего своего адъютанта, вскричал: "Пойди сюда, великий карбонари! Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (царь) вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся…"
Все обо всем знают, или догадываются… Полагаю, в дальнейшем это во что-нибудь выльется!..»
– В стакан выльется! – зевнул и потянулся Рубанов. – А не навестить ли нам господ Голицыных, мадам? – обнял жену.
То ли извозчик попался малахольный, то ли его кляча, – но возок плелся в два раза медленнее гуляющего пешехода.
– Побыстрее нельзя, любезный? – занервничал Максим, ругая себя за эту поездку и догадываясь, что дома мог бы провести время с большим удовольствием.
– Никак нет-с, барин. Лошадя устала-с.
– Ну так взбодри свою «лошадю» кнутом! – Глянул на смеющуюся жену и улыбающегося сына.
«Действительно, куда я спешу», – развалился на жестком сиденье и уже спокойно выслушивал объяснения малахольного извозчика, который после каждой фразы поворачивал в его сторону несвежее, словно куча грязного мятого тряпья, лицо.
Смеркалось!
Рубанов наблюдал, как толстозадые купцы закрывали свои лавки на пудовые замки, а худые гибкие приказчики задвигали тяжелыми болтами крепкие ставни.
Город готовился к ночи. В церкви звонили к вечерне. Рубанов перекрестил лоб, подумав, что свободно успел бы отстоять службу и догнать возок, который едва ли за это время переместился бы до ближайшего угла.
Жена и сын с любопытством рассматривали серые старушечьи силуэты в темных салопах и черных платках, которые вперемешку с нищими толпились у распахнутых церковных дверей, крестились и кланялись.
Когда возок с незаметной для глаза скоростью плелся мимо входа, на Максима пахнуло душным запахом сладкого елея и ладана.
Но как бы то ни было, до дома Голицыных все же добрались.
Побрынчав бронзовым кольцом в парадную дверь, Максим по инерции сегодняшнего вечера настроился на долгое ожидание, но дверь неожиданно быстро раскрыл старый знакомый – глухой, слепой, хромой, беззубый, но зато бессмертный лакей. Поклонившись и не произнеся ни слова, он молнией, по его разумению, помчался докладывать князю.
Молодой лакей не спеша запер дверь и по другой стороне лестницы, перешагивая через две ступеньки и тотчас обставив старикашку, в свою очередь, пошел докладывать о гостях.
И не успели они подняться наверх, как их уже встречал радостной улыбкой Петр Голицын, а через минуту появилась и княгиня Катерина.
– Можете себе представить, в первую минуту не узнал вас… – учтиво коснулся губами руки Мари и поздоровался с Рубановым.
Поприветствовав гостей, княгиня ушла распорядиться ужином.
– И немудрено, право, – развивал тему князь Петр, – как же, батюшка, вас узнаешь, коли вы по году не являетесь… только в газетах и прочтешь, что стали полковником.
Князь надумал было сесть за стол в своем парчовом халате с золотыми цветами, но, по мнению супруги, явно не смотрелся на фоне белоснежного конногвардейского полковничьего мундира, и был отправлен переодеваться.
Акима молодой лакей проводил в детскую к Голицыну-младшему.
Княгиня уже не нервничала в присутствии Максима и давно считала единственного своего сына законным отпрыском князя Петра.
Мужчины вели разговор о пятнадцатимесячной высылке гвардии из Петербурга и о брожении в офицерской среде, а женщины – о модах и детях.
Вечер провели просто прекрасно. Когда обо всем переговорили, уже все вместе обсудили дворцовые сплетни и особенно склоку Аракчеева с князем Александром Николаевичем Голицыным.
– Не знаю, удержится ли дядюшка министром духовных дел, потому как Синод и священники считают его узурпатором и не любят, а Аракчеев подогревает эти настроения.
Домой гостей Голицыны отправили в своей карете.
На Рождество Рубанов случайно столкнулся с графом Николаем Шуваловым, тоже недавно получившим полковника и переведенным в Главный штаб. Обрадованный граф затащил Максима в ресторацию пить чай с ромом.
Впрочем, чая почти не наливали…
– Рубанов! Вы не представляете, как я рад вас видеть. Смотрю и думаю: Максим это или нет? Вы стали такой важный! – улыбался Шувалов, подливая в чашку ром.
– Да и вас не узнать, граф!
«Полковничья форма украшает мужчину!» – сделали они совместный вывод.
– Как всех судьба разбросала, – оживленно говорил Шувалов. Лицо его раскраснелось, а глаза довольно блестели. – Недавно получаю письмо от Мишки Строганова – оказывается, он служит по соседству с Нарышкиным и князем.
– Да-а?!– удивился Максим. – Видимо, Серж вскоре сообщит.
– Непременно! Наверняка сообщит. Ведь Мишка получил полк в этой же дивизии… Так-то, брат Максим. Один ты в родном полку остался…
Письма от Нарышкина Максим не дождался, зато на Крещение он заявился сам.
– Доблестному гвардейцу от армеута! – орал Серж, тиская в объятиях Рубанова. – Софи велела! – на всякий случай предупредил друга и в обе щеки расцеловал его жену.
– А больше она вам ничего не велела, граф? – делая вид, что ревнует, поинтересовался Рубанов, принимая подарки.
Акиму достался кавказский кинжал.
Весь вечер сидели и вспоминали молодость.
– В феврале тридцать два стукнет, ужас! – шутливо схватился за сердце Максим.
– Да-а! Надвигается старость, – на полном серьезе констатировала Мари и скосила глаза в зеркало.
– Послушай, Рубанов. Пора и тебе во 2-ю армию переводиться. Мы уже втроем там. Недавно Строганов прибыл.
– Знаю. Как-то Шувалова встретил, он и сообщил.
– Я бы с удовольствием пожила в Малороссии, – высказала свое мнение Мари. – Надоело тут мерзнуть.
– Как там Мишка Строганов? – поинтересовался Максим.
– О-о-о! Доволен. Завел нового друга в лице полковника Пестеля. В основном у него все вечера и проводит. И с ним еще его однополчанин ротмистр Кавалергардского полка Василий Ивашев. Он сейчас адъютант Витгенштейна. Наискучнейшая компания. Ведут заумные разговоры, играют в четыре руки на фортепиано, вместо водки пьют чай…
– Смотря какой! – перебил друга Рубанов. – Недавно с Шуваловым попили чайку…
– …К сожалению, обыкновенный, – хохотнул Серж. – И плюс ко всему Василий Петрович может бесконечно рассказывать про именье матушки в Симбирской губернии – любимое свое Ундорово.
У него две страсти – Ундорово и революция!
Кстати, Павел Иванович попросил меня передать пакет его другу Рылееву. По почте, видите ли, затрудняется переслать… но отказать не решился – пустяковая услуга… Так что завтра, Максим Акимович, предлагаю передать письмо адресату и затем попить чаю с Шуваловым…
Вы не против, Машенька?
Мари лишь улыбнулась графу – дружба есть дружба.
– Рылеевская «Звезда» восходит на литературный небосклон, острят в Петербурге. Как бы мне тоже хотелось встретиться с поэтом, – позавидовала она мужчинам.
– Эка невидаль, Рылеев! Пушкин – другое дело…
А этот сделал имя эпиграммой на Аракчеева да в двадцать третьем году написал оду «Гражданское мужество», где посвятил строфу генералу Мордвинову… дай бог памяти, – пощелкал пальцами: «Но нам ли унывать душой, пока еще в стране родной, один из дивных исполинов Екатерины славных дней, средь сонма избранных мужей, в Совете бодрствует Мордвинов».
Федор Глинка вхож почти во все сановные дома, он и показал адмиралу сии вирши. Польщенный адмирал познакомился с автором и любезно предложил ему должность правителя канцелярии в Российско-американской компании, которой он является официальным протектором. Вновь испеченный поэт согласился, а в финансовой хватке ему не откажешь, и сейчас мало того, что занимает неплохую должность в компании, так еще издает совместно с Александром Бестужевым «Полярную звезду», про восхождение которой на небосклоне минуту назад говорила моя жена.
– Не слушайте его, Серж, – улыбнулась Мари. – Максим зол на Рылеева, потому как тот вежливо отказался напечатать его стихи.
– Отказался напечатать? Не может быть. Ваши творения, Рубанов, не подвластны времени, особенно про «юного поручика». Это же шедевр!
– Серж, ежели не прекратите смеяться, я тотчас же вызову вас на дуэль, – по-настоящему обиделся Рубанов.
– Молчу, молчу! – дурачась, поднял руки граф.
– А вам, Маруся, как не совестно!
– Когда бесится, меня Марусей называет, – пояснила она Сержу и отвернулась, чтоб скрыть улыбку.
– Сама-то что читаешь, – не обратил внимания на ее колкость Максим. – Подобное этой ерунде лишь Сержу нравилось: например, «Молодой дикий, или Опасное стремление первых страстей». А? Каково? Еще «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами». Одно название чего стоит. Ну а самая пикантная вещица – это «Путь к бессмертному сожитию ангелов…».
– Машенька, не слушайте его… Умоляю! Дайте почитать, – попросил Нарышкин.
– …И ведь печатают же. А Рылеев с Бестужевым мои стихи раскритиковали… Поэт, тоже мне. Стихоплет. Никакого патриотизма. Про какого-то пана Войнаровского пишет, – не на шутку разошелся Рубанов.
Мари и Серж, дабы не подливать масла в огонь, лишь молча переглядывались.
– Традиционная черта большинства русских литераторов – лебезить перед власть имущими. Тредьяковский, бывало, поднося хвалебную оду императрице, на коленях полз до трона…
На коленях сейчас, конечно, не ползают – не тот век, но хвалебные оды сочиняют… На примере господина Рылеева видно. Получилось один раз с выгодой, так во второй раз что удумал?.. Императрицам свой журнал преподнес… Самолично в «Литературном листке» у Булгарина читал… Тот с завистью написал: «Издатели имели счастье поднести по экземпляру "Полярной звезды" их императорским величествам государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания. Кондратий Федорович Рылеев получил два бриллиантовых перстня, а Александр Александрович Бестужев – золотую, прекрасной работы табакерку».
Вот они… Гордые поэты!..
52
Как и обещал, на следующий день Нарышкин заехал за Рубановым.
– Нынче воскресенье, и, полагаю, Кондратий Федорович будет дома, – произнес Серж, усевшись вместе с Максимом в карету и на скорую руку пролистав взятого у Мари «Молодого дикого…».
Рубанов хмыкнул и отвернулся к окну. Глянув на друга, Серж хотел поинтересоваться, не захватил ли тот стихов про поручика, но передумал.
Карета остановилась на Мойке у Синего моста рядом с домом, где проживал Рылеев. Пока они не спеша выбирались, в подъезд прошли два офицера.
– Похоже, мы не первые! – сделал вывод Серж.
– И даже не вторые! – поддержал его Максим.
Так и оказалось…
Друзья не знали, что по воскресеньям Рылеев давал «русские завтраки», где все было в старом русском стиле, поэтому немного удивились, увидев на столе вместо фарфоровой или серебряной посуды деревянные блюда и ложки, солонки с петушиными гребнями и, конечно, самовар.
Кроме них собралось около десятка гостей. Некоторых они знали.
Убрав за пазуху письмо, согласно правилам приличия, Рылеев стал представлять присутствующих:
– Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Получил воспитание в Париже и служил в старом Семеновском полку. После известной всем истории переведен подполковником в Черниговский полк.
Раскланявшись, подошли к следующему гостю с черными усами и черной повязкой на лбу, прикрывающей, как оказалось, давно зажившую рану. От раненого приятно тянуло мадеркой.
– Александр Иванович Якубович. Капитан Нижегородского полка. Храбрый кавказец, гроза чеченов, – между тем представил его Рылеев.
Черноусый окинул их орлиным взором и холодно подал руку.
– Для нас это большая честь! – язвительно произнес Максим, подумав: «Вонючий капитанишка».
Нарышкин с трудом удержался от смеха. .
– А это мой друг – Александр Бестужев. Учился в Горном корпусе, был адъютантом главноуправляющего путями сообщения генерала Бетанкура, а потом сменившего его на должности герцога Александра Виртембергского. Талантливый литератор и соратник по журналу…
На этот раз Рубанов холодно протянул руку высокому красавцу, помня о своих ненапечатанных стихах. Нарышкин улыбнулся – то ли Бестужеву, то ли чему-то еще.
– А теперь имею честь представить вас старшему его брату, капитан-лейтенанту Николаю Бестужеву, воспитаннику Морского корпуса.
Не успели они пожать руку морскому волку, как к ним шагнул плотный среднего роста офицер с едва заметными рябинками на смуглом лице и представился сам:
– Инженер-подполковник путей сообщения Гавриил Степанович Батеньков. – После чего склонил голову в коротком поклоне.
Рылеев, как показалось Максиму, остался не совсем доволен бестактной выходкой своего друга и добавил:
– По протекции Сперанского, делавшего ревизию в Сибири, переведен в столицу и сейчас служит у Аракчеева.
Князь Евгений Петрович Оболенский, – подвел их хозяин к следующему своему гостю.
Нарышкин встречался с ним в Москве и на правах старого знакомого дружелюбно раскланялся, незаметно мигнув Рубанову, а тот, почему-то вздохнув, крепко пожал руку дальнему родственнику князя Григория.
– А это всем известный Иван Иванович Пущин, воспитанник Царскосельского лицея и один из первых друзей восходящей звезды Александра Пушкина.
На эту фразу гость поморщился, и Рубанов подумал, что тому приятнее было бы услышать, что какой-то там Пушкин дружит с самим Иваном Ивановичем Пущиным.
Максим был наслышан о том, что в 1823 году, во дворце, великий князь Михаил Павлович сделал ему замечание, что не по форме повязан темляк на сабле.
Как? Самому Пущину!.. И он тотчас же подал прошение об отставке.
«Величайшая гордость, – подумал Максим, – и гонор… Не знаю, что и кому он хотел доказать, но его с трудом отговорили затем от поступления на службу в низшую полицейскую должность квартального надзирателя. Сестра, говорят, на коленях просила не делать этого, ведь дед-то был адмиралом. Что за радость дворянину сравняться положением с Чипигами?..» – удивился про себя Максим, слушая, как Рылеев пел Пущину дифирамбы:
– …В 1824 году перешел на службу в Москву судьей в Уголовный департамент надворного суда и, узнав, что Александр Сергеевич из Одессы сослан на безвыездное жительство в псковскую деревню, недавно ездил к нему в Михайловское. Неправда ли, это – подвиг?..
Пущин порозовел от удовольствия.
«Любит, чтоб в обществе о нем говорили, и на все для этого пойдет!» – холодно поклонился ему Рубанов и отошел к следующему гостю, которого Кондратий Федорович представил без видимого удовольствия и весьма коротко:
– Мой бывший сослуживец по полку Косовский.
Далее сели пить чай, и Рубанов слушал хвастливый рассказ «храброго кавказца», как он вызвал на дуэль Грибоедова. Причем врал, по мнению Максима, просто беспардонно.
– Грибоедов, стреляя первый, промахнулся, тогда я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более дорожить своей жизнью, нежели теперь. Я ждал год, следя за ним издали, и, узнав, что он женился, явился потребовать свой выстрел. Боясь, что меня не примут, – оделся черкесом и велел о себе доложить как об одном из кунаков Грибоедова. Я вошел в кабинет, – прихлебывая чай, безбожно врал Якубович, – и замкнул за собой дверь. Хозяин был чрезвычайно изумлен, но все понял, когда пристально взглянул мне в глаза. Делать было нечего, и мы встали по концам комнаты.
Я медленно начал наводить пистолет, желая этим помучить и подразнить противника, так что он пришел в сильное волнение и просил скорее покончить… Тогда я понизил пистолет, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и, когда рассеялся дым, я увидел, что попал куда хотел: я раздробил ему два пальца на правой руке, зная, что он страстно любит играть на фортепьяно и что лишение этого станет для него ужасным… (Максим точно знал, что Грибоедов еще не женат). На Кавказ я был удален тоже за дуэль, – между тем продолжал Якубович, – с приказом не производить меня в чины и не пускать в отпуск.
Однако, благодаря этой ране, – дотронулся он до повязки, – получил крест Святого Владимира с бантом и дозволение ехать лечиться в Петербург…
«А ежели кого тут ранят, то посылают лечиться на Кавказ», – подумал Максим и дружелюбно улыбнулся Косовскому, правильно предположив, что тому тоже не нравится пустой чай, к тому же болтовня Якубовича начала утомлять, а тот, достав из кармана какую-то мятую бумагу, трагическим голосом вопил:
– Вот он – приказ по гвардии! У сердца ношу… Из него следует, что я остаюсь капитаном, а должен уже быть полковником.
Вот из-за чего ненавижу я государя!
Косовский в бешенстве встал, услышав последние слова.
Рылеев кинулся успокаивать «храброго кавказца», а Максим с Нарышкиным пошли надевать шинели, посчитав свою миссию выполненной. Рылеевский однополчанин поспешил за ними.
Когда выходили из дома, услышали заунывную песню, которую затянул Якубович: «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы?».
К Шувалову идти передумали и втроем прекрасно провели время за крепким чаем в ресторации. Максим с удовольствием слушал воспоминания своего нового знакомца о службе с Рылеевым:
– Кондратий Федорович пришел к нам в конно-артиллерийскую номер один роту после окончания Первого кадетского корпуса. Чего бы, кажется, лучше желать в его лета? Красуйся на хорошем коне, в нарядном мундире…
Батарея ему досталась с тремя отличиями за сражения – золотые петлицы на воротниках мундира, бляхи на киверах за отличия и серебряные трубы. Нет, чего еще надо? А он не полюбил службы, даже возненавидел ее и только по необходимости подчинялся своему начальнику. Он с большим отвращением выезжал на одно только конно-артиллерийское учение, но и то весьма редко, а в пеший фронт никогда не выходил; остальное время своей службы состоял как бы на пенсии, да еще часто издевался над нами – зачем служим с таким усердием…
– Я же говорил! – неизвестно к чему произнес Максим и глянул в сторону Нарышкина.
«Видимо, подразумевает, что хороший солдат не смог бы отказаться от его стихов!» – сделал умозаключение Серж и, не жадничая, налил всем в чай рома из пузатой бутылки.
Закусив крепкий чай и видя интерес к рассказу, Косовский продолжил:
– Так вот, на чем я остановился… Ах да! Сидевши постоянно один в мужицкой хате, не думая быть полезным по службе и избегая сотрудничества товарищей своих, явно считал нас слишком слабыми, чтобы понять его. Увещевания же со стороны батарейного командира не имели на него никакого влияния. Он в глазах наших сделался более сомнительным, его скрытный характер, осторожность в речах ясно показали, что этот новый гений озабочен чем-то необыкновенным.
При словах «новый гений» Рубанов язвительно ухмыльнулся и с уважением глянул на рассказчика.
– …Сам же он постоянно носил заместо мундира двубортный сюртук светло-коричневого сукна под названием «пиитического», самим им придуманного…
Нарышкин собрался сказать Рубанову: «Вот чего тебе не хватает…», но передумал.
– …Длина коего до колен, – продолжал артиллерист, – с широкими рукавами, с двумя на груди карманами, с несколькими шнурами и кистями. Панталоны светло-серого сукна, но без красной выпушки и без штриф, в коих по рассеянности один раз выехал во фрунт, за что и был арестован…
«У этого господина характер княгини Катерины, ей бы с ним было не скучно», – усмехнулся про себя Максим.
– …Шапка или картуз черного сукна особого покроя. Сапоги носил без подборов, по большей части нечищенные…
Словом, великий пиит!..
Эти слова «бальзамическим составом» растеклись по страдающей душе Рубанова.
– …Однажды он проговорился: «Нет, нет! Надо ехать туда, где люди живут и дышат свободно!»
«Куда это?» – поинтересовались мы.
«В Америку!»
Нельзя было не заметить, что большая часть его мышлений клонилась к безумию: чтобы передать имя свое потомству, он заранее обрек себя на все смерти! Может, те положительные люди, кроме Якубовича разумеется, отговорят его от вредных мыслей? – с сомнением произнес подполковник артиллерии. – Но я к нему более не пойду… Когда он уезжал из полка, то произнес: «Господа, я считался несколько лет вашим сослуживцем, но был скверным слугою царю, вы поделом не любили меня как ленивца, но признаюсь, я любил вас всех… Приедете в Петербург – милости прошу ко мне…» Вот я и нанес визит!
Рубанов пригласил офицера к себе.
Весной Рубанову высочайшим указом за верную службу был пожалован орден Святого Владимира 3-й степени.
Полковнику и кавалеру стало стыдно жить в убогой квартирке, и он снял дом о двенадцати комнатах.
Мари нравились новоселья, и она с удовольствием хлопотала, обставляя мебелью новое жилье, а попутно наняла Акиму учителей и гувернера-француза.
«Правильно, – рассуждал старший Рубанов, – пора парня уму-разуму учить – большой уже!»
Петр Голицын получил чин генерал-лейтенанта и кавалерийскую дивизию, стоявшую в полусотне верст от столицы, так что большую часть времени он проводил в Петербурге.
Когда Максим приехал поздравить генерала с новым назначением, князь Петр, взяв его под руку, произнес:
– Через годок, мой друг, а может – и раньше, у меня освободится вакансия полкового командира, и я надеюсь взять вас к себе, а там и на бригаду можете рассчитывать…
Максим с благодарностью пожал руку сорокадевятилетнему генералу и получил приглашение на бал, который в скором времени давал князь.
После бала у Голицыных безутешный вельможа с лентой дал бал в память безвременно ушедшей двухсотлетней тетушки, затем Рубановы получили приглашение на большой бал во дворце.
Максим сделал вывод, что высший свет и весь блестящий Петербург приняли его в элитные слои общества…
Как и предсказывал когда-то князь Петр, его дядюшка не удержался на посту министра духовных дел.
Между ним и Аракчеевым в последнее время пошла такая свара, что хоть святых вон выноси, и император вынужден был сделать выбор из двух царедворцев.
Александра Голицына Синод и все священство люто ненавидело: «Из Священного Синода канцелярию сделал и один всем правит…» – обличала его церковная верхушка и, по простоте своей и наивности, держала сторону Аракчеева, которому Александр и отдал предпочтение.
Новый министр жестко взял бразды правления церковной епархией. Теперь все доклады Святого Синода государю шли через него. Господь Бог, с опозданием конечно, просветлил разум церковнослужителей, и до них дошло, что попали они из огня да сразу в полымя… Среди них ходили слухи, что Аракчеев собирается проводить воинские учения с бедными святыми отцами. Батюшкам стало дурно. Попадьи не знали, чем потчевать и как лечить своих благоверных.
В духовном ведомстве, стараниями генерала Аракчеева, насаждались железный воинский порядок и дисциплина. Через месяц священнослужители ставили Голицына на второе место после Иисуса и даже поговаривали о том, чтобы причислить его к лику святых…
И еще одна интрига будоражила кровь российской общественности – арест и обвинение известного композитора Александра Александровича Алябьева в убийстве купца.
Большинство не верило в это убийство, и дело пытались замять… И замяли бы, коли не бдительный Пущин. Чтоб попасть на страницы газет и языки сплетников, надворный суд под его председательством принял дело под свою юрисдикцию. А, как известно, Пущин не считал себя простым человеком… Он до того был индивидуалист, что даже если вдруг у него зачешется брюхо, то не снаружи, как у обыкновенных людей, – а изнутри, что свойственно лишь его неординарной личности!
Он один верил в виновность подследственного, так как в деле, по его мнению, имелись несомненные доказательства виновности Алябьева. И, несмотря на то, что вмешались влиятельные лица, несмотря на усиленные просьбы и даже подкуп – ничего не помогло, коль за дело взялся честняга Пущин.
После долгой и упорной борьбы он настоял на обвинительном приговоре, и Алябьева сослали на каторгу в Тобольск.
Либералы на это решение смотрели как на гражданский подвиг. И только в середине тридцатых годов композитора возвратили в Москву – приговор оказался судебной ошибкой!
Зато в обществе говорили о Пущине, единственной заслугой которого была дружба с Пушкиным…
Полковник Максим Акимович Рубанов вместе с командиром лейб-гвардии Конного полка графом Алексеем Федоровичем Орловым получили приглашение присутствовать на обеде в Зимнем.
Император был скучен и ел без аппетита, едва промолвив несколько слов с приближенными.
В конце обеда Рубанов вместе с другими придворными наблюдал, как к императору подошел лакей и, поклонившись, на серебряном подносе протянул карточку, как оказалось, с именами начальника гвардейского штаба бывшего адъютанта Аракчеева генерал-майора Клейнмихеля и никому не известного унтер-офицера Шервуда.
– Пусть подождут, – вяло произнес Александр и продолжил обед.
Через некоторое время, бросив на стол салфетку, встал и вышел в приемную. Брезгливо глянул на Шервуда и, кивнув генералу, прошел в кабинет.
«Господи! Вот было бы славно все бросить и уехать из Петербурга… Все равно куда. – Сморщив лицо, подошел к столу и взял письмо Аракчеева: "Батюшка Ваше Величество, всеподданнейше доношу Вашему императорскому Величеству, что унтер-офицер Шервуд объявил мне, что он имеет донести Вашему Величеству касающееся до армии будто бы о каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открыть, как лично Вашему Величеству. Вашего императорского Величества верноподданный граф Аракчеев". – Ой, ну и стиль у Алексея Андреевича… Ему бы у Карамзина поучиться или у Пушкина, на худой конец». – Небрежно бросив письмо на стол, позвонил в серебряный колокольчик.
– Просите! – велел вошедшему лакею и сел в кресло.
«Лето, а прохладно». – Зябко передернул плечами, вслушиваясь в робкие шаги унтер-офицера.
– Докладывайте! – глядя в окно, велел он.
– Ваше величество, – вытер пот со лба Шервуд: «Жарко-то как…» – от прапорщика Нежинского конноегерского полка Вадковского я случайно узнал о существовании тайного общества и о заговоре против вашей особы. – Нервно лязгнул зубами.
Император глянул на доносчика, подумав: «Я уже более семи лет знаю об этом, эка удивил. Полагаю, начальник тайной полиции граф Витте подослал своего агента, но с какой целью? – Снова бросил внимательный взгляд на посетителя, бормочущего о конституции, бунте и убийстве царской семьи. – Правильно брат Константин предупреждал меня, что Витт – это такой негодяй, которого свет еще не производил!..
Этих заговорщиков, да мне бы в начале царствования… Горы с ними бы своротил, а сейчас они вредны государству, но не мне их судить… Сам по молодости конституциями и демократией увлекался!» – С отвращением отвернулся от доносчика, который, закончив говорить, со страхом и внутренним напряжением ожидал решения императора.
Александр поднялся и отошел к окну.
Сообразив, что аудиенция окончена, Шервуд щелкнул шпорами и с поклоном покинул кабинет.
Его сменил генерал Клейнмихель.
– Предоставьте ему годовой отпуск для слежки за тайным обществом, – распорядился император, радуясь в душе, что целый год ничего не будет слышать о бунтовщиках и заговорщиках: «А там, может, все как-нибудь образуется… – с надеждой подумал он. – Уезжать! Скорее уезжать отсюда».
И на удивленный взгляд генерала ответил:
– Через год, двадцатого сентября, пусть явится на почтовую станцию в городе Карачев Орловской губернии и ждет там посланца графа Аракчеева, коему и передаст добытые сведения…
«Как славно, что на глаза мне попался этот городишко, – глянул на карту и на записавшего в блокнот начальника штаба. – Как они все мне надоели!..»
В следующем году император осуществил свою задумку и уехал в Таганрог, где лечилась его супруга.
В ноябре 1825 года в Петербурге получили бюллетень о тяжелой болезни императора. Его врач сообщил, что у Александра лихорадка и развивается кризис с крайне угрожающими последствиями. Несколько дней спустя барон Дибич прислал депешу из Таганрога о принятии императором причастия…
Цесаревич Константин в это время находился в Польше и о судьбе старшего брата ничего не знал.
25 ноября великому князю Николаю доложили, что его желает видеть петербургский генерал-губернатор граф Милорадович. Выйдя в приемную, Николай увидел нервно шагавшего из угла в угол с зажатым в руке носовым платком Милорадовича.
– Что угодно, Михаил Андреевич? – подойдя к нему и заглянув в полные слез глаза, с тревогой спросил великий князь.
– Есть одна ужасная новость!..
– Пройдемте в кабинет, – взял его под руку Николай, увидев любопытное лицо фрейлины, вышедшей от его супруги. – Так что случилось? Да говорите же, граф! – в волнении вскричал великий князь, принимая из дрожащей руки Милорадовича пакет.
– Письмо князя Волконского и Дибича, – заикаясь, произнес тот, – император умирает. Надежды никакой.
– Да хранит Бог Святую Россию! – перекрестился Николай.
Они не знали, что император уже был мертв…
Узнав о смерти брата, великий князь Николай первым делом, дабы перечеркнуть пересуды и толки, направился во дворцовую церковь и на Евангелии произнес клятву в верности новому императору Константину, немедленно подписав присяжный лист.
Собравшийся Государственный совет отправил в Варшаву официальное письмо, в котором сообщалось Константину Павловичу, что он является императором России.
Современники считали Александра безвольным, чувствительным и мягким. Он и был таким, когда следовало кого-то наказать или казнить. В его царствование не привели в исполнение ни одной смертной казни и ее даже считали отмененною.
Однако в крупных вопросах, которые затрагивали глобальные интересы России, он всегда занимал принципиальную и жесткую позицию, требовательно настаивая на ней и успешно проводя в жизнь.
Так было во время войны с Турцией.
Император писал своим главнокомандующим: «Мир же заключать довольствуясь иной границей, нежели Дунай, я не нахожу ни нужды, ни приличия». И настоял на этом!
Так же принципиально он отнесся к перемирию с Наполеоном, хотя тот предлагал весьма выгодные условия мира.
«Я перенесу свою столицу на Иртыш и стану питаться одним хлебом, но не заключу мира, пока враг топчет русскую землю».
Престиж и слава России были для него превыше всего!
За время правления он присоединил к России Финляндию и Польшу. Освободил Европу от Наполеона.
Но вот в вопросе с декабристами проявил излишнюю гуманность… Бенкендорф и Аракчеев за несколько лет до восстания на Сенатской площади докладывали ему о тайных обществах и даже перечисляли участников заговора.
Однако Александр считал, что эти люди угрожают не государству, а лично ему, и – в отличие от французского монарха Людовика, знаменитого фразой: «Государство – это я!» – себя с государством не отождествлял, что и было главной его ошибкой, чуть не бросившей Россию в пучину волнений, хаоса, робеспьеровщины и гражданской войны.
Лишь благодаря занявшему престол Николаю Россия избежала смуты и беспорядков, заплатив за свое благоденствие пятью жизнями…
Более за все правление Николая казненных не было! В истории России его правление явилось одним из самых спокойных!
Вместе с личным посланником императорского дома Новосильцевым полковник Рубанов был отправлен в Варшаву к Константину Павловичу, которому присягали армия и народ.
Ехали быстро. На почтовых станциях их всегда ожидала свежая смена лошадей. Дорога проходила мимо замка пани Тышкевич, и Рубанов, с улыбкой и нежным ностальгическим чувством, вспомнил молодость и красавицу полячку.
В Варшаве их сразу же принял Константин.
– Ваше величество! – протянул ему пакет Николай Новосильцев.
– Не называйте меня титулом, который мне не принадлежит! – перебил его цесаревич и, не ответив на поклон, ушел с письмами в кабинет.
Удивленная свита в молчании ждала его выхода.
Новосильцев тихо шептался с приближенными великого князя, а Максим, увидев старого знакомца по Петербургу подполковника Лунина подошел к нему.
Мишель Лунин был живой легендой Кавалергардского полка. Когда Максим только поступил на службу, Михаил Лунин уже зарекомендовал себя отменным повесой и дуэлянтом, бросившим вызов в 1813 году самому великому князю Константину.
Об этом в то время много говорили в гвардии.
Все офицеры кавалергардского полка подали в отставку из-за того, что цесаревич оскорбил их полковника, который вследствие ранения не снял перед ним шляпу. Император Александр по этому поводу высказал неудовольствие своему брату, и тот назначил смотр полку и принес извинения в своей «горячности», прибавив, что ежели кто остался недоволен, то он готов дать личное удовлетворение.
Оскорбленный полковник и офицеры почтительно поклонились и оставили свое намерение об отставке. В это время вперед вышел молодой офицер и сказал:
«Ваше Высочество изволили сейчас предложить личное удовлетворение. Позвольте мне воспользоваться такой высокой честью!»
Довольный, что все благополучно решилось, Константин с улыбкой ответил: «Ну, ты, брат, для этого слишком молод…», но запомнил кавалергарда, понравившегося ему своей бесшабашностью и смелостью.
О Лунине в гвардии пошла слава «горячей головы».
Генерал Депрерадович издал приказ, запрещавший офицерам купаться в заливе рядом с Петергофом, так как те раздевались «вблизи дорог и тем оскорбляли приличие».
Лунин выполнил приказ по-своему.
Когда однажды генерал ехал по дороге, Лунин в полной форме вошел в море, чтобы искупаться.
– Что вы делаете? – закричал пораженный генерал.
– Купаюсь, не нарушая приказа вашего превосходительства…
Император не простил ему подобных проделок и за какой-то бездельный проступок перевел тем же чином в армейские уланы. Перед отъездом к новому месту службы, уже в новой форме, Лунин случайно столкнулся с гуляющим Александром.
Государь язвительно поинтересовался:
– Что же, ты доволен?
– Ваше величество, – поклонился бывший кавалергард, – еще две такие милости, и я стану будочником…
Однако цесаревич приходил в восхищение от поступков Лунина и взял его к себе адъютантом.
Константин долго не появлялся из кабинета, читая послание брата.
Наконец он вышел к свите.
– Ваше величество… – снова обратился к нему Новосильцев.
– В последний раз вас прошу, граф, – закричал Константин, – не называйте меня этим титулом и запомните – единственным законным государем является Николай…
Вот сильная рука и мощный ум. Ему и править Россией!
Не все согласились с этим. Личный адъютант польского наместника Павел Колзаков выступил вперед:
– Ваше императорское Величество, Россия еще не сгинула и приветствует…
– Молча-а-ать! – резко перебил его Константин. – Как вы смеете говорить такие слова? Кто дал вам право решать дела, которые никак вас не касаются? Немедленно сдайте шпагу и отправляйтесь под арест!
Свита онемела.
Рассерженный Константин снова ушел в кабинет. Всю ночь он работал над своим ответом в Петербург, написав объяснительное письмо матери, брату Николаю, князю Петру Волконскому, барону Дибичу.
Все эти послания повез в столицу Новосильцев.
Рубанова до особого распоряжения оставили в Варшаве, чему тот не особо огорчился.
Через несколько дней пришло известие, что, несмотря на отказ от трона, Сенат и Госсовет присягнули в верности Константину. Вновь всю ночь цесаревич, а теперь уже император, провел за составлением документов, а утром приказал Рубанову быстро отправляться в Петербург и доставить его ответ Госсовету и Николаю.
В письме он написал: «Мое решение непоколебимо. Вашего предложения прибыть как можно скорее не могу принять, и я сообщаю Вам, что устраняюсь еще дальше…»
Он назвал присягу незаконной, так как она дана без его знания и согласия…
Россия осталась без императора!
Проходят бесконечные заседания Госсовета, а со всех концов страны поступают сообщения, что армия приносит присягу верности Константину.
В это же время к великому князю Николаю пришел на прием генерал Дибич и вручил письмо от капитана Вятского полка Майбороды, в котором тот сообщал о давнем подозрении на своего полкового командира Пестеля в организации тайного общества.
Великий князь сразу понял, что в его руках находится сообщение о заговоре против государства и престола, и обратился за советом не к Аракчееву, а к его злейшему врагу князю Александру Николаевичу Голицыну и генерал-губернатору Милорадовичу.
Двенадцатого декабря Николай получил еще одно послание от брата, в котором прочел об окончательном отказе занять престол.
«Как вскрыл письмо от своего брата, – пишет он Дибичу, – уже в первых строках убедился, что участь моя решена». – И назначил на 14 декабря новую присягу.
Тут же принялся еще за одно письмо – Петру Михайловичу Волконскому. «Воля Бога и воля брата моего, – писал он, – обязывает меня; 14 декабря я буду либо государем, либо мертвым. Да, мы все несчастны, но нет более несчастного человека, чем я. Да будет воля Божья!».
Будущий император предчувствовал трагедию надвигающихся событий…
В этот же день в девять вечера во дворец явился адъютант генерала Бистрома подпоручик Яков Иванович Ростовцев и доложил дежурному генералу, что должен вручить великому князю пакет от генерала.
Николай взял пакет у дежурного офицера и направился в свой кабинет. Нервничая, чуть подрагивающими руками распечатал его и прочитал о заговоре против династии и о подготовке восстания членами тайного общества:
«Противу Вас должно таиться возмущение: оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России! Пользуясь междуусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва, от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия вместо благословений будут вашим уделом!..
…Всемилостивейший государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким – казните меня! Я буду счастлив, погибая за Вас и за Россию, и умру, благословляя Всевышнего! Ежели Вы находите поступок мой похвальным, молю вас, не награждайте меня ничем: пусть останусь я бескорыстен в глазах ваших и в моих собственных!».
В записке не указывалось ни одного имени.
Николай спешит подготовить манифест о своем восшествии на престол…
Суета в эти дни творилась не только в Зимнем дворце, но и в квартире Рубановых.
Воскресным утром 13 декабря в гости нагрянули Оболенский с Нарышкиным. После первых объятий, похлопываний по плечам и прикладываний к ручке Мари они объяснили, что прибыли из 2-й армии – узнать что к чему и забрать присяжные листы.
– Как тут у вас, в столице?..
– Жалеют об Александре, – начала просвещать провинциалов Мари, – пока был жив, так его не возвеличивали… А теперь нарасхват идут гипсовые бюсты, портреты и траурные кольца, – показала им колечко с надписью «Наш ангел на небесах». – Прислуга приносит с рынка новости, а, как известно, именно на рынки стекаются все российские слухи и сплетни, и лишь потом их печатают газеты, – так вот, прислуга рассказывает, что не все хотят присягать Николаю Павловичу… Далеко не все! Молодые офицеры – так те против.
– Молодые офицеры… – хохотнул Оболенский. – Молодым офицерам лишь бы подурачиться и покуролесить, – подмигнул он друзьям, – сами такими были… В нашей 2-й армии это тайное общество ни для кого уже не тайное… Да пустое все! Нарышкин рассказывал, что его новому другу, разумеется литератору, – снова ехидно хохотнул князь, – как бишь его… кушать грибы любит…
– Грибоедов! – обиделся Нарышкин. – По рукам ходит его рукопись «Горе от ума», а вы, Григорий, все фамилию не запомните… Стыдитесь, князь!
Оболенский хотел рассказать, что когда Грибоедову предложили вступить в тайное общество, он ответил: «Вздор! Сто прапорщиков хотят в России сделать революцию!».
– Да что там какому-то Грибоедову… Даже мне Пестель предлагал вступить в общество… Полагает, что у меня более дел нет, как их пиянино слушать и рассказы ротмистра Ивашева об Ундорово…
– Ну конечно, князь, вам важнее у местечкового еврея в корчме сплетни о чинах и бабах слушать, – съязвил Нарышкин. – Лучше бы «Горе от ума» почитали… – «Хотя вам это не грозит!» – в сердцах подумал он.
– Чего вы там смеетесь? – подозрительно поинтересовался Оболенский. – А Грибоедова я уважаю за то, что когда-то в юности, служив гусаром в Брест-Литовске, он забрался в иезуитский костел на хоры и, когда началась обедня, заиграл на органе божественную мелодию, постепенно заменяя ее камаринской… Вот это по-нашему, – хохотал князь.
Все воскресенье друзья провели в разговорах и возлияниях. Поздним вечером, когда Мари ушла спать, Оболенский с Нарышкиным пригласили Рубанова посетить ресторацию или что-нибудь другое, но он отказался под предлогом того, что их полку приказано собраться в шесть утра в Большом Манеже для приема присяги.
– Неудобно совсем пьяным приходить, – отнекивался он, – все же присяга.
– Да они чуть не через день, эти присяги, что же теперь – и не выпить? – выдвигал веский довод князь.
– Нет, господа! Давайте лучше встретимся в полдень в Зимнем. Там имеет место быть большой выход…
На том и порешили.
53
В понедельник 14 декабря конногвардейский полк был построен в Большом Манеже для принятия присяги.
Рубанов, сидя верхом на жеребце перед своим дивизионом, зевал и нервно поглядывал на часы.
Командир полка генерал-майор Алексей Федорович Орлов задерживался, а было хотя и безветренно, но прохладно, всего семь градусов по Реомюру, и гвардейцы мерзли. Некоторые слезли с коней и стали подпрыгивать и приседать, другие хлопали рука об руку и дули на озябшие пальцы.
«Похоже, Алексей Федорович, в отличие от меня, не сумел вчера устоять перед каким-либо соблазном», – подумал Максим, и в ту же минуту командир первого дивизиона полковник Вельо, заметив командира полка, прокричал: «Р-р-авня-а-сь! Смир-р-р-но!»
Темень стояла кромешная, и Орлов, видя, что люди мерзнут, и отчасти чувствуя в этом и свою вину, при свечах, которые держали адъютанты, быстро принялся читать документы, касающиеся отречения от престола великого князя Константина.
Вслед за этим полк привели к присяге – конногвардейцы поодиночке подходили и, торжественно крестясь, прикладывались ко кресту и Евангелию.
После присяги, возвращаясь по Большой Морской, Рубанов увидел, как с Гороховой улицы навстречу ему с барабанным боем и развернутыми знаменами шел Московский полк, окруженный густой толпой гомонящего народа. Шествие замыкала толпа марширующих мальчишек, поминутно вытирающих сопли рукавами.
«Они что, на Сенатской площади, что ли, присягу принимают?» – удивился Рубанов, направляясь домой.
По дороге ему попалась запряженная четвериком карета генерал-губернатора Милорадовича, стоявшая у дома Голлидея.
«По-видимому, к своей балеринке Катеньке Телешовой примчался… – с уважением подумал Максим. – Седина в бороду, а бес в ребро… Непременно следует рассказать Мари».
Оболенский и Нарышкин лишь чуть разминулись с Максимом. Они тоже встретили на Гороховой Московский полк, но, не придав этому значения, направились перекусить и выпить в ресторацию, а затем, поймав извозчика, решили покататься – давно не были в столице, к тому же Нева скрылась подо льдом и восстановился удобный санный путь с заречной стороной, независимый от наведенного Исаакиевского моста. К двенадцати, как и договаривались, направились во дворец, где никого из знакомых не встретили, если не считать графа Аракчеева.
Он сидел в углу залы с мрачным и злым лицом. На расстегнутом мундире его не было ни единого ордена, кроме портрета покойного государя Александра Павловича.
– Ну вот и откомандовался граф!.. – тихонько шепнул Нарышкин князю, выходя на запруженную народом Дворцовую площадь. – Никому не нужен стал. А это не государь? – указал на генерала в полной парадной форме, расхаживающего перед батальоном Преображенского полка.
Генерал был бледен, но на лице его они не увидели робости – лишь волнение и тоска в глазах.
И тут пошел мелкий снег.
– Что-то непонятное происходит! – пожали друзья плечами, пробиваясь сквозь толпу к Николаю Павловичу.
К тому в это время подошел Милорадович, которого отыскал у балеринки флигель-адъютант и передал повеление прибыть во дворец.
Государь, не дав ему и рта раскрыть, указал рукой на Сенатскую площадь.
– Граф! Вы – военный генерал-губернатор столицы и сами должны знать, что вам следует делать; идите туда, возьмите Конную гвардию и распорядитесь как следует.
Милорадович почтительно поклонился, приложив руку к шляпе, и стал выбираться из толпы, сопровождаемый своим адъютантом Башуцким, а император прошел вдоль фронта 1-го Преображенского батальона.
– Сми-р-р-на! – отдал команду командир батальона полковник Микулин и замер сам.
Николай Павлович помахал рукой, что, мол, ничего этого теперь не нужно, и спросил:
– Братцы! Готовы ли идти за мною, куда велю?..
И услышав: «Рады стараться!» – смахнул с глаз непрошеную слезу.
Как он после признался: «Минуты, единственные в моей жизни! Никакая кисть не изобразит геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно первого батальона в свете в столь критическую минуту».
Скомандовав: «К атаке в колонну, первый и осьмой взводы, в пол-оборота налево и направо», Николай Павлович повел батальон мимо заборов достраивавшегося дома Министерства финансов и Иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара.
Между этим углом и забором строившегося Исаакиевского собора, выдвинутым далеко вперед на одну линию с бульваром, был небольшой промежуток в несколько саженей. Прямо против этого промежутка, фронтом к нему, примерно в ста-ста пятидесяти шагах стоял передний фас-каре мятежников, правый фланг которого находился против здания Сената возле гауптвахты, левый – возле памятника Петру Великому, а задний – против угла Сената и набережной.
– Серж! Да ведь это бунт! – поглядел в сторону Сенатской площади Оболенский.
– Князь! – рассмеялся Нарышкин. – Я потрясен вашей прозорливостью. – В толпе народа двигались они к каре мятежников и увидели, как от Сенатской площади к Зимнему неслись сани, запряженные парой лошадей и с иподьяконом[44] на запятках.
Народ матерился, ржал и улюлюкал.
– Митрополит Серафим уговаривать ездил, чтоб одумались, – услышали друзья, разглядывая перепуганного священника, сидевшего на санях в полном облачении и с громадным крестом в руках.
Гвалт стоял невыносимый. У Оболенского начинало ломить похмельную головушку.
Постепенно они подошли к левому углу каре восставших и увидели замерзших солдат, переминавшихся с ноги на ногу, и расхаживающих перед строем молоденьких офицеров с обнаженными саблями в руках, без шинелей, в одних лишь мундирах и белых панталонах.
– Как на летний парад вырядились, сукины дети! – пожалел бунтовщиков князь. – Одна детвора! Верно твой Грибоедов насчет сотни прапорщиков подметил! – качал он головой. – Неужели не видят, что Сенатская площадь крайне стеснена с одной стороны забором, с другой – строительным материалом; да еще народ кругом толпится… Ведь они в безвыходной западне! – отчего-то переживал Оболенский, откатываясь вместе с толпой, которую отжимали полицейские и квартальные на бульвар.
Видимо, в нем сказывалась русская черта – жалеть слабых.
– Куды прете! – орали квартальные. – С минуты на минуту туда, вашу мать, стрелять зачнут, – стращали они народ, который, матерясь в ответ, оттеснял полицейских на старое место.
– Пушкин правильно сказал, – улыбнулся Нарышкин, – что отличительная черта русского нрава – веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться… Сейчас особенно ярко подходит последнее!
Петербургский генерал-губернатор Милорадович с адъютантом удалялись в санях от Зимнего и объездом по Вознесенской, по Мойке, через Поцелуев мост прибыли на Конногвардейскую улицу, где заметили несколько офицерских экипажей, стоявших близ казарм.
– Ступайте и поторопите их, чтобы седлали и выводили полк, – велел адъютанту граф, а сам, сложив руки на груди, где побрякивали и сияли две дюжины российских и европейских звезд и крестов, пошел вдоль по улице.
В конюшнях адъютант застал суету и беспорядок: кавалеристы седлали и мундштучили лошадей.
Под окнами казармы Башуцкий услышал звуки горна и крики вахмистров:
«Выходи в касках, кирасах, при палашах коней седлать!»
Адъютант прошел в казарму, но никак не мог найти хоть какого-нибудь младшего офицера.
«Куда они все подевались?» – глядел он, как старые опытные кирасиры надевали под колет баранью безрукавку, а следом уже кирасу.
Молодежь, как всегда, бестолково суетилась, даже не думая про безрукавку.
– Где офицеры? – спросил у пожилого усатого конногвардейца Башуцкий, но тот, пренебрежительно окинув взглядом его пехотный мундир, продолжал молча опоясываться палашной портупеей, а затем стал прилаживать кирасу.
– На конюшню! – на всякий случай надрывался вахмистр, видя постороннего офицера. – Седлать живо! – но когда понял, что офицер намерен подойти к нему, мигом надел каску, застегнул подбородник и, схватив перчатки, кинулся к двери на лестницу.
Плюнув, адъютант помчался следом за ним в конюшню.
«Явно обо всем догадываются, – думал он, – и не хотят идти на своих! Пусть пачкаются в крови другие, но не они», – злился Башуцкий, вслед за вахмистром забегая в конюшню.
Конногвардейцы, бестолково толкаясь, снимали седла с полок, запрягали в стойлах и выводили коней в коридоры, где образовалась очередь к каменным приступкам: не каждый рисковал взбираться на коня без них, чтоб не разошлись по шву тугие лосины.
Адъютант вышел на улицу, где увидел быстро ходившего с опущенной к земле головой графа. Каждую минуту он нетерпеливо поглядывал на свои часы.
– Господин генерал…
– Что же полк? – перебил его Милорадович.
– Тотчас! – коротко ответил адъютант и обернулся.
Перед конюшней едва ли собралось два десятка человек, и еще несколько кирасиров выезжали из конюшни, пригибая головы в касках, и разбирались по тройкам. Знакомый уже вахмистр вышел пешком, ведя коня в поводу. Адъютант подошел к нему и только хотел спросить об офицерах, как тот, застегнув за луку[45] трензель[46], пошел от него в конюшню.
– Куда ты?
– Рукавицы забыл, ваше благородие, – уже из дверей ответил он.
В это время подъехали Орлов, его адъютант Бахметьев и с ними несколько офицеров. Рубанов ехал стремя в стремя с командиром полка.
Разгневанный Милорадович еще раз взглянув на часы, на линию, где уже должно быть полку, и на подъехавшего генерала, воскликнул:
– Что же ваш полк? Я ждал двадцать три минуты и не жду более! Дайте мне лошадь!
Бахметьев подвел ему свою.
– Вы следуйте рядом, – велел Милорадович Башуцкому и направился к площади.
Близ манежа в конце Конногвардейской улицы графа догнал запыхавшийся Орлов.
– Ваше высокопревосходительство! Обождите еще минуту, и полк будет готов.
– Нет! – запальчиво ответил на плохом французском Милорадович. – Не нуждаюсь в вашем говенном полке! Я один покончу с этим делом. Непременно! – Отъехал от оскорбленного за полк генерал-майора.
Раздвигая лошадью толпу, граф медленно продвигался к площади и остановился за десять-двенадцать шагов от строя мятежников. Это пространство было свободным, и граф даже не догадывался, что место это станет его Голгофой!
Мрачно глянув на бунтовщиков, он негромко, не по-генеральски, а как-то по-домашнему, по-человечески просто произнес: «Смирно!»
Но его услышали.
Глядя на этого прославленного генерала и его сияющую грудь, заговорщики замерли.
– Солдаты! – тихо произнес он, сделав паузу. – Солдаты! – уже громче сказал он, разглядывая замерших перед ним людей.
«Кроме военного, никто не имеет понятия о том нравственном могущественном механизме, которым начальник бывалый, знающий глубоко натуру солдата и человека, обращает такую неурядицу, такую бурю в тишину, умеет буйство перерождать в покорность и кротость», – рассказывал потом его адъютант.
– Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом, Фершампенуазом, Бриеном… Кто из вас был со мною, говорите? – обвел взглядом затихший строй. – Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне?
Никто? Никто не был, никто не слышал?! – Снял он шляпу и медленно осенил себя крестным знамением. Приподнявшись затем на стременах и озирая толпу, величественно произнес:
– Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата!
Снова долгая пауза.
– Офицеры! Из вас уж, верно, был кто-нибудь со мною?
Никто?.. Бог мой! – торжественно повторил он. – Здесь нет ни одного русского офицера!.. Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, то вы знали бы, кто Милорадович!
Он вынул шпагу и, держа ее за конец клинка эфесом к мятежникам, продолжил с возрастающим воодушевлением:
– Вы знали бы все, что эту шпагу подарил мне цесаревич великий князь Константин Павлович, вы знали бы все, что на этой шпаге написано: «Другу моему, Милорадовичу», – по слогам прочел он.
– Другу!.. Слышите?.. Вы знали бы все, что Милорадович никогда не придаст друга… и он не может быть изменником брату царя… Не может!
Он не спеша вложил в ножны шпагу.
Над площадью повисло молчание…
– Об этом знает весь свет, но вы о том не знаете… Почему?.. Потому что нет тут ни одного офицера, ни одного солдата! Нет! Тут одни лишь мальчишки! Осрамившие русский мундир! Воинскую честь! И звание соддата!..
Что вы затеяли? Что сделали?! – голос его гремел над площадью. Он владычествовал, он повелевал толпою.
Солдаты и многие офицеры внимательно слушали его, потупив глаза, и уже начинали стыдиться и понимать, на что они посягнули.
Подняв высоко руки и привстав на стременах, Милорадович продолжил:
– Вы должны сейчас идти, бежать к царю, упасть к его ногам! Слышите ли?.. Все за мною! За мной!!! – как когда-то в бою перед атакой, закричал он, взмахнув рукой.
Наэлектризованная его речью толпа качнулась, солдаты непременно пошли бы за ним… Непременно! Его адъютант мог поклясться в этом!..
Но тут генерал схватился за грудь, которую в пятидесяти пяти сражениях не смел коснуться вражеский металл, глаза закрылись, он качнулся и упал на руки своего адъютанта, не услышав предательского выстрела и не увидев сизого облачка дыма.
Крепко обхватив раненого, Башуцкий положил его голову на колени и с каким-то потрясением бесконечно кричал: «Граф!.. Граф!.. Графф!..»
Оболенский и Нарышкин начинали мерзнуть.
– Да-а… Ребятам тоже несладко! – глядел князь в сторону красногрудых мундиров Московского полка.
Вдруг московцы закричали: «Ура!» – и замахали киверами с высокими султанами. Штыки закачались над их головами.
Народ заволновался, и толпа качнулась к Неве, потащив с собою друзей. Раздались крики: «Ура, Константин! Да здравствует конституция!»
Через минуту они поняли причину: со стороны Адмиралтейской площади к восставшим бежали солдаты с красными лацканами на мундирах и синими воротниками.
– Лейб-гренадеры! – с воодушевлением сообщил кивнувшему головой Нарышкину князь.
Он, неожиданно для себя, держал сторону не хотевших присягать Николаю полков.
«Ура, Константин!» – снова закричали в толпе.
Прокашлявшись и набрав воздуха в легкие, князь Григорий изо всей силы рявкнул: «Ура, Константин!»
Серж задохнулся от хохота.
– Смотри, а то опять сошлют в Молдавскую армию.
Только все немного успокоилось, как со стороны Галерной застучали барабаны и на площадь, взвод за взводом, четко чеканя шаг, вступили солдаты в черных мундирах.
– Гвардейский флотский экипаж! – отчего-то радуясь, сообщил Сержу князь. При грамотном командовании с такой силищей можно свободно посадить на трон даже будочника Чипигу, а не то что Константина. Эх, выпить бы сейчас… И куда все лоточники запропастились?
Конногвардейский полк наконец-то построился, и генерал-майор Орлов, перекрестившись, повел его прежде шагом, а затем малой рысью по Почтамтской улице, мимо Исаакиевского собора, по Вознесенской, мимо дома Лобанова на Адмиралтейскую площадь.
Остановив конногвардейцев и чуть подумав, Орлов повернул кирасиров фронтом к Петропавловской площади и приказал выровнять ряды.
Тут же по полку прошла суматоха, и раздались смешки: на площадь во весь опор влетели кавалергарды, ведомые своим командиром полковником Апраксиным.
– Проспали кавалергарды! – ржали конногвардейцы. – Ну да! Им далече сюда из своих казарм у Таврического сада скакать…
– Смир-р-рна! – раздалась команда, и трубачи заиграли встречу.
От построенного справа батальона преображенцев манежным галопом в их сторону скакал статный генерал в голубой ленте.
– Царь, царь, царь… – прошел шепот по строю.
Орлов, салютуя шпагой, поскакал навстречу.
Трубачи смолкли. Командир полка четко отрапортовал, и оба подъехали к полку.
Император поздоровался. Дружное и воодушевленное «ура!» было ответом на его приветствие.
Из рядов мятежников раздалось: «Ура, Константин!»
Николай отъехал к преображенцам, а Орлов скомандовал:
– Конногвардейцы… Смир-р-рна! Палаши вон!
Клинки лязгнули о железные ножны.
Первый дивизион пошел налево и вдоль здания Сената. Второй и третий не спеша потянулись вдоль Адмиралтейского бульвара. Дойти до самой набережной эскадроны не сумели: там высились кучи крупной гальки, выгруженной с барок для постройки Исаакия.
Рубанов остановил свой дивизион и скомандовал поворот на месте – лицом к площади.
Командир другого дивизиона, полковник Захаржевский, отдал такую же команду, и теперь фронт всех четырех эскадронов повернулся в сторону восставших.
Холодало. Со стороны Васильевского острова подул ледяной ветер. Мерзли ступни в стременах и колени в суконных рейтузах, мерзли пальцы, державшие рукояти клинков, да еще играли на нервах мальчишки, съезжавшие с горы из гальки и норовившие проскочить между лошадиных крупов. Лошади беспокойно фыркали и перебирали копытами, пугаясь шелеста скатывающихся из-под ног ребятни камней.
«Да ну их всех к черту! – ругнулся в душе Рубанов. – Они не решат, кому править, а мы задницы морозь!»
– Вольно! – отдал команду. – Палаши в ножны.
Конногвардейцы повеселели и стали растирать руки и колени.
– Уяснил, салага, для чего баранья безрукавка годна?! – услыхал Рубанов голос унтера Тимохина, обращенный к молодому кирасиру.
К Максиму подъехал полковник Захаржевский.
– А пожалуй, первому дивизиону похуже нашего… – Привстал он на стременах и глянул в сторону Сената, где на другой стороне площади маячили черные конногвардейские каски, и было видно, как с крыши Сената забравшиеся туда строители Исаакия – каменщики, штукатуры, маляры – ссыпали на них камни и дрова.
– Как бы командира не угробили… – стал переживать полковник. И на молчаливый вопрос Рубанова пояснил:
– Тыщу мне вчера продул и сразу не отдал, шельма. Ты же с нами не остался играть…
– Ко мне гости приехали. – Стали успокаивать они коней.
Свора ребятишек, выбежавшая со стороны восставших, начала улюлюкать, гоготать и свистеть. Лошади в страхе шарахались и толкали соседних. Конногвардейцы матерились и орали на пацанов.
– Вот черти! – возмутился Захаржевский. – Всыпать бы им хорошенько. – Отъехал к своему дивизиону.
Мальчишки, набрав полные карманы камней, помчались веселить кавалергардов, а конногвардейцы успокаивали лошадей, похлопывая их по крупам.
– На сенатском дворе поленья сложили, их и таскают на крышу, – услышал Максим голос Тимохина и поехал вдоль фронта своего дивизиона к флангу.
Здесь было еще неспокойнее. Пьяные ремесленники, мастеровые и мужики в тулупах лазили чуть не под лошадиными головами, толкались, орали, матерились, плевались. Мамки с малыми детьми искали мужей, а увидев их, пробирались к благоверным под брюхом у лошадей. Толпа мальчишек кривлялась и показывала языки.
Конногвардейцы поначалу смеялись, но потом насупились, потому как все время приходилось быть в напряжении и держать лошадей на тугом поводу, чтоб они не затоптали нахалов.
Где-то в центре Максим услышал высокий голос Орлова:
– Конногвардейцы, смирно! Палаши к бою!..
Рубанов повернул коня и помчался к середине дивизиона.
– Укороти поводья! – выкрикнул он, останавливаясь, и повернулся лицом к мятежникам. – С места – марш-марш! – отдал команду.
«Черт-дьявол! На своих! – пронеслось в голове. – Неужто станем рубить?» – Рука с зажатым в ней палашом чуть подрагивала.
Он видел, как некоторые кирасиры по пути мстительно перетягивали плашмя палашами особо надоевших мастеровых и мужиков, которые с криком разбегались из-под конских копыт.
Со стороны заговорщиков раздался залп, но картечь пролетела над головами нападавших.
«Тоже своих не хотят гробить!» – отметил Максим и дал себе слово не рубить солдат.
Перепуганные лошади ржали, шарахались от выстрелов, вставали на дыбы, сбрасывая седоков, а то и сами скользили по льду неподкованными копытами и падали.
Строй потерял равнение, и, когда передняя шеренга оказалась перед московцами, раздался сигнал отбоя и команда Орлова:
– Стой! Кругом марш!
Рубанов с облегчением продублировал приказ, подумав, что старых солдат, прошедших с ним войну, осталось совсем немного.
«Вот смеху было бы, ежели бы мы перед французами так», – без злости разглядывал ухмыляющиеся рожи московцев и, отступая, слышал их свист, гогот и обидные крики, как, де, погано на морозе в мокрых рейтузах разъезжать…
«Радуйтесь, что кони на летних подковах ходят, не перекованных на шипы». – Объехал лежащую на земле раненую лошадь и кирасира, распускающего подпругу.
«Чего это он? Видно, седло с вальтрапом вытащить хочет… Вахмистра боится».
– Палаши в ножны! – когда строй остановился, скомандовал Рубанов. – Стоять вольно! Вахмистры. Распорядитесь убрать раненых лошадей, – велел он, слыша нервные голоса кирасиров:
– Чуть башку не разнесли…
– А у меня пуля каску пробила.
– А меня кто-то кирпичом звезданул, только кираса и спасла…
Оболенский наконец увидел лоточника и приобрел у малого две бутылки водки. У забора исаакиевской стройки распили одну бутылку.
– Как во времена корнетской юности, – сморщился Нарышкин, ухватив за плечо пробегавшего мимо них лоточника. – С чем у тебя пироги, милейший?
Приободрившись и чуть согревшись, они снова подошли к каре Московского полка и оказались свидетелями неудачной атаки конногвардейцев.
– Не тот полк стал, не тот! – сделали они вывод, слушая крики московцев и подначки из толпы.
– Ура-а-а! Конституция-а-а! – надрывался рядом с ними мастеровой, размахивая шапкой.
Улыбнувшись, Нарышкин поинтересовался у горлопана:
– Просвети нас неразумных, мил-человек…кто такая, эта самая конституция?
– Как хто? – удивился мастеровой глупости господ. – Жа-а-на Константина! – Снова заорал и замахал шапкой.
– Понятно, господин полковник? – поглядел на Оболенского Серж.
– Дык усе мине ясно… А республика – жа-а-на Робеспьера! – ответил тот.
– Князь! По-моему, ваш братец среди мятежников мелькнул.
– Да полно вам!
– Точно! Он…
На этот раз и Григорий увидел своего кузена.
– Черт-дьявол, как говорит Рубанов, пойдемте узнаем, что он там делает…
Рявкнув на толпящихся мастеровых и весьма ярко проявив свойственный русскому человеку способ «своеобразно выражаться», друзья подошли к каре московцев и, снова воспользовавшись известным уже способом, проникли в их центр, где и наткнулись на Евгения Оболенского.
Шел третий час пополудни. Пасмурный денек вытекал сквозь пальцы.
В рядах Московского полка раздались крики, и солдаты ощетинились штыками.
– Надо посмотреть… – друзья, расталкивая солдат, прошли вперед и увидели мчавшуюся на московцев лаву конногвардейцев.
– Да ведь это наши! Их же вмиг сомнут, – пожалел солдат князь.
– Давайте, господин полковник, встанем перед каре… Увидев своих бывших начальников, конногвардейцы не станут рубить несчастных.
Рубанов летел впереди дивизиона и уныло махал палашом, когда, вдруг заметил своих друзей, стоявших перед каре восставших.
«Ничего не понимаю! Как они там оказались?..»
Эскадроны быстро приближались к мятежникам.
«Стоят улыбаются и руки в карманах! – любовался он ими. – Словно прогуляться вышли». – Натянул поводья и стал переходить на медленную рысь.
Его эскадроны тоже потеряли скорость, и кирасиры сдерживали коней – негоже вырываться вперед командира.
Однако несколько самых горячих все же въехали в каре Московского полка, но рубить солдат не решились. Те, от души матерясь, вытолкали их из своих дружных рядов.
– Господа! Что вы тут делаете?
– Вас ждем, сударь. Мы же договаривались здесь встретиться, – улыбался Оболенский.
– Рубанов! В чем дело? Почему остановили атаку? – подлетел к ним командир полка. – И эти здесь… – Не слишком любезно кивнул полковникам. – Понятно… Забирайте их и отходим.
Взяв с товарищей честное слово, что они впредь никуда не ввяжутся, Рубанов, кинув палаш в ножны, сидел на коне перед своим дивизионом и рассуждал о том, что император, ежели узнает, не простит ни ему, ни Нарышкину с Оболенским срыва атаки.
И тут же вздрогнул от выстрела пушки. Следом раздался другой.
«Отвык! Отвык, господин полковник, от боевых действий!» – Проследил, как с крыши Сената сорвалось несколько тел, пораженных картечью.
Следующие выстрелы были уже прицельные, а не над головами. Масса людей бросилась к Английской набережной, прорвав цепь ограждения из конно-пионерного эскадрона. На колокольнях пробило три часа…
– Палаши вон! К бою! – услышал он голос Орлова. – За ними, на Васильевский остров! – подъехав к Рубанову, произнес тот, и полк двинулся к мосту.
Но там оказалось так скользко, что лошади падали на каждом шагу. Некоторые слезали и пробовали вести их в поводу, но безуспешно – увлекаемые лошадьми, валились сами, – и не успели дойти до противоположного конца моста, как от заговорщиков на Неве и след простыл.
«Слава Богу!» – порадовался Рубанов. – Полк не обагрил русской кровью свои палаши!..»
Орлов остановил конногвардейцев и повернул назад, построив полк на площади лицом к Сенату.
54
К вечеру мимо конногвардейцев стали проводить на гауптвахту Зимнего дворца пойманных заговорщиков. Первым был схвачен штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Щепин-Ростовский, который нанес тяжелые раны саблей пытавшимся воспрепятствовать выходу полка на Сенатскую площадь командиру 1-й гвардейской пехотной бригады Шеншину и командиру Московского полка генерал-майору Фредериксу.
Подозревали, что он главное лицо бунта, но с первых его слов удостоверились, что тот являлся, как и солдаты, слепым орудием других, завлеченных убеждением верности Константину.
Николай Павлович поручил снимать допросы и записывать показания подозреваемых в мятеже генерал-адъютанту графу Толю.
В тот же вечер он пишет брату Константину в Варшаву: «Я стал императором, но какой ценой, Боже мой! Ценой крови моих подданных».
Следом за первым арестованным к царю привели Бестужева, офицера Московского полка. От него узнали, что князь Трубецкой был назначен предводителем мятежа.
«По первому показанию насчет Трубецкого, – пишет в своих воспоминаниях Николай, – я послал флигель-адъютанта полковника гвардейского главного штаба Андрея Михайловича Голицына взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль.
Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены.
Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел, однако, в одном из ящиков, нашлась черновая бумага на оторванном листе: это была программа на весь ход действий мятежников на 14-е число с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждого. Князь Голицын скоро воротился от княгини Белосельской с донесением, что там Трубецкого не застал и что он переехал в дом австрийского посла графа Лебцельтерна, женатого на другой же сестре графини Лаваль.
Позже Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен. Кажется мне, тогда же арестован и привезен ко мне Рылеев. В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь».
Настало утро следующего дня. Солнце ярко освещало войска, было около десяти или более градусов мороза. Долее держать их под ружьем не было нужды.
Надев преображенский мундир, император объехал и поблагодарил солдат и офицеров. Когда возвращался обратно, мимо него провезли в санях Евгения Оболенского.
Не успел Николай прибыть во дворец, как ему доложили, что явился сам Александр Бестужев, прозванный Марлинским.
Император вышел в залу и велел позвать его. Тот приблизился, отстегивая саблю и протягивая ее государю, произнес:
– Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.
На следующий день конногвардейцам пошли награды.
Нижним чинам было повышено жалованье.
– Хошь на рубь в треть – и то давай сюды! – радовались кавалеристы.
Двести кирасиров «беспорочной службы и хорошего поведения» стали получать вместо семи почти двадцать в треть, что являлось приличным доходом.
Унтера – вместо двадцатника – двадцать шесть с полтиной.
То-то у Тимохина было радости.
Вахмистры же вместо тридцати одного рубля стали получать сороковник.
Тем более не обидели и офицеров.
Двух полковников император назначил флигель-адъютантами. Все командиры эскадронов получили ордена.
Лишь один Рубанов не получил ничего… и перед Новым годом был арестован. Приехавший за ним пехотный капитан ужасно стеснялся; извинялся, пожалуй, почаще подвыпившего гусарского полковника, мир праху его, и с жалостью глядел на жену и сына опального конногвардейца.
На улице их ожидала зарешеченная карета и сопровождение из четырех кавалеристов, то и дело покрикивающих на лошадей и нервно поправлявших седла, подтягивающих подпруги и застегивающих мундштуки.
«Волнуются. Не привыкли полковников арестовывать», – с горечью подумал Максим, обнимая жену и сына.
А в доме напротив кто-то играл на рояле сонату Бетховена.
Мари, стянув на груди платок и дрожа, глядела на мужа, на то, как он садился в арестантскую карету, и не могла понять, что случалось… За что?..
Прежде чем дверца закрылась, Максим что-то крикнул ей и помахал рукой. Но она ничего не слышала и не воспринимала, кроме оглушительных аккордов бетховенской сонаты, гремевшей из соседнего окна, а может, у нее в голове…
Рубанов думал, что его повезут в Петропавловскую крепость, но карета остановилась у Главного штаба. Опрометью выбежавший дежурный поручик отдал честь вылезшему из кареты полковнику и с уважением произнес:
– Извольте следовать за мной на гауптвахту, ваше превосходительство.
Молодой солдатик учебного карабинерного полка открыл перед Рубановым дверь.
– Принимайте, господа, еще одного товарища, – произнес офицер, и Максим ступил в длинное и просторное помещение главной гауптвахты.
– Рубанов! И вы здесь? – услышал удивленный голос Оболенского и попал в его объятия.
Следом пожал руку и Нарышкин. Оба они были с крепкого похмелья.
– Нас с самого утра привезли, – сообщил князь, – с ума все посходили… Россия испокон веку на нехватку дураков не жаловалась… Полагаю, разберутся – выпустят.
После обеда знакомый уже Рубанову дежурный офицерик вызвал его и, вытирая губы, измазанные вареньем, объявил, что сейчас они пойдут в Зимний дворец.
Рубанов строго глянул на поручика, отчего тот подтянулся и на всякий случай козырнул ему; через стеклянную дверь офицерской караулки Максим разглядел стол, самовар на нем и громко что-то обсуждавших офицеров.
«Совсем службу завалили, черти… Никакой дисциплины!» – пока шел через площадь в Зимний, злился он.
О жене и сыне старался не думать, отвлекая себя посторонними мыслями.
В Зимнем молоденький офицер заблудился, и, выяснив, куда им надо идти, Рубанов сам привел его в гостиную императора, где проводились допросы. Покрасневший поручик, благодарно кивнув, ушел, а дежурный флигель-адъютант проводил полковника в гостиную, где уже ждали его генерал-адъютант Левашов и император.
Николай сидел в глубине комнаты за маленьким столом, освещенным четырьмя свечами в медном подсвечнике, и что-то читал.
Сесть Рубанову не предложили, а Левашов, несколько смущаясь, так как не раз играл с ним в карты, произнес:
– На вас есть прямое показание, что вы участвовали в намерении тайного общества свергнуть законную власть.
– Вздор! Ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал, о намерениях оного сведений не имел и прошу очной ставки с моими обвинителями…
– Не горячитесь, полковник, – поднялся со своего места император и подошел к нему. – Я знаю, мой брат очень ценил вас и вашу службу. Почему же не желаете служить мне?..
А что касаемо тайного общества, то ежели не участвовали в нем, об этом нам будет в точности известно. Напрасно никто из моих подданных не пострадает, ибо мною дано направление следственному комитету не искать виновных, но всякому давать возможность оправдаться…
Однако, господин полковник, атаку Конного полка вы сорвали, и мы из-за вас могли бы упустить победу.
Этого, надеюсь, вы отрицать не станете? Да вы садитесь, садитесь, – указал на стул.
– Нет, ваше величество, этого я не отрицаю, но следует разобраться и в мотивах сего деяния…
– Разберемся и в мотивах, – пообещал Николай, велев флигель-адъютанту увести арестованного.
Ранним утром следующего дня сменившийся с караула поручик передал Рубанову короткую записку, в которой почерком Мари были написаны четыре слова: «Люблю!.. Люблю!.. Люблю!.. Жду!..».
Аресты продолжались, расползаясь из Петербурга дальше и дальше, словно круги от брошенного в воду камня. В Москве арестовали Михаила Нарышкина, Фонвизина и многих других.
К удивлению Рубанова, молодежь гордилась этим и даже желала быть взятыми и тем, по их словам, стяжать известность и мученический венец. О серьезных последствиях и наказании они даже не помышляли. Юные дамы, не обращавшие на них прежде внимания, теперь забрасывали страдальцев письмами и признаниями в любви.
Как все это было славно…
Впервые высший свет не отвернулся от заключенных, а сочувствовал и даже гордился ими. Да и как тут отвернешься, коли в тайном обществе состояли лучшие фамилии России.
Пораженный этим, император соизволил помиловать замешанного в бунте Раевского, сына известного генерала, который в Отечественную войну для поощрения солдат к сражению выставил перед ними двух своих сыновей.
Также простил он сына фельдмаршала Витгенштейна, ротмистра кавалергардского полка и внука Суворова эстандарт-юнкера лейб-гвардии Конного полка Александра Аркадьевича Суворова, впоследствии генерала от инфантерии и в 1861–1866 гг. петербургского военного генерал-губернатора.
– Внук Суворова не может быть изменником, я не хочу тебя слушать – ступай! – сказал ему император.
Освободили из Петропавловской крепости и генерала Михаила Орлова. Его младший брат и новый фаворит императора генерал-адъютант граф Алексей Орлов на глазах у всех присутствующих упал на колени перед священным самодержцем и поклялся всю жизнь посвятить преданной службе трону, он просил как милости пощады для брата. Император был уверен, что троном обязан стоящему на коленях генералу, и пообещал подумать, вскоре написав следующий рескрипт:
«Продержать еще один месяц под арестом. Затем уволить и никуда больше не определять. После ареста он должен быть отправлен в свое имение на постоянное местожительство, а местному начальству установить за ним бдительный и тайный надзор».
Неунывающий остроумец, московский генерал-губернатор Ростопчин с иронией удивлялся:
– Во Франции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями, у нас же графы и князья хотели сделаться сапожниками и тряпичниками…
После Нового года в Малороссии были арестованы и привезены в Петербург члены Южного общества: подполковник Сергей Муравьев-Апостол, поручик Михаил Бестужев-Рюмин и другие, поднявшие бунт в Черниговском пехотном полку.
Пестеля арестовали еще раньше.
Среди арестованных находился и полковник Михаил Строганов. На гауптвахте в Главном штабе он попал в объятия трех друзей.
– И вы здесь? – только и смог вымолвить полковник.
Оболенский тут же принялся за инструктаж.
– Господин подследственный! Даже ежели виновны, то не теряйтесь. Его императорское величество своим указом признал за благо учредить следственный комитет, дабы вывести на чистую воду, – в прямом смысле, кроме проклятой воды, ничего не видим – так вот… оному комитету надлежит принять деятельнейшие меры к изысканию соучастников сего гибельного общества и определить предмет намерений и действий каждого из них ко вреду государственного благосостояния. Уф-ф!
Мы с Нарышкиным, господин полковник, пили не в том месте и не в то время… А вы слишком активно играли с Пестелем на фортепьяно и слишком внимательно слушали рассказы ротмистра Ивашева об Ундорово.
– Да откуда вам все известно, сударь? – всполошился Строганов, сузив монголоидные карие глаза и сморщив курносый нос.
– Нам с Его Ампираторским Величеством обо всем известно…
– Говорите по существу, князь, – вмешался Нарышкин, положив руку на плечо Строганова. – В следственном комитете председателем военный министр Татищев. Заседают до поздней ночи при свечах. Бывает, что ведут на заседание с повязкой на глазах…
– …Ага! – перебил его Оболенский. – Это чтобы по дороге я водку у лоточников не увидел, а то ведь меня ни один караул не сдержит.
– Не слушайте его, – улыбнулся Рубанов, – князь счастлив, что дорвался, наконец, до простой жизни…
– …Когда вас приведут на заседание, – продолжил Нарышкин, – конвоиры скомандуют: «Стоять на месте». Затем брат императора Михаил велит им снять с вас повязку, и вы ослепнете от множества свечей…
– …Не теряйтесь. Это самое главное, – вновь встрял Оболенский, – ото всего отказывайтесь…
– …Кроме фортепиано и Ундорова, разумеется, – вставил Максим, – и дальше Петропавловской крепости вас не пошлют.
Слова его оказались пророческими. В середине января всех их перевели в казематы Петропавловской крепости.
Поначалу четырех полковников поселили в одной тесной камере. Когда надзиратель, загадочно ухмыляясь, со скрипом растворил перед ними тяжелую дверь, то при свете свечи они увидели, что стены усеяны тараканами и жуками.
– Черт-дьявол! – воскликнул Рубанов. – Вот так дворец.
Несколько позже их расселили по одиночкам. Встречались они теперь только на допросах.
– Как жизнь, князь? – при встрече интересовался Рубанов.
– Весьма насыщенна, господин полковник. Что может быть прекраснее сушеной корки на завтрак, помоев на обед и крыс с жуками в товарищах… Я, пожалуй, пересмотрю свое кредо о простой жизни…
Кстати. Недавно на допросе столкнулся с Одоевским, конногвардейским корнетом и заговорщиком. От него узнал, что он присоединился к мятежникам, отстояв ночь во дворцовом карауле, где свободно мог бы арестовать всю царскую семью. Но офицерский долг повелевал охранять их…
Детвора… Розгами бы по мягкому месту. Майся тут теперь по их милости. Все были герои!.. А нынче оговаривают друг друга, дают подробные показания и пишут покаянные письма…
Да-а-а… Вчера меня допрашивал Колька Шувалов.
– Ну и дела. По всему видно, быстрее нас генералом станет, – сделал вывод Максим.
– Можете смеяться надо мной, но я начинаю уважать молодого императора, – произнес Оболенский. – Да я уже несколько дней не пил. Чего нюхаешь? – отступил он на шаг от Нарышкина. – Наш новый император – рыцарь! Шувалов рассказал мне, что Николай I, велев арестовать младшего Шереметьева, тотчас послал к его отцу брата Михаила с выражением соболезнований. Убийца Милорадовича Каховский уже называет императора «отцом отечества», и граф показал мне письмо, в котором Каховский пишет об императоре: «Я заметил слезы в его глазах, и они меня тронули более всяких обещаний и угроз».
А мой родственничек, оказывается, был даже назначен диктатором восстания заместо князя Трубецкого, который скрылся и не пришел на площадь…
– Зато мы там погуляли, – сумел вставить Нарышкин.
– Заговорщики тоже мне, растудыт иху… в палаш, ботфорты и эполеты мать… – не слушал его князь.
Конвойным показалось, что бывшие господа слишком разговорились, и они развели их по камерам.
55
Арест мужа Мари сочла трагической ошибкой и недоразумением, которое не сегодня, так завтра должно было разрешиться, но время шло, а ее Максима всё не отпускали.
Она ездила на прием к князю Александру Голицыну, которому государь доверял и назначил членом следственного комитета, но, кроме обещаний во всем разобраться, ничего обнадеживающего не услышала. А между тем дни проходили за днями, но ничего не менялось, лишь соната Бетховена все громче и громче звучала в мозгу, порой доводя ее до изнеможения, и постоянно чудился стук в дверь.
С бьющимся сердцем она бежала открывать, отталкивая слуг, но то был лишь ветер… или нервы… или несбывшаяся надежда…
Лежа на нарах, Максим вспоминал себя перед Бородино и свои мечты увидеть Мари.
Сейчас ему хотелось увидеть ее с гораздо большей силой. Он просто бредил ей, и однажды, когда закрыл глаза, ему даже показалось, что она здесь, рядом, что-то шепчет, успокаивая, и гладит волосы.
Видение оказалось столь ярким, что он уловил ее дыхание у своего уха и почувствовал запах духов…
– Мари-и! – раскрыв глаза, прошептал он, достал из-под гнилого матраса записку и развернул ее, прочитав в кромешной темноте не глазами, а сердцем: «Люблю!.. Люблю!.. Люблю!.. Жду!..».
Свой день рождения Рубанов закончил допросом.
Поздним вечером конвойный вывел его из камеры, не завязывая глаз, и провел в помещение следственного комитета. Там находился лишь один человек – Николай Шувалов.
На этот раз особой радости его лицо не излучало, но и власть свою он показывать не стал, сразу предложил сесть и угостил холодным чаем.
– А почему без рома? – подпустив возмущение в голос, произнес Максим, но Шувалов сделал вид, что не расслышал слов арестованного.
Рубанов заметил, что тому было несколько не по себе и он стеснялся теперешней своей роли.
В комнате повисло напряжение. Но служба есть служба…
– Вы-то, сударь, попали в эту глупейшую ситуацию из-за дружбы. Сие можно понять, – поднес к глазам исписанный лист Шувалов.
От колебания воздуха, произведенного этим движением, язычки пламени на свечах нервно заметались, и тень Шувалова запрыгала на стене. Казалось, он исполняет какой-то безумный и трагический танец.
Постепенно тень успокоилась, и Максим глядел теперь только на нее. Ведь тень обладала лишь голосом, но не имела лица.
– А Оболенский с Нарышкиным? Они-то там как оказались? – вопрошала тень.
– Мы договорились встретиться на площади после присяги и, как водится, отметить встречу; но, увидев русских солдат, которых собирались рубить другие русские солдаты, господа офицеры встали между ними, дабы отвести кровопролитие… – объяснял Рубанов вновь задергавшейся тени, потому как Шувалов положил лист на стол и этим обеспокоил пламя.
– То есть никаких порочащих действий в поведении друзей вы не находите? – поинтересовалась тень и почесала себе нос.
– Даже ежели бы и находил, то не стал бы говорить об этом, – произнес Максим.
– Да что вы смотрите куда-то на стену, сударь, извольте глядеть на меня.
– Я на вас и гляжу, – грустно улыбнулся Рубанов.
– Другие не столь щепетильны. Кюхельбекер с Пущиным еще с лицея дружили, однако на очной ставке один из них показал, что другой, а именно Пущин, предлагал ему убить великого князя Михаила Павловича, – сунул в руки Максима протокол. – Полюбуйтесь, господин полковник, все зафиксировано и подписано.
– И вы того же требуете от меня? – не читая, он бросил бумагу и поглядел на этот раз в глаза человеку… бывшему другу.
Не выдержав взгляда, тот отвернулся.
Следующий допрос состоялся лишь в мае. За столом важно сидел старый знакомец, дядя князя Петра Александр Николаевич Голицын.
Причем на этот раз Рубанова в следственную комиссию привезли днем, а не на ночь глядя, как обычно.
– Эк вас, сударь, потрепало, – поднялся из-за стола и протянул руку царедворец.
– Зато вы, Александр Николаевич, наконец-то доказали, что нужнее Аракчеева, которого государь отправил в отставку.
Вспомнив об Аракчееве, Голицын покраснел от удовольствия.
– Садитесь, милостивый государь, – указал на стул, усаживаясь на свое прежнее место. – Скучаете по супруге-то, полагаю? – улыбнулся он. – И угораздило вас, батенька… Но вы-то хоть не состояли в тайном обществе, а чего не хватало другим… Тому же Рылееву, к примеру. Бог дал талант, любимую жену, хорошую службу… Так нет… Конституцию ему подавай.
Теперь кается и называет всех, кого помнит в своей организации. Оставил жену с дочерью без средств к существованию… Спасибо великодушному нашему императору, – продолжал Голицын, – который позаботился о семье бунтовщика и отправил перед Рождеством две тысячи рублей жене с маленькой дочерью. А в день именин его Настеньке императрица подарила от своего имени еще тысячу…
Ну как можно бунтовать против таких правителей?!
Вот что написал сей господин своей супруге: «Я мог заблуждаться, могу и впредь, но быть неблагодарным не могу… Милости, оказанные нам государем и императрицею, глубоко врезались в сердце мое».
Вот как заговорил…
Я это к чему?.. Что и вам есть за что благодарить государя. – И на вопросительный взгляд Рубанова вновь поднялся из-за стола и подошел к нему. – Поздравляю вас с оправдательным аттестатом… Вы свободны, сударь, – протянул пораженному Максиму какую-то бумагу. – Его величество не видит больше причин содержать вас в крепости. Урок за нарушение воинской присяги вы получили. О дальнейшей вашей судьбе узнаете позже. – Позвонил в колокольчик, и вбежавший адъютант вывел безмолвного и потрясенного Рубанова из зала.
У каменной стены Алексеевского равелина, в том месте, где в праздник Богоявления обычно устраивался крестный ход, стояла карета.
Рубанов шел один и вдыхал свежий невский воздух.
«Один! Без конвоира!» – подумал он и увидел, как дверца кареты раскрылась и оттуда грациозно ступила на землю самая прекраснейшая из женщин.
Она бежала к нему, сдерживая слезы, а в голове ее звучали финальные аккорды сонаты Бетховена.
Максим видел вначале всю ее, милую свою Мари, затем только напряженное лицо, а когда она приблизилась к нему, то не замечал ничего, кроме огромных любящих глаз, от которых затрепетало сердце.
Мари прижалась к груди мужа, и музыка стихла…
Только его дыхание… его руки… его шепот… и губы, губы, губы… на ее лице.
Первый свой визит он нанес Оболенским. Здесь жила и Софи Нарышкина с детьми. Постаревший папà долго расспрашивал о сыне, а Софи не произнесла ни слова, лишь молча вытирала слезы.
Затем Рубанов посетил Голицыных. Князь Петр долго держал его в объятиях и похлопывал по спине. Затем отпустил, отвернулся, закряхтел и вытер глаза.
– Старею, брат! Становлюсь сентиментален, слезлив и мягок…
Княгиня Катерина погладила щеку и поцеловала Рубанова в лоб.
– Я горжусь вами, сударь! – произнесла она.
В конногвардейском полку к нему отнеслись по-разному. Некоторые старшие офицеры отворачивались, пряча за спину руку, чтоб не здороваться, зато младшие глядели с восторгом и безграничным уважением.
Через неделю с курьером пришел пакет, в котором до сведения Рубанова доводилось, что он разжалован в прапорщики и переведен в армейскую пехоту, о дальнейшем его назначении будет сказано позже, а до сего времени ему надлежит неотлучно находиться дома.
«То есть отправлен под домашний арест! – отметил он. – Это еще полбеды. И что разжаловали, согласен, но почему в пехоту?» – страдал всей душой.
Дом Рубановых не закрывался. С визитами приезжали жены томящихся в крепости мятежников: Волконская, Муравьева, Трубецкая, Рылеева…
Максим, как мог, успокаивал их.
Следствие продолжалось, и еще проходили аресты.
Одним из последних в апреле 1826 года из Варшавы в Петербург в сопровождении фельдъегеря и двух казаков был доставлен Лунин.
Самое тяжелое обвинение против него высказал Александр Поджио. Приложил руку и Пестель, который сообщил следственному комитету, что в самом начале образования общества Лунин «…в 1816 или 1817 году предлагал партиею в масках на лице совершить цареубийство на Царскосельской дороге, когда время придет к действию приступить».
Среди членов следственного комитета эти слова вызвали необычайный подъем духа и оживление, ведь они стремились доказать, что главной целью бунтовщиков было убийство царя.
Великий князь Константин пытался спасти Лунина и писал брату в Петербург, что имеет сомнения относительно показаний некоторых из мятежников: «Откровенно говоря, дорогой брат, эти показания или признания после событий весьма недостоверны и даны единственно для самооправдания, чтоб запутать дело, замешать в него различные имена и личности и вызвать к ним подозрения и сомнения».
На каждое письмо императора арестовать Лунина следует ответ великого князя – нужны к тому доказательства…
Константин предложил своему адъютанту деньги и карету, которая доставит его в Париж.
Но Лунин отказался. Он имел весьма высокие понятия о чести. Слушая на очных ставках, как бывшие друзья оговаривают его ища у власти снисхождения, он сказал: «Я слишком уважаю честь этих господ, чтобы дать их словам опровержение, что же касается до подробностей, которые они сочли нужными вам передать, я их не помню, может, они и в самом деле были».
Он не назвал ни одной фамилии.
Когда всех осужденных отправили в Читу, Лунин сидел в каземате Шлиссельбурга до конца 1829 года. Условия были самые отвратительные. С потолка капала вода. Но на вопрос коменданта, что он может сделать для облегчения положения арестанта, Лунин с улыбкой ответил: «Я ничего не желаю, генерал, кроме зонтика!».
В результате у него выпали все зубы, и, приехав в 1830 году в Читу, он сказал встретившим его товарищам по ссылке: «Вот, дети мои, у меня остался только один зуб против правительства».
56
В конце апреля пришло два письма. Одно из Рубановки, в котором сообщалось, что умер старый Изот; другое из Ромашовки, из которого следовало, что Владимир Платонович знать не желает прапорщика Рубанова, он давно был уверен, что свадьба его дочери – ошибка!
Через три дня после этих писем судьба добавила ложку меда в бочку с дегтем – освободили Нарышкина и Оболенского.
На несколько дней их отпустили домой. Кому и что за это преподнес – папà Оболенского держал в тайне.
Приговорены они были «…к лишению чинов и разжалованию в рядовые с выслугою», что считалось самим мягким наказанием для мятежников.
– Здорово нам повезло, – гудел похудевший Оболенский, – ведь, не говоря уже о каторге, запросто могли приговорить к лишению чинов и дворянства и разжаловать в рядовые без выслуги, а так скоро вновь до полковников дослужимся.
А ты из-за нас прапорщиком стал! – жалел он Рубанова.
– Да рядом с Рубановкой оба берега крутые, так что у нас все никак у людей! – отвечал Максим. – Пора бы к этому привыкнуть…
В мае высочайшим указом прапорщику Рубанову и рядовым Нарышкину и Оболенскому было велено следовать к месту службы на Кавказ.
Император пожалел бывших полковников и оставил им дворянство, ордена и выслугу. Зато, дабы посильнее уязвить неблагодарных, определил их в пехоту.
Он знал, каково кавалеристу в чине полковника надеть зеленый солдатский – и самое главное – пехотный мундир.
Самолюбие его было удовлетворено:
– Больно жалостливые – вишь, солдатиков им жалко, а не императора. Вот пусть в солдатах и послужат… – произнес Николай.
– Подумаешь, конногвардейцы! Весь строй в белой форме – словно гусиные задницы торчат! – мечтательно произнес Оболенский. – То ли дело зеленый пехотный мундир! – Сплюнул в пепельницу, глянув на себя в зеркало.
– Словно навозные мухи выглядим, – примеряли они с Нарышкиным пошитые у лучшего столичного портного гренадерские солдатские мундиры.
Невдалеке в таком же зеленом мундире стоял Рубанов.
– Теперь я понимаю, почему у Вайцмана был кислый вид, когда он надел синюю уланскую форму… Помните, господа? – все никак не мог успокоиться князь.
– Зато теперь нами бы гордился хозяин «Храброго гренадера», – презрительно разглядывая свою зеленую форму, сделал вывод Нарышкин.
– Тьфу-у! – опять сплюнул князь.
Для окончательного унижения бунтовщиков рядовым Оболенскому и Нарышкину к месту службы в Кавказский корпус велели следовать по этапу, в сопровождении фельдъегеря.
Рубанову приказали добираться в армию Ермолова самому.
Заранее простившись с родными, чтобы они не стали участниками абсурда, Нарышкин с Оболенским прибыли в карете к Главному штабу, где их, под улыбки офицеров и окрики усатого фельдъегеря, разместили в телеге на соломе, и далеко не блестящий экипаж тронулся в путь.
Рубанов, по старой кавалерийской привычке, ехал верхом рядом с друзьями и с болью замечал, что даже неунывающий Оболенский растерял свой всегдашний апломб, не говоря уже о Нарышкине.
Да еще перед их упряжкой тащилась колымага водовоза, на которой гремели две пустые бочки.
Дребезжание этих бочек почему-то угнетало сильнее всего…
Даже сильнее мыслей о том, что их могут увидеть знакомые…
Даже сильнее армейской зеленой формы.
«Проклятые бочки!» – подумал Максим.
Дребезжание напоминало ему ехидный хохот офицеров у Главного штаба.
За городом их догнали три удобных экипажа и три возка с провизией и вещами.
Фельдъегеря тут же напоили и уложили спать в телеге, а сами взбодрившиеся гренадеры с удобством расположились в экипаже за бутылочкой мадеры, и потекли, как вино в стакан, разговоры о бунте и тюрьме.
– Да, кстати, бывшие господа! – вспомнил князь и заржал. Выпив, он полностью пришел в себя. – Петропавловская крепость не может без Оболенских… Кроме меня и Евгения, в Алексеевский равелин попал и мой любимый племянник Сергей Сергеевич Оболенский. Точная моя копия в юности. Такая же буйная головушка, – хвалился родственником князь. – Влетел за дезертирство, игру в карты и рулетку, а более всего – за дерзкое письмо начальнику своему барону Будбергу. Это такая гнида… Жаль, что я рядовой.
Папà сказал, что решено лишить его чина, разжаловать в солдаты и отправить на Кавказ. Мальчишка по моему пути пошел, – развеселился князь. – Так что скоро у Ермолова в корпусе двое Оболенских рядовыми станут служить…
Но тут он ошибся. Племянничек оказался много буйнее дядюшки… В пути он подрался с конвоиром, отнял у того саблю и плашмяком надрал фельдъегерю задницу.
Когда молодого Оболенского схватили, то при обыске – в придачу к синей заднице фельдегеря – обнаружили тайное письмо бунтовщика Кюхельбекера, которое князь собирался передать Грибоедову.
Сергея Оболенского за стычку с конвоиром и особенно за письмо лишили княжеского достоинства и как «опасного для службы и нетерпимого для общества» отправили не на Кавказ, а в Сибирь.
На решении суда Николай I собственноручно начертал: «Быть посему».
Не обратив внимания на красоты природы, прибыли в Тифлис.
Рубанов направился в штаб Ермолова, а рядовых фельдъегерь сдал под роспись командиру гренадерского полка.
Полковник, всю жизнь прослуживший в дальних гарнизонах, злобно морщась на новую, с иголочки, форму этих аристократов, определил их в роту штабс-капитана Герасимова – «поэта» фрунтовой выправки и дисциплины.
Это был первый из «поэтов», которого возненавидел Нарышкин.
Именно таких офицеров Денис Давыдов называл «истыми любителями изящной ремешковой службы».
– Тэ-э-экс! – уставился на них ротный. – Сми-и-р-р-на! – выкатив глаза, скомандовал он.
У Оболенского дико зачесались кулаки.
– Значитца, бунтовать против батюшки царя вздумали? – пялился на них офицер. – Почему не по форме одеты? – заорал он.
Оболенский принялся считать до ста, разглядывая дверь. Нарышкин твердил державинские вирши, пока ротный измерял линейкой громадный султан[47] из черного конского волоса, прикрепленный к гренадерскому киверу и означавший, по мнению покойного Александра и Аракчеева, знак гранаты – гренады, по-ихнему. Любили старинные выражения.
– Целого дюйма не хватает, – бесился Герасимов, размахивая линейкой, и с профессиональной выучкой метнул нарышкинский кивер на подоконник, ловко сбив им пустой пыльный графин. – Целого дюйма не хватает, – в ужасе твердил он, измеряя ширину султана на кивере Оболенского.
– Да что мне им пушку, что ли, чистить? – резонно заметил князь, прикидывая, что краснее – конногвардейский вицмундир или командирская рожа.
– Мол-ча-а-а-ть! Бунтовщик, – метнул ротный кивер в угол комнаты. – Не знаю, кем были раньше, но теперь вы рядовые гренадерского полка и будете соблюдать дисциплину и форму одежды, – брызгал слюной штабс-капитан.
«Ежели двинуть сего солдафона по зубам, то и вовсе в Сибири очутишься, – уныло рассудил князь. – Следует терпеть!» – Досчитал уже до тысячи.
– Охрименко! – высунув голову в окно, заорал ротный. – Примешь их в свое отделение и обучишь всем фрунтовым хитростям! – приказал вбежавшему огромному унтеру. – Да вели им прежде всего усы отпустить, а то рыла какие-то бабские.
– Да-а! Этот почище Вебера будет… – сделали вывод бывшие конногвардейцы, топая вслед за унтером. – Хорошо, что мы георгиевские кавалеры, а то шпицрутенами выдрать бы приказал, – произнес Нарышкин.
В штабе корпуса Рубанов неожиданно для себя столкнулся с Денисом Давидовым.
– Вы мне проходу не даете, генерал, – радостно произнес он, обнимая приятеля.
– Здорово, здорово, карьерист! – хохотнул тот, разглядывая его новые эполеты. – Наслышаны о вас! Пойдемте, провожу к Ермолову.
Примерно через час в открытом возке Давыдов, Ермолов и Рубанов направились в расположение гренадерского полка.
На этот раз Максим с удовольствием оглядывал улочки Тифлиса и любовался буйным цветением природы, когда выехали за город. Иногда он бросал взгляды на такую же буйную шевелюру командующего и улыбался, кивая головой, когда генерал знакомил его с названиями мест, мимо которых они проезжали.
Приезд корпусного командира для штабс-капитана являлся тем же, чем сошествие архангела Гавриила для дьячка сельского прихода.
– Где тут у вас вновь прибывшие рядовые? – поинтересовался, выслушав доклад побледневшего ротного, Ермолов.
Вытаращив глаза и хватая ртом воздух, тот махнул рукой в сторону стоявшего неподалеку отделения, где унтер как раз обучал пополнение носить шинель и ранец.
Солнце палило немилосердно, и унтер-офицер позволил себе расстегнуть верхние крючки и пуговицы на мундире. Двое новеньких рядовых стояли перед ним, одетые по полной форме и в придачу с ранцами за спиной.
– …Узкую однобортную шинель в ненастную погоду одеют прямо на рубаху, а в стужу – на мундир, – монотонно гудел унтер навозной мухой. – В походе полы ее маленько подвертают, чтоб не мешала ходьбе.
«Да-а! Лошадей-то нам не дадут», – слушал командира отделения Нарышкин и млел от жары.
«В Петербурге сейчас непременно дождь идет», – размышлял Оболенский.
– …Поверх шинели на перекрещенных белых ремнях висят патронная сума и тесак. В ранце, который носят на двух боковых ремнях, стянутых третьим на груди, полагается иметь две рубахи, – загибая пальцы, перечислял командир, – панталоны, портянки, фуражку, двенадцать кремней, щетки, ваксу, мел для чистки пуговиц, иглы и нитки, клей, фабру из воска, сала и сажи для усов, которые вам следует отпустить, как геройскому гренадеру; ну и, конешна, надоть иметь расческу и запас сухарей на три дня.
Содержимое стану проверять лично… – строго оглядел пополнение. – Вес ранца со всеми атрибутами составляет примерно двадцать пять фунтов. Сверху на него крепят манерку или флягу, – радостно докончил унтер и заметил идущих в его сторону генерала и офицеров. Их догонял семенящей походкой полковник.
Встав во фрунт и в секунду застегнув мундир, унтер согласно уставу начал выкатывать глаза, собираясь «есть» ими начальство.
Оболенский подумал еще: вывалятся они из глазниц или зацепятся за ресницы.
– Господа рядовые, – пожал им руки командующий.
– Алексей Петрович! – воскликнули Нарышкин с Оболенским, знавшие его еще по Петербургу, а коротко познакомившиеся в дни войны с Наполеоном.
У штабс-капитана глаза округлились посильнее, чем давеча у унтера: «Назвать самого командира Кавказского корпуса попросту "Алексеем Петровичем" без всяких высокопревосходительств?.. С ума сойти», – глядел он, как рядовые чуть не обнимаются с самим Ермоловым – наместником Бога на Кавказе!
– Тепло оделись! – рассмеялся, потряхивая седой гривой, командующий.
Рядовые с удовольствием скинули шинели и ежились от приятного ветерка, остужающего потные спины.
«Спасибо, по-пластунски не успели поползать!» – радовались они.
– Кавказские войска сильны не шагистикой и муштрой, – внушал генерал командиру полка, пока Нарышкин и Оболенский обнимались с Давыдовым, – а умением метко стрелять, рубить саблей и колоть штыком. Строгость и муштра в военное время приводят лишь к потере боевого духа в войсках. Мне нужны не парады, господин полковник, а боевые успехи.
Нижних чинов следует обучать воинскому искусству суворовскими методами, поощряя всякую инициативу, а не шагистикой из-под палки.
Полковник бормотал:
– Так точно! Так точно! – но думал по-своему…
– Скоро вашему полку в поход… Там и посмотрим на «так точно», – повернулся он уходить. – А этих двух рядовых отпустите на сегодня со мной.
В августе три роты гренадерского полка во главе с полковником выступили к границе с Персией и расположились биваком рядом с недостроенной крепостью Джелал-Оглу.
Денис Давыдов определил Рубанова командиром взвода в гренадерском полку, том самом, где несли службу Оболенский с Нарышкиным. Полковник Нестеров, видя, какие знакомства имеются у новых рядовых, велел ротному палку не перегибать и дурь свою не выказывать.
«А дальше поглядим, – затаил злобу на бывших гвардейцев. – Натанцевались на балах, – злорадствовал он, – по горам с ружьем лазить – это вам не по паркету под ручку с дамой ходить…»
Оболенский втянулся в службу быстрее своих друзей. Унтер Охрименко вскоре почувствовал к подчиненному громаднейшее уважение, вызванное совместным распитием водки из княжеских запасов и своим собственным посрамлением, когда отрубился, по разумению Оболенского, почти в начале мероприятия.
Ротный, видя отношение к разжалованным полкового командира, высокомерно их не замечал, но, согласно указу, не придирался и любимой своей шагистикой не донимал, коли это не приветствовалось главнокомандующим.
«Поглядим, каковы в деле окажутся сии столичные штучки», – косился на новых гренадеров и переводил взгляд на свою грудь, украшенную Владимирским крестом и двумя медалями.
Боевые действия открылись неожиданно быстро. Русские заняли каменистые высоты Безобдала, опрокинув врага штыковым ударом и расстроив толпы оного картечными выстрелами», – как донес в Главный штаб Денис Давыдов.
Оболенский в штыковом бою действовал с отменной храбростью, разбрасывая персов, словно слепых щенков.
Рота штабс-капитана Герасимова разорвала середину вражеских линий, и неприятель обратился в бегство.
«Вообще-то нижние чины действовали слаженно, напористо и храбро, – отметил он действия разжалованных полковников, – и прапор, словно всю жизнь в пехоте служил», – доброжелательно оглядел ротный Рубанова.
На этом дело не закончилось.
Отряд спустился в долину близ Мирака и вгорячах наголову разгромил конницу Гассан-хана, заняв несколько персидских селений.
Рубанов и Оболенский за время боев не получили и царапины, а Нарышкин подвернул ногу на горных вершинах Безобдала и теперь сильно хромал. Идти в лазарет он отказался.
«Привыкли верхами ездить, – радовался ротный, – теперь ноги-то сотрете…
Я вот в их годы уже штабс-капитан, а они всего-навсего нижние чины… Пыль под моим сапогом, несмотря на то что "сиятельства"».
После сей славной победы отряд вернулся в Джелал-Оглу.
– Да-а! Ермолов вряд ли пошлет нас Гассан-хана развлекать, как некогда Кутузов в Дунайской армии, – тужил Оболенский, отрабатывая под руководством унтера удары штыком.
Здесь же узнали, что летом 1826 года казнили пятерых преступников, коими являлись: Пестель, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, Рылеев и Каховский.
Обсуждались и подробности казни, коей в России не было ни одной при правлении Александра.
С уважением говорили о Рылееве, о том, что, не имея бумаги и чернил, писал на кленовых листьях, подобранных во время прогулки. Шепотом рассказывали, что трое осужденных сорвались, когда их вешали, и казнь повторили снова.
Россия была потрясена!..
Все кинулись жалеть пятерых повешенных, но забыли о застреленном Милорадовиче и двух зарубленных генералах…
А кровь, как известно, рождает кровь!
При вступлении на трон каждый царь в большей или меньшей степени окропил его кровью: Петр – стрелецкой, Екатерина – своего супруга, Александр – отцовской, Николай – декабристов!
Лишь Павел взял трон по закону и без крови… За что в историю вошел как самодур, хотя являлся самым умным из русских царей.
В конце августа на Кавказ прибыл фаворит нового императора генерал Паскевич, и Рубанов стал невольным свидетелем напряженного и полного драматизма конфликта. Паскевич усердно собирал порочащие Алексея Петровича кляузы и сплетни и направлял в Петербург, цветисто их приукрашивая. Ермолов, в свою очередь, едкими и оскорбительными насмешками обличал бездарность царских фаворитов.
Словом – дым шел коромыслом.
«Как славно, что я не полковник в штабе главнокомандующего, а простой прапорщик, – радовался Рубанов. – Как я устал от этих интриг еще в Петербурге».
Товарищи поддержали его:
– Лучше штыковым боем заниматься под руководством унтера Охрин-ненко, чем в их дрязги залазить…
Оболенский за что-то разжаловал букву «м» в фамилии своего командира отделения.
Денис Давыдов, плюнув, покинул войска и уехал в Москву.
В феврале 1827 года, на следующий день после дня рождения Рубанова, в Кавказский корпус прибыл начальник Главного штаба барон Дибич.
– Мирить приехал! – сделали вывод друзья.
Поначалу так и казалось, но вскоре Алексею Петровичу объявили о смещении с поста главнокомандующего, и место его занял Паскевич.
В войсках было замечено роптание, и в мае Паскевич распорядился направить главные силы Кавказского корпуса к персидской границе.
«Пороху понюхают и враз успокоятся!» – решил он.
Русские войска заняли Нахичевань. Дни стояли жаркие. Солнце пекло и жалило поопаснее вражеских клинков. Провианта и воды не хватало. К тому же не давала покоя находившаяся в восьми верстах от Нахичевани и не думавшая сдаваться Аббас-Абадская крепость, имевшая мощный гарнизон под началом сардаря Махмед-Аминь-хана.
В короткое время цитадель окружили кольцом траншей и редутов, прекратив связь осажденных с персидскими войсками Аббас-Мирзы, и, по выражению нижнего чина Оболенского, от Махмед-Аминь-хана остался лишь «Аминь!» Крепость сдалась.
Генерал Паскевич принял трофеи, пленных и составил реляцию в Петербург.
Рубанов купил на базаре огромный висячий замок с безобразным здоровенным ключом, унтер Охрименко несколько дней подержал его в навозе, чтоб железо окисло и выглядело подревнее, и, согласно традиции, Паскевич отправил все эти причиндалы с фельдъегерем в Петербург государю.
Максим, то ли за взятие крепости, то ли за замок, получил чин подпоручика.
Оболенский, к огромной своей радости, стал какпралом, и лишь Нарышкину не досталось ничего, кроме вывихнутой ноги.
– Поздравляю! – с ироничной завистью обозрел он княжескую лычку. – Вы делаете головокружительную карьеру, – погладил свои усы.
У Оболенского под носом произрастало лишь пошлое недоразумение, пасквиль и пародия, по разумению начитанного Нарышкина, на гренадерские усы.
Осенью Максим получил письмо от Мари, в котором она сообщила о смерти своего отца. Разумеется, она не написала о том, что, даже умирая, тот не простил Рубанова. В самом конце жена сделала приписку, что собирается приехать вместе с сыном к нему на Кавказ.
«Этого только не хватало! – испугался Максим. – Еще попадут по дороге в лапы каких-нибудь чеченов…» – И запретил ей даже думать об этом, хотя больше всего на свете мечтал увидеть и обнять жену и сына.
Он был уверен, что случись, и Мари поехала бы за ним в Сибирь.
За последнее время Максим очень сдружился с полковником Муравьевым, и они вели долгие беседы, вспоминая томящихся на каторге друзей и знакомых. Рубанов особенно переживал за осужденного Михаила Строганова, а новый его друг – за брата.
И оба отрицательно относились к Пестелю и его конституции.
Я лично весь в своего отца, – улыбнулся Рубанов, – и, надеюсь, что сын станет точной моей копией…
Так и у Пестелей…
Старший разорил и утопил в слезах и крови Сибирь!
Младший рвался разорить и утопить в слезах и крови Россию!
Слава Богу – не вышло!!!
1828 год прошел в боях с турецкими войсками. Муравьева за взятие Карса наградили Георгиевским крестом 4-й степени, а конногвардейцев – медалями.
Кроме того, Рубанова повысили в звании до поручика, Оболенский стал унтером, а Нарышкин – капралом.
Генерал-майор Муравьев ходатайствовал о присвоении им офицерских чинов, но император лично запретил представлять государственных преступников к офицерским званиям.
«Пускай в нижних чинах походят», – решил он.
За боевые подвиги, проявленные в сражении под Ахалцыхом, Муравьев получил Георгия 3-й степени. Рубанов стал штабс-капитаном, Оболенский – фельдфебелем, а Нарышкин получил унтерские лычки.
Офицерские звания им по-прежнему не присваивали…
Наступил 1829 год. Зимой войска Кавказского корпуса отдыхали и боевых действий не вели.
Рубанов встретил свое тридцатишестилетие в маленьком турецком городке, занятом в прошлогоднюю кампанию.
Выпили, как и положено, прилично, а Рубанов как виновник торжества больше всех.
– Подчиненненький ты мой, – трепал за щеку смеющегося Оболенского, – гордись, с самим командиром пьешь.
В полку он занимал должность ротного, а капитана Герасимова поставили командиром батальона.
Больше ни он, ни полковник к разжалованным гвардейцам не цеплялись, а после того, как в августе прошлого года на торжественном построении в день памяти Бородина увидели, сколько крестов и медалей украшают их грудь, даже почувствовали к ним крепко разбавленное завистью расположение.
Друзья, дав оценку прошлогодней кампании и перемыв косточки корпусным и полковым командирам, стали вспоминать молодость и постепенно добрались до восстания на Сенатской площади.
Еще раз прочли письмо из Сибири от Мишки Строганова, выпили за его здоровье и стали писать совместный ответ.
Весной 1829 года военные действия Кавказского корпуса возобновились. За эту кампанию Оболенскому и Нарышкину наконец-то присвоили прапорщиков.
Нарышкин был на седьмом небе от счастья, а Оболенский загрустил. И на это у него имелись две веские причины…
«И зачем мне этот прапорщик?.. Фельдфебель есть первый в роте человек… Все солдатики бегут ко мне со своими просьбами. А что прапорщик? Так себе. Зеленая сопля. Заместителишка командира взвода… Тьфу!»
Вторая причина, в которой он не признавался даже себе, была та, что Нарышкин – какой-то там унтерок – сравнялся с ним, заслуженным фельдфебелем.
«Теперь снова начнет бахвалиться, что дивизии в бой водил», – горевал князь.
Но постепенно все же смирился со злосчастной судьбой и офицерским чином.
В феврале 1830 года Максим отметил свое тридцатисемилетие. Ему становилось скучно. Крупных боев не предвиделось, а мелкие стычки с горцами в счет не шли.
От скуки он писал бесконечные письма в Рубановку жене и сыну.
Нарышкин развлекался чтением книг и переживал, что постеснялся встретиться с Грибоедовым, когда тот был при Паскевиче, и Пушкиным, около месяца проведшим в Кавказском корпусе в прошлом году.
Оболенского подобные мысли не смущали, и свободную минутку князь посвящал гонениям на капитана Герасимова. Только-только став прапорщиком, он заявился к нему в канцелярию и, к чему-то придравшись, ловко запулил командирский кивер вдоль комнаты, метко сбив им графин с водой.
– Почему головной убор без султана? – поднял он с пола отломанный султан из конского волоса. – Ах, хотите вызвать меня на дуэль?..
Но Герасимов не хотел, понимая, что для него теперь наступили черные дни. И лишь через год несчастный вздохнул свободно, когда его гонитель уехал с друзьями в Польшу.
В 1830 году польско-литовская масонская уния организовала восстание в Польше. Этот год для восставших был удачным: в декабре они взяли Варшаву.
Русские масоны, которые называли себя либералами, поддерживали «освободительное движение польской нации», и нашлось немало сторонников, разделяющих их мнение и взгляды на польские события.
Взяв Варшаву, руководители восстания заявили, что прекратят мятеж, коли Россия передаст в состав Царства Польского Литву, Белоруссию и Малороссию.
Территориальные претензии, сопоставимые с победоносной войной. Даже Наполеон, захватив Москву, не требовал от России таких уступок.
«Низкопоклонная, невежественная шляхта осмеливается требовать того, чего совестился требовать сам Наполеон», – писал позже Денис Давидов.
Либералы, с пеной у рта, ратовали за Польшу и ее независимость. Ни в одной стране, кроме России, интеллигенция не поддерживала развала своей державы.
В Польшу из Франции для поддержки восставших потянулись ветераны наполеоновских войск.
Рубанов и его друзья прекрасно помнили, на чьей стороне в войне 1812–1814 годов выступало организованное Наполеоном Великое княжество Варшавское, и подали прошение о переводе их в Польшу.
Разумеется, там они встретились с генералом Давыдовым и даже попали под его начало.
«И какое сердце русское, чистое от заразы общемирного гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши?..» – писал этот русский патриот.
В сентябре 1831 года, узнав о слушаниях во французском парламенте по вопросу оказания вооруженной помощи польским повстанцам, Пушкин публикует стихотворения «Клеветникам России» и «На взятие Варшавы», в которых твердо заявил в чеканных строках, что речь идет не о порабощении Польши, а о сохранении целостности и независимости России.
Именно с этих стихов наступил перелом в русском общественном сознании.
И именно за эти стихи на него ополчились Вяземский и другие.
В своем дневнике Вяземский сделал такую запись: «Этот род восторгов – анахронизм!»
Тургенев в то время написал о Пушкине, что без патриотизма, как тот его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии он не хочет выходить из своего варварства.
Либералы и масоны русский патриотизм считали отжившим анахронизмом и варварством… Те, кто любил Россию, так не думали!
Весной 1831 года Денис Давыдов берет приступом город Владимир на Волыне. Друзья деятельно ему в этом помогают.
В конце апреля с генерал-майором графом Толстым загоняют польский корпус Хржановского под пушки Замостьской крепости.
В начале июня Давыдов, командуя авангардом в корпусе генерала Ридигера, разбивает поляков в сражении под Лисобиками, за что получает чин генерал-лейтенанта.
Рубанов за этот бой становится капитаном, а его друзья – подпоручиками. По-прежнему числясь в пехоте, воюют они в кавалерии, состоя адъютантами у Давыдова.
В августе они сражаются за Вислой между Варшавой и Краковым, отбив при местечке Казимирже нападение всего корпуса Ружицкого.
В этом бою капитан Рубанов получил тяжелое ранение в грудь.
Во взятии русскими Варшавы он не участвовал, а был отправлен с обозом раненых в Вильну, где его и встретила прибывшая за ним Мари.
Она знала, что так и будет… Мелодия бетховенской сонаты тихой болью давно звучала в ее голове, потому, получив письмо от Нарышкина, Мари не удивилась, а быстро собралась и поехала на встречу с судьбой и мужем.
Из письма было известно, что он ранен в грудь, но ей почему-то представляюсь, что Максим лежит один, без руки или ноги, и бесконечные, как русские дороги, слезы текли из глаз, размывая и делая мутными и нереальными дома, и церкви, и лес, мимо которых она проезжала.
Но наконец, как ей показалось, через целую вечность, она увидела его и замерла от любви и боли, глядя на бледное, усталое и такое родное лицо, на худые, истончившиеся руки и на длинные, с обильной сединой волосы, разметавшиеся на грязной подушке.
И лишь одна мысль билась в ее голове: «Скорее, скорее, скорее увезти его отсюда, от этих стонов, ран и тяжелого запаха смерти».
57
Рубанов был счастлив!
Удивительно, но душа его звенела колокольцем от радости, когда, очнувшись в карете, встречал взгляд Мари и ощущал ее руку в своих.
Если чувствовал себя лучше, то просил посадить его, и два огромных рубановских мужика, пыхтя от напряжения, чтоб не сделать барину больно, усаживали раненого на подушки, и он глядел в окошко, любуясь то заснеженным полем, то сказочным зимним русским лесом, то уютной деревенькой, тихо дремавшей у замерзшей реки.
«Вот она, Россия!.. И Мари, и сын, и я, и снег, и небо над головой, звон колокольчиков – все это Россия!..» – думал он, дыша на стекло окошка и растапливая рукой наледь.
За их каретой шествовал целый обоз.
Мари взяла с собой из Рубановки доктора и служанку, которые ехали во второй карете, за ними двое саней везли четырех мужиков, и замыкали поезд сани с провизией.
На постоялых дворах в крупных уездных городах их ожидали свежие лошади, которых заранее отправил туда с мужиками новый рубановский староста.
«Целая воинская операция», – улыбался Максим, вникнув от нечего делать во все тонкости путешествия.
Ему нравилось скользить по накатанной колее и держать за руку Мари.
Однажды, почувствовав себя совсем хорошо, Максим уговорил жену пересесть в сани и долго летел, наслаждаясь ее смехом, морозным воздухом и падающими снежинками.
Казалось, он забыл все: и войну, и рану, и свою опалу, – но резкая боль в груди опускала его на грешную землю.
«Сколько раз возвращался домой, но это, по-видимому, последний мой приезд», – подумал Максим, когда кортеж подъезжал к Рубановке, и попросил остановиться.
С помощью Мари и доктора он выбрался из кареты и долго стоял, глядя на родовое свое имение, на лес и поле, и на три церковных купола, блестевших вдалеке на зимнем солнце.
«Вот я и дома!» – Перекрестив лоб и глубоко вздохнув, полез он в карету.
В деревне огромная толпа крестьян перегородила дорогу, и незнакомая Рубанову молодайка поднесла ему пышный каравай хлеба с деревянной солонкой на румяной корочке, а бывший унтер Шалфеев поднес рюмку водки, глядя на барина и командира с отцовской нежностью и безмерной жалостью, которую пытался скрыть за улыбкой и веселыми словами приветствия.
«Наверное, не слишком красно выгляжу», – подумал Максим, когда ему помогли усесться не в карете, а в санях.
Въезжая под арку, он чуть не заплакал, но, не увидев привычного своего дома, лишь грустно вздохнул, и тут же сердце его молодо застучало, когда на крыльце появился он сам, такой, каким был много-много лет назад.
«Сын! Это мой сын!.. А может – я?» – заметил, как, всхлипнув, мальчишка кинулся к нему, и, без посторонней помощи выбравшись из саней, протянул руки в сторону высокого и худого подростка.
Постепенно жизнь входила в привычное русло.
Рубанов занимался с сыном, наверстывая то время, что не видел его, и Аким, замирая, слушал отцовские рассказы об отечественной войне двенадцатого года, о военной кампании на Кавказе, и глаза его восторженно сверкали, а разыгравшееся воображение забрасывало в ряды победоносных русских солдат.
Как самую большую в мире драгоценность, сжимал в руках отцовский палаш и с гордостью смотрел на суровую складку у рта и на поседевшие волосы отца, мечтая о том времени, когда у него будет свой палаш, мужественные морщины и седые волосы.
Ох, поскорее бы… Тогда эта гордая девчонка из Чернавки не считала бы его ребенком…
Мари любовалась мужем и вздыхала, глядя на сына: «Как ни жаль, а мальчишка пойдет по стопам отца. Такова уж их судьба – Родину защищать…»
Не успел Максим отдохнуть и осмотреться, как пошли визиты.
Казалось, весь уезд стронулся с места. Каждый помещик стремился засвидетельствовать ему почтение, а молодежь глядела на опального полковника и декабриста, словно на Бога.
Рубанов принимал гостей в капитанском мундире, сидя в кресле, и удивлялся обожанию, которое видел в глазах молодежи.
«Черт-дьявол! – злился он. – Они гордятся мной как мучеником, пострадавшим за какую-то эфемерную идею, а не как бравым рубакой и командиром, с младых ногтей сражавшимся за Россию. И почему у нас на Руси так любят потерпевших от власти? Благоговеют перед ними? – рассуждал он. – Ведь декабристы подвергли сомнению нравственный вопрос о дворянской чести: что погибнуть в бою – это слава; а быть разжалованным и сосланным – позор!
Высшее общество сочувствует каторжанам, а те впервые не чувствуют позора и даже гордятся, что хоть немного, но расшатали устои самодержавия.
Теперь, глядя на меня, юноши станут отпускать волосы до плеч», – усмехнулся он и оказался прав.
Лишь лысый капитан-исправник, грудь которого украшали уже две медали, порадовал его сердце, алчно разглядывая боевые награды.
В приватной беседе они договорились, что в случае чего тот понесет на подушечке орден Анны 2-й степени.
Максим развеселился, наблюдая за капитан-исправником и догадываясь, что он мечтает один нести все награды… и не на подушечках, а на жаждущей славы груди.
«Услышала бы Мари, о чем мы беседуем».
С каждым днем ему становилось лучше, и он уже самостоятельно мог передвигаться по дому.
Новый дом Рубанову не нравился. Здесь все было не так. Не так скрипели половицы, не так били часы, не хлопала оторванная ставня, ветер не играл на крыше с отошедшей жестью, и можно было без боязни выходить на балкон подышать свежим воздухом.
Максим смеялся над собой и твердил, что придирается к этому прекрасному новому дому, но он не любил его, а дом, он чувствовал, не любил своего хозяина.
Перед Рождеством Максим получил письма от друзей из Варшавы, а чуть позже – и от Михаила Строганова из Сибири.
«Откуда же ему известно, что я вышел в отставку по ранению и живу в Рубановке».
С интересом читал письмо, удивляясь, что Строганов из своей заснеженной и холодной Сибири пытается утешить и ободрить его:
«Нам не дано понять действия Высших Сил, кои люди именуют Судьбой, – писал Строганов. – Одному дается все, а у другого столько же забирается… и в чем тут причина не нам судить и не нашему разуму объять необъятное и проникнуть в таинство Творца…»
«Да этот кавалерист стал философом, – удивился Максим. – Несомненно, каторга располагает к раздумьям», – читал он дальше.
«Счастлив тот, кто может сказать, что жизнь прошла как удивительный и волшебный сон… Для большинства она проходит в страданиях, лишениях, потерях, нищете, и следует стойко встречать удары судьбы и не сгибаться от них…»
Себя декабристом Рубанов не считал, но ни разу не пожалел, что перечеркнул блестящую карьеру, заслонив, может даже от смерти, своих друзей.
«Дружба превыше всего, – думал он, – и любовь… – улыбнулся вошедшей жене. – Как хорошо, что я не рассказал про пистолет и шепот его, – неожиданно подумал Максим, с любовью глядя на Мари. – Вот только письма зря отдал, следовало порвать», – вздохнул он.
Она забеспокоилась и положила руку ему на лоб.
– Все хорошо! – произнес он, целуя тонкую нежную руку.
В день своего тридцатидевятилетия Максим нашел в себе силы прокатиться с женой и сыном по разросшейся и сравнявшейся с Ромашовкой Рубановке.
«Моя жена скоро станет самой богатой в губернии вдовой», – подумал он и ужаснулся – не своей смерти, а мысли о том, что после него кто-то станет обнимать Мари и заглядывать в ее глаза.
«Ведь ей-то будет лишь тридцать семь. Неужели всю дальнейшую жизнь проживет одна?! Нет! Надо жить!» – рассмеялся своим мыслям, чем несказанно обрадовал жену.
Летом он уже уверенно передвигался по дому и с удовольствием выходил на балкон, усаживался там в кресло и подолгу глядел на рубановские крыши, на сад, думая о том, что через месяц-другой по дороге в Петербург к нему заедут друзья.
Где-то там, в деревне, взлаивали собаки. То ли на реке, то ли за домом слышались голоса…
Ветер шевелил волосы и ласкал лицо.
Вдали блестели три купола…
В саду играл сын, и его за что-то бранила жена…
«Отец, Мать и Сын!» – пронеслось в голове.
Шелестели ветви акаций.
Доносилось благоухание цветущего сада.
Все это вместе и было – Отечество!.. Жизнь!.. и Любовь!..
Осенью ему стало хуже: открылась рана.
С увяданием сада увядал и он.
Аким не отходил от отца.
Максим лежал у открытого окна и глядел на сына. Голова кружилась, и иногда он проваливался в какую-то пустоту.
Легкий ветерок ворвался в комнату, и на грудь Максима, плавно кружась, опустился желтый лист…
С трудом подняв руку, он взял его, нежно погладил пальцами и поднес к лицу, уловив запах сада, дождя, ветра и неба, запах всего мироздания, которое он скоро оставит, уносясь в неизвестность Млечного Пути…
И в ту же секунду, глянув на сына, вспомнил отца – и не понимал уже, где он?! и кто он?!. Взрослый или ребенок…
И что у него впереди: Жизнь!.. или Смерть!..
И была ли жизнь?..
Или все это только сон?..
И вдруг ясно понял одно!..
Что Бессмертен!
Что Круг никогда не замкнется, и Жизнь Бесконечна, пока есть Сын!..
Чуть позже вошла жена и села рядом, поправив одеяло и коснувшись его потного лба прохладной рукой.
«Только теперь и понимаешь, что богатство, чины и слава – пыль и суета.
Суть истины в другом – чтобы тебя хоть кто-то любил», – подумал он, целуя руку Мари.
Аким, желая оставить мать и отца одних, поднялся и вышел из комнаты.
– Ежели кого полюбишь, выходи замуж, – с трудом произнес, ощущая острую боль в груди и стараясь подавить ее и не выдать себя.
Сдерживая слезы, она отрицательно покачала головой и что-то прошептала, с трудом проглотив сдавивший горло комок. А глаза ее предательски набухали от слез, и, глянув в эти зеленые влажные глаза, он задохнулся от любви к этой красивой белокурой женщине.
– Что ты сказала? – тоже прошептал он, взяв ее руку в свои и нежно лаская пальцами, как давеча лист.
– Не полюблю!.. – выхватила из-за манжета платья платок и, тут же забыв о нем, молча глотала слезы.
– Я люблю тебя! – то ли сказал, то ли подумал он… и попытался улыбнуться ей.
Закусив нижнюю, подрагивающую от подступивших рыданий губу, она тоже попыталась улыбнуться, но у нее не получилось, и Мари устремила взгляд в окно, чтоб хоть немного успокоиться.
Через секунду, судорожно вздохнув, нагнулась и поцеловала его в губы.
Максим задохнулся от тоски с такой же силой, как недавно от любви к ней, подумав: «Как мне будет Там не хватать ее губ …и рук …и глаз… Елочных волшебных глаз, несущих в себе тайну…
Тайну чего? – глядел на нее. – Бытия? Жизни? Смерти?..
Скорее, просто Любви…
Эта женщина закроет мои глаза…» – И его целиком поглотила жалость.
Не к себе. К ней!
«Ведь ей предстоит вскоре остаться одной!..
Мне будет уже безразлично, а каково ей?
Бедная!
Я ничем. Ничем уже не могу ей помочь. – Прислушивался к нарастающей боли.
– Нет! Неправда!
Она не будет одна!!!
Рядом с ней останется сын!
Наш Сын!
Частица меня…»
А в ее голове, раскалывая виски, звучала соната Бетховена…
Боль стала просто невыносимой, и судорога исказила его лицо.
Она с испугом коснулась ладонью его лба.
Он хотел поцеловать эту руку, но не было больше сил.
«Ну прижми… прижми ладонь к моим губам!» – безмолвно кричал он, и она услышала беззвучную его просьбу.
Ему сразу стало удивительно легко и приятно. Боль куда-то исчезла, и даже показалось, что где-то вдали зазвучали колокола.
Но неожиданно звук стал нарастать и сделался неприятно высок.
Он услышал дребезжание бочек водовоза и скрип телеги, куда-то везущей его, но вскоре опять мощно зазвучали колокола, заглушив неприятный скрежет и скрип.
Колоколов становилось все больше и больше, а звон переходил в набат, и тут Максим увидел свет – яркое-яркое пламя.
«Когда-то я пережал уже это! – подумал он. – Это же Смоленск! Горит Смоленск! А может – Москва? Или мой старый дом? Смоленск, Москва или старый дом?.. – завертелась мысль, а вокруг гремели колокола. – Сколько же рядом церквей?.. А как приятно греет огонь!» – В отблесках пламени увидел Волынского и Кешку.
Они были молодые, двадцатилетние и приветливо смотрели в его сторону.
Мощный колокольный звон постепенно перешел в рыдания одинокого дорожного колокольчика, а затем тишина-а-а…
Беспокойная гулкая тишина и невесомость.
Он стоял в нерешительности и глядел на Волынского и Кешку.
Они ждали его… А дальше, за ними, в призрачной дымке, вытянув к нему руки, стоял отец.
Его отец!..
И он успокоился…
И Пошел к Нему!!!
Друзья совсем немного опоздали, чтобы застать его живым.
В белой кирасирской полковничьей форме стояли они перед гробом, в котором лежал Рубанов, и с недоумением, не успевшим еще перейти в сострадание и тоску, глядели на бледное лицо своего друга и никак не могли, не хотели согласиться с тем, что его уже Нет…
Максима Нет!!!
Этого не может быть.
Рядом, с черной вуалью на лице, стояла Мари и молча прощалась с мужем.
Бетховен смолк!
Все стихло!
Всю оставшуюся жизнь она не воспринимала музыку. Музыка ушла вместе с мужем в какие-то дальние сферы, неподвластные ее воображению.
На похороны съехался весь уезд, и даже прибыл генерал-губернатор.
Перед пушечным лафетом с гробом несли подушечки с орденами. Впереди всех с Анной 2-й степени шествовал капитан-исправник в парадной форме с двумя своими начищенными медалями. В паре с ним нес орден Георгия унтер Шалфеев.
За ними медленно шли сгорбленный Агафон и староста. Следом шествовали уездный предводитель и владельцы близрасположенных деревень. Кисти траурного катафалка поддерживали гусарские офицеры с черным крепом на эфесах сабель.
За гробом первыми шли жена и сын Рубанова, а рядом с ними – Оболенский и Нарышкин. За ними – генерал-губернатор с чиновниками и несколько гусарских офицеров.
Потом под траурной попоной вели коня, и маршировал эскадрон спешенных гусаров с опущенными в землю ружьями.
За ними тянулись богатые господа, и замыкали шествие рубановские крестьяне и господские экипажи.
На колокольне гремели колокола.
Чуть в стороне от церкви под «Вечную память» грянули три залпа, произведенные по команде ротмистра, некогда умыкнувшего подругу Мари, спешенным гусарским эскадроном… И ВСЕ.
Осталась только память!..
– Госпожа Рубанова, – обратился к Мари генерал-губернатор, когда ехали обратно, – извините, но почему похоронили мужа в капитанской форме, ведь в прошлом месяце я привез вам государев рескрипт о возвращении чина полковника?
– Воля супруга, ваше превосходительство. «На солдате и капитане вся армия держится… Вот и положите меня в пехотном мундире русского капитана», – велел он перед смертью.
Вечером, проводив после поминок гостей, они остались вчетвером. Гостиная светилась от многочисленных свечей, и не хотелось расходиться по комнатам и оставаться наедине с мыслями. Почему-то казалось, что Максим был здесь, рядом, видел и слышал их.
Нарышкин смотрел на младшего Рубанова, а казалось, что видел Максима, юного и веселого юнкера, каким тот был в Петербурге и Стрельне. Потирая шрам на щеке, он слушал воспоминания князя как раз об этой поре.
– Весь в отца! – хвалили Акима офицеры. – Знатный кавалерист получится.
– Я не хочу в кавалеристы, – произносил ломким, то детским, то вдруг взрослым голосом Аким, – стану служить в пехоте, как отец.
– Ну, в пехоте, так в пехоте, – соглашались друзья. – В следующем году тебе шестнадцать исполнится, вот в 1-й кадетский корпус и поступишь. А вы, Мари, ехали бы в Петербург…
– Нет! Я останусь здесь, с ним!.. – смахнула она слезу. – А сын пусть едет. У него вся жизнь впереди…
На следующий день они уехали, сказав на прощание Акиму, что не забудут и займутся его судьбой…
И, как раньше Максим, он с нетерпением ожидал весточки из Петербурга, постепенно свыкаясь с деревенской тишиной, и, вспоминая отца, украдкой смахивал слезы.
Он с уверенностью знал, что станет русским офицером, и когда-нибудь в прекрасной зеленой форме пехотного подпоручика явится перед сказочно красивыми глазами этой гордой дочери чернавского барина, и поглядим еще, как она посмеет не влюбиться в него, мечтал он, отрабатывая коронный рубановский удар.
Наступила весна.
Жизнь брала свое. Аким, оседлав жеребца, носился по зеленеющим полям, а вечером, сидя на балконе, вдыхал запах цветущих яблонь, груш и вишен, любуясь Рубановкой, церковными куполами и всей этой раскинувшейся вокруг благодатью.
Соловьи и акации пьянили голову…
Хотелось молиться, мечтать и любить!
Он переживал божественную пору расцвета, и до заката было еще далеко.
Господи! Как он любил Россию и как хотел стать ее защитником.
Неожиданно вспомнились слова великого князя московского Дмитрия накануне Куликовской битвы:
«Отцы и братья!
Сражайтесь ради Господа, за святые церкви и веру православную!
Ведь эта смерть – не смерть! Но Вечная Жизнь!!!»
Послесловие С.М. Казначеева
По жанровому признаку книгу саратовского автора В. Кормилицына, пожалуй, можно обозначить как народный исторический роман.
События, описанные здесь, охватывают временной период в несколько десятилетий и относятся к первой трети девятнадцатого века. Сама попытка создать оригинальное крупномасштабное произведение на материале толстовской эпопеи свидетельствует как о немалом мужестве писателя, так и о неизбывном интересе к эпохе наполеоновского нашествия.
В центре повествования – три поколения аристократической династии Рубановых. Мы воочию видим, как ее представители взрастают в родовом имении на Волге, как юноши мужают и становятся боевыми офицерами, защитниками родины как раз в те годы, когда ей угрожает опасность. Среди персонажей – Наполеон и Александр Первый, Кутузов и Ермолов, Милорадович и декабристы. Главная тема, проходящая через все перипетии, – идея самоотверженного служения отечеству.
События романа с калейдоскопической затейливостью соединяют провинциальные буколические мотивы, ожесточенные сражения с врагом, кутежи гусар, многочисленные любовные интриги и похождения. Помимо авантюрных, военных эпизодов, книга изобилует многочисленными лирическими линиями.
Язык романа гибок и разнообразен, способен держать читателя в напряжении.
ОТ АВТОРА
После Льва Толстого взяться за описание Отечественной войны 1812 г. очень сложно и в то же время интересно. Ведь Лев Николаевич не дожил ни до Первой мировой войны, которую в России называли «второй отечественной», ни до Февральской и Октябрьской революций. Не увидел он и крушения русской монархии, к обличению которой приложил руку и талант, став, по словам В.И. Ленина, «зеркалом русской революции».
Потому-то мое обращение к истории зеркалом проецируется на наше время, на наш век, и вносит понимание, что потомков история ничему не учит.
Из декабристов у нас сделали героев. Воспевали их борьбу с самодержавием. Согласно В.И. Ленину, их дело не пропало, декабристы разбудили Герцена, тот Чернышевского и деятелей «Народной воли», там и пролетариат проснулся, развалив с жидо-масонского похмелья мощнейшую державу… И после всех этих пробуждений от Великой России скоро останется только Московское княжество.
Хотя и говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, но повторяться события могут, будто находятся на витках спирали.
Вот какую записку подал будущему императору Николаю Первому подпоручик Яков Иванович Ростовцев: «Противу Вас должно таиться возмущение: оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России! Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть и Литва, от нас отделятся. Европа вычеркнет Россию из списка держав своих и сделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия вместо благословений будут Вашим уделом!!!»
Чем не наше время…
В записке не указывалось ни одного имени и только была просьба не награждать, и приписка: «Пусть я останусь бескорыстен в глазах Ваших и в моих собственных».
Декабристы так себя не вели. После восстания, дабы оправдать себя, не задумываясь, сдавали товарищей.
Знал о заговоре и Александр Первый. Современники считали Александра безвольным, чувствительным и мягким. Он и был таким, когда следовало кого-то наказать. В его царствование не привели в исполнение ни одного смертного приговора, смертную казнь даже считали отмененной.
Однако в крупных вопросах, которые затрагивали глобальные интересы России, он занимал принципиальную и жесткую позицию. Так принципиально он отнесся к перемирию с Наполеоном, хотя то предлагал весьма выгодные условия мира.
«Я перенесу свою столицу на Иртыш и стану питаться одним хлебом, но не заключу мира, пока враг топчет русскую землю».
Но в вопросе с декабристами проявил излишнюю гуманность… Бенкендорф и Аракчеев докладывали ему о тайных обществах за несколько лет до восстания на Сенатской площади и даже перечисляли участников заговора. Однако Александр считал, что эти люди угрожают не государству, а ему и трогать заговорщиков не велел, надеясь, что поумнеют и одумаются.
За подобные решения он и получил у современников нелицеприятное определение «кнут на вате».
«Разомкнутый круг» не является научной книгой. Это попытка воссоздать дух того времени, показать романтизм минувшей эпохи. Это художественная книга не из серии «ЖЗЛ». Здесь судьбы реальных исторических деятелей переплетаются с жизнеописанием вымышленных героев.
России приходилось в то время часто воевать, охраняя и расширяя свои владения, и воинский мундир пользовался в обществе огромным уважением и авторитетом в самом высоком понятии этого слова.
Русские матери, молясь за своих детей, безропотно ждали сыновей из многочисленных походов, оплакивая буйные их головушки, сложенные по всей Европе, но зато и Россия постепенно превращалась в могучую державу с обширными территориями.
Русские люди умели и работать, и веселиться, и воевать!
Незабвенный Александр Суворов как-то воскликнул: «Боже! Какое счастье, что я русский!..»
Россия вновь возродится и расцветет лишь тогда, когда вслед за Суворовым и с таким же восторгом мы повторим его слова!!!
Примечания
1
Старый стиль.
(обратно)2
Карточная игра.
(обратно)3
Помощь.
(обратно)4
Мой милый. (фр.).
(обратно)5
1 метр 82 сантиметра.
(обратно)6
10 килограммов.
(обратно)7
Сигнал к пробуждению.
(обратно)8
Да. (фр.).
(обратно)9
2,13 метра.
(обратно)10
Фухтель – плоская сторона палаша. Наказывали провинившихся.
(обратно)11
Фараон – карточная игра.
(обратно)12
Наполеон сватал княжну Анну Павловну – сестру императора Александра, но ему было отказано.
(обратно)13
Рейтузы. Штаны.
(обратно)14
Геморрой.
(обратно)15
Дуэль.
(обратно)16
Во время обряда пострижения в монахини священник три раза роняет ножницы, как бы давая послушнице последнюю возможность заглянуть в свою душу и решить, остаётся ли она в миру или принимает постриг.
(обратно)17
Римский император Гай Юлий Вер Максимиан правил в 235 – 238гг. н.э.
(обратно)18
Нерон. Римский император. (37 – 41гг. н.э.).
(обратно)19
Калигула. Римский император. (54 – 68гг. н.э.).
(обратно)20
Квинт Гораций Флакк. Поэт. (65 – 8гг. до н.э.).
(обратно)21
Максенций. Римский император. (307 – 311гг. н.э.).
(обратно)22
Магненций. Римский император. (350 – 353гг. н.э.).
(обратно)23
Гиероним. Сиракузский правитель.
(обратно)24
Сулла. Римский император.
(обратно)25
Наказание шомполами.
(обратно)26
Передняя мачта.
(обратно)27
Средняя мачта.
(обратно)28
Задняя мачта.
(обратно)29
Обшивка борта корабля.
(обратно)30
Направление, перпендикулярное курсу судна.
(обратно)31
Поворот овершаг – против линии ветра на другой галс.
(обратно)32
Часть составной мачты для парусов.
(обратно)33
Рангоуты – деревянные детали для поставки парусов.
(обратно)34
Наклон судна набок для очистки от раковин.
(обратно)35
Рундук – деревянный ларь для хранения личных вещей.
(обратно)36
Лотовый – матрос, орудующий лотом – приспособлением для измерения глубины.
(обратно)37
Бушприт – наклоненное рангоутное дерево в носовой части судна.
(обратно)38
Ватерлиния – линия соприкосновения борта судна с поверхностью воды.
(обратно)39
Третья снизу часть составной мачты.
(обратно)40
Оконечность поперечной перекладины мачты.
(обратно)41
Удары в колокол каждые полчаса.
(обратно)42
Двухмачтовый однопалубный парусный корабль.
(обратно)43
Прекрасно. Великолепно. (англ.).
(обратно)44
Младший дьякон при архиерее, служка.
(обратно)45
Изгиб седла.
(обратно)46
Металлическая часть удил.
(обратно)47
Султан имел 49 см. в высоту и 20 см. в ширину.
(обратно)




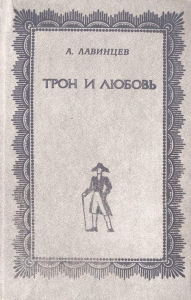

Комментарии к книге «Разомкнутый круг», Валерий Аркадьевич Кормилицын
Всего 0 комментариев