Об этой книге
Одной из важных задач буржуазного востоковедения в настоящее время является реабилитация системы колониализма. Захватнические войны изображаются как борьба за проникновение в отсталые страны высокой европейской цивилизации. К сожалению, подобный подход отрицательно сказывается на развитии исторической науки в странах, изгнавших колонизаторов.
В разоблачении таких мифов громадную роль играет не только наша научная литература, но и набирающий все большую силу жанр документальной художественной прозы. Видный советский востоковед профессор Н. А. Халфин, автор трудов по империалистической политике и международным отношениям в Азии, написал еще одно историческое повествование — «Победные трубы Майванда». Его книга о первой англо-афганской войне «Возмездие ожидает в Джагдалаке» (М., 1973), тепло принятая у нас и в Афганистане, заканчивалась словами: «А потом пришла вторая англо-афганская война…» Эти слова служили как бы заявкой на продолжение и не были пустой фразой. Ныне произведение о второй войне завершено.
Возглавляя в прошлом ряд лет Центральный государственный исторический архив Узбекистана, Н. А. Халфин проделал огромную работу по систематизации и упорядочению ценных туркестанских архивных фондов. Изучая и анализируя их, ученый обратил внимание на то, что нельзя передать ни в одном академическом исследовании, — на эмоциональную сторону совершающихся событий. Эти эмоциональные детали, опускаемые в сугубо научных трудах, начинают искриться драгоценными блестками в документальном художественном повествовании.
К примеру, из донесений военного агента России в Лондоне генерала А. П. Горлова Н. А. Халфин сумел выбрать именно то, что ярче всего высвечивало специфику английской политики: «…подкуп враждебных афганских племен проводится в самых широких размерах, так что военные рассматривают настоящую кампанию как ряд парадов и демонстраций с целью облегчить подкупы. Но подкупы эти не выходят вполне удачными. Старшины берут деньги и обещаний не исполняют» (глава «Не спеши за удачей»). Сцена в повести, связанная с использованием этого документа, характеризует умение Н. А. Халфина проникнуть в документ и в предельно лаконичной форме дать запоминающуюся картину. Тут налицо и суть действий британских агрессоров — лицемерных торгашей и наглых завоевателей, и наблюдательный, с большим опытом генерал Горлов, и туркестанский генерал-губернатор К. П. Кауфмап, внимательно следивший за всем, что происходило к югу от Средней Азии.
Н. А. Халфин позволил нам перенестись в ту эпоху, соприкоснуться с происходившим, ибо образцов глубокого раскрытия оригинальных источников в повести — множество. Архивные фонды изучены целиком и полностью, а скупые и сухие строки официальной переписки ожили, стали рельефными, выпуклыми. Я сужу об этом не как сторонний человек, а как работавший над теми же бумагами член Научного совета Главного архивного управления при Совете Министров УзССР.
Не менее тщательно исследованы и английские материалы: документальные публикации, ставшие недавно доступными папки Индийского национального архива, мемуарная литература, специальные описания военных действий, а также, разумеется, труды ученых Афганистана, его фольклор. Все это позволило автору ярко описать героическое сопротивление афганского народа захватчикам, обусловившее провал планов порабощения Афганистана.
Зарубежные специалисты и политики настойчиво утверждали, будто вторжение Англии в Афганистан в 1878 г. было вызвано прибытием в Кабул русской миссии генерала Н. Г. Столетова. Оперируя обширными фактическими сведениями, Н. А. Халфин убедительно доказывает несостоятельность подобной версии. В главе «Поэт в Симле» он приводит точнейшие данные, свидетельствующие о том, что правящие круги Британской империи готовили свою агрессию по крайней мере с весны 1876 г., когда лорд Литтон стал вице-королем Индии. Приводимое в тексте его письмо на имя Каваньяри не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Шумиха вокруг миссии Столетова была поднята лишь для отвода глаз.
Отметим еще одну черту повествования. Почти сквозь все главы прослеживается характерная для политических и военных деятелей Англии тенденциозная одержимость. Лорды Биконсфилд и Литтон, генералы Чемберлен и Робертс, политические агенты Каваньяри, Сент-Джон и другие настолько одержимы стремлением осуществить программу экспансии, что совершенно не считаются с реальной жизнью, намеренно закрывая глаза на все, что противоречит их цели. Налаженный ими дорогостоящий и сложный аппарат разведки, в свою очередь, изображает ситуацию только в преломлении, угодном начальству, и вся система, основанная на отрицании, искажении, игнорировании истины, рано или поздно рушится.
Автор «Победных труб Майванда» умело вскрывает внутреннюю логику происходивших событий, показывая ее через характеры действующих лиц. И становится отчетливо видно, что сентябрьское восстание 1879 г. в Кабуле было в значительной степени вызвано наглым поведением британского посланника Каваньяри, навязавшего слабовольному эмиру Мухаммаду Якуб-хану кабальный Гандамакский договор, с гневом отвергнутый афганцами; что разгрому англичан у Майванда в июле 1880 г. способствовала самонадеянность и нераспорядительность их руководителей, а главное, энергия и решительность сардара Мухаммада Аюб-хана и его помощника Файз Мухаммада.
Файз Мухаммад — один из немногих вымышленных героев повести. Сын солдата, погибшего в борьбе с британскими захватчиками в первой англо-афганской войне, и прямой преемник патриотов тех лет, он организует отпор колонизаторам. Целеустремленный, самоотверженный, преисполненный чувства собственного и национального достоинства, Файз Мухаммад символизирует собой афганский народ, не склонившийся перед агрессорами, и вызывает глубокие симпатии. Хочется, чтобы его сын Гафур, чей образ пока лишь намечен Н. А. Халфиным, сыграл для читателей такую же роль в новой книге, которую мы вправе ждать от этого историка и литератора, — о третьей англо-афганской войне, принесшей нашему южному соседу полную независимость.
Автор не прибегает к звучным эпитетам, чтобы показать отрицательные черты английской политики. Он просто, без громких слов показывает факты в таком ракурсе, что неприглядность становится очевидной сама. Несомненным достоинством повествования является строгий и вместе с тем красочный и образный язык, обилие выразительных портретов персонажей, сцен из быта афганцев. Прекрасно зная и «чувствуя» эпоху и ее отражение в источниках, Н. А. Халфин создал цепное с исторической и художественной точек зрения произведение, написанное живо и проникновенно. Читатель ждет таких книг. Они особенно нужны и важны сейчас, когда интерес к народам Востока и их героическому прошлому неизмеримо возрос.
А. В. Станишевский (Азиз Ниалло), член Союза писателей СССРГлава 1 ПОЭТ В СИМЛЕ
Барон Эдуард Роберт Литтон, единственный сын и наследник первого лорда Эдуарда Булвер-Литтона, проснулся в отличном настроении. Возможно, причиной тому было чистейшее синее небо, раскинувшееся огромным шатром над горной Симлой, куда он с удовольствием перебрался из Калькутты ранней весной этого, 1877 года. А может быть, лучи майского солнца, ласкового и приветливого здесь, в предгорьях Гималаев, и изнуряющего там, в столице. Или прилив сил, порожденный пьянящим живительным воздухом…
Как бы то ни было, едва ли не впервые за год, проведенный в Индии, вице-король почувствовал себя не политиком и дипломатом, а сыном своего отца, для которого помимо государственной службы существовал еще один род занятий, не менее захватывающий ум и душу, — литературное творчество. Барон Литтон ощутил себя не вице-королем, а поэтом. Да он и был поэтом, избравшим себе несколько туманный псевдоним Оуэн Мередит — в память о каком-то древнем предке из эпохи Тюдоров. Выпив утреннюю чашку шоколада, вице-король, что-то напевая, двинулся в кабинет.
Одну из стен огромного кабинета составляло итальянское окно, еще закрытое до прихода хозяина. Его тщательно протертые стекла создавали полную иллюзию отсутствия какого бы то ни было препятствия между письменным столом и лесистыми холмами, которые как бы громоздились друг на друга, уходя в неведомую даль. Комната, как и весь дом, была пропитана смолистым ароматом, какой издавали могучие сосны. Литтон поудобнее устроился в кресле, придвинул чернильницу, ящичек с заготовленными перьями и стопку чистой бумаги.
Лорд Литтон.
Боже, как давно это было! Ровно двадцать лет назад вышел его томик лирических стихов. Назывался он «Путник». Автор и впрямь был путником по характеру и привычкам. Он побывал к тому времени в Вашингтоне и Флоренции, Гааге и Вене. Служил там в посольствах. Путник по жизни… С тех пор повидал немало и других интереснейших мест — Копенгаген и Афины, Мадрид и Париж. Наконец, остававшаяся для многих неведомой легендарная Индия, почти полным властелином которой он отныне является. Не настал ли снова час творческого вдохновения?
Но сосредоточиться не удавалось. Муза явно не желала посещать вице-короля. Он писал и зачеркивал. Снова что-то писал и снова зачеркивал. Комкал бумагу и бросал не глядя. Под стол, на устилавший пол ковер. Пришло на ум старинное изречение: избыток ощущений гасит мысль. Литтон резко отодвинул кресло, с досадой встал из-за стола.
Над диваном висело широкое, во всю стену, зеркало, еще более увеличивающее комнату. В нем отразилось благородное лицо барона, оттененное густыми, пепельного цвета волнистыми волосами. Борода и усы обрамляли небольшой рот. Правильной формы нос и грустные, выразительные глаза придавали лицу особое обаяние. Лорд Литтон был красив и знал это. А налет романтичности, кажется вновь входивший в моду в определенных кругах английского общества, еще более подчеркивал его привлекательность. Этой же цели служила и манера одеваться. Куртки, блузы, всевозможные шарфы и галстуки должны были подчеркивать, что перед вами не только государственный муж, вершитель судеб народов, населяющих крупнейшую колонию Британской империи, но человек искусства, артист.
Приподнятое настроение барона внезапно сникло, когда он выглянул в окно. Так и есть! Сколько раз нужно приказывать, чтобы они не попадались на глаза?!
Литтон хлопнул в ладоши. В дверях появился Фрэнсис.
— Когда это кончится?
— Что именно, милорд?
— Когда эти болваны перестанут портить мне вид на Гималаи! — вице-король указал на двух часовых в красных мундирах и синих брюках, стоявших у ворот его усадьбы, и еще двоих, разместившихся на ближайшем холме.
— Они охраняют вас, милорд.
— Здесь, в этой глухой Симле! От кого? Ни секунды я не могу побыть один. Даже в собственном доме. Стоит выйти в коридор, как десяток джемадаров вытягиваются перед тобой в струнку. Стоит попытаться тайком выбраться через заднюю дверь, как взявшиеся неведомо откуда полтора десятка двуногих созданий в самых ярких одеждах пристраиваются в хвост. Мало того, что дом полон всевозможных членов различных советов и писарей…
Барон умолк, уловив на лице вышколенного слуги выражение недоумения и покорности: разве в этом моя вина?
— Хорошо, Фрэнсис. Можете идти.
— Слушаюсь, милорд.
Литтон попытался вернуть себе творческое настроение, но сегодня это решительно не удавалось. Видимо, индийские мотивы еще недостаточно глубоко проникли в его сознание, чтобы можно было отобразить их в поэме легко и вдохновенно. Поэтому он даже обрадовался, когда у двери появился слуга.
— Полковник Колли, милорд.
На мгновение у вице-короля мелькнула мысль, что не мешало бы переодеться для приема своего военного секретаря. Но к чему? Колли не хуже Фрэнсиса знает о его пренебрежении к этикету. Не удивится он и халату.
— Только возьмешься за перо, чтобы написать что-нибудь путное… — проворчал он, как бы оправдываясь перед самим собой. — Пригласите полковника!
— Он не один, милорд.
— Надеюсь, с ним не дама? Это было бы трагично.
— Нет, милорд. Какой-то офицер.
— Слава создателю! Пусть войдут.
В комнате появились два офицера. Старшего из них никак нельзя было назвать красивым. Но внимание привлекал настойчивый взгляд умных темных глаз, крутые брови, правая из которых была слегка приподнята. Бледность его аскетического лица еще более подчеркивалась густыми черными волосами, отступавшими надо лбом. Все в его лице казалось вытянутым, в том числе и нос. На безупречном мундире красовались планки нескольких орденов. Это был любимец Литтона Джордж Колли. Этому воспитаннику колледжа Генерального штаба прочили большое будущее. Вице-король особенно ценил его за «стратегическое мышление», как он выражался, и оба они сетовали на то, что до сих пор не представилась возможность проявить это качество по-настоящему.
Другой офицер, в чине капитана, также не был красавцем; взглянув на него, барон подумал, что если в нем и текла английская кровь, то в таком мизерном количестве, что на его облике это сказалось слабо. В лице капитана было что-то от романских народов: выпуклые глаза, нос с горбинкой, кожа более смуглая, чем у Колли, несмотря на индийский загар полковника. Вице-король успел отметить и некоторую порывистость движений, не свойственную чопорным британцам.
На вид незнакомцу было лет тридцать пять. Темно-рыжая бородка и усы начинали седеть и оттого казались слегка припудренными. Карие глаза под высоким лбом цепко вглядывались в собеседника. Лысеющая голова резко сужалась книзу, и Литтон тут же отметил ее сходство не то с редиской, не то с клином.
Колли выступил вперед:
— Милорд, позвольте представить прибывшего по вашему распоряжению капитана Каваньяри.
— А, вот вы какой, — с неподдельным интересом воскликнул вице-король, протягивая руку вытянувшемуся офицеру. — Прошу садиться, господа. Нам есть о чем поговорить. Не обращайте внимания на окружающий нас хаос — это плоды моего безуспешного творческого порыва.
Офицеры разместились в креслах, которые придвинул к столу тут же удалившийся слуга.
— Ну, капитан, как ваши дела? — обратился хозяин кабинета к Каваньяри и рукой пресек намерение того встать для ответа. — Сидите, пожалуйста, у нас здесь дружеская беседа.
— Вы спросили о моих делах, милорд? — брови капитана приподнялись дугой, придавая ему удивленный вид. — Я исполнял обязанности пограничного комиссара в Кохате. Теперь получил назначение в Пешавар. Хотя на ту же роль, но понимаю, что это повышение. И весьма значительное. Кохат — дыра…
Офицер усмехнулся и продолжал:
— А Пешавар — наша основная база на важном стратегическом направлении. До меня этот пост занимали такие выдающиеся деятели, как Фредерик Макесон и Герберт Эдвардс… Так что дела у меня превосходные.
— И вас не смущает то обстоятельство, что Макесона какой-то фанатик проткнул ножом на веранде его собственного дома в том же Пешаваре? И, простите, кажется, именно в вашем возрасте.
— Нет, милорд. Я предпочитаю думать о славной судьбе Эдвардса, дослужившегося до генеральского чина.
Литтон широко улыбнулся, переглянувшись с Колли:
— Ну и прекрасно! Я рад, что нам с полковником Колли пришла в голову мысль осуществить такое перемещение. И знаете, чему вы обязаны? Своему имени.
Капитан бросил на Литтона недоуменный взгляд. Барон обладал блестящей памятью и не без гордости любил это демонстрировать.
— Я выражаюсь туманно? Сейчас поясню. Мне известно, что вы происходите из древнего пармского рода, что ваш отец, генерал граф Каваньяри, служил у нашего непримиримого врага Наполеона Бонапарта и был его страстным почитателем. Что ваша мать — ирландка. Что родились вы во Франции, но воспитывались и учились в Англии, окончили Аддискомбское военное училище, а затем поступили на службу в Ост-Индскую компанию. Что вы натурализованы в Англии. Я нигде не отступил от истины?
— Все абсолютно правильно, милорд. Но вы говорили о моем имени.
— Да, капитан. Вас ведь зовут Пьер Луи Наполеон. Вот мы и подумали, что теперь у нас есть свой полководец мирового масштаба. Как же этим не воспользоваться!
— Милорд… — выразительные брови Каваньяри снова взметнулись, но вице-король не позволил ему продолжать.
— Не сердитесь, капитан. Это шутка, и мы рассчитываем, что чувство юмора сдержит вспышку темперамента, весьма горячего, судя по сплаву итальянского и ирландского элементов.
Он помолчал и уже серьезным тоном повторил:
— Это шутка. Просто мы ознакомились с вашей деятельностью в Индии… Она производит хорошее впечатление. Вы участвовали в Аудском походе, в подавлении индийского мятежа, в горных экспедициях против афганских племен и проявили энергию, храбрость, твердость характера. К вашей медали за подавление мятежа на днях прибавится командорский знак ордена «Индийская звезда». Британская империя не забывает тех, кто ей предан, кто рискует собой во имя ее укрепления и расширения.
Каваньяри встал и поклонился:
— Благодарю вас, милорд! Я всего лишь выполнял свой долг.
— Рано благодарите. Самое ответственное и сложное впереди. И если вы успешно справитесь со своими обязанностями на новом посту, у вас не будет оснований сетовать на неблагодарность правительства ее величества.
И барон Литтон объяснил капитану причину его приглашения на беседу в Симлу. Он говорил, что коллеги Каваньяри, как правило, не отличаются широтой ума и гибкостью и подозрительно относятся к призывам верховной власти проявлять больше дипломатического такта, хитрости и ловкости. Да-да, именно ловкости!
— Политические действия на границе требуют быстрой и мудрой реакции. Особенно на такой, как афганская, — подчеркнул правитель Индии. — И нам кажется, что вы обладаете этими полезными и необходимыми качествами.
Он посмотрел на Колли. Полковник молча кивнул.
— Доказательство того, что вы пользуетесь нашим полным доверием, находится здесь, у меня. Это своего рода памятная записка. Ею надо руководствоваться в ваших действиях по отношению к Афганистану и Шер Али (Каваньяри отметил про себя пренебрежительность, с которой Литтон упомянул имя афганского эмира). Вы получите этот документ и тщательно его изучите. Свои соображения и отчеты о принятых мерах шлите непосредственно мне. Если не захотите подписывать их собственным именем, употребите прозвище. Какое бы вам придумать?
Вице-король вспомнил о первом впечатлении, какое произвел на него капитан, и предложил:
— Ну, скажем, «Ведж»[1] если не возражаете. Ведь вы и впрямь явитесь клином, который мы будем вколачивать в так называемое Афганское государство… Пока оно не треснет. Итак, Наполеон, вот вам пакет и — вперед! — к Литтону вернулось шутливое настроение.
Слегка наклонившись к вице-королю, Колли промолвил:
— Секретарь по иностранным делам, милорд…
— Ах да, благодарю! Как мне любезно напоминает полковник Колли, вам, дорогой капитан, кроме моих прямых инструкций следует знать и общий ход нашей афганской политики. Не сочтите за труд навестить сэра Альфреда Лайелла. Он живет в «Иннес Оун». Это недалеко отсюда: немного вниз — усадьба с теннисным кортом. Кстати, передайте ему, что я восхищен тем, какой точный поэтический образ — «ивнтайд» — нашел он для своего последнего стихотворения…
Каваньяри откланялся и вышел, сопровождаемый Колли. Военный секретарь вскоре вернулся. Подойдя к столу, он с некоторой опаской спросил Литтона:
— Полагаю, милорд, у вас не сложилось дурного впечатления от этого знакомства? Ведь с пешаварским Наполеоном связаны слишком далеко идущие расчеты.
— Пожалуй, нет, Джордж. Каваньяри менее разговорчив, чем следовало ожидать от итало-ирландца, но это свидетельствует скорее в его пользу. А так он кажется довольно смышленым. Да и опыт кое-какой накоплен. Посмотрим… Тем более что мы, как водится у добрых англичан, не кладем все яйца в одну корзину, а намечаем и другие планы кроме тех, в которых он будет участвовать…
Резиденцию Лайелла, секретаря по иностранным делам англо-индийского правительства, Каваньяри нашел без особого труда. Ее хозяин принял капитана в своем кабинете на втором этаже. Это был узколицый сухопарый человек. Светлые, зачесанные назад волосы открывали высокий лоб; пшеничные брови нависали над водянистыми глазами, под которыми обозначились легкие припухлости; густые пегие усы были тщательно подстрижены. На нем был длиннополый черный сюртук, отделанный цветным кантом, и белоснежная сорочка с отложным воротничком.
Весь он казался каким-то воздушным. Именно такими представлялись поэты капитану, а он знал, что Альфред Лайелл не отстает от самого Оуэна Мередита в увлечении поэзией. Всю дорогу к «Иннес Оун» Каваньяри твердил про себя последнюю фразу вице-короля, опасаясь запутаться в незнакомой терминологии. Поэтому он выложил эту фразу, едва успев поздороваться с секретарем по иностранным делам. Тот, слегка смутившись, отметил, сколь лестно для него мнение такого тонкого ценителя поэтического мастерства, как лорд Литтон.
— К сожалению, — тут же принял деловой тон Лайелл, — нам придется заняться гораздо более прозаическими материями. Вам вручили инструкции для повседневного руководства. Есть документы, которые нельзя подвергать опасности случайной пропажи. Это бумаги, как вы убедитесь, высшей государственной важности…
Он повернулся к шкафу и вынул несколько серо-стальных папок с четкой надписью «Афганский вопрос».
— Здесь — директивы Лондона и основная переписка по Афганистану. Вы должны быть в курсе наших пожеланий и претензий к Кабулу. Садитесь за мой стол: тут удобно, а я пройду в библиотеку — поколдую над рифмами, — мягко улыбнулся Лайелл, видимо окрыленный похвалой коллеги-поэта. — Что вам приказать подать: чай, кофе? Вот сигары!
Нельзя сказать, чтобы Каваньяри не любил читать. Если попадалась любопытная книга, особенно из эпохи наполеоновских войн или британского покорения Индии, он с удовольствием засыпал, держа ее в руках. В принципе капитан считал себя человеком действия и не привык проводить время за письменным столом. К тому же в военной среде утвердилось традиционно презрительное отношение к «политике» и «политикам». И хотя сам Каваньяри уже довольно давно выполнял обязанности политического офицера, преодолеть это предубеждение он так и не смог. А если честно признаться, то и не очень старался. Поэтому капитан с тоской подумал о серо-стальных папках, но, подавив вздох, ответил:
— Благодарю вас, сэр. Если можно — кофе.
Перед тем как погрузиться в чтение всех этих депеш, запросов и отчетов, Каваньяри бросил взгляд на пейзаж за окном.
Сквозь стволы сосен и гималайских кедров, где-то вдали, на фоне зеленых, покрытых лугами склонов Тара Дэви, с трудом просматривалась глубокая голубая долина, и над всем этим великолепием в безоблачном небе парил орел…
Однако он здесь не ради лирического созерцания. Его задача — уяснить, какими целями руководствовалась могучая держава на северо-западных рубежах завоеванной ею Индии. Каваньяри не был новичком на Востоке и достаточно четко представлял себе эти цели: во что бы то ни стало утвердить британское господство над Афганистаном. Но, углубляясь в чтение документов, он проникался все большим интересом к тому, как формировались и осуществлялись различные идеи и проекты. Здесь были представлены не только копии, но и подлинники, зачастую исходившие от высших имперских чинов. Его внимание особенно обострялось, когда директивы далекого Лондона напоминали об операциях, проведенных при его непосредственном участии или при участии его друзей и сослуживцев в этих забытых богом краях…
Каваньяри все старательнее вчитывался в содержимое папок, и перед ним вырисовывалась стройная картина афганской политики Великобритании.
Сороковые годы… После бесславной для Англии войны 1838–1842 годов на кабульский престол возвращается не склонивший перед нею голову Дост Мухаммад-хан. В Лондоне делают вид, будто нет на земле такой страны — Афганистана, тем более что Британскую Индию отделяют от него пока еще независимые Синд и Пенджаб.
К концу сороковых годов уже покорены и Синд и Пенджаб. Пешавар — в руках англичан.
В 1855 году наконец опомнились от шока — заключили с Дост Мухаммадом договор, а в 1857 году подтвердили его: эмир обязался быть «другом наших друзей и врагом наших врагов». Пока, так сказать, на равных. Но это уже дало какую-то зацепку, позволило рассчитывать на дальнейшее продвижение, к тому же обеспечило тыл, когда в Индии вспыхнул проклятый мятеж, причинивший столько хлопот.
Ну а что потом?
Каваньяри отпил несколько глотков кофе и закурил сигару.
А потом начинается совсем непонятное. Вместо того чтобы по-настоящему прибрать к рукам Афганистан, три вице-короля подряд — лорды Лоуренс, Майо и Норсбрук — ограничиваются полумерами. В результате — англо-русское соглашение 1869–1873 годов, признававшее Афганистан нейтральной зоной между владениями этих держав.
Да, в армии немало спорили по поводу афганской политики, говорили о «школе Лоуренса», проповедовавшей так называемое мастерское бездействие, под прикрытием которого занимались мелкими интригами и переманивали на свою сторону эмирского сынка Якуб-хана, тогда как нужно было просто стукнуть кулаком.
Но, кажется, с приходом к власти Дизраэли и его команды консерваторов от такой политики постепенно отходят. Похоже, что и документы стали другими — более бодрыми, что ли? Кого же благодарить за то, что там, в метрополии, взялись наконец за ум?
Каваньяри откинулся на спинку кресла и устремил взор на далекую Тара Дэви за окном…
Когда же это было и почему в глубинах памяти представления о таком повороте событий связываются с чем-то приятным, с какими-то радостными ощущениями?
Ах вот оно что! Конечно же… В 1871 году он был дома, на туманном Альбионе, женился на прелестной болтушке Эмме, дочери доктора Грейвса из Кукстауна. Навещал друзей, и у многих на устах был меморандум по среднеазиатскому вопросу ветерана Востока Генри Роулинсона, прошедшего немало миль по дорогам Индии, Персии и Афганистана, где он был в несчастные военные годы.
Да, это была бомба! Старый воин трубил в фанфары, призывая подчинить Кабул влиянию империи, обосноваться на подступах к Кандагару и протянуть железную дорогу к Пешавару. Помнится, он настаивал на размещении английских агентов на границах Афганистана и расширении экономических связей с ним. Наверно, именно в последнем был весь смысл: исконного ланкаширца из семьи фабриканта текстиля крайне интересовали новые рынки.
А затем его поддержал авторитетный член лондонского Индийского совета Бартл Фрер, имевший большое влияние на ведавшего колониальной политикой лорда Солсбери.
Эти мысли проносились в голове капитана, когда он перелистывал документы, стараясь не пропустить ничего серьезного. Вот в начале 1875 года вице-король Норсбрук получает указание правительства любым способом добиться создания английских агентств в Кандагаре и Герате. Однако Норсбрук, сторонник выжидательной политики, саботирует эту меру, именуя ее «несвоевременной и ненужной». Не переоценивает ли Норсбрук незыблемость своего положения?
Ноябрь того же года: лорд Норсбрук получает из Англии второе предписание изыскать возможность, «а если нужно, то создать предлог» (прекрасно сказано!) для посылки британских агентов в Афганистан. И что же? Снова саботаж! Неудивительно поэтому, что Норсбруку пришлось вскоре уступить свой пост лорду Литтону…
На пороге кабинета появился Лайелл:
— Итак, до какой эры вы добрались, дорогой капитан?
— До нынешней, сэр, — в тон ему ответил Каваньяри, уловив прозвучавшую в вопросе легкую иронию. — До эры лорда Литтона.
— О, тогда самое главное у вас еще впереди. А между тем — время обеда. Надеюсь, вы не откажетесь разделить его со мной. Как вам известно, я холостяк. Никто и ничто не помешает нам нарушить условности и поговорить за столом о делах. Не правда ли?
Каваньяри успел изрядно проголодаться и с готовностью принял приглашение. Он не пожалел: в «Иннес Оун» оказался превосходный повар и отменный выбор вин, а Лайелл, человек чрезвычайно образованный, обладавший широким кругом лондонских знакомств, что позволяло ему быть в курсе самых различных событий в жизни Британской империи, был интереснейшим собеседником.
Разговор шел преимущественно о лорде Литтоне.
— Нас сближает увлечение поэзией, — говорил хозяин. — С удовольствием перечитываю изданные лет десять назад «Поэмы Оуэна Мередита», а недавно он любезно преподнес мне два новых тома — «Басни в песне». Там есть множество прелестных мест, хотя порой автора можно упрекнуть в некоторой подражательности… Наши точки зрения не всегда совпадают, — продолжал Лайелл, — в том числе и на афганские проблемы. Лорд Литтон консерватор и сторонник энергичных шагов, в чем вы скоро убедитесь, а я либерал, и не все в позиции «школы Лоуренса» представляется мне необоснованным. У вице-короля — и я как-то сказал ему об этом — импульсивная, легко возбудимая натура. Необходимое качество для поэта, но государственного деятеля оно иногда может подвести. Правда, он в долгу не остался и тут же заметил, что я излишне рассудителен: это хорошо для государственного деятеля, но плохо для поэта. Мы взглянули друг на друга — и расхохотались… А в общем Лайелл лоялен, — шутливо заключил секретарь по иностранным делам.
— Но разве Лондону не было известно отмеченное вами качество лорда Литтона? Ведь он получил назначение едва ли не на высшую имперскую должность?
— Сколько вам лет, капитан? Вы когда-нибудь серьезно интересовались литературой или большой политикой?
— Я родился в 1841 году, сэр, и, говоря начистоту, ни то, ни другое меня по-настоящему не увлекало, — ответил Каваньяри, слегка озадаченный этими вопросами.
— Все ясно. Ну так вот, именно в то время, в начале сороковых годов, наш нынешний премьер граф Биконсфилд — тогда еще просто Дизраэли — создал литературно-политическую группу «Молодая Англия». В своих речах, статьях и романах ее члены ратовали за усиление власти королевского престола, аристократии и духовенства. В этой группе был талантливый писатель барон Булвер-Литтон. Став премьером, Диззи назначил своего друга статс-секретарем по делам колоний…
— Понимаю, сэр. Теперь наступила очередь, его сына…
— Совершенно верно. Когда надо было сменить строптивого Норсбрука, Дизраэли в начале 1876 года предложил этот пост молодому Литтону. Как мне писали из столицы, многие недоумевали по поводу такого назначения, но премьер твердо заявил, что докажет на этом примере, как доказал на собственном, что литератор вполне может быть деловым человеком!
— Очень признателен, сэр, за все эти детали. Теперь мне легче будет разбираться в бумагах.
И Каваньяри вернулся в кабинет.
…Итак, «эра лорда Литтона». С чем же отправился в Индию новый вице-король? Инструкция от 28 февраля 1876 года: «Британские власти должны получить санкцию эмира на немедленное создание английских резидентств в Афганистане». Вот почему в мае лорд Литтон требует от правителя Кабула принять наше посольство, передать империи контроль над Гиндукушем и допустить в страну ее агентов.
А вот и ответ Шер Али-хана. Он выдвигает контрпредложение: направить в Индию собственную миссию, чтобы выяснить, какие «благородные стремления снова зародились в благородном сердце правительства инглизи». Капитан даже крякнул от досады: не поймешь, чего больше в таком ответе — сарказма или бестактности!
Реакция лорда Литтона? Она совершенно естественна: вице-король теряет терпение. Об этом явствует его письмо, отправленное в Лондон 27 августа: «Если Шер Али не докажет, что он наш искренний друг, мы будем вынуждены считать его нашим врагом и обращаться с ним соответствующим образом». Речь мужчины! Только таким языком и следует разговаривать! Более того, лорд Литтон заявляет эмиру, что, если тот не допустит английских резидентов в свою страну, «британское правительство сломает его, как тростинку», ибо его государство — это всего лишь «маленький глиняный горшочек между двумя огромными железными котлами» и «ничто не помешает Англии объединиться с Россией, чтобы совместными силами стереть Афганистан с лица земли».
Тут была, правда, некоторая накладка. Россию вице-король притянул по собственной инициативе; он отнюдь не располагал сведениями, желает ли она «стереть Афганистан с лица земли». Но в этом пикантном сравнении с горшочком явно сказался поэт: то была несомненная поэтическая находка!
Предположим, однако, что у Шер Али-хана достаточно толстая кожа и крепкие нервы и слова на него не действуют. А как насчет конкретных мер? Серо-стальные папки свидетельствовали, что его соотечественники не ограничивались одними словами. Каваньяри ознакомился с перепиской о фактическом переходе княжества Читрал под британский контроль. В Гилгите воздвигнут английский форт. Стало быть, открыт доступ в северо-восточные районы Афганистана.
Вот еще более важные материалы о ханстве Келат с городом Кветтой на пути к юго-восточному Афганистану и его второму по величине и значению городу — Кандагару. «…Хан Келата согласился подписать со мной договор, который практически делает нас хозяевами Келата», — сообщал вице-король на Даунинг-стрит совсем недавно, 15 ноября 1876 года.
А вот его декабрьское письмо британскому представителю при келатском хане, хорошему знакомому Каваньяри майору Сандеману: «В Кветте разместится наше самое важное внешнеполитическое интеллидженс-бюро, и вашей главной задачей будет расширение и распространение нашего влияния в направлении Кандагара».
Итак, самонадеянного Шер Али берут в клещи. Понимает ли он это? Турецкий посланник в Кабуле конфиденциально информировал лорда Литтона о жалобе эмира в связи с занятием Кветты: «Англичане поставили караул у задней двери моего собственного дома, чтобы ворваться туда, когда я буду спать».
Капитан задумался. «Что ж, все очень логично. Кабульского правителя окружают, словно оленя на охоте. Ему бы осознать никчемность сопротивления и принять британское покровительство… Но пора кончать, благо осталось не так уж много бумаг, да и те касаются пешаварской конференции начала 1877 года. Их, пожалуй, можно читать и не столь внимательно: почти все происходило на моих глазах…»
Действительно, хотя капитан в то время еще служил в Кохате, до Пешавара было рукой подать, и все тамошние события становились известными чуть ли не на следующий день. Вице-король прислал для переговоров сэра Льюиса Пелли, двоюродного брата Генри Роулинсона. Каваньяри слышал, конечно, об этом важном чиновнике с плотно сжатыми губами на непроницаемом лице; ушедший с поста статс-секретаря по делам Индии герцог Аргайл характеризовал его как «подлинное олицетворение всего того, что делает британских резидентов наиболее страшными для азиатских правителей, желающих удержать за собой хоть тень независимости».
Шер Али-хана представлял его премьер-министр Сеид Нур Мухаммад Шах-хан, старый человек, некогда доверенное лицо Дост Мухаммада. Сэр Льюис привез в Пешавар проект договора о размещении британских офицеров в Афганистане и на его границах. Нур Мухаммад заупрямился и отклонил это разумное соглашение, сославшись на какие-то древние обещания о невмешательстве во внутриафганские дела. Он даже привел вздорные слова Шер Али-хана, который сказал, что скорее погибнет, чем уступит несправедливым настояниям, хотя даже ребенку была ясна обоснованность требований Британской империи.
Кстати, вот и подтверждение того, что старик и его эмир несли какую-то несуразицу, а не вели серьезные переговоры, — сделанная для Литтона запись заявления Шер Али-хана, переданного Нур Мухаммадом в Пешаваре: «Британская нация — великая и могучая. Афганский народ не может сопротивляться ее силе, но наш народ имеет свою волю, независим и ценит свою честь выше жизни!» Бред, да и только! Пустые разглагольствования не по существу дела…
А потом этот Сеид Нур Мухаммад Шах-хан неожиданно умер, и вице-король велел сэру Льюису Пелли не вступать ни в какие дальнейшие переговоры с его преемником, которого эмир срочно направил в Пешавар. Очень разумно: болтовня эта только отнимала время. Все проблемы гораздо быстрее можно было решить с помощью британской пехоты, кавалерии, а главное, королевской артиллерии, которой этим дикарям нечего противопоставить…
— Слава богу, добрался до конца! — в изнеможении захлопнул последнюю папку Каваньяри и увидел стоявшего в дверях Лайелла.
— Ну что, уяснили наши цели и задачи в отношении соседа на западе?
— Вполне, сэр.
— Вот и превосходно. Это особенно важно, поскольку вы в Пешаваре находитесь на самом острие афганской политики Великобритании. О конкретных же действиях подробно говорится в пакете лорда Литтона. Мы верим в вашу настойчивость и распорядительность.
— Благодарю, сэр! Постараюсь доказать это.
— Не сомневаюсь. А теперь, дорогой капитан, идемте ужинать. Отправляться в путь уже поздно. Переночуете у меня…
Утром, после завтрака, попрощавшись с гостеприимным хозяином, Пьер Луи Наполеон Каваньяри выехал к месту службы. Путь предстоял неблизкий: Симлу и Пешавар разделяло более четырехсот миль.
Экипаж двинулся вниз, к подножию гималайских предгорий. Извиваясь по-змеиному на обрывистых склонах, густо покрытых непроходимыми зарослями, дорога скатилась наконец к станции Калка. Здесь, у Сиваликских холмов, начиналась железнодорожная колея, и капитан добрался поездом до Амбалы. Еще одна пересадка, и вот он уже катил на запад. За окном остались тихая Лудхияна, вечно бурлящий Джаландхар, священный город сикхов Амритсар…
Пограничному комиссару не давал покоя спрятанный во внутреннем кармане мундира пакет. Велико было желание вскрыть его тут же, в вагоне, чтобы после всего прочитанного узнать, какие новые идеи выдвинули его начальники. Но Каваньяри подавил в себе это стремление, решив насладиться доверительным письмом лорда Литтона в более удобной обстановке.
Капитан выдержал характер. Он преодолел искушение даже в Лахоре, хотя провел в бывшей столице «льва Пенджаба» — махараджи Ранджит Сингха целый день среди старых друзей из 1-го Бенгальского европейского фузилерного полка, в котором начинал службу в Индии в 1858 году.
С головной болью после обильного ужина с крепкими напитками комиссар вышел из поезда на станции Вазирабад. Здесь кончалась железнодорожная колея. Королевские саперы усиленно трудились, чтобы в спешном порядке (торопили события!) протянуть линию к Пешавару, но застряли перед рекой Джелам.
Каваньяри воспользовался экипажем, любезно предоставленным ему начальником вазирабадского гарнизона, и покатил дальше. Наконец он въехал в ворота английского военного поселения, расположенного в северо-западной части Пешавара.
Этот укрепленный лагерь был нацелен на Хайберский проход, ведущий непосредственно к Кабулу. Он неизменно играл роль одной из важнейших баз при подготовке наступления на афганскую столицу из индийских земель.
В те годы Пешавар обладал дурной славой самого нездорового места в Индии. Его окружали болотистые районы и орошаемые поля — рассадники москитов и малярийных комаров. Британское же военное поселение представляло собой весьма благоустроенную территорию. Множество густых деревьев и ухоженных кустарников превращали его в огромный сад или, скорее, в парк с широкими улицами-аллеями, на которых поодаль друг от друга стояли удобные виллы и дома. Гималайские кедры и пальмы чередовались с евфратскими тополями и тамариском.
Среди построек выделялось почти квадратное одноэтажное белое здание с небольшой надстройкой, окруженное мощными деревьями и цветочными клумбами, — резиденция комиссара Пешаварского округа. Приземистое, с рядами квадратных колонн, оно словно вросло в эту землю, некогда принадлежавшую афганским племенам — даудзаям, халиль и бар-момандам, будто намереваясь навечно закрепиться в ней своим фундаментом.
Приняв ванну, переодевшись и позавтракав, капитан направился в свой кабинет. На стене, над столом, за которым он обычно работал, висела карта; на ней были изображены не только северо-западные области Британской Индии, но и значительная часть территории Афганистана — вплоть до Кабула. Окна выходили в парк, и, быть может, лишь обилие деревьев мешало английскому комиссару созерцать дорогу, ведущую к Хайберскому перевалу, к лежащим за ним вожделенным землям — афганским, среднеазиатским…
Каваньяри поудобнее устроился за столом, закурил сигару и, вскрыв ножом из слоновой кости пакет, вынул оттуда несколько исписанных листков с изящным вензелем лорда Литтона. Бумаги издавали едва уловимый аромат — вице-король был эстетом.
«Снаружи-то оно благоухает, — подумал капитан. — А вот посмотрим, чем пахнет внутри».
В инструкциях подтверждалось намерение Литтона поддержать любые действия Каваньяри по части активизации пограничной политики. Начало было многообещающим. Оставалось выяснить, какой смысл вкладывал вице-король в понятие «активизация пограничной политики». Однако о пограничной политике меньше всего шла речь в документе. Вице-король излагал в нем наметки программы, выполнение которой должно было привести к полному подчинению Афганистана контролю Британской империи.
«Что касается наших нынешних отношений с Шер Али, — гласил далее документ, — то следует постоянно помнить о важности сохранения позиции самого полного безразличия к нему и непроницаемой сдержанности… Между тем крайне необходимо, чтобы любыми способами, находящимися в вашем распоряжении, вы получали из всех имеющихся источников информацию о том, что происходит в Кабуле или в других местах Афганистана, и сообщали правительству».
Каваньяри с удовлетворением прочел об успехах английской разведывательной службы во владениях эмира: «Поступление сведений из Афганистана стало более постоянным, а сами они — более полными и достойными доверия, чем были до сих пор. Это частично можно отнести за счет прокладки телеграфа в Келат и связей, установленных Сандеманом с Кандагаром. Но мы получаем очень много материалов и из Пешавара. Руководя интеллидженс-бюро, вы станете, я уверен, старательно избегать всего, что произвело бы на эмира впечатление, будто нам совершенно безразличны его действия или что мы не желаем переговоров с ним».
Капитан отметил некоторое расхождение между этим высказыванием и приведенным ранее положением о «позиции самого полного безразличия».
«Я сомневаюсь, — констатировал далее вице-король, — чтобы наши нынешние отношения с его высочеством когда-либо стали удовлетворительными, но единственный шанс улучшить их — это заставить его сначала хорошо понять трудности ситуации, в которой он теперь оказался. По-моему, основным пороком в наших отношениях с Шер Али в прошлом было то, что их дух никогда не совпадал с реальным соотношением вещей — слабостью его положения и силой нашего. Таким образом, убежденный нашим же собственным поведением, будто он является для нас политической необходимостью и, следовательно, крупным политическим приобретением для русских, он, естественно, искал удовлетворения личных выгод, натравливая двух своих великих соседей друг на друга».
Дойдя до этого места, капитан хмыкнул: насколько ему удалось постичь события последних лет, он не помнил, чтобы афганский эмир когда-нибудь пытался стравливать Британскую империю с Россией. Чего нет того нет. Кабул зазнавался, претендовал на самостоятельность — это было. Вел себя излишне гордо и независимо? И в этом Грешен. Но влиять на англо-русские отношения? До этого там наверняка и не додумались бы!..
Концовка документа заслуживала полной сосредоточенности. Она гласила: «Мне кажется, что нескольких месяцев, а возможно, и нескольких недель будет достаточно, дабы показать Шер Али, что он слишком слаб для успешного ведения этой игры. Мы, несомненно, никогда не допустим, чтобы Афганистан попал в руки какой-нибудь другой державы. Однако между Афганистаном с его нынешним эмиром и нами есть практическое различие. Мы можем обойтись без Шер Али; он не может обойтись без нас. В недалеком будущем он должен либо потерпеть полный крах, либо вернуться к своим старым мертвым якорям в Пешаваре в состоянии духа, просветленного горьким опытом.
В первом случае у нас будут полностью развязаны руки, чтобы быстро справиться с новой обстановкой. Во втором случае мы также сможем поставить эмира на место и занять единственно правильное господствующее положение по отношению к нему, которое должно оставаться неизменным».
Поэт Оуэн Мередит не мог не завершить текст художественным образом: «Обломки прибиваются к берегу; берег не идет навстречу потерпевшим крушение».
Итак, резюмировал мысленно пешаварский комиссар, с одной стороны, «мы никогда не допустим» чьего-либо господства в Афганистане, кроме нашего, разумеется; с другой — «мы можем обойтись без Шер Али». Стало быть, эмир Шер Али может оставаться эмиром только при условии полного признания нашего владычества. Иначе в лучшем случае он превратится просто в Шер Али, без эмирского титула. В худшем… Что ж, от несчастных случаев погибают и афганцы.
При всех обстоятельствах, размышлял капитан, высшие индийские власти полагают, будто шторм стремительно песет корабль Шер Али-хана на рифы, и ему, Каваньяри, следует использовать все средства, чтобы помешать судну спастись. В этом есть резон. И немалый. Если на кабульском троне окажется более покладистый владыка, то — чем черт не шутит! — скромный пограничный комиссар может сменить свой беспокойный пост на должность резидента и полномочного министра при эмире. А это значит, что он, Пьер Луи Наполеон Каваньяри, станет некоронованным правителем Афганистана. Разве в Индии британские резиденты при султанах, раджах и махараджах не являются практически полными хозяевами положения в княжествах?! Ради такой цели стоит постараться…
Глава 2 МИССИЯ СТОЛЕТОВА
В Ташкенте, на углу улицы Романовского и Воронцовского проспекта, располагалось важнейшее учреждение огромного Туркестанского края — Канцелярия генерал-губернатора. Это одноэтажное здание с массивными стенами из обожженного кирпича на высоком фундаменте сохранилось и поныне.
Сам главный начальник Туркестана чаще всего работал в своей резиденции — окруженном тенистым парком «Белом доме», который находился в нескольких кварталах от Канцелярии, на берегу полноводного арыка Анхор. Там влага и зелень смягчали зной, царящий в Ташкенте большую часть года.
Генерал-адъютант и инженер-генерал Константин Петрович фон Кауфман 1-й, выходец из давно обрусевшего австрийского дворянского рода, получил от Александра II «Золотую грамоту», предоставлявшую ему почти неограниченные полномочия на обширной окраине Российской империи, в том числе в сношениях с соседними странами. Вот почему неофициально генерал-губернатор именовался в Средней Азии «ярым-подшо».[2]
По принятому в России юлианскому календарю, отстававшему от западноевропейского, григорианского, на 12 дней, стоял конец мая. Жара давала о себе знать, и в полдень учреждения обычно закрывались на несколько часов. В этот день, однако, чиновники Канцелярии продолжали работать, несмотря на зной, и можно было безошибочно определить, что Кауфман почтит ее своим присутствием. Застекленные двери здания поминутно распахивались: на крыльце то и дело появлялся кто-нибудь из служащих и смотрел в ту сторону, откуда должен был прибыть легкий экипаж генерал-губернатора.
В просторном кабинете правителя Канцелярии камергера Платона Петровича Каблукова, вход в который вел через «адъютантскую» комнату, собрались высшие чины Туркестанского военного округа, а также группа приглашенных — военных и штатских.
В отличие от своего шефа Каблуков не проявлял служебного рвения. Он не часто обременял себя посещением Канцелярии. Поэтому его появление вызывало у чиновников прилив деятельности. И на этот раз к нему беспрерывно несли бумаги на подпись. Правитель пробегал их глазами — скорее для формы — и не спеша выводил свою фамилию. Попутно, как внимательный хозяин, Каблуков занимал собравшихся беседой. Она касалась преимущественно событий на Балканах: именно они в первой половине этого, 1878 года волновали всю Европу.
Лишь недавно Сан-Стефанским миром закончилась русско-турецкая война, принесшая освобождение Болгарии. Но Великобритания категорически возражала против условий договора, заключенного в Сан-Стефано, требуя их пересмотра. Обстановка была накалена до предела. Британский флот крейсировал у входа в Черное море. Английские и русские газеты обменивались резкими статьями. Правительства и военные штабы обеих держав срочно разрабатывали планы действий. Поближе к российским границам перебрасывались английские войска. Туркестан выдвигался на авансцену как чуть ли не единственный сухопутный плацдарм для операций, которые могли задеть чувствительность Британской империи.
Душой беседы в Канцелярии был генерал-майор Столетов — невысокий худощавый человек со множеством орденов, среди которых выделялся болгарский орден Святого Александра. Лобастый, с густой шевелюрой и слегка подкрученными усами, он привлекал внимание мягкими жестами и напряженным взглядом. Когда Столетов вступал в разговор, окружающие старались не упустить ничего из сказанного. А вспоминал он эпизоды только что завершившейся войны.
— Особенно тяжело пришлось в конце июля и начале августа прошлого года…
— На Шипке?
— Да… На перевале… До сих пор не представляю, как удалось удержать его! И уцелеть. Три недели довелось мне там командовать войсками. Болгарским ополчением… Однажды мы отбили за день ровно десять приступов Сулейман-паши. Да и в другие дни атак было немногим меньше.
— Николай Григорьевич, — обратился к Столетову окружной интендант Польман. — Я здесь с шестьдесят седьмого года и знаю, что в шестьдесят девятом, при высадке в Красноводске, Скобелев был начальником кавалерии в вашем отряде. Как это получилось, что затем ваши роли переменились и при переходе через Балканы, да и при Шейново, уже вы были у него в подчинении, возглавляя авангард его колонны?
— Какая разница — делали общее дело, — улыбнулся не очень тактичному вопросу генерал-майор. — Михаил Дмитриевич — энергичный человек, хотя и своевольный, со странностями. Ну а на Балканах у него расцвел подлинный военный талант…
У раскрытых окон лихо осадил каракового коня казачий офицер; за ним следовала казачья полусотня. Лишь только всадники выстроились шеренгой, к крыльцу подкатила коляска. Рядом с адъютантом в ней сидел генерал-губернатор. С подчеркнутым достоинством выйдя из экипажа, он направился к широко распахнутой двери. В просторном вестибюле его встретил рапортом дежурный штаб-офицер. Затем Кауфман прошел в кабинет. Все встали.
Невысокий, седой, изрядно облысевший (ему незадолго до того исполнилось шестьдесят лет), но с моложавым лицом, он ответил на приветствия.
— Прошу садиться, господа, — произнес правитель Туркестанского края.
Генерал подвинул к огромному письменному столу красного дерева такое же полукресло — мягкое, обитое малиновым сафьяном, с двумя бронзовыми копытцами на передних ножках и бронзовым орнаментом на спинке — орлом с развернутыми крыльями и с поникшей головой.
— Сколько ни смотрю на него, — кивнул генерал-губернатор на орла, — не могу понять, пред кем он склонил свою гордую главу? Нет, мне более по душе этот! — и Кауфман указал на чернильный прибор, изготовленный в том же стиле: на доске из светло-коричневого мрамора между двумя чернильницами в виде амфор, поддерживаемых петлями с четырьмя змеиными головками, был изображен еще один орел, гордо раскинувший крылья и хищно раскрывший клюв.
Разрядив таким образом напряженность обстановки, связанную с его приездом, правитель края сел и придвинул к себе папку с бумагами, услужливо раскрытую адъютантом.
— Итак, господа, нам предоставляется возможность ослабить нажим, при помощи которого лорд Биконсфилд хочет лишить Россию плодов победы на Балканах… По моему ходатайству генерал-майор Столетов отправляется в Афганистан для установления дружественных связей с эмиром Шер Али-ханом. За плечами Николая Григорьевича — Московский университет, Академия Генерального штаба. Он — старый, опытный «азиат», долго служил на Кавказе и в Туркестане, знает местные наречия, отличился в недавних боях и всем нам хорошо известен. Полагаю, его дипломатическое искусство не уступит воинской доблести.
Встав, Столетов сделал общий поклон.
— Его сопровождают полковник Разгонов и классный топограф Бендерский…
Сидевшие рядом с генерал-майором широкоплечий чернобородый офицер и высокий блондин в штатском также поднялись, наклонив головы в знак того, что они принимают поручение.
— В этой поездке им будут содействовать врач Яворский с фельдшером и три переводчика: с персидского — подпоручик Назиров, с западноевропейских языков — титулярный советник Малевинский, с тюркских — Замаан-бек Шихалибеков. Ну и, разумеется, миссии необходим эскорт. Не для охраны — ежели в тех далеких областях настигнет опасность, то ее не отведешь и дивизией, — а для почета… Двадцать один казак и урядник — больше не надо. Всего — тридцать человек.
Кауфман обратился к остальным:
— Вам, господа, надлежит озаботиться по своим ведомствам обеспечением отправляющихся всем необходимым. Соответствующее распоряжение для генерал-майора Столетова заготовлено. Оно будет вручено после нашей беседы. Поэтому прошу вас, Николай Григорьевич, задержаться. Я прощаюсь с вами, господа!
Вернувшись через час на Большой проспект, в гостиницу Ильина, где он остановился по приезде в Ташкент, Столетов детально изучил полученное им от генерал-губернатора «Предписание № 4407 от 26 мая (7 июня) 1878 г.».
«С получением сего, — говорилось в документе, — вы имеете отправиться в г. Кабул, к эмиру афганскому, для скрепления с ним наших дружественных отношений, выяснения эмиру всех от того для него происходящих выгод и для заключения, если то окажется возможным, с ним союза на случай вооруженного столкновения нашего с Англией».
Генерал-майор Н. Г. Столетов.
Далее Кауфман отмечал захват Британской империей земель на афганских границах и указывал на то, что «образ действий англичан, стремящихся утвердиться в Афганистане, не может окончательно примирить с ними эмира и устранить совершенно поводы к новым столкновениям…»
Правитель Туркестана предлагал своему посланцу разъяснить Шер Али-хану, что российское правительство «всегда смотрело на Афганистан как на оплот против посягательств английской политики на независимость среднеазиатских владетелей и что оно расположено оказывать со своей стороны поддержку стремлениям эмира противодействовать таким посягательствам».
Последний пункт предписания гласил: «По прибытии в Кабул и по разъяснении отношений наших с эмиром ваше превосходительство должны вернуться для личного доклада мне о всех ваших соображениях и добытых сведениях; затем, по всей вероятности, вам придется возвратиться опять в Кабул…»
Столетов задумался: на его долю выпала непростая задача. После Виткевича, побывавшего у эмира 40 лет назад, афганскую столицу не посещал ни один представитель России. Да и Виткевич добирался туда через Кавказ и Персию, а не тем путем, каким предстоит следовать теперь. Впрочем, это, видимо, не самая сложная часть задания: опытный топограф Бендерский не случайно именуется «классным» — он проложит и более трудный маршрут. Но вот удастся ли найти общий язык с далеким владетелем, в свите которого наверняка окажутся тайные и явные недоброжелатели?
Да что загадывать: приказ отдан — надо выполнять его.
Генерал-майор аккуратно вложил бумаги в плотный конверт и выглянул в окно: оба его ординарца были на месте, у входа. Столетов вздохнул и стал готовиться к дальнему путешествию.
Офицеры и чиновники военно-народного управления Туркестанского края, как именовалась местная администрация, отдавали себе полный отчет в важности предписанных ярым-подшо распоряжений; о затяжке их выполнения не могло быть и речи. Поэтому обеспечение миссии всем необходимым шло экстренным порядком. Вскоре несколько экипажей с членами миссии, но пока еще без казаков покинули Ташкент.
В древнем Самарканде, бывшей столице царства грозного Тимура, к миссии присоединился казачий конвой. Значительная часть пути пролегала по горным тропам Средней Азии и Афганистана, и там можно было передвигаться только верхом.
2 июня (14 июня по новому стилю) участники посольства собрались в усадьбе начальника Зеравшанского округа генерала Иванова. Караван-баши Раджаб-Али — афганец со смуглым выразительным лицом руководил завьючиванием лошадей.
Прощальное слово начальника округа, и караван вытянулся по самаркандским улицам. Полуденное солнце изрядно припекало, особенно при полном безветрии.
Кончился город, кончились сады. В лицо дохнул палящий степной ветер. Дорога шла по широкой равнине, огибая отроги видневшихся на востоке крутых горных хребтов.
Первый переход немало утомил членов посольства. Наскоро поужинав, они рухнули на одеяла и кошмы, чтобы рано утром направиться по холодку к селению Джаму, последнему пункту русского Туркестана. За ним уже простиралась бухарская территория.
Генерал Столетов торопился. Педантичный Бендерский наметил кратчайшую линию следования до города Карши. Однако, к их общей досаде, пришлось сделать большой крюк и заехать в Чиракчи: местный бек, сын эмира, пожелал проявить гостеприимство. После обеда и ужина у бека, получив в подарок семь лошадей под парчовыми и бархатными попонами и с отделанными бирюзой уздечками, семь тюков халатов и сладостей — для каждого из членов посольства, — двинулись дальше.
Его руководитель вел деликатную, но непрерывную и настойчивую борьбу с бухарскими чиновниками. Они всячески старались, чтобы миссия следовала с торжественной медлительностью. Впереди ехали трое бухарских есаул-баши с золочеными жезлами в руках — символами высокого положения сопровождаемых ими особ. Эти своеобразные церемониймейстеры определяли места привалов и ночлегов и назначали остановки гораздо чаще, чем было нужно Столетову.
Но как бы он ни спешил, уклониться от визита к повелителю «Благородной Бухары» — эмиру Сеиду Музаффар эд-Дин-хану было нельзя. Надев парадную форму, русские путешественники, предводительствуемые мирахуром — придворным, ведавшим приемами, посетили находившегося в Каршинской крепости эмира. Тучный, пожилой, в белой чалме, полосатом сине-зеленом халате и желтых сафьяновых полусапожках, он сидел в кресле, глядя на входивших черными глазами из-под нависших бровей. В аудиенц-зале — большой комнате с голыми, чисто оштукатуренными стенами и двумя огромными коврами на полу — для гостей были поставлены семь стульев, обитых красным сукном.
Эмир не отличался разговорчивостью.
— Как поживает наш друг, его высокопревосходительство джаноби[3] туркестанский генерал-губернатор? — такова была самая длинная произнесенная им фраза.
Столетов передал эмиру привет от генерал-губернатора, заверив при этом, что здоровью его высокопревосходительства ничто не угрожает.
Сеид Музаффар эд-Дин-хан, удовлетворив свое любопытство, погрузился в полудремоту, лишь изредка откликаясь односложными междометиями на рассказ генерала о целях его экспедиции. Наконец, выслушав пожелания успеха, члены миссии откланялись и ушли, пятясь задом, как того требовал этикет.
И снова дары. Разнообразные халаты, куски бархата, шелка, пояса, отделанные золотом и серебром, шкурки каракуля, нежные, словно колхидское руно, и, разумеется, семь лошадей под парчовыми попонами с золотым шитьем.
— Пока мы доберемся до Кабула, у каждого будет по табуну. И что с ним делать? — недоуменно развел руками Бендерский.
— Дорога дальняя… Кони пригодятся, — успокоил его полковник Разгонов и тут же расхохотался. Он увидел, как Яворский, совсем еще неопытный наездник, взгромоздился на подаренного ему гигантского рыжего аргамака. Сначала конь игнорировал седока, пытаясь укусить или лягнуть соседних лошадей. Но затем неожиданно резко взбрыкнул разок-другой, и бедный доктор, чертыхаясь, оказался на земле под громкий смех каршинских мальчишек, собравшихся во множестве, чтобы поглядеть на важных урусов.
Стараясь наверстать упущенное время, генерал Столетов распорядился двигаться побыстрее, сократив по возможности привалы, ночлеги и дневки. 16(28) июня путешественники разбили свой лагерь на берегу широкой и быстрой Амударьи. Здесь кончалась бухарская территория.
На следующий день бухарцы подогнали три парома, или каюка. Неуклюжие плоскодонные суда, внутри которых стояла вода, не имели палуб; сколоченные из нетесаных, плохо прилаженных брусьев, они были скреплены двумя поперечными балками. Сходен не было, и погрузка заняла долгие часы.
Наконец приступили к переправе. В реку загнали лошадь. К ее поводьям привязали веревку, которую держали двое перевозчиков на носу парома: то был своего рода руль. Пока каюк добирался до противоположного берега, его изрядно сносило. На афганской стороне «корабль» приходилось заводить вначале на пять-шесть верст вверх по течению, чтобы он, следуя тем же способом в обратном направлении, попадал в нужное место.
На первый же паром Столетов посадил гонца, чтобы известить Шер Али-хана о приближении миссии.
Переправа затянулась. Солнце жгло неимоверно. От жары мало спасали легкие шатры, наспех сооруженные бухарскими провожатыми для генерала и его спутников. Доктор измерил температуру в таком шатре.
— Ну и ну! — воскликнул он. — Ни много ни мало — 42 градуса по Цельсию.
Из другого шатра донеслось замысловатое ругательство Разгонова.
— Что случилось, Николай Иосифович? — спросил своего ближайшего помощника Столетов.
— Как бы это помягче выразиться, Николай Григорьевич, — сердито откликнулся полковник. — У меня в саквояже совершенно расплавился весь запас стеариновых свечей и залил одежду…
— Стоит ли расстраиваться из-за подобных пустяков! Вы знаете, что говорил Саади о хладнокровии и самообладании? — и генерал, сидя под импровизированным зонтиком на прибрежном песке и внимательно наблюдая за погрузкой, стал утешать сомлевших от зноя коллег стихами персидского поэта, призывавшего «положить подушку терпения на ковер ожидания» либо «укрыться от непогоды неприятностей под радугой удовольствий».
— Саади-то Саади, да вот как мне с мундиром быть?! — не унимался Разгонов.
— Ну уже если вам не угоден Саади, то, быть может, Фирдоуси или Хафизу вы поверите? — улыбнулся Столетов и поразил соотечественников целым каскадом поэтических изречений на тему философского отношения к невзгодам.
…Весь отряд смог переправиться на тот берег лишь через день.
Посольство остановилось в ближайшем селении, куда вскоре прибыл эскорт, высланный эмиром: сто пехотинцев и двести всадников под начальством двух генералов. Старший из них носил звание кам-наиба, или помощника наместника.
Афганские воины — пехотинцы и всадники — отличались большим разнообразием одежды, отражавшей все цвета и оттенки солнечного спектра, равно как и богатство фантазии местных портных. Ярко-зеленые и коричневые, желто-синие и белые, красные и черные куртки, мундиры, жилеты, рубахи. Штаны — длинные и короткие, широченные и плотно облегающие ноги. Многие были босиком, остальные — в чувяках, сыромятных сапогах и полусапожках. Единственное, что в их обмундировании было одинаковым, — это кулохи, высокие, куполообразные шапки из мерлушки.
Поражало обилие всевозможного оружия. У большинства были старинные джезаили — длинноствольные крупнокалиберные ружья кустарного производства, отделанные серебряной насечкой или иными украшениями. У некоторых за плечом висели винтовки — преимущественно английские, у других — мушкеты, доставшиеся им или их отцам в качестве трофеев еще со времен первой войны против инглизи: это оружие, как правило, они хранили в чехлах. Из-за пояса у каждого воина торчали по нескольку ножей и кинжалов, а порой и пистолет или револьвер, которым владелец очень гордился, поминутно касаясь его, будто поправляя.
Бегло взглянув на воинов, оценив их снаряжение, умение выполнять команду, Столетов и Разгонов, опытные военные, подумали, что такому войску трудно будет противостоять хорошо вооруженной и обученной британской армии. И как только афганцам удалось нанести англичанам такое сокрушительное поражение сорока годами ранее?!
Кам-наиб выстроил свой отряд и, приветствуя прибытие посольства в Афганистан, сообщил, что эмир Мухаммад Шер Алихан будет рад принять в Кабуле представителей ак подшо — Белого Царя.
На следующий день, вечером, когда спала жара, миссия, сопровождаемая почетным эскортом, направилась в Мазари-Шариф, центр области Чар-Вилоят в резиденцию ее правителя — лой-наиба.[4]
— Справа по два — марш! — раздался зычный голос урядника, и двадцать два казака вытянулись вереницей следом за Столетовым и его спутниками. При выезде из селения к ним присоединились афганские генералы со своим небольшим войском. Часть его заняла место в авангарде, другая замыкала колонну. Двигались в ночной мгле; мрак усиливался облаком пыли, взметенной сотнями ног. Лишь изредка слабая струя ветра, слетавшего с лежавших впереди невидимых гор Гиндукуша, срывала пыльную пелену, и сквозь туманное марево в свете молодой луны и далеких звезд на мгновение прорисовывалась колышущаяся человеческая масса — и снова скрывалась в тумане.
Тяжкое испытание выпало на долю путешественников на следующий день: на их лагерь обрушился опаляющий вихрь — гармсиль; о его характере говорило само название — «наводнение зноя».
Время близилось к трем часам пополудни, когда окружающая атмосфера стала как-то неестественно густеть и накаляться. Доктор только успел установить, что термометр в тени палатки показывал 44 градуса, как едва не был сбит с ног плотной и вместе с тем пружинистой воздушной волной. Во рту ощущалась горечь, сердце заколотилось, голова налилась чугуном, дышать было нечем, все — и русские и афганцы — почувствовали себя словно в недрах вулкана или в раскаленной печи.
Вверх взметнулось море песка, и среди дня, будто на удивление сверкавшему на ясном небе солнцу, стало темно, как ночью. Песок проникал в плотно затянутые палатки, куда укрылись путники, забивал рот, уши, нос, и не было от него спасения. А снаружи что-то ухало, завывало, грохотало. Жгуты песчаных смерчей свивались в канаты, канаты переплетались между собой, образуя причудливые столбы, возносившиеся ввысь. Лошади, верблюды, ослы сбились в кучу, не издавая ни звука. Да и что можно было услышать в громовом бесчинстве свалившегося неведомо откуда ураганного ветра!..
Когда гармсиль переместился в иные края и все вокруг начало успокаиваться, путешественники долго не могли прийти в себя. Чтобы подбодрить их, Столетова навестил кам-наиб. При виде того, как русский посол и его товарищи стряхивали с себя густой песчаный покров, протирали глаза и прочищали уши, он усмехнулся:
— Повезло!
— В чем повезло? — удивился Столетов.
— Быстро прошел гармсиль.
— У нас этот ветер иногда называют «афганцем», — заметил Столетов.
— Правильно называют. Он — как наш народ: резкий, горячий. Навалится — задушить может. Враги знают наш характер. Испытывали на себе. Но афганцы — и люди и ветер — отходчивы. Если их не задевают! — с улыбкой добавил кам-наиб.
23 июня (5 июля) миссия вступила в Мазари-Шариф. Свое название — «Благородная могила» — город получил потому, что здесь находилась гробница Али — первого шиитского имама, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. При въезде в Мазари-Шариф гостей встретили орудийным салютом. Затем их приветствовал двоюродный брат эмира Хош Диль-хан.
…Почти две недели пришлось дожидаться в Мазари-Шарифе известия о готовности Кабула принять посольство. 6/18 июля, когда из столицы прибыл долгожданный чапар — гонец, можно было наконец продолжать путь. До Кабульских ворот процессию сопровождал Хош Диль-хан с большой свитой. Прощальные пушечные залпы отметили выезд из города. Почетный эскорт увеличился теперь до трехсот всадников и двухсот пехотинцев.
Дорога была нелегка. Столетов нервничал. Чувствовалось, что каждый час, а тем более день промедления или задержки стоит ему очень дорого, но он старался не проявлять раздражения и был неизменно ровен и спокоен. По крайней мере — внешне. Генерал знал: Восток есть Восток, и о нарушении его вековых традиций не может быть и речи.
Но кроме правил этикета были и обычные трудности. Движение многочисленного кортежа затруднялось необходимостью переправляться через быстрые речки, пересекать узкие ущелья: надвигалась каменная громада Гиндукуша. Позади остались Кзыл-Котал и Кара-Котал — «Красный перевал» и «Черный перевал», за ними — лощины Мадер и Баджгах, пролегающие между скал, на склонах которых — кое-где в несколько этажей — виднелись входы в древние пещеры.
С большим напряжением сил путники преодолели грозный перевал Данданшикан — «Сокрушитель зубов», с полным основанием прозванный так жителями. Залитые солнцем и пышущие зноем долины сменялись мрачными скалистыми теснинами, где даже у привычных северян от холода зуб на зуб не попадал.
И члены миссии и казаки попеременно испытывали приступы лихорадки: на пути им пришлось пройти немало болотистых низин. Но они упорно и настойчиво сокращали расстояние, остававшееся до афганской столицы.
В районе Бамиана, как бы в вознаграждение за невзгоды дальнего пути, перед Столетовым и его спутниками предстало удивительное зрелище: за поворотом дороги в нишах отвесных скал вдруг возникли огромные каменные фигуры — древние статуи буддийских идолов в несколько десятков метров высотой. Путешественники застыли в изумлении.
«Бамианские колоссы» — так называлось это чудо.
— Разве может идти в какое-либо сравнение восхождение на кёльнскую колокольню или на купол собора святого Петра в Риме? — в экстазе размахивал руками Яворский, доказывая необходимость немедленно заняться осмотром гигантских статуй и попытаться взобраться на них. Доктору с полковником Разгоновым и проводником-афганцем удалось добраться до верха лишь меньшего «бамианского идола», так как лестница, которая вела на более крупную статую, оказалась разрушенной.
Наконец, миновав еще немало горных проходов и ущелий, посольство вышло к берегам главной реки Афганистана — Гильменда, а потом к перевалу Унай; близ него, но уже в противоположном направлении несла свои воды другая река — Кабул.
Богатая и разнообразная природа долин этих рек радовала взор путников, утомленных мрачными, суровыми красками окружавших их долгое время горных ущелий. Гранитные скалы живописно оттенялись здесь густой зеленью ухоженных садов, стройные тополя вздымали ввысь свои стволы, будто пытаясь дерзко соперничать с горными пиками. На склонах холмов виднелись отары овец и коз. В плотной листве деревьев золотыми искорками мелькали абрикосы. Над светлой линией журчащей воды нависли будто замершие ивы, а раскидистые чинары манили передохнуть под своей благодатной сенью. На пшеничных полях уже почти созрели крупные и тяжелые колосья.
Миссия Столетова, преодолев все трудности далекого пути, приближалась к афганской столице.
Глава 3 МОМЕНТ НАСТАЛ
31 июля 1878 года, в среду, к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, где обычно проходили заседания правительства Британской империи, съезжались экипажи. Глава кабинета лорд Биконсфилд пригласил своих коллег к шести часам. Первым в знакомое здание вошел Дадли Райдер виконт Сэндон — президент торговой палаты. Вчерашним выступлением в защиту экономической политики консерваторов он вызвал бурю аплодисментов тори в палате общин и пребывал в приподнятом настроении. За ним почти одновременно приехали лорд-хранитель печати герцог Нортумберленд и министр иностранных дел Солсбери, потом канцлер казначейства Норскот, лорд-президент Совета герцог Ричмонд и другие. Последним, как водится, явился Гатторн Харди виконт Крэнбрук — статс-секретарь по делам Индии; его леность вошла в поговорку и не раз служила объектом язвительных шуток Биконсфилда, на которые тот был большой мастер.
Места за длинным прямоугольным столом в зале заседаний занимали по сложившейся традиции. В центре спиной к камину и лицом к трем высоким узким окнам обычно садился премьер-министр, слева от него — военный министр Стэнли и Крэнбрук, справа — лорд-канцлер Кейнс и герцог Ричмонд, напротив — герцог Нортумберленд, Солсбери, Норскот, Сэндон, первый лорд адмиралтейства Смит и генерал-почтмейстер Мэннерс. Наконец, в торцах стола стояли кресла министра внутренних дел Кросса и статс-секретаря по делам колоний Бича.
В назначенное время из своих комнат вышел Биконсфилд. Сгорбленная фигура, мешки под глазами, набрякшие веки — семидесятитрехлетнему премьеру нелегко давались государственные заботы и бурные прения в парламенте, нередко затягивавшиеся далеко за полночь.
— Что у нас сегодня самое животрепещущее, господа? — глухим голосом спросил он, поздоровавшись с собравшимися.
— У меня — важное письмо лорда Литтона, — поднял руку Крэнбрук. Плотный, розовощекий, неукоснительно сочетавший не очень напряженный труд с интенсивным отдыхом, он казался олицетворением здоровья, являя полную противоположность своему шефу.
— Слушаем вас, Гатторн.
— Послание пространное. Не стоит занимать ваше внимание, оглашая его целиком. Но здесь есть крайне интересные мысли и предложения, требующие размышлений и отклика.
Крэнбрук слегка откашлялся и, отставив документ далеко от глаз, начал читать: «Я убежден, что политика создания в Афганистане сильного и независимого государства, над которым мы не можем осуществлять никакого контроля, ошибочна. Если вследствие войны или смерти нынешнего эмира, которая, конечно, явится сигналом для раздоров между соперничающими претендентами на престол, мы получим возможность (а ей несложно возникнуть в любую минуту) разделить или сломать Кабульскую державу, я искренне надеюсь, что мы не упустим такой случай. Полагаю, что это также мнение лорда Солсбери…»
Все присутствующие посмотрели на министра иностранных дел. Тот кивнул, как бы подтверждая сказанное.
— И что же предлагает вице-король? — произнес премьер.
— Он выдвигает довольно четкую программу: «В интересах Индии наиболее разумным явилось бы создание западноафганского ханства, включающего Мерв, Меймене, Балх, Кандагар и Герат, под властью какого-нибудь избранного нами правителя, который зависел бы от нашей поддержки. При наличии образованного таким путем западноафганского ханства и небольшой британской базы подле границы в Куррамской долине судьбы самого Кабула были бы для нас вопросом, не имеющим значения».
Воцарилась тишина. Члены кабинета обдумывали услышанное.
— А при чем тут Мерв? — первым подал голос лорд Мэннерс. По своей «почтмейстерской» должности он был обязан особенно хорошо знать географию. — Как я себе представляю, Мерв никогда не имел ничего общего с Афганистаном.
— Ну, это детали, — отмахнулся статс-секретарь по делам Индии.
— Да, частности, — неожиданным для своей внушительной внешности высоким голосом поддержал его Солсбери. — Хуже другое: у нас нет серьезного основания для активных действий.
— И войны нет, и кабульский правитель, кажется, не собирается на тот свет, — усмехнулся Сэндон.
— Появление под нашим контролем и в таком составе ханства — как его там называет барон Литтон — западноафганского? — превратило бы Кабул в жалкий, никому не нужный островок… Я думаю, господа, одобрим предложения вице-короля. К их реализации следует быть готовыми в любую минуту. А такую минуту, — Биконсфилд повернулся к Крэнбруку, — надо всемерно приближать. Это и следует сообщить в Симлу. Пока же займемся нашим бюджетом…
По душноватому залу (премьер-министр смертельно боялся сквозняков, и все окна были тщательно закрыты) пронеслось едва заметное дуновение ветерка: бесшумно отворилась дверь и вошел слуга.
— Срочная депеша, милорд!
Биконсфилд раскрыл телеграмму. На его лице появилось выражение радостного изумления.
— Ну, господа, — обратился глава правительства к министрам, — если бы я изобразил нечто подобное в одном из своих романов, вы вправе были бы счесть меня фантазером… Потрясающее стечение обстоятельств!
Он взволнованно продолжал:
— Наш энергичный вице-король легок на помине. В его депеше — любопытнейшая весть: в Кабул прибыли русские офицеры с вооруженным эскортом! Вот вам и повод для вмешательства в афганские дела.
— Но ведь афганский правитель пока еще независим и может принимать кого ему заблагорассудится, — вставил Норскот.
— Ну, это как сказать, — пробасил Крэнбрук. — Он сидит слишком близко от нашей Индии!
Биконсфилд остановил назревавшую дискуссию.
— Лорд Литтон говорит о трех вариантах нашей возможной реакции: во-первых, рассматривать отмеченный факт с имперских позиций и отсюда, из Лондона, обсуждать проблему с Петербургом; во-вторых, подойти к ней как к вопросу, имеющему прямое отношение к Индии, и потребовать от Кабула приема аналогичной британской миссии; в-третьих, ничего не предпринимать.
Члены кабинета согласились с мнением Солсбери: отложить окончательное решение до тех пор, пока не удастся четко выяснить, что происходит в столице Шер Али-хана.
3 августа они снова собрались на Даунинг-стрит. На этот раз вскоре после полудня. Все имели полусонный вид, но чувствовали себя победителями: накануне, только к двум часам ночи, крупной победой правительства, получившего большинство в 143 голоса при обсуждении чреватого последствиями запроса либеральной оппозиции, завершилось заседание палаты общин. Биконсфилд заявил, что кабинет может быть доволен работой, проделанной во время дебатов.
— Займемся, однако, тревожными афганскими проблемами, — сказал он и вопросительно обернулся к статс-секретарю по делам Индии.
Виконт Крэнбрук зачитал длинную депешу лорда Литтона. Вице-король подтверждал известие о русской миссии в Кабуле и запрашивал инструкции.
— Если мы не предпримем быстрых и энергичных действий, трудно будет предвидеть последствия, какие вызовет по всей Индии сообщение о появлении в соседней стране наших соперников, — резюмировал виконт. И после краткой паузы добавил:
— К тому же история нам не простит, если мы не воспользуемся ниспосланными провидением обстоятельствами, чтобы избавиться от Шер Али-хана. Или, по крайней мере, не наденем на него достаточно надежную смирительную рубашку…
— Значит, надо сделать что-то особенное! — воскликнул герцог Ричмонд. — Что же мы предпримем?
Все улыбнулись: герцог неизменно стремился продемонстрировать свою энергию и активность, но за всю бытность членом правительства ни разу не внес какого-либо существенного предложения.
Такие предложения — особенно в связи с международными проблемами — обычно исходили от маркиза Солсбери. Теперь же их следовало ожидать с тем большей вероятностью, что Солсбери, предшественник Крэнбрука на посту вершителя индийских дел, был в них достаточно компетентен. И действительно, у него был уже готов план действий.
— Надо поручить барону Литтону категорически потребовать от эмира незамедлительного принятия нашего посольства, — начал маркиз. — И любой ценой добиться его допуска в Кабул. Не исключено, что кратчайший путь через Хайберский проход окажется опасным из-за враждебности к нам местных племен. Трудности несколько уменьшатся, если направить британских представителей через Кандагар. Есть сведения, хотя и не очень надежные, что его жители расположены более дружелюбно к соседям-англичанам в Индии.
Слова Солсбери не вызвали возражений.
— Итак, решено! Отправляем к эмиру авторитетную миссию, — подвел итоги обсуждения премьер-министр. — И следует позаботиться, чтобы ее эскорт соответствовал величию и мощи империи.
* * *
Между тем Каваньяри не тратил времени даром. Не было буквально ни одной военной экспедиции против пограничных афганских племен, в которой он бы не принял самого активного участия: во второй половине 1877 года — «экспедиция Джоваки», в феврале 1878 года — «экспедиция Сапири», в марте — «экспедиция Шакат» и сразу же за ней — поход против племени утманхель. И так далее.
Однако непосредственно в боевых операциях комиссар участвовал редко. Он терпеливо и настойчиво отыскивал нужных ему людей, уединялся с ними в укромных местах и что-то долго и настойчиво втолковывал им. Удалось ему наладить связи и с некоторыми излишне корыстолюбивыми вождями, старшинами, маликами.
Правда, в одном месте, и, к сожалению, едва ли не в самом важном, его ждала неудача. Комендант форта Али-Масджид капитан, или по-афгански кефтан, Файз Мухаммад категорически отверг все попытки к сближению. А ведь Али-Масджид — ключевая позиция на нелегком пути из Пешавара в Кабул. Но британский комиссар надеялся, что ему удастся переубедить упрямца.
В те редкие часы и дни, когда Каваньяри находился в своей пешаварской резиденции, его посещали какие-то таинственные личности. Они приезжали и уезжали под покровом ночной темноты, на хороших конях, задерживаясь лишь для очень краткой беседы и увозя холщовые мешочки, небольшие, но весьма увесистые. Обычно после таких посещений комиссар засиживался допоздна у себя в кабинете. Вскоре на стол вице-короля, находившегося в Калькутте или Симле, ложилось донесение, под которым стояла подпись «Клин».
«Клин» сообщал сведения, доставленные его агентами из Кабула и других городов Афганистана, рассказывал о предпринимаемых им поисках людей, на которых можно будет опереться, когда настанет час решительных действий против несговорчивого Шер Али. Речь шла о подкупе вождей племен и глав родов и разжигании вражды между ними, о натравливании важных сановников на правителя и возбуждении у них жажды власти, о тайной борьбе против Афганского государства, упоминая о котором английские политики не обходились без слов «так называемое»…
Однако иногда Каваньяри охватывало чувство, будто делается что-то не то и что-то не так. Это вовсе не были угрызения совести. О нет! Он лишь выполнял свой долг. И выполнял, видимо, неплохо, ибо сменил капитанские знаки различия на майорские, а его парадный мундир уже украшал орден «Индийская звезда» командорской степени.
Ощущение, будто делается «что-то не то и что-то не так», было связано совсем с другим. Каваньяри провел уже достаточно много времени среди афганцев, чтобы не заметить основные черты их характера. И он отчетливо видел, что даже те, кто брал его деньги или кто имел основание быть недовольным нынешним эмиром, страстно любят свою отчизну и гордятся ею. И это порождало сомнение в конечном успехе «деликатных операций», как мысленно характеризовал свои действия комиссар. «Только сильнейший военный удар, неумолимый и оглушительный, заставит афганцев признать наше превосходство и принять наше владычество», — думал он. Эту мысль Каваньяри неизменно проводил и в своих донесениях вице-королю. Каваньяри настойчиво писал об этом, так как знал, что тем самым подкрепляет взгляды Литтона и его окружения, а также вынашиваемые ими планы. Ему было известно, что вдоль границ Афганистана с Индией сосредоточиваются британские войска, и в душу закрадывалось тревожное ожидание: какая роль предназначается ему в назревающих событиях?
Когда ждешь чего-то важного, оно всегда приходит неожиданно. Так случилось и теперь. 8 августа 1878 года пешаварскому комиссару передали телеграфное предписание немедленно прибыть в Симлу.
Через два дня Каваньяри входил в знакомый дом. Вице-король находился в кабинете в обществе полковника Колли. Как и прежде, лорд Литтон старался создать дружескую, неофициальную атмосферу. Он даже проявлял еще больше теплоты и сердечности, хотя по привычке не упустил случая слегка поддеть прибывшего.
С этого и началась беседа:
— Ждем вас, майор. Не скрою, я внимательно наблюдал за вашими действиями. Они заслуживают одобрения. Если вы еще и не стали настоящим Наполеоном, то уровня Талейрана или Фуше уже достигли.
Каваньяри еще при первом знакомстве освоился со стилем Литтона и знал, что его шутливый тон в любой миг может смениться серьезным. Так и произошло. Вице-король тут же перешел к делу.
— Год назад я предупреждал Лондон об опасности, нависшей над нами с севера. Меня высмеяли. Теперь в Кабуле находится русская миссия. Этот сумасшедший дикарь, Шер Али, заверяет, что ее приезд ничем нам не грозит. Мне совершенно безразлично его мнение. Я сам буду решать, чего нам следует бояться…
И снова Колли молча кивал, соглашаясь с каждым словом вице-короля.
— Пусть даже никакой угрозы нет, — продолжал тот, — прибытие в Афганистан представителей Петербурга — отличный повод, чтобы потребовать от Шер Али принять и нашего посла. Да и не только для этого. Вот, знакомьтесь с копией депеши, которую я отправил статс-секретарю по делам Индии.
И он протянул майору письмо. Оно гласило: «Мы теперь должны пересмотреть вопрос о том, что реально представляет собой наша северо-западная граница. Нынешняя линия… совершенно не соответствует своему назначению. Великой естественной границей Индии является хребет Гиндукуш с его отрогами; этому хребту и надлежит быть нашей окончательной границей».
Каваньяри сразу сообразил, что означает перенос пограничной линии на Гиндукуш. Это же почти полное поглощение Афганистана Британской империей!
Далее вице-король намечал конкретные практические пути для достижения намеченной цели. Если правительство согласно с высказанной точкой зрения о направлении границы, гласил далее текст, то для ее установления есть три способа: добиться такого союза с Шер Али, который исключал бы всякое влияние России на Афганистан; если это невозможно, расчленить Афганистан и поставить правителем более послушного эмира; завоевать столько афганских земель, сколько потребуется для прочного сохранения северо-западной границы Британской Индии.
Первый вариант лорд Литтон находил абсолютно безнадежным, третий рассматривал как крайний. Оставался второй, и в качестве предпосылки к его осуществлению он предлагал отправить в Кабул дипломатическую миссию. Ее цель — требовать предоставления Англии права разместить своих офицеров в афганской столице и в Герате для контроля за обстановкой в стране, а особенно — за внешней политикой Шер Али.
— Я настаивал на немедленном ответе, — подчеркнул вице-король, когда майор вернул ему прочитанный меморандум.
…Лорд Литтон не мог знать, что этот документ вызвал у лорда Биконсфилда долгое раздумье. Изучая его перед заседанием кабинета, премьер неожиданно вспомнил свое выступление в парламенте тридцать пять лет назад. И в его памяти возникли не только отдельные слова и выражения, но и весь тот день, окрашенный праздничным настроением. Он, тогда еще молодой Бенджамен Дизраэли, лишь недавно избранный депутатом, произнес одну из своих первых речей, являющуюся по традиции чем-то вроде посвящения в политические деятели.
Тяжелые то были времена. В Англии едва начинали сознавать подлинные масштабы и значение разгрома британской армии в Афганистане. У всех на устах были имена Элфинстона, Поллока, Макнотона, Бернса и других героев и мучеников этой злосчастной войны. О чем же он тогда говорил? Да, вот о чем! Если афганцев оставить в покое, то их страна явится прочной преградой для вражеского вторжения в Индию. «Почва там неплодородна. Местность пересекают огромные горы, среди которых войско может подвергнуться полному уничтожению. Вероломство народа вошло в поговорку. Имеется, таким образом, сочетание всех элементов, превращающих эту страну в совершенно непреодолимый барьер, если мы воздержимся от вмешательства в ее дела».
Почему же сейчас он готов предать забвению собственные, в общем справедливые слова?! Биконсфилд подумал о своем ближайшем коллеге — Солсбери. Тот, конечно, будет решительно отстаивать доводы Литтона. Крэнбрук? Хотя он и ленив, но весьма настойчив в этом вопросе, да и начитался будоражащих статей Роулинсона. Впрочем, не только его министры — вся верхушка консервативной партии жаждет крови эмира Шер Али-хана.
Государственный деятель, обладавший огромным опытом и умением лавировать среди политических рифов, Биконсфилд великолепно понимал, что кроется за внешне невинным предложением вице-короля об отправке посольства в Кабул. Дело шло к новой афганской войне, и влиятельные круги в Англии и в Индии были склонны форсировать события. И он, премьер, скорее будет содействовать им, чем ставить преграды.
Его взгляд упал на последний номер «Таймса». Впрочем, он и без газеты — и гораздо лучше ее репортеров — знал, что экономический спад, начавшийся в Великобритании в 1873 году, незадолго до его прихода к власти, не только не прекратился, но приобретает черты острейшего кризиса. В сталелитейной и угольной промышленности — глубокая депрессия. Но особенно тяжелое положение в хлопчатобумажной промышленности. А об экспорте нечего и говорить. Ни «Таймс», ни «Экономист» еще не пронюхали о подсчетах, сделанных правительственными экспертами: за последние годы английский экспорт сократился более чем на четверть! Дальше уже, как говорится, идти некуда… Банки и предприятия охватила волна банкротств.
Война? Что ж, успешная война всколыхнет народ, усилит его патриотические чувства, отвлечет от тревожной обстановки на Островах. Она позволит расширить рынки сбыта, увеличит возможности распространения британских изделий. А если активнее использовать материальные и людские ресурсы Индии, то, собственно, от Англии не потребуется сколько-нибудь крупных затрат.
Легко возбудимый и увлекающийся, лорд Биконсфилд уже рисовал перед собой картины — одну радужнее другой. Если удастся закрепиться в Афганистане, то, как знать, может быть, потесним Россию в Средней Азии и, уж во всяком случае, откроется доступ к внутренним районам Ирана и Китая…
Ну а если война будет не очень успешной? Или вовсе неудачной? Как первая? Не может такого случиться! За прошедшую с тех пор треть века несравненно улучшились средства транспорта и связи, проще стало снабжать и перебрасывать войска. Британская империя сильна как никогда — что ей этот жалкий Афганистан, с его нищим народом, необузданным и слабо-вооруженным воинством, которое и армией-то назвать нельзя! Опыт прежнего поражения необходимо, конечно, учесть. Но, в конце концов, неужели английские генералы с тех пор так и не научились воевать?!
И премьер-министр правительства ее величества королевы Виктории лорд Биконсфилд согласился с мнением других членов кабинета: следует одобрить намерение вице-короля Индии направить в афганскую столицу посольство…
…Всего этого лорд Литтон, естественно, не мог знать, беседуя со своими подчиненными. Он предложил Колли и Каваньяри перейти в соседнюю комнату, где на низком столике стояли вазы с фруктами и несколько бутылок вина.
— Мне сегодня доставили свежую партию чудесного бургундского. Оно, я надеюсь, несколько оживит наш сугубо деловой разговор. Прошу отведать, — улыбнулся Литтон. — Великолепный напиток, не правда ли?
Колли и Каваньяри выразили свое восхищение качеством вина, и удовлетворенный вице-король продолжал:
— Срочность вашего вызова, майор, связана с тем, что на днях я сообщу Шер Али о немедленной отправке к нему своей миссии. Надеюсь, вас не удивит, что главой миссии назначен знаменитый генерал Нэвилл Боулс Чемберлен?
— А почему это должно вызвать мое удивление, милорд? — задал встречный вопрос Каваньяри, уловив в словах Литтона легкую иронию.
Барон едва заметно усмехнулся и промолвил, словно нехотя:
— Либо вы тонкий дипломат, майор… Либо пребываете в блаженном неведении. Будем исходить из последнего, хотя не исключено и первое. Итак, суть в том, что сэр Нэвилл, занимающий ныне пост главнокомандующего Мадрасской армией, как известно, участвовал еще в сражениях 1839–1842 годов. Он лично знаком с Шер Али с тех времен, когда тот с отцом были нашими пленниками в Индии. Зачем только их отпустили?! Но вернемся к генералу. У него величественная осанка, тонкое чувство такта и замечательное присутствие духа.
Вице-король замолчал. Каваньяри с недоумением посмотрел на него:
— Простите, милорд, но, насколько я могу судить, отмеченные вами качества в высшей степени необходимы для главы посольства, направляемого в Афганистан.
Легкая усмешка не сходила с лица Литтона:
— Бесспорно. Однако… — надеюсь, мы находимся в достаточно узком кругу и полковник нас не выдаст, не правда ли, Джордж? — следует, к сожалению, констатировать, что почтенный ветеран никакими другими полезными качествами не обладает. Как бы это выразиться помягче? Скажем так: мало-мальски напряженная мыслительная деятельность не является его стихией. Родители мечтали видеть Нэви военным инженером, но уже в Шутерхиллской школе, где он готовился к поступлению в Вулвичское училище, их предупредили, что он больше склонен к физическим упражнениям, чем к умственным…
Оба офицера улыбнулись.
Литтон продолжал:
— Нэвилл все же оказался в Вулвиче, но, поскольку представлялось совершенно невероятным, чтобы он сдал выпускные экзамены, его потихоньку удалили из училища. Он — прирожденный солдат, мало размышляющий рубака. Старого друга его отца, сэра Генри Фэйна, как раз в это время назначили главнокомандующим в Индии, и он вместе с одним из директоров Ост-Индской компании, министром Баклом, помог определить Нэви в Бенгальскую армию. Ну а здесь карьера делается быстро. Особенно при поддержке в Лондоне и постоянных войнах на Востоке.
Пригубив бокал с вином, барон взглянул на Каваньяри:
— В ваших глазах, дорогой Наполеон, явственно читается: «Вряд ли мой спешный приезд в Симлу продиктован необходимостью познакомиться с биографией генерала Нэвилла Боулса Чемберлена». Действительно, вас пригласили не для этого. Вернее, не только для этого.
Он сделал паузу и заговорил как-то очень жестко, выделяя каждое слово:
— Мы не очень надеемся на Нэви. Тем более что ему уже под шестьдесят… Вы включены в состав миссии, майор. Хочу выразить надежду, что вы будете ее мозгом и душой. Именно поэтому я так детально знакомлю вас с моими соображениями по поводу афганских дел. Положение Шер Али шаткое. Оно еще более ухудшится, если он сохранит сумасбродные представления о своей самостоятельности! Лондон согласен со мной. Необходимо действовать быстро и решительно. Особенно если вы попадете в Кабул… В этом я, правда, не очень уверен. Однако, если и не попадете, не огорчайтесь: возможно, так будет даже лучше, — несколько загадочно завершил разговор лорд Литтон.
Глава 4 У ЭМИРА ШЕР АЛИ-ХАНА
28 июля (9 августа) 1878 года, когда российское посольство находилось от Кабула на расстоянии одного перехода, показалась торжественная процессия с тремя массивными слонами впереди. Поравнявшись с караваном, погонщики остановили слонов. Средний из них стал на колени. Из плетеной корзины, укрепленной на его спине, спустился везир — министр иностранных дел эмира. Худощавый, высокий, он чувствовал себя неловко в одежде европейского покроя, явно для него непривычной. Узкий лоб, мелкие черты лица и выпуклые черные глаза дополняли его портрет. Он протянул руку Столетову, затем обнял его, произнося слова приветствия:
— Хош амадид, хош амадид, джарнейль-саиб! Добро пожаловать, господин генерал!
Затем они вместе забрались в ту же корзину, убранную внутри шелковыми подушками и кашемировыми шалями. На других слонах помогли разместиться Разгонову и Малевинскому, с удовольствием предвкушавшему необычную поездку, и кортеж направился на восток, мимо холмов, за которыми высились бледно-розовые, словно подсвеченные, снежные вершины Гиндукуша. С юга ничто не ограничивало взора; лишь где-то вдали сквозь туманную дымку едва намечались линии невысоких отрогов хребта Сафедкох.
Между тем церемония встречи становилась еще торжественнее: из Кабула прибыл родной брат эмира сардар Хабибулла-хан. Более внушительных размеров слон с позолоченными подпиленными клыками должен был подчеркивать важность восседавшей на нем персоны. За сардаром следовал отряд всадников, вооруженных красивыми кабульскими шашками, в блестящих металлических шлемах с цепочками на подбородке.
Столетов и Хабибулла-хан сошли на землю и обменялись рукопожатиями. Дальше урус элчи — русский посол — поехал вместе с вельможей на его слоне. По мере приближения к столице это шествие собрало множество зрителей вдоль дороги, на соседних холмах и скалах и на плоских крышах домов, куда высыпали все их обитатели.
Развалины крепости Бала-Хиссар.
Миновали узкую, мощенную щебнем базарную улицу. Реку Кабул перешли вброд, так как каменный мост был ненадежен. Неожиданной возможности выкупаться очень обрадовались слоны: они обливали себя водой, набирая ее в хоботы. А один слои занес было хобот с водой над корзиной, где находились Разгонов с Малевинским. Почему бы не доставить удовольствие и гостям! Но тут вмешался погонщик: он что-то долго шептал своему другу, после чего тот, похлопав ушами в знак согласия, обрушил фонтан на зевак, столпившихся у барьера моста.
Слева от дороги выстроились афганские войска — в центре пехота, перед ней по фронту пушки, на флангах — кавалерия. Едва процессия начала приближаться, артиллеристы дали залп, за ним еще и еще… После салюта заиграл оркестр, и войска двинулись церемониальным маршем. Сопровождаемая приветственными криками многотысячной толпы, которые заглушали звуки музыки, процессия подошла к воротам расположенной на холмах грозной крепости Бала-Хиссар, где находилась резиденция эмира. У ворот цитадели стояла почетная стража; ее шотландская одежда — доходящие до колен клетчатые юбки, башмаки и каски — вызвала удивление приехавших.
Слоны, не без труда прошедшие через узенькие улочки, остановились близ отведенной для посольства усадьбы неподалеку от дворца Шер Али-хана. Широкие ворота в толстой и высокой глинобитной стене вели во внешний двор; несколько расположенных там помещений были заняты афганцами, в обязанность которых входило обслуживание знатных гостей. Миновав ворота поменьше, члены миссии оказались во внутреннем дворе, чисто подметенном и усыпанном мелким золотистым песком. Два находившихся здесь строения — четырехэтажное и двухэтажное — привлекали внимание своими красивыми, из жженого кирпича террасами. На втором этаже одного из них уже был приготовлен ужин, стояли несколько подносов с фруктами и чай.
День близился к вечеру. Прощаясь, Столетов и везир условились, что следующие сутки будут отведены для отдыха, а поутру члены посольства отправятся на аудиенцию к эмиру. Везир поклонился и ушел.
Настало время заслуженного отдыха, да и голод давно давал о себе знать. Но Столетову было не до еды. Кивнув Разгонову, генерал направился в одну из уединенных комнат.
…Буквально накануне последнего перехода он получил срочную почту из России: письмо Кауфмана с приложенной к нему коротенькой, но чрезвычайно важной телеграммой из столицы. В ней сообщалось, что созванный в Берлине международный конгресс завершил работу. Принятый им трактат менял условия русско-турецкого договора: предусматривалось создание Болгарского княжества в урезанных границах, самостоятельность Сербии и Черногории в прежних рубежах, а также выплата России 400 миллионов рублей — возмещение военных издержек.
И хотя об «азиатских» делах в этой депеше не говорилось ни слова, Николай Григорьевич хорошо понимал, что в изменившихся обстоятельствах, когда отношения с Англией утратили, по-видимому, явную враждебность, цели его миссии в значительной степени изменились.
Если бы глава миссии и не сделал сам никаких выводов из депеши, то ему помог бы умудренный опытом Кауфман, который писал: «…если только телеграмма верна, то она очень печальна». Правда, печаль туркестанского генерал-губернатора была вызвана не только, а быть может, и не столько тем, что Россия оказалась перед необходимостью пойти в Берлине на уступки. Ярым-подшо больше тревожила угроза безопасности среднеазиатских владений: вследствие отказа от решительных действий против сильного и энергичного соперника на Востоке они могли оказаться под ударом.
Но с реальностью следовало считаться, и правитель Туркестана советовал Столетову воздерживаться в кабульских переговорах от далеко идущих обещаний; они были бы уместны и обоснованны лишь при явной угрозе англо-русской войны.
— Что вы скажете по сему поводу, любезный Николай Иосифович? — спросил генерал у Разгонова, познакомив его с полученной почтой.
— Только то, что наша задача осложнилась еще более. Где та грань, за которую нам не следует заходить? Так ли нас поймут?
— Да, тезка, вы правы. И, заметьте, неизвестно, что еще может произойти — или уже произошло — где-то там, в Берлине, Петербурге или Ташкенте! А мы узнаем о том хорошо если через месяц…
— Любопытно, какие мысли высказал бы в связи с этим мудрый Саади? — не упустил возможности слегка поддеть начальника полковник.
— Мне и самому хотелось бы знать… — вздохнул Столетов, поддерживая шутку коллеги.
Бендерский и Яворский поселились в двухэтажном флигеле. Окна их комнат выходили не только во двор, но и на улицу. На следующее утро топограф и врач, как завороженные, любовались великолепной панорамой обширной кабульской долины, замыкаемой верст через десять невысокими горами. От дворца к горам тянулись утопавшие в зелени садов селения. Верстах в трех-четырех от города белели палатки афганских войск; оттуда доносились едва слышные ружейные и орудийные выстрелы: солдаты обучались стрельбе.
От самых стен Бала-Хиссара, дома и дворцы которого лепились на склонах холмов, шли три дороги — на восток, юг и юго-запад. У края болотистой низины виднелся загон для слонов; возле него более десятка этих добродушных великанов плескались в небольшом озере.
Затем друзья обошли отведенные для миссии помещения. Далеко не во всех комнатах стояла европейская мебель, зато ковров и паласов — персидских, кашгарских, таджикских, киргизских — было великое множество. Восхитила их искусная резьба по ганчу[5] и лепка на потолках. Чайные сервизы в стенных нишах, а также изящные курильницы довершали убранство помещений, столь характерное для Востока.
Вскоре членов посольства пригласили на обед. Неслышно открылась дверь, и приглашенные вошли в большую комнату, во всю длину которой стоял великолепно сервированный стол. Дары восточной земли — свежайшая зелень, горы фруктов и овощей, бесподобные изделия афганских кулинаров и кондитеров — наполняли помещение чудесными ароматами. В изрядном количестве были представлены и вина самых разных марок.
Везир предложил гостям занять места за столом. Роль виночерпия охотно взял на себя Малевинский, не без удовольствия заметивший и другие напитки — покрепче. Всему была воздана дань: и Бахусу, и искусству балахиссарских поваров, которые потрудились на славу, приготовив в числе прочих восточных яств зажаренного целиком барашка, и, разумеется, беседе, ибо самая изысканная пища может доставить наивысшее наслаждение лишь тогда, когда за столом слышишь умные речи…
Много хороших слов было сказано за этим столом. Общее впечатление выразил Столетов:
— Как хотите, господа, — произнес он прочувствованно, обращаясь к соотечественникам, — а это чисто царская встреча!
…К эмиру, пожелавшему принять посольство в полном составе, отправились на следующий день в парадной форме. Хотя до дворца было всего несколько сот шагов по узкому переулку, члены миссии ехали верхом, эскортируемые казаками. У деревянных двустворчатых ворот они спешились и вошли в сад. Широкая, плотно утрамбованная дорожка с кустами барбариса по краям вела к сравнительно небольшому двухэтажному дому. Перед ним виднелся бассейн с проточной водой; вокруг росли чинары, тополя, грушевые и гранатовые деревья. Вдоль фасада дома тянулась высокая терраса. На ней, у резной каменной балюстрады, сидел эмир Афганистана Мухаммад Шер Али-хан. Отдав честь, Столетов и его коллеги обошли бассейн и поднялись на террасу. Эмир встал, сделал несколько шагов навстречу гостям и протянул руку генералу. Остальные участники приема выстроились в ряд, отдавая честь. Шер Али-хан ответил им тем же, приложив руку к козырьку каски. Невысокий, коренастый, он казался олицетворением энергии и силы. Из-под густых поседевших бровей проницательно смотрели большие черные глаза. На грудь спускалась окладистая с легкой проседью борода. Позднее, обмениваясь впечатлениями об аудиенции, ее участники нашли, что афганский правитель выигрывает в сравнении с бухарским эмиром: и тому и другому было около шестидесяти, но Шер Али-хан выглядел на десяток лет моложе и бодрее.
Эмир Мухаммад Шер Али-хан.
Эмир был в расшитом золотом синем мундире с красной лентой через правое плечо; на поясе из золотого позумента висела шашка с золотой насечкой на рукояти. Красные лампасы на его брюках чем-то напоминали русскую военную форму. Металлическая каска со страусовыми перьями довершала парадное одеяние.
Казачий конвой был выстроен по команде «на караул» перед террасой. По просьбе эмира подпоручик Назиров приказал казакам продемонстрировать ружейные приемы, и те лихо показали свое искусство.
Правитель Афганистана проявил большой интерес к России. Обращенные к Столетову вопросы касались числа ее жителей и состава армии, размеров государственных доходов, протяженности и размещения железнодорожной сети, транспортных возможностей и административного устройства Туркестана.
Когда члены миссии вернулись в свою усадьбу, везир пригласил их подняться на плоскую крышу южного флигеля. Оттуда можно было любоваться иллюминацией, устроенной в честь приезда гостей. С треском взлетали ракеты, вспыхивали бенгальские огни, на соседних холмах пылали праздничные костры.
Через несколько дней после прибытия Столетов отправился к эмиру с традиционными подарками. Казаки вели в поводу трех лучших коней из табуна, следовавшего с миссией из Бухары. Сверкали на ярком солнце парчовые попоны, знаменитые туркестанские седла и уздечки, украшенные бирюзой и кораллами. Несли также усыпанную гранатами трость, пояс с золотыми застежками и серебряной вязью, парчовые, кашемировые, бархатные и суконные отороченные позументом халаты, а также большой кусок драгоценной бухарской парчи. Не меньшую ценность представляли чайный и десертный серебряные сервизы. В ответ на интерес, проявленный Шер Али-ханом к вооружению казаков. Столетов приказал собрать для эмира из имеющихся в распоряжении миссии запасов оружия небольшую коллекцию. Этот дар — пехотная берданка с примкнутым штыком, кавалерийская берданка, охотничье ружье и револьвер — вызвал особенное удовольствие правителя, ибо какого же афганца не интересует оружие!
Ответ не заставил себя ждать. На другой день в общий зал, где обедали и обсуждали свои дела урус элчи и его товарищи, вошел везир в сопровождении нескольких человек с подносами на головах, прикрытыми пестрыми кусками ткани.
— Джарнейль-саиб, — произнес он нараспев по-персидски, — эмир-саиб посылает вам и всем состоящим под вашим начальством людям, от малых до великих, от низких до высоких, всем казакам, джигитам, слугам свой салам, поклон! Он прислал также послам великого государства эти небольшие подарки и просит принять их.
Вельможа сделал знак, подносы были поставлены на пол, и с них сняли яркие платки: там лежали одиннадцать мешочков.
— Что это? — смущенно спросил Столетов.
— У нас если эмир-саиб кого-то любит и хочет его почтить, — ответил везир, — то дает ему в дар деньги, а если их у него нет, — какие-нибудь ценные вещи. Теперь же эмир-саиб ничем не может отдарить миссию, кроме этой ничтожной суммы денег — одиннадцать тысяч рупий афганской монетой…
Генерал-майор смутился еще более.
— Мы очень признательны эмир-саибу за внимание, но у нас, русских, не в обычае ни одаривать кого-либо деньгами, ни принимать их. Огорчен, однако вынужден отклонить подарок. И потом, везир-саиб, к нам так заботливо относятся в Афганистане, обеспечивают абсолютно всем необходимым, и нам, слово чести, ничего не нужно!
Везир тем не менее стоял на своем:
— Я даже не смею назвать подарком присланное эмир-саибом. Это ведь не что иное, как «кормовые деньги». Кажется, и в Европе (он произнес по-местному — «в Аврупе») принято давать их послам на некоторые расходы. Отчего же урус элчи отказывается взять их от моего повелителя? Отклонив эту безделицу, вы чрезвычайно огорчите эмир-саиба, и он несомненно сочтет себя обиженным.
Доводы подействовали, Столетов сердечно поблагодарил везира, попросив его выразить признательность Шер Али-хану, а денежный дар был положен в одну из стенных ниш.
Все последующие дни глава русского посольства наносил визиты Шер Али-хану. Обычно довольно продолжительные беседы велись с глазу на глаз, и лишь иногда приглашали к участию в них везира. Во избежание каких-либо случайностей спутникам Столетова категорически запрещалось выходить за стены Бала-Хиссара. Вынужденное затворничество тяготило. Казаки занимались военными и физическими упражнениями да выводкой лошадей неподалеку от слоновьего озера. Деятельный Малевинский и Яворский, стараясь хоть чем-то заполнить свободное время, детально обследовали всю обширную площадь цитадели и могли ориентироваться там с закрытыми глазами. Они забирались на валы крепости, обозревая открывавшуюся отсюда панораму Кабула, особенно оживленного в районе базара.
Было, однако, в Бала-Хиссаре место, разжигавшее до предела любопытство друзей. Неподалеку от резиденции эмира находилось одноэтажное строение; у входа в него постоянно стояли на страже двое часовых и прогуливался офицер. Внутри же помещения не замечалось никаких признаков жизни, хотя Малевинский божился, что однажды видел, как оттуда вышла какая-то мрачная фигура и в сопровождении охраны двинулась прямо во дворец Шер Али-хана, а через некоторое время (Малевинский решил во что бы то ни стало проследить за развитием событий) вернулась обратно.
Догадки сменяли одна другую. Кто бы это мог быть? «Пойманный английский шпион», — говорил один. «Изменившая жена», — высказывал шутливое предположение другой. А эрудит Бендерский воскликнул: «Да это „Железная маска“! Конечно, как мы не догадались раньше! Там содержится один из многочисленных братьев Шер Али-хана, участник борьбы за престол, теперь ожидающий суда и кары».
Тайна становилась такой интригующей, что требовалась немедленная разгадка. И вечером, когда в общий зал миссии, как обычно, прибыл предельно любезный везир, Бендерский не выдержал и через переводчика Назирова задал сановнику вопрос:
— Везир-саиб, если это не важная государственная тайна, скажите нам, кого охраняют в том домике, близ дворца?
Вельможа насупил жиденькие брови: вопрос не доставил ему большого удовольствия. Тем не менее он произнес:
— Якуб-хана.
— Якуб-хана… — недоуменно протянули почти одновременно Малевинский и Бендерский. И хотя везиру и всем присутствующим было ясно, что любое другое имя вызвало бы у них столь же неподдельное изумление, вельможа счел нужным повторить свой ответ, мало что добавив к нему:
— Да, Мухаммада Якуб-хана!
В беседу вмешался сам урус элчи, осведомленный в афганских делах значительно лучше своих подчиненных.
— Это кто же? Сын эмира, бывший гератский правитель?
К вопросу Столетова везир отнесся иначе: коль скоро гостям кое-что известно о малоприятных событиях недавнего прошлого, то почему бы не побеседовать о них и не дать им нужное толкование? И за вереницей сменявших друг друга чайников с чаем он поведал приезжим такую историю.
…Восемь лет назад Шер Али-хан назначил наследником престола сына от любимой жены — Абдулладжана. Это вызвало недовольство сына от другой жены — Мухаммада Якуб-хана, который управлял тогда крупнейшей провинцией и важным городом Гератом. Недоволен сейчас — смирится потом. Воля эмира священна! Но беда была в том, что вести об этом очень скоро дошли до Калькутты и даже до Лондона и, хотя инглизи заверяли в своих симпатиях и невмешательстве в наши дела, в Герат зачастили их люди. Немного денег, немного оружия, изредка беседы с Якуб-ханом. Потом — больше денег, больше оружия, больше бесед! И весной 1872 года он поднял мятеж против отца. Думал, поддержат его кандагарцы, а те, напротив, разбили отряды гератского правителя, доказав тем самым верность Шер Али-хану.
Собирался Шер Али-хан сместить Якуба, но за того вступился вице-король Индии — лорд Майо; вина не так уж велика, и отцовский долг — не обходиться круто, и никаких дел у англичан к нему нет, и все в том же духе. Да и сам Якуб-хан повинился перед отцом. Оставил его эмир в Герате. Затем узнали: зря так сделали. Из Индии, из Персии хлынули к нему люди инглизи. Особенно долго сидел кефтан Мэрч…
— Капитан Мэрч? — прервал говорившего полковник Разгонов. — Известен нам по материалам Штаба Туркестанского военного округа. Долго болтался в Туркмении.
— Да, кефтан Мэрч, — продолжал везир. — Приходили вести, что Якуб-хан готовится к новому походу на Кабул. Эмир-саибу это надоело. Года четыре назад вытребовал он сына в столицу да и посадил под арест. Собирался отрубить голову. И опять соседи вмешались: не виновен сардар, просили освободить его во имя дружбы с правительством инглизи. Ну, голову не отрубили, но и не освободили: держим под стражей…
— Как же его пускают во дворец? — не удержался Малевинский.
Везир усмехнулся:
— За эти годы сардар слегка повредился в уме. Ему всюду мерещатся заговоры, покушения. Боится, что его отравят. Проникся к нему жалостью эмир-саиб: как-никак старший сын. Да и сердце у эмира отходчивое, доброе. Позволил он Якуб-хану обедать за своим столом, а ужин и завтрак для сардара носят с этого стола…
Какое-то оживление в монотонную жизнь посольства внесло появление британских газет. Как выяснилось, газеты доставлялись из Индии. И этим члены миссии были обязаны все той же общительности Малевинского, встретившего среди приближенных эмира небольшого человечка, похожего скорее на уроженца Индии, чем на афганца. Малевинский заговорил с ним по-английски и был поражен тем, насколько тот чисто и свободно изъяснялся на этом языке. Человечек оказался казием, судьей, жившим ранее в Пешаваре. Абдул Кадыр — так его звали — неизвестно почему опасался посягательств англичан на свою свободу и переехал в Кабул. В его обязанности входило составление докладов правителю о сообщениях британской прессы и ведение его переписки с инглизи.
Кипа газет доставила урус элчи и его коллегам большое удовольствие. Из них можно было узнать, в частности, насколько внимательно следили в Лондоне и Калькутте за их продвижением: с большой точностью сообщалось о прибытии посольства к берегам Амударьи, а впоследствии — в Мазари-Шариф. Берлинский конгресс прославлялся как величайшее достижение правительства ее величества в его стремлении к миру. И как бы мельком отмечалось, что Британская империя получила щедрую плату за труды — остров Кипр…
Вскоре еще одному члену миссии предоставилась возможность проявить себя. В действие — увы, печальное — вступил Яворский.
День клонился к вечеру, когда врача вызвал к себе генерал Столетов и сообщил, что внезапно заболел шахзаде, наследный принц Абдулладжан и эмир просит оказать ему медицинскую помощь. Захватив с собой походную аптечку, Яворский в сопровождении фельдшера и переводчиков немедленно отправился к больному. Дорогу показывал везир.
Абдулладжан жил почти в центре города. Выйдя через сад эмира из нижней части цитадели, доктор и его спутники миновали большую, но довольно пустынную площадь, а затем шли некоторое время по многолюдной улице, первые этажи домов на которой почти сплошь были заняты всевозможными лавками. Поскольку Столетов запретил членам миссии покидать крепость, опасаясь проявлений недоброжелательства со стороны местного населения, Яворский, пользуясь случаем, решил понаблюдать за реакцией жителей на «шествие урусов». Ничего враждебного он не заметил.
У высокого дувала все остановились. Везир постучал в калитку и, когда с внутренней стороны подошел человек, что-то ему прошептал. Калитка открылась. Везир с врачом и его спутниками вошли во внутренний двор. Миновав несколько зданий, возле которых стояли паланкины-носилки и толпились слуги, они остановились перед павильоном с застекленными по-европейски окнами. Весь он состоял из единственной комнаты, совершенно лишенной мебели, за исключением стоявшей в глубине кровати, вокруг которой собрались люди.
На кровати лежал худой юноша лет шестнадцати с закрытыми глазами. Он хрипло и тяжело дышал, изредка издавая слабые стоны. Его слегка поддерживал за плечи тучный человек, котлообразная голова которого с большими отвислыми ушами казалась приставленной почти вплотную к туловищу. На широком плоском лице выделялись хитрые глаза и крючковатый нос. То был ахун, придворный врач эмира.
— Что с принцем? — обратился к собравшимся Яворский.
После паузы, вызванной тем, что никто не решался ответить на вопрос, стоявший возле ахуна сгорбленный старик в пышной чалме и богато расшитой куртке рассказал, что два дня назад, когда шахзаде находился в Кухистане, в горах за столицей, у него начались сильные боли в груди и он не мог ходить; его привезли домой и дали лекарство «от сердца».
Пока старик излагал все это, остальные внимательно разглядывали урус табиба — русского врача и пришедших с ним, вполголоса обмениваясь репликами в основном о том, как уловил Назиров, что доктор слишком молод, а потому вряд ли заслуживает доверия… Яворский осмотрел и прослушал Абдулладжана. Он констатировал лишь незначительное ослабление сердечной деятельности, но вместе с тем твердо установил подлинную болезнь — воспаление брюшины, вызванное отравлением. Врач подготовил препараты опия и синильной кислоты для приема внутрь и ледяной компресс снаружи.
Через два часа юноше стало несколько легче, и процессия двинулась обратно.
Столетов, нервничая, мерил шагами небольшую гостиную.
— Как там дела? — бросился он навстречу Яворскому.
Тот сообщил, что положение принца крайне опасно, и выразил сожаление, что не остался на ночь подле него.
— Ни в коем случае! — воскликнул генерал. — Лучше три, четыре, пять раз отправляйтесь к больному, только не оставайтесь на ночное дежурство.
Еще дважды пришлось врачу навестить неожиданного пациента. Вечером он обнаружил, что тому зачем-то дали абрикосового варенья, вызвавшего рвоту. А в полночь Яворский едва успел добраться до павильона, как наследный принц Афганистана Абдулладжан завершил свое не очень продолжительное существование на бренной земле…
Днем, вернувшись после очередного посещения Шер Алихана, руководитель миссии уединился с Разгоновым. Столетов долго не мог прийти в себя, все ходил и ходил по комнате.
— Железный человек! Что это — мусульманский фанатизм и покорность судьбе или нечеловеческая сила воли? Я выразил ему наше соболезнование, а он в ответ: «Ну что ж… Аллах дал — Аллах взял». Нет, просто эмир держит себя в руках, о спокойствии не может быть и речи: несколько раз во время беседы он повторял невпопад «бог дал, бог и взял». Так вдруг лишиться любимого сына, на которого возлагалось столько надежд…
Генерал замолчал, переносясь мысленно во дворец афганского властителя. Потом тряхнул головой, словно стараясь отрешиться от печальных мыслей.
— М-да. Делать нечего. И для Шер Али-хана и для нас жизнь продолжается. У меня уйма важнейших новостей, дорогой Николай Иосифович, и государственных и личных, вашей особы касающихся.
Разгонов с удивлением посмотрел на своего начальника.
— Да, да и весьма приятных! В последней почте Константин Петрович извещает, что его величество произвел вас в генералы. Поздравляю сердечно, ваше превосходительство!
Бывший полковник встал. Друзья обнялись и трижды расцеловались.
— Теперь о деле, ради которого мы сюда прибыли.
Оба генерала сели за стол и склонились над листами бумаги, исписанными каллиграфическим почерком и скрепленными сургучной печатью с арабской надписью: «Николай Григорьевич Столетов». В конце документа значилось: «Августа, 9-го дня, 1878 года. Город Кабул».
— Мы неплохо поработали эти две недели с Шер Али-ханом и его везиром, свидетельством чему является подготовленный проект дружественной конвенции между нашими государствами, — пояснил глава посольства. — Одиннадцать статей. Скажу вам, тезка, у эмира обостренное и, надо думать, весьма объяснимое чувство достоинства, как собственного, так и национального. Стоило нам определить первую статью договора, и остальные пошли как бы сами собой: без сучка и задоринки.
— Нуте-с! — И Разгонов прочел вслух эту статью: «Российское императорское правительство считает государство Шер Али-хана, эмира Афганистана, государством независимым и желает, как с другими независимыми государствами, иметь с ним дружественные отношения, по старой дружбе».
— Вот так! — улыбнулся Столетов. — Вторым пунктом, как ваше превосходительство можете убедиться, мы обязываемся не вмешиваться во внутренние дела страны. Третьим — признаем назначенного эмиром наследника престола…
Вспомнив о только что пережитой афганским владетелем трагедии, он замолчал и нахмурился.
— Там раньше стояло имя этого несчастного Абдулладжана… Теперь оставлено место — кого изберет его бедный отец. Пойдем далее. Статьями с четвертой по шестую предусматривается помощь Шер Али-хану в случае каких-нибудь несогласий между Афганистаном и его соседями. Если эмир попросит, разумеется… Седьмая и восьмая гарантируют теплый прием в России лиц, отправленных Шер Али-ханом для изучения различных специальностей, а девятая обещает содействие, если ему потребуются наши специалисты…
— Не знаю, как там, в Петербурге, но мне кажется, Константину Петровичу особенно понравится статья десятая, — заметил Разгонов, изучавший в это время текст проекта, и прочитал: «Ввиду дружественных отношений между Россиею и Афганистаном Российское императорское правительство в лице туркестанского генерал-губернатора и правительство Афганского государства употребляют, с согласия обеих сторон, зависящие меры к поощрению, облегчению и обезопасению взаимных торговых сношений».
— Вы правы, Николай Иосифович, Кауфман будет доволен. Кстати, должен вам заметить, что он особенно просил не увлекаться моими «профессиональными вопросами». Обстановка острая, говорил Константин Петрович, и военные аспекты ни в коем случае нельзя упускать из поля зрения, но ситуация может разрядиться, и соглашения в политической и военной областях повиснут в воздухе, если не будут покоиться на серьезной экономической основе…
— А в последней статье, насколько я могу судить, Николай Григорьевич, вы отдали дань Востоку и его традициям.
— Что вы имеете в виду?
— Да вот это выражение: «Друг государства Шер Алихана, эмира Афганистана, должен считаться другом императорского Российского правительства, и враг государства Шер Алихана, эмира Афганистана, должен считаться врагом Российского правительства, равно и наоборот».
— Ну как же. Такая клаузула, выражаясь юридическим языком, наличествует почти во всех договорах азиатских потентатов. Почему бы и нам не последовать их примеру? Итак, что скажете, ваше превосходительство, по поводу нашего труда?
— А то, ваше превосходительство, — в тон Столетову ответил Разгонов, — что он производит весьма благоприятное впечатление: полон достоинства и свидетельствует о взаимном уважении высоких договаривающихся сторон. Полагаю ни у Горчакова, ни у чиновников его министерства не возникнет возражений против сего документа.
— Вашими бы устами да мед пить. Стало быть, завтра же, дабы не терять драгоценного времени, я мчусь в Ташкент. Состояние отвратительное: доселе не избавился от проклятой лихорадки, подхваченной в болотах за Бамианом. Поэтому на всякий случай беру с собой Яворского. Доберусь до Ташкента, вручу наше творение Константину Петровичу, а там, если на то будет воля божья, вернусь в Кабул. Принимайте командование!
— Завидую вам, Николай Григорьевич! Скоро будете среди своих. Сказать откровенно, и я бы не прочь вернуться домой. Да что поделать… Пойду, не стану мешать вашим сборам.
Они распрощались, и Разгонов направился к двери. Не успел генерал переступить через порог, как Столетов окликнул его:
— Да, Николай Иосифович, погодите! Смерть этого несчастного юноши настолько выбила меня из колеи, что, держа постоянно в уме договор, я вовсе забыл сообщить вам прелюбопытнейшее известие…
Разгонов обернулся.
— Сегодня Шер Али-хан получил требование англо-индийских властей немедленно принять их посольство. Они ссылаются на обычаи гостеприимства и добрососедские отношения.
— Та-ак, понятно. Что же ответил эмир?
— Ну, в общем это требование свалилось на него, как горный обвал. В составе посольства, судя по письму, не меньше тысячи человек, много вооруженных. «Целое войско», — сказал Шер Али-хан.
— Каков же все-таки его ответ?
— Ответ? Да ведь для отказа не нужно было выдумывать повод — траур…
11 (23) августа 1878 года, поутру, Столетов, как и намеревался, выехал в Туркестан. С ним отправились одиннадцать казаков и Яворский, а также афганский почетный эскорт во главе с кам-наибом. Обстоятельства сложились так, что после встречи с К. П. Кауфманом в Ташкенте генерал-майору пришлось выехать в Крым, в Ливадию, где находился в то время Александр II со своей свитой и министрами.
В Кабул Николай Григорьевич Столетов больше не вернулся…
Глава 5 ПОСОЛЬСТВО ЧЕМБЕРЛЕНА
7 сентября 1878 года на специальном заседании совета при вице-короле сэр Нэвилл Чемберлен, огромный краснолицый генерал, получил необходимые инструкции в качестве главы британского посольства к афганскому эмиру Шер Али-хану. 12 сентября весь состав миссии собрался в Пешаваре.
Отправление в Кабул такого важного лица было далеко не простым делом. Об этом свидетельствовала хотя бы общая численность экспедиции. Она превышала тысячу человек. Одиннадцать английских и четыре туземных офицера, около двухсот пятидесяти солдат и множество «сопровождающих» — все это придавало миссии не столько дипломатический, сколько военный характер. В ее обозе насчитывалось 40 лошадей, 315 верблюдов, около 250 мулов и ослов. Число же конюхов, погонщиков и прочих слуг не поддавалось точному учету. Требовалось огромное количество продовольствия, фуража, обмундирования. Путь предстоял хотя и не длинный, но сложный.
Английские топографы подсчитали, что Пешаварское военное поселение отделяет от Кабула 208, а от афганской границы — 35 миль. Расстояние от Пешавара до пределов Афганистана делилось на два равных этапа, и селение Джамруд, за которым начинался извилистый и узкий Хайберский проход, выводивший к афганскому укреплению Али-Масджид, находилось как раз посередине. Местное население составляли воинственные племена афридиев, и майор Каваньяри потратил несколько дней, чтобы договориться с их вождями о свободном пропуске и сопровождении посольства до этого укрепления. Как предполагалось, там его встретят представители эмира и вплоть до столицы будут играть роль почетного конвоя.
20 сентября, в пятницу, генерал Чемберлен отдал приказ о выступлении. Слуги собрали палатки, обозные навьючили животных. Растянувшийся более чем на милю караван двинулся в дорогу задолго до рассвета. Караван был еще неполным: личный багаж сэра Нэвилла и членов его штаба собирали с особой тщательностью, и перевозившая этот груз часть колонны отстала.
Первые мили путь шел по плодородной долине. Ущербная луна бросала тусклый свет на раскидистые ивы и акации, заросли древовидного тамариска, финиковые пальмы. Воздух был напоен свежестью и прохладой. В сентябре пешаварские болота подсыхают и комары не так досаждают путникам. Зато цикады словно старались компенсировать комариную пассивность: они трещали, щелкали на все лады, почти заглушая мерный топот лошадей и мулов, шлепанье верблюдов, перекличку полусонных офицеров и солдат, погонщиков животных.
Старый воин, генерал Чемберлен распорядился, чтобы все было как положено: впереди двигался дозор, за ним боевое охранение, затем конный эскадрон, а уж потом он со штабом, обоз с продовольствием и снаряжением, перемежаемый отрядами солдат. Замыкал шествие еще один эскадрон. Каваньяри находился рядом с сэром Нэвиллом. Впрочем, не совсем рядом: как того требовала субординация, он держался на полкорпуса лошади сзади. Генерал сидел в седле как влитой, не человек — изваяние. Вначале он молчал, и, когда конь майора на одном из поворотов случайно споткнулся и вырвался вперед, Каваньяри покосился на Чемберлена: заметил? Нет, глаза сэра Нэвилла были закрыты, и майор решил, что тот спит на ходу. Однако почти в ту же секунду он услышал хриплый голос:
— Крепче уздечку, майор, эти горные дороги коварны.
— Слушаюсь, сэр, — откликнулся пешаварский комиссар.
— За сорок лет, что я в этих проклятых богом краях, кажется, не найдется тропки, не пройденной мною и моими солдатами. Если бы собрать урожай со всех посевов, какие я сжег у бунтовщиков за эти годы, наверное, можно было бы прокормить несколько индийских провинций. А сколько уничтожено домов и селений мятежников — и не перечесть!
— У вашего превосходительства богатая биография, — льстиво заметил Каваньяри.
— Да, мне есть что вспомнить, — важно ответствовал генерал. — Думаю, многие меня не забудут в этих местах. И живые и мертвые…
Он снова замолчал. Потом, обернувшись к спутнику, бросил:
— Я тут что-то не все понимаю, майор!
— Что именно, сэр?
— На кой дьявол нужен этот камуфляж — миссия, игра в дипломатию… Предоставьте в мое распоряжение полк королевских шотландских пограничников да несколько полков пенджабских стрелков, усиленных четырьмя-пятью горными батареями, и я вам через две недели доставлю на аркане Шер Алихана со всем его гаремом или любого другого из афганского племени, с кем бы вам заблагорассудилось побеседовать о британской военной мощи.
«Да, — подумал Каваньяри, — не зря Литтон намекал на некоторую негибкость сэра Нэвилла. Нельзя сказать, чтобы это была наиболее удачная фигура для ведения переговоров в Кабуле!» Вслух же он произнес нечто совсем иное:
— Естественно, сэр! Ваше знание обстановки и ваш опыт обращения с этими людьми, живущими вне каких-либо законов, позволили бы значительно быстрее решить все проблемы.
Генерал Чемберлен удовлетворенно хмыкнул. На этом беседа прервалась.
Вскоре вдали возникли очертания какой-то постройки. Это был замок Хари Сингха, как его называли жители. За сорок один год до описываемых событий, в апреле 1837 года, поблизости от этих мест произошла ожесточенная схватка. Афганские воины, руководимые сыном эмира Дост Мухаммад-хана Акбар-ханом, сразились с армией махараджи Пенджаба Ранджит Сингха, предводительствуемой известным сикхским полководцем Хари Сингхом. На этот раз военное счастье изменило генералу сикхов, и он сложил голову у пункта, впоследствии получившего его имя.
Как было заведено, в замке размещался англо-индийский пикет, предупреждавший путешественников, если они неведомыми путями забредали в эти края, что дальнейшее следование на запад небезопасно для их имущества и жизни. То была одна из форм наблюдения Британской империи за внешними связями Афганского государства. Теперь пикет выстроился у стен помещения, приветствуя проходящее мимо посольство.
Почти сразу за этой постройкой ландшафт резко изменился. Вплоть до подножия Хайберских холмов, на протяжении семи или восьми миль, тянулась безжизненная желтовато-серая пустыня. Предрассветная мгла уже полностью рассеялась, и на полпути от замка Хари Сингха до входа в ущелье, за территорией, контролируемой англичанами, в лучах поднимавшегося солнца показалось живописное полуразрушенное сооружение с едва державшимися и скрипевшими на ветру воротами.
То был форт Джамруд, никем тогда не занятый. К востоку от него, на холме, откуда открывался вид на селения, расположенные на окрестной равнине, генерал Чемберлен велел разбить лагерь.
Форт Али-Масджид.
Впереди можно было различить высокую обрывистую скалу. Там находилось афганское укрепление Али-Масджид. Слабое само по себе, обычно с небольшим, состоящим из ополченцев гарнизоном, оно тем не менее было столь выгодно расположено, что несколько засевших в нем отважных и метких стрелков с достаточным запасом патронов могли воспрепятствовать проходу через ущелье и более крупного отряда, чем возглавляемый сэром Нэвиллом. К тому же еще перед выступлением из Пешавара до Чемберлена дошли настораживающие сведения о прибытии в Али-Масджид приближенного эмира, мирахура, как его официально именовали, известного своими антибританскими взглядами.
В сложившейся обстановке почтенный генерал счел возможным согласиться с мнением своего помощника по политическим делам майора Каваньяри: вступление всего конвоя на тесную и петляющую горную тропу, где даже случайное падение верблюда может вызвать невообразимую сумятицу, было бы неразумным. В первую же очередь следовало выяснить намерения Файз Мухаммада, коменданта Али-Масджида.
— Вам и карты в руки, майор! — бросил Чемберлен Каваньяри. — Разведайте все пообстоятельнее.
Затем, подумав, добавил:
— Главное — продвигайтесь как можно дальше. Либо вы встретите вооруженное сопротивление, либо эти дикари дадут твердые заверения, что пропустят нас беспрепятственно в Кабул…
Послав к Файз Мухаммаду гонца с извещением о своем предстоящем приезде, Каваньяри распорядился, чтобы его сопровождали двадцать четыре совара (всадника) из корпуса гидов и следовавшие с англичанами старшины афридиев. С ним вызвались ехать также командир гидов полковник Дженкинс и капитан Уигрэм Бэтти.
Вплоть до афганского форта дорога оказалась вполне приличной: во время прошлой войны с Кабулом ее старательно улучшал один из предшественников Каваньяри в Пешаваре, Макесон, делая пригодной для тяжелой артиллерии. Впереди маленькой группы, выступившей в девять часов утра из Джамруда, скакали совары. На гнедых лошадях, одетые в тускло-коричневые мундиры с красными нашивками, они почти сливались с окружающей темно-бурой местностью. Офицеры и старшины афридиев не отставали от них.
У самого входа в ущелье их встретил отправленный ранее гонец: комендант просил англичан не двигаться вперед. Игнорируя эту просьбу, майор со спутниками продолжал следовать далее, хотя и в замедленном темпе. Они остановились лишь в миле от укрепления, у подножия возвышенности, на которой находился Али-Масджид. Отсюда Каваньяри отправил Файз Мухаммаду новое послание с сообщением о своем прибытии. Пока посланец карабкался вверх, перебираясь с одного холма на другой, комиссар вместе с Дженкинсом и Бэтти пытался разглядеть, что творится в форту. Его стены были усеяны людьми, в основном одинаково одетыми и держащими в руках оружие. Со стороны Али-Масджида доносились четкие звуки воинских команд.
Британские офицеры были достаточно опытны, чтобы понять, что форт занят регулярными войсками и что их немало. Идти напролом было бессмысленно. Тем не менее Каваньяри, теряющий терпение от долгого ожидания, присел на камень, обдумывая текст ультиматума коменданту.
К счастью, к этой мере прибегать не пришлось. Вернувшийся совар принес весть, что Файз Мухаммад предлагает четверым англичанам отправиться к поросшему олеандрами берегу ручья, протекающего между двумя отрогами холмов, обещая спуститься туда. Каваньяри с Дженкинсом и двумя его подчиненными, а также с вождями афридиев двинулся верхом к месту встречи.
Вскоре перед ним появился в сопровождении нескольких всадников чернобородый статный афганец лет сорока пяти. Удивительной белизны чалма, из-под которой выбивалась седеющая прядь волос, ярко оттеняла его смуглое мужественное лицо. Этот человек невольно приковывал к себе взгляд. Величественность осанки, внутренняя собранность — такое дается не каждому. А его взгляд! Майор невольно сжался: темные глаза афганца смотрели на него словно с горных вершин и выражали… Нет? Даже не ненависть, а бесконечное презрение… Англичанин почти прочел в его взоре: «Наглые люди, зачем вы здесь? Разве вы не понимаете, что обречены?»
Когда все спешились, Каваньяри и чернобородый (это и был комендант) обменялись рукопожатием. Майор еще раз отметил про себя великолепное телосложение Файз Мухаммада, острый взор черных, как южная ночь, глаз, типичный орлиный нос, плотно сжатые губы и то особое чувство достоинства, с каким держался его противник. А в том, что перед ним противник, Каваньяри не усомнился ни на миг.
Чтобы овладеть инициативой, он сказал, что для беседы выбрано не совсем подходящее место, и предложил перейти к стоявшей неподалеку, на песчаном берегу ручья, водяной мельнице, близ которой можно было расположиться. С ним согласились, и вскоре майор и комендант сидели на песке чинно и важно, как степенные дипломаты за столом переговоров в каком-нибудь дворце. Порывы ветерка приятно обвевали лица. Рядом журчал ручей. Вокруг были разбросаны высокие кусты с такими сочными и мясистыми листьями, что Каваньяри захотелось их попробовать. Он сорвал один из них и уже поднес было ко рту, как Файз Мухаммад, гибко изогнувшись, неожиданно рванулся к нему, выхватил лист и бросил под ноги.
— В чем дело? — изумился англичанин.
— Простите, миджар, — промолвил комендант, демонстрируя знание британских воинских званий, хотя и переиначенных на афганский лад, — я объясню позднее свою дерзость, а сейчас давайте обсудим все, ради чего мы собрались.
— Хорошо, — сдвинул брови англичанин. — Давайте обсудим по-дружески… Не будем терять время на разъяснение того, что нам всем хорошо понятно. Мы оба — лишь слуги высоких правительств и обязаны исполнять их волю. Вы оповещены, что владычица великой и могучей Британской империи направила к эмиру своего генерала Чемберлена. Генерал хочет знать, может ли посольство беспрепятственно пройти через Хайбер?
Разговор велся на языке дари, который обычно был в ходу между англичанами и афганской знатью. Майор говорил медленно, тщательно подбирая точные выражения. Он подчеркнул, что если Файз Мухаммад располагает достаточно широкими полномочиями, то ему, Файз Мухаммаду, не нужно разъяснять, какие тяжелые последствия вызовет его отказ по личной инициативе пропустить миссию. Решение коменданта будет воспринято как решение самого афганского государя…
Собеседник Каваньяри утвердительно кивнул, давая понять, что вполне осознает всю важность сказанного.
— Я достаточно дружески расположен к миджару Камнари, — Файз Мухаммад назвал фамилию майора так, как она звучала среди пограничных племен. — Вместо того чтобы открыть огонь по вашему отряду, когда он пересек черту, за которую мы просили не переходить, я пришел для переговоров. Разве это не свидетельство нашего миролюбия? Джарнейлю Шемберлену будет позволено вступить на священную афганскую землю, если я получу распоряжение из столицы. Пусть джарнейль подождет, пока я снесусь с Кабулом…
— Это не только невозможно, поскольку несовместимо с нашим престижем, — возразил Каваньяри, — но и не нужно, ибо кабульские власти извещены о приближении посольства.
Некоторое время разговор шел будто по замкнутому кругу. Майор подчеркивал тяжесть ответственности, лежащей на коменданте, а тот ссылался на отсутствие указаний. Чувствовалось, что у собеседников иссякает запас выдержки и терпения. Первым нарушил тон переговоров Файз Мухаммад. В ответ на очередное заверение Каваньяри в дружественных чувствах англичан к афганцам он вскричал:
— Миджар Камнари, нам известно о вас гораздо больше, чем вы предполагаете. Дружба ли это — возбуждать распри и раздоры во владениях его величества эмира?! Дружба ли это — подкупать его подданных, подрывать основы государства, стараться любой ценой проникнуть туда, куда вас не приглашают?!.
Среди спутников коменданта, сидевших несколько поодаль, возник глухой ропот. Они готовы были схватиться за кинжалы. Это отрезвляюще подействовало на Файз Мухаммада: тот взял себя в руки и замолчал. Стремясь сгладить неприятный инцидент, представитель генерала Чемберлена примирительно заметил, что вице-король рассмотрит любые претензии правителя Афганистана и примет меры к их удовлетворению.
— Итак, если я правильно вас понял, миссия будет встречена стрельбой, если завтра попытается двинуться вперед?
— У меня нет иного выбора, — спокойно произнес комендант. — Если вы двинетесь без разрешения, я открою огонь.
Каваньяри со всей учтивостью, на какую был способен при данных обстоятельствах, поблагодарил хозяина Али-Масджида за откровенность и готовность встретиться для новой беседы, пожал ему руку и выразил надежду, что, если им доведется встретиться еще раз, оба они будут в более миролюбивом настроении. В сложившейся ситуации это пожелание прозвучало многозначительно, но афганец принял его с добродушной, хотя и лукавой усмешкой. Затем оба сели на поданных им коней и направились в разные стороны.
Не успел, однако, майор отъехать на несколько десятков шагов, как услыхал оклик:
— Миджар Камнари!
Обернувшись, он увидел, что Файз Мухаммад машет ему рукой, словно приглашая к новому разговору. Каваньяри машинально повернул коня обратно. Целый ворох мыслей пронесся в его мозгу. Одна из них была: «Упрямец передумал. Он согласен пропустить нас к Шер Али». Ее немедленно сменила другая: «Хорошо ли это? Что выгоднее для Литтона, Колли, меня, Англии, наконец? Миссия в Кабуле или разрыв отношений?» Решить этот вопрос он не успел: афганец уже был рядом.
На этот раз первым заговорил комендант:
— Ведь я перед вами виноват: так и не объяснил причины своей выходки. Или неловкости. Как назвать мой поступок, вы определите сами.
Майор вопросительно посмотрел на собеседника. Тот продолжал:
— Когда мы встретились, вы собрались попробовать на вкус лист растения, которое в Афганистане называют «ослиный яд». От него умирают не только животные, но и люди. Я решил предостеречь вас от печальных последствий и отнял листок. Теперь, надеюсь, вы меня простите?
— Выходит, я вам обязан жизнью, — с легкой иронией произнес Каваньяри. — Благодарю! Никогда этого не забуду. За что же вас прощать? Возможно, жест ваш был слишком резким…
— Быть может. Но нельзя было терять время. Кто же знал, что вы намерены жевать «ослиный яд»! Наши ослы достаточно умны. Они не набрасываются на все, что растет на афганской земле, — с изрядной долей сарказма заметил Файз Мухаммад. — Прощайте!
Он резко хлестнул плетью коня и исчез за поворотом скалы до того, как англичанин понял смысл сказанного. С перекошенным от ярости лицом и дрожащими руками майор еще несколько мгновений оставался на месте; затем, овладев собой, присоединился к ожидавшим его спутникам.
Встреча эта происходила 21 сентября. На исходе дня группа Каваньяри вернулась в Джамруд. Ночью, при свете факелов, генерал Чемберлен продиктовал срочное сообщение лорду Литтону. Оно завершалось четкими и недвусмысленными рекомендациями, к выработке которых приложил руку майор Каваньяри: «Первый акт сыгран, и я думаю, что любой беспристрастный наблюдатель не сможет указать иного совместимого с нашим достоинством курса, кроме открытого разрыва с эмиром».
Справедливости ради следует сказать, что Каваньяри не пришлось потратить много усилий, чтобы убедить сэра Нэвилла включить эту фразу в его донесение. Старый ветеран готов был немедленно броситься на штурм Али-Масджида, а потом самого Кабула, и немалых трудов стоило отговорить его от столь опрометчивого поступка.
Поступившая от посольства Чемберлена весть прозвучала для вице-короля трубным гласом. Единственное, чего он по-настоящему опасался, — примирительной позиции Шер Али и его извинений; это могло сорвать план, суливший дальнейший рост могущества Британской империи: новые земли, новых подданных, новые экономические и политические возможности. Слава богу, обошлось! И уже яркие картины победоносных сражений, сменяющие одна другую, и призывный боевой клич: «Вперед! Вперед! На Кабул и — до Гиндукуша!» — полностью завладели воображением лорда Литтона.
Назначая сына своего старого друга на один из важнейших постов в Британской империи, Дизраэли, обычно язвительный и саркастический, сказал, улыбаясь, что молодой барон Литтон, восседающий на троне Великих Моголов, — это по меньшей мере оригинально. Эдуард дал понять премьеру, что ценит его благожелательный юмор, но про себя подумал: «А почему бы и нет?» И вот теперь еще месяц, другой — и власть нового «Великого Могола» распространится далеко за пределы Индии. Слава Британской империи — это и его слава. В ее короне засияет еще одна звезда — афганская. И ее блеском Англия будет обязана ему, лорду Эдуарду Литтону.
…Гиндукуш Гиндукушем. Это так! Однако «Великий Могол» хорошо понимал, что поглощению Афганистана или хотя бы установлению над ним британского контроля следует придать надлежащую форму. Незачем вызывать протесты других держав. Тем более не стоит умышленно провоцировать парламентскую оппозицию в Лондоне, всех этих либералов во главе с Гладстоном, ждущих любого промаха консерваторов, чтобы свалить правительство. Как будто их политика будет существенно отличаться от той, какую проводят Биконсфилд и его коллеги!..
Во всяком случае, ситуация не такова, чтобы давать повод для нежелательных осложнений. И вице-король уединился со своим доверенным советником полковником Колли: следовало осмыслить обстановку и продумать дальнейшие шаги.
— Чем вы сегодня успели заняться, Джордж? — осведомился Литтон у своего секретаря, зная, что тот ежедневно два часа перед завтраком посвящает изучению какого-нибудь предмета.
— Вы удивитесь, милорд, но я последнее время чрезвычайно увлекаюсь политэкономией. Вчитываясь в труды некоторых авторов, я начинаю лучше понимать, что творится у нас дома со всеми этими кризисами и зачем нам нужна — я бы даже сказал, необходима — Индия и другие заморские владения…
— Весьма любопытно. Можно, однако, позавидовать вашему терпению: мне как-то попался в руки труд одного из наших профессоров по этому вопросу. Страниц пять-шесть я честно одолел, а что было дальше, не помню: уснул сладчайшим сном. Если вы находите в этой скукотище пользу иную, кроме употребления ее в качестве снотворного, Джордж, надеюсь, вы не откажете в любезности поделиться со мной наиболее ценным с практической точки зрения… А сейчас давайте подумаем, какие возможности предоставляет нам наш кабульский приятель занятой им бесцеремонной позицией. Где теперь бравый генерал Чемберлен?
— Сэр Нэвилл в Пешаваре, милорд. Он плохо переносит причиненную ему обиду. Совсем опечален. Его несколько раз заставали в слезах. Да-да, милорд, не улыбайтесь… На следующий день после возвращения из Джамруда генерал собрал у себя множество знатных туземцев, среди которых были его старые друзья, и спросил, что они думают по поводу происшедшего.
— И что ему ответили?
— Они заявили, что видят в отказе принять посольство преднамеренное оскорбление, нанесенное британскому правительству. Но не большее, чем молчание эмира в ответ на наше письмо с выражением соболезнования в связи со смертью его сына, ибо у туземцев такое молчание — одно из самых грубых оскорблений.
— Полезный ответ…
— Вполне, милорд. Я полагаю, что к подготовке этой беседы приложил руку наш доблестный Наполеон, как вы его называете.
— Майор Каваньяри? Почему вы так думаете?
— А вот почему, милорд. Когда Чемберлен спросил: «Что говорят здешние жители и что, по их мнению, мы теперь будем делать?», в ответ он услыхал: «Сказать правду, сахиб, люди говорят, да и мы думаем, что вы ничего не будете делать!»
Вице-король даже всплеснул руками от удовольствия:
— Превосходно! Чудесно! Надо позаботиться, чтобы эта милая беседа как можно быстрее попала в газеты. Она дает столько возможностей… Это и мобилизует общественное мнение против Шер Али, и ударит по самолюбию наших политиков и военных, и усыпит бдительность афганцев. Нет, кое-что мы, конечно, будем делать и даже достаточно скоро. Надо лишь хорошенько продумать где и когда.
«Великий Могол» на несколько мгновений задумался.
— Возмущение сэра Нэвилла вполне оправдано: он действительно был поставлен в унизительное положение, — продолжал он. — Я старался как мог успокоить заслуженного ветерана, написав ему, что преднамеренное оскорбление не останется безнаказанным. Я особо подчеркнул, что полученный результат значительно более удовлетворителен, чем кто-либо мог ожидать от переговоров с Кабулом, если бы они состоялись…
Чувствовалось, что вице-король излагает давно продуманные вещи.
— …Но для общественного блага иногда приходится жертвовать личным достоинством. Об этом я сообщу Крэнбруку; впрочем, полагаю, он и сам это хорошо сознает. Нанесенную генералу обиду невозможно — да и не нужно! — утаивать от нашей прессы в метрополии и в Индии. Такой открыто враждебный акт — наш козырь, и мы им воспользуемся. Как вы полагаете, полковник, подобные рассуждения убедительны с точки зрения политэкономии?
У Колли не было оснований возражать, тем более что вице-король излагал мысли, которые ему исподволь подсказывал его военный, а теперь личный секретарь.
— Безусловно, милорд. Насколько я понимаю, если бы отношения с эмиром были порваны без какого-либо явно недружелюбного поступка с его стороны, наша общественность никогда не поняла бы причин разрыва и мы оказались бы в очень затруднительном положении. Политика Шер Али-хана сводилась к тому, чтобы дурачить нас в глазах всей Азии, не давая нам поводов для активного возмущения. Вы, милорд, старались заставить его либо изменить свою политику, либо раскрыть ее таким образом, чтобы общественность стала на сторону правительства в его стремлении покончить с подобным коварством.
— Блестяще, Джордж! Вы схватили самую суть. Вот что значит заниматься политэкономией. — Литтон захлопал в ладоши. — А раз так, мы можем посвятить в наши планы и статс-секретаря по делам Индии. Давайте набросаем послание Крэнбруку…
И «Великий Могол» изложил виконту положение вещей, присовокупив свою оценку происходящего.
«Я думаю, — диктовал лорд Литтон, — что до сих пор мы не делали неверных ходов в игре, и если Каваньяри добьется успеха в своих переговорах с хайберцами, то мы выиграли, а эмир (вследствие плохой игры) уже потерял первую взятку. Теперь наступает второй роббер, и я полагаю, что мы начнем его с решающим козырем на руках. Обычные дипломатические средства, разумеется, исчерпаны (подчеркните, пожалуйста, слово „исчерпаны“, Джордж), и мы должны принять иные меры».
Над тем, какими должны быть «иные меры», вице-король размышлял уже довольно давно вместе с полковником Колли и прочими помощниками. Он хорошо представлял себе и их конечный результат и связанные с ними тонкости. Поэтому слова легко лились из его уст и так же легко ложились под пером опытного Колли на бумагу, украшенную баронским вензелем.
Цель действий была указана с предельной четкостью: «Добиться как можно меньшей ценой с минимальными сложностями для нас путем немедленного комбинированного политического и военного нажима, оказанного одновременно во всех пунктах, одного из двух результатов: 1) безоговорочного подчинения эмира или 2) его свержения и распада его королевства».
Вице-король признавал «совершенно необходимыми» военные операции, хотя и констатировал, что они должны поддерживать политическое давление, а не подменять его. Он учитывал и хорошо известный патриотизм афганцев, их героизм и самоотверженность в защите родной страны.
Из этих умозаключений вытекал и логический вывод: «Мы должны приложить все усилия, дабы убедить афганский народ, что наша ссора — это ссора с эмиром, преднамеренно навязавшим ее нам, а не с народом. Таким образом мы изолируем эмира от его народа, не допуская объединения афганцев вокруг своего правителя для национального противодействия нашим усилиям».
Далее Литтон перешел к конкретным шагам, предпринятым англо-индийскими властями. Он описал переброску войск к границам Афганистана, отправку тайных и явных агентов в районы горных проходов, к старшинам местных племен и даже в сердце страны — Кабул. Везде при желании и настойчивости можно было найти недовольных или обиженных, готовых оказать услугу наступающему войску, особенно если за это хорошо платят. «Великому Моголу» не докладывали, однако, что далеко не все из этих агентов благополучно возвращались и далеко не все из вернувшихся рапортовали об успехе своей миссии…
Вице-короля воодушевляло благожелательное отношение Лондона к его планам и действиям, и он рвался в бой. У Литтона и его ближайшего окружения рождались идеи — одна смелее другой. Правда, не каждая выглядела достаточно солидной для высокопоставленного политического деятеля крупнейшей державы. Некоторые приличествовали скорее мелкому феодалу, затаившему обиду на соседа такого же ранга. Так, Литтон, неожиданно решил перебросить из Кохата к Пешавару линейный полк и горную батарею, поручив майору Каваньяри вместе с полковником корпуса гидов Дженкинсом возглавить этот отряд, чтобы захватить врасплох гарнизон форта Али-Масджид и взять его штурмом.
Вмешался телеграф. Чрезмерно осторожные лондонские политики, совершенно некстати узнавшие о намеченных мероприятиях, отозвались о них в тревожном и резком тоне. Они не хотели понять, что вице-король задумал их вовсе не для расширения пределов империи, а лишь для того, чтобы вразумить Шер Али, поставить его на место. Ведь он собирался вслед за овладением Али-Масджидом передать форт местным племенам, которые сами должны были в дальнейшем сопротивляться Кабулу. А это ослабило бы обе стороны, и с ними легче было бы разговаривать!
Конечно, находившемуся в гуще событий Литтону было виднее, чем заморским мудрецам. И он, игнорируя телеграфные предостережения и опасения, готовился осуществить свой план. Помешало другое. Эмир, будто почуяв угрозу со стороны Пешавара, отправил подкрепление своему гарнизону. Это уже было серьезным предупреждением, и с ним пришлось считаться. Захват Али-Масджида отменили, но общие военные приготовления не прекращались.
«Великий Могол» ни минуты не сомневался, что лишь применением силы можно будет добиться достаточно прочного утверждения в Афганистане. Любые политические шаги явятся лишь полумерами, временными и шаткими. А раз так, то необходимо всесторонне подготовить успех боевых операций. И он вынес этот сложный вопрос на обсуждение членов Исполнительного совета при вице-короле, руководивших важнейшими департаментами англо-индийского правительства.
Непосредственной причиной для этого послужило прибытие 19 октября 1878 года из Кабула наваба[6] Гулям Хасана, представлявшего там лорда Литтона. Он привез (наконец-то) ответ Шер Али-хана на письмо барона от 14 августа. Эмир не принял английских требований, но правителя Индии это не огорчило. Наоборот, было бы обидно, если бы в разгар грандиозной переброски войск, вызвавшей огромные расходы, Кабул пошел на какие-нибудь мелкие уступки. В данном случае действовал иной принцип: «Чем хуже, тем лучше!» Следовало использовать малейший промах эмира, пусть даже вызванный самими англичанами, и создавать представление о его непреодолимой враждебности и отсутствии какой бы то ни было возможности найти с ним общий язык.
В Симле стояла чудесная погода. Уже в середине сентября закончился сезон дождей, обычно начинающийся здесь в июле, муссоны отступили, до наступления холодов было еще около полутора месяцев. Можно было наконец вздохнуть свободнее и ощутить всю прелесть мягких, погожих дней и окружающей природы. Удивительно хороши были разбросанные вокруг рощи голубой сосны и гималайского кедра. Хребты Даула-Дар и Наг-Тиба с одной стороны, горы Соля-Синги — с другой представляли собой живописное обрамление картины. За хребтами на северо-востоке в далеком мареве угадывалась еще более внушительная горная цепь — Большие Гималаи…
Когда в зале заседаний «Белого дома» собрались все приглашенные, к ним вышел вице-король. По его знаку полковник Колли подал папку; в ней находились наиболее срочные бумаги, подлежащие обсуждению.
— Джентльмены! — лорд Литтон вынул из папки какой-то документ и сделал многозначительную паузу. — Кабул снизошел до ответа нам. Мы с Лайеллом и Колли изучили его самым внимательным образом. Тут не только не выражается желание принять нашу миссию, но и обходится молчанием публичное оскорбление британского правительства в лице его почтенного посланника.
Бросив взгляд на собравшихся, он продолжал:
— Совершенно ясно, что если бы мы ожидали письма эмира в Пешаваре, не отправляя миссии, то в течение двух месяцев не продвинулись бы ни на шаг вперед, получая такие же бессмысленные ответы на другие наши послания, заведомо ненужные. Была иная возможность: миссия следует в Кабул, игнорируя запрет афганских властей, но рискуя вызвать конфликт. В первом случае ее отправку пришлось бы отложить до весны, и тогда практическим результатом нынешней зимы, о чем уже широко толковали все наши азиатские подданные, был бы открытый союз эмира с Россией, его открытая враждебность к нам и наше открытое пассивное принятие того и другого…
Снова пауза.
— …Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Своей настойчивостью, выразившейся в продвижении генерала Чемберлена к афганским пределам, несмотря на отсутствие согласия Шер Али принять его, мы выиграли время. Это раз. А во-вторых, что не менее, если не более важно, этот дикарь и главарь дикарей полностью разоблачил себя. Он наш враг и заслуживает соответствующего обращения.
Места за столом заседаний слева от кресла вице-короля по сложившейся традиции занимали братья Стрэчи — Ричард, которому к тому времени исполнился шестьдесят один год, и пятидесятипятилетний Джон. Эти крупные администраторы специализировались в области экономики и общественного строительства — ирригации, прокладки железных дорог, в чем особенно зарекомендовал себя Ричард Стрэчи. Джон Стрэчи был финансовым членом Совета, то есть фактически министром финансов Индии. Он напряженно трудился над сбором средств на афганскую войну. А в том, что она вот-вот разразится, Джон, которого Литтон держал в курсе относительно своих планов, нимало не сомневался.
Первым и выступил Стрэчи-младший.
— Как некоторые утверждают, — заявил он, — обязанность правительства Индии состоит только в том, чтобы удовлетворять потребности и нужды ее населения, и что оно может стоять в стороне, если от этого страдают интересы центра нашего хлопчатобумажного производства — Манчестера. Я решительно отвергаю эту точку зрения…
Аплодисменты были ответом на последние слова руководителя индийской экономики…
— …Я не перестал быть англичанином от того, что провел большую часть своей жизни в Индии и стал членом ее правительства. Интересы Манчестера — это интересы не только развитого района и многочисленного населения, непосредственно занятого в торговле и текстильной промышленности, как то квалифицируют поверхностные люди, но и миллионов англичан.
Голос Джона Стрэчи возвысился до патетического звучания:
— Я не стыжусь открыто заявить, что для меня нет более высоких интересов, нежели интересы моей родины!..
— Полагаю, господа, все мы должны выразить признательность сэру Джону за столь прочувствованные и патриотические слова, — взволнованно произнес вице-король.
— Совершенно верно, милорд, — поддержал Литтона Лайелл. — Сэр Джон высказал то, что находится в сердце каждого из нас. Что же касается конкретной обстановки, то она требует немедленных действий. Самые веские доводы — политические, и их я считаю неотразимыми. Настолько неотразимыми, что едва ли смогу допустить наличие каких бы то ни было причин, которые могли бы задержать наше выступление до весны…
Лайелл встал, видимо полагая, что стоя он выскажется убедительнее:
— Бездействие на пороге Афганистана в ожидании весны, по моему мнению, может оказаться губительным для нашей политики. И не стоит всерьез останавливать свое внимание на этом…
Он подумал о Каваньяри, о его настойчивом стремлении подкупить, переманить на сторону Британской империи вождей пограничных племен, чтобы подготовить почву для вторжения на афганскую территорию, и продолжал:
— Мы потеряли бы опору среди вождей племен, нанесли бы урон своей репутации и подняли бы авторитет эмира, бросившего нам вызов. Не могу поверить, что Лондон станет терять время на обсуждение подобной политики!..
В конце концов Исполнительный совет выработал программу из четырех пунктов, подлежащую безотлагательному осуществлению:
— во-первых, издать манифест с перечнем обид и оскорблений, нанесенных эмиром Афганистана Англии, с заявлением о ее дружественном отношении к афганскому народу и нежелании вмешиваться в его внутренние дела, причем указать на единственного виновника всех осложнений — Шер Али-хана;
— во-вторых, немедленно изгнать эмирские войска из Хайберского прохода и прочно овладеть им вплоть до пункта Дакка;
— в-третьих, оккупировать Куррамскую долину на такую глубину, чтобы угрожать отсюда Кабулу и Джелалабаду;
— в-четвертых, двинуться из Кветты к Кандагару и уничтожить любые войска, которые эмир может попытаться противопоставить силам Британской империи в этом городе.
Казалось бы, ситуация предельно ясна. Высшие чиновники англо-индийского правительства, взвесив все обстоятельства, наметили целесообразный и обоснованный план действий. Оставалось проводить его в жизнь. И тем не менее боязливые политики в Лондоне решили дать еще один шанс кабульскому правителю. Как будто Шер Али-хана могло что-либо исправить…
Крэнбрук от имени кабинета министров протелеграфировал, что положение еще не созрело для предложенных мер. Он не возражал против продолжения концентрации войск. Однако статс-секретарь по делам Индии и его коллеги считали, что прежде чем двинуть войска, надо дать возможность эмиру раскаяться, потребовать у него извинений и допуска постоянной британской миссии на территорию Афганистана. Литтон и Колли обменялись выразительными взглядами, ознакомившись с этим документом, отнюдь не прибавлявшим доблести могущественной империи. Правда, они понимали, что кабинет вынужден был учитывать нападки оппозиции, статьи в некоторых газетах, реакцию России и других держав, но, право же, пришла пора перестать миндальничать с Кабулом!
И они принялись за подготовку письма Шер Али-хану, призванного сыграть роль ультиматума. Завершив эту неблагодарную с их точки зрения работу, они согласовали с Лондоном послание в Кабул, чтобы Биконсфилд и другие члены кабинета не ставили более палки в колеса, излишней осторожностью препятствуя естественному развитию событий…
Глава 6 УЛЬТИМАТУМ
Хотя центром Лондона считается район вокзала Чаринг-Кросс, его сердцем бесспорно должна быть признана площадь, на которой стоит величественный собор св. Павла. Купол этого самого высокого сооружения города опоясывает Золотая галерея. В ясные дни, увы, не часто балующие лондонцев, с нее хорошо видны нагромождения зданий и кварталов, а также людской муравейник, кипящий на улицах и площадях огромной столицы Британской империи.
На северо-западе, на подступах к району Блумсбери, высится громада Британского музея, а дальше — зеленый массив Риджент-парка и Зоологического сада. На запад протянулась забитая дилижансами и кэбами магистраль Холборн; она вливается в Оксфорд-стрит, которая огибает Сохо и Мэйфер и почти доходит до Гайд-парка как раз у его знаменитого «Угла ораторов». На юге — Темза с ее бесчисленными мостами, портами и доками, судами и лодками; за ней — вокзал Ватерлоо, Военный музей — гордость империи, театр королевы Виктории, получивший фамильярное прозвище «Олд Вик». На восток лучше не глядеть: там возвышается мрачный Тауэр, стены которого были свидетелями многих кровавых злодеяний, а далее простирается Ист-Энд — жалкое прибежище бедноты — Уайтчепел, Шордич, Бетнал-Грин. Нищета, трущобы, чахлые деревца. Право же, лучше отвернуться от этих мест или по крайней мере встать вполоборота, и тогда на юго-западе откроется то, с чего, пожалуй, следовало бы начать.
Здесь Вестминстер — политическая душа Великобритании и ее разбросанных на всех континентах заморских владений. Бэкингемский дворец — главная резиденция королевы Виктории, как и ее предшественников, Сент-Джеймский дворец, Вестминстерский дворец — величественное здание парламента, увенчанное башней, на которой Биг Бен невозмутимо отсчитывает часы и минуты, Уайтхолл с его группой правительственных зданий, Вестминстерское аббатство — усыпальница тех, чьи имена прославили Англию.
Если бы 9 ноября 1878 года на Золотой галерее оказался пытливый наблюдатель, вооруженный биноклем, то, внимательно вглядевшись в эту часть Лондона, он, несомненно, уловил бы царившее там возбуждение; оно постепенно распространялось на улицы, ведущие к собору. Вот оно охватило Уайтхолл, переместилось на Стрэнд, а вскоре уже люди останавливались на неширокой Флит-стрит. Мужчины приподнимали котелки и шляпы, приветственно мелькали дамские платочки.
Это оживление было вызвано тем, что из строгого трехэтажного особняка, расположенного на узкой улочке, вышел высокий сутулый человек с острыми чертами лица, в длиннополом черном пальто и цилиндре. В руке он держал суковатую палку с золотым набалдашником. При его появлении в толпе зевак послышались радостные возгласы. Констебль отдал человеку в цилиндре честь, и тут же к крыльцу был подан полузакрытый экипаж, запряженный парой холеных вороных лошадей. Однако вышедший, сделав знак кучеру, двинулся пешком. Экипаж тронулся за господином, который неторопливым шагом направился к Трафальгарской площади, где вздымалась колонна с четырьмя львами у подножия и едва заметной фигуркой адмирала Нельсона на самом верху. Поравнявшись с колонной, человек снял с головы цилиндр и помахал им адмиралу. Раздались аплодисменты, а кто-то даже прокричал: «Браво, Диззи!»
Да, это был Бенджамен Дизраэли, первый лорд казначейства, иными словами, глава правительства ее величества королевы Великобритании и императрицы Индии, два года назад ставший графом Биконсфилдом. Он ревниво следил за своей популярностью, любил успех, приветствия толпы. В глубине души он считал себя по крайней мере вполне равным тому, парящему над Трафальгарской площадью. Конечно, Нельсон успешно гонялся за наполеоновскими фрегатами и барками где-то в Средиземном море, на пути в Египет, и даже громил французских флотоводцев. Но ведь и он, Дизраэли, сделал в тех же краях не меньшее дело для Англии: скупил акции Компании Суэцкого канала. Это закрепит ее позиции в Египте и обеспечит британским кораблям кратчайший путь на Восток, к берегам Индии, Бирмы, Персии, Китая, Малайи, Австралии и бог весть еще каких богатых земель, контроль над которыми так необходим для процветания Британских островов!..
Он был уже далеко не молод: немногим более года осталось до семидесяти пяти. Длительные пешие прогулки давались все труднее, но жаль было отказываться от удовольствия еще раз «искупаться в лучах славы», как он говорил мысленно. Поэтому Дизраэли частенько подзывал экипаж, проезжал в нем часть пути, а затем снова выходил на тротуар и упорно отсчитывал ярды, изредка отвечая на приветствия кивком или легким прикосновением руки к цилиндру.
На миг промелькнуло смутное желание наведаться по дороге в Линкольнз Инн. Юность виделась уже в далеком тумане, но он часто вспоминал ворота старинной юридической школы на Чансери-лейн, в двух шагах от цитадели лондонских законников — Темпля. Дизраэли никогда не мог забыть то острое чувство гордости, которое охватывало его в давнопрошедшие года, когда он входил в эти ворота, видевшие знаменитого канцлера и философа Томаса Мора, «железного» Оливера Кромвеля, лукавого политика Уильяма Питта и других питомцев Линкольнз Инна. Что ж, когда-нибудь — быть может, в не столь уж отдаленном будущем — и о нем станут говорить как о человеке в прошедшем времени, о человеке, не посрамившем славы училища. Однако, взглянув на часы, лорд Биконсфилд со вздохом сожаления отказался от мысли навестить свою альма-матер: его ждут более важные дела — в этом круговороте порой приходится отказывать себе в маленьких удовольствиях.
Он направлялся в Гилдхолл, городскую ратушу. Купеческие гильдии Лондона построили свою резиденцию на Грэшем-стрит, близ Чипсайда, еще в XII веке. «Просвещенные мореплаватели», как часто именовали британских купцов (а затем и вообще англичан) в прошлом, собрали в своей резиденции великолепную библиотеку, уступавшую лишь собранию Британского музея: основательное и всестороннее изучение различных стран и народов никогда еще не служило помехой развитию торговых связей.
В четырехэтажном Гилдхолле, с его высоким готическим шпилем и стрельчатыми окнами, богато отделанным фасадом и красочным внутренним убранством, располагался столичный муниципалитет. Вместительный зал, обшитый деревянными панелями и обитый золотистой тканью, с дорогой, удобной мебелью и статуями политических деятелей вдоль стен, служил местом праздничных приемов, банкетов, встреч официальных лиц, важных судебных процессов. В средние века, когда английские короли желали посетить Гилдхолл, ко входу выносили две массивные деревянные фигуры — Гога и Магога, которые обычно стояли на галереях внутри помещения. Тут избирали лорд-мэра, членов муниципального совета — олдерменов, муниципальных советников и даже депутатов парламента.
9 ноября в национальном календаре значится как День лорд-мэра. В этот день лорд-мэр вступает в должность, и столь важное событие сопровождается пышными процессиями, торжественными речами — так называемыми «гилдхоллскими». Здесь не раз выступали и премьер-министры. Дизраэли всегда испытывал удовлетворение оттого, что трибуна, с которой он сообщал стране о волновавших кабинет проблемах, находилась именно в Сити — средоточии британской деловой активности.
Когда Дизраэли оказался наконец на площади, перед широкой аркой входа в ратушу, собравшаяся публика встретила его, как и многих других знатных особ, аплодисментами и приветственными возгласами. На губах главы правительства появилась едва заметная улыбка: приятно, что, несмотря на несколько хаотичное передвижение от Даунинг-стрит, он прибыл к цели в намеченный срок. Недаром он всегда старался точно рассчитывать свои действия. Лорд-мэр встретил премьер-министра согласно древним традициям: впереди него несли знаки достоинства: скипетр, золотую цепь и меч острием вверх. Держащий это оружие маршал опустит острие вниз лишь в присутствии королевы или кого-либо из судей (в Англии уважают закон).
Биконсфилд обменялся рукопожатием с лорд-мэром и вместе с ним направился в ратушу. Зал уже был полон. Газовые рожки излучали трепетный, мерцающий свет, едва уловимый запах гари примешивался к тонким ароматам дорогих духов присутствующих дам. За отдельным столиком сидел городской клерк в традиционном парике с буклями, неподалеку от него разместились олдермены и советники в столь же традиционных длинных мантиях. Почетные кресла в первых рядах отведены наиболее знатным лицам и членам кабинета.
Пока лорд-мэр готовился принести присягу, Дизраэли вел непринужденный разговор с его супругой. Это была та легкая болтовня, какой англичане дали особое наименование — «слип-слоп». Престарелый политический деятель и литератор, питавший большую симпатию к слабому полу, слыл в ней великим мастером.
Но вот новый хозяин Сити произнес формулу присяги. Наступил час графа Биконсфилда.
Опытнейший оратор, Дизраэли поднялся за председательским столом и оглядел собравшихся. Вот они, обратившиеся в слух его коллеги: маркиз Солсбери, правая рука, глава дипломатического ведомства, рядом с ним канцлер казначейства Стаффорд Норскот, тут же статс-секретарь по внутренним делам Кросс, через кресло — лорд-канцлер Кейнс, который постоянно демонстрировал сосредоточенную задумчивость, но не всегда проявлял рассудительность на заседаниях правительства. Где же статс-секретарь по делам Индии? А, вот и опоздавший Крэнбрук пробирается вперед, к министрам…
Наконец Биконсфилд счел, что пауза привлекла достаточно внимания к его особе, и глуховатым голосом начал речь. Слегка нахохлившаяся сутулая фигура в черном фраке, взмахи рук, когда он хотел жестом подчеркнуть ту или иную мысль, делали его похожим на большую хищную птицу. Крупный нос, взлетавшие при резких поворотах головы поредевшие волосы усиливали это сходство.
Дизраэли обрушился на незадачливых политиканов и публицистов, которые в последнее время заполнили газеты и журналы зловещими пророчествами, будто Великобританию ожидает горькая участь некогда богатых и могучих, а затем пришедших в полный упадок морских держав — Генуи, Венеции, Нидерландов.
…В глубине души он великолепно понимал, чем были порождены эти предсказания. Пять лет назад на процветавшую страну обрушился кризис. Он охватил хлопчатобумажную и шерстяную промышленность, металлургию, судостроение, иными словами, важнейшие отрасли экономики, вызвал пляску цен, волну банкротств, рост безработицы. Последствия этих бед пока еще далеко не удалось ликвидировать.
А тут еще какой-то Денис недавно выпустил в Лондоне книгу под многозначительным названием «Маразм в торговле и промышленности». Биконсфилд даже припомнил врезавшиеся в память слова: «Каждый знает, что такое кризис, но еще не было ничего похожего на современное состояние. Нет сильных вспышек острой болезни, однако налицо все признаки хронической, скрытой лихорадки, постепенное обессиливание, медленное обескровливание. Это — состояние маразма».
Хорошо хоть, что этот умник догадался изложить свои панические взгляды на немецком языке! Зато некий Карл Маркс, еврей из Германии, живущий в британской столице, на хорошем английском языке предрекает в газетах новое обострение торгового кризиса из-за переполнения азиатских рынков хлопчатобумажными тканями. Это справедливо и уже подтверждается на деле, но разве не ясно, что если имеющиеся рынки «переполнились», то надо их расширять, искать все новые и новые?! Если понадобится, то даже силой оружия: экономическая и политическая ситуация вовсе не такова, чтобы уж очень церемониться…
В основу «гилдхоллского» выступления премьер-министр положил мысль: «Судьба Англии — в руках Англии». Он призывал каждого англичанина упорно и самоотверженно трудиться на своем посту, не обращая внимания на жизненные сложности и уповая на правительство, которое будет и впредь стараться справиться с ними.
Затем Биконсфилд перешел к вопросам внешней политики, прежде всего на Востоке (ведь именно там находит сбыт основная масса английских промышленных изделий). Одобрительные возгласы и рукоплескания сопровождали его слова об укреплении британских позиций в необъятном Китае, на Средиземном море и Ближнем Востоке.
Он не видел необходимости скрывать от слушателей, что северо-западную границу Индии правительство считает «случайной и ненаучной» и что принимаются меры для ее исправления. С удовлетворением воспринимая аплодисменты, он вдруг чуть ли не физически ощутил безмолвие первого ряда. Взглянув на коллег по кабинету, премьер был поражен их видом: недоумение, разлитое на лице Норскота, перекликалось с беспокойством, которое проявляли Кросс и Крэнбрук, тогда как Солсбери нахмурил брови, словно поставленный чем-то в тупик.
Биконсфилд завершил речь под бурную овацию, устроенную лорд-мэром и его гостями — столичной аристократией и банкирами Сити, судовладельцами и судостроителями, заводчиками и фабрикантами. И сразу же подошел к сумрачно молчавшим членам правительства.
— Чем вас не устроила мысль о наших действиях в Афганистане? Ведь все давным-давно обсуждено и согласовано.
— Так-то оно так, сэр, — от общего имени ответил Солсбери. Его рта совсем не было видно из-за густых усов и бороды, и порой было непонятно, как словам министра иностранных дел удается вырываться наружу. — Но не кажется ли вам, что мы преждевременно раскрываем карты? Еще до того как в Афганистане что-либо произойдет, этим немедленно воспользуется Гладстон со своими либералами. Да и сторонники лорда Лоуренса обрушатся на нас вовсе не с поздравлениями и пожеланиями успеха…
— Ах, вот как! — вспыхнул Дизраэли. — На нашем месте они делали бы абсолютно то же самое.
— Но ведь на нашем месте пока мы, — возразил Норскот. — И шумиха будет направлена против нас.
…Действительно, на следующий день газеты либеральной партии в статьях под кричащими заголовками информировали читателей о речи премьера, из которой явствовало, что консерваторы без серьезных оснований готовят войну в Азии, выдвигая в качестве ее предлога установление «научных границ» Индии.
11 декабря 1878 года граф Биконсфилд отстаивал в парламенте политику правительства в Афганистане. Но еще до «гилдхоллской» речи и этого выступления, 31 октября, британские власти в Индии завершили подготовку текста ультиматума главе Афганского государства.
2 ноября 1879 года коменданту Али-Масджида кефтану Файз Мухаммаду был официально вручен пакет для передачи эмиру.
Вице-король напоминал Шер Али-хану об отказе принять дружественную миссию британского правительства якобы из опасений за ее безопасность в Афганистане, хотя вскоре русский представитель был допущен в Кабул. И это в то время, когда между Англией и Россией грозила разразиться война!.. Как можно было противопоставлять грубую силу посланцу доброй воли?! Затем лорд Литтон переходил к делу:
«В вашем письме не содержится объяснений или извинений в связи с этим актом враждебности и умалением достоинства императрицы Индии в лице ее посланника; в нем также не содержится никакого ответа на мое предложение о достижении полного и откровенного взаимопонимания между нашими правительствами».
Далее «Великий Могол» без обиняков разъяснял эмиру, чем грозит непослушание и как избежать грозящих неприятностей: «Вследствие враждебных действий с вашей стороны я сосредоточил войска ее величества на вашей границе, но я хочу дать вам последнюю возможность избавиться от превратностей войны. Для этого необходимо, чтобы вы принесли соответствующие исчерпывающие извинения в письменном виде и доставили их на британскую территорию через офицера достаточно высокого ранга.
Более того, так как установлено, что нельзя поддерживать удовлетворительные отношения между обоими государствами, пока британское правительство не будет должным образом представлено в Афганистане, нужно, чтобы вы согласились принять постоянную британскую миссию на своей территории».
В заключение вице-король предостерегал Шер Али против нанесения ущерба сотрудничавшим с англичанами племенам и недвусмысленно угрожал: «Если вы полностью и прямо не примете этих условий, уведомив об этом меня не позднее 20 ноября, я буду вынужден считать ваши намерения враждебными и обращаться с вами как с явным врагом британского правительства».
…Нечего говорить, что переброска войск и снаряжения к афганским границам и другие приготовления не могли пройти незамеченными. Пресса была полна материалами о напряженности в отношениях с Афганистаном, о неуступчивости и «нелояльности» Шер Али-хана. Когда антиафганская кампания в печати достигла небывалого размаха и стало известно об отправке ультиматума в Кабул, редактор полуофициальной «Таймс оф Индиа» послал в Симлу наиболее опытного репортера.
— Роджер, — сказал он ему, — мне отлично известно, что вы близки к окружению вице-короля. Нам нужно буквально несколько слов о перспективах развития событий. Остальное мы сделаем сами.
Вскоре Роджер встретился за стаканчиком виски с одним из адъютантов Литтона. С заходом солнца в высокогорной Симле становилось прохладно. Виски шло неплохо. И когда жидкости в бутылке заметно поубавилось, адъютант произнес наконец то, чего давно дожидался от него газетчик:
— Все готово. Мы беспокоимся главным образом о том, как бы эмир не вздумал извиняться или неожиданно не вмешался Лондон.
Беспокойство оказалось напрасным. К назначенному сроку Шер Али-хан ответа не прислал (его гонец опоздал на несколько часов). Биконсфилд проявил достаточно благоразумия, чтобы не вмешиваться. «Великий Могол» дал войскам долгожданный сигнал: «Выступать!»
Глава 7 ВТОРЖЕНИЕ
Лорд Литтон — виконту Крэнбруку. Письмо от 21 ноября 1878 года из Лахора:
«Мой дорогой лорд Крэнбрук, жребий брошен! Эмир не снизошел до того, чтобы вообще дать какой-либо ответ на наш ультиматум. Срок, до которого мы ожидали ответа с намерением рассмотреть его, истек, если быть совершенно точным, вчера на закате, т. е. 20-го. Ибо магометанский день кончается с заходом солнца. Однако лишь вчера в 10 часов вечера я получил по телеграфу известие из Пешавара, задержавшееся при передаче из Джамруда вследствие темноты и плохой сигнализации, что наши передовые посты не получили сообщений от эмира. Немедленно были отданы приказы генералам, командующим хайберской, куррамской и кветтской колоннами, выступить сегодня утром на заре и пересечь границу.
С тех пор я уже узнал из Пешавара о начале операций в Хайберском проходе и, вероятно, сегодня вечером, прежде чем почта отправится из Лахора, получу дальнейшую информацию об их продвижении.
Между тем задержка в течение последнего месяца не пропала даром, потому что вчера вечером переговоры, на которые я его употребил, успешно закончились заключением письменного соглашения между майором Каваньяри и представителями всех хайберских племен; по его условиям племена, отказываясь от власти эмира, обязываются передать контроль над проходом правительству Индии… Мирахур направил заявление эмиру, что, если британские войска будут продвигаться, позицию в Али-Масджиде нельзя будет удержать и его гарнизону угрожает разгром, если он не будет быстро отведен или не получит подкреплений. Но, насколько мне удалось узнать, эмир ничего не ответил на этот призыв».
Вице-король Индии нервничал, об этом свидетельствовало и его намерение сократить срок ультиматума до «истечения магометанского дня», т. е. до захода солнца. Колли и других также снедало беспокойство. Оно исчезло лишь тогда, когда выдвинутые к передовым постам гелиографические команды (линию телеграфа туда протянуть еще не успели) с первыми лучами восходящего солнца стали посылать сигналы: «Ответа нет! Ответа нет!»
Теперь уже можно было забыть все треволнения и спокойно, как водится в цивилизованном мире, обнародовать ожидавшую своего часа декларацию о начале войны с Афганистаном и ее причинах. Как и было намечено заблаговременно, выпущенное англо-индийскими властями воззвание к сардарам и народу этой страны освещало корни кризиса, вызванного недружелюбным отношением эмира Кабула к его доброжелательным соседям. Центральная мысль этого документа сводилась к констатации того абсолютно неоспоримого и очевидного для всех факта, что британское правительство не желало ссоры с сардарами и афганским народом и не ссорилось с ними. Вся ответственность за происходящее лежит на одном лишь эмире Шер Али-хане, променявшем искреннюю и сердечную дружбу императрицы Индии на вражду с ней.
Как все гениальное, замысел наступления на Афганистан был предельно прост. С юга — прямой, как стрела, удар по старой афганской столице — Кандагару. С юго-востока и востока — неотвратимые, словно божье возмездие, удары, нацеленные на нынешнюю столицу — Кабул. Соответственно этому плану были созданы три мощных отряда, три группы войск: Кандагарская, Куррамской долины и Пешаварской долины.
Вот когда пригодилась Кветта! Вот когда сказались мудрая дальновидность майора Роберта Сандемана, добившегося ее отторжения от владений келатского хана, и хладнокровие британского правительства, удержавшего этот пункт, несмотря на все протесты Шер Али-хана. Подумать только: если бы не возможность использовать Кветту в качестве базы, доблестным британским воинам пришлось бы, как и в прошлую войну, шагать лишних полторы тысячи миль по враждебной, выжженной солнцем местности, испытывая нехватку воды и продовольствия!..
И еще одно было величайшим благом — вплоть до Сиби расторопные королевские инженеры успели протянуть нитку железной дороги. Отныне транспортам с припасами и снаряжением оставалось преодолеть каких-нибудь 50–60 миль. Правда, путь шел через узкий Боланский проход, но теперь для снабжения войск уж наверняка не потребуется 30 тысяч вьючных верблюдов, как сорок лет назад.
Маленькая, глухая и заброшенная Кветта давно не видела такого пышного парада войск. Красные и голубые мундиры пехотинцев и кавалеристов, нашивки и позументы, сверкающие каски, развевающиеся султаны, высокие кивера и плюмажи. Мерное шлепанье верблюдов, топот лошадей, мулов и ослов, скрежет колес, громыханье пушек, тянущийся к небу дымок полковых кухонь.
В пыльном городке были сосредоточены первая, Мултанская, и вторая, Кветтская, дивизии, входившие в состав Кандагарской группы. Они включали полки гусар, бенгальской, пенджабской и синдской кавалерии, королевской, бенгальской, бомбейской, пенджабской, гуркхской и сикхской пехоты, а также несколько артиллерийских подразделений, инженерные и прочие вспомогательные части. Здесь собралось 13 550 офицеров и солдат, а вместе с обслуживающим штатом — не менее 60 тысяч человек.
Командовал этой ордой (дисциплина вовсе не была характерной особенностью сброда, который шел в наемные войска ее величества) плотный лысоватый старик с неизменно нахмуренными бровями, седыми усами и козлиной бородкой, затянутый обычно в черный мундир без знаков отличия или орденов. Генерал-лейтенант Дональд Стюарт…
Северо-восточнее, в городе Кохат, еще меньшем, чем Кветта, изготовилась Куррамская группа. Пять с половиной тысяч офицеров и солдат при 24 орудиях. Их возглавлял невысокий худощавый человек с резкими чертами лица и жидким пучком волос на подбородке — генерал-майор Фредерик Робертс.
Главное и кратчайшее оперативное направление обеспечивала Пешаварская группа в 10 тысяч солдат и офицеров при 30 пушках, которой командовал представительный генерал-лейтенант сэр Сэмюэл Браун, командор ордена «Индийская звезда», кавалер ордена Бани и Креста Виктории. Возможность участвовать в героических подвигах настолько увлекла опытного воина, готовившегося отпраздновать свое пятидесятилетие, что он, не задумываясь, сменил удобное кресло военного члена Исполнительного совета при вице-короле на седло и палаточный неуют.
Высшее и среднее офицерство, все артиллерийские, технические части и некоторое количество рядового состава трех отрядов были укомплектованы англичанами. Основная же масса войск состояла из сипаев, индийских наемных пехотинцев-сарбазов и всадников-соваров. Они входили в состав бенгальской, бомбейской, пенджабской и прочей конницы и пехоты, отрядов гидов, гуркхов, сикхов и т. п.
Всего Армия Вторжения насчитывала около 30 тысяч активных бойцов, а вместе с «сопровождающими», или лагерной прислугой, превышала 120 тысяч человек. За всю историю Афганистана такое полчище не пересекало его границ. Кроме того, в тылу каждого из полевых войск был сформирован пяти-шеститысячный боевой резерв, оснащенный артиллерией.
Противнику был приготовлен своеобразный сюрприз: англичане начали применять скорострельную малокалиберную пушку («ружье») Гатлинга — прообраз будущего пулемета.
Все было предусмотрено для сокрушительного удара по несговорчивым афганцам. Подавляющее превосходство в численности, оснащении и обученности войск, превосходные коммуникации, отлично налаженная служба тыла, а также, что имело далеко не последнее значение, подкупленные вожди многих племен и подорванные позиции эмира и тех его сторонников, которые отталкивали руку дружбы, открыто и честно протягиваемую английскими доброжелателями… Кажется, никогда еще Британская империя не была так хорошо подготовлена к войне.
Что могла противопоставить этой огромной силе затерянная в сердце Азии небольшая горная страна? Если бы такой вопрос задали лорду Литтону или полковнику Колли, генерал-лейтенанту Брауну или майору Каваньяри, они, по всей вероятности, недоуменно развели бы руками: «Помилуйте! Можно ли всерьез говорить о каком-то сопротивлении?» Файз Мухаммад и его друзья, скорее всего, сказали бы: «Любой силе можно противопоставить любовь народа к своей родине, его самоотверженность, готовность отдать жизнь за ее свободу…».
…Первой целью наступающих явился форт Али-Масджид. Его захват имел не только военное, но и политическое значение. Ведь именно здесь было нанесено неслыханное оскорбление достоинству Великобритании: ее посольству преградили доступ в Кабул.
К середине ноября 1878 года тихий Джамруд преобразился. Вокруг него разбили лагерь англо-индийские войска, двигавшиеся на главный город Афганистана. Возле дороги, ведущей к Али-Масджиду, разместились уже побывавшие у его стен гиды — солдаты Корпуса разведчиков Пенджабских пограничных сил. Рядом с ними — бенгальские уланы 11-го принца Уэльского полка в своих голубых мундирах. Немного подальше мелькали коричневые мундиры 6-го полка бенгальской легкой пехоты. За группой деревьев расположился 14-й Фирозпурский полк туземной пехоты; он состоял из рослых бородатых сикхов, всегда враждовавших с афганцами. А там — 1-й полк сикхской пехоты Пенджабских пограничных сил, 19-й и 25-й полки бенгальской пехоты. Особняком держались 4-й полк гуркхских стрелков, низкорослых подвижных непальских горцев в характерных круглых шапочках и темно-зеленых мундирах, и, уж естественно, чисто английский 17-й Лестерширский полк. А дальше — связисты Королевского корпуса сигнальщиков, королевские саперы и минеры, штабной шатер, артиллерия и, наконец, обоз с его многотысячной прислугой, маркитантами, торговцами, ростовщиками и прочими неизменными спутниками британской армии тех времен.
Английский лагерь под Джамрудом.
Визгливый мулла гидов карабкался на обломок скалы и резким голосом возглашал: «Хайя алее салах… Придите совершить благое!» Порой звуки его призывов доносились до гарнизона Али-Масджида, и не один афганец говорил другому:
— Неужели этот мулла и грабителей призывает к общению с Аллахом?!
Наконец, в ночь с 20 на 21 ноября из Джамруда выступили две бригады. Наутро с остальными войсками двинулся и сам генерал-лейтенант Браун. Ревели трубы, им подпевали сигнальные рожки, развевались знамена и флаги. Командир шедшей во главе колонны 1-й пехотной бригады, бригадный генерал Макферсон, весьма сожалел, что под его началом нет шотландских полков: напев волынок раздавался бы в этих горных теснинах особенно волнующе, создавая неповторимый звуковой фон для победного марша!
Впрочем, продвинуться удалось не так уж далеко. Сразу за Джамрудом открылась горловина узкого, извилистого Хайберского ущелья, над которым навис укрепленный форт. Али-Масджид, проклятая заноза!
Майор Каваньяри следовал с Пешаварской группой войск, не без злорадства размышляя, что Файз Мухаммаду теперь уже недолго осталось занимать пост коменданта этого укрепления.
Впереди был замечен конный пикет афганцев. Под ружейно-артиллерийским огнем он ускакал к Али-Масджиду. Англичане приблизились на расстояние полутора миль и увидели, что находившиеся впереди высоты заняты афганским ополчением. Маломощные орудия форта начали обстрел наступающих.
Брауну доложили о первых раненых среди его подчиненных, и он приказал рассредоточиться и укрыться. Английские пушки, заняв позиции, открыли по форту пальбу, продолжавшуюся в течение всего дня. Группы стрелков направились к холмам, обтекая Али-Масджид с двух сторон, чтобы под их прикрытием орудия — основная ударная сила наступающих — могли приблизиться к врагу.
Штабные офицеры Пешаварского отряда внимательно наблюдали за поведением противника. Было очевидно, что артиллерия причинила афганцам немалый урон. Однако осажденные не проявляли никаких признаков замешательства. Их ответный артиллерийский огонь был очень метким, а попытки англичан штурмовать укрепление в лоб они отбили без большого напряжения. Уже унесли с поля боя убитых майора Бэрча и лейтенанта Фицджеральда из 27-го полка туземной пехоты вместе с несколькими солдатами и сержантами, уже был ранен капитан Маклин из 14-го полка сикхов, выбыло из строя немало рядовых, а ожидавшийся перелом не наступал. Пушки продолжали греметь, осыпая снарядами форт. Его защитники отвечали редкими выстрелами.
Тем временем британские передовые группы продвигались все далее в глубь афганской территории, и к исходу дня в штаб поступили сообщения, что Али-Масджид окружен. Характерные звуки выстрелов из стародавних длинноствольных афганских ружей — джезаилей слышались со все большими интервалами, а затем почти вовсе затихли. Вскоре наверху, в этом орлином гнезде, прогремели взрывы. «Уничтожают склад с боеприпасами», — высказал предположение Макферсон.
Всю ночь солдаты Брауна жгли костры на тропинках, которыми могли воспользоваться защитники форта для прорыва из окружения, тогда как артиллеристы караулили у своих орудий, чтобы достойно встретить любую такую попытку.
С наступлением рассвета британские войска ворвались в форт. Он был пуст. Шесть подорванных старых пушек, множество гильз от расстрелянных снарядов, изодранные одеяла и другое тряпье в деревянных строениях — и все.
Впрочем, стрелки-гиды все же разыскали одно живое существо. У самого края скалистого обрыва лицом к югу, где в туманной мгле угадывалась громада хребта Сафедкох, лежал старик. Руки афганца сжимали тяжеловесный английский мушкет, прозванный в армии «Коричневая Бесс» и снятый с вооружения еще в первой половине века; замок мушкета был разбит пулей или осколком снаряда. Старик был ранен: кровавые пятна темнели на левом боку рубахи. Он мертвой хваткой держался за ствол своей «Бесс», и солдаты отняли у него оружие не без труда.
Проворные гиды влили в горло единственному представителю гарнизона Али-Масджида рому и подняли его, чтобы он смог отвечать подошедшему политическому офицеру.
— Кто ты? — спросил офицер на фарси, а затем на пушту.
— Ты хорошо говоришь по-нашему, — прохрипел афганец. — Только кто с вами будет разговаривать…
— Так кто же ты? — англичанин предпочел пропустить мимо ушей дерзость раненого.
— Солдат эмира Шер Али-хана, — с трудом ответил старик, кашляя и сплевывая кровь. — Ахмед, Махмуд, Омар — называй, как хочешь!
— А где остальные?
— Ушли. Вы думали, что окружили нас. Но мы в родных горах…
— Бежали, значит.
— Почему бежали? Вон дорога на Пешбулак, — афганец показал в правую сторону. — У нас кончились патроны и снаряды. Файз Мухаммад велел взорвать пушки, взять ружья и уйти. Еще будем сражаться…
— А тебя бросили?
— Почему бросили? — старик снова ответил вопросом на вопрос. — Я умираю. Зачем меня тащить.
— Чего же ты вцепился в мушкет, если умираешь?
На лице раненого появилось подобие улыбки:
— Я его взял давным-давно у инглизи недалеко отсюда. Он вчера славно послужил…
Неожиданно изловчившись, афганец выхватил у стоявшего рядом усатого джемадара из-за пояса кинжал и всадил его в грудь британского офицера. Тот беззвучно упал на землю. Истратив последние силы, на него рухнул старик, и тотчас же ему в спину воткнулось несколько ножей взвывших от ярости гидов. Афганец дернулся два-три раза и затих, перевалившись на бок…
Головная колонна Кандагарской группы войск, возглавляемая генералом Биддёльфом, также пришла в движение 21 ноября и через неделю, не встретив сопротивления, вступила в Пишинскую долину на территории Афганистана. Затем была сделана оперативная пауза: до 8 декабря подтягивались основные силы, проводилась разведка перед тем, как вступить в извилистый Ходжакский проход. К середине декабря сюда прибыл сам Стюарт. Его солдаты буквально наводнили узкую извилистую дорогу, ведущую через Ходжа-Амранские горы, и Стюарт с тревогой думал о том, сколько хлопот мог бы причинить наступающим «этот азиат Шер Али-хан», если бы лучше подготовился к войне и хотя бы небольшими отрядами перекрыл горные теснины. А так вся забота генерала и его подчиненных сводилась к прокладке путей для артиллерии и обозов, обеспечению коммуникационных линий для снабжения продвигавшихся к Кандагару дивизий.
Наконец, третья группа войск — Куррамская. Ее командующий, генерал Фредерик Робертс, едва дождался сигнала о начале похода. Горделиво покачиваясь в седле, генерал с чувством удовлетворения выслушивал донесения разведчиков. Еще бы, они гласили, что афганские солдаты, охранявшие важный перевал Пейвар-Котал, в панике бежали, узнав о приближении противника, и даже бросили все свои 12 пушек. Особенно Робертс был доволен тем, что его лазутчики точно установили количество оставленных орудий. 28 ноября по его приказу к перевалу направились колонны бригадных генералов Кобба и Телуолла — пехотные полки и кавалерийские эскадроны, горная артиллерия на слонах и мулах. Однако, к великой досаде командующего, по этим частям неожиданно был открыт меткий огонь: защитники перевала не только не оставили свои позиции, но еще лучше укрепили их.
Разрывы афганских снарядов вызвали изрядное замешательство среди британских солдат и разрушили надежды Робертса на триумфальное шествие к Кабулу. Вместо этого он был вынужден потратить несколько дней для подготовки охватывающего движения, а затем — пробираться по лесистым горным склонам, чтобы убедиться в организованном отступлении солдат Шер Али-хана под натиском значительно превосходящих их — численно и технически — англичан. Лишь 2 декабря, потеряв до ста человек убитыми и ранеными, генерал смог утвердиться на перевале.
Менее успешной оказалась попытка Робертса провести разведку лежащей за Пейваром местности Харьяб. Направленная им для этой цели бригада подверглась непрерывным нападениям воинов племени мангал и вернулась почти ни с чем.
Так завершался 1878 год. Поддерживаемый из Лондона, «поэт в Симле» вонзил в тело Афганистана три отравленных ножа: несмотря на отдельные неудачи, британские войска приближались к древнему Кандагару и Джелалабаду, заняли Куррамскую долину. Над Кабулом нависла смертельная угроза.
Британское вторжение должно было показать — не могло не показать! — несговорчивому эмиру, какую бездну тот вырыл перед собой, отказываясь удовлетворить справедливые требования правительства ее величества королевы Великобритании и императрицы Индии.
Однако его реакция оказалась неожиданной…
Глава 8 СМЕРТЬ ЭМИРА
Кое-как примостившись у оконца, затянутого промасленной бумагой, и поминутно обогревая дыханием зябнущие пальцы, Бендерский записывал в дневник: «1-е, или по-западному — 13-е, декабря. Жители местностей, где развернулись военные действия, в значительном числе выселились в Кабул. Здесь они ищут спасения от огня и меча „красных мундиров“, но находят ту же смерть, что ожидала их у домашнего очага. Наплыв пришлого населения в столицу тотчас же вызвал повышение цен на все жизненные продукты. К концу ноября дороговизна дошла до крайности. Съестные припасы порой нельзя достать ни за какие деньги. Наступил голод…»
Заскрипела дверь. Ворвавшийся в комнату поток холодного воздуха ударил по ногам. Раздался басовитый голос генерала Разгонова:
— Оторвитесь от своей летописи, Николай Александрович! Эмир приглашает нас к себе.
— Сию минуту, Николай Иосифович. Завершу лишь мысль, — откликнулся топограф и своим аккуратным почерком вывел еще несколько строк:
«Вслед за голодом явились его обычные спутники — эпидемии, повальные болезни. В городе страшно развился тиф. На улицах и базарах валяются неприбранные трупы, которых не хоронят долгое время. Нарастает недовольство…»
— Бросайте, бросайте! — поторопил генерал и, не дожидаясь, вышел наружу. Захлопнув дневник, за ним поспешил Бендерский.
— Важные новости? — догнал он Разгонова.
— По всей видимости… Подняли голову сторонники Якуб-хана. Ропщут купцы, которых обложили военным налогом. Хорошо обученных и снаряженных войск нет. Кто остановит англичан? Положение чрезвычайно сложное! — бросал генерал отрывистые фразы. Разгонов помолчал и, понизив голос, добавил:
— Эмир отправил свою многочисленную родню на север. Вам это о чем-нибудь говорит?
В тронном зале дворца уже собралось немало людей, когда туда пришли члены русской миссии. Вдоль стен в халатах и шубах стояли придворные и вожди племен. Все они оставили обувь в передней. Голову каждого обязательно покрывала чалма или коническая мерлушковая шапка — кулох, а двое чуть ли не на уши натянули даже английские каски. В центре зала сидел на троне Шер Али-хан. Рядом с ним стоял очень похожий на эмира чернявый человек с растерянным лицом, в богатом халате, а поодаль — везир и казий.
Легкое дрожание рук правителя могло служить признаком владевшего им внутреннего волнения, но взгляд не выдавал этого, а голос его был тих и спокоен:
— Братья! Вы знаете, что инглизи напали на нас, хотя мы стремились к миру. У них много солдат, много пушек. Храбрые воины данного нам богом государства отбивают натиск врага, но он упорно продвигается вперед…
Эмир сделал паузу.
— Инглизи заявляют, что весь их спор — со мной, не с нашим народом. Хорошо! Мы решили обратиться к ним с посланием. Читай! — махнул он рукой везиру.
Тот выступил вперед и, огладив бороду, поднес к глазам бумажный свиток. Затем откашлялся и звучно, несколько нараспев, прочел по-персидски: «Да будет известно сердцам дальновидных сановников британского правительства, что я никогда не желал вражды и не прерывал связь дружбы и обхожденья, которая существовала ряд лет между нашими соседними странами…»
Переводчик миссии подпоручик Назиров изложил Разгонову и Бендерскому по-русски произнесенное везиром, который между тем продолжал: «Но так как с вашей стороны последовала война и вторжение на афганскую землю, я по совету своих приближенных, высокопоставленных особ двора и армии Афганистана, оставив все свое войско и государство, с несколькими знатными лицами отправляюсь в столицу императора Российского Петербург и там, в Петербурге, надеюсь созвать конгресс, чтобы сущность наших отношений сделать известной всем другим правительствам…»
Малевинский стал переспрашивать Назирова:
— Конгресс? Он действительно так сказал? Разве здесь знают это слово?
— Оставьте свои лингвистические изыскания! — бросил генерал. — Слушайте лучше, как все оборачивается…
«…Если вы в связи с афганскими делами, — лилась дальше персидская речь, — имеете претензии ко мне, рабу Аллаха, то сможете высказать их в Петербурге, как и выразить все свои намерения, дабы они стали известны и ясны представителям иных государств.
Если же в действительности вы питаете вражду к народу Афганистана, то знайте, что у него есть истинный хранитель и защитник — Аллах.
Это мое намерение и решение неизменно. Джума 18 зу-ль-хиджа 1295 года, что соответствует пятнице 13 декабря 1878 года».
Наступила гробовая тишина. Молчание прервал Шер Алихан:
— Этим посланием мы проверим искренность инглизи: ведь они говорят, что воюют против меня. Теперь мы назначаем нашего сына Мухаммада Якуб-хана правителем Кабула и начальником войск на восточной границе государства. Кажется, к нему дорогие соседи не предъявляют никаких требований…
Чернявый человек близ трона — это и был Мухаммад Якуб-хан — приложил обе руки к груди и поклонился. Сначала — Шер Али-хану, затем — окружающим. При последних словах отца, прозвучавших несколько иронически, он почему-то смутился.
— Казий приведет его к присяге, — распорядился правитель.
На смену отступившему в сторону везиру вышел низенький и толстый Абдул Кадыр-хан с Кораном в руках. Подпоясывавший его кушак развязался и упал, полы дорогого парчового халата широко развевались, но казий не обращал на это никакого внимания: он был весь поглощен значительностью момента. Якуб-хан положил руку на Коран и повторил за ним:
— Клянусь Аллахом и священной книгой честно и до конца дней служить своему народу и поставленному над ним богом эмиру!
Не успели отзвучать эти слова, как Шер Али-хан повернулся к Разгонову:
— Что скажет джарнейль, мы приняли правильное решение?
Генерал ответил не сразу. Он с тревогой взглянул на членов миссии, но затем уверенно сказал:
— Да, ваше высочество. На дружеской земле вашему высочеству будет оказана необходимая поддержка…
— Итак, собирайтесь в путь!
…Когда члены русской миссии укладывали вещи, Малевинский вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул:
— Уразумел! Уразумел, откуда тут появилось это слово — «конгресс». Ведь казий читает эмиру английские газеты. А в них последние месяцы десятки раз упоминался Берлинский конгресс. Вот Шер Али-хану и пришла в голову мысль о созыве нового конгресса. Смотрите-ка, он разбирается в международном праве!
— Господи, далась вам эта фразеология, — досадливо отмахнулся Разгонов. — Постарайтесь лучше побыстрее упаковаться. Поможет ему международное право, как же!
Генерал Разгонов нервничал: ему пришлось дать правителю важные заверения и тем самым принять на себя серьезную ответственность. А все этот не ко времени пришедшийся конгресс в Берлине… Петербург был крайне заинтересован в быстрейшем прекращении военных действий против Афганистана, а приезд эмира на русскую территорию может подлить масла в огонь и дать лондонскому кабинету желанный предлог для дальнейшего разжигания конфликта. Положение обострялось, между тем Разгонов пока не видел выхода.
Укладка багажа заняла не слишком много времени. Русская миссия была уже готова к выступлению, но около полуночи внезапно явился везир, снова приглашая генерала с переводчиком во дворец.
Шер Али-хан полулежал на устланном коврами возвышении в небольшой, хорошо освещенной многочисленными светильниками комнате, примыкавшей к тронному залу. Перед ним стоял плотный темноглазый человек. В его густой черной бороде будто искорками сверкала седина. У незнакомца был усталый вид, а изрядно запачканные башмаки и шаровары, перевязанные у щиколоток, давали основание предположить, что он прибыл издалека и так спешил, что не успел привести себя в порядок.
— Плохи дела, джарнейль! — повернулся эмир к Разгонову. — Вот кефтан Файз Мухаммад, комендант Али-Масджида. Только что приехал из-под Джелалабада. Говорит, что инглизи не сегодня-завтра займут город…
Кефтан с любопытством взглянул на русского, приложил правую руку к груди и поклонился. Разгонов ответил тем же и спросил его:
— Что, остановить их нельзя?
Назиров перевел вопрос на фарси. Файз Мухаммад помолчал, а затем, медленно роняя фразы, разъяснил:
— Было бы не так уж трудно… Сарбазы у них неважные. Трусливы. Но обучены они лучше наших. А главное — имеют намного больше пушек и снарядов. Да и хороших ружей. Но старые пушки Али-Масджида, которыми командовал Мухаммад Джан Вардак, причинили инглизи немало хлопот.
Эмир слушал с напряженным вниманием:
— Ну, а как наш народ?
Кефтан хмуро усмехнулся:
— Народ что! Народ сражается. Порой почти голыми руками. А вот некоторые сардары готовы продаться инглизи, если их не тронут и хорошо им заплатят. И отряды свои уведут…
Шер Али-хан в ярости вскочил на ноги:
— Я больше опасаюсь золота инглизи, чем их оружия! Еще есть люди — их даже стыдно называть афганцами, — для которых мелкие обиды выше интересов родины.
— Таким давно следовало отрубить головы, — презрительно бросил кефтан.
— Ну-ка, узнайте, как он считает, далеко ли удастся англичанам продвинуться? — приказал Назирову генерал.
Файз Мухаммад переглянулся с эмиром: видимо, эта тема уже обсуждалась ими.
— Все перевалы и горные проходы забиты снегом. Я добрался с трудом. Пушкам, большим обозам дороги нет. Далеко за Джелалабад инглизи пока не пройдут. На юге — тоже. Скорее всего, будут ждать весны, чтобы идти к Кабулу…
— Да, это так! — кивнул Шер Али-хан. — Ты, кефтан, возвращайся на позиции. Передай Мухаммад Джану Вардаку, что я произвожу его в джарнейли. Постарайтесь наладить сопротивление. Места тебе знакомы. Сможете отбить врага, получишь награду. Ну, а если отступите, будь при Якуб-хане: большой надежды на него нет… Нам же надо перебраться на север, чтобы поднимать всю страну против рыжих дьяволов и просить другие государства о поддержке. Верно я говорю, джарнейль?
И снова Разгонову пришлось согласиться, хотя он отдавал себе отчет в том, что Афганистан вряд ли мог рассчитывать на существенную помощь в борьбе против могущественной Великобритании.
В 3 часа ночи эмир выехал из Бала-Хиссара. Генерал с остальными членами миссии присоединился к его кортежу за городом. Путешествие зимой по афганским землям, да еще с вьючными животными, нагруженными всевозможной кладью, не доставляло большого удовольствия. На ночлег располагались в изредка попадавшихся по дороге поселках. Однако глинобитные хижины не могли вместить и половины желающих. Поэтому приходилось ставить палатки. Хорошо еще, что зима выдалась относительно мягкой…
Туго было и с едой: совсем недавно этим же путем проследовало на север семейство эмира со всеми родственниками и прислугой. Огромный обоз, в который входило более трех тысяч верблюдов и лошадей, ослов и мулов, а также десяток могучих слонов, охранял крупный военный отряд. Взятых с собой продуктов и фуража не хватало, приходилось истреблять скудные запасы продовольствия, какими располагали попутные селения.
Эмир со свитой и немалой вооруженной охраной преодолел ряд горных перевалов, в том числе Унай, затем с неимоверными усилиями прошел скользкими тропами через заснеженный хребет Кухе-Баба. Лишь 22 декабря удалось добраться до Бамиана.
Выбравшись наконец из цепких объятий Гиндукуша и его отрогов, длинная процессия начала спускаться в долину Амударьи. Дорога улучшилась, все повеселели, продвижение ускорилось, и к концу декабря находившийся в авангарде военный отряд принялся разбивать лагерь близ Ташкургана, относительно крупного для этих мест города.
Здесь на холме возвышалась цитадель. Она была воздвигнута, чтобы контролировать окружающую область, присоединенную к Афганскому государству сравнительно недавно, в конце правления Дост Мухаммад-хана. Крепость полукругом обтекали тесно прижавшиеся друг к другу одноэтажные, крайне редко — двухэтажные глиняные дома с куполообразной кровлей, окруженные дувалами. За ними виднелись голые в эту пору ветви деревьев. Узкие улочки, с бесчисленными переулками и закоулками, поворотами и тупичками, выводили к обширному базару на берегу речки Хульм. Тут всегда царило оживление. Наряду с коренными жителями — таджиками, узбеками из родов каттаган и минг, можно было встретить афганцев — чиновников и военных, торговцев-персов с диковинным товаром, туркмен, проявлявших интерес преимущественно к лошадям и конской сбруе, евреев и индусов — менял и ростовщиков, хазарейцев, прикочевавших к Ташкургану, чтобы выменять продукты на предметы своего нехитрого хозяйства.
К приезду эмира город принял более опрятный вид. Шер Али-хан не захотел остановиться в цитадели. Отклонил он и предложения знатных ташкурганцев разместиться в их домах. Помещения цитадели выглядели уж очень неуютно, почти по-тюремному, а воспользоваться чьим-либо гостеприимством мешало представление о том, что это умалит его достоинство. Он, державный и неограниченный правитель, вынужден в собственной стране искать пристанища у кого-то из своих подданных?!
Именно поэтому на юго-западной окраине Ташкургана возник палаточный городок с четко распланированными улицами и кварталами. Посреди лагеря возвышался огромный белый шатер эмира с коническим верхом. Во всех его четырех стенах были проделаны окна, а двери закрывались двойными портьерами.
Пол устилали туркменские и хорасанские ковры. Вместо трона было приготовлено небольшое возвышение, покрытое красочным ковром кашгарской работы, на котором лежала тигровая шкура с двумя жесткими цилиндрическими подушками — чем-то вроде подлокотников — по бокам.
Вокруг палатки были установлены пикеты, и четыре сарбаза в синих мундирах и мохнатых шапках с белыми нашивками в виде полумесяца мерно шагали взад-вперед с ружьями «на плечо». Неподалеку находились шатры, в которых расположилась часть эмирского гарема, везир, казий и другие приближенные.
С прибытием двора Ташкурган зажил полувоенной жизнью. Утром, в 7 часов, раздавался пушечный выстрел — побудка! Появлялся оркестр, исполнявший персидский марш. Все это повторялось в полдень и в 6 часов вечера — в момент отбоя. Иногда выстрелы и звуки оркестра доносились в неурочное время, означая, что Шер Али-хан со свитой выехал на прогулку или на охоту — соколиную либо с борзыми. Подобные развлечения, однако, эмир позволял себе не часто.
В Ташкургане Шер Али-хан решил провести несколько дней, чтобы отдохнуть перед въездом в главный город провинции — находящийся в тридцати восьми милях Мазари-Шариф.
Была еще одна причина для задержки — в ней Шер Али-хан не хотел признаваться даже самому себе — это скверное состояние его духа и плоти. То ли сказались трудности пути, то ли постоянная напряженность последних двух лет, когда полностью проявилось желание инглизи задушить его в своих дружеских объятиях… Пятьдесят восемь прожитых лет были так насыщены событиями — и не всегда радостными, — что другому их хватило бы не на одну жизнь. А впереди еще сутолока и суматоха, ожидающая его в Мазари-Шарифе среди бесчисленного семейства!
И Шер Али-хан со дня на день откладывал свой отъезд.
Тревожило лишь, что эта оттяжка может задержать поездку в Россию, а инглизи тем временем займут весь Афганистан. Но по мере приближения его кортежа к Амударье — границе священной Бухары и лежащих за ней земель урусов, эмир все отчетливее чувствовал, что его сил вряд ли хватит для поездки в далекий Петербург: ведь до него, как говорили сведущие люди, нужно было добираться немало недель, а то и месяцев!..
Его здоровье ухудшалось. Слабость в некогда крепком теле, болезненные ощущения в горле, боли в ногах. А от табибов, лекарей, мало толку. Даже от самого знающего среди них, носившего почетный титул ахуна, ученого.
Поэтому Шер Али-хан обрадовался, узнав, что врач Яворский, снова включенный генералом Кауфманом в состав русской миссии, ожидает в Мазари-Шарифе ее прибытия. За Яворским был послан гонец, и 7 января доктор вместе с коллегами был приглашен к эмиру.
Афганский правитель выглядел усталым, осунувшимся, и даже природная смуглость не могла скрыть от окружающих нездоровый цвет его лица.
— Я не видел эмира четыре месяца, — шепнул Яворский Бендерскому. — За это время он постарел по крайней мере лет на десять. Поседел, одряхлел…
— Да, ему пришлось нелегко, — кивнул топограф.
— О чем вы шепчетесь, мой дорогой табиб? — обратился к ним со своего импровизированного престола Шер Али-хан. — Лучше скажите нам, как здоровье высокого и достопочтенного джарнейля Кауфмана.
Яворский выступил вперед с поклоном:
— Господин туркестанский генерал-губернатор шлет сердечный салам вашему высочеству и выражает сочувствие в связи с обрушившимся на вашу страну несчастьем.
— Спасибо за сочувствие! Хорошо было бы, если бы его передали пришедшие нам на помощь 15–20 тысяч солдат-урусов, — откликнулся эмир, и на губах его появилась грустная улыбка.
Такого характера темы входили в компетенцию не врача, а главы миссии. Поэтому откликнулся Разгонов:
— Ваше высочество, конечно, отлично понимает, что в зимних условиях, когда горные перевалы почти непроходимы, трудно двинуть такую массу войск…
— Понимать-то мы все хорошо понимаем. Но нашему народу от этого не легче. А вы знаете, — обратился эмир к собравшимся с неожиданным вопросом, — что нам всем едва не пришлось повернуть обратно, в столицу?
Раздались недоуменные возгласы.
— Да-да! — улыбнулся правитель. — После того как мы выехали из Айбака, незадолго до прибытия в Ташкурган, к нам явился некий Мирза Абдухалим. Он назвал себя афганцем, служившим у инглизи в Пешаваре и бежавшим оттуда после их нападения на богом данное нам государство. Этот Мирза Абдухалим заявил, что он в большой тревоге по поводу наших намерений созвать конгресс для обсуждения афганских дел. Он сказал, что это еще больше раздразнит инглизи, и умолял возвратиться в Кабул.
— И чем дело кончилось? — спросил Разгонов.
— Мы его выгнали и велели наблюдать за ним. А вчера пришел везир и сказал, что этот пешаварец втихомолку предлагал ему сто тысяч рупий, если удастся убедить нас отказаться от поездки в Россию, и еще столько же, если мы вернемся в столицу… Мы велели казнить подлеца, и перед смертью Мирза Абдухалим, или как там его зовут по-настоящему, признался, что был послан миджаром Камнари. Инглизи хотят захватить нас — в этом нет сомнений!
Шер Али-хан глубоко вздохнул, прижал к горлу ладони и сделал продолжительную паузу. Никто не осмелился нарушить тишину.
— Перед войной инглизи всячески старались задобрить нас, чтобы привлечь на свою сторону. Они предлагали деньги, оружие, обещали увеличить наши владения, но мы отклонили эти посулы, — медленно говорил правитель. — Нам прекрасно известно, что означают обещания и подарки инглизи: судьба индийских владетелей — султанов и раджей — слишком поучительна и очевидна. Размышлениями о ней пренебрегать нельзя…
Снова последовала большая пауза, а затем эмир тихо промолвил, почти прошептал:
— Трудно говорить…
Яворский вновь выдвинулся вперед:
— Надеюсь, что не будет сочтено излишней смелостью с моей стороны, если я попрошу разрешения оказать вашему высочеству медицинскую помощь?
— Я бы предпочел военную, — с трудом улыбнулся Шер Али-хан. — Но согласен и на такую, — добавил он.
Под недоверчивыми взорами казия и везира врач осмотрел горло правителя и легко определил у него хронический катар глотки и гортани.
На следующий день Яворский посетил ставку, захватив пульверизатор для орошения горла. Эмир обсуждал со своими советниками весьма неприятные сообщения Якуб-бека из Кабула: инглизи захватили Джелалабад… Тем не менее он нашел время не только пройти сеанс лечения, но и обсудить с врачом устройство пульверизатора, а затем объяснил его приближенным.
— Нечего удивляться, если от такого тонкого способа лечения будет польза, — сделал вывод Шер Али-хан. — Иностранные доктора вообще лучше наших, ведь они и знают гораздо больше, чем наши, которые при всех болезнях пичкают одной и той же микстурой.
Собравшиеся в палатке выразили шумное одобрение этим словам, а казий даже проявил желание на себе испытать действие диковинного прибора. Ахун бросил исподтишка на Яворского злобный взгляд. Вскоре ахуну пришлось пережить еще одно унижение: эмир велел всем удалиться, чтобы побеседовать наедине с урус табибом. Шер Али-хан пожаловался врачу на то, что ему плохо подчиняется левая нога. Осмотрев ногу, Яворский не нашел никаких признаков болезни и счел, что речь идет о мышечном ревматизме.
— Прошу прощения, ваше высочество, но мне ничего не удалось установить, — выпрямился Яворский. — Возможно, для этого понадобятся более длительные наблюдения.
— Ну, хорошо, — махнул рукой Шер Али-хан. — Время у нас еще есть.
Увы, он не мог предполагать, что его время было уже отмерено…
В течение последних недель 1878 и в начале 1879 года британские войска настойчиво продвигались вперед. Однако расчеты английских политиков и полководцев на распад Афганского государства и прекращение сопротивления не оправдывались. Безымянный воин эмира Шер Али-хана, сражавшийся у Али-Масджида до последнего вздоха, был прав, предсказывая инглизи грядущие сражения.
Наступавшие через Хайберский проход полки и дивизии Брауна подвергались непрерывным нападениям афганцев — их нимало не смущало подавляющее численное и техническое превосходство врага. Легкие и маневренные отряды афганских племен причиняли много хлопот британским военачальникам, нанося удары по их войскам и коммуникациям в самых неожиданных местах.
С огромным напряжением англичане преодолели Хайберский проход, заняли Дакку, а 20 декабря 1878 года — и Джелалабад. Главный политический офицер Пешаварской группы войск майор Каваньяри был неутомим. Хотя это и не всегда входило в его непосредственные обязанности, он участвовал в карательных экспедициях и давал вполне компетентные советы по уничтожению селений и истреблению их жителей.
Вместе с тем многоопытные хозяева Индии и других заморских владений хорошо понимали, что одними репрессиями им не достичь поставленных задач. Поэтому, когда штаб 1-й дивизии расположился в Джелалабаде и оккупационные власти энергично принялись за строительство там нового форта, казарм, складов и улучшение дорог, они осуществили важное политическое мероприятие.
1 января 1879 года генерал Браун созвал торжественный дурбар. На него были приглашены вожди племен и прочие влиятельные лица. Среди них преобладали седобородые старцы — мужчин среднего, а тем более молодого возраста можно было пересчитать по пальцам. Обращаясь к собравшимся, вездесущий Каваньяри нарисовал картину могущества Британской империи и бессмысленности попыток Шер Али-хана сопротивляться ее действиям.
Упомянув о Шер Али-хане, он не назвал его эмиром, зато подчеркнул, что правительство ее величества королевы Великобритании и императрицы Индии не имеет никаких претензий к народу Афганистана. Все споры вызваны сумасбродством Шер Али-хана, который не в состоянии понять ни собственные интересы, ни интересы своей страны.
К тому времени стали распространяться неясные слухи об исчезновении эмира из Кабула, о его отъезде куда-то на север. Если к этому добавить, что приглашения на дурбар рассылались только после тщательного изучения настроений того или иного старейшины, которого после этого окружали предупредительностью и заботой и щедро одаривали, то незачем разъяснять, что генералу Брауну были весьма по праву речи некоторых вождей, высказывавших свое мнение по поводу выступления «миджара Камнари». А они выразили удовлетворение сменой властей и любезно предложили инглизи свои услуги.
Этому можно было только радоваться. Но — увы! — количество извещений о нападениях афганцев, поступавших в джелалабадский штаб от начальников гарнизонов по всей линии до Джамруда, почти не сократилось. Везде солдаты и офицеры Пешаварского отряда находились в состоянии полной боевой готовности, не зная, с какой стороны ожидать атаки, откуда на них посыплются пули.
Генерал-лейтенант сэр Сэмюэл Браун, двинувшийся, по его собственному выражению, на «легкую и увлекательную охоту», сам оказался в положении обложенного охотниками зверя. Непрерывно отбиваясь от наседавшего противника, он за три-четыре месяца сидения в Джелалабаде смог предпринять лишь одну, да и то не очень значительную военную операцию.
В конце марта — начале апреля 1879 года Браун направил крупный отряд во главе с бригадным генералом Гоу для захвата селения Гандамак, находившегося в тридцати милях к западу на кабульской дороге. В упорном сражении с воинами племени дуррани Гоу, которого сопровождал Каваньяри, в конце концов 6 апреля добрался до Гандамака и закрепился в селении. Это был самый западный рубеж продвижения Пешаварской группы.
Политическое воздействие понадобилось и в Куррамской долине. 26 декабря в форту Куррам, куда была переведена штаб-квартира Куррамской группы войск, состоялся дурбар с участием вождей, ханов и старшин долины и соседних округов. Робертс объявил на нем, что власть эмира ликвидирована здесь навсегда: британское правительство аннексирует эти земли, а их население приобретает в качестве своего суверена императрицу Индии. Дурбар прошел при гробовом молчании приглашенных; они так и разошлись, не проронив ни единого слова…
Разъяренный генерал решил на деле показать жителям, кто является хозяином в этих краях. В начале января он предпринял военную экспедицию в селение Матун. Англичане заняли форт Матун, не встретив сопротивления. Однако Робертс жаждал стычек, столкновений, воинских трофеев, подвигов. Уже на пути к селению он приходил во все более возбужденное состояние, вызванное складывавшейся обстановкой. Британский военный историк — современник событий довольно откровенно описывал ее следующим образом: «Поначалу колонна не встречала противодействия, хотя имелись нежелательные признаки того, что ее присутствие в долине было непрошеным. Некоторые наиболее влиятельные старейшины отказывались явиться, чтобы выразить свое уважение, пока за ними не посылали, тогда как другие, встреченные на дороге, просили разрешения удалиться еще до того, как они должны были войти в [английский] лагерь».
Между тем командующий Куррамской группой войск всем своим поведением — и вызовом вождей «для выражения ему уважения», которого они не питали, и мародерством подчиненных, и многим другим — пытался спровоцировать какой-либо инцидент, чтобы использовать его для «решительных действий». Поэтому Робертс с восторгом потер руки, когда ему донесли, что вокруг лагеря собираются толпы возбужденных крестьян племени мангал: с ними он давно намеревался рассчитаться за «неуважение».
И, развернув пушки, опытный и храбрый генерал бросил вперед конницу под начальством полковника Гоу, поддержанную шестью ротами 28-го полка туземной пехоты и 2-й горной батареей. Гоу блистательно справился с заданием. Его всадники, дорогу которым прокладывали орудия, лихо врезались в толпу людей, вооруженных преимущественно палками, ножами и пиками, и погнали их к холмам и предгорьям. Мерно шествовавшие за кавалерией пехотинцы добивали лежавших на земле афганцев, а горная батарея переносила огонь все дальше и дальше, уничтожая крестьян, надеявшихся укрыться в скалах.
Теперь наступила очередь другого полковника, Бэрри Дрю. По приказу Робертса он возглавил отряд из солдат 21-го полка туземной пехоты, 72-го полка горцев и артиллеристов 1-й горной батареи. Поскольку у генерала и его свиты сложилось впечатление, что из некоторых домов стреляли по английским войскам, отряду было приказано уничтожать окрестные селения. Когда же обезумевшие от отчаяния крестьяне собрались на краю одной из деревень, горестно наблюдая, как полыхают их жилища и жалкий скарб, эскадрон 5-го полка Пенджабской кавалерии налетел на них и уложил еще человек двадцать.
Под покровом наступившей темноты нескольким пленным и заложникам удалось бежать. Чтобы воспрепятствовать дальнейшим побегам, охрана открыла стрельбу по остальным, убив восьмерых. Раненых не считали: разве разглядишь ночью!
Все это называлось «лекцией, прочитанной туземцам 7 января». 26 января, проведя ряд рекогносцировок местности и поставив в крупных селениях старшинами лиц, на которых можно было положиться, Фредерик Робертс двинулся с отрядом в Куррамскую долину, к основным силам. Генерал почувствовал наконец некоторое удовлетворение: солдаты и офицеры неплохо потренировались; в ряде районов был «показан британский флаг»; разведаны кратчайшие пути к Кабулу, особенно через перевал Шутургардан; в форту Матун посажен преданный Великобритании Шахзаде Султанджан с группой сторонников…
Удовлетворение, однако, было недолговечным. По крайней мере, в одном пункте. Урок, преподанный племени мангал, впрок не пошел. Стоило генералу с его колонной двинуться в обратный путь и проделать каких-нибудь двенадцать миль, как из Матуна поступили тревожные вести о том, что к форту стекаются со всех концов афганцы. И это уже не беспомощные крестьяне, а хорошо вооруженные многочисленные воины.
Робертс не стал испытывать судьбу. Он срочно прибыл в Матун, отправил Шахзаде и его прислужников в свой обоз, поджег склады снаряжения и зерна и ускакал, отбиваясь от наседавших афганцев, которые уже почти окружили форт.
Когда Робертс вернулся в Куррамскую долину, ему доложили, что остававшиеся там части заняты укреплением позиций. Обстановка была крайне напряженной. Местное население относилось к пришельцам чрезвычайно враждебно, и ни о каких контактах не могло быть и речи. А те офицеры и солдаты, которые все же рисковали покинуть пределы фортов и лагерей в поисках развлечений, далеко не всегда благополучно возвращались назад.
Поход на Кандагар оказался наименее трудным. Вблизи города, правда, двум эскадронам 15-го гусарского полка и подразделению 1-го полка пенджабской кавалерии под начальством майора Лака пришлось выдержать схватку с афганскими всадниками, а полковнику Кеннеди довелось даже выдвинуть пушки, чтобы отогнать большую группу конных афганцев, но в масштабе происходивших событий это были настолько незначительные стычки, что даже штабные летописцы смогли растянуть их описание всего на несколько страниц!
8 января 1879 года, в 3 часа 30 минут пополудни, генерал Дональд Стюарт со своим штабом и эскортом достиг Шикарпурских ворот старой столицы Афганистана. 1-я пехотная бригада продефилировала торжественным маршем по улицам города и, выйдя через Кабульские ворота, разбила лагерь на дороге, ведущей к новой столице. Англичане очень сожалели, что жители Кандагара апатично отнеслись к яркому и захватывающему зрелищу, какое являло церемониальное шествие бригады. За исключением нескольких представителей индийской общины, приветствовавших своих соплеменников в военной форме, кандагарцы игнорировали приход армии Стюарта. «Почти все лавочники продолжали торговать, а ремесленники занимались своим делом, как если бы ничего необычного не произошло», — меланхолически заметили британские историографы.
Теперь Кандагарское полевое войско было разделено на две части. 1-ю дивизию сам Стюарт повел на Калати-Гильзаи, городок, лежавший в восьмидесяти четырех милях на дороге в Газни и Кабул. Овладев им 20 января и оставив там гарнизон, генерал вернулся в Кандагар. 2-я дивизия во главе с Биддёльфом занялась разведкой в направлении реки Гильменд и города Гиришк, находившегося в восьмидесяти милях от Герата. Эти походы должны были способствовать всестороннему изучению афганских земель в военно-политических интересах Британской империи. Но если Стюарт смог провести свой маневр без особых осложнений, то его младшему коллеге Майклу Биддёльфу за селением Кушки-Нахуд, близ переправы через Гильменд, пришлось отразить ожесточенную атаку воинов племени ализай.
Наклонив пики с трепещущими на ветру алыми флажками, ализайские всадники нанесли удар по центру и левому флангу англичан. Он был отбит с большим трудом — выручила артиллерия. Биддёльф, понеся потери убитыми и ранеными, решил не искушать судьбу: повернул обратно, к Кандагару.
…Прошел ровно месяц с тех пор, как Бендерский записал в дневнике: «1-е, или по-западному — 13-е, декабря». Как ни оттягивал томимый неведомыми предчувствиями Шер Али-хан переезд в Мазари-Шариф, утром 13 января он приказал двинуться дальше. Тут же весь лагерь пришел в движение: свертывались палатки, строились войска. Последним был снят и погружен на трех мулов белый конус эмирского шатра. Оркестр заиграл походный марш, дробью и гулом откликнулись барабаны, со стен цитадели рявкнули пушки — правитель выехал.
Шер Али-хан следовал за эскадронами верхом на высокой лошади местной породы каттагани. Под ним было английское седло, покрытое темным бархатом с золототкаными узорами, а поверх него — вальтрап, чепрак из меха черного бадахшанского медведя. Уздечка была украшена золотыми пластинками, стремена отделаны серебром и эмалью. На эмире был его обычный темный мерлушковый кулох, легкая меховая шуба, надетая поверх куртки с шалевым воротником, и шаровары со штрипками для верховой езды. Из-под шубы виднелся золоченый пояс с висящей на нем изящной кабульской шашкой.
Правителя и окружавшую его группу приближенных широким кольцом охватывал отряд телохранителей. Несколько сзади в сопровождении казаков и афганских всадников ехало русское посольство. За ним двигался обоз, также охраняемый конницей. Замыкали шествие пехотинцы. Впрочем, батальонные и эскадронные значки мало соответствовали наличному составу войск. И батальоны и эскадроны не были укомплектованы полностью: Шер Али-хан надеялся, что Кабул удастся отстоять, и оставил для его защиты дополнительные силы, сократив свою лейб-гвардию.
Понятие о достоинстве эмира и правила восточного этикета предписывали не проявлять излишней поспешности при передвижении. В первый день было пройдено около пяти миль. Для стоянки избрали пустынное урочище около селения Гульджатай. Здесь эмира настиг посланец из столицы. Якуб-хан сообщал, что инглизи, заняв Джелалабад, не продвигаются дальше, но на юге приблизились к Кандагару и город вот-вот падет.
«Инглизи обратились ко мне как к наибу Кабула, приглашая прибыть в Джелалабад для мирных переговоров, — писал далее Якуб-хан. — Однако, поскольку вы, опора Аллаха на земле, не поручали своему сыну и покорному слуге вести переговоры с врагами отечества, им был послан меч отказа и кольцо надежды — в виде совета обратиться с этим к вашей милости и мудрости…»
Подтверждая сказанное, Якуб-хан прислал копию своего ответа англичанам, завершавшегося словами: «А так как наш отец, мудрый глава народов Афганистана, поставил ныне ногу в стремя поездки в Петербург, то и вам следует обратиться туда со своими предложениями».
Шер Али-хан не без внутреннего волнения ожидал, когда вскроют зловещие послания из столицы, скрепленные миндалевидной печаткой сына. Известия и вправду оказались неприятны, но не настолько, как этого можно было ожидать. Инглизи, видимо, опасаются забираться зимой в глубь страны. А Якуб-хан, несмотря на свои старые грехи, не поддается их нажиму и посулам… Это уже хорошо. Но с приближением тепла враги возобновят наступление — он знал упрямую настойчивость инглизи в достижении своих целей. А в том, что они стремятся захватить Афганистан и превратить его правителя в бессловесную куклу, наподобие какого-нибудь низама или махараджи, эмир не сомневался.
Сомневался он, к великому своему прискорбию, в другом — в твердости Якуб-хана. Надолго ли хватит у него решимости отвергать льстивые заигрывания хитрых и наглых соседей, войска которых уже топчут афганские земли. «Наиб Кабула»… А как он себя поведет, когда к нему обратятся иначе, скажем, «эмир Афганистана»?! Достанет ли ума разобраться в том, что кроется за сладкими речами и золотом инглизи?.. Нет, нельзя допускать и мысли о недомогании, надо вернуть былую энергию и торопиться, торопиться!
15 января, после остановки в Наибабаде, кортеж прибыл в Гуримар. Погода резко ухудшилась. Ночью лил сильный дождь. К утру очень похолодало. Тяжелые свинцовые облака неудержимо мчались с запада на восток, закрыв непроницаемым покровом северные отроги Гиндукуша. Стремительный ветер нес тучи рыхлого снега, слепившего глаза путникам.
Быть может, из-за похолодания у Шер Али-хана не на шутку разболелась левая нога. О езде верхом не стоило и помышлять. Эмир пересел в крытые носилки. То была целая беседка, пестро раскрашенная, высотой около шести футов, с двумя дверцами по бокам, с занавешенными стеклянными оконцами и суживающейся кверху крышей, увенчанной позолоченным шаром. Внутри этого паланкина, отделанного атласом, можно было лежать. За прикрепленные к нему длинные брусья одновременно брались до сорока носильщиков из особой дружины скороходов. Менялись они каждые четверть часа.
Отдохнув в паланкине, правитель перебрался на слона, высланного для него губернатором провинции Чар-Вилоят Хош Диль-ханом, и 17 января въехал в Мазари-Шариф. Встреча была торжественной. Во многих местах возвышались праздничные арки: верхушки шестов, установленных по обе стороны дороги, соединялись длинными широкими зелеными чалмами с прикрепленным к ним посредине Кораном. У таких ворот сидели муллы или дервиши, читавшие нараспев суры из священной книги.
Гремели пушечные залпы. Густой дым от выстрелов затянул всю дорогу, и из фантастического марева выплывали то слон с восседавшим на нем в плетеной корзине-хавдадже правителем, то свита, то войска. На одной из площадей у костра, желтоватое пламя которого трепетало над белой скатертью недавно выпавшего снега, два афганца с обнаженными саблями в руках плясали военный танец под музыку оркестра из бубна, двух флейт и гыжака, своеобразной скрипки.
Русской миссии был отведен дом, который она занимала на пути в Кабул. В Мазари-Шарифе ее ждал сюрприз: прибывший с письмом к Шер Али-хану есаул Булацель, адъютант генерала Кауфмана, передал членам посольства распоряжение вернуться на родину. Всем, кроме доктора Яворского, если афганский правитель будет нуждаться в его услугах.
Не успели Разгонов и его спутники прийти в себя с дороги, как их пригласили к эмиру. Он разместился во внутренних комнатах губернаторского дворца. Пройдя множество коридоров и двориков, где находилась охрана, приглашенные вошли в зал. Его обращенные на юг окна закрывались деревянными решетчатыми ставнями; в небольшие решетки-проемы были врезаны стеклянные квадраты. Снегопад сменился ясной погодой, и помещение заливали потоки солнечного света. На камине стояли бронзовые часы со светящимся циферблатом — подарок туркестанского генерал-губернатора. Камин не топился, и зал обогревался мангалом — жаровней с горячими углями.
Шер Али-хан, накинув на плечи шубу, сидел в кресле. Стулья для членов миссии стояли вдоль стен. Но выражению лица эмира можно было заключить, что он в хорошем настроении.
— Как себя чувствуют дорогие гости после нелегкого переезда? — спросил Шер Али-хан.
— Мы — люди привычные, — улыбнулся Разгонов. — К тому же нам скоро предстоит более далекое путешествие.
— Нам это известно, — сказал правитель и дал знак мирзе, который тут же удалился в соседнюю комнату. — Ярым-подшо сообщает об этом.
Члены посольства переглянулись: эмиру известно прозвище, данное Кауфману в Туркестане… Между тем горбоносый мирза с лукавыми, живыми глазами, сверкавшими из-под огромной чалмы, неслышно ступая необутыми, в одних чулках ногами, принес инкрустированную шкатулку. Затем он извлек из нее и прочел вслух послание туркестанского генерал-губернатора, написанное по-персидски: «Великий хазрет, государь император, желая помочь вашему высокостепенству в трудных обстоятельствах ваших, путем переговоров добился положительных заверений английских министров нашему послу в Лондоне о сохранении независимости Афганистана…»
Назиров перевел текст на русский язык.
«Что касается генерала Разгонова и лиц, при нем находящихся, то их необходимо теперь же отпустить. Если же ваше высокостепенство желаете иметь при себе нашего доктора Яворского, то я ничего не имею против этого; он будет полезен вам и всем вашим…»
— А вот самая последняя весть от джарнейля Кауфмана, — добавил эмир, и мирза прочел: «Министр иностранных дел князь Горчаков сообщил мне по телеграфу, что великому хазрету, государю императору, угодно было повелеть мне пригласить ваше высокостепенство в Ташкент…»
— Кажется, Аллах вспомнил о наших молитвах, — улыбнулся правитель. — Если ветры удачи начнут дуть в нашу сторону, то они разгонят обложившие нас тучи несчастий и страданий. Хотя мы лишь тогда избавимся от дьяволов опасений, когда инглизи прекратят враждебные действия и уведут войска с наших земель…
— Выходит, — произнес Разгонов, — мы можем и дальше следовать вместе с вашим высочеством.
— Так было бы лучше всего, если бы у нас опять не разболелась нога. Тысяча слов благодарности джарнейлю Кауфману за опытного табиба. Мы сегодня же воспользуемся его услугами.
Когда его соотечественники откланялись, Яворский снова осмотрел левую ногу эмира, но и на этот раз не обнаружил никаких симптомов заболевания. На всякий случай он смазал голень йодом.
Через несколько дней состоялась новая встреча правителя с Разгоновым и его спутниками. Шер Али-хан лежал на медвежьей шкуре, постеленной поверх тюфяка.
— Болит нога. Не знаю, смогу ли отправиться в Ташкент… — сказал он с грустью, едва успев обменяться приветствиями с гостями. — Урус табиб, наверное, считает меня капризным ребенком, но боль в ноге не дает покоя.
Все повернулись к Яворскому. Теперь он мог убедиться, что жалобы эмира имели основания: левая лодыжка и подколенная впадина опухли и были горячими; от прикосновения к ним больной стонал.
— Полагаю, что у вашего высочества суставной ревматизм.
Врач натер лодыжку мазью с хлороформом и поставил компресс. Чтобы ослабить болезненные ощущения, он предложил пациенту опиум, но тот категорически отказался принимать что-либо внутрь.
— Я нахожу, — добавил, подумав, доктор, — что путешествие в паланкине будет вполне спокойным для вашего высочества, а в Ташкенте несравненно больше средств лечения, чем в Мазари-Шарифе.
— Откровенно говоря, — откликнулся эмир, — не только нога нас беспокоит. Можем ли мы покинуть страну в таком положении?! Инглизи заняли Кандагар…
Находившиеся в зале везир и казий печально покачали головами.
— Вот так инглизи выполняют свои обещания, — продолжал Шер Али-хан. — Еще несколько месяцев подобного соблюдения независимости, и наши города один за другим перейдут в их руки. Если мы уедем, они займут все земли. И возвращаться будет некуда… Нет, государство в таком состоянии, что его оставить нельзя!
Когда 31 января доктор Яворский, сопровождая отъезжающих членов миссии, явился на прощальную аудиенцию, он был потрясен открывшейся перед ним сценой. Близ эмира находился ахун с помощником, который поддерживал над медным тазом обернутую в кисею ногу правителя, тогда как ахун поливал ее водой. Шер Али-хан объяснил, что утром боль в ноге возобновилась и по совету ахуна на нее уже часа три льют ледяную воду. Результат блестящий: никакой боли!
— Вашему высочеству незамедлительно следует заменить этот метод лечения растиранием больного места, а затем обернуть ногу в шерстяную ткань, — взволновался Яворский.
— Мы отказались бы от обливания водой, но оно хорошо успокаивает боль, — возразил эмир. — Мы чувствуем себя теперь лучше.
Было видно, что его бодрые слова не очень соответствовали истине. Тем не менее, крепясь, правитель сердечно попрощался с членами миссии. Вскоре Яворский и оставшийся с ним переводчик Замааи-бек с тоской махали руками вслед удалявшемуся каравану, который увозил их соотечественников, а также везира и казия, отправленных в Ташкент для переговоров.
Долго тосковать не пришлось. Ранним утром за Яворским прислали из дворца. Эмир лежал на том же месте. Обнаженную больную ногу облепили черные корки какой-то засохшей мази, состоявшей, как разъяснил ахун, из яичных белков и лепестков розы. Шер Али-хан жаловался на сильную боль. Начинаясь у колена, она спускалась вниз, до самых пальцев. По его лицу струился пот, и он с трудом подавлял стоны.
Сняв корки мази, врач почувствовал, что вплоть до колена нога холодна словно лед. Пульс не прощупывался. Все стало ясно: нарушение кровообращения. Но отчего? Тромб? Ущемление или разрыв артерии?
— Простите, что я беспокою ваше высочество, но мне нужно знать, не ушибали ли вы ногу в последние месяцы?
Вопрос не сразу дошел до эмира. Шер Али-хан, казалось, был на грани потери сознания. Наконец он отрицательно помотал головой. Так. Значит, речь идет о тромбофлебите. Безотрадное заключение… Когда же это произошло? Ведь еще три дня назад, рассуждал Яворский, не было заметно никаких изменений в кровеносных сосудах. Отчего за такой короткий срок все осложнилось и произошла закупорка вен? Правда, эмиру под шестьдесят, жизнь его не была подчинена строгому режиму, а тут еще этот тяжелейший переезд — малейшего толчка могло оказаться достаточным для возникновения тромбоза…
А вот и разгадка: вероятно, ногу не однажды часами поливали ледяной водой, чтобы «унять боль». Отсюда спазм или полный паралич сосудов. Но быть может, нарушение кровообращения носит временный характер? Врач растер ногу спиртом и завернул в шерстяное одеяло.
— Немножко легче, — прошептал правитель. — Теплее… Но боль не уменьшается…
— Не хотите ли порошок морфия? Это вас успокоит.
— Морфий? Ни в коем случае. Он сухое — горячее средство, а наш темперамент также сухой — горячий. Морфий для нас вреден!
Стоявшие у ложа придворные шумно одобрили эти слова. С ликующей улыбкой к правителю обратился ахун:
— Эмир-саиб, табибы-ференги не знают многого из того, что известно нам. Если будет угодно, я развею туман неведения нашего гостя и возведу его на скалу познания…
Восприняв легкое движение руки Шер Али-хана как согласие, ахун, качая котлообразной головой, прочел Яворскому лекцию о теории, которая существовала в медицине Востока. Ее суть сводилась к тому, что по своему темпераменту люди делятся на четыре категории: сухие, горячие, мокрые и холодные. Но, как правило, в человеке преобладают два элемента. Чаще всего — сухость и тепло (это, к примеру, афганцы, окруженные безводными, раскаленными пустынями), холод и влага (а это холодные — мокрые европейцы, их в Афганистане представляли преимущественно по облику и повадкам ненавистных инглизи).
Все лекарства, объяснял ахун, и его хитрые глазки торжествующе блестели, делятся на те же категории, а морфий принадлежит именно к сухим — горячим средствам.
— Как же можно предлагать его сухому — горячему больному, — вопрошал он, разведя в стороны руки и выражая всем видом глубокое недоумение. — Ведь в организме эмира-саиба и так преобладает сухое — горячее. Ему станет еще хуже. Нет, тут необходимо холодное — мокрое лекарство. Слабительное, например. Или холодные обливания. Так меня учили лучшие табибы Пешавара, — добавил ахун и вдруг осекся.
Снова зашумела толпа сановников, соглашаясь с убедительными доводами знатока медицины.
— Эта нога здорова. Нечего ее разглядывать, — с иронией говорили они Яворскому, когда он осматривал для сравнения правую ногу. Все его рекомендации и лекарства были отклонены.
Стало ясно, что местные табибы, опасаясь за свой авторитет, решили оттеснить русского врача от правителя.
Два дня спустя, однако, ахун пришел за Яворским:
— Эмир-саиб совсем не спит от боли. Она не унимается, хотя мы применили все средства — даже опиум и сок маковых семян!
Тот же зал, а в нем — страдающий человек с покрытым потом лицом и тусклыми глазами, с темными кругами под ними.
— Урус табиб, — эмир слабо, одними губами улыбнулся. — Нога болит, будто ее пилят. Уснуть невозможно. Ставили пиявки — крови не взяли. Нет ее: всю инглизи выпили. Они-то хорошо присосались! Кандагар… Джелалабад… Кабул совсем рядом.
«Какие пиявки? Да ведь он бредит. И в бреду этого несчастного не оставляют англичане, которые выгнали его из Кабула и довели до такого состояния», — в ужасе подумал врач. Он откинул одеяло: в верхней части голени слабо обозначилась темно-багровая зигзагообразная полоска. Ниже ее нога была ледяной и казалась омертвелой. Граница гангрены… Нужны экстренные меры, иначе заражение охватит весь организм и тогда — конец.
Вечером Яворский собрал у себя своеобразный консилиум с участием ахуна и некоторых придворных. Внимательно вглядываясь в русского доктора, будто желая выведать его сокровенные тайны, ахун сказал, что болезнь вызвана слишком горячей кровью эмира-саиба.
— Эта кровь спустилась в ногу и привела к ее охлаждению, — не очень логично резюмировал он свой диагноз. — Иншалла! Если Аллах захочет, я надеюсь в три-четыре дня вылечить нашего повелителя.
Чтобы не стать козлом отпущения при печальном исходе болезни, а он сомневался в нем все меньше, Яворский предостерег собравшихся:
— Я желал бы разделить эти светлые мысли, но боюсь, что больная нога потеряна для эмира, и страшная опасность угрожает даже его жизни…
— Предоставьте дело мне, — ахун не дал договорить, — и вы увидите эмира-саиба здоровым.
Снова Яворского отстранили от лечения. Да он и не смог бы в нем участвовать, ибо сразу после «консилиума» его свалил приступ лихорадки, усугубленный нервным напряжением. В бреду ему часто мерещилась котлообразная голова ахуна и в ушах звучали его слова: «Сухое — горячее… Мокрое — холодное… Пешаварские табибы…»
Очнувшись, Яворский вспомнил то, что мучало его в бреду. «Почему пешаварские табибы? Ведь этот город никогда не слыл центром медицинской науки. К тому же там давно хозяйничают англичане. Они могли бы научить более современным врачебным приемам, — размышлял он. — А может быть…»
Через несколько дней, когда доктор почувствовал себя лучше, его навестил ахун. Он сообщил с видимым удовольствие, что правителю полегчало в связи с новым методом врачевания: больную ногу смазали кровью только что убитого козла и обложили его внутренностями.
Из Кабула между тем доносились самые разноречивые слухи: о стычках британских войск с отрядами афганцев, о людях инглизи с мешками денег, навещающих старшин племен, и даже о том, что Якуб-хан велел властям Чар-Вилоята не допускать отъезда отца в Россию…
11 февраля, во время очередного визита, ахун заверил Яворского, что во дворце дело идет на поправку:
— Слава Аллаху, эмир-саиб теперь не чувствует никакой боли. Неприятно лишь, что от ноги идет дурной запах. Наш повелитель ждет вас!
Шер Али-хан лежал уже на специально сделанной для него кровати, тяжело и прерывисто дыша. Он пожаловался на полный упадок сил, отсутствие сна и аппетита.
«Все это поправимо, — подумал Яворский, — но вот нога… Здесь уже ничего не исправить!»
От колена до стопы левая нога была темно-зеленого цвета. В нос бил гнилостный запах разложения. Багрово-красный пояс омертвения проходил под коленом. Следовало ждать дальнейшего распространения гангрены. Видимо, печальные мысли отразились на лице доктора, ибо наблюдавший за ним правитель тут же спросил:
— Урус табиб, можно меня вылечить или нет?
«Что ему ответить?» — с тоской подумал Яворский.
— Болезнь очень развилась, — произнес он. — Пока нельзя сказать ничего определенного. А что думают врачи вашего высочества?
— Не будем о них говорить. Я достаточно наказан за то, что слушал их советы. Отныне я беспрекословно подчиняюсь лишь вашим указаниям. Распоряжайтесь всем!
«Бедный эмир… Слишком поздно пришел ты к этому решению. Человечество еще не овладело искусством оживлять уже отмершее… Но что делать? Прежде всего следовало бы ампутировать ногу. У самого эмира?! Ну и положение…» — эти мысли беспорядочной вереницей промелькнули в голове Яворского. Наложив повязку, теперь уже, по-видимому, бессмысленную, он дал больному успокаивающие лекарства, а дома опять немедленно созвал «консилиум». Не вдаваясь в детали — для этого не было времени, — доктор заявил:
— Жизни правителя угрожает смертельная опасность. Единственное, что может дать надежду на спасение, — ампутация.
— У эмира-саиба?! — вырвался единодушный возглас из уст собравшихся.
Ахун разъяснил:
— Мы иногда тоже отрезаем больные места. Но тут этого сделать никак нельзя: перед нами не простой смертный, а государь. Его невозможно подвергать подобной операции. Да будет воля Аллаха! Если он захочет, эмир-саиб исцелится и без нее. Если же Аллах решит в уме своем, чтобы эмир перешел в его небесные владения, пусть свершится его воля. Иншалла!
…И Аллаху угодно было взять эмира в свои небесные владения. 20 февраля 1879 года правитель Афганистана Мухаммад Шер Али-хан умер от гангрены и общего заражения крови. Пешаварские табибы добились своего…
Глава 9 НА ПЕРЕВАЛЕ
Старая, кратчайшая дорога от Кабула до селения Торхам на границе с Британской Индией составляла 173 мили. После некоторых спрямлений она сократилась до 165 миль. Как раз посреди этого пути, в 82 милях от столицы и в 83 милях от пограничного рубежа, находится городок Гандамак. Он лежит у подножия покрытого мощными лесами массивного хребта Спингар. Море гранатовых рощ окружает его. Особенно славится здешний сорт граната без косточек, «бедана», хотя он несколько и уступает по вкусу знаменитым кандагарским гранатам. К западу от Гандамака, в бесплодной и пустынной местности, извивается горная трона, которая, то расширяясь, то сужаясь, вползает в ущелья и теснины. Она ведет к афганской столице.
24 апреля 1879 года майор Каваньяри находился в Гайдамаке, занятом авангардом Пешаварской группы войск. Чувствовалось, что надвигается жара. Майор с жадностью поглощал охлажденный гранатовый сок, когда ему доложили о гонце от Мухаммада Якуб-хана. Сын и преемник покойного эмира извещал англичан о намерении прибыть в начале мая в их лагерь для переговоров о мире.
Каваньяри пришел в восторг. Ведь новый правитель Афганистана вполне мог направиться и в штаб Робертса и в штаб Стюарта. И у этих командующих есть политические офицеры, которые могли бы заняться мирными переговорами. Разумеется, он опытнее и местные проблемы знает несравненно глубже… Да и авторитет его у вице-короля повыше.
Удача, безусловная удача! Наспех подготовив донесение генералу Брауну, Каваньяри велел седлать коня. Стоял ясный, солнечный день. С далеких индийских равнин в эти горные края долетал свежий апрельский ветерок. Проехаться верхом, размышляя над благоприятным развитием событий, — двойное удовольствие. Майор неоднократно предпринимал такую прогулку; он начинал ее с запада, «от Пешавара», а затем, постепенно разгоняя коня, легко взлетал на гандамакский подъем, словно нацеливаясь на селение Сурхруд, Джагдалакский проход и лежащую где-то за ними афганскую столицу.
Хотелось поделиться с кем-нибудь праздничным настроением, но подходящего человека не находилось. Как-то Каваньяри пригласил на такую прогулку своего помощника Уильяма Дженкинса из Индийской гражданской службы и завел с ним разговор о благоприятных перспективах, ожидающих англичан в Афганистане, по хмурый и вечно чем-то недовольный Дженкинс его не понял. Или не захотел понять. Более того, он занялся совершенно неуместными историческими реминисценциями. Вот, мол, именно в Джагдалаке эти необузданные афганцы завершили разгром английских войск, отступавших сорок лет назад из Кабула. И именно здесь, у Гандамака, они добили немногих уцелевших. И если бы доктору Брайдону не удалось добраться до британского гарнизона в Джелалабаде, никто так и не узнал бы о полном истреблении наших соотечественников в этих проклятых богом местах…
Когда же майор попытался развеять мрачное настроение спутника, тот пробормотал:
— Не знаю, сэр. Туземцы говорят, что здесь гармсир — теплая страна, а туда, дальше к Кабулу, сардсир — холодная страна. И еще они говорят: когда в Гандамаке идет дождь, по ту сторону уже падает снег и все покрыто льдом…
— Ну и что?
— Здесь своего рода граница, сэр. И внутренний голос, какое-то шестое чувство подсказывает мне, что эту границу переходить не следовало бы. Понятия не имею почему, сэр.
Нечего и говорить, что после такой беседы Каваньяри и в голову не приходило предлагать Дженкинсу сопровождать его. Нет, этим сухим, замкнутым бриттам, у которых к тому же порой появляется внутренний голос, недоступна острота восприятия, присущая людям иного темперамента, скажем итало-ирландского.
И все же Дженкинс своевременно напомнил об унижении, пережитом англичанами в этих ущельях, размышлял Каваньяри. Именно здесь его высочеству эмиру придется подписать договор, который прославит силу и достоинство Британской империи. Но мы позволим Якуб-хану остаться «высочеством» для его нищих и голодных подданных только в том случае, если он будет достаточно внимательно прислушиваться к нашим советам.
* * *
Пока Каваньяри скакал у подошвы Спингара, переданное им сообщение по недавно натянутым телеграфным проводам летело в Индию. Его не замедлили вручить лорду Литтону, почти не покидавшему свою резиденцию в Симле.
События давали вице-королю богатую пищу для размышлений. Успешное продвижение английских армий в глубь афганских земель свидетельствовало о том, что Шер Али-хан не ждал серьезных осложнений на восточных рубежах страны и не готовился к ним. И, уж во всяком случае, оно подтверждало полное отсутствие у Кабула намерений «бросить свои полчища» на Индию, как о том трубили многие британские журналисты.
Впрочем, Литтон изучал обстановку вовсе не по газетным материалам. Он не нуждался в успокоительной информации относительно планов афганского правителя. Ему и без того было ясно, что все действия Шер Али-хана, в том числе прием русской миссии, имели единственную цель — обеспечить самостоятельность Афганистана. Но именно эта цель в корне расходилась с интересами Лондона.
Военные успехи нуждались в быстрейшем политическом закреплении. Задача состояла в том, чтобы найти надежного знатного афганца, с которым стоило бы вступить в контакт как с будущим правителем. Но на кого можно положиться среди этих фанатиков, преисполненных ненависти к «неверным», к «инглизи»?
Казалось логичным договориться с Якуб-ханом. Однако, занимая фактически кабульский престол, он при жизни отца старательно избегал проявления каких-либо дружеских чувств к его врагам. И советники вице-короля называли другую заслуживающую внимания фигуру среди афганских вождей — брата Шер Али-хана Вали Мухаммад-хана. Впрочем, скептики сомневались, что тому удастся утвердить свое влияние среди племен, особенно если выяснится, что его выдвинули и поддерживают англичане.
«Великий Могол» часто ловил себя на мысли, что окончательное утверждение английского влияния в Афганистане волнует его несравненно сильнее, чем голод в Индии, уносивший ежедневно тысячи жертв. Но что поделаешь: военные операции требовали денег, много денег. И хотя английские сборщики налогов, коллекторы, выжимали из индийских подданных Великобритании крупные суммы, на борьбу с голодом оставались жалкие крохи. А чем больше затягивалась неопределенность политической ситуации в Афганистане, тем меньше средств оказывалось в распоряжении вице-короля на иные нужды.
Пора, безусловно пора утвердить на престоле в Кабуле верного человека. Еще 10 января 1879 года Литтон поделился в письме своими мыслями на этот счет с Лондоном: «Первое условие существования сильного и независимого Афганистана — это сильный и независимый эмир… Но энергичным азиатским принцам с независимым характером присущи честолюбивые амбиции. Общие для всех энергичных азиатских князей честолюбивые амбиции имеют военный и территориальный, не очень щепетильный характер. Будут ли стремления такого правителя гармонировать с нашими собственными позициями и политикой на Востоке?»
Продиктовав эти соображения, «Великий Могол» мысленно представил себе, какую реакцию вызовет это послание у Крэнбрука и Солсбери: при всей своей сдержанности они усмехнутся, читая проникновенные слова о «независимом эмире». А Дизраэли? Литтон явственно слышал хохот, которым премьер сопровождал чтение его депеши. И все же вице-король решил оставить текст без изменений — ведь с этим документом будут знакомиться не только его современники-министры, но и потомки — и продолжал диктовать: «Мы не можем завершить афганскую войну без афганского договора; мы не можем заключить афганский договор без афганского правительства, которое изъявит желание подписать его и проявит достаточные способности, чтобы его выполнять…»
Вскоре проблема разрешилась сама собой: умер Шер Алихан. Его сын Мухаммад Якуб-хан, сообщая прискорбную весть о кончине отца, дал понять, что помнит своих старых доброжелателей и покровителей.
«Я пишу в соответствии с прежней дружбой, — гласило ею послание от 26 февраля 1879 года британским властям в Индии, — и чтобы поставить вас в известность, что сегодня, в среду, 4 раби-уль-авваля, по почте получено письмо из Туркестана, гласящее, что мой достойный и высокопоставленный отец в пятницу, 29 сафара 1296 года хиджры, повиновался зову предвечного и, сбросив одежду существования, поспешил в область божественной благодати. Поскольку всякое живое существо должно снять одежду жизни и выпить напиток смерти, я сохраняю стойкость и терпение перед лицом этого бедствия и несчастья. Так как мой высокочтимый отец был старым другом блистательного британского правительства, я из дружеских чувств направил вам это сообщение».
Естественно, этот жест Якуб-хана расценили в Симле как его полную готовность сотрудничать с британскими властями. Теперь Литтон без колебаний мог сообщить в Лондон: достойный преемник афганского эмира найден! Разумеется, это Якуб-хан, и именно с ним и надлежит подписать трактат о мире.
Итак, близилось к завершению важнейшее дело, стоившее немалых усилий британским властям в Индии. Нечего и говорить, что содержание будущего договора сводилось к одному — утвердить полный военный и политический контроль Англии над «сильным и независимым эмиром». В сложившихся условиях, как полагала английская сторона, требовалось совсем немного — сохранить за Британской империей уже занятые ее войсками перевалы и проходы, ведущие к жизненным центрам Афганистана, и разместить в его городах или по крайней мере в Кабуле влиятельную английскую миссию.
* * *
Обдумывая предстоящую беседу с уже выехавшим из своей столицы Мухаммадом Якуб-ханом, Каваньяри неожиданно вспомнил гравюру в одной из недавно прочитанных им книг об Индии. На ней были изображены двое: в кресле сидел молодой человек с угрюмым взором, державший у колен двуствольное охотничье ружье. Длинный светлый халат, богато украшенный драгоценностями, белые шаровары и расшитые туфли с загнутыми кверху носами свидетельствовали, что их обладатель — человек Востока. За юношей, положив руку на спинку кресла, стоял пожилой мужчина с темными усами и аккуратно расчесанной седеющей бородой. Черный костюм-тройка, белая сорочка и черные башмаки изобличали в нем европейца. Он опирался на такое же ружье. Нахмуренные брови и сосредоточенный взгляд придавали ему озабоченный вид. Провинившийся юноша и его наставник — вот что сразу приходило в голову. Подпись же под гравюрой гласила: «Махараджа Удайпура и британский резидент» — и все становилось на свои места.
Внутренний смысл картины всецело совпадал с представлениями майора о том, какой характер должны принять грядущие переговоры, да и вообще отношения с его высочеством эмиром Афганистана Мухаммадом Якуб-ханом.
…3 мая молодой эмир с большой свитой — свыше четырехсот человек — покинул Кабул и двинулся на восток. Он решил предстать перед англичанами во всем блеске и потому взял с собой трех братьев скончавшегося эмира: Мухаммада Хашим-хана, Мухаммада Тохир-хана и Нека Мухаммад-хана, а также секретаря Шер Али-хана Мухаммада Наби-хана. Но основную роль играли при нем сипахсалар, главнокомандующий, Дауд Шах-хан и мустоуфи, министр финансов, Хабибулла-хан. Они должны были как бы уравновешивать друг друга. Английские эксперты знали, что пользовавшийся немалым авторитетом среди афганских сановников мустоуфи не определил открыто своего отношения к британским соседям. Зато генерал Дауд Шах-хан, который был склонен к дружбе с могущественными инглизи, не имел влиятельных сторонников.
Неподалеку от Гандамака, на пути следования конной процессии афганцев, был выстроен эскадрон 10-го полка британских гусар в синих мундирах и желтых киверах с белыми плюмажами. На некотором расстоянии от них расположилась 4-я горная батарея Пенджабских пограничных войск. Когда кортеж приблизился, юный субалтерн в таком же мундире, но в кивере алого цвета взмахнул саблей, и четыре пушки окутались густым облаком порохового дыма.
Это был почетный салют. И вместе с тем это было оскорбление, ибо по четко разработанному и давно известному ритуалу даже самых мелких индийских раджей, махараджей, навабов и им подобных владетелей обычно приветствовали выстрелами из девяти пушек. Правитель же крупной и пока еще независимой страны вполне мог претендовать на салют из двадцати одного орудия, как, например, низам Хайдарабада или махараджа Джамму и Кашмира, бывший вассал Кабула, самостоятельность которых была лишь формальной. И, уж во всяком случае, на залп из девятнадцати пушек, как махараджи Индура или Траванкура, бхопальский наваб или совершенно ничтожные по своему положению хан Келата и махараджа Колапура.
Впрочем, трудно утверждать, было ли задуманное Каваньяри нарушение восточного этикета осознано малосведущим в дипломатических тонкостях Якуб-ханом. Он ехал, глубоко погруженный в раздумье, и только неожиданно раздавшаяся артиллерийская пальба вывела его из этого состояния.
От гусарского эскадрона отделился всадник, молодой капитан. Приблизившись к эмиру, он отдал честь и произнес по-английски слова приветствия. Толмач перевел его слова на персидский язык.
В это время со стороны Гандамака появилась кавалькада из десяти-пятнадцати всадников. Она медленно приближалась к центру действия. Впереди на гнедой лошади ехал худощавый майор. За ним следовал молодой человек в гражданской одежде и надвинутой почти на нос каске. Их сопровождали совары из корпуса гидов. То был Каваньяри со своим помощником Дженкинсом.
Поравнявшись с Якуб-ханом, майор спешился. Эмир сделал то же самое, и они обменялись рукопожатиями. Англичанин испытующе взглянул на человека, с помощью и от имени которого Лондон и Симла надеялись диктовать афганцам свою волю.
Сын Шер Али-хана был высок, подтянут, строен. Из-под медной каски с белым султаном выбивались темные волосы. Глубоко посаженные, черные, как уголь, глаза выделялись даже на смуглом лице, окаймленном темной бородой. Его мундир удивительно напоминал русскую генеральскую форму. Единственным отличием, пожалуй, было богатое шитье на вороте, полах и обшлагах мундира.
Якуб-хана и его свиту разместили в заранее подготовленных помещениях, предупредив, что переговоры начнутся через три дня. В один из этих дней эмира пригласил командующий Пешаварской группой войск генерал Браун. Пожилой генерал, небольшой любитель «штатских сантиментов», принял Якуб-хана в своей роскошной палатке, разбитой в британском военном лагере в Гандамаке, и удостоил правителя Афганистана краткой аудиенции, на которой поделился впечатлениями о местном климате.
Наконец 10 мая в одном из гандамакских домов, превращенном в штаб английского передового отряда, начались переговоры.
Каваньяри потребовал, чтобы на первой встрече присутствовали только он с Дженкинсом да эмир. Майор чувствовал себя на подъеме. Он лишь на днях вернулся из Лахора, куда его срочно вызывал вице-король, и оказанный ему теплый прием не выходил у него из головы.
— Ну, дорогой майор, — радушно улыбнулся лорд Литтон, — теперь вы сможете по-настоящему проявить свои способности.
— Постараюсь, милорд, — поклонился Каваньяри.
— Необходимо, чтобы этот необузданный народ и его дикие вожди больше никогда не причиняли нам хлопот…
— Само собой разумеется, милорд.
— Мы долго ждали и, следует признать, ничего не делали, чтобы смыть позор наших прошлых неудач. Вы получите инструкции об основных пунктах договора. Не со всеми его условиями согласен Лондон. Как считают некоторые члены кабинета, кое-какие из перечисленных требований можно было бы смягчить. Но я вижу их насквозь. Великолепно понимая, что Афганистан следует подчинить британскому контролю, они опасаются шума со стороны оппозиции, стремящейся из любого нашего просчета извлечь выгоду. Вы же знаете, либералам надо покричать в парламенте и печати, хотя на нашем месте они делали бы абсолютно то же самое.
Майор понимающе кивнул.
— Так вот, никакой пощады! Имейте в виду: ваше положение в Кабуле будет во многом зависеть от отношений с новым эмиром. Правда, Кабул не самое привлекательное место на земле — не Париж, не Вена, не Мадрид, наконец. Да и Якуб этот, как утверждают, не отличается большим умом, но Британской империи совершенно необходим, я подчеркиваю, совершенно необходим афганский плацдарм!
— Смею заверить, милорд, — ответил Каваньяри, — я прекрасно сознаю важность и ответственность возложенной на меня задачи и постараюсь оправдать оказанное мне доверие.
— Великолепно! Ваши усилия будут достойно оценены сразу же по достижении успеха. Кроме того, обещаю: вы не засидитесь в этой холодной горной дыре. При первой возможности я переведу вас в теплые и благодатные индийские края. Гвалиор или Барода вас устраивают? — спросил Литтон и, не дожидаясь ответа, продолжал, — а оттуда недалеко и до кресла секретаря по иностранным делам при вице-короле…
У майора перехватило дух: честно признаться, об этом он и не мечтал. Каваньяри взглянул на Литтона с такой благодарностью, что тот даже растрогался.
— Итак, милейший Наполеон, с богом — вперед! Желаю удачи!
По дороге в Гайдамак политический офицер внимательно изучал полученные инструкции. Принятие афганцами содержавшихся в них условий не оставляло для них ни малейшей надежды на самостоятельность. Сами виноваты. Бессмысленно оказывать противодействие державе, во владениях которой никогда не заходит солнце!..
Глава 10 ПОД ДУЛАМИ ПУШЕК
10 мая его высочество Мухаммад Якуб-хан и представитель Британской империи майор Каваньяри, сопровождаемый, как обычно, Уильямом Дженкинсом из Индийской гражданской службы, встретились в специально отведенном помещении.
Они расположились на застланном коврами диване, а Дженкинс в роли переводчика занял место между ними. Необходимости в переводчике не было, ибо майор мог изъясняться на персидском языке и на его диалекте, распространенном в Афганистане, — дари, но он хотел располагать на всякий случай дополнительным временем для обдумывания ответов.
Преемник Шер Али-хана чувствовал себя неуверенно: речь его была не очень связной, руки дрожали. В отличие от эмира Каваньяри был спокоен. Лишь одно, казалось бы несущественное, обстоятельство нарушило прекрасное настроение, с которым он направлялся на свидание с правителем Афганистана. Приближаясь к дому, где должна была состояться встреча, майор прошел мимо сопровождавших эмира сановников и ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Естественно, все внимательно рассматривали важного инглизи, и Каваньяри невольно приосанился. Но среди любопытствующих кто-то смотрел на него особенно — недоброжелательно и зло. Это был рослый плечистый афганец в чалме и темно-зеленой куртке, явно стремившийся не выделяться из толпы. Майор мог поклясться, что где-то видел его, и даже совсем недавно. Однако припомнить где, когда, а главное — кто он, никак не удавалось.
Каваньяри тряхнул головой, стараясь освободиться от неприятного ощущения, и обратился к Мухаммаду Якуб-хану:
— Ваше высочество, по поручению его высокопревосходительства лорда Литтона, вице-короля Индии, я приношу вам соболезнования в связи с кончиной отца и эмира Мухаммада Шер Али-хана, а также поздравления по поводу вашего восшествия на престол!
Практически это означало признание Англией Якуб-хана эмиром. Но, поскольку британское правительство еще не было убеждено, что он станет полностью следовать его предначертаниям, столь немаловажное заявление майор сделал без свидетелей (Дженкинс в счет не шел), дабы сохранить возможность отречься от него в любую минуту. Тем не менее оно прозвучало достаточно торжественно. Каваньяри сделал паузу, во время которой Дженкинс перевел сказанное на персидский. Якуб-хан слушал рассеянно, а затем поблагодарил:
— Ташаккур!
Каваньяри подождал, пока и ему перевели хорошо знакомое выражение. Затем он продолжал.
— Я просил ваше высочество побеседовать со мной наедине, ибо намереваюсь коснуться щекотливых вопросов. Британская империя крайне заинтересована, чтобы Афганское государство и его эмир были ее искренними друзьями. А своим друзьям мы окажем всестороннюю помощь…
Это был очень существенный момент. Надлежало любой ценой привязать преемника Шер Али-хана к британским хозяевам Индии. Каваньяри снова вспомнил свою беседу с Литтоном в Лахоре. Вице-король беспрестанно возвращался к этой теме. Он даже показал Каваньяри полученную им 13 апреля недвусмысленную телеграмму Крэнбрука: «Если Якуб станет действительно проводить свою внешнюю политику под нашим руководством, мы будем готовы поддержать его против любой иностранной агрессии, какая может явиться результатом такой политики, деньгами, оружием и войсками, которые будут употреблены по нашему усмотрению в тех случаях и там, где мы сочтем это удобным».
— Мы предоставим вам денежные средства, — подчеркнул майор, — снабдим оружием в любых размерах, учитывая, что с севера кабульскому престолу угрожает некая держава…
Кнут и пряник, пряник и кнут — по всем канонам британской политики на Востоке… Обещая какие-то выгоды, майор должен был указать и на то, что отказ от них повлечет за собой репрессии. Так он и сделал:
— В случае вашей враждебности — будем откровенны! — у нас найдется достаточно сил для нанесения по вашей стране уничтожающего удара…
Слово англичанина падали резко, тяжело, весомо.
— …Пока ваше высочество будет проявлять надлежащее внимание к нуждам и потребностям своего великого соседа, можно не опасаться за его судьбу и грядущее его страны. Мы учитываем некоторую нехватку политического опыта у вашего высочества. Поэтому лорд Литтон не сомневается, что вы признаете разумной мерой размещение британских миссий в крупных афганских городах, прежде всего — в столице, а также в пограничных областях. Эти миссии со всей благожелательностью окажут помощь местным правителям в решении важнейших дел.
Когда этот затянувшийся монолог пришел к концу, эмир заметил, что его народ еще не очень хорошо воспитан.
— Афганцы не всегда понимают благородные стремления инглизи, — пробормотал он. — Если во многих городах появятся чужеземные миссии — да будет милость Аллаха над ними! — как мы обеспечим их безопасность?
— Мы это обсудим позднее, — Каваньяри не стал вступать в дискуссию на ранней стадии переговоров. — Я надеюсь, ваше высочество понимает, что по закону победителя Британская империя вправе оставить за собой все земли, занятые ее доблестными войсками. Мы проявим присущее великой нации миролюбие и ограничимся удержанием лишь областей, необходимых для обороны наших индийских владений и обеспечения дружественных отношений с высоким Афганским государством. Но лишь при условии пребывания во главе этой страны мудрого правителя, сознающего жизненную важность тесных связей с опытными английскими политическими деятелями и насущную потребность прислушиваться к их советам…
Каваньяри с нетерпением ждал ответа Якуб-хана. Тот горячо запротестовал против планов отторжения афганских земель, но никак не реагировал на основную мысль англичанина. «Не понял, что ли? Или хочет отмолчаться?» — мелькнуло в голове у майора. Вслух же он произнес, что территориальные проблемы стороны смогут в дальнейшем обсудить достаточно подробно. Все будет определяться степенью желания Афганистана крепить дружбу с Англией, еще раз подчеркнул он.
И снова Мухаммад Якуб-хан пробормотал что-то не очень вразумительное. «Да, голубчик, тебя еще надо воспитывать и воспитывать», — подумал представитель вице-короля Индии. Он встал.
— Я был счастлив познакомиться с вашим высочеством и рад, что нашу беседу отличал дух взаимопонимания. Именно в этом залог хороших связей между двумя высокими государствами, — подвел итоги свидания Каваньяри.
Подобие усмешки мелькнуло на безжизненном лице эмира:
— Будет ли тень прямой, если ствол кривой! — Поговорка звучала весьма двусмысленно. — Впрочем, — спохватился афганский правитель, — все в руках Аллаха!..
Они обменялись рукопожатием и двинулись из дома. На улице вестовой подвел майору коня, но тот, отстранив его движением руки, направился с эмиром к терпеливо ждавшей свите. Знак внимания? Нет, Каваньяри вовсе не собирался оказывать его кабульскому повелителю; он хотел всего лишь отыскать афганца со жгучим взглядом…
Это оказалось несложным. Афганец смотрел на него в упор, и взор его дышал враждебностью. Тысяча чертей! Да ведь перед ним приятель из Али-Масджида! Файз Мухаммад! Майор забыл о тщательно соблюдаемой им британской выдержке и дал волю итало-ирландскому темпераменту. Бесцеремонно вклинившись в гущу почтительно расступившихся перед ним вельмож, он приблизился к бывшему коменданту горного форта.
— Какая встреча, сардар… Вас сразу и не узнать… Где мундир и что означает эта куртка? — с иронией спросил Каваньяри.
Файз Мухаммад нехотя промолвил:
— Могли ли дедовские мултуки тягаться с дальнобойными пушками? Али-Масджид в ваших руках. Зачем же мне мундир?
Ответ афганца вернул Каваньяри хорошее расположение духа. Он даже решил оказать внимание человеку, спасшему его если не от смерти, как тот утверждал, то наверняка от тяжелого отравления.
— Я постараюсь быть более гостеприимным хозяином, чем вы, кефтан. Не сочтете ли возможным посетить мою гандамакскую квартиру? Это недалеко. Вспомним ручей у мельницы… Наше свидание состоялось всего полгода назад, а кажется, что с тех пор прошла целая вечность.
— Хвара шэ, хорошо! — лаконично произнес на пушту Файз Мухаммад и повторил по-персидски, — хэйли хуб, очень хорошо!
Церемонно раскланявшись с Якуб-ханом и его свитой, майор сел в седло, подождал, пока Файз Мухаммад отвязал от дерева своего коня, и вместе с ним и Дженкинсом двинулся к небольшому домику на пешаварской дороге…
У дверей стоял часовой. Внутри дома находились неведомо как сюда попавшие коричневый стол и несколько легких плетеных стульев.
— Прошу располагаться в моей походной резиденции! Вы, вероятно, продрогли, дожидаясь нас. — Каваньяри вспомнил сцену их расставания у форта, когда комендант позволил себе не очень лестный выпад против него, вспомнил неприязненный взгляд Файз Мухаммада и подумал, что неплохо было бы расположить его в свою пользу. — Сейчас нам подадут что-нибудь согревающее. Что вы предпочитаете — виски, джин, хорошее французское вино? У меня отличный повар. Не пройдет и десяти минут, как мы получим великолепные бифштексы. С кровью…
— На! На! — афганец сделал отрицательный жест.
— Как нет? Совсем нет? — изумился Каваньяри. — Я хорошо изучил Восток — от куска хлеба тут отказываются лишь за столом недруга, в доме человека, которому хотят мстить… Переведите, Дженкинс, что утром он привлек мое внимание в этой большой пестрой толпе неприветливым, назовем так, взором. В Азии говорят: «Друга узнаешь по лицу, врага — по глазам». Мы с эмиром нашли общий язык, война кончилась, отчего же и нам с вами не подружиться?
— Не утруждайте себя, миджар Камнари, — резко ответил Файз Мухаммад, выведенный из равновесия цинизмом майора. — Мне хорошо известна ваша деятельность в Пешаваре, направленная против нашего народа.
Каваньяри переменился в лице. Разговор явно приобретал нежелательную остроту, но он сделал еще одну попытку перевести его в более спокойное русло:
— Мы — слуги своих правителей. Я уже говорил об этом у Али-Масджида. Была война — мы сражались. Теперь наши страны будут дружить, и я предлагаю вам свою руку. Его высочество эмир прислушивается к нашим советам. Мы можем обеспечить такому доблестному воину высокий пост.
— Благодарю за честь, но дружбе между нами не бывать! — воскликнул Файз Мухаммад. — И эмиру, который прислушивается к вашим советам, я тоже не слуга!
— Отчего же такая непримиримость? — майор уже начал нервничать.
— Вам непонятно?! В Гандамаке, городе на афганской земле, хозяйничает инглизи, миджар Камнари, предлагающий мне, афганцу, праздничный обед: виски, вино, бифштексы с кровью… Не с афганской ли?!
Файз Мухаммад взял себя в руки и заговорил более спокойно:
— Для меня война еще не кончилась. Я родился неподалеку отсюда, в Тезине. Когда вы хотели посадить нам на шею Шуджу уль-Мулька, мой отец Самед-хан и два брата взяли свои мултуки и пошли сражаться. Они погибли…
— Примите мои сожаления! — стараясь быть любезным, произнес Каваньяри.
— Благодарю, хотя они и бестактны. Мне тогда не было и десяти лет, но я старался помочь отцу и другим воинам, уничтожавшим вашу армию. Теперь вы примите мои соболезнования!
Файз Мухаммад передохнул и продолжал:
— У нас понимали, что угроза с вашей стороны растет с каждым годом. Я изучил английский язык, следил за вашими делами в Индии. Вы очень сильны. Нам придется нелегко, но мы будем отстаивать каждую пядь родной земли. Поэтому я говорю: пока вы ее топчете, война продолжается!
— Зачем же вы приехали сюда с таким настроением? Ведь мы ведем переговоры о мире и дружбе.
— Я солдат. Верой и правдой служил родине, Шер Али-хану. Я хорошо знаком с этими местами, и сипахсалар Дауд Шах-хан велел мне участвовать в поездке. Но, если сказанное вами справедливо, миджар Камнари, и молодой эмир намерен дружелюбно беседовать с инглизи, когда их войска захватывают афганские селения и города, наш народ такого эмира не поддержит.
Бывший комендант Али-Масджида встал и стремительно направился к двери. Растерявшийся Каваньяри не знал, как себя вести в столь неожиданной ситуации. Все же он счел нужным не обострять отношения:
— Ну, хорошо. По крайней мере я кое-что понял. Но скажите ради бога, что вам помешало тогда, у Али-Масджида, дать мне спокойно отравиться?
— Я ждал этого вопроса, — хмуро усмехнулся Файз Мухаммед. — Мы, мусульмане, верим в кисмет, судьбу. Я подумал, что такая смерть — не для вас. Она случайна и, как бы это сказать, ничем не примечательна. К тому же мне пришла на ум отличная английская пословица: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Гуд бай, миджар Камнари! Гуд бай, мистер Дженкинс!
Афганец переступил порог, и через минуту за окном раздался топот копыт уносившего его коня.
Да, теперь Каваньяри весьма сожалел, что при разговоре присутствовал Дженкинс. Но ничего — вскоре он убедится, что афганец жестоко поплатится за свою дерзость. Да и в конце концов — не вздорная же беседа с этим дикарем была главным итогом дня! Основное достигнуто: Мухаммад Якуб-хан готов с должным вниманием отнестись к пожеланиям и рекомендациям представителей Британской империи. Успех, и немалый! Стоит ли терять равновесие из-за бывшего коменданта какого-то жалкого глинобитного укрепления?
На следующий день англичане нанесли визит эмиру. Он имел, по существу, протокольный характер: никаких серьезных тем не обсуждалось. Рядом с Якуб-ханом в его странном мундире «царского генерала» сидели два ближайших советника: мустоуфи Хабибулла-хан и сипахсалар Дауд Шах-хан. Обоим было за шестьдесят, да и внешне они очень походили друг на друга: рослые, сосредоточенные, бородатые. Если бы министр финансов не брил щек и усов, его вполне можно было бы принять за близнеца главнокомандующего. В своей темной одежде — матерчатой шапке, длинной застегнутой доверху плотной рубахе, черных штанах и высоких башмаках — мустоуфи напоминал нахохлившегося ворона. Дауд Шах-хан — в каракулевой папахе — был облачен в светлый мундир с широким нарядным поясом.
Каваньяри отметил про себя, что, перед тем как дать ответ на самый незначительный вопрос, правитель Афганистана поглядывал то на одного приближенного, то на другого. Но сановники сохраняли полную невозмутимость. Они не нарушили ее и после того, как майор предложил, чтобы конкретное содержание англо-афганского договора было выработано им совместно с мустоуфи и сипахсаларом, без прямого участия эмира. Видно, этот вариант уже обсуждался его собеседниками: он был тут же одобрен Якуб-ханом.
Англо-афганские переговоры 1879 г.
Слева направо: Дженкинс, Каваньяри, Мухаммад Якуб-хан, Хабибулла-хан, Дауд Шах-хан.
Когда вся дальнейшая процедура переговоров была рассмотрена, Каваньяри перешел к теме, которая, как это ни странно, волновала его сегодня больше всего.
— Ваше высочество, — обратился он к эмиру, — мы, британцы, не привыкли жаловаться. Если нам наносят обиду, мы сами наказываем обидчика…
Афганцы с недоумением слушали майора.
— …Но я вынужден обратиться к вам, поскольку речь пойдет об афганском подданном, который задел не только меня, но и священную особу своего повелителя.
Не зная, что последует далее, Якуб-хан снова бросил беспокойный взгляд на своих министров.
— Я говорю о некоем Файз Мухаммаде, — продолжал Каваньяри. — Он командовал гарнизоном Али-Масджида и вел себя недостойно у стен форта во время следования нашего посольства. Но это не так важно. А вот вчера бывший комендант допустил выпады против особы его высочества эмира и проводимой им политики. Такое терпеть никак нельзя! Не сомневаюсь, и, надеюсь, вы согласитесь со мной, что подобный человек не может оставаться на государственной службе, тем более в армии. Его надо с позором разжаловать, а еще лучше — отдать под суд!
Якуб-хан обратился к главнокомандующему, и тот глуховатым голосом сказал ему что-то на пушту. Эмир, видимо, не понял и переспросил. Тогда Дауд Шах-хан разразился длинной тирадой на этом не очень хорошо знакомом Каваньяри языке; можно было уловить лишь часто повторявшееся слово «инглизи» да по раздраженному тону заключить, что сипахсалар чем-то недоволен. Затем Якуб-хан повернулся к майору:
— Миджар Камнари, вы говорите очень серьезные вещи. Кефтан Файз Мухаммад был дисциплинированным, опытным офицером…
Майор нетерпеливо махнул рукой.
— Погодите, — заторопился правитель. — Был… Однако сегодня рано утром он пришел к сипахсалару и попросил об отставке. Сардар сказал, что родина в тяжелом положении, но кефтан крикнул, что будет до конца дней бороться с ее врагами. И ускакал. Совсем…
В неожиданно наступившей тишине было отчетливо слышно, как англичанин скрипнул зубами. Ему положительно не везло с этим кефтаном.
Около двух недель Каваньяри вел напряженные переговоры, подготавливая мирное соглашение. С неизменным Дженкинсом в качестве секретаря и переводчика он то посещал афганских сановников, то принимал их у себя. Изучив приближенных эмира, майор понял, что мустоуфи был более волевой и влиятельной личностью, чем простодушный сипахсалар, и переключил на него все внимание. Лестью и всякими посулами он вкрался в доверие хитрого придворного.
Наибольшие споры вызывали территориальные проблемы. Представители эмира призывали поверить дружеским заверениям их повелителя и не добиваться материальных гарантий «преданности афганского правительства Британской империи», то есть территориальных уступок. Каваньяри с удовлетворением принимал эти заверения, но продолжал настаивать на своем, стремясь обеспечить для Англии пути для возможного военного удара по Кабулу.
Перспективы английской политики в Афганистане казались Каваньяри в высшей степени обнадеживающими. Его телеграммы, летевшие в Симлу, были составлены в мажорных тонах. А 23 мая, когда поставленная перед ним задача была близка к окончательному решению, он усадил Дженкинса за подробное письмо вице-королю: надлежало известить начальство о положении дел, а главное, подчеркнуть свое умение до тонкости разбираться в ситуации, чтобы закрепить намерение вице-короля назначить его, Каваньяри, резидентом в афганской столице.
«Переговоры с Якуб-ханом приняли благоприятный оборот, — диктовал майор. — Мы получим вполне приемлемый для нас договор, а будущее покажет, каким эмиром он станет. Я склонен думать, что он подчинится влиянию британского резидента в Кабуле, но порой мне кажется, что у него слабый интеллект и, конечно, переменчивый характер. Мустоуфи не очень высокого мнения о нем, но допускает, что он — лучший среди баракзаев. Я нашел, что мустоуфи весьма расположен к нам, но он в некоторых отношениях неискренний человек, и я не могу сказать, что он блещет умом».
Остальных приближенных эмира Каваньяри аттестовал еще более резко: «Я нахожу, что все они обладают обычным афганским характером и их основные качества — скупость и подозрительность. Их аргументы были столь слабы и далеки от существа ситуации, что я сразу же решил вести дело, как если бы оно было самым обычным вопросом, связанным с пограничными патанскими племенами. В соответствии с этим я устроил так, что посещал эмира или вызывал к себе его министров, когда считал это необходимым, а официальная встреча состоится только один раз, когда будет зафиксировано окончательное решение, каково бы оно ни было…»
— Ну-ка, Уильям, прочтите, как там получается, — обратился Каваньяри к Дженкинсу. Выслушав, он подумал, что в тексте уж слишком часто звучит «я». Стилистически нехорошо, и литератор Литтон, без сомнения, сразу это отметит. «Ну и что ж! — подумал майор, — я обращаюсь не к писателю, а к вице-королю. Он должен хорошо запомнить, что именно я готовлю ему великолепный договор, именно я отлично разбираюсь в политике и людях!»
И Каваньяри продолжал диктовать: «Выработанный мною подход избавил нас от пустой траты времени и от ведения бесполезных переговоров, и я думаю, что результат будет столь же удовлетворительным, как если бы мы пустили в ход армию…» Впрочем, нет, Уильям, не стоит так выпячивать грубую силу. Напишите иначе: «…как если бы мы применили другие средства, находящиеся в нашем распоряжении».
Далее следовало вернуться к личности Якуб-хана, отметив его неспособность управлять страной (без надлежащего руководства, естественно), и выразить в связи с этим свое беспокойство. Каваньяри так и поступил. «Некоторые из предложений эмира, — записывал Дженкинс, — демонстрируют такой недостаток умения вершить государственные дела, что нельзя не испытывать тревоги по поводу того, сможет ли он решать проблемы, которые в будущем встанут перед его страной… Господствующая в Англии мысль, что Якуб-хан — это лучшее, чего стоит желать, определила мое стремление к соглашению с ним. Могу сказать с полной уверенностью, что такое соглашение является почти совершившимся фактом. Но я считаю и всегда считал, что наша истинная политика заключается в том, чтобы раздробить Афганистан на мелкие государства…»
Последнее соображение требовало осторожности. Его нельзя было высказывать слишком уж категорически: а вдруг в Симле и там, в Лондоне, найдут, что уже сейчас необходимо накрошить из афганских земель несколько незначительных ханств! Разумеется, это было бы лучше всего. Британская политика на Востоке всегда исходила из мудрого правила, лежавшего еще в основе действий Римской империи: «Разделяй и властвуй!» Полуитальянец Каваньяри с особым удовольствием отмечал сообразительность своих далеких предков. Но если Афганистан начнут дробить немедленно, то он рискует оказаться резидентом у вождя какого-нибудь второразрядного племени. Нет уж, пусть этим займутся, когда Литтон выполнит свое обещание и переведет его на достаточно высокий пост в более цивилизованные края.
Стало быть, на нынешнем этапе такая тема должна звучать приглушенно. И в донесении появились соответствующие строки: «Я заявил Якуб-хану, что лишь благодаря ему Афганистан будет продолжать существовать на карте, и если его спросят, какие блага он получит, вступив в союз с англичанами, он сможет ответить именно в этом смысле… Я сомневаюсь, чтобы Якуб-хан смог, даже если бы хотел, утвердиться в Кабуле, если бы не достиг соглашения с нами. Однако он постоянно утверждает, что всегда к этому стремился. Образ его действий сводится к тому, чтобы вернуться в Кабул с соглашением, которое одобрят его соотечественники, либо поехать в Индию в качестве нашего пенсионера».
Каваньяри был единомышленником вице-короля в афганском вопросе. Оба они стремились распространить господство Британской империи на Афганистан. Но им незачем было кривить душой друг перед другом. Поэтому майор с чистой совестью включил в свое послание фразу, начисто опровергавшую провокационную версию о нежелании Шер Али-хана принять миссию Чемберлена, версию, использованную в качестве предлога для вторжения в Афганистан. «Я имел возможность убедиться, — диктовал Каваньяри, — что покойный эмир намеревался принять посольство сэра Нэвилла Чемберлена скорее, чем многие склонны были верить, особенно те, кто утверждал, что его отказа допустить миссию следовало ожидать и что на ее отправке настаивали, заранее предвидя такой исход».
…Впоследствии, тщательно проанализировав документы и сопоставив факты, историки убедительно докажут: повод для британского нападения на Афганистан был надуманным, фальшивым. И Литтон и Каваньяри достаточно хорошо знали об этом с самого начала. Знали, но, игнорируя истину, торопились добиться поставленных целей — расширения имперских владений на Востоке.
Глава 11 НАДЕЖДА НА ГЕРАТ
Покинув эмира, Файз Мухаммад направил коня на запад. Он спешил домой, в Тезин. На душе у него царила такая скорбь, что ни таинственный сумрак глубоких ущелий, ни сочная зелень на их склонах, ни только что распустившиеся листья на деревьях, стволы которых, причудливо извиваясь, выдвигались откуда-то из расщелин, не привлекали его внимания. Он ехал, погруженный в глубокое раздумье, и лишь машинально подхлестывал коня, когда тот замедлял шаг.
…Снова, как в детстве, на родину шли сильные и неумолимые враги. Но тогда он еще плохо понимал, что делалось вокруг. Спасибо отцу и землякам-тезинцам: они брали мальчика с собой в бой и учили владеть оружием, хотя и старались оградить его от наиболее опасных стычек. Отец погиб в одном из последних сражении. Ну а теперь наступает очередь Файз Мухаммада, беглого офицера почти распавшейся армии. И его сына — двенадцатилетнего Гафура. Недаром, помня об отце, он так настойчиво обучал сына стрельбе из ружья и пистолета. А в седле почти каждый афганец отлично держался чуть ли не с пеленок.
Однако даже вдвоем с Гафуром, мрачно усмехнулся кефтан, они не смогут преградить путь войскам инглизи или вразумить несчастного Якуб-хана. Ведь этот глупый наследник Шер Алихана явно не уразумел, что за узду надевает на него в Гайдамаке миджар Камнари. Файз Мухаммад вспомнил о предательстве Шуджи уль-Мулька, и тут же на ум пришла пословица: «Осел тот же, только седло другое». Да нет, теперь она звучала бы иначе: «Осел другой, только седло то же».
Но что же все-таки делать? Кто может справиться с черной тучей, снова надвигающейся на Афганистан? А кто справился с ней сорок лет назад? Народ… Конечно, все честные афганцы самозабвенно любят свою родину и пойдут за нее на смерть… Поднимутся все… Но их надо вооружить, обучить. На это уйдет немало времени. Есть сардары, вожди племен. У многих из них — военные отряды. И неплохо вооруженные. Поискать надежных сардаров?
И вдруг в голову пришла мысль: Аюб-хан! Брат эмира, правитель далекого Герата. У него есть регулярные войска, да и казна его, кажется, не пуста. Вот кто может с пользой быстро вмешаться в дело. Вот кто может противостоять Якуб-хану. И за ним пойдут афганцы.
Однако тут же Файз Мухаммада охватили сомнения: Аюб-хан всегда проявлял преданность и уважение к старшему брату. Захочет ли он слушать дурные вести, поверит ли им? А главное, осмелится ли выступить открыто против эмира?
Внезапно возникшая мысль уже не казалась такой ободряющей. Но кефтан возвращался к ней снова и снова. Все зависит от того, какое чувство одержит верх — родственное или любовь к своей земле. В конце концов, Аюб-хан — внук Дост Мухаммад-хана, племянник достойного Акбар-хана, который проявил столько мужества, отстаивая свободу отчизны! Можно было бы сплотиться и вокруг Якуб-хана, если бы тот проявил хоть какое-то намерение воспрепятствовать доступу инглизи в нашу страну и драться с ними…
Конь остановился, переминаясь с ноги на ногу. Кефтан поднял голову и огляделся. Перед ним у нескольких низеньких домиков тропа разветвлялась на две, и обе вели в узкие горные проходы. Файз Мухаммад потрепал скакуна по холке:
— Ах ты, мой мудрый Баз, мой Сокол. Ты привез меня в Джагдалак и не знаешь, куда теперь двигаться?! На севере нам сейчас делать нечего, поворачивай в Тезин…
Будто поняв сказанное, Баз тряхнул гривой и повернул налево. Кефтан с волнением ощутил, что находится в Джагдалакском проходе. Высившиеся по обеим сторонам ущелья серо-голубые скалы были немыми свидетелями убедительной победы афганцев над вторгшимися врагами. Это было давно. Удастся ли разбить их сейчас?.. Не ошибается ли он в своих надеждах на Аюб-хана? Что сказал бы отец, сложивший голову неподалеку от этих мест?
Хотя Гандамак, откуда в гневе ускакал Файз Мухаммад, отделяли от Тезина каких-нибудь тридцать миль, то были нелегкие мили. В родном, укрытом в горах селении он оказался, когда солнце уже пряталось за хребты. Кефтан въехал во двор одного из домов на окраинной улице, где жила его престарелая мать, а теперь и семья, которую он успел вывезти из Али-Масджида. На шум вышел стройный юноша в белой рубахе и серых шароварах — Гафур. Обняв спрыгнувшего на землю отца, он отвел лошадь в конюшню.
Как большинство жилищ небогатых афганцев, особенно в сельской местности, дом состоял из одной просторной комнаты. Плотная занавеска делила ее на мужскую и женскую половины. Файз Мухаммад умылся, переоделся и отправился в летнюю пристройку, куда молчаливая жена в темной хлопчатобумажной сорочке и доходящих до щиколоток шальварах принесла кукурузную лепешку и объемистую кружку молока, а затем миску наскоро разогретой похлебки — шорвы.
Хотя Файз Мухаммад проделал немалый путь, есть ему не хотелось: одолевали тяжкие мысли, да и усталость давала о себе знать. Май подходил к концу. Волна тепла с индийских равнин уже достигла этих мест. В Тезине стояла жаркая, сухая погода. Жена стала выносить постели на плоскую крышу, но кефтан, поцеловав готовившихся ко сну двух маленьких дочек — трех и шести лет, сказал, что будет спать в доме. И Гафур тоже.
— Мы должны выехать на заре. И так, чтобы не привлекать к себе лишних взглядов.
— Вместе с Гафуром? — спросила жена, не выразив удивления. Она привыкла повиноваться без лишних слов, но в ее голосе можно было уловить нотки тревоги.
Молча кивнув, Файз Мухаммад пошел на женскую половину к матери. Здесь, у стены, на которой висел ковер, стояла деревянная кровать, чарпай, застланная кошмой. На ней лежала укрытая одеялом старая женщина. В нише мерцал светильник — чираг. Его колеблющийся огонек едва рассеивал царивший мрак.
— Салам алейкум, адэкэй, — склонился над матерью Файз Мухаммад. — Здорова ли ты?
— Мне уже много лет, сынок. Какое тут здоровье… Вижу тебя — и слава Аллаху!
— Я причиню тебе боль, адэкэй, но ты ведь знаешь, чем плохо скрывать, лучше хорошо признаться…
— Уезжаешь? Беда пришла. Все вокруг только и говорят: инглизи, инглизи.
— Да, мать. Я пришел попрощаться. Завтра пораньше двинемся в путь с Гафуром.
— С Гафуром! — словно эхо повторила старушка и всплеснула руками. Огонек чирага всколыхнулся, по стенам и потолку заметались тени.
— Тяжелые времена наступают. Ему пора становиться мужчиной. Как пришлось мне в его годы.
— Бедный Самед-хан, — мать с трудом сдерживала рыдания. — Никогда не забыть тот несчастный день, когда твой отец взял тебя и ушел. Ушел навсегда… Зачем Аллах не покарает этих проклятых инглизи? Они приносят нам столько бед и страданий!
— Худай па аман, адэкэй, да хранит тебя бог, — произнес Файз Мухаммад слова прощания и приник к груди матери. Она гладила его лицо, тревожно всматриваясь в него, словно пытаясь навсегда запечатлеть родные черты.
— Ты стал почти совсем седой, сынок. И это за последние месяцы. Худай па аман! Мы, наверно, уже не увидимся: мне недолго осталось… Будь достоин своего отца. И береги Гафура: он еще так молод…
Стиснув зубы, чтобы и самому не разрыдаться, Файз Мухаммад прижался к матери, а затем резко поднялся на ноги и вышел из женской половины. Уезжать нужно было как можно раньше. Кефтан не сомневался, что его хватятся в Гандамаке и постараются разыскать, чтобы наказать за самовольный отъезд, а возможно, и за дерзкие слова, сказанные миджару Камнари, шайтан бы его побрал! Он уже хотел лечь и немного вздремнуть перед дальней дорогой (намерение отправиться в Герат окрепло окончательно), как со двора донесся тихий, но настойчивый стук в ворота.
«Неужели эмир так быстро догадался послать за мной стражников?» — с тревогой подумал кефтан. На всякий случай он укрылся за углом сарая, наблюдая, как Гафур возится с запором. «Да нет. Они бы стучали как следует, не стесняясь».
Во двор вошел друг юности — Керимджан. Впрочем, худощавый, кудрявый и стройный, как гималайский тополь, Керимджан остался в далеком прошлом. Теперь это был грузный тезинский староста Мухаммад Керим-хан, натягивавший чалму чуть ли не на брови, чтобы скрыть огромную лысину. Тонкий с горбинкой нос стал мясистым и тяжело навис над рыжеватыми усами.
Они обнялись и присели на застланный паласом помост во дворе. Через несколько минут молчаливый Гафур поставил перед ними поднос с чайником и пиалами. После нескольких глотков душистого чая Керим-хан, как принято, расспросил приятеля о его здоровье и здоровье членов его семьи, а затем, после паузы, объяснил, ради чего пришел в столь позднее время.
— Не хотел, дорогой, тревожить тебя в такой час. Всем спать пора… Но увидел случайно, как ты проехал мимо нас. Хмурый, поникший. Подумал, что-то стряслось. С кем? С тобой? С нами? Еще недавно из Кабула новый эмир со своими людьми ехал к Джелалабаду вести переговоры. И ты был среди них. Кто встречался с тобой из наших, говорили, что хоть и не очень был ты весел, но и не жаловался на большую беду. Что произошло? Можешь мне сказать — говори. Не можешь — считай, что я к тебе не приходил.
Еще несколько глотков, и чайник пуст. Гафур тут же заменил его полным. Отец велел ему взять пиалу и принять участие в беседе.
— Ты уже взрослый. Садись с нами и послушай. Так вот, Керимджан. Не был я весел, когда направлялся в Гандамак. Правильно говорили. Чего было радоваться. Нас били, а ответить как следует мы не могли. Не подготовились…
Кефтан с горечью взглянул на старосту. Тот внимательно слушал, покручивая ус.
— Но до полного поражения было еще далеко. И того позора, на какой пошел новый эмир, никак нельзя было ожидать. Он поехал к инглизи, чтобы принять все их требования. Нет, не зря Шер Али-хан держал его в тюрьме. Якуб-хан предал родину, предал народ, предал все, за что боролись, за что погибли наши отцы! Твой и мой… — голос кефтана прерывался от негодования.
Глаза Керим-хана налились кровью, а правая рука нырнула куда-то под халат, нащупывая нож.
— Негодяй! — воскликнул он в ярости. — Почему же ты не прирезал его на месте?
— Ну, прирезал бы. А дальше что? Ведь вокруг него свора единомышленников. Дауд Шах и другие. Да и войска инглизи неподалеку. Они наготове. Может, Якуб-хан что-то задумал. Время покажет. Но инглизи так просто не откажутся от своих замыслов. А хотят они одного — надеть нам ярмо на шею. Это ясно. Не удалось сорок лет назад, думают, получится сейчас.
Файз Мухаммад незаметно посмотрел на сына: Гафур сидел, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Как же теперь быть? — спросил староста. — Что ты намерен делать? Нам к чему готовиться?
— Ты задаешь такие вопросы, дружище, на которые ответить непросто. Во всяком случае, пока. Знаю только одно: надо поднимать народ! Без этого инглизи не одолеть. Так было раньше, так будет и теперь. Нужно оружие, нужны стойкие, хорошо обученные бойцы. И в Тезине тоже надо этим заняться…
— Ты опытный военный, — обрадовался Керим-хан. — Этим и займешься!
— Нет, — с грустью возразил кефтан. — Конечно, неплохо было бы остаться здесь. Семья рядом. Мать очень слаба… Но я покинул эмира, не спросясь. Да еще обругал главного инглизи, с которым шли переговоры, — миджара Камнари. Меня схватят, посадят в тюрьму, а то и казнят…
Гафур вздрогнул.
— Я должен уехать. И куда-нибудь подальше.
На всякий случай Файз Мухаммад решил умолчать о своих намерениях. Кто его знает, как все получится.
Староста понимающе кивнул и поднялся.
— Ну что ж, Файз, удачи тебе. Не забывай земляков. На нас ты всегда можешь положиться. Не подведем.
— Спасибо, Керимджан, готовьтесь к борьбе.
Они обнялись.
Через несколько часов, в предрассветных сумерках, два всадника, отец и сын, выехали из Тезина. Одеты они были так, чтобы не привлекать внимания: подпоясанные кушаками легкие темно-серые халаты, белая чалма на голове отца, тюбетейка — у сына, обычные светлые штаны со множеством складок, на ногах грубые сыромятные сандалии с широкими ремнями. За спинами небольшие мешки: нехитрая снедь, белье. Путники как путники.
…Любой мало-мальски уважающий себя торговец, отправляясь из Кабула в Герат, двинется старинной проторенной дорогой на Газни. Так же поступит и сановник, едущий для ревизии, и богатый паломник, посещающий мусульманские святыни. И в самом деле, их ждет хорошая дорога с караван-сараями, а главное — города Газни, Калати-Гильзаи, Кандагар, Гиришк, Фарах, где можно отдохнуть, уладить дела, встретиться с полезными людьми, обменяться новостями. Не беда, что на этом пути придется преодолеть многие сотни миль. На Востоке время не всегда течет быстро, а приятная беседа может с лихвой возместить потерянные дни. Да и потеря ли это? Все предначертано свыше, и роза, что расцвела до срока, быстро вянет…
Но Файз Мухаммаду было не до бесед. Он торопился. Очень торопился. Он так спешил, что даже обогнул Кабул, тем более что там его могла ждать опасность — распоряжение эмира об аресте. Около Вазирабада кефтан с Гафуром достигли Газнийской дороги, но следовали по ней лишь до ближайшего большого селения, Арганди. Там торный караванный путь сворачивал к югу, а прямо на запад, к Герату, вела Хазарейская тропа. Через Газни и Кандагар обычный караван двигался до Герата пятьдесят дней. Всадник мог одолеть этот путь за тридцать пять дней, а чтобы добраться до Герата через Хазараджат, требовалось только три недели. Но дело было не только в быстроте передвижения. Власть кабульского эмира не простиралась дальше перевала Аобанд, лежавшего в трех переходах к западу от Арганди. Миновав эти края, Файз Мухаммад мог уже не беспокоиться, что его перехватят стражники Якуб-хана.
Здесь когда-то, в давние времена, находилось основное ядро обширной страны Гур, и даже завоеватели-арабы не смогли проникнуть в ее ущелья. За последние шесть веков никому из иноплеменных правителей не удавалось утвердить свое господство над свободолюбивыми горцами. Со всех сторон Хазараджат ограждали скалистые хребты, будто неприступные крепостные стены. Зимой, когда выпадали глубокие снега, нечего было и думать о том, чтобы пробраться из селения в селение. Возможно, поэтому и жили хазарейцы разобщенными племенами: якауланг, дайзанги, дайкунди, бесуд и многие другие.
Да и деревни горцев, обнесенные высокой квадратной глинобитной стеной с башнями по углам, напоминали крепости. Чтобы не занимать годные под посевы земли, хазарейцы селились на самых неудобных каменистых склонах, что, кстати, помогало жителям обороняться от вражеских набегов. Поля были обсажены рядами деревьев, а выше, на горных лугах, кое-где виднелись летовки, сложенные пастухами овечьих отар из грубых каменных плит.
В селениях, где путники останавливались на ночлег, Файз Мухаммада звал к себе старшина и, узнав, что кефтан с сыном пробирается в Герат, чтобы не жить под игом насильников-инглизи, сочувственно расспрашивал о событиях в Кабуле. Простые крестьяне относились к путникам с еще большим теплом, старались угостить, чем могли, и с привычным для горцев гостеприимством никогда не брали ни единого гроша. Кефтана поражала их отзывчивость, но все чаще он с тревогой думал о том, как его примет гератский владетель. Поверит ли искренности, проявит ли любовь к родине? Или верх возьмут родственные чувства? Тогда ему, вероятно, не сносить головы. Все в руках Аллаха… Но появятся же люди, которые поймут, какая страшная беда нависла над страной!
От этих раздумий, не оставлявших Файз Мухаммада ни днем, ни ночью на протяжении всего долгого пути, его отвлекал только Гафур. Он вел себя с достоинством и самообладанием, присущими, скорее, взрослым, опытным людям: не жаловался на трудности, безропотно переносил все лишения и дорожные невзгоды, был немногословен, но с напряженным вниманием слушал рассказы отца о сражениях прошлой войны, о недавних событиях. По тому, как загорались глаза Гафура, когда речь шла об успехах афганского оружия, о доблестном Акбар-хане и его сподвижниках, о храбрости деда, Самед-хана, Файз Мухаммад мог судить о чувствах, волновавших сына. А тот с еще большей готовностью седлал своего коня, ухаживал за ним. Он похудел, лицо его обострилось, резче стали выделяться скулы. Недоедание порой давало о себе знать легким головокружением, но, если бы Гафура спросили о самых счастливых днях в его пока еще недолгой жизни, он без малейших колебаний назвал бы те, которые провел с отцом в путешествии по Хазараджату.
Давно остались позади долины рек Кабул и Гильменд, по которым они ехали, обогнув столицу. Кефтану не доводилось ранее бывать в этих краях, и он приглядывался к редким попутчикам, стараясь не привлекать к себе внимания ненужными расспросами.
На десятый день после выезда из Тезина, преодолев самую трудную часть пути, отец с сыном достигли долины реки Герируд. Файз Мухаммад хотел было остановиться на дневку в большом селении Даулатъяр, чтобы Гафур немного отдохнул, но тот уговорил отца сразу ехать дальше. За Даулатъяром, вблизи Бадгаха, виднелись развалины. По словам местных жителей, тут некогда находилась столица громадного государства Гуридов, низвергнувших могущественных Газневидов.
Дневные переходы были не очень большие, но времени и труда отнимали немало. Часто скалы подступали вплотную к речному руслу, и тогда узкая тропа, петляя, уводила ввысь. Встречались настолько крутые подъемы, что приходилось спешиваться и вести коней в поводу. Порой из-за крутизны склонов лошади карабкались рывками; в таких местах находившийся впереди человек подвергался опасности: конь мог сбить его в пропасть. Спускаться бывало не легче, особенно если попадалась каменная осыпь. В результате расстояние, преодолеваемое по обычной горной дороге за пять-шесть часов, здесь удавалось осилить с огромным напряжением за десять-одиннадцать часов. После такого перехода можно было думать лишь об отдыхе, и все же у Файз Мухаммада иногда еще хватало сил, чтобы побеседовать с обитателями этих краев о давних временах.
Добравшись после Бадгаха до крупного селения Калаи-Ахангаран, тезинцы узнали некоторые подробности из прошлого древнего государства Гур. Могучие горы здесь с обеих сторон так сжимали Герируд, что узкая и мрачная теснина, где бурлила река, выглядела словно прорубленная гигантским мечом в скалистых отвесных глыбах. Пробиться через нагромождение скал вверх, к гребню хребта, дорога не могла — она круто сворачивала в боковое ущелье. У входа в это ущелье вздымалась стоявшая несколько поодаль одинокая гора. Она прочно запирала подступы к Калаи-Ахангарану с востока и с запада. Лишь птица, да и то не всякая, могла преодолеть зубцы суровых скалистых хребтов. Как военный человек, Файз Мухаммад сразу оценил неприступность позиции и, вглядевшись, заметил у самой вершины одинокой горы остатки разрушенной крепостной стены.
Ночевать они остановились у малика, старшины Калаи-Ахангарана; впрочем, его власть распространялась и на многие соседние деревни. Малик был уже глубоким старцем, много видевшим и пережившим на своем веку. После ужина, перед сном, он охотно рассказал, как в молодости с отрядами хазарейцев добровольно помогал эмиру Дост Мухаммаду бороться против напавших на Афганистан инглизи.
Файз Мухаммад вспомнил неприступную гору, некогда опоясанную стеной, и спросил:
— Надежная была защита?
Старшина усмехнулся:
— Ты думаешь о нашей крепости? Да, некогда ее мощь пугала врагов. Но ведь она уже не одну сотню лет лежит в развалинах. И не такие твердыни падают, если мужество оставляет защитников…
И малик, прочитавший, по его словам, все старинные рукописи, где повествовалось об истории Гура, рассказал предание об ахангаранской крепости.
— Когда-то, в старину, здесь была столица правителя Гура, не пожелавшего склониться перед повелителем всех известных человеку стран — великим султаном Махмудом Газневи. Когда весть о такой дерзости достигла ушей султана, он собрал многотысячное войско и сам отправился походом на Гур. Два месяца осаждал грозный Махмуд крепость на ахангаранской горе и совсем уже потерял надежду взять ее, но нашелся предатель. Прельстившись обещанным ему богатством, он открыл врагам крепостные ворота. Ворвались солдаты… Правитель Гура по велению султана был казнен, а предателя сбросили с обрыва напротив нашего селения. Он разбился о скалы, и земля вокруг них, забрызганная нечистой кровью, навеки стала красной. С тех пор, если случайный путник, не ведающий о проклятии, тяготеющем над этими багровыми камнями, ляжет, утомленный, там отдохнуть, он уже никогда не встанет, отравленный ядом предателя…
— Хороший рассказ, — почтительно похвалил Файз Мухаммад старца. — Надо, чтобы его услышали все те, кто отравлен ядом покорности и предательства!
— А ты послушай, что произошло потом, — назидательно произнес малик и продолжал. — Сыновья гурского правителя, казненного султаном, поклялись отомстить газневийским владыкам. Но силы были неравны, и вместо сладости победы они испили горечь поражений. Их дети продолжали дело отцов, однако и они отступали перед гордой неприступностью стен Газни, сложенных прославленными мастерами. И лишь правнук владетеля Гура, черпавший силу и настойчивость в ярости отмщения, не впал в уныние. Через сто сорок лет он сровнял с землей великолепную столицу Газневидов. Три дня и три ночи бушевало пламя пожара, уничтожая дворцы, дома и базары Газни, навеки закатилась слава его властителей, а победителя, отомстившего за былой позор Гура, прозвали с тех пор Джехансуз, Поджигатель Вселенной…
Малик умолк. Гафур слушал его рассказ словно зачарованный. Файз Мухаммад тоже был настолько увлечен услышанным, что даже забыл поблагодарить старшину. Потом он спохватился:
— Спасибо тебе за поучительную историю! Только вот что… Ты говоришь, ярость отмщения дает силы для победы. Это очень хорошо. Но ждать сто сорок лет мы не можем. Такое ожидание будет похоже на предательство. Уж если нам самим не удастся воздать инглизи сторицей за унижение родины, то пусть наше дело продолжат сыновья.
И, повернувшись к Гафуру, спросил:
— Ты поклянешься продолжать дело своего отца и деда — до конца дней бороться с врагами родины?
Юноша встал и молча, в знак обета, склонил голову.
Старец тоже поднялся и, воздев кверху руки, торжественно сказал:
— Да не иссякнет ваша воля и сила!
На следующее утро, тепло попрощавшись со старшиной Калаи-Ахангарана, тезинцы двинулись дальше. За перевалом Хутур-Хун дорога, описав огромную, вытянутую к югу дугу в обход намертво сжавших Герируд скал, снова вывела путников в долину этой реки. После суровых красок Хазараджата совершенно иной мир открылся перед глазами Файз Мухаммада и Гафура.
В первом же селении, Кафтар-Хона, их поразили странные сооружения из сырцового кирпича. Крупные, массивные, без единого окна внизу, они завершались башнями со множеством отверстий.
Герат.
Одолеваемый любопытством, Гафур набрался смелости и решил проявить самостоятельность.
— Кто живет в этих домах, аба? Какой народ? — спросил он у стоявшего близ одного из таких строений долговязого усача в полосатом халате.
У того округлились глаза, и он визгливо расхохотался, хлопая себя по бедрам.
— Какой народ в этих домах? Ха-ха-ха…
Наконец он успокоился и подошел поближе к побагровевшему от неловкости подростку:
— Насмешил ты меня, сынок… Это не дома, и никакой народ тут не живет. Это голубятни. А дырки сделаны, чтобы птицы могли свить побольше гнезд. Гератцы — люди хитрые. Им нужно много удобрений для своих полей. Вот голуби и помогают им. Понял?
Гафур поблагодарил за объяснение, а про себя решил, что получил хороший урок за проявленное любопытство, недостойное настоящего мужчины. Впрочем, его внимание отвлекли величественные развалины древней мечети Ходжаи-Чишт.
Скоро настал черед удивляться Файз Мухаммаду: нигде до того он не видел столь ухоженных полей и садов, столь широкой полосы тщательно обработанной земли. Это был Гератский оазис, один из древнейших очагов мировой земледельческой культуры.
Услыхав восклицание сына, въехавшего на пригорок, кефтан пришпорил База и подскакал к нему. Гафур не случайно нарушил данное самому себе обещание проявлять сдержанность. Внизу, на некотором отдалении, вырисовывался огромный, почти правильный квадрат мощной стены. Внутри этот квадрат был сплошь заполнен множеством укрывшихся в зелени строений. В центре — крыши, крыши, крыши, а к середине северной стены примыкали громадные башни и бастионы могучей крепости. То тут, то там к небу вздымались минареты; их облицовка ярко горела в лучах еще не успевшего высоко подняться солнца.
Древний Герат…
Дорога, слегка изгибаясь, спускалась к северо-восточному углу городского вала, где были сооружены ворота Кутабчак, одни из четырех ворот города. Вся окружающая местность представляла собой густой массив садов, огородов и виноградников — дома жителей в полном смысле слова утопали в них.
«Что ждет нас здесь? — подумал Файз Мухаммад. — Будем надеяться, что Аллах вразумит молодого правителя! Как бы то ни было, приехали».
Вскоре его с сыном поглотил лабиринт улочек Герата.
Глава 12 МИРНЫЙ ДОГОВОР
Четвертого дня месяца джумади-ус-сани 1296 года хиджры, или в понедельник 26 мая 1879 года христианского летосчисления, в огромном шатре на окраине Гайдамака готовилось торжественное подписание договора между Британской империей и Афганистаном. Снова выстроился гусарский эскадрон, у пушек замерли артиллеристы. На этот раз к салюту изготовились девять орудийных расчетов: англичане уже полуофициально признавали Мухаммада Якуб-хана «независимым, самостоятельным правителем». Новым в ритуале был военный оркестр. Ревом труб, грохотом барабанов и литавр возвещалось наступление этапа доверия в англо-афганских отношениях.
В назначенный срок, к 12 часам, с двух сторон подъехали эмир Афганистана Мухаммад Якуб-хан со свитой и британский политический чиновник по особым поручениям майор Каваньяри со своими помощниками. Поддерживаемый придворными, эмир сошел с лошади и, не глядя по сторонам, в сопровождении мустоуфи Хабибуллы-хана и сипахсалара Дауд Шах-хана вошел в шатер, где на маленьком столике лежали письменные принадлежности. Следом за ним, сопровождаемый Дженкинсом, направился Каваньяри с двумя экземплярами договора в руках — на английском и персидском языках. Еще несколько минут, и грянул залп. Он свидетельствовал о том, что в Гандамаке родился исторический документ, установивший искреннюю приязнь и сердечную дружбу между Лондоном и Кабулом.
В завершение торжества предусматривался обмен поздравительными телеграммами между афганским эмиром, пребывающим в Гандамаке, и вице-королем, находящимся за сотни миль от Гандамака, в Симле. Осуществлялся он при помощи аппаратов военного телеграфа, установленных здесь англичанами. С одной стороны, это был жест внимания одного из столпов могущественной империи к правителю не очень значительного государства для поощрения его дальнейшего сближения с Лондоном, а с другой — демонстрация британской технической мощи перед «невежественным дикарем» из горной глуши…
Каваньяри внимательно наблюдал за реакцией Якуб-хана на приветствие лорда Литтона. Как он и ожидал, эмир проявил обычную нерешительность и вялость; он оглядывался то на Хабибуллу-хана, то на Дауд Шах-хана, словно дожидаясь от них совета, в какой момент следует выразить вполне уместный в этом случае восторг.
Однако после этой церемонии эмир неожиданно обратился к Каваньяри с требованием вывести войска из тех областей, которые по договору возвращались Афганистану. Майор был вынужден разъяснить Якуб-хану, что по санитарным соображениям это нельзя сделать немедленно, а главное, мирное соглашение еще не утверждено вице-королем и, стало быть, не вступило в силу. Тогда афганец стал настаивать на быстрейшем утверждении документа. Поскольку это отвечало интересам самого Каваньяри, он принял необходимые меры.
На рассвете следующего дня майор Каваньяри вложил драгоценный договор в сумку и передал ее своему помощнику. Дженкинс повесил ее через плечо и вскочил на коня. Несколько мгновений — и он исчез за поворотом горной дороги, пыльной и каменистой. Не вылезая из седла в течение тринадцати часов, он проскакал 120 миль до Пешавара, там пересел в экипаж, затем в поезд, потом в коляску и помчался в Симлу.
…В затерянной среди Гималаев Симле было значительно прохладнее, чем в равнинных районах Пенджаба, которые только что проехал Дженкинс. Сосны и гималайские кедры мерно покачивались под порывами ветра, долетавшего с гор, покрытых вечными снегами.
30 мая 1879 года в большом зале «Белого дома» за столом заседаний собрались члены Совета при вице-короле. Их внимание привлек молодой человек, скромно сидевший у стены. Лорд Литтон заметил это и представил его:
— Джентльмены, перед вами вестник богов в форме Индийской гражданской службы.
Коллеги Литтона, уже освоившиеся со склонностью своего шефа к образной речи, на этот раз недоуменно молчали. Выдержав паузу и насладившись озадаченностью членов Совета, вице-король продолжал, улыбаясь:
— Полагаю, вы не забыли заявление лорда Биконсфилда в палате общин о случайном и ненаучном характере северо-западной границы Индии… В моих руках документ, призванный коренным образом выправить положение. Это подлинный текст договора с афганским эмиром, и привез его для ратификации со сказочной быстротой мистер Уильям Дженкинс.
Раздались легкие аплодисменты.
— Но речь идет уже не только о новой границе. В конце концов эта проблема не столь уж сложна для решения. Мы пошли дальше. Майор Каваньяри, чьи донесения из Пешавара вам достаточно известны, смог по нашим указаниям весьма умело договориться в Гандамаке о практическом подчинении Афганистана британским интересам. Пройдет немного времени, и, я не сомневаюсь, эта страна станет великолепным плацдармом для распространения нашего влияния за Гиндукуш.
Лица сидящих в зале выражали явное удовлетворение.
— Итак, в договоре десять статей. Одна содержательнее другой. Первая устанавливает вечный мир между нами и эмиром с его преемниками. Вторая избавляет любого из его подданных, оказавших нам содействие, от какой-либо ответственности — весьма перспективный пункт, смею вас заверить… Третья — прошу внимания! — обязывает эмира, я читаю, «вести свои сношения с иностранными государствами в соответствии с советами и пожеланиями английского правительства». Иными словами, без нашего на то согласия ему не дозволяется вступать ни в какие контакты с другими странами. Полный контроль, джентльмены! Разумеется, мы окажем афганскому правителю помощь против чужеземцев деньгами, оружием, войсками, но, заметьте, «таким образом, какой британское правительство признает наиболее полезным для этой цели».
Лорд Литтон сиял. Его эмоциональное выступление произвело ожидаемое впечатление, а для человека, склонного к буффонаде и некоторому позерству, это было небезразлично.
— Четвертой статьей представитель Великобритании с надлежащим конвоем допускается в Кабул. Нам, к сожалению, пока не удалось добиться размещения своих людей в других афганских городах. Пока… Но резиденту в Кабуле дается право посылать агентов — и тоже с конвоем — в любые пограничные пункты, куда он сочтет нужным. Это также позволит нам контролировать обстановку и готовить почву для дальнейшего продвижения. Англичане — народ щедрый и великодушный, вам это не нужно объяснять, джентльмены, и мы разрешили его высочеству эмиру отправить своего человека, чтобы он состоял при вице-короле или находился в любом месте наших владений в Индии. Не думаю, чтобы Якуб-хан вообще воспользовался такой возможностью: она ему ни к чему.
Бросив взгляд на текст договора, Литтон продолжал.
— Пятая статья серьезна лишь наполовину. Я имею в виду ту ее часть, которая гласит, что афганские власти гарантируют безопасность представителям Британской империи и соответствующее обращение с ними. Вторая же ее половина, где говорится о невмешательстве этих представителей во внутренние дела Афганистана, — лишь дань условностям. Во-первых, не всегда ясно, где кончается внутренняя политика и начинается внешняя, при осуществлении которой эмир обязан советоваться с нами. Во-вторых, внутренние дела, как известно, чрезвычайно многообразны, и следующие три статьи подчеркивают, что мы не можем, а значит, и не будем стоять в стороне от их развития в Афганистане.
Вице-король обвел взглядом сидящих за столом.
— Я продолжаю, джентльмены. Правитель Кабула отныне обязывается оказывать содействие торговле английских подданных в его землях, защищать их интересы, облегчать провоз товаров, улучшать дороги, что, кстати говоря, может оказаться полезным для нас и в случае возобновления военных действий… От афганской столицы в Индию срочно протягивается телеграфная линия. Создается новый рынок сбыта наших товаров, что уже само по себе имеет немаловажное значение. А если проникнуть далее, в глубины Азии, в Бухару и Хиву, Коканд и Кашгар и еще бог весть куда… Чем же мы расплачиваемся с Якуб-ханом за все это великолепие? Его собственными городами — Кандагаром и Джелалабадом: по статье девятой они возвращаются эмиру. Но! — Палец Литтона предостерегающе устремился ввысь. — Мы удерживаем за собой округа Куррам, Пишин и Сиби, а это плацдарм для удара по афганской столице и важнейшим пунктам — Кандагару и Газни. Кроме того, в наших руках остаются Хайберский и Мичнийский перевалы на кратчайшей дороге в Кабул и контроль над проживающими там племенами. Наконец, десятая статья предусматривает выплату эмиру и его наследникам шестисот тысяч рупий в год. Это золотая цепь, которая прикует его к нашей колеснице. Полагаю, что индийские налогоплательщики не разорятся из-за этой мизерной в общем бюджете суммы!
— Короче говоря, — резюмировал вице-король, и глаза его засверкали, — мы наконец-то будем иметь в Афганистане своего эмира. Полковник, — неожиданно обернулся он к сидевшему за его спиной Колли. — Запишите, пожалуйста, следующую телеграмму в Лондон и распорядитесь о ее немедленной отправке: «Договор с эмиром ратифицирован. Англичане получают преобладающее политическое положение и влияние в Афганистане, которое всегда было открыто признанной целью британской политики, но которого правительство Великобритании ранее не могло добиться».
Члены Совета бурно выразили свое одобрение.
Отныне сфера господства Британской империи расширялась не только до Гиндукушского хребта, на чем настаивали наиболее решительные колониальные деятели Англии, но и дальше, до Амударьинской долины.
— Ну а теперь нам с вами надлежит осуществить приятную юридическую процедуру, — сказал, широко улыбаясь, Литтон. И он вывел свою фамилию под текстом Гандамакского договора. Затем на документе появилась надпись: «Трактат этот ратифицирован его светлостью вице-королем и генерал-губернатором Индии, в Симле, в пятницу, 30 мая 1879 года. А. К. Лайелл, секретарь индийского правительства по департаменту иностранных дел».
Один из экземпляров договора был вручен Уильяму Дженкинсу, и, удостоенный рукопожатия лорда Литтона, он двинулся в обратный путь.
Литтон с полным основанием принимал поздравления. А в них недостатка не было… «Сердечное одобрение» по поводу заключения Гандамакского трактата выразил статс-секретарь по делам Индии лорд Крэнбрук. Особо выделив статью, предусматривающую присутствие британского резидента в Кабуле, он назвал ее «очень важным моментом одержавшей верх политики и многообещающей мерой укрепления дружбы между обеими странами». Крэнбрук писал Литтону: «Правительство ее величества с глубоким интересом ознакомилось с ясным и умелым изложением политики правительства Индии в связи с происшедшим в Афганистане, которое содержится в вашем письме… и искренне одобряет действия вашего высокопревосходительства в течение всего критического периода, закончившегося теперь… Ваше высокопревосходительство и ваши коллеги проявили как сдержанность и благоразумие, так и точную оценку намеченной цели. Правительство ее величества уверено, что, если политика, изложенная в Гандамакском договоре, заключению которого ваше высокопревосходительство так сильно способствовали лично, будет последовательно проводиться, это обеспечит и британские и афганские интересы и укрепит стабильность и мир империи».
«Поэта в Симле» несколько шокировала тяжеловесность стиля Крэнбрука, однако этот недостаток вполне компенсировался признанием заслуг Литтона, его личной и непосредственной роли в афганском деле. Вице-король даже улыбнулся этому обстоятельству: хотя он и считал себя человеком достаточно широких взглядов, которому не присуще мещанское тщеславие, высокая оценка его деятельности статс-секретарем по делам Индии — не самый неприятный момент в его биографии.
В том же духе звучало и письмо министра иностранных дел лорда Солсбери: «Я не могу отказать себе в удовольствии тепло поздравить вас с окончанием этого дела, увенчавшегося большим успехом, которого вы достигли, проявив при этом блестящие качества…»
Однако наибольшую радость доставило послание премьера, только что одержавшего победу в борьбе со своими парламентскими противниками. «Я пишу вам теперь, по окончании длительной и трудной кампании, которая завершилась триумфом для правительства ее величества, — говорилось в нем. — В значительной степени благодаря вашей энергии и предусмотрительности мы получили научную и адекватную нашим пожеланиям границу своей Индийской империи… Что бы ни случилось, для меня всегда будет источником истинного удовлетворения мысль, что именно я имел возможность возвести вас на престол Великого Могола».
Само собой разумеется, правительство ее величества достойно отметило тех, кто своим прямым участием подготовил договор, низводящий еще одну страну на положение вассала Британской империи. Да какую страну! Афганистан, тот самый Афганистан, где английскому оружию некогда было нанесено жестокое поражение. Прежде всего награда украсила грудь сэра Пьера Луи Наполеона Каваньяри. Сэра! Ибо бравый майор стал счастливым обладателем ордена Бани рыцарской степени, дающей право на личное дворянство.
А виконт Крэнбрук, выражая в палате лордов благодарность армии, обеспечившей столь благоприятное развитие событий, специально выделил роль майора. В своем обычном тяжеловесном стиле статс-секретарь по делам Индии заявил: «Хотя имеется ряд имен, не упомянутых среди тех, кто наиболее заметно проявил себя на поле брани и в совете, я полагаю, что ваши лордства сочтут неоправданным умолчание о некоторых, и среди них следует назвать имя такой выдающейся личности, как майор Каваньяри, который договорился о соглашении с эмиром. До событий в Афганистане его имя было мало кому ведомо в Англии, но теперь оно хорошо известно благодаря его уму и прозорливости, позволившим ему добиться мирного договора, что в менее искусных руках могло окончиться неудачей».
Орден Бани получил и Альфред Лайелл. А что же их шеф, вдохновлявший и направлявший все действия? Не ограничился же Лондон одними только похвальными посланиями? Конечно, нет. Но для фигуры такого масштаба, как вице-король Индии, успехи в Афганистане были лишь эпизодом, и его многосложную и разнообразную государственную деятельность следовало оценивать в комплексе. Барону Литтону конфиденциально дали знать, что готовится королевский указ о возведении его в графское достоинство.
Как ни странно, в Британской империи нашлись люди — и весьма авторитетные, — у которых итоги переговоров в Гайдамаке вызвали отрицательную реакцию. Так, генерал Фредерик Робертс, крайне раздосадованный тем, что его с войском остановили в Куррамской долине, считал, что время для таких переговоров еще не наступило, да и место было выбрано неудачно. Афганцев следовало разбить наголову, дать им испить чашу поражения, заставить начисто забыть злосчастное отступление англичан из их земель и лишь потом продиктовать условия мира. И не в жалком селении, а в Кабуле, доказывал генерал. А так — что же? Ни сколько-нибудь серьезных битв, ни даже заслуживающих упоминания столкновений. Противник не смог почувствовать военного могущества Британии и ее полного превосходства над его силами.
Иначе оценивал Гандамакский трактат один из предшественников Литтона на посту вице-короля — лорд Лоуренс. Являясь сторонником осторожной политики по отношению к Афганистану, лорд Лоуренс, узнав о намеченной отправке в Кабул британских представителей, воскликнул: «Все они будут убиты, все до одного!» Что же, для такого суждения умудренный опытом политик имел все основания: он долгие годы жил на Востоке и отлично знал, какие чувства вызывали у местных народов люди, олицетворяющие колониальную политику.
Но, окрыленный успехом, «Великий Могол» не придавал значения брюзжанию явно выживающего из ума старца…
Когда на британских военных и политиков, обеспечивших для империи «научную и безопасную границу» на Востоке, излился дождь наград, лорд Литтон собрал в своем доме на Обсервационном холме в Симле самых близких соратников и помощников, чтобы еще раз выразить им свое одобрение. Кроме полковника Колли, ставшего, как здесь шутили, двойником вице-короля, здесь были братья Стрэчи, Альфред Лайелл и генерал Нэвилл Чемберлен. Поужинав, гости перешли в библиотеку, где непринужденно устроились в креслах. Дымились ароматные сигары, незаметно и бесшумно появлялись слуги: они вносили вазы с фруктами или наполняли бокалы.
— Я благодарен, господа, вам всем и каждому в отдельности за плодотворное сотрудничество и неоценимое содействие в исключительно важном деле! — произнес Литтон. — Не будем излишне скромны: мы вплели новые лавры в венок успехов Британской империи…
Раздались тихие аплодисменты: чувствовалось, что присутствующие удовлетворены сознанием исполненного долга.
— У меня нет оснований выделять кого-либо, но все же я хочу сказать несколько слов о нашем дорогом Джордже…
Колли приподнялся и сделал легкий поклон.
— Ни для кого не секрет, что полковник был душой наших стратегических планов и замыслов. Его личная храбрость, проявленная в сражениях во славу нашего оружия в Африке и Китае, прекрасно дополняется пытливостью его ума. Признаюсь, некоторые поступки Джорджа даже выше моего разумения. Он изучил русский язык, и это понятно: надо знать противника, но он в совершенстве овладел также химией и — хотите верьте, господа, хотите нет — политэкономией!
Генерал издал какое-то восклицание, тогда как братья Стрэчи и Лайелл, питавшие серьезный интерес к экономическим проблемам, весьма оживились.
— Джордж великолепно справлялся с непростыми обязанностями военного, а затем и личного секретаря вице-короля. Я с радостью и удовлетворением воспринимал награждение его орденами. Он их заслужил по праву: в том, что мы, по существу, владеем Афганистаном, немалая доля его труда. Но, увы! Ничто не вечно, и мой маленький спич вызван тем, что полковник Колли покидает нас…
— Почему? — изумился Лайелл.
— Печально и глупо, но наши неустрашимые войска встретились с неудачами в Зулуленде. Туда перебрасывают солдат с Кипра, и генерал Уолсли просил уступить ему служившего в Африке Джорджа. Мне очень жаль расставаться с ним, но речь идет о назначении на важный пост начальника штаба армии Уолсли… Я не хочу мешать дальнейшей карьере доблестного Колли и дал согласие на его отъезд.
Со всех сторон посыпались поздравления. Колли кланялся и пожимал руки.
— А вы знаете, господа, какая мысль пришла мне сейчас в голову? — спросил он вдруг.
— Любопытно. Какая же?
— Я подумал, что если бы мы действовали решительно и энергично в семьдесят шестом году, то дурбар семьдесят седьмого года выглядел бы еще более пышно и на нем присутствовал бы представитель еще одного вассального государства!
— Я понял Джорджа, — мгновенно откликнулся лорд Литтон. — Королева была бы провозглашена императрицей Индии и Афганистана!..
…Этот дурбар, сразу же прозванный «дурбаром непревзойденного великолепия», был важнейшим политическим событием и являл собой потрясающее зрелище. Задуманный хитроумным государственным деятелем Дизраэли, он был организован человеком с богатым воображением — лордом Литтоном, а скорее — поэтом Оуэном Мередитом.
На равнине к северу от Дели, близ Кашмирских ворот, словно по мановению волшебного жезла, возник сказочный городок. Место было выбрано не случайно. Неподалеку — Дели, столица бывшей империи Великих Моголов. И здесь же за двадцать лет до того развернулись основные события Мятежа — народного восстания против английского владычества. Теперь тут предстояло провести торжественнейшую церемонию — провозглашение королевы Виктории императрицей Индии.
Среди бесконечного ряда палаток для участников торжества возвышался шестиугольный императорский шатер, убранный дорогими тканями и коврами и напоминавший древнеиндийский храм. Подле него высилась колонна с двумя позолоченными буквами на ней I. V. — «Императрица Виктория». На высокой мачте реял государственный флаг Великобритании.
За шатром вырос громадный павильон. Его крыша с ажурной резьбой по краям держалась на столбах, на которых пестрели флаги, значки и флажки индийских властителей. Для них — махараджей, султанов, раджей, навабов и других вассалов английской короны, прибывших в сопровождении многочисленной свиты и вооруженной охраны на сотнях слонов, лошадей, верблюдов, мулов, — и был воздвигнут этот павильон, где они разместились строго по старшинству. Рядом с ними находились и английские официальные лица, а также другие приглашенные. Драгоценные камни щедро украшали тюрбаны, чалмы и одежду правителей. На равнине собрались тысячи людей в живописных нарядах. В пестрой толпе то тут, то там мелькали красные и голубые мундиры британских офицеров.
Это был первый день нового, 1877 года. Мягкое зимнее солнце озаряло равнину. Под балдахином у императорского шатра занял свое место вице-король — или теперь уже вице-император? — Индии лорд Литтон. Его подбитая горностаем голубая мантия сверкала вышитыми золотом листьями лотоса. Шлейф поддерживали два пажа — англичанин в костюме времен первых Стюартов и индиец, сын кашмирского махараджи в тюрбане и усеянной драгоценностями национальной одежде.
Под негромкие звуки оркестра, игравшего марш из «Тангейзера», началась церемония представления князей вице-королю. Она протекала по традиционным канонам восточного этикета и изрядно утомила собравшихся. Наконец с речью выступил лорд Литтон. Он говорил о либеральных принципах английского правительства, всемерно стремящегося к преобразованиям…
Даже сейчас, почти через два с половиной года после этого празднества, Оуэн Мередит мог бы чуть ли не слово в слово повторить сказанное тогда, при провозглашении королевы Виктории императрицей Индии:
«Ее императорское величество видит дальнейшее благополучное развитие своей Индийской империи только в постепенном и разумном привлечении самого народа к участию в ее мягком и справедливом управлении, а не в завоевании соседних стран. Но обязанности и интересы ее величества не ограничиваются пределами ее собственных владений, и если спокойствию этих владений будет когда-либо с какой бы то ни было стороны угрожать опасность, то императрица Индии всегда сумеет отстоять свое наследство…»
Это были чеканные фразы, тщательно продуманные, ибо эхо от них должно было разлететься далеко.
«…Отныне всякий чужеземец, посягающий на Британскую империю в Индии, должен считаться врагом цивилизации Востока. Неограниченные средства, которыми располагает ее величество, преданность ее подданных делают ее величество достаточно могущественной, чтобы не только оказать сопротивление дерзкому врагу, но и примерно наказать его…»
И раздались звуки труб, залпы орудийного салюта, восторженные возгласы в честь императрицы, и трудно было понять, что звучало громче!..
Да, такое случается не каждое столетие, размышлял Литтон. Жаль, что нельзя было включить Афганистан в число вассалов. Уже тогда этот Шер Али-хан показал свое настоящее лицо: не только сам не приехал, несмотря на настойчивые приглашения, но даже не прислал представителя.
Красивое лицо Литтона нахмурилось. Одно воспоминание потянуло за собой другое. Когда подготавливался «дурбар непревзойденного великолепия», Индию поразил невиданных размеров голод. Он охватил территорию с населением 58 миллионов человек — Бомбейское и Мадрасское президентства, Центральные и Соединенные провинции, многие районы Майсура, то есть практически всю Британскую Индию, — и унес 5 миллионов человеческих жизней. А сколько погибло в княжествах!
Промелькнула мысль, что значительную часть из них можно было бы спасти за счет средств, израсходованных на проведение «великолепного дурбара», но Литтон сразу отогнал ее. Нельзя же в самом деле сравнивать несопоставимые вещи…
Вице-король бросил взгляд на своих гостей; наверняка не у него одного возникли подобные ассоциации. Ведь Ричард Стрэчи возглавлял Комиссию по борьбе с голодом, а его брата Джона пришлось специально вызвать из Северо-Западной провинции, чтобы он занялся аграрными преобразованиями. Но оба Стрэчи молчали, и Литтон еще раз убедился, что лишь его чувствительное сердце способно восстановить в памяти печальные, а иногда и драматические события, дабы торжественное и радостное не заслоняло собой неизбежные тяготы жизни.
Наступила пауза, вскоре нарушенная секретарем по иностранным делам. Лайелл вынул из кармана листок бумаги:
— Джентльмены, трагическая судьба нашего недруга, из упрямства и недомыслия навлекшего на себя и свой народ все бедствия, вдохновила меня на несколько несовершенных строк.
— О, просим, просим!
Ритмично помахивая рукой, Лайелл прочел звучным баритоном:
Когда на ум приходит Шер Али, Покрытый слоем глинистой земли, Когда я вижу, как он принял смерть без стона, Зажатый меж неверными друзьями и врагами,— Британцами лишенный трона, Презренный русскими гостями,— Доволен местью я, постигшею эмира, И вижу руку Бога в этом мире…— Великолепно! Блестяще! — откликнулись слушатели.
Один лишь хозяин некоторое время молчал, шевеля губами, будто пробуя что-то на вкус. Наконец вице-король внушительно произнес:
— Очень, очень неплохо, милый Альфред! И должен подчеркнуть: мне эта вещица нравится не только с поэтической, но и с философско-политической точки зрения…
Глава 13 ГАНДАМАК — НЕ ДЛЯ АФГАНЦЕВ!
Силы Гафура, измотанного длительным путешествием, были на исходе. Он держался мужественно до конца и едва живой от усталости въехал с отцом в расположенный неподалеку от ворот Кутабчак караван-сарай Ходжи-Расула. Когда лошади были привязаны к одному из столбов, поддерживавших навес, он почти рухнул на кошму, покрывавшую деревянный настил для приезжих, и моментально уснул. Кефтан умылся, поел и, возблагодарив Аллаха за благополучное прибытие в Герат, отправился в город.
Одна мысль преследовала его неотвязно: сможет ли гератский правитель по-настоящему осознать, что грозит стране. Ведь ему немногим больше двадцати… Погруженный в раздумье, Файз Мухаммад бродил по улочкам и переулкам, стараясь не удаляться от постоялого двора. Он обходил редких прохожих, не замечая их, прижимался к дувалам, если навстречу двигалась арба или нагруженный ишак. Подсознательно отметил, что с ним разминулся какой-то усатый верзила в красном английском военном мундире с пуговицами разных цветов и формы, но не обратил на это внимание, зная, что афганские офицеры (да и не только офицеры) любят щеголять в таком наряде, надевая его поверх длинных полотняных рубашек и шаровар.
Через несколько мгновений, однако, перед тезинцем возник тот же красный мундир, затем он ощутил резкий толчок в плечо, и на всю округу разнесся басовитый возглас:
— Шайтан меня забери, кажется, на нас снизошла благодать пророка!
Кефтан узнал старого знакомца, Мурада Алима, вместе с которым служил на границе. Балагур и весельчак, Мурад Алим нередко обыгрывал имя друга — Файз, означающее по-арабски «милость», «благодать». Любитель весело пожить, он часто жаловался, что жизнь в захолустье — это наказание, и добивался перевода в какой-либо крупный город.
— А я тебя сразу и не узнал, дорогой Файз! — продолжал грохотать Мурад Алим. — В каком ты виде… Мы расставались кефтанами. Тебя, что, выставили из армии?
— Сам ушел. А ты высоко поднялся, — Файз Мухаммад заметил на мундире приятеля нашивки корнейля, или полковника.
— Здесь это несложно. Мухаммад Аюб-хан заботится о войсках. Ему очень нужны опытные люди. И тебе найдется хорошее место. Но расскажи толком, что произошло.
— Не здесь же. Пойдем в караван-сарай.
Появление корнейля вызвало у владельца постоялого двора порыв усердия и льстивого восторга. Он немедленно переместил Файз Мухаммада с сыном в отдельное помещение. Тут же были поданы чайники с чаем — традиционное начало всякой трапезы на Востоке. Затем появился внушительных размеров ляган, блюдо, с ароматным золотистым пловом. Корнейль выказал завидный аппетит. Его правая рука с непостижимой ловкостью метнулась к горке риса, пальцы молниеносно начали сбивать катышки из риса и мяса, тут же исчезавшие во рту. Тезинцы с восхищением наблюдали за мельканием руки корнейля. Они изрядно проголодались и ели с удовольствием, но поспеть за ним не могли. Энергия Мурада Алима не ослабела и после того, как принесли новый ляган. Когда и тот был опустошен, он тщательно собрал и отправил в рот последние крупинки риса, выдохнув с явным сожалением:
— Ну вот и все! Кажется, немного перекусил… Ничего, скоро обед.
Совершив омовение, офицеры расположились поудобнее, подоткнув под бок подушки, — настал час обстоятельной беседы о делах важных и серьезных.
— Оба мы были кефтанами в Али-Масджиде. Теперь ты — корнейль, я — никто. Но, если ты можешь мне помочь, по не сделаешь этого, не жди прощения ни на этом свете, ни на том, — закончил Файз Мухаммад рассказ о событиях, предшествовавших его появлению в Герате.
— Пугать меня не надо, — тихо, но твердо произнес Мурад Алим. — Как всякий честный афганец, я готов сложить голову за нашу землю. Давай лучше подумаем, как поступить…
На следующий день они встретились у соборной мечети Масджиди-Джума — грандиозного старинного сооружения с множеством куполов, колонн и окон. Построенная великим Гияс уд-Дином из Гура, она сверкала позолотой и радовала глаз разноцветной мозаикой. Искусная резьба украшала ее стены и четыре галереи, и кефтан позволил сыну обойти их, чтобы лучше осмотреть все это.
Помолившись об успешном исходе своих дел, тезинцы и Мурад Алим направились к раскинувшейся на большой площади цитадели.
Они вошли в крепость, когда там шли военные учения. Перед группой богато одетых людей, сидевших на лошадях и стоявших группами, шеренга за шеренгой проходили сарбазы. Их светло-серые рубахи были заправлены в короткие брюки того же цвета, стянутые ремнями до такой степени, что все шагавшие (а их возраст колебался от пятнадцати до шестидесяти лет) казались юношами. На ногах у них были тяжелые башмаки, через плечо перекинуты ружья.
Кефтан окинул маршировавших опытным взором и оценил выучку: четкий строй, неплохие перестроения, отработанные упражнения с оружием. Но вот оружие! У одних были древние джезаили ремесленного производства, у других — тяжелые мушкеты «Коричневая Бесс», отбитые у инглизи еще в первую войну с ними, у третьих — английские гладкоствольные ружья…
Он так увлекся, разглядывая сарбазов, что вздрогнул, когда его плеча коснулся Мурад Алим. Корнейль указал ему глазами на одного из всадников. То был широкоплечий молодой человек в белой чалме и расшитой затейливыми узорами безрукавке. Усы и борода едва пробивались. Богатая сбруя украшала вороного коня, нервно перебиравшего тонкими ногами.
— Мухаммад Аюб-хан! — сообразил кефтан.
В это время откуда-то справа, из-за строений, донесся шум. Он нарастал, и через несколько секунд оттуда высыпала толпа сарбазов. Они бежали к плацу, потрясая зажатыми в руках палками и ножами. Вскоре можно было различить крики: «Долой Хусейн Али-хана!», «Смерть ему!»
Казалось, сейчас град камней обрушится на правителя и его свиту, но он опередил этот миг. Молниеносным движением Аюб-хан развернул коня и стегнул его плеткой. Одно мгновение — и лошадь доставила всадника к застывшей от неожиданности толпе. Молодой афганец соскочил на землю и врезался в гущу сарбазов, не обращая ни малейшего внимания на их ножи и палки.
— Чего шумите?
С разных сторон посыпались восклицания. В этих выкриках можно было разобрать лишь одно — имя полкового командира Хусейн Али-хана.
— Всем молчать! Ну-ка, скажи ты, — правитель ткнул плеткой в грудь пожилого солдата в круглой каракулевой шапочке.
— Чего говорить, сардар? — хмуро проворчал тот. — Не хотим Хусейн-хана! Денег не платит. Ружья продает кому-то. Гоняет людей дом себе строить. Зачем нам такой командир?!
— Не хотим его! Долой Хусейн-хана! — поддержали говорившего другие.
— Хорошо. Я разберусь. Если это правда, он будет смещен, — твердо сказал Аюб-хан и стал выбираться из толпы.
— Хабардар! Берегись! — крикнул Файз Мухаммад.
Он заметил, что к правителю, уже занесшему ногу в стремя, бросился худой сарбаз с высоко поднятой саблей. Она со свистом рассекла воздух, но предупрежденный кефтаном Аюб-хан в последний миг успел отклониться в сторону, и нападавший, потеряв равновесие, упал к его ногам. На него тут же набросились трое солдат, отняли саблю и подняли, скрутив за спиной руки.
— Так… Это что такое? — скорее недоуменно, чем испуганно произнес правитель. — Не трогать его! — махнул он подбежавшим придворным, которые готовы были изрубить покушавшегося. — Под арест. А ты кто, спасший мне жизнь?
Вопрос был обращен к Файз Мухаммаду, но его опередил Мурад Алим:
— Это мой старый друг, сардар. Он приехал издалека. С очень важным делом. К тебе, сардар!
— Хорошо. Приходите вечером. — Аюб-хан круто развернул коня и ускакал.
До вечера Мурад Алим и Файз Мухаммад с сыном бродили по Герату. Внимание тезинцев привлек центр города — Чорсу. Здесь под громадным бревенчатым навесом, крытым рогожей, разместились торговые ряды, где продавались товары из самых разных стран: русские самовары и сахарные головы соседствовали с французскими дуэльными пистолетами, древние манускрипты из Ирана и Аравии — с голландскими подзорными трубами, английские сукна — с китайскими трубками для курения опиума и индийскими шахматами… В чайхане корнейль снова продемонстрировал блистательный процесс своего насыщения, чему еще раз подивились Файз Мухаммад и Гафур.
Плотный обед придал новые силы Мураду Алиму.
— Хотите, я покажу вам кое-что действительно интересное? — спросил он своих спутников и, получив согласие, повел их в окрестности города. Здесь, в местности Газаргах Шариф, где когда-то находилась одна из резиденций гератских правителей, они предстали перед усыпальницей знаменитого богослова XI века Ходжи Абдаллаха Ансари, считавшегося покровителем города и Гератской области. Величественное прямоугольное строение с высокой аркой было сверху донизу облицовано яркими глазурованными плитками различной величины и формы. Гафур, словно зачарованный, застыл перед этим сотворенным из камня великолепием, а потом, робко дотронувшись до отца, чуть слышно выдохнул:
— Как бы я хотел научиться так строить…
Оба офицера широко улыбнулись.
— Многие бы этого хотели. Сейчас таких мастеров нет, — назидательно изрек Мурад Алим.
— Да и время не очень подходящее, — добавил Файз Мухаммад. — Погоди, сынок, тебе еще долго жить. С помощью Аллаха отобьем врага, может, тогда и ты научишься строить, а не сидеть на границе, как я, отбиваясь от инглизи…
Мухаммад Аюб-хан.
После великолепия усыпальницы Ансари их поразила благородная скромность находившейся поблизости могилы эмира Дост Мухаммад-хана, умершего в Герате пятнадцатью годами раньше.
Вечером, оставив мальчика в караван-сарае, корнейль и кефтан отправились во дворец.
Длинный зал, где гератский правитель принимал посетителей, был заполнен народом. Освещенные мерцающим огнем светильников, здесь находились военные и ремесленники, торговцы и крестьяне, пришедшие со всевозможными жалобами и просьбами.
Мухаммад Аюб-хан, в военном мундире со стоячим воротником, сидел в кресле в центре зала. Перед креслом склонился его мирза — секретарь и хранитель печати (ею вместо подписи скреплялись документы), а немного поодаль, на небольшом возвышении, стоял везир. За креслом толпились другие приближенные.
Правитель заметил Мурада Алима и Файз Мухаммада и приказал им подойти поближе.
— С каким же делом ты приехал ко мне издалека?
— Сардар, об этом следует говорить с глазу на глаз, — выступил вперед с поклоном кефтан.
— Тогда подожди немного, — кивнул Аюб-хан.
Он рассудил еще нескольких спорщиков, пообещал двум жалобщикам плети за то, что они тревожат его по пустякам, и велел остальным прийти завтра. Файз Мухаммад тем временем еще раз обдумывал все, что ему предстояло сказать сардару, чтобы как можно меньше задеть его родственные чувства и вместе с тем подчеркнуть чрезвычайную остроту положения. Он размышлял об этом весь долгий путь от Тезина и все же не был уверен, что сможет достаточно убедительно разъяснить этому молодому человеку всю глубину опасности, нависшей над страной и народом.
— Ну, говори, — раздался негромкий, но требовательный голос правителя. Странная вещь: здесь, в торжественной дворцовой обстановке, при неверном свете неяркого пламени, Мухаммад Аюб-хан вовсе не выглядел таким юным, каким еще недавно казался на плацу. Его темные глаза с длинными ресницами смотрели на Файз Мухаммада очень внимательно и даже с затаенным опасением, будто спрашивали: «Что же ты мне привез из своего далека?» Ноздри крупного носа чуть заметно подрагивали, выдавая чувственность натуры, а уже наметившиеся на лице морщины свидетельствовали о том, что и в свои молодые годы этот афганец из эмирской семьи сталкивался на жизненном пути не только с розами.
— Сардар, здесь еще есть лишние уши.
— Не вижу их. Остались мой везир и мирза — от них у меня секретов нет, да корнейль, который тебя привел.
— Корнейль и так все знает, а другим это знать незачем.
— Не много ли ты берешь на себя со своими тайнами? — недовольно процедил Мухаммад Аюб-хан. Тем не менее он сделал знак придворным, чтобы они удалились.
— Сардар, для меня высокая честь говорить с тобой, но я предпочел бы иметь для этого иной повод. Что касается моих тайн, то, узнав их, ты тоже пожелаешь, чтобы они далеко не распространялись…
— Рассказывай же! Ты испытываешь мое терпение и дразнишь мое любопытство, — усмехнулся правитель, и в его облике снова промелькнули задорные мальчишеские черты.
— Сардар, мое имя — Файз Мухаммад. В армии твоего покойного отца, да позаботится о нем Аллах, я был кефтаном, комендантом Али-Масджида…
— Знаю этот форт. Недалеко от Джелалабада, где я жил. Но почему ты сейчас не в армии? И где твой военный мундир?
— В этом все дело. Я ушел из армии, потому что нас предают. Али-Масджид в руках врага, а я еду к тебе из Гандамака. Там твой брат — эмир Мухаммад Якуб-хан вел переговоры с миджаром Камнари, который пришел к нам вместе с войском инглизи. Эмир согласился принять договор, по которому мы признаем себя побежденными и отдаем врагу многие земли. Инглизи получают доступ в пашу страну, и в Кабул приедут их люди, чтобы там распоряжаться…
— Ты лжешь! — Мухаммад Аюб-хан в ярости ударил руками по подлокотникам и вскочил с кресла. — Не мог Якуб-хан так поступить! Нас не разбили в бою. Не знаю, кто и зачем тебя подослал, но ты лжешь!
— Я боялся, сардар, что ты не поверишь мне. Мы все очень любим родину, и, если бы мне сказали, что афганец готов ее предать, я тоже назвал бы это ложью. На нашу беду, я говорю правду.
— Лжешь! Утром ты спас мне жизнь. Только это удерживает меня от приказа отрубить тебе голову. Да и этому корнейлю в придачу — за компанию.
Когда разговор зашел о его голове, стоявший до того молча Мурад Алим насторожился. Он выступил вперед:
— Сардар, отец Файз Мухаммада погиб в бою с инглизи, а сам кефтан был преданнейшим слугой покойного эмира: я его знаю давно. Посуди, неужели он пересек весь Афганистан только за тем, чтобы подвергнуть испытанию твою проницательность?
— Кто знает… может, враги подкупили его, чтобы рассорить нас с братом.
— Нет, сардар, — снова заговорил Файз Мухаммад. — Я хотел предупредить тебя о том, что ты и без меня узнаешь, но, может статься, поздно. А приехал я сюда еще и потому, что у тебя есть войска для защиты родины. Ты сильнее всех других вождей, и только ты сможешь противостоять инглизи и Кабулу, если они вступят в сговор. Готовь оружие, готовься к борьбе!
— Ты еще не доказал, что они вступили в сговор, — сердито, но заметно остывая, произнес правитель.
— И не смогу доказать, если Мухаммад Аюб-хан сам не захочет в том убедиться. Поэтому посади меня под замок и пошли в столицу самых быстрых гонцов. Когда они вернутся и скажут, что я солгал, можешь казнить меня. Но они подтвердят мою правоту!
— Так я и поступлю.
Правитель хлопнул в ладоши. Вошли везир с мирзой и слуги. Аюб-хан распорядился, чтобы Файз Мухаммада посадили под стражу в одну из комнат дворца, а также разыскали и привезли к нему Гафура.
— Благодарю тебя, сардар, — не без сарказма сказал кефтан. — Я с радостью буду твоим гостем. На прощание же скажу вот что: нападение на тебя не случайность. Кому-то стал поперек дороги племянник Акбар-хана. Позволь дать тебе совет: хорошенько разведай, из какой норы выползла бросившаяся на тебя змея.
— За совет — спасибо! Но знай, кефтан, что нынешний день для меня один из самых тяжелых. Утром ты подарил мне жизнь, а вечером отнял. Ибо отнимаешь брата, а он мне дороже жизни. Я немедленно пошлю в Кабул с письмом, предостерегу Якуб-хана, помогу ему войсками…
Когда Дженкинс вернулся из Симлы, а Каваньяри передал Якуб-хану подписанный Литтоном текст Гандамакского договора, эмир стал собираться в обратный путь. Он вяло пожал руку майору, пробормотал что-то по поводу своих надежд на быстрый вывод английских войск из Кандагара и сел на копя. Прогремел залп из одиннадцати пушек — авторитет правителя Кабула явно возрастал.
Кортеж двинулся на запад и растянулся по неширокой дороге чуть ли не на милю. Среди многочисленных спутников Мухаммада Якуб-хана появилась внешне ничем не приметная личность. Плотный, средних лет афганец в чалме, серо-зеленом халате и холщовых шароварах ехал на гнедом коне, стараясь не привлекать ничьего внимания. За исключением свисающего с пояса ножа, без которого ни один уважающий себя житель Афганистана не выйдет из дому, у него, казалось, не было никакого другого оружия. Впрочем, если бы у этого всадника был обнаружен под халатом отличный английский пистолет, ни у кого это не вызвало бы удивления: ведь любовь афганцев к хорошему оружию общеизвестна.
К свите эмира, однако, он прямого отношения не имел. Да и афганцем его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Это был джемадар, или лейтенант, корпуса гидов Джалаледдин.
В 1839 году в Афганистан через Пешавар и Джелалабад вторгся отряд воинов пенджабского махараджи Ранджит Сингха, тогдашнего союзника Англии. Затем пенджабцы стояли гарнизонами в селениях гильзаев близ Джелалабада и ушли оттуда в 1842 году, когда Акбар-хан заставил врагов покинуть священную землю своей родины. Один из пенджабцев в качестве своеобразного трофея увозил двухлетнего сына. Мать ребенка, женщина из гильзайского племени сулейманхель, погибла во время горного обвала.
Мальчик рос среди солдат, а в дальнейшем и сам избрал военное поприще. Вступив в корпус разведчиков, гидов, Джалаледдин дослужился до чина джемадара и привлек внимание британской разведывательной службы. Он хорошо знал дари и пушту, а также афганские нравы и обычаи. Ему удалось восстановить (по поручению своего начальства, разумеется) родственные связи по материнской линии с некоторыми жителями джелалабадской округи.
Опытный и смышленый джемадар стал одним из главных агентов Каваньяри (когда тот исполнял обязанности комиссара в Кохате) среди хатаков, оракзаев, афридиев и других племен и племенных объединений. При переводе в Пешавар майор, естественно, позаботился о том, чтобы надежные люди остались при нем.
Дожидаясь возвращения Дженкинса, «Кави», как называли Каваньяри знакомые, не тратил времени зря. Он не сомневался, что Литтон выполнит свое обещание направить его полномочным министром в Кабул, и готовился к этой ответственной поездке. Майор интересовался ближайшим окружением эмира, прикидывал, на кого можно опереться, кто сможет заменить на престоле сына Шер Али-хана, если в том возникнет неотложная необходимость. Договор заключен, кабульский правитель поставил под ним свою печать и, надо надеяться, намерен соблюдать его. Не настолько же он глуп, чтобы не понимать: нарушение договора приведет в действие британскую военную машину, которая сомнет, сломает, выбросит его вон. Но как отнесутся к соглашению буйные соплеменники Якуб-хана?
И Каваньяри вызвал Джалаледдина. Тот явился в тускло-коричневом с красными нашивками мундире гидов. Майор поморщился:
— Джемадар, афганские гости видели вас?
— Нет, сэр, — вытянулся Джалаледдин. — Как вы приказали, я не выходил из нашего лагеря. — Он усмехнулся и продолжал:
— Откровенно говоря, я почти не выходил даже из палатки. Отсыпался после поездки в Мазари-Шариф, не приведи Аллах ее повторить!
— Ну и отлично. Слушайте меня внимательно. Переоденьтесь, станьте опять афганцем. Вам предстоит новое путешествие.
— Слушаюсь, сэр. Только бы не в Мазари-Шариф, сэр.
— Нет, джемадар. Цель — поближе. Но не менее, если не более важная…
— Кабул, сэр?
— Именно так. Не сегодня-завтра эмир и весь его сброд уберутся восвояси. Отправляйтесь с ними. Народу много, наверняка не все знают друг друга. Нужно добраться до столицы, посмотреть, как встретят Якуб-хана, послушать, что говорят о подписанном соглашении. Вообще — каковы настроения, прочно ли положение тех, кто здесь побывал, имеются ли у них влиятельные соперники… Дело сложное, требующее немалого времени. Но у нас его нет. Сведения нужно получить возможно быстрее. Вам даются две, максимум три педели. Распоряжение о выдаче денег уже сделано. Получите их и — с богом!
…Джалаледдин не уложился в отведенный срок. Прошло более трех недель. У помещения, занятого майором, появился всадник, спрыгнул на землю, и вскоре вестовой уже докладывал Каваньяри:
— Джемадар Джалаледдин, сэр.
— Пусть войдет.
На пороге появился агент Каваньяри.
— Проходите. Садитесь. Рассказывайте! Пока — самое главное.
Джалаледдин взглянул с некоторым недоумением на свои сапоги, покрытые густым слоем дорожной пыли, затем, слегка покачиваясь, будто он все еще находился в седле, направился к низенькой тахте у стены и тяжело опустился на нее.
— Сэр, поездка прошла без каких-либо осложнений. На меня не обратили внимания. Якуб-хану и его людям было не до того. На Востоке слухи распространяются быстро — вы это хорошо знаете. Весть о договоре уже широко разнеслась среди афганцев. Его условия стали известны еще до возвращения эмира. Когда подъезжали к Кабулу, начали попадаться толпы людей…
Он остановился, чтобы перевести дух. Горло пересохло, слова произносились с трудом. Майор хлопнул в ладоши:
— Воды джемадару!
Осушив стакан залпом, Джалаледдин продолжал:
— Настроены они были враждебно. Потрясали палками, даже камни бросали. Кричали: «Предатель! Продал нас инглизи за арабскую лошадь!» Какую лошадь, почему лошадь — не знаю. Эмир объяснял, что нет денег, нет войск. Ему отвечали: «Снимем последнюю рубашку, продадим последнюю овцу — деньги будут! Надо сражаться…». Много было шума…
Джемадар сделал паузу. Снова был подан стакан воды, и после пары глотков Джалаледдин заговорил более свободно:
— Вас вспоминали, сэр…
Следивший за рассказом своего агента с хмурым видом Каваньяри оживился:
— Меня?! Любопытно…
— В Кабуле я почти все время толкался на улицах, на базаре. Слушал, расспрашивал. Одни говорят: «Скоро приедет Камнари, будет править нами». Другие: «Вот явится Камнари, станет платить жалованье чиновникам и войску за измену родине»…
— А почему они думают, что я туда поеду?
— Не знаю, только все об этом толкуют. Эмир старается не показываться из Бала-Хиссара. Дауд Шах и мустоуфи тоже появляются очень редко. В одной мечети старый мулла Мушки Алам призывает правоверных не подчиняться правителю, доказывает, что эмир продался инглизи. Генерал Мухаммад Джан-хан где-то под Газни собирает всех недовольных. Намерен пойти на Кабул. А еще ищут какого-то беглого кефтана Файз Мухаммада: за столицей, в Исталифе или Чарикаре, говорят, он набирает мятежников…
При одном упоминании этого имени Каваньяри передернуло:
— Ну ладно! Благодарю вас, джемадар. Опишите все по свежим следам, как водится. Потом отдохнете. А я подумаю, что делать дальше.
— Слушаюсь, сэр. Да, вот еще что — очень важное. Когда я уже собирался в обратную дорогу, к эмиру издалека прибыл гонец. С помощью знакомого купца я сделал богатый пешкеш, подарок, мехмандару Якуб-хана, ведающему приемом знатных гостей, и тот сказал, что гонец — из Герата, от родного брата эмира — Аюб-хана. Прочитав это письмо, Якуб-хан заперся и несколько часов не желал никого видеть…
— Так-так. И что же было в письме, удалось выяснить?
— Да, немного погодя — потому и задержался. Аюб-хан любит своего старшего брата. Раньше везде, где мог, защищал его. А тут обрушился на него с проклятиями. Пишет, что нельзя заключать никакого договора с врагами народа и что Якуб-хан покроет себя вечным позором. Обещает выслать солдат в помощь.
— Как же отнесся к этому эмир? — Каваньяри заинтересовался сообщением.
— Разъярился. Ходил, бранил всех подряд. Потом продиктовал в Герат — не Аюбу, а матери послание. Жаловался: брат, мол, вбил себе в голову недоброе, и его соблазняет эмирский трон. Клялся, что, когда будет время, прочтет ему хороший урок и наденет на голову вместо короны чадру.
— Великолепно! Это то, что нужно. Путь грызутся, и чем сильнее, тем лучше. Хорошо, джемадар, ступайте! И я жду подробный отчет…
Майор действительно торопился. Литтон сдержал обещание. Каваньяри был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при эмирском дворе. В середине июня он отправился в Симлу за соответствующими документами и инструкциями. «Великий Могол» принял его сердечно, благодарил за умелые действия, поздравлял.
…Уже после напутственных бесед с вице-королем, 16 июля, майор отправил письмо Элсми, давнему коллеге по службе в Пенджабе, поздравившему его с важным и ответственным назначением. Находился Каваньяри в то время в афганских землях, у перевала Пайвар-Котал; впереди лежал Кабул, и он как бы суммировал своя впечатления от происшедших событий, готовясь выступить в новой роли.
«…Удача сопутствовала мне с начала до конца последней кампании, но наибольшее удовольствие доставила всеобщая радость, вызванная договором с эмиром. Разумеется, когда Якуб-хан выехал из своей столицы для переговоров, стало ясно, что мир в той или иной форме будет заключен, но моей целью являлось добиться того, чего желало правительство, и вместе с тем дать почувствовать эмиру, что мы относимся к нему великодушно. Он очень признателен (или делает вид) лично мне, и я надеюсь использовать эти чувства, когда окажусь в Кабуле. Понятно, не исключены определенные трудности; наиболее значительные, однако, такие, с которыми сталкивается каждый пограничный офицер, а именно нападения фанатиков. Пессимистически настроенные политики склонны предсказывать всяческие бедствия, но я большой оптимист и утверждаю, что они будут такими же плохими пророками, какими были с начала войны вплоть до подписания договора.
Я с наслаждением провел две недели в Симле. Вице-король был весьма любезен и доброжелателен ко мне, и я представлен к рыцарской степени ордена Бани (гражданского), что далеко превосходит все мои ожидания. Он посоветовал мне именоваться сэром Луи, а не сэром Наполеоном, ибо, как он сказал, в мире не может быть двух Наполеонов. Моя единственная надежда — не превратиться в сэра Льюиса (повторяя сэра Льюиса Пелли).
Ныне я на пути в Кабул, которого рассчитываю достичь 23-го. До афганской границы меня эскортирует отряд, составленный из представителей всех трех видов оружия, а затем примет [под охрану] пара полков эмира.
Меня назначили чрезвычайным посланником и полномочным министром, что будет более приятно эмиру, чем принятое в Индии звание „резидент“, которого каждое туземное государство опасается из-за вмешательства в свои дела…»
Майор, естественно, не делился с приятелем указаниями о деятельности британской миссии в Афганистане, полученными им от верховного правителя Индии и его секретаря по политическим вопросам. Впрочем, они и без того были ясны: утвердить над этой страной полный контроль Британской империи. Благо, что для достижения такой цели есть все предпосылки — достаточно лишь обеспечить выполнение Гандамакского договора…
Глава 14 НАКОНЕЦ-ТО В КАБУЛЕ
К началу июля 1879 года британская миссия была готова к отъезду. Английские власти в Индии учли сложности, вызванные некогда отправкой к Шер Али-хану генерала Нэвилла Чемберлена с целым войском. Миссия, возглавляемая Каваньяри, была далеко не столь многочисленной. В ее состав входили: секретарь и помощник посланника Уильям Дженкинс, военный атташе Уолтер Гамильтон, юный лейтенант корпуса гидов с едва намечающейся полоской усов, а также врач Амброз Келли из Бенгальского медицинского департамента, крупный статный чернобородый мужчина с вытянутым лицом. Миссию сопровождал тщательно отобранный конвой из двадцати пяти кавалеристов и пятидесяти пехотинцев корпуса гидов, находившихся под командой Гамильтона. Ну и, конечно, свыше сотни всевозможных слуг, камердинеров, грумов, носильщиков.
2 июля Каваньяри тронулся в путь. Он решил ехать не через Пешавар, а Куррамской долиной: в этих краях, в Кохате, он провел почти двенадцать лет и знал их досконально. К тому же от Кохата к Кабулу продвинулись войска генерал-майора Фредерика Робертса, и это позволяло добраться до афганской столицы с наименьшими трудностями.
Среди бумаг, взятых с собой чрезвычайным посланником и полномочным министром, особое место занимала копия письма лорда Литтона виконту Крэнбруку, отправленного 23 июня из Симлы. Оно всецело посвящалось политическим проблемам, содержало оценку обстановки и могло служить в определенной степени руководством к действию. Был и другой, не менее важный аспект письма, повышающий его ценность в глазах Каваньяри: в документе содержалась лестная оценка его трудов.
«Мой дорогой лорд Крэнбрук, — писал Литтон, — я бесконечно признателен за ваше письмо от 27 мая. Майор Каваньяри теперь у меня, и, судя по тому, что сообщают он и другие, я думаю, вам нечего беспокоиться об осуществлении и результатах договора с Кабулом или о возможных волнениях в Афганистане после вывода наших войск. Полагаю, что договор с Кабулом надо рассматривать не как итог, а как начало. Я говорю это не в каком-либо внушающем опасения смысле. Новый договор — скорее начало, чем результат, венчающий разумную и рациональную политику.
Соблюдение этой политики должно среди прочих плодов снять с Индии проклятие постоянной русской угрозы и дать нам на всей нашей границе определенные покой и безопасность, доселе неведомые. Но мы не должны придавать силу талисмана листку бумаги, подписанному с Кабулом, мы должны опираться на устойчивость [афганского] правительства и разумность его представителей в деле повседневного развития хороших отношений, сложившихся теперь с эмиром, укрепляющих доверие и воспитывающих характер его высочества; задача состоит в том, чтобы убедить его народ и его самого, что их насущные интересы неотделимы от наших. Случай для этого представился, и возможности широки.
Афганцы будут тем больше любить и уважать нас за победу, одержанную над Шер Али, и за урок, который мы преподали России. Во всей этой части света… великодушного врага предпочитают ненадежному и неверному другу. Афганский народ, конечно, не смотрит на нас с недоброжелательством, и сам Якуб, насколько можно судить по его делам и словам, хорошо понимает преимущества союза с нами и решил не нарушать его дурным поведением. По желанию Каваньяри он простил и восстановил на своем посту мустоуфи, впавшего в немилость и арестованного его отцом, а теперь снова назначенного министром финансов. Также по рекомендации Каваньяри он назначил генерала Дауд Шаха своим главнокомандующим и сделал это с любезной готовностью, что, кажется, произвело самое приятное впечатление на всех заинтересованных лиц. Поскольку оба эти человека теперь обязаны своим назначением нашему влиянию, мы, естественно, можем предположить, что их личное влияние в Кабуле не будет антианглийским. С Вали Мухаммадом, которому он грозил, что посадит его на кол, как только поймает, эмир откровенно примирился; и вообще он с готовностью и полной лояльностью выполняет свои обязательства по статье об амнистии, наиболее неприятной для афганского владетеля из всех пунктов договора.
Между прочим, Якуб заявил Каваньяри, что его отца ввело в заблуждение представление, будто лорд Лоуренс всесилен в Англии по индийским делам и никогда не позволил бы нам начать с ним войну… В целом я не сомневаюсь, что в предстоящей нам деятельности будет достигнут прочный прогресс в течение двух ближайших лет. Но дальнейшие результаты будут, разумеется, зависеть от наших преемников — как здесь, так и на родине; и если они ослабят свои усилия или изменят политику, пусть на них ляжет ответственность за непростительный провал».
…Во время скучного и ничем не примечательного путешествия Каваньяри и его спутников развлекал молодой лейтенант Гамильтон. То и дело вынимал он из кармана мундира уже изрядно стертую «Лондон Газетт», где описывался его героизм, проявленный в марте 1879 года при столкновении у Фатхабада. Он атаковал троих противников, напавших на придавленного убитой лошадью совара Доуля Рама, и расправился с ними, за что был удостоен Креста Виктории. Лейтенант знал наизусть эту краткую заметку. В конце концов ее выучили все члены миссии, а он не мог побороть в себе желание вновь и вновь цитировать лестные для него строчки.
У селения Куррам миссию встретил генерал-майор Фредерик Робертс с пятьюдесятью офицерами. Они проехали вместе несколько миль до верхней точки Шутургарданского перевала и остановились здесь, чтобы пообедать. Впоследствии Робертс напишет, что сослуживцы просили его поднять бокал вина за здоровье Каваньяри и его коллег, но, томимый мрачными предчувствиями, он так и не смог вымолвить ни слова. Опять и опять приходили ему в голову мысли о «не доведенной до конца» войне, о необходимости «марша на Кабул» в качестве первостепенной и неотложной меры…
Трудно сказать, был ли провидцем бравый генерал уже в тот момент. Во всяком случае, чрезвычайный посланник и полномочный министр пребывал в отличном настроении. Он настойчиво приглашал Робертса нанести в более прохладное время года визит в Кабул, чтобы совершить совместное путешествие вдоль северных и западных границ Афганистана. «Не скрою: горю желанием взглянуть с этой стороны на Россию и на Персию», — улыбался Каваньяри. Узнав, что генерал начал строить дом близ живописного селения Шалуфзан в Куррамской долине, он сказал, что его жена, которая должна прибыть в Кабул будущей весной, с удовольствием навестит Робертсов в их новой усадьбе.
На следующее утро прибыли афганские чиновники, которым эмир поручил встретить посла, и миссия с генералом и несколькими его офицерами двинулась к перевалу. Неожиданно посланник, следовавший с Робертсом впереди всех, побледнел и остановился.
— Что случилось? — придержал коня Робертс.
— Как, генерал, разве вы не видите? — промолвил майор, указывая куда-то вбок.
Поблизости, в расщелине скалы, в невысокой траве прыгала голубовато-серая птица с длинным хвостом и красным клювом.
— Сорока! Ну и что? — недоумевал генерал.
— Но это же дурная примета! Я прошу вас ничего не говорить об этом моей жене.
Диалог был прерван приближением отряда афганских всадников. Их форма напоминала не только алым цветом, но и покроем мундиры британских драгун. На головах красовались давно вышедшие из употребления вычурные шлемы, которыми некогда гордились солдаты Бенгальской конной артиллерии. «И где они только находят это старье?» — подумал Робертс. Зато кони афганцев были великолепны: некрупные, горячие, поджарые, они невольно приковывали взор. Каждый всадник был вооружен гладкоствольным карабином и большим мечом — турой. Это был почетный эскорт.
Сардар, возглавлявший эскорт, пригласил англичан в празднично украшенный шатер, где был сервирован чай; такое же чаепитие состоялось и на близлежащем горном склоне, откуда открывалась во всей своей красе цветущая долина. Торжественный прием гостей из Индии в лагере на границе Афганистана завершился обедом — на коврах, основательно и без спешки. Гости должны были почувствовать, что после чая, сладостей и фруктов, после дымящейся ароматной похлебки их ждет что-то особенное, такое, к чему нельзя приступать второпях, не ощутив радости ожидания. Это плов, венец восточного пиршества, наслаждение и любовь, тепло и счастье жизни, творение рук человеческих, к которому и прикасаться-то можно только руками, чтобы и они ощутили радость.
Вслед за послеобеденным омовением наступила минута расставания. Робертсу и его свите надлежало вернуться, кабульской миссии вместе с почетной охраной — следовать дальше. Генерал и майор обменялись рукопожатием и двинулись было в разные стороны, но, пройдя несколько шагов, словно по команде обернулись, возвратились и вновь пожали друг другу руки. Каваньяри и его спутники вскоре скрылись за поворотом горной дороги. За ними тянули в Кабул нитку военного телеграфа, немедленно вступавшего в действие.
24 июля 1879 года, спустя сорок лет после того как в афганской столице появился первый британский резидент — сэр Уильям Макнотон, там утвердился его преемник сэр Луи Каваньяри. Подозрительный и осторожный Макнотон расположился в лагере английских войск, оккупировавших город. Это его не спасло. Более решительный и горячий «Кави» занял предложенную ему Якуб-ханом усадьбу неподалеку от эмирского дворца, в огромном Бала-Хиссаре, на юго-восточной окраине Кабула, близ дороги на Пешавар. И это не помогло…
Впрочем, не будем забегать вперед.
Резиденция чрезвычайного посланника и полномочного министра состояла из двухэтажного дома, окруженного группой бараков и сараев. Все это было обнесено глиняным дувалом. Индийские солдаты разместились в бараках, между которыми привязали лошадей. Сараи были заполнены продовольствием и фуражом. Ну а Каваньяри и его коллеги поселились в доме. На его плоской крыше можно было спать душными ночами, столь характерными для афганской столицы, находящейся в чаше из гор. Некоторое неудобство состояло лишь в том, что из-за сложного рельефа Бала-Хиссара усадьба миссии была открыта обозрению с соседнего холма.
Каваньяри едва успел умыться с дороги и отправить первую депешу в Симлу, как тут же вызвал Дженкинса с письменными принадлежностями, чтобы более подробно информировать вице-короля о своем путешествии к афганскому двору и о царившей в Афганистане атмосфере.
— Итак, Дженкинс, мы в Кабуле! Это исторический факт, и можете хотя бы в честь такого события выглядеть более радостным…
— Как прикажете, сэр. Но если позволите, я выберу для радости более подходящий момент.
— Черт побери, Дженкинс, я еще ни разу не видел вас довольным. Когда-нибудь я все-таки заставлю вас рассказать историю своей жизни — ведь должно же быть объяснение вашему постоянному сплину. К сожалению, сейчас нам не до того.
И Каваньяри принялся диктовать письмо в Симлу: «Дорогой лорд Литтон, своей сегодняшней телеграммой я уже сообщил вашей светлости о прибытии британского посольства в Кабул. Ничто не могло сравниться с гостеприимством, оказанным нам с тех пор, как мы перешли границу Куррама, и от устроенного нам приема невозможно было желать большего… Наши переходы совершались без каких-либо инцидентов, и о них нечего сказать, разве что описать область, по которой мы проходили. Это делают мои помощники, и через день или два такое описание будет представлено. Могу лишь кратко отметить, что для войск нет никаких преград на пути от Шутургардана до Кабула. Правда, местные племена довольно воинственны, но надо надеяться, когда произойдет новый разрыв с эмиром Афганистана, они станут нашими добрыми соседями и скорее примут нашу сторону, чем сторону кабульского правителя…»
— Простите, сэр, — оторвался от бумаги Дженкинс. — Разрешите спросить: что, ожидается новое столкновение? Ведь вы только на днях подписали очень выгодное мирное соглашение!
Каваньяри уставился на секретаря, отчего выпуклые глаза майора, казалось, еще более увеличились. Его рыжие усы зашевелились.
— Мы, военные, живем войнами. А мир — это досадная трата времени между ними! Афганистан мы еще должны завоевать по-настоящему. Как вы этого не понимаете? Впрочем, чего ждать от штатского. И чему вас только учат в вашей Индийской гражданской службе… Будем продолжать!
Дженкинс хотел что-то возразить, но вместо этого молча взялся за перо.
«…Для усовершенствования Куррамской линии, — диктовал Каваньяри, — необходимо провести железную дорогу от Равалпинди до Пейвара, и тогда эта линия не только приобретет важное военное и политическое значение, но и станет большим торговым путем; труднопроходимая Хайберская дорога окажется ненужной.
Вчера после полудня шагаси[7] Мухаммад Юсуф-хан, который сопровождает нас, прибыл в наш лагерь с письмом от эмира, чтобы поздравить меня с оказанными мне особыми почестями и известить о церемониале приема посольства. Сегодня он встретил меня примерно в четырех милях от города с отрядом конницы, а вскоре после этого нас ожидали сардар Абдулла Джан и мулла Шах Мухаммад, министр иностранных дел, также в сопровождении кавалерии. Были подведены два слона с позолоченными и посеребренными седлами; сардар и я сели в одно, а мистер Дженкинс и министр иностранных дел завладели другим. Я не занимаю много места, но сардар — очень жирный, астматический человек. К тому же мне пришлось сидеть, скрестив ноги, и я подумал, что в таком положении нельзя провести целый день, что и одного часа было бы для меня совершенно достаточно…»
Каваньяри сделал передышку и решил подбодрить секретаря, сидевшего с хмурым видом:
— Сознаете ли вы, Дженкинс, что и ваше имя теперь запечатлено в истории?
Однако помощник майора не поддержал шутки:
— Сознаю, сэр. Еще как сознаю! Вот не знаю лишь, как я выпутаюсь из этой истории…
— Полно, полно. Незачем столь мрачно смотреть на мир. Но продолжим: «Девять полков пехоты, две батареи артиллерии и конница были построены в колонну и приветствовали процессию. Когда мы вошли в городские ворота, 18-миллиметровая полевая батарея (подарок правительства Индии Шер Али в былые дни) дала салют из 17 выстрелов. Места перед нашей резиденцией не было, поэтому почетный караул в составе пехотного полка был выстроен на улице, выходящей под прямым углом на ту, по которой мы проезжали, и салютовал нам. Когда принимались играть оркестры, они пытались, но безуспешно, исполнить гимн „Боже, храни королеву“. Вскоре после того, как мы расположились в нашей резиденции, с визитом вежливости явились мустоуфи и Дауд Шах и от имени эмира справились о нашем здоровье.
Я нанес официальный визит его высочеству в шесть часов. Он спросил о здоровье вашей светлости и о ее величестве и королевской семье и выразил соболезнование по поводу смерти принца.[8] Он проявил весьма хорошее знание французских дел и заявил, что республика имеет большие шансы на существование.
Никто из наших старых друзей среди афганских сардаров не появился сегодня, и я думаю… что с ними обращаются с холодной вежливостью. Толпа была многочисленная, но в большом порядке, и я не слышал нелюбезных замечаний. Многие приветствовали нас, когда мы проезжали. Солдаты часто спрашивали наших людей, верно ли, что они теперь будут освобождены от принудительной военной службы. Персидские элементы (кызылбаши) выразили сожаление, что мы не захватили и не оставили за собой Кабул, и утверждали, что, если бы паши войска продвинулись к Джагдалаку, они восстали бы и перебили бы всех баракзайских сардаров в Кабуле».
— Написали? Ну, теперь, как водится: «Преданный вам Л. Каваньяри» (майор никогда не ставил в подписи все свои инициалы). Так, наконец-то я вижу на вашем лице улыбку, хотя, черт меня побери, если я знаю, чем она вызвана именно в настоящую минуту. Не соблаговолите ли пояснить, что так благотворно подействовало на ваше настроение.
— Прошу извинить, сэр, но нас, чиновников гражданской службы, учат ни в коем случае не вводить в заблуждение вышестоящих лиц. Даже из самых благих побуждений. Ибо в результатё этого могут быть приняты неправильные решения…
Майор побагровел:
— Вы что же, хотите сказать, что мое донесение лживо?
— Упаси меня боже! Я лишь позволю себе заметить, что не все акценты расставлены в нем на должных местах, сэр. Не все аспекты ситуации оттенены.
— Слишком умно! Ну-ка, переведите все это на простой язык.
— Хорошо, сэр, постараюсь. Возможно, лорду Литтону было бы небезынтересно знать, что пышный прием, о котором так интересно рассказано, состоялся лишь в ограде эмирской резиденции Бала-Хиссар. Что по городским улицам мы промчались слишком быстро, и там нас никто не приветствовал. Скорее наоборот: я слышал отнюдь не лестные выкрики в наш и персонально в ваш, сэр, адрес…
— И что же там кричали?
— Честно говоря, мне бы не хотелось об этом говорить, сэр.
— Но раз вы уже начали, то выкладывайте, не стесняйтесь!
— Извольте, сэр. Они кричали: «Долой миджара Камнари!», «Снимите голову с этого сводника!», извините, сэр! «Нам не нужен ни Гандамак, ни предатель Якуб, ни Камнари!», «Бей инглизи!» — и дальше в том же духе…
— И это все?
— Отнюдь нет. Войска были специально построены, чтобы оградить нас от возможного нападения толпы. Как мне шепнул министр иностранных дел еще во время поездки на слонах, у эмира был наготове специальный конный отряд для подавления беспорядков, он не раз пускал его в дело, стараясь, однако, чтобы это не привлекло нашего внимания и не подорвало его престиж…
— А откуда вы знаете об этом? — Каваньяри уже явно искал пути к отступлению.
— На это сразу же пожаловался Дауд Шах, едва переступив порог нашего помещения… И об этом я уже вам докладывал, сэр, со слов все того же министра — муллы Шах Мухаммада… Ведь Якуб-хан не доверяет даже своим войскам: накануне нашего приезда по его приказу у солдат и офицеров, выделенных для эскорта и парада, были отобраны все патроны, порох и пули…
— Патроны, порох и пули! Сразу видно штатского, — вспылил майор. — Неужели непонятно, что патроны — это и есть порох и пули!
Было ясно, однако, что не эта обмолвка вызвала недовольство чрезвычайного посланника и полномочного министра. Он встал и нервно зашагал по комнате.
— Возможно, в чем-то вы и правы, Дженкинс, — заговорил Каваньяри, успокаиваясь. — Откровенно говоря, мы еще не завоевали симпатий афганцев. К этому надо стремиться. Деньги у нас есть, а они в подобных непросвещенных странах имеют немалое значение. А если их много, да еще когда они сочетаются с достаточной военной силой… Ничего, мы вытравим их буйный дух. Дайте срок. Они забудут свои мятежные настроения. Уж я постараюсь! Что же касается письма вице-королю, то я не вижу оснований его переделывать. Кое-что не нашло в нем отражения, но это несущественно. Потом допишем. Отправляйте!..
Дженкинс поклонился и вышел.
…Немногим более пяти недель провел майор-дипломат на своем посту. Что успел бы сделать за столь короткий срок кто-нибудь другой, оказавшись в чужой стране, среди почти неведомого народа? Едва-едва осмотреться, бегло познакомиться с жизнью и достопримечательностями Кабула, побеседовать с двумя-тремя десятками жителей.
Не таков был Каваньяри, и не случайно начальство взыскало его милостями и облекло высоким доверием. С первых же дней пребывания в афганской столице он развил кипучую деятельность. Гонцы сновали между резиденцией посла и домами сановников. Наверно, не нашлось ни одного недовольного Мухаммадом Якуб-ханом или когда-то обиженного его отцом, кто бы не наведался в двухэтажный дом, чтобы излить свои чувства. Там они встречали полное понимание.
Как бы ни выходил из себя темпераментный майор, слушая вздор, который нес какой-нибудь вождь племени или опальный придворный, сердечный и радушный прием с обильным чаепитием был всем им обеспечен. Довольно быстро резиденция британского полномочного министра преобразилась в политический центр, грозивший подменить собой дворец, где слабовольный и недалекий эмир никак не мог решить, какую линию поведения ему следует избрать в отношениях с энергичным инглизи.
Каваньяри являлся во дворец, когда ему заблагорассудится. С каждым днем росло его влияние на афганского повелителя. Последовательно проводя ту линию, о которой он писал вице-королю, Каваньяри добивался предоставления ответственных государственных должностей лицам, пользовавшимся его расположением и доверием.
При этом посланник вел себя так, будто он искренне желает помочь «еще не совсем опытному эмиру», как он с ласковой улыбкой говорил внуку Дост Мухаммад-хана.
— У вашего высочества нет и не может быть лучшего друга, чем я, представитель могущественной Британской империи, все помыслы правительства которой направлены на обеспечение безопасности и процветания Афганистана, — неизменно утверждал «Кави».
Его чрезвычайно интересовало состояние финансов страны и эмирской казны.
— Мы обязались оказывать вашему высочеству материальную поддержку, но перед присылкой денег должны выяснить, на что они будут истрачены…
И мустоуфи в надежде на очередной щедрый пешкеш полномочного министра согласно кивал головой, подтверждая настоятельную необходимость ознакомления пытливого инглизи с государственными секретами.
— Мы поможем вашему высочеству набрать, вооружить и обучить большое войско. Однако это лучше всего смогут сделать наши умелые и опытные офицеры, которых следует как можно скорее пригласить в Афганистан…
И сипахсалар Дауд Шах, тоже не без оснований рассчитывавший на соответствующую благодарность, обеими руками гладил свою бороду, призывая милость и благословение Аллаха на этого чужеземца: ведь он, как никто другой, понимает нужды и потребности афганской армии!
Базар в Кабуле.
Постепенно Каваньяри расширял рамки и масштабы своей деятельности. Вообще-то говоря, ничего особенно нового не происходило. Еще из Пешавара его агенты проникали в афганские земли в поисках тех, на кого можно было бы рассчитывать, когда будут созданы подходящие условия для того, чтобы «приручить» непокорный народ. Теперь эти условия значительно улучшились. Обосновавшись в столице, майор с большей легкостью мог вести операции по подрыву изнутри Афганского государства, и уже не из Пешавара, а из Кабула молчаливые и осторожные люди расползались по стране в поисках тех, кто в обмен на кожаные мешочки с золотом или на выгодные должности в будущем проявлял готовность примириться с господством великодушных и доброжелательных инглизи…
Правда, далеко не все посланцы Каваньяри могли похвастать успехом, однако майор не унывал. Он обожал чеканную мудрость своих далеких предков — латинские пословицы, и одна из них — «Капля долбит камень не силой, а частым падением» вполне подходила для данного случая. Не сегодня, так завтра, через неделю, через месяц, не подкупом, так убеждением, военной силой (в конце концов!), но он добьется утверждения в Афганистане британского влияния.
Пока же, как ни странно, чрезвычайного посланника и полномочного министра беспокоили мелочи бытового характера.
На следующий же день по прибытии миссии в Бала-Хиссар несколько слуг отправились на базар за свежими продуктами для англичан. С расходами не считались. Кабульские торговцы довольно посмеивались, получив за свои товары в три-четыре раза больше обычного. Потом на Чорсу появилась лагерная прислуга, которая закупила много всякой снеди для отряда гидов; она тоже расплачивалась, не торгуясь. После нескольких таких посещений цены на базаре взлетели, и если продавцы еще продолжали веселиться, то жителям столицы было не до смеха.
К тому же Чорсу вскоре превратился в арену перепалок, а затем столкновений и даже драк между кабульцами и прибывшими из Индии. Привыкшие к вольным нравам гиды, едва осмотревшись в Кабуле, попытались ввести их и там. Они приставали к женщинам, отдавали щедрую дань спиртному, строжайше запрещенному мусульманской религией, дебоширили на улицах.
С течением времени столкновения «гостей эмира» с населением Кабула выплеснулись далеко за пределы Чорсу. Гамильтон по приказу майора запретил своим подчиненным покидать расположение миссии без крайней надобности, но разве можно было удержать на маленьком пятачке столько народу?! Правдами и неправдами гиды, многочисленная челядь миссии выбирались в город. Новые перебранки и стычки кончались порой серьезными увечьями к неудовольствию Амброза Келли, которому заметно прибавилось работы.
Представителя Литтона выводило из себя то обстоятельство, что мелкие неурядицы отвлекали его внимание от гораздо более важных, политических дел. Таких, над которыми он был готов работать денно и нощно. В чем, в чем, а в трудолюбии ему нельзя было отказать. Особенно во имя достижения великих целей.
Вот и сегодня Каваньяри сидел в кабинете на втором этаже своего дома в Бала-Хиссаре, размышляя над жалобой некоего Исматуллы-хана. Этот незначительный гильзайский вождь оказал мелкие услуги англичанам, за что подвергся преследованиям афганских властей. Он уже навещал майора в Гандамаке, и тот, сославшись на только что заключенный договор, рекомендовал обиженному обратиться к эмиру за возмещением убытков. Однако Якуб-хан не только не помог Исматулле-хану, но, наоборот, конфисковал его имущество и заменил на посту главы рода Бахрам-ханом, двоюродным братом жалобщика.
«Бахрам-хан, Махрам-хан, Исматулла-хан, Хабибулла-хан, гильзаи, ализаи, попользаи, — со злостью бормотал про себя чрезвычайный посланник и полномочный министр, — дались мне ваши мелочные заботы! Если вы перегрызете друг другу глотки, мы от этого лишь выиграем — больше простора будет…» Раздражение не оставило Каваньяри даже при мысли о том, что он уже фактически стал некоронованным властителем Афганистана и что в будущем его ожидают еще более важные посты. Вызвав Дженкинса, он продиктовал ему письмо просителю. Оно было кратким. Майор рекомендовал Исматулле-хану вернуть отнятую собственность силой, а если окажется, что сделать это невозможно, то укрыться среди своих холмов и ждать дальнейших указаний от него, Каваньяри.
Едва он покончил с этим делом, как в дверь постучали. Не успел посланник отозваться, как на пороге выросла странная фигура. В грязной шапке, вывернутой мехом внутрь и надвинутой почти на глаза, ветхом, рваном халате, перетянутом веревкой, стоптанных туфлях, с посохом в руке и висящей через плечо высушенной тыквой — перед ним стоял типичный дервиш.
Каваньяри вскочил словно ужаленный.
— Это что еще за чудище! — вскричал он, добавив крепкое английское ругательство. — Кто его впустил сюда?
— В том-то и дело, сэр, что не хотели впускать. Я прорвался чуть ли не насильно, — ответило «чудище» на приличном английском языке с легким индийским акцентом.
Дервиш сделал несколько шагов вперед, от чего в его тыкве застучали находившиеся там, как водится, высушенные горошины. Он снял шапку, поправил волосы, подкрутил свисавшие кончики усов кверху, и перед майором предстал его доверенный — Джалаледдин.
— Джемадар! Ведь я запретил вам появляться без крайней нужды. И потом, что это за маскарад!
— Сэр, боюсь, что положение стало угрожающим. Вот я и нарушил запрет. Переоделся же на случай, если еще понадоблюсь здесь в Кабуле. Да так удачно, что ваши стражи не узнали меня. Даже сам Гамильтон-саиб, с которым я десятки раз беседовал, и тот отшатнулся от меня, словно от прокаженного…
— Это я все понимаю, джемадар, — прервал Джалаледдина майор. — Не понимаю только, что вынудило вас прийти сюда.
— Серьезный разговор, сэр.
Каваньяри пригласил Джалаледдина сесть и сам опустился в кресло.
— В городе неспокойно, сэр. Очень неспокойно.
— Вряд ли стоило затрачивать столько усилий, чтобы сообщить мне это. В этих чертовых городах всегда неспокойно. В индийских, в афганских… Ничего, управимся.
— Сэр, на базарах, на улицах — везде толкуют: чужие люди желают управлять страной, делают, что хотят. И об эмире говорят, что он «суст-пуст», — Джалаледдин привел афганское выражение, употребляемое в тех случаях, когда хотят сказать о вялом, ничтожном человеке.
— Ну, это как раз нам на руку…
— Конечно, сэр, но сам эмир очень недоволен. Часто жалуется своим людям: мол, за него все решают здесь, в английской миссии. А некоторые его приближенные, в свою очередь, жалуются ему, что им не подчиняются, смеются над ними.
— Джемадар, — нахмурился майор, — вы бывали во многих городах Индии, при дворах различных раджей, навабов и султанов. Видели вы где-нибудь беспорядок там, где за дело брались мы, англичане? Так будет и здесь. Этот эмир, он у меня в кулаке, — Каваньяри для убедительности потряс в воздухе кулаком, поросшим рыжими волосами. — И не пикнет!
— Вот я и думаю, — упрямо продолжал Джалаледдин. — Народ говорит: «Слишком большую власть забрали инглизи! Сидят на шее и командуют». А всякие бунтовщики, мятежники подстрекают, зовут подняться против неверных. Миссии угрожает опасность. Надо вызвать войска. Муллу Мушки Алама слушают сотни людей. Кефтана Файз Мухаммада называют: говорят — имеет много сторонников. Народ…
— Какой там народ! — вскипел Каваньяри: при нем снова упомянули о Файз Мухаммаде. — Слыхал я и об этом выжившем из ума мулле и о фальшивом кефтане — никакой он не кефтан, пора бы это знать. Еще генерал там какой-то есть, Мамаджан, так, кажется?
— Мухаммад Джан, — с легкой укоризной поправил патрона Джалаледдин. — Я боюсь, сэр, что вы недооцениваете серьезности обстановки. Слишком много шума на улицах Кабула. Афганцы очень любят свою страну и готовы на все.
— Сразу видно, что вы неважный охотник и плохо знаете собак, — криво, одними губами усмехнулся майор. — А то вам было бы известно: собаки, которые лают, не кусаются. Держитесь бодрее, джемадар! Нечего бояться!
Джалаледдина несколько покоробило сравнение афганцев с собаками, тем более что майору было известно об афганской крови в его жилах, но он никак не отозвался на обиду и лишь произнес, выделяя каждое слово:
— Эти собаки кусают! И кусают больно…
— Ничего, — беспечно махнул рукой Каваньяри. — Они могут убить трех-четырех из нас, но наша смерть будет жестоко отомщена. И потом, если ценой жизни я смогу перенести границы Британской империи на Гиндукуш, то сделаю это, не колеблясь…
В глубине души Каваньяри не сомневался, что такой жертвы от него не потребуется и что в действительности ему ничто не угрожает. Но почему не предстать перед подчиненным в позе героя и не сказать историческую фразу… Впрочем, джемадар, явно не оценивший пафоса этих слов, только покачал головой.
В наступившей тишине майор услышал, как кто-то подошел к кабинету. Он встал и открыл дверь. За ней стоял Дженкинс.
— Прошу прощения, сэр, — обратился он к посланнику. — Пора отправлять ежедневную телеграмму в Симлу.
— Ну что ж, — отозвался «Кави». — Есть у нас какие-либо срочные сообщения, важные события, неотложные дела, о которых следует информировать его высокопревосходительство?
— Как будто нет, сэр, — пожал плечами секретарь.
— Тогда сообщите следующее: «В Кабульской миссии все в полном порядке».
Каваньяри с торжеством взглянул на джемадара, вставшего, чтобы удалиться.
Истекал вечер 2 сентября 1879 года. Телеграмма с этим текстом достигла адресата в положенный срок: 3 сентября 1879 года…
Глава 15 ГИБЕЛЬ КАВАНЬЯРИ
Генерал-майор Фредерик Робертс был вынужден на время покинуть свой отряд, расквартированный в Куррамской долине. Его срочно вызвали в Симлу и включили в состав Армейской комиссии во главе с сэром Эшли Иденом, губернатором Бенгала. Комиссия занималась не только весьма серьезным, но и в какой-то степени щекотливым делом. Несколько затянувшаяся Афганская война, экономические мероприятия, которые были призваны улучшить использование индийских рынков, вывоз местного сырья в Англию, да и сами условия эксплуатации Индии нанесли серьезный урон ее финансам. О помощи голодающим, расширении ирригационных систем нечего было и помышлять. Достаточно хлопот доставляла забота о том, как в условиях нехватки средств обеспечить надлежащий уровень развития вооруженных сил. Над этим и трудились члены Армейской комиссии, часто засиживаясь допоздна.
По счастью, день 4 сентября 1879 года оказался сравнительно легким. Робертс рано вернулся к себе. За ужином жена сообщила ему последние новости Симлы. Дочь военного, капитана Джона Бьюса, и жена военного, Нора казалась Фредерику идеальной спутницей жизни офицера. Она была легка на подъем, не очень болтлива, и уж если рассказывала что-либо, то старалась касаться тех тем, которые интересовали ее супруга. Впрочем, генерал так устал за последнее время, что лег спать пораньше, не успев выслушать всех соображений Норы о намеченных перемещениях в войсках и о том, в каком направлении следует развивать деятельность Армейской комиссии.
Робертс быстро уснул, и сразу нахлынули давно не посещавшие его сны. Один из них унес Фредерика в далекую юность, в Итонский колледж. Он видел себя загнанным в угол класса, а сбоку на него наскакивал, выставив вперед правую руку, словно таран, старый противник «Фист», «Кулак», прозванный так за мощь своих кулачищ. Все попытки закрыться были тщетны, «Фист» колотил его, приговаривая: «Ах ты сукин сын, Бобе!».
Потом «Фист» куда-то провалился. Его место заняла Нора, но и она дразнила его «Бобе, Бобе» и сдергивала неизвестно как оказавшееся на нем одеяло. Тут Фредерик очнулся и увидел склонившуюся над ним жену. Нора действительно откинула одеяло и тормошила его. Он перепугался:
— Что случилось? Который час?
— Половина второго. Выгляни в окно. Кто-то там зовет тебя.
Робертс подошел к окну и сквозь неплотно задернутые шторы не столько разглядел, сколько угадал во тьме южной ночи силуэт человека, размахивавшего руками, и уловил его приглушенные возгласы. Фредерик зажег лампу и, накинув плед, вышел на крыльцо. К нему подскочил кругленький человек в мундире почтово-телеграфного ведомства.
— Тысяча извинений, сэр! Тысяча извинений… Здесь, в Индии, как вы знаете, в отличие от нашей старой, доброй Англии нет ни звонков, ни дверных молотков. Я бы не стал вас беспокоить в эту пору, сэр, но срочная телеграмма…
И он протянул генералу узенький бланк. Фредерик вошел в дом и, поставив лампу на стол, развернул телеграмму. Она была послана капитаном Конолли, политическим офицером в землях племени алихель, и датирована 4 сентября. Прочитав текст, генерал вскричал:
— Нора, скорее иди сюда!
— Плохие известия из Кабула? — с тревогой спросила жена.
— Да еще какие! Слушай, что тут говорится: «Некий Джалаледдин-гильзай, утверждающий, что состоит на секретной службе у сэра Луи Каваньяри, в огромной спешке прибыл из Кабула и категорически заявляет, что вчера утром резидентство было атаковано тремя полками, взбунтовавшимися из-за невыплаты жалованья; они располагают пушками, и к ним присоединилась часть шести других полков. Миссия и ее охрана защищались, когда он уехал вчера примерно в полдень. Надеюсь на получение дальнейших вестей».
Робертс растолкал своего адъютанта, спавшего безмятежным сном в комнатке у входа, и послал его к лорду Литтону: телеграмма прежде всего касалась вице-короля. Но вице-королю все было уже известно, ибо не успел генерал одеться, как к нему почти вбежал взволнованный Лайелл. Обсудив с ним создавшуюся ситуацию, Робертс протелеграфировал капитану Конолли: «Не теряйте времени и не жалейте денег, чтобы получить достоверную информацию о происшедшем в Кабуле, и держите меня постоянно в курсе дела срочными телеграммами. Я надеюсь, что рассказ Джалаледдина окажется чрезвычайно преувеличенным, если не лживым. Если, однако, его сведения обоснованны и распространятся, породив возбуждение, предупредите генерала Мэсси и мистера Кристи, чтобы они были начеку».
Передав таким образом сигнал тревоги британским руководителям — военному и политическому — в Куррамской долине, Робертс с Лайеллом направились к вице-королю. Несмотря на предрассветный час, у того уже собрался весь Совет. Никаких дополнительных сведений еще не было, но собравшиеся решили двинуть войска в афганскую столицу: отомстить за членов миссии, если подтвердятся худшие предположения, или оказать им содействие, если они еще держатся. Поскольку отряд Брауна был фактически расформирован, а солдаты генерала Стюарта находились в далеком от Кабула Кандагаре, основная роль возлагалась на силы, расположенные в Курраме, и Робертсу было предложено немедленно вернуться туда.
Что же было между двумя телеграммами — вполне благополучной от 2 сентября и драматической от 4 сентября? Между ними было 3 сентября 1879 года…
* * *
День начинался как обычно. Перевалив через окружающие Кабул горы, солнце растопило предутренний туман и согрело остывшую за ночь котловину. С приближением осени в афганской столице становилось заметно прохладнее. Это особенно ощущали индийские пехотинцы и всадники, охранявшие резидентство. Ранним утром их командир лейтенант Гамильтон и доктор Келли отправились верхом в соседнюю долину, чтобы определить место, где можно было заготовить сено для лошадей. Вернувшись, лейтенант пошел на плац, где гиды тренировались в обращении с холодным оружием. Доктор посетил госпиталь: в Кабуле было отмечено несколько случаев заболевания холерой, что вызвало серьезные опасения среди англичан.
Уже отправился в свой кабинет на втором этаже Каваньяри. Дженкинс размышлял над донесениями агентов о последних событиях. Их следовало обобщить перед докладом посланнику; по его указанию наиболее интересное без промедления передавалось в Симлу.
В это время здесь же, в Бала-Хиссаре, в каких-нибудь ста метрах от британской миссии, стали собираться афганские солдаты. Оторванные на протяжении ряда лет от привычных занятий, они на военной службе получали мизерное содержание. К тому же казнокрадство высокопоставленных армейских чинов нередко приводило к тому, что солдатам длительное время вообще не выплачивали жалованья. Регулярная армия в стране лишь начинала формироваться; до сих пор ее роль выполняли вооруженные отряды племен во главе с вождями. Экипировка и содержание рекрутов возлагались чаще всего на их родные общины, и при общей бедности основной массы городского и сельского населения войско выглядело как сборище полунищих и полуголодных людей.
Подписанный в Гандамаке договор предусматривал выплату новому правителю крупной денежной суммы. Однако англичане не торопились с ее доставкой, да и использование этих денег для раздачи жалованья воинам-афганцам, люто ненавидевшим непрошеных пришельцев, выглядело как подкуп и задевало их патриотические чувства…
И вот сентябрьским утром у небольшого здания, принадлежавшего военному министерству, столпилось несколько сот человек из трех полков. Одеты они были в обычные для афганцев домотканые, заправленные в шаровары белые рубахи, поверх которых у большинства были безрукавки. Огнестрельного оружия у них не было, зато ножи, скромные или богато украшенные, имелись у каждого.
На площади царил невообразимый шум. Сарбазы обменивались приветственными возгласами, хлопали друг друга по плечу, рассказывали новости. Вскоре этот гам стих: к зданию приблизились два всадника в расшитых золотом генеральских мундирах. Один, огромный, толстый, с седеющей густой бородой, проехал, не глядя по сторонам, сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу. Это был сипахсалар Дауд Шах. Другой генерал, значительно моложе, с узкими, слегка раскосыми глазами, следовал за своим начальником, приветливо кивая собравшимся.
— Это кто такой? — толкнул соседа высокий немолодой солдат, державшийся особняком и не принимавший участия в общих разговорах.
— А ты кто такой? — ответил тот вопросом на вопрос. — Как тебя зовут? Что-то я тебя не встречал среди наших…
— Такой же солдат. Прибыл сюда из Герата с подкреплением, присланным Аюб-ханом.
— То-то! — удовлетворенно хмыкнул собеседник. — До седин дожил, а не знаешь джарнейля Карим-хана. Самая главная птица: деньги выдает… Ну а меня зовут Хасан. Сейчас получим монеты и погуляем.
Генералов сопровождало около двух десятков офицеров и унтер-офицеров на лошадях, мулах и ослах. В центре этой процессии под охраной четырех солдат с обнаженными саблями вели мула; через его спину были перекинуты два мешка с деньгами.
Из здания вынесли и поставили прямо на крыльце столик: за ним уселись генерал Карим-хан и казначей, державший в руках списки. Остальные прибывшие расположились поблизости от них — все, кроме Дауд Шаха. Он даже не спешился и возвышался, будто монумент, возле крыльца, едва удостаивая происходящее презрительным взглядом.
Добродушно перебраниваясь и подталкивая друг друга, солдаты выстроились в густую очередь; извиваясь, она заполнила всю площадь.
— А ты что же? — удивился Хасан, заметив, что его новый знакомый держится в стороне и не торопится занять место в очереди. — Может, тебе не нужны деньги? Так отдай их мне.
— Не в том дело, приятель, — одними губами улыбнулся тот. — Меня вряд ли найдут в этих ваших списках. Нас, гератцев, здесь за солдат не считают. Да, впрочем, мы не о деньгах сперва должны думать, а о том, чтобы мужества не терять.
— Чудной какой-то, — начал тираду Хасан, но закончить ее не успел. Его внимание было отвлечено криками, доносившимися со стороны крыльца.
— Собачьи сыны! Перерезать их надо! Перестрелять! Повесить! Сидят на нашем горбу, свесив ноги, а тут… Правильно говорят в народе: «Верблюд тащит на себе тяжелый груз, а сам ест колючки».
— Да в чем дело? — посыпались вопросы.
— Как же! Обещали заплатить за три месяца, а дают лишь за один…
Толпа словно взорвалась от негодования. В поднявшемся шуме нелегко было разобрать отдельные слова. Солдаты хватались за ножи, потрясали кулаками. Неожиданно на стременах приподнялся Дауд Шах и взмахнул рукой. Шум стих.
— Чего разорались, мерзавцы! — рявкнул генерал. — Дармоеды! Казна пуста. За что вам платить, за какие славные битвы? Вот пришлют инглизи деньги, получите еще. А хотите — можете сейчас потребовать их у Камнари. Я бы вам вообще ничего не дал. Кроме палок, конечно.
Площадь загудела от ярости. Несколько человек бросились к сипахсалару. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону, и Дауд Шах, покачнувшись, упал на землю. Над ним взметнулись кулаки. На выручку главнокомандующему кинулись Карим-хан и несколько офицеров. Они не спасли бы генерала от увесистых тумаков, если бы не солдат, назвавшийся гератцем. Он вскочил на бугорок и закричал звонким голосом:
— Братья! Остановитесь! Хотя Дауд Шах тоже повинен в том, что страна в беде, а инглизи взяли нас за горло, с ним мы посчитаемся потом. Сейчас все мы в ответе за родину. Если бы мы были настоящими мужчинами, то инглизи не сидели бы здесь и не командовали бы нами…
Сипахсалар встал и, отряхивая мундир, взглянул на вступившегося за него солдата. «Накажи меня Аллах, если это не исчезнувший кефтан Файз Мухаммад! Но что за наряд на нем и как он сюда попал?..» — пробормотал генерал.
А гератец продолжал:
— Наш враг коварен и силен. Чтобы одолеть его, надо поднять весь народ. Избавимся от инглизи, тогда и с эмира спросим, если он будет торговать родиной!
— Он верно говорит! — откликнулись солдаты. — Правильно! Справедливо!
Дауд Шах между тем уже полностью овладел собой и прошептал на ухо Карим-хану:
— Это смутьян. Хотя он меня выручил, его надо задержать. Не то выйдет, что мы заодно с бунтовщиками…
Офицеры начали проталкиваться к Файз Мухаммаду, однако пробить плотное кольцо окруживших его людей не смогли. Вместе с группой солдат бывший кефтан покинул площадь. Остальные тем временем продолжали получать месячное жалованье и уходили, чертыхаясь и проклиная начальство: ведь их снова обрекали на полуголодное существование.
Солдатские казармы находились в Шерпурском лагере, более чем в двух милях от места, где выдавали деньги. Путь к ним пролегал мимо усадьбы британского резидентства. Ее окружал довольно высокий дувал — стена из затвердевшей на солнце до плотности камня глины. Железные ворота были на запоре, а вдоль дувала разъезжали конные патрули гидов. Из-за стены доносились слова команды, вслед за которой слышалось лязганье ружейных затворов или топот ног.
Афганцы замедлили шаг. Они с ненавистью смотрели на сытые лица патрульных, надменно глядевших прямо перед собой. Они вглядывались через железную решетку ворот в перестроения чужеземцев, силой навязавших им свое присутствие. Да еще где — в Бала-Хиссаре, древней крепости афганских правителей! Толпа все увеличивалась. Послышались выкрики: «Что вам здесь надо?», «Мы не станем вашими рабами!» Некоторые, наиболее горячие, начали швырять камни на территорию миссии, стараясь попасть в кого-либо из ее обитателей.
Услышав шум, Каваньяри подошел к окну своего кабинета. Он изрядно устал, только что завершив вместе с Дженкинсом подготовку очередной сводки для вице-короля. Не все вести были приятными. «Загадочный сфинкс» в Герате — Аюб-хан все явственнее проявлял к англичанам неприязненное отношение. И даже прислал в помощь брату, несмотря на размолвку из-за Гандамака, два полка. Распространялись слухи, что он готовит войска к походу на Кабул, направив вместе с полками доверенных людей для сплочения всех недовольных этим договором. В самой столице также ощущалась напряженность: почти весь многочисленный штат британской прислуги на улицах, на базаре подвергался непрерывным нападениям. Эмир, подумал посланник, ни рыба ни мясо: делает вид, что соглашается со всеми его рекомендациями и требованиями, а по существу ничего не выполняет. Он, Каваньяри, еще выждет какой-то срок, но, если ничего не изменится, придется менять правителя. Тем более что Якуб-хан игнорирует настоятельные советы беспощадно расправиться с генералом Мухаммад Джан-ханом и муллой Мушки Аламом, которые собирают силы и явно подстрекают народ на новую войну с Англией…
Словом, оснований для особенной радости не было. Наоборот, следовало признать, что господином положения он еще не стал.
Картина, которую Каваньяри увидел из окна, еще более ухудшила его настроение. У ворот собралась густая толпа так называемых эмирских воинов. Мало того что они производили невообразимый шум, мешающий сосредоточиться, эти наглецы распоясались до такой степени, что стали бросать камни в подданных ее величества. Не помня себя от негодования, Каваньяри чуть не скатился по лестнице, выхватил ружье у часового и, почти не глядя, разрядил его в ненавистные лица.
Промахнуться он не мог: уж слишком плотно стояли люди… Выстрел прозвучал не очень громко. Зато сразу после него, перекрывая шум, раздался пронзительный стон раненого человека. Немедленно воцарилась глубокая тишина. Словно не было криков, ругани, перебранки. Стало слышно щебетанье птиц в кронах немногочисленных деревьев этого уголка Бала-Хиссара.
И еще — афганские воины начали отходить от стены и ворот британской миссии. Кто — медленно, кто — поспешно. Одна из групп несла пострадавшего товарища. Эти шли торжественно и скорбно.
Каваньяри вернулся в кабинет. Он находился в состоянии нервного возбуждения и чувствовал, что ему требовалась какая-то разрядка.
— Видели? — обратился он к Дженкинсу, стоявшему с побледневшим лицом у окна.
— И видел, сэр, и слышал. Зачем вы это сделали?
— Дикари и собаки понимают лишь тогда, когда им показывают палку. Сила и решительность в ее применении — единственный язык, на котором следует разговаривать с туземцами. Здесь, в Афганистане, так же как и в Индии, Бирме, Китае, везде на Востоке, черт побери!
— Но, сэр…
— Никаких «но»! Так создавалась империя, и на том она стоит. Давайте, однако, поговорим о другом. Эти болваны вывели меня из равновесия. Чтобы его восстановить, я готов, пожалуй, выслушать историю вашей жизни. Интересно в конце концов выяснить, откуда к нам приходят мягкотелые слюнтяи, простите за прямоту. Итак, чем интересно ваше прошлое?
Дженкинс прекрасно сознавал всю нелепость обращения к своей биографии в столь острой ситуации. Но он видел, как побагровело лицо начальника, отражая бушевавшую в его душе ярость. Следовало подчиниться.
— Жизнь моя не столь уж интересна, сэр, — начал секретарь. — Десять дней назад мне исполнилось тридцать два года. Я — старший сын инспектора строений города Абердина. Там окончил школу, а в 1868 году университет.
Каваньяри в упор глядел на своего помощника, но было видно, что мысли майора где-то далеко. Неожиданно прервав Дженкинса, он воскликнул:
— А вы заметили, что все они шарахнулись от одного-единственного выстрела?! Будто стая воробьев, на которых пала тень орла. Впрочем, продолжайте. Когда же вы покинули свой Абердин?
— Через месяц исполнится девять лет, как я был зачислен в штаты Индийской гражданской службы и приехал в Бомбей. Служил помощником комиссара в Мултане, затем — в Дера-Исмаил-Хане, где к тому же был инспектором школ. Потом меня перевели в Мианвали. Во время службы за Индом изучил язык афганских племен — пушту и белуджи, на котором говорят племена Белуджистана. Кроме того, знаю персидский и арабский. В 1876 году был, как вам известно, переводчиком и секретарем на переговорах сэра Льюиса Пелли с афганцами во время Пешаварской конференции.
— Да, я это знаю, — подтвердил Каваньяри. — Как и то, что вы были политическим агентом в Ладаке, а уж затем стали помощником комиссара в Пешаваре, где мы с вами и встретились. Я не знаю другого: почему у вас всегда такая хмурая физиономия? Чем вы недовольны? Что вам не нравится?
— Если говорить откровенно, сэр, то мне кажется, что мы не используем все возможности в своих колониальных владениях…
— Что вы имеете в виду? — нахмурил брови майор. — Наша политика складывалась многими десятилетиями и под руководством таких умов, которые не нам чета.
— Разумеется, сэр, но, на мой взгляд, мы немало теряем оттого, что не опираемся более активно на культурные слои туземцев. Но для этого нужно знать как можно больше о них. Во всяком случае, признаюсь вам, сэр, я очень увлекся изучением местных языков, философии, литературы и, если позволят обстоятельства, посвящу этому дальнейшую жизнь.
— Покинув Индийскую гражданскую службу?! Это будет выглядеть дезертирством, Дженкинс. Без Индии и других колоний, без их богатств никаких серьезных занятий языком, баснями и прочей чепухой быть не может. Запомните это, сэр…
Каваньяри хотел еще что-то сказать, но его внимание привлек гул, доносившийся извне. Тихий и едва уловимый вначале, он нарастал с каждым мгновением. Майор и его помощник подошли к окну. По двум улочкам к резидентству стекались люди. Это были те же афганские солдаты, но теперь они выглядели иначе: в руках у них были ружья. Это были ремесленники; но они держали не орудия своего труда, а ножи и сабли. Это были крестьяне, доставлявшие в Кабул плоды земли; их крепкие руки сжимали дубинки. Это была городская беднота, ненависть которой уже вышла за пределы человеческого терпения. Они шли молча, но мерный топот их ног, обутых и босых, создавал впечатление шума накатывающейся океанской волны, беспощадной и неотвратимой.
Каваньяри скрипнул зубами. Военный опыт позволил ему молниеносно оценить ситуацию. Он высунулся из окна и увидел командира гидов.
— Тревога, Гамильтон! Тревога… — закричал майор.
И словно дождавшись этого знака, завыл, залился сигнальный рожок. Из бараков высыпали солдаты охраны резидентства. Повинуясь приказам лейтенанта, они занимали позиции в разных уголках усадьбы.
Резкий переход от мирных воспоминаний к жестокой действительности ошеломил Дженкинса.
— Похоже, сэр, что вы ткнули палкой не в муравейник, а в осиное гнездо. Не так ли? — сказал он, криво усмехаясь.
Каваньяри рывком обернулся к своему помощнику. Глаза его налились кровью.
— Слушайте, вы, ученый недоумок! — заорал он. — Берите два ружья и лезьте за мной на крышу. Сейчас ваше ублюдочное представление о жизни изменится… Да не забудьте захватить побольше патронов.
Сорвав со стены охотничье ружье, посланник взобрался на крышу. Вскоре к нему присоединился его секретарь, примчавшийся с ружьями, взятыми у гидов.
Их взорам открылась невеселая картина. С трех сторон усадьба была окружена возмущенным народом. Подсчитать точное число нападающих было невозможно, ибо их укрывала живая изгородь из густых кустов. Четвертая сторона была более открытой и на первый взгляд внушала меньше опасений: там проходил широкий канал. Но минуту спустя Каваньяри разглядел, что за ним расположилась афганская конница, отрезавшая резидентство от дворца эмира.
Вдруг майор заметил афганского солдата, который карабкался по стене огромного склада, находившегося по соседству с усадьбой миссии и возвышавшегося над домом Каваньяри футов на тридцать. Он тщательно прицелился и выстрелил. Солдат приник к деревянной балке, будто намереваясь обнять ее. Потом руки его разжались, и он рухнул вниз.
И снова выстрел Каваньяри послужил своеобразным сигналом к изменению обстановки. Из-за ограды полетели камни, засвистели пули. Гиды отвечали изредка. Дженкинс не стрелял: он внимательно к чему-то прислушивался. Наконец он обратился к своему шефу:
— Знаете, сэр, что кричат эти ужасные люди? «Убьем посла, а за ним и эмира!»
— Не радуйтесь преждевременно… Вас тоже не пощадят!
— Я не к тому, сэр, — сконфузился секретарь. — Я просто хотел сказать…
Но Каваньяри его не слушал. Его взгляд был прикован к складу, у которого стояла группа нападавших. В центре находился человек, по-видимому руководивший действиями афганцев. Его лицо было трудно разглядеть на таком расстоянии, мешали этому и кусты.
— Пусть черти меня сожрут, если вон тот субъект не наш старый друг кефтан Файз Мухаммад! — воскликнул майор, добавив замысловатое ирландское ругательство. — Ну, погоди, приятель, сейчас я тебя угощу, — зло пробормотал он.
Каваньяри поудобнее улегся и тщательно прицелился: наконец-то он рассчитается и за Али-Масджид, и за беседу в Гандамаке!.. Затаив дыхание, он спустил курок. Но в этот миг Файз Мухаммад наклонился, и пуля, направленная в сердце, угодила в левую руку. Афганец зажал рану, и майор увидел, как по рубашке растекается кровавое пятно. Файз Мухаммад поднял голову, чтобы увидеть, откуда стреляли, и заметил прижавшихся к крыше людей. Вся группа тут же скрылась за кустами.
Неудачный выстрел совершенно вывел из себя Каваньяри. Он извергал проклятия на всех известных ему языках. Между тем ружейный огонь из-за ограды усиливался. То один, то другой из гидов вскрикивал и отползал в укрытие для перевязки. Некоторые из них лежали в позах, не оставлявших сомнения в том, что они уже не нуждаются в медицинской помощи.
— Надо смирить гордыню и обратиться к этому петуху на троне за помощью. Нас здесь перестреляют, как куропаток. Не понимает он, что ли! — процедил Каваньяри Дженкинсу. — Отправьте кого-нибудь к Якуб-хану…
Через несколько минут под прикрытием дыма от загоревшегося сарая за пределы усадьбы выскользнул переодетый афганцем британский унтер-офицер. Добравшись до дворца, он изложил просьбу Каваньяри о содействии. Гонцу велели ждать.
Эмир и его придворные и без вестника знали, что миссия инглизи окружена возмущенным народом. До них доносились и звук пальбы, и запах дыма. Мустоуфи и сипахсалар вопросительно посматривали на эмира, но тот нервно ходил из угла в угол и молчал. Ковер скрадывал звуки его шагов, и казалось, что это скользит не живое существо, а гигантская механическая кукла. Приближенные послушно поворачивали головы, глядя на своего повелителя, а тот все ходил и ходил.
О чем он думал? В Бала-Хиссаре были войска; считалось, что они верны эмиру. Но кто ведает?.. Сейчас верны, а если их двинуть против собратьев, то неизвестно, как обернется дело. Якуб-хан знал: Гандамакский договор не способствовал укреплению его популярности в народе, а прибытие ненавистных инглизи еще более накалило обстановку.
— Что они кричат? Чего они там хотят? — внезапно, словно наткнувшись на преграду, остановился он посреди комнаты, обращаясь к придворным.
— Миджар Камнари застрелил нашего солдата, — объяснил огромный Дауд Шах. — И вызвал гнев Аллаха… Умный человек, должен бы знать, что с нашим народом шутки плохи… Шум там, орут неведомо что, — дипломатично закончил генерал.
Разумеется, эмиру все это было хорошо известно. И даже что именно «орали» у ворот миссии. Конечно, следовало бы принять какие-то меры. Но какие? И как бы они не обернулись против него самого… Лучше выждать и посмотреть, как развернутся события. Да и Камнари не мешает проучить: наглый, грубый, всюду лезет, командует, распоряжается.
И Якуб-хан продолжал вышагивать своими длинными ногами из одного угла в другой…
А перестрелка разгоралась. Плохо вооруженные и недостаточно обученные афганские солдаты несли немалые потери. Много убитых и раненых было среди горожан и крестьян. Но осаждавшие настойчиво рвались внутрь усадьбы. Каваньяри с крыши руководил огнем защитников миссии. Он держал под контролем соседний склад, понимая, что его господствующим положением могут воспользоваться восставшие. Но понимал это не только он. Вскоре майор заметил, что в стене склада, обращенной в сторону его дома, появились бойницы. Майор даже заметил, что возле здания промелькнула фигура человека с перевязанной рукой. Файз Мухаммад? Или ему это только показалось?
Нет, не показалось. Именно кефтан отобрал лучших стрелков и велел использовать склад для обстрела англичан. Вскоре оттуда был открыт огонь по территории миссии. Однако, странное дело, мимо посланника не просвистела ни одна пуля. Недоумевая, но не теряя бдительности, Каваньяри как можно плотнее прижимался к крыше. В его руках было ружье. Дженкинс находился на ступеньках лестницы.
Со стороны склада послышался треск ломающихся досок, и майору показалось, что его окликают. Прислушавшись, он отчетливо уловил:
— Миджар Камнари! Мы снова увиделись…
Голос был хорошо знаком. Порыв ветра развеял дым, и англичанин увидел выломанную в стенах склада дыру примерно на уровне крыши его дома, а в ней — своего противника, прилаживавшего правой рукой ружье. Прицелиться и выстрелить было для Каваньяри делом одного мгновения. Но то ли его подвели нервы, то ли помешало что-то иное, однако на этот раз он промахнулся. Он потянулся за другим ружьем. Дженкинс протянул его и вдруг с ужасом отпрянул: пуля пробила лоб Каваньяри. Донесшийся со стороны склада звук выстрела был похож на звонкий щелчок. Так звучали при стрельбе джезаили.
Дженкинс бросился вниз, где за наспех сооруженной баррикадой находился Гамильтон, ставший теперь командиром осажденных. Они набросали записку эмиру, прося о помощи. Тело Каваньяри отнесли к баррикаде. Англичане продолжали отстреливаться, но число их с каждой минутой сокращалось. К тому же пожар перекинулся на другие строения, обволакивая усадьбу густым черным дымом. Но и нападавшие несли тяжелые потери от огня гидов, укрывшихся за дувалом.
Время близилось к полудню. Узнав о гибели чрезвычайного посланника и полномочного министра, Якуб-хан растерялся: Камнари проучили, но не слишком ли основательно? И что дальше? Двинуть войска против бунтовщиков? На это эмир не решался: как бы его самого не постигла та же участь.
И правитель послал к объятому пламенем резидентству в сопровождении муллы-воспитателя своего пятнадцатилетнего сына Мусахана с Кораном в руках. Впереди, как и полагалось, шел скороход, время от времени издававший пронзительный вопль: «Дорогу шахзаде! Дорогу сыну эмира!» За ним следовали несколько стражников с пиками, затем перепуганный наследник, облаченный в богато расшитый халат и чалму, и высокий худой мулла с козлиной бородкой.
Уже через несколько минут они были вынуждены остановиться. В клубах дыма виднелись завалы, укрывавшие афганцев от пуль гидов. У арыка, под сенью деревьев, разместился примитивный лазарет. Тут же лежали и убитые. Люди с недоумением глядели на странную процессию. Двое подошли к наследнику. Он дрожал и беспомощно озирался по сторонам.
— Зачем пожаловал, шахзаде?
— Отец заклинает вас священной книгой… Гнев Аллаха падет на ваши головы! Надо прекратить стрельбу…
— Гнев Аллаха уже пал на наши головы, наградив таким эмиром, — прервал юношу худой солдат с перебинтованной грудью. — Уходи отсюда, шахзаде, и запомни навсегда, что народ не прощает предательства и насилия…
— Иди-иди, — поддержал раненого его товарищ. — Передай отцу, что мы здесь собрались не халву есть. Покончим с инглизи, посмотрим, кто у нас враг дома!
Мусахан взглянул на своих собеседников, на стоявших за ними мрачных, окровавленных людей и молча двинулся в обратный путь. Когда он достиг дворца, навстречу ему выехал сипахсалар Дауд Шах с адъютантом. Генерал придержал коня и вопросительно посмотрел на шахзаде:
— Что там сейчас происходит?
— Меня не пожелали даже выслушать…
— Неважные дела… — Дауд Шах помотал головой. — Инглизи прислали письмо. Обещают выплатить солдатам шестимесячное жалованье. Если прекратят пальбу и разойдутся…
— Ну и что? — оживился Мусахан.
— Ничего, — уныло усмехнулся главнокомандующий. — Моих людей солдаты прогнали… Кричат: кровавые деньги. Теперь его высочество меня отправил усмирять мятежников. А как их усмиришь? Тут нужны пушки.
И он, нехотя хлестнув коня, направился туда, откуда только что возвратился шахзаде. За это время к арыку вынесли из огня еще около десятка убитых и раненых. Генерал сразу попал в накаленную обстановку. Отовсюду слышались негодующие возгласы:
— Что нужно здесь этому чучелу? Явился вести нас на штурм? Вот он — наш герой!
Сипахсалар, как и за несколько часов до того, привстал на стременах, откашлялся и поднял руку:
— Братья! Правоверные! Мы с его высочеством эмиром убедительно приказываем вам разойтись по своим казармам и домам…
Голос генерала срывался, и «убедительный приказ» прозвучал как униженная просьба. Но и она вызвала взрыв гнева у сражавшихся:
— Ага, вот еще один защитник появился! Мы разойдемся, а ты воскреси наших мертвых.
Лежавший под деревом раненый приподнялся и, приложив ко рту ладони в виде рупора, закричал: «Уша! Уша!» Раздался хохот: таким окриком в Афганистане останавливают упрямого осла. Затем к Дауд Шаху подскочили пятеро, и полностью повторился утренний инцидент: главнокомандующего стащили с коня. Бросившийся на выручку адъютант ничего не мог поделать. Генерала били камнями, а один разъяренный солдат даже ткнул его штыком в грудь.
Неожиданно с боковой улицы донесся грохот, сопровождаемый криками: «Хабардар! Берегись!». Столпившиеся на дороге едва успели отскочить, а генерал, поддерживаемый адъютантом, — отползти в сторону, как на это место, поднимая столбы пыли, выкатили пушку. За ней появилась вторая.
Прибытие артиллеристов было встречено с восторгом. Все это спасло незадачливого Дауд Шаха. Он с помощью адъютанта с трудом взгромоздился на коня и незаметно исчез.
Появление артиллерии существенно изменило соотношение сил.
Первый же пушечный выстрел пробил брешь в глиняной стене, окружавшей территорию миссии. Лейтенант Гамильтон мгновенно оценил угрозу, какую представляли пушки кабульцев для его небольшого отряда. С двумя десятками гидов он бросился на орудия. В завязавшейся схватке афганцам удалось отстоять свои пушки. Сам лейтенант получил смертельную рану. Еще несколько снарядов ударило по позициям гидов, по зданию миссии. Очаги пожаров разрастались. Из англичан в живых оставался один Дженкинс, суетливо метавшийся между строениями и что-то кричавший. Но вот рухнул на землю и он. Афганцы ринулись на штурм, и остатки гарнизона резидентства капитулировали.
Обитатели эмирского дворца в трепете ожидали, что восставшие теперь перенесут на них свой гнев, и комендант не раз наведывался в казармы сохранявших верность Якуб-хану войск. Но опасность миновала: повстанцы хоронили погибших, оказывали помощь раненым.
К исходу дня огонь завершил начатое утром дело. Лишь дымящиеся головешки указывали на то, что здесь еще совсем недавно находилась резиденция чрезвычайного посланника и полномочного министра могущественной Британской империи.
Глава 16 ГЕНЕРАЛ РОБЕРТС РВЕТСЯ В КАБУЛ
Никогда прежде резиденция вице-короля Индии в Симле не оживала в столь ранний час. В большом зале собрались почти все члены Совета. Вопросы, догадки, предположения. Секретарь по иностранным делам отметил про себя, что ему еще не приходилось видеть «Великого Могола» таким растерянным. Лайелл и сам был подавлен событиями в Кабуле, но сохранял хладнокровие. Он даже удивлялся тому, что воспринимает случившееся как бы со стороны. Неожиданно его внимание привлек недоуменный взгляд лорда Литтона, обращенный на пустое кресло у двери. Что он рассчитывал увидеть в этом углу? Как же! Лайелл даже дернул себя за мочку уха, словно в наказание за недогадливость: ведь там обычно сидел молчаливый полковник Колли.
В напряженном ожидании вестей текли часы. Новые сообщения не приносили ничего утешительного. К вечеру 4 сентября, когда исчезли всякие сомнения относительно происшедшего в афганской столице, Литтон решил действовать.
— Джентльмены! — обратился он к своим главным помощникам — главнокомандующему войсками в Индии генералу Фредерику Гайнсу, Лайеллу и Робертсу. — Вот что я пишу премьер-министру, — и вице-король поднес к глазам исписанные листки:
«Тщательно и терпеливо сплетенная политическая паутина грубо порвана. Отныне нам нужно сплести новую и, боюсь, более широкую, к тому же из не менее прочного материала. Судьба выдвинула теперь все, чего я особенно старался избежать при ведении недавней войны и переговоров: полный крах предпосылок для существования независимого национального правительства в Афганистане, вынужденное занятие Кабула и опасность его эвакуации без риска нового хаоса для Якуб-хана или любого другого марионеточного правителя, от имени которого мы должны теперь удовлетвориться фактическим управлением страной, во всяком случае — в настоящий момент…»
Литтон остановился: у секретаря по иностранным делам взлетели вверх брови. Лайелл был в числе тех немногих высших чиновников англо-индийского правительства, которые не считали активные действия в Афганистане необходимыми. Стоявший ближе к либералам, чем к консерваторам, он полагал, что подчинения этой страны можно добиться иными методами — более гибкими и осторожными. Но Лайелл понимал, что такие, как он, останутся в меньшинстве, и потому, приняв назначение на пост одного из ближайших помощников вице-короля, как бы обязался поддерживать и осуществлять его линию.
Кабульская катастрофа явилась, однако, своеобразным сигналом. Не пересмотреть ли образ действий? Уже первые строки послания показали, что Литтон и не помышляет о разумных мерах. Скорее наоборот, намечает планы, идущие гораздо дальше. Не предостеречь ли его хотя бы легким намеком?..
— Милорд, — голос Лайелла прозвучал неожиданно звонко, — насколько я понимаю, предусматривается возможность поглощения Афганистана. Но не сведется ли это к огромному росту ассигнований при не очень существенных результатах?
Вице-король внимательно посмотрел на секретаря по иностранным делам. Он достаточно хорошо знал Альфреда Лайелла, чтобы не понять, что его слова означали неодобрение предлагаемой им, Литтоном, новой афганской политики. Деньги! Кто с ними считается, когда речь идет о престиже Британской империи! Но коль скоро упомянута финансовая сторона, он ответит на этот вопрос.
— Да, мой дорогой Лайелл, вы тонко уловили уязвимость этого пункта. Однако на карту поставлено достоинство империи, а в подобном случае ни один англичанин не будет думать о презренном металле. Я вовсе не исключаю эти соображения и пишу далее:
«Нынешняя обстановка вызывает, к сожалению, дальнейшее увеличение военных расходов и отличается политической неопределенностью… Я хорошо понимаю, каким тяжелым грузом ляжет этот болезненный и внезапный удар на правительство ее величества. Но, с другой стороны, вскроются крупные преимущества нашей новой границы: владение ею позволит нам достигнуть Кабула при возникших осложнениях и вообще преодолеть затруднение, которое мы, разумеется, не провоцировали…»
«Великий Могол» замолчал. Далее следовал наиболее важный абзац, и перед ним надлежало выдержать паузу…
«Я отдаю себе отчет в том, что теперь нам, возможно, придется предпринять полное расчленение национального здания, которое мы стремились укрепить в Афганистане, и, во всяком случае, мы должны будем более широко и активно вмешаться в дела этой страны, чем желали ранее. Как бы то ни было, ныне нам предстоит предпринять новые и более серьезные усилия, что должно привести к прочному установлению бесспорного господства Британской державы от Инда до Амударьи…»
У Лайелла перехватило дух. Да, лорду Литтону не откажешь в грандиозности замыслов! Куда только они приведут? Все может завершиться полным провалом. Тогда обвинений в авантюризме не избежать и тем, кто в эти дни находился рядом с вице-королем.
Венчало послание надгробное слово майору Каваньяри:
«Мы понесли вечную — увы! — и тяжелую потерю, невосполнимую для всех, кого она касается, и я лично буду переживать ее как большое горе в течение всей моей оставшейся жизни. В тот момент, когда Индия больше всего в нем нуждалась, она потеряла одного из своих крупнейших людей, королева — одного из самых способных и преданных слуг ее величества. Я лишился более чем любимого друга!»
Лайелла охватило полнейшее недоумение. Каваньяри — любимый друг «Великого Могола»?! Вот уж никто этого не замечал… Что могло быть общего у рафинированного, утонченного эстета Оуэна Мередита, «поэта в Симле», с грубоватым, не очень образованным рубакой? Да и виделись они не более трех-четырех раз. Что же касается способностей бравого майора, «непоправимой потери для Индии» и прочего, то это слишком. Жаль его, конечно, но таких, как он, самоуверенных наглецов в армии, да и в политическом департаменте, — хоть пруд пруди!
Между тем Литтон продолжал с пафосом: «Он погиб геройски, верно неся опасную службу, порученную ему его начальником и отечеством. Отомстить за его смерть — долг нашей страны, и она, я надеюсь, признает и исполнит этот долг…»
«Вот оно что! — сообразил секретарь по иностранным делам. — Вот зачем вице-королю понадобилось наделять Каваньяри отнюдь не присущими тому достоинствами. Месть! Она должна быть тем более жестокой, чем выше качества британского посла, сложившего голову в афганской столице».
Эти размышления были нарушены одобрительными возгласами. Оба Фредерика, Гайнс и Робертс, от всей души приветствовали бескрайние замыслы «Великого Могола».
— Итак, господа, у вас нет принципиальных возражений против депеши? Тогда я немедленно отправляю ее. Да, вот еще что… — Литтон замялся. — Одновременно с этим я буду просить кабинет вернуть сюда из Африки полковника Колли…
Его замешательство было естественным: оба генерала могли расценить этот шаг как недоверие к их способностям. Но они ничем не выразили своего недовольства.
Главнокомандующий, плотный мужчина с признаками одышки, словно ввинтил в Литтона маленькие заплывшие глазки и отрубил:
— Все превосходно, милорд! Мы двинем на Кабул специальный полевой отряд.
…Как только в Симлу поступили первые вести о волнениях в Кабуле, генерал-майору Мэсси, командиру расположенной в Алихеле кавалерийской бригады, было приказано немедленно занять Шутургарданский перевал и направиться в афганскую столицу, чтобы оказать помощь британской миссии. Мэсси легко овладел перевалом, но получил сообщение о гибели Каваньяри. Тогда генерал закрепился на Шутургардане и стал дожидаться дальнейших приказов.
Тем временем главный штаб британских войск срочно формировал Кабульский полевой отряд. Наряду с бригадой Мэсси в него включили пехотные бригады генералов Макферсона и Бэкера, а также артиллерию под командованием подполковника Гордона и саперные части подполковника Перкинса. Возглавил все эти силы генерал Робертс.
Перед отъездом начальник Кабульского отряда нанес визит лорду Литтону и — не узнал его. Вице-король находился в состоянии глубокой депрессии. Робертса принял человек, безгранично потрясенный случившимся, потрясенный настолько, что, казалось, у него не хватит сил обрести себя. Оно и понятно. Впервые за многие годы пребывания на ответственных постах выдающийся успех, достигнутый без больших трудов, можно сказать даже — с изяществом, обернулся провалом. Право же, если бы этот сюжет не касался его непосредственно, а был обнаружен им в какой-нибудь исторической хронике, «поэт в Симле» без особых усилий смог бы изобразить на его основе отличнейшую трагедию…
Поэтому вице-король принял генерала с сумрачной торжественностью. Он был немногословен. Когда Робертс спросил, какой линии ему надлежит придерживаться в будущих отношениях с афганцами, Литтон ответил:
— Вы можете сказать им, что мы теперь никогда не уйдем из Афганистана (он сделал ударение на слове «никогда») и те, кто окажет вам содействие, получат помощь и защиту британского правительства.
Более подробные инструкции он обещал прислать позднее.
После паузы Литтон обратил внимание генерала на письмо и телеграмму, лежавшие на его столе. Письмо — от королевы Виктории, телеграмма — от кабинета министров. Читать королевское послание он не стал, вяло отметив лишь, что оно «любезное, патриотическое и мужественное».
— Она действительно лучшая англичанка, — добавил вице-король, несколько оживившись, — чем любой из ее подданных, и никогда не поддается панике, когда на карте стоят интересы или честь ее империи.
Щеки его порозовели и в глазах появился прежний блеск, когда он прочел Робертсу телеграмму, в которой его заверяли и безоговорочном доверии и полной поддержке любых принятых им мер, даже самых решительных.
— Самых решительных мер! — драматично подчеркнул на прощание «поэт в Симле».
Теперь ему было не до поэзии. Следовало достойно наказать нечестивцев, осмелившихся восстать против Британской империи.
6 сентября генерал Робертс выехал к своим частям в Куррамскую долину.
Командир Кабульского полевого отряда был маленького роста, откуда и родилось его прозвище — Литтл Бобс. Особенно тщедушным он казался рядом со своей дородной супругой. Подобно многим великим, Робертсу были присущи странности: близкие к нему люди говорили, что он ничего не боится, кроме кошек. Утверждали даже, что он обладал в отношении них такой сверхчувствительностью, что безошибочно определял присутствие кошки, где бы она ни пряталась.
Однако эти люди ошибались: пуще кошек генерал боялся Норы. И хотя их семейная жизнь протекала без видимых осложнений, злые языки утверждали, что Нора частенько задавала если не физическую, то, во всяком случае, словесную трепку своему увешанному воинскими наградами супругу.
Но тяга выказать себя грозным воителем часто бывает вложена как раз в хилое и тщедушное тело. Вероятно, поэтому генерал, вырвавшись из уюта семейного очага, старался проявить свою непреклонность. Он становился решительным и безжалостным.
Была у генерала еще одна странность: ему нравилось, чтобы его окружали важные персоны и чтобы его штаб напоминал свиту вице-короля. Например, сейчас он добился откомандирования в свое распоряжение некоторых сановников из Симлы. Ближайший помощник Лайелла Генри Мортимер Дюранд был назначен политическим секретарем Робертса, военный секретарь Литтона генерал Томас Бэкер стал командиром передовой колонны, полковник Чарлз Мак-Грегор из главного штаба англо-индийской армии возглавил штаб Кабульского полевого отряда. А как же иначе? Великий полководец должен иметь достойных соратников!
И следовал он к своему воинству, заранее уверенный в победе: нельзя же в самом деле считать серьезным противником этих дикарей!
16 сентября, едва добравшись до Алихеля, начальник отряда обратился с воззванием — вполне в стиле и духе Литтона — к «вождям и населению страны Кабул и зависимых земель». Военные и политические лидеры Британской империи намеревались расчленить Афганистан, и нечего было больше о нем говорить: в самое ближайшее время он должен был исчезнуть как государственное образование.
Генерал Ф. Робертс.
В своем воззвании генерал Робертс заявлял, что английская армия идет на Кабул, чтобы отомстить за нападение на британскую миссию и обеспечить выполнение условий Гандамакского договора. Далее лицемерно утверждалось о необходимости укрепить власть эмира (чем должны были заняться солдаты и офицеры Робертса) для «упрочения дружбы и сердечных отношений с британским правительством. Это — единственное условие, при котором королевство эмира может продолжать существовать». Испытывая трудности с транспортом и продовольствием, генерал требовал от населения немедленной доставки повозок и продуктов, обещая за все расплатиться.
Робертс деятельно готовился к походу на афганскую столицу, не подозревая того, какой сюрприз ждет его в Хуши, где в то время находился Бэкер с авангардом Кабульского полевого отряда.
Сначала в это небольшое селение прибыл в сопровождении десятка приближенных сардар Вали Мухаммад-хан, дядя эмира Якуб-хана. Этот напыщенный толстяк уже давно кочевал из одного английского лагеря в другой. Он уверял британских генералов, что страдает из-за симпатий к инглизи, жаловался на эмира, который считал его виновником своей опалы в конце правления Шер Али-хана. Угроза казни, утверждал он, вынудила его искать защиты у англичан. Сардар был стар, нуден, угодлив и болтлив. Собранные о нем сведения подтверждали справедливость его слов, но они же свидетельствовали, что никаким авторитетом среди соотечественников Вали Мухаммад-хан не пользуется, а ныне и вовсе дискредитировал себя дружбой с чужеземцами.
Тем не менее британские политики решили: не стоит пренебрегать тем, что само идет в руки. Знатного афганца можно будет посадить на какой-нибудь ответственный пост: он и пальцем не пошевельнет без указания английского советника. Да и теперь он уже приносит пользу: через многочисленную родню собирает информацию о положении в Афганистане, столь интересующую вице-короля и его генералов.
Сообщение о приезде Вали Мухаммад-хана ничуть не взволновало Робертса. Зато, словно удар грома, его поразила весть, что к английским аванпостам приближается сам эмир. И не просто со свитой, а с войском.
Тревога, однако, оказалась ложной. Хотя процессия, приближавшаяся 27 сентября к британским позициям, была весьма многочисленной, она носила вполне мирный характер. Наблюдатели, засевшие с биноклями на окрестных возвышенностях, рапортовали, что всего по ведущей из Кабула дороге к лагерю движется не более 250 человек. Вскоре можно было ясно различить небольшую группу сарбазов, за ней — одинокого всадника, потом — около полусотни богато одетых людей и снова — отряд конных сарбазов.
Когда процессия достигла Хуши, бравый джемадар из индийских мусульман, исполнявший обязанности коменданта, ловко отделил конвой от одинокого всадника (это и был эмир Мухаммад Якуб-хан) и его пышно одетых спутников, направив их к палатке генерала Бэкера.
Время салютов в честь главы Афганского государства прошло. Пушки молчали.
Эмир представил британскому военачальнику наследника престола Мусахана, своего тестя Яхья-хана и главнокомандующего Дауд Шаха. Бэкер велел поставить в центре лагеря несколько палаток для нежданных гостей. В разговоры он не вдавался: в Хуши торопился сам командир Кабульского полевого отряда.
На следующий день прибыл Робертс. Он немедленно принял эмира. В беседе участвовали также Дюранд и переводчик.
Генерала все раздражало в Якуб-хане. «Какая странная, коническая голова! — размышлял он, почти не слушая того, что говорил собеседник. — И почти нет подбородка. Он, должно быть, очень слабоволен. Но глаза! Беспокойные, хитрые. Нет, доверять такому нельзя. Надо заменить его надежным человеком. Вали Мухаммад-хан? Возможно… Если не найдется еще более преданного человека. Да и более влиятельного…»
Между тем гость медлительно, подбирая слова, излагал свои соображения и пожелания. Генерал выслушивал перевод и небрежно бросал короткое «нет!», нехотя удостаивая сына Шер Али-хана объяснением.
— В Кабуле было неспокойно, — монотонно говорил Якуб-хан. — Не было ни хлеба, ни мяса. Мятежники, да падет гнев Аллаха на них и их родителей, бунтовали народ. В казне не было денег. Миджар Камнари обещал: вот-вот привезут из Индии. Не привозили. Мы верны договору. А плохие люди подстрекали сарбазов: мол, все беды из-за инглизи… Мы думаем, что дальше двигаться вам незачем. Вернувшись домой, мы сами накажем виновных. Сядем вместе на ковер дружбы и согласия, а затем повернем в разные стороны: вы к себе, мы — к себе…
— Нет! Мы дойдем до Кабула и расправимся с преступниками.
— Нам стало известно, что к инглизи в лагерь должен был приехать наш недруг Вали Мухаммад-хан. Если страна будет едина, легче будет держать народ в согласии и выполнять условия договора. Не поможет ли джарнейль помириться всем честным афганцам?
«Еще чего! — подумал Робертс. — Вот уж в чем мы никак не заинтересованы…»
— Нет! Лагерь британских войск не место для мирных переговоров между враждующими родами и племенами.
— Может быть, джарнейль отложит на две-три недели продвижение своих доблестных сарбазов, пока мы вернемся к себе и постараемся обеспечить охрану наших жен и детей?
— Нет!
— Мы в такой спешке двинулись навстречу храброму сардару, что не успели даже захватить палаток, в которых могли бы разместиться. Теперь несколько из них доставили. Нельзя ли нам поставить их на окраине Хуши, а не посреди войск инглизи? Нашу особу это очень стесняет…
«Это, в конце концов, несущественно, — решил генерал. — Но надо позаботиться, чтобы ты не сбежал».
— Хорошо, — кивнул он. — Мы, однако, не можем позволить, чтобы такой знатной особе (в тоне Робертса явственно звучали иронические нотки) не оказывались приличествующие ей почести. Поэтому у шатра вашего высочества, как и у моей палатки, будет установлен двойной пост.
Встреча завершилась холодными поклонами.
Когда рядом с английским лагерем раскинули шатер эмира, у входа в него стал мерно вышагивать верзила-шотландец с ружьем, в клетчатой куртке и юбке, с громадной, украшенной перьями шляпой на голове; позади шатра тоже с ружьем стоял на часах солдат из 1-го полка гуркхских стрелков в темно-зеленом с алой отделкой мундире и в круглой черной шапочке с ремешком под подбородком.
…После ухода Якуб-хана Мортимер Дюранд, привыкший к мягкости и деликатности своего бывшего патрона Альфреда Лайелла, покачав головой, заметил:
— Не слишком ли круто обошлись вы с этим беднягой, сэр?
— Круто?! — вскинул брови генерал. — Да за одно лишь бездействие в Кабуле он заслуживает смещения. А вообще, все они хороши. Я бы их расстреливал из пушек. Именно так мы поступаем с бунтовщиками в Индии, и вы это хорошо знаете!
— Но простите, сэр! Мы же не в Индии, а афганцы не наши подданные.
— Это не имеет значения! Идет война. Стало быть, действуют законы войны. И ничего больше…
Эта гневная речь была прервана молодым лейтенантом Беркширского полка.
— Из штаба, сэр. Срочные депеши, сэр! — лихо доложил он.
Протянув Робертсу пакет, он исчез так же стремительно, как и появился.
Вице-король сдержал обещание. В пакете находились инструкции, о которых шла речь, когда генерал покидал Симлу.
Прочитав несколько строк, Робертс назидательно, словно школьный учитель, поднял указательный палец и укоризненно произнес:
— Вот вам, дорогой Дюранд, хороший ответ. Лорд Литтон — достойный преемник великих генерал-губернаторов, прославивших нашу империю в Азии, — Клайва, Гастингса, Уэлсли, Дальхузи… Его рекомендации тверды и решительны. Послушайте, что он пишет.
Генерал побагровел от удовольствия. Читал он медленно, подчеркивая голосом и жестом места, которые, с его точки зрения, заслуживали особого внимания.
«Обосновавшись в Кабуле, вы деятельно расследуете все причины и обстоятельства оскорбления, вынудившего британское правительство занять столицу его высочества эмира. После такого расследования ваш долг — как можно скорее наказать всех тех, кто участвовал в нанесении этого оскорбления или содействовал ему…»
— Понятно, сэр? Это мой долг, а чьи там подданные, меня не касается! Так вот… Слушайте дальше: «За такое оскорбление афганская нация должна нести коллективную ответственность. Это было совершенно неспровоцированное и самое варварское нападение солдат эмира и населения его столицы на представителя союзного государства, который находился под защитой и в крепости эмира, в непосредственной близости к нему самому: личная безопасность посла и почетное обращение с ним были торжественно гарантированы правителем Афганистана».
Робертс подкрутил распушившиеся усы:
— А теперь самое главное: «Возмездие должно соответствовать двойственному характеру оскорбления. Его должна понести афганская нация, ибо оскорбление было национальным и на нее падает вся ответственность. Но оно должно повлечь за собой и достойное наказание тех лиц, которые могут оказаться виновниками или участниками преступления. На нынешней стадии ваших операций было бы преждевременно давать вам определенные директивы о наказаниях, какие надлежит понести городу или народу вообще. Справедливости и прецедентам отвечало бы наложение штрафа на город Кабул…» Учтем! — он выразительно взглянул на Дюранда. — Впрочем, штрафом им не отделаться. Литтон четко пишет об этом: «Военные меры предосторожности, необходимые для прочности вашего положения, могут потребовать уничтожения укреплений и, вероятно, сноса зданий, находящихся в пределах вашей линии обороны или мешающих вашему контролю над городом. Намечая такие работы, вызванные военной потребностью, вы учтете, как их сочетать с действиями, совместимыми со справедливостью и гуманностью, и какой отметиной, которую будет нелегко стереть, оставить память о постигшем город возмездии».
— Та-ак! — инструкции все больше нравились генералу. — Столица этой буйствующей орды получит соответствующие отметины. Помнится, лорд Элленборо сорок лет назад взорвал их знаменитый крытый рынок, близ которого погиб сэр Александр Бёрнс. Надо сделать так, чтобы и через сто лет помнили Кабульский полевой отряд… Но и это еще не все: «Наказание отдельных лиц должно быть быстрым, суровым и впечатляющим… Осуществление справедливости должно быть столь публичным и потрясающим, насколько это возможно, но его следует провести и с максимальной быстротой, ибо неопределенная затяжка ваших действий может вызвать за границей необоснованную тревогу…»
— За границей? — изумился Дюранд. — Что он имеет в виду?
— А я почем знаю! — не слишком вежливо ответил Робертс. — Да не все ли вам равно? Тут дела покрупнее. Нам предлагается создать свое управление над афганцами.
И он дочитал инструкции:
«Пока нечего говорить о будущей внутренней администрации Афганистана, по правительство Индии учитывает, что оно вынуждено будет осуществлять над этой администрацией более тесный и прямой контроль, чем ранее предполагалось или казалось желательным. Поэтому особенно важно, чтобы в период трудностей и дезорганизации, который, как опасаются, придется пережить до установления более отрегулированной административной системы, народ должен привыкнуть… по разумным и прямым действиям наших военных и политических офицеров рассматривать силу и справедливость британского правительства как наилучшую гарантию будущего спокойствия в его стране».
Дюранд сузил серо-голубые глаза, сдвинул брови над слегка крючковатым носом:
— Ну что ж, указания достаточно четкие и вместе с тем широкие, дающие простор для деятельности.
— Погодите, — прервал его генерал. — Здесь есть кое-что еще.
И он извлек из пакета выписки из сообщений английской прессы по поводу восстания в Кабуле. Газеты были единодушны: они призывали к скорой и жестокой мести, а некоторые — даже к поголовному истреблению афганцев. «Стандард» восклицала: «Кабул должен быть разрушен. Его стены и цитадель, во всяком случае, надлежит срыть до основания». Склонная к романтике «Ивнинг Стар» опубликовала большую поэму, в которой содержался призыв к двигающимся в Кабул британским войскам «жечь и убивать, невзирая на мольбы и просьбы». «Дейли Телеграф» рекомендовала уничтожить даже само название столицы Афганистана: «Никакого Кабула!» — настаивала она, советуя назвать город Тречери, или Перфиди, т. е. Измена, Вероломство.
Наиболее разработанную программу мщения предложила «Арми энд Нэви Газетт», отражавшая взгляды военных: «Первая наша обязанность ныне — идти прямо на Кабул и утвердить там наше господство. Вторая — примерно наказать афганцев… Афганская армия должна быть распущена, и все солдаты полков, участвовавших в нападении, должны быть преданы смерти — до единого человека. Кабул должен быть сметен с лица земли… Если мы уничтожим Кабул, присоединим к себе Кандагар, займем Джелалабад и позволим северной части государства разделиться на сотню небольших округов, то нам нечего будет опасаться».
Не устояла и обычно рассудительная «Таймс». Она требовала «наказания, которое заставило бы содрогнуться весь огромный Азиатский материк, от одного его конца до другого!»
Словом, Кабульский полевой отряд и его командир получили надлежащие напутствия.
30 сентября все приготовления были завершены. Генерал-майор Робертс дал приказ наступать на афганскую столицу. То был своего рода подарок, сделанный самому себе: в этот день ему исполнилось сорок семь лет, и он шел за Большой Славой…
«Война кормит войну!» — эту истину сын генерала сэра Абрахама Робертса, женившегося на Изабелле, вдове майора Гамильтона Максвелла, не раз слышал дома, за семейным столом. Потом, когда он окончил аристократический колледж в Итоне, ему ее твердили в Сандхерстском и Аддискомбском военных училищах. Забыть этот афоризм было трудно, а главное, незачем.
Сложности с транспортом и продовольствием Робертс рассчитывал разрешить за счет жителей плодородной долины реки Логар, куда вступили его солдаты. Беда была лишь в том, что местные жители не были склонны снабжать продуктами и столь необходимыми в хозяйстве ослами и лошадьми вторгшиеся в их страну войска.
Тогда командир Кабульского полевого отряда решил поделиться с населением Логарской долины своим боевым опытом. Для этого было выбрано крупное селение Заргуншах (Цветущее). Уже его название сулило обильную добычу. Оно было расположено несколько поодаль от гребня холмов, что позволяло развернуть артиллерию. И когда хмурый староста Заргуншаха в третий раз отрицательно покачал головой в ответ на требование британских квартирмейстеров обеспечить войска продовольствием и транспортными средствами, перед селением развернулась батарея королевской конной артиллерии. Быстро и четко, как на параде, артиллеристы в высоких алых киверах с белыми султанами заняли позиции и навели орудия на селение. В стволы посланы снаряды, поднял руку офицер, и в этот миг старосте в четвертый раз был задан тот же самый вопрос. Его просили учесть, что отказ приведет к превращению Заргуншаха в груду дымящихся развалин.
Афганец побледнел и бросил короткое «хуб», «ладно». Его учтиво поблагодарили за любезное согласие и посоветовали рассказать о том, что произошло в Заргуншахе родственникам и знакомым «там, дальше, вниз по течению Логара». Но староста молча отвернулся.
Кабульский полевой отряд медленно продвигался вперед, неся легкие потери в результате обстрела, которому он подвергался из рощ и зарослей кустарника, с возвышенностей. Десяток-другой убитых и раненых нижних чипов, преимущественно из туземных частей, несколько офицеров — вот и все потери. Командир отряда был невозмутим, когда ему докладывали об этом. Он готов был пожертвовать значительно большим количеством людей, лишь бы побыстрее добраться до Кабула и навести там порядок.
До прихода британских войск в селения, лежавшие на их пути, проникали осторожные люди в афганской одежде. Стараясь не привлекать внимания, они появлялись в домах ханов и вождей родов и племен, соблазняли их тугими мешочками и обещали в недалеком будущем богатство и возвышение. Не всегда такие посещения завершались благополучно. Некоторых выгоняли, случалось, и убивали, но кое-где вождь или староста, припрятав увесистое подношение, удерживал своих соплеменников от враждебных действий.
Когда до столицы Афганистана оставалось каких-нибудь 30 миль, разведка донесла, что у селения Чарасиа сосредоточиваются афганские воины. Если их поддержат логарские гильзаи, британские войска могут оказаться в мышеловке. Робертс долго обсуждал ситуацию с Мак-Грегором и Дюрандом. Единого мнения не было. Начальник штаба настаивал на немедленном броске, а помощник по политическим делам призывал к осторожности.
Все изменила неожиданная удача: в английский лагерь прибыл Бадшах-хан, самый влиятельный вождь местных гильзаев, и почти вслед за ним — трое не очень трезвых пенджабских мусульман в синих с алым мундирах 12-го Бенгальского кавалерийского полка.
Собственно, приезд Бадшах-хана нельзя было назвать неожиданным: его имя стояло на почетном месте в дюрандовском списке афганцев, заслуживавших особого внимания. Когда-то, давным-давно, Шер Али-хан потребовал, чтобы он более аккуратно вносил подати. Своенравный вождь, не привыкший делиться доходами, затаил обиду на эмира и весь его род. К этому прибавилось старое соперничество между племенами гильзаев и дуррани. Вот почему посланцам инглизи, подкрепившим его недовольство правящей династией изрядной суммой золотых монет, без больших усилий удалось убедить Бадшах-хана присоединиться к свите Робертса, который мог теперь меньше опасаться за свой тыл.
Что касается трех подгулявших кавалеристов, то они никак не предполагали, что окажутся в палатке самого Робертса. Его свирепость была достаточно хорошо известна. Совары изрядно перетрусили, не понимая, чем привлекли внимание джарнейль-саиба, и хмель моментально выветрился из их голов. Между тем все объяснялось весьма просто: они возвращались из отпуска, проведенного не где-нибудь, а… в Кабуле.
Робертс, Мак-Грегор и Дюранд сидели на походных стульях, допрашивая вытянувшихся в струнку кавалеристов. Отвечал, как правило, пожилой, по еще бравый совар, все лицо которого покрывала густейшая, черная с проседью растительность.
— Так ты вступил в полк еще при капитане Хокине? — пришел в умиление Робертс. Он считал себя знатоком истории англо-индийских войск.
— Так точно, джарнейль-саиб. Капитан Хокин набирал тогда в Лахоре 2-й полк Сикхской иррегулярной кавалерии… Это было в дни Мятежа. И я записался. Это уже потом нас переименовали в 12-й полк Бенгальской кавалерии…
— Знаю! Что же ты за два десятка лет не дослужился хотя бы до джемадара? Как тебя зовут?
— Фахрутдин, джарнейль-саиб. Был джемадаром. Шайтан попутал, и разжаловали.
— За что же? — поинтересовался Мак-Грегор.
— Так получилось, сэр, — повернулся к нему Фахрутдин. — Во время одной экспедиции против бунтовавших племен мой взвод сжег два селения…
— Это не в Хостской долине? — прервал говорившего командир отряда, но тут же сообразил, что в таком случае он знал бы этого джемадара и постарался бы избавить его от наказания.
— Нет, джарнейль-саиб. К северу от Пешавара.
— Все равно правильно поступил! — бросил генерал.
— И я так думаю, джарнейль-саиб. Но там сгорело слишком много женщин и детей. А потом сказали, что это были не те селения, какие следовало наказать. Вот и разжаловали…
— Чепуха! — снова буркнул Робертс. — Ты мне нравишься, Фахрутдин. Если отличишься теперь, я верну тебе джемадарский погон. А сейчас расскажи, что делается в Кабуле.
Кавалеристы сообщили, что после разгрома британской миссии в афганской столице все утихомирилось, хотя большого порядка нет. Эмира обвиняют в том, что он служит инглизи. Главного крикуна, джарнейля Мухаммад Джан-хана, Якуб-хан уволил в отставку, но тот не успокоился: не признает эмира и Гандамакского договора. Его поддерживает святой мулла Мушки Алам. Он призывает всюду бороться с неверными. А еще везде говорят о каком-то кефтане: мол, бежал в Герат, к брату Якуб-хана Аюб-хану, и идет оттуда с армией, чтобы свергнуть эмира и сражаться с инглизи…
— Ну а что за войска собраны под Кабулом? — продолжал расспросы Робертс.
— Хе! — презрительно выдохнул Фахрутдин. — Разве это войска? Сброд… Настоящих солдат с ружьями не наберется и трех батальонов. Остальные прибежали из соседних сел с палками, топорами.
— А кто ими командует, известно?
— Какой-то старик Нек Мухаммад-хан. Говорят, родственник эмира.
Афганский воин.
…6 октября 1879 года Робертс дал бой афганцам у селения Чарасиа.
Генерал внимательно изучал в бинокль позиции противника. Дорога, ведущая в столицу, углублялась в узкое ущелье, между двумя грядами невысоких холмов, одна из которых тянулась на значительное расстояние. На ее северной оконечности, пока еще неразличимый, находился Бала-Хиссар, резиденция эмиров. Силы Нек Мухаммад-хана генерал определил в 6–7 тысяч человек. Насколько можно было судить, регулярные войска с несколькими пушками расположились в центре, на флангах — народное ополчение, а над ним, на высотах, — гильзайские воины. Впрочем, их Робертс исключил из оперативных расчетов: недаром вождь местных гильзаев Бадшах-хан находился в его свите.
Избегая атаки в лоб, Робертс бросил против правого фланга афганцев пехотные части под командованием бригадного генерала Бэкера. В распоряжении Бэкера находились 72-й шотландский полк «горцев Сифорса», 5-й пенджабский, 5-й гуркхский и 23-й пионерный полки, подкрепленные восемью орудиями. Бэкер подал сигнал, и его пушки открыли беглый огонь. В чистейший, прозрачный воздух предгорий ворвались клубы черного порохового дыма. Шрапнель косила ряды афганских воинов, расположившихся на открытой местности. Когда в действие вступила английская пехота, они были вынуждены отступить.
Одновременно отряд майора Уайта в составе 92-го шотландского пехотного полка «горцев Гордона», двух эскадронов 5-го пенджабского кавалерийского полка и нескольких подразделений 23-го пионерного полка с пятью орудиями обошел левый фланг Нек Мухаммад-хана. На почти безоружных ополченцев обрушился град пуль и снарядов, заставив их покинуть позицию. Чтобы не попасть в кольцо, за ними отошли и подвергавшиеся непрерывному обстрелу воины, занимавшие центр. Афганцев не преследовали.
В неожиданно наступившей тишине далеко разносились победные звуки музыки шотландских полков — основной ударной силы Робертса. Оркестр «горцев Гордона» оглашал окрестности маршем 92-го полка «Мальчуганы гор». Волынщики 72-го полка старательно выводили тягучую мелодию «Голубые шотландские шапочки над Границей».
Лазутчики донесли, что Нек Мухаммад-хан понес очень большие потери и вряд ли сможет помешать англичанам вступить в Кабул.
Все сражение эмир Мухаммад Якуб-хан и его придворные наблюдали, стоя неподалеку от генерала Робертса. Литтл Бобе сидел на своем арабском скакуне в разумном отдалении от случайных снарядов. Не надо было обладать особыми военными талантами, чтобы понять: исход битвы регулярного, отлично подготовленного и оснащенного войска с толпой крестьян и ремесленников фактически был предрешен, а сама битва отнюдь не принадлежала к числу тех, коими следовало гордиться. Тем не менее, когда Кабульский полевой отряд после напряженного сражения овладел вражескими позициями, его командир, получив записку от полковника Мак-Грегора, обратился к эмиру:
— Ваше высочество, можете вместе с нами порадоваться блистательной победе над мятежниками…
Мухаммад Якуб-хан пробормотал что-то в ответ.
— …Мой начальник штаба, — продолжал генерал, — только что известил меня, что у нас убито и ранено 86 человек. Среди раненых — три офицера. О таких потерях стыдно доложить даже в Симлу, не то что в Лондон. А награда — Кабул!
— Каковы же потери афганцев? — спросил эмир. У него чуть не сорвалось с языка — «наших».
— Что-то около двух тысяч.
Генерал намеревался добавить, что противник унес всех убитых и раненых, но передумал и направился к штабной палатке. Там, за походным столом, заваленным картами и бумагами, восседал на раскладном стуле огромный рыжий Мак-Грегор. Мрачный от природы, он чувствовал себя обиженным Робертсом, считая, что тот должен был дать ему бригаду и позволить участвовать в бою. В этот момент, однако, полковник пребывал в радостном возбуждении.
— Поздравляю вас, сэр! Мы проложили путь к логову этих мерзавцев.
— Меня смущают лишь низкие потери.
— Афганские?
— Нет. Боюсь, что лондонские политиканы будут судить о значении операции по нашим жертвам. А их меньше сотни!
— Что-нибудь придумаю, сэр. А пока разрешите поделиться с вами еще одной радостью. Я нашел в шотландских полках двоих Мак-Грегоров, неизвестных мне ранее…
— Представьте их к награде, Чарли! — бросил Робертс. Он хорошо знал навязчивую идею полковника, будто тот является потомком национального героя Шотландии Роб Роя. Мак-Грегор надеялся собрать в ее горах своих сородичей, чтобы провозгласить себя вождем клана. На подобные темы он мог говорить часами.
Еще до вступления в столицу Афганистана следовало распространить там воззвание командира Кабульского полевого отряда, которое извещало местных жителей обо всем, к чему им надлежало готовиться. По указанию Робертса его подготовили работники штаба.
«Да будет известно, что британские войска идут на Кабул, дабы овладеть им, — говорилось в воззвании. — Если они займут город мирным путем, тем лучше; если нет — его возьмут силой… Наше правительство желает справедливо относиться ко всем слоям населения, уважая их религиозные чувства и обычаи, но преступников подвергнет полному наказанию… Со всеми, кто после обнародования этого воззвания будет найден вооруженным в Кабуле или вне его, поступят как с врагами британского правительства… Если вступление английских войск встретит сопротивление, я не отвечаю ни за какой ущерб, нанесенный личности или имуществу даже благомыслящих людей, которые пренебрегут этим предостережением».
В победоносном тоне воззвания звучали фальшивые нотки. Робертс прекрасно понимал, что успехи не имели большой цены: противник разбит, но не уничтожен. И кто его знает, две тысячи он потерял, как заверяло официальное донесение, или две сотни… Правда, афганцам нечем по-настоящему сражаться. И опытных военачальников у них нет. Впрочем, разве угадаешь, что будет завтра?
Поэтому, угрожая кабульцам всякими карами, британский полководец стремился не только запугать их, но и подбодрить себя. Во всяком случае, Кабульский полевой отряд пробирался вперед очень осторожно, как бы ощупью. Едва где-либо намечалось сопротивление, англичане выкатывали вперед пушки…
Тем временем силы афганцев отходили на юго-запад, к Газни. Этот город становился центром борьбы против чужеземного нашествия.
Глава 17 ЯКУБ-ХАН СХОДИТ СО СЦЕНЫ
12 октября, в полдень, генерал Робертс произвел смотр войскам, а затем, приветствуемый орудийным салютом в 31 выстрел, вступил в Бала-Хиссар. Над цитаделью взвился британский флаг.
В тот же день было опубликовано еще одно обращение генерала к жителям столицы. «Я предупреждал население Кабула, чтобы оно не оказывало нам сопротивления. На это не обратили внимания. Солдаты и народ делали все, стараясь помешать нашему продвижению, подняв мятеж против эмира и став врагами британских войск. Тем не менее, несмотря на их усилия, Бала-Хиссар занят. Таким образом, к убийству нашего посольства они прибавили новую вину. Было бы лишь справедливым сровнять за это Кабул с землей. Но британское правительство сочетает правосудие с милосердием и не будет воздавать полного возмездия. Мы уничтожим только те здания, которые мешают обороне Бала-Хиссара, введем тяжелую контрибуцию и военное положение в столице и ее окрестностях. Будет назначен военный губернатор. В течение недели жители должны сдать все оружие. Лица, не выполнившие это распоряжение по истечении указанного срока, будут казнены. Вводится награда: за выдачу каждого солдата или горожанина, участвовавшего в нападении на нашу миссию, — 50 рупий, офицера среднего ранга — 75 рупий, высшего — 120 рупий».
Два дня спустя Робертс торжественно вступил в Кабул. Гремел военный оркестр. Впереди двигались кавалеристы. Далее следовала артиллерия: катилась колесная, не спеша переступали мулы с вьючными орудиями. Лошадь, на которой восседал генерал, мерно покачивала головой, словно одобряя происходящее. За ним — кучка афганских сардаров (эмир отсутствовал), а также группа штабных офицеров. Замыкая процессию, твердо впечатывали шаг в пыльные кабульские улицы красномундирные пехотинцы.
Церемония прошла без каких-либо инцидентов. Кабульский полевой отряд разместился частью в Бала-Хиссаре, а частью в северо-западном районе города — в Шерпурском укреплении, построенном англичанами во время оккупации афганской столицы сорока годами ранее. Его патрули рассыпались по улицам, охотясь за участниками сентябрьских событий. Казалось, у командира отряда были все основания для ликования. Тем не менее генерал, занявший с ближайшими сотрудниками ряд помещений во дворце эмира, был раздражен. Там, на Островах, явно недооценили опасности войны и блистательное проведение кампании.
Правда, королева Виктория горячо поздравила генерала Робертса и лорда Литтона с успешным завершением экспедиции в Кабул и выразила признательность личному составу отряда. Но, считал генерал, героизм солдат и офицеров (как и энергию, военное мастерство и распорядительность командира) следовало бы отметить более щедро.
Раздражение не унималось. Робертс без устали шагал по своему новому кабинету. В низеньком креслице, уютно свернувшись, лежал белый дог по кличке «Бобби»; его чуткие уши поворачивались в направлении шагов хозяина. За окнами угасал октябрьский день. Пес вздрогнул: генерал трижды ударил в ладоши. На пороге появился джемадар-сикх в громадном тюрбане.
— Вы дежурите, Далип-Сингх? Позовите ко мне полковника Мак-Грегора и мистера Дюранда.
— Слушаюсь, джарнейль-саиб!
Вскоре в комнату вошел Мортимер Дюранд, а за ним и Мак-Грегор.
— Садитесь, господа. Уже истекает неделя, отведенная для сдачи оружия. Как обстоят с этим дела, Чарли?
— Не так хорошо, как хотелось бы, сэр. В первые дни сдавали много, а потом почти совсем прекратили. Пока мы уничтожили немногим более тысячи ружей.
— Хотя нам известно, что их у жителей Кабула и окрестностей вряд ли меньше пятидесяти тысяч, — негромко добавил Дюранд.
— Вот видите! — у Робертса задергалась левая бровь — верный признак крайнего возбуждения. — Нет, придется действительно уничтожить этот проклятый город. Ну а что ваша комиссия, полковник?
Сразу же после занятия столицы командир отряда учредил две комиссии — следственную под председательством Мак-Грегора для выяснения происшедшего 3 сентября и военно-судную во главе с генералом Мэсси для вынесения приговоров пленным и другим афганцам, захваченным с оружием в руках.
На сумрачном лице начальника штаба появилось подобие улыбки.
— Мы уже отыскали пятерых виновных, сэр. Это главный кабульский мулла, два высших офицера, какой-то тип из эмирского окружения и базарный сторож.
— Что за странная компания!
— Видите ли, сэр, если говорить откровенно, то против них у нас столько же прямых улик, сколько против остальных афганцев. Ведь эти негодяи плюют на объявленные нами денежные награды. А из арестованных каждый в чем-нибудь замешан…
— Мулла призывал к священной войне против нас, — пояснил Дюранд. — Генералы и сановник вроде бы подстрекали к нападению на миссию. Ну а у сторожа нашли несколько книг с инициалами Дженкинса и английскую трубку…
Он не договорил. Окна залило зарево, и почти сразу раздался ужасающий грохот. Тугая волна ударила в стекла и разнесла их на мелкие осколки. Дико завизжал, заметавшись, дог. Мак-Грегор дотронулся до щеки: она была оцарапана крупным куском стекла, и по ней струилась кровь.
В кабинет вбежал Далип-Сингх. Джемадар таращил свои и без того огромные черные глаза. Его роскошный тюрбан сбился набок.
— Беда, джарнейль-саиб! Большой взрыв… Очень большой взрыв!
— Смир-рно! — рявкнул Робертс. — Ну-ка, быстро — кого-нибудь из английских офицеров!
Через несколько минут сикх вернулся со спутником. Судя по короткой темно-синей куртке с красным воротником и желтым шитьем и темно-синим брюкам с красными лампасами, это был конный артиллерист. Но что за вид? Без каски, изодранный левый рукав и наполовину сорванное голенище левого сапога, весь в пыли и с какой-то синей сыпью на лице… К тому же артиллерист непрестанно тряс головой, словно стряхивая что-то. При виде генерала он вытянулся:
— Лейтенант Харвик, сэр. Вторая батарея конной артиллерии.
— Доложите, что произошло, черт побери!
— Афганские лазутчики взорвали арсенал в Бала-Хиссаре, сэр. Мы неподалеку готовили позиции для орудий. Меня отшвырнуло футов на пятнадцать. Канонир и заряжающий убиты. Говорят, вся наша арсенальная команда погибла. Много солдат и офицеров, сэр.
— Еще бы! — пробормотал Мак-Грегор. — Там было 16 тысяч фунтов пороха, миллионы патронов и множество других боеприпасов.
Робертс заговорил свистящим шепотом.
— Дождались! Сидим спокойно. А под нами вулкан. И он может взорваться в любую минуту, как этот склад под самым нашим носом…
Генерал не выдержал и сорвался на визг:
— Хватит миндальничать! Завтра же повесить этих пятерых бандитов. И еще несколько десятков. Или сотен. Сколько понадобится!
Назавтра устроить назидательное зрелище не удалось. Взрыв арсенала вызвал панику в Кабульском полевом отряде, и понадобились целые сутки, чтобы навести порядок среди солдат и сипаев. Однако уже через день перед бывшей резиденцией Каваньяри были поставлены виселицы. Патрули 67-го пехотного полка врывались в мастерские и лавки, сгоняя народ к месту казни. Хотя город будто вымер, на площади собралось сотни полторы афганцев, окруженных двойным кольцом британских войск.
Мертвую тишину разорвал треск барабанов: привели приговоренных. Когда их расставили под виселицами, из толпы вырвалась женщина и подбежала к одетому в изношенный серый халат базарному сторожу. Она дико кричала, отчаянно отбиваясь от бросившихся к ней английских конвойных. Тогда, величественным жестом отстранив стоявших около него часовых, к ней подошел другой узник, высокий худой старик, преисполненный достоинства. Это был главный кабульский мулла. Он что-то внушительно сказал женщине. Его слова долетели до зрителей, вызвав у них одобрение. Почти бесчувственную, ее оттащили, и рыжий сержант стал набрасывать петли на осужденных…
Жители заволновались. Послышались возмущенные возгласы. Некоторые наклонялись, подбирая камни. Заметив это, насторожился руководивший процедурой казни генерал-майор Джеймс Хилс: Робертс поручил ему исполнять обязанности губернатора столицы. Он повернулся к своему соседу, усатому капитану 67-го пехотного полка; прозвучала команда, и солдаты, окружавшие площадь, взяли ружья наизготовку. Еще миг, и началась бы свалка.
Но тут, скинув с шеи петлю, вперед выступил один из приговоренных — статный и стройный седой джарнейль с глубокими морщинами на лице. Он произнес неожиданным для своих лет звонким голосом несколько фраз на пушту и протянул к соотечественникам руки. Толпа притихла. Снова прорезала воздух барабанная дробь, и вскоре на виселицах закачалось пять тел.
…Робертс и его ближайшие помощники, как обычно, обедали вместе. Командир Кабульского полевого отряда поинтересовался, как прошла казнь.
— Почти нормально, сэр, — ответил Дюранд, отставляя чашечку с кофе.
— Что значит «почти»? — уставился на него Робертс.
— Сначала чуть было не испортила дело жена сторожа, — начал политический советник. — Эта дура кричала, что он невиновен: у них, мол, десять детей, и кто-то из них притащил домой «проклятые вещи инглизи», как она выразилась. Но, понятно, это не могло служить основанием для отмены приговора.
— Естественно!
— Ее успокоил главный мулла. Правда, утешение было своеобразным. Он сказал: «Женщина, не забывай, что ты — дочь своего народа. А наш народ никогда не проявлял слабости перед врагом и не просил у него пощады!»
Командир отряда неопределенно хмыкнул.
— Это, разумеется, подогрело толпу, — рассказывал Дюранд, — и если бы не Хилс, нас бы забросали камнями в собственном лагере.
— Хилс поторопился, — нахмурился Робертс. — Несколько ушибов и царапин от камней афганцев — вот вам великолепный предлог перестрелять их всех. Назидательный был бы урок! Впрочем, давайте дальше, Мортимер.
— Ну а потом в дело вмешался другой осужденный, джарнейль.
— И чем же успокоил он своих пылких соотечественников? — иронически спросил генерал.
— Тоже не очень приятными для нас речами, сэр: «На все воля Аллаха! Сегодня инглизи вешают нас, а завтра мы будем вешать их…»
— Похоже, он недалек от истины, — мрачно усмехнулся Робертс. — Полчаса назад я получил сведения, что афганцы нанесли удар по нашему тылу и захватили Шутургарданский перевал. Мы отрезаны. Единственная надежда — на Пешаварский отряд: он должен пробиться к Кабулу.
…После взрыва арсенала генерал со штабом и основной частью отряда переехал из Бала-Хиссара в Шерпурское укрепление. Здесь не было даже тех относительных удобств, какими располагал дворец эмира, но эту территорию легче было оборонять. Робертс настоял, чтобы туда же перебрался и Мухаммад Якуб-хан.
Афганский правитель проехал через весь город — от юго-восточной окраины к северо-западной — под охраной солдат 9-го английского уланского полка. Удручающая то была процессия. Всадники, казалось, взяли в кольцо одинокую фигуру эмира, угрюмого, погруженного в тяжелое раздумье.
Кто он? Жалкая щепка в океане горя. Легкое перышко, несомое налетевшим на его страну вихрем… Попытка умилостивить могущественных соседей, предпринятая им в Гандамаке, оказалась бессмысленной. Он давно это понял. Инглизи явно стремятся сделать Афганистан второй Индией, только еще более бесправной. Какова же его роль и где его место в этом клубке событий? Прикрывать действия врагов своего народа? Да, тысячу раз был прав отец, предостерегая против посулов инглизи…
Добравшись до отведенного ему — и это в его собственной стране! — помещения, у дверей которого немедленно был выставлен сторожевой пост, Мухаммад Якуб-хан после некоторого колебания решил встретиться с Робертсом. Можно было подумать, что одновременно подобное желание возникло и у командира Кабульского полевого отряда, ибо не успел прикомандированный к эмиру британский капитан отправиться в штаб, как тут же вернулся с вестью, что его ждут.
До большого здания штаба, воздвигнутого английскими инженерными частями в Шерпуре еще в 1839 году, было рукой подать. Через несколько минут капитан ввел Якуб-хана в кабинет Робертса. Кроме генерала здесь были лишь Мортимер Дюранд и переводчик. Робертс предложил правителю кресло.
— Чем могу быть полезен вашему высочеству?
— Сардар! — начал афганский повелитель.
Он явно нервничал, пытался говорить спокойно, однако это ему не удавалось: голос то и дело срывался.
— Сардар, мы всегда стремились идти по дороге дружбы с соседями в Индии…
Якуб-хана смущала ироническая улыбка на лице собеседника, и он никак не мог найти нужный тон.
— …Мы говорили об этом вашим людям немало лет назад, и их уши были открыты для этих речей. Чистоту своих помыслов, проверенную Аллахом, мы доказали, когда по воле всевышнего заняли престол отца…
Генерал продолжал молча улыбаться, и эмир наконец вышел из себя:
— С нами совершенно не считаются! — вскричал он. — Афганских подданных судят и вешают, словно в стране отсутствует законная власть. Многих знатных людей арестовали, да и с нами обходятся, как с пленным. Что все это значит?!
Теперь на правителя смотрел совсем другой человек. Улыбки как не бывало. Плотно сжатые губы. Сдвинутые брови. Холодные глаза. Пронизывающий взгляд. Робертс говорил медленно и внушительно:
— Я сам собирался начать разговор на эту тему, но рад, что он начат вашим высочеством. В наших планах было вести политику в интересах вашего высочества, подданные которого — бунтовщики. Однако после всего случившегося — будем откровенны! — у вашего высочества нет оснований рассчитывать на доверие британского правительства. В самом Бала-Хиссаре вы не защитили британскую миссию…
Якуб-хан поднял руки, будто намереваясь призвать небо в свидетели своей невиновности, но генерал не дал ему произнести и слова:
— Перед чарасиабской битвой вас навестил Нек Мухаммад-хан, возглавивший затем враждебные нам силы. Мы располагаем сведениями, что ваше высочество желали задержать продвижение британских войск к Кабулу, а после поражения бунтовщиков собирались бежать на север для борьбы с нами. Ваше высочество преследовали тех, кто призывал решительно истреблять мятежников…
Робертс остановился, чтобы перевести дух. Мухаммад Якуб-хан воспользовался этой паузой.
— Видит Аллах, — грустно промолвил он, — мы стремились сидеть на ковре искренности и вести с инглизи беседы дружбы и прямодушия. Но горы непонимания и помех неизменно вырастали на этом пути. Когда был подписан мир с вами, афганцы возненавидели своего правителя за то, что мы слишком далеко пошли вам навстречу. Против нас стали составлять заговоры. В Афганистане говорят: «Голый спокоен: ему не страшен ни вор, ни жулик». Внутренний голос подсказывает нам необходимость отказаться от бремени эмирской власти…
Робертс даже не стал дожидаться, когда Якуб-хан закончит свою речь, и, почти не скрывая удовлетворения, воскликнул:
— Именно эти слова я рассчитывал услышать! Внутренний голос подсказывает вашему высочеству правильную мысль.
Затем генерал встал и важно произнес:
— Я принимаю вашу отставку.
Он с торжеством взглянул на Дюранда. Однако лицо политического советника выражало недоумение, граничащее с испугом. Не превысил ли свои полномочия командир Кабульского полевого отряда? Реакции вице-короля можно было не опасаться: «поэт в Симле» неизменно ратовал за полную ликвидацию независимости Афганистана. Но как посмотрят на это в Лондоне?
Действительно, лорд Литтон, которому немедленно протелеграфировали о чрезвычайно важной беседе с эмиром, полностью одобрил поведение Робертса. В британской столице же, как и следовало ожидать, предпочли не связывать себе руки и оставили открытым вопрос о будущем Афганского государства.
28 октября 1879 года по улицам и площадям Кабула расхаживали охраняемые британскими солдатами дандурчи, глашатаи.
«Я, генерал Робертс, — извещало воззвание, которое они читали на пушту и дари, — от имени правительства Британской империи объявляю, что эмир, добровольно отрекшись, оставил Афганистан без правителя. В результате неслыханного преступления против нашего посланника и его свиты имперские власти были вынуждены занять силой оружия столицу Кабул и овладеть другими частями Афганистана…»
Жители слушали дандурчи безмолвно. Лишь изредка кто-нибудь в толпе обменивался с соседом отрывочными репликами.
«…Британское правительство теперь приказывает, — раздавался монотонный голос глашатая, уставшего за день повторять одно и то же, — чтобы все власти, вожди и сардары продолжали исполнять свои обязанности по поддержанию порядка, обращаясь в случае необходимости ко мне. Британское правительство желает, чтобы обращение с народом было справедливым и благожелательным. Услуги тех сардаров и вождей, которые помогут сохранить порядок и спокойствие, будут соответствующим образом оценены, тогда как все возмутители мира, а также лица, участвующие в нападениях на британские власти, понесут достойное наказание.
После совещания с главными сардарами, вождями племен и другими представителями различных провинций и городов британское правительство объявит свою волю относительно грядущего постоянного устройства, которое должно быть осуществлено для надлежащего управления народом».
Подобно другим обращениям командира Кабульского полевого отряда, и это не было искренним и правдивым. Он вовсе не собирался советоваться с кем-либо из афганских представителей, а тем более привлекать их к «управлению народом». Генерал завладел государственной казной и установил контроль над доходами и расходами.
В прокламации была еще одна существенная натяжка; в ней Робертс страшился признаться даже самому себе. Она касалась «военного овладения другими частями Афганистана». Мешало небольшое обстоятельство: его реальная власть не распространялась за пределы столицы. Мало того, даже в Кабуле англичане могли контролировать положение только с помощью крупных и хорошо вооруженных сил. В штабе Кабульского полевого отряда хорошо знали, что такая же обстановка существовала в другом крупном оккупированном городе, Кандагаре.
Как и при чьем содействии установить британское господство над всей территорией Афганистана — вот что занимало умы английских колониальных деятелей.
Глава 18 НЕ СПЕШИ ЗА УДАЧЕЙ
Главный начальник Туркестанского края не любил зимы. Так уж получилось, что почти всю жизнь он служил в местах, где она не обжигала ядреным морозом, не опьяняла прозрачным звенящим воздухом. И на Северном Кавказе и в Закавказье было тепло. В Петербурге, где он некоторое время занимал пост начальника канцелярии военного министерства, зимние месяцы угнетали туманами и промозглой слякотью. Правда, он мог бы насладиться прелестью этой поры в Вильне, но пробыл там сравнительно недолго. Тем не менее в 1879 году он с нетерпением ждал наступления зимнего времени.
Расстегнув крючки короткого казакина, Кауфман стоял у окна кабинета в генерал-губернаторском доме, смотрел на мутную завесу дождя, на густой парк, устланный опавшей листвой, а мысли его были далеко от столицы среднеазиатских владений Российской империи.
Ум его был занят событиями в Афганистане.
Генерал-адъютанта и генерал-лейтенанта фон Кауфмана 1-го более других сановников России касалось то, что происходило на ее южных рубежах: он отвечал за их безопасность. Военный инженер по образованию, государственный деятель с широким политическим кругозором, Кауфман бил тревогу в связи с настойчивыми усилиями Англии закрепиться в Афганистане и превратить его в базу дальнейшей экспансии — уже в Туркестан, отрезанный от центральных районов России обширными степями и труднопроходимыми пустынями. Благодаря его энергии была установлена телеграфная связь между Ташкентом и Петербургом, но добиться прокладки железнодорожной магистрали в Туркестан Кауфман не смог, несмотря на все попытки.
Он стоял у окна своего ташкентского дома и мысленно представлял себе, как снежная метель заносит ущелья афганских гор, узкие проходы, затрудняя операции британских войск, усложняя их проникновение на левобережье Амударьи, отделявшей афганские земли от бухарских.
Только что курьер, проделав нелегкий путь, доставил правителю Канцелярии главного начальника края почту из военного министерства, в ведение которого входило Туркестанское генерал-губернаторство. Кауфман сел за письменный стол и среди множества документов, адресованных лично ему, сразу же отобрал листы большого формата с литографированным текстом.
…С 1873 года военным агентом России в Лондоне был генерал-майор Александр Павлович Горлов. Выпускник Михайловского артиллерийского училища, а затем Михайловской артиллерийской академии, незаурядный специалист по военной технике, получивший Михайловскую премию за сочинение о законах движения артиллерийских снарядов в канале нарезного оружия, он был вдумчивым и внимательным наблюдателем.
Затянувшиеся колониальные войны в Афганистане и Африке, доносил военный агент, — вот что находилось в центре внимания общественно-политических кругов Британской империи. Статьями, заметками, корреспонденциями о них были полны газеты и журналы. Горлов следил за ними и регулярно информировал обо всем Главный штаб в Петербурге. Сведениями, которые касались Востока, начальник Главного штаба генерал Федор Логгинович Гейден, разумеется, делился с Кауфманом.
За эти материалы и взялся в первую очередь генерал-губернатор. Читал Кауфман не спеша, делая паузы, чтобы дать отдых глазам.
«…Отыскивая, на кого бы свалить вину в неполучении столь блистательных результатов, которыми заблаговременно хвалились английские военные и их корреспонденты, наиболее ретивые люди напали ныне на политических офицеров, т. е. офицеров, приданных разным отрядам с целью облегчать успехи войск дипломатическими переговорами с главами разных племен, т. е., просто говоря, покупать деньгами нейтралитет или даже их содействие, — писал Горлов. — Известно, что в Индии английское золото всегда шло совместно с английским оружием и даже играло в большей части первенствующую роль. Особливо оно сильно действовало в прошлую афганскую кампанию 1840–1841 годов, в Кохате в 1854 году и т. п. Так и ныне: подкуп враждебных афганских племен производится в самых широких размерах, так что военные рассматривают настоящую кампанию как ряд парадов и демонстраций с целью облегчить подкупы».
Последняя фраза была подчеркнута жирной чертой. Кауфман задумался над прочитанным. Затем его взгляд упал на следующий абзац. Он широко улыбнулся и поставил сбоку красным карандашом громадный восклицательный знак: «Но подкупы эти не выходят вполне удачными. Старшины берут деньги и обещаний не исполняют. Такие неисполнения надежд на беспрепятственный ход вперед и составляют истинную причину жалоб английских генералов, которые, конечно, не упомянули бы ни словом о подкупах, если бы они были успешны и дозволили бы им собрать столь легкие лавры…»
Главный начальник Туркестанского края настолько увлекся сообщениями Горлова, что попросил принести ему чай с лимоном в кабинет. Короткий день подходил к концу. Стемнело. Камердинер поставил на стол чашку ароматного напитка и зажег лампу.
Военный агент в британской столице старался показать, как тяжело отразились на экономике и жизни народа Англии ее затянувшиеся боевые операции в Азии и в южных районах Африки. Горлов даже глухо намекал, что, осложненные кризисными явлениями, они могут серьезно ослабить позиции правительства консерваторов: «Страдания бедного класса народа в Лондоне и в больших городах Англии вообще весьма велики; хотя министры правительства и их сторонники убеждают, что рассказы об этих страданиях преувеличены, лица беспристрастные признают, что положение бедного класса стало серьезным.
Вместе с тем общий застой промышленности и торговых предприятий тяготеет чрезмерно над всей нацией. Мне отовсюду пишут, что если это положение расстройства дел еще продолжится, то затруднения Англии сделаются крайними. Общественное мнение требует скорейшего окончания неизвестности, желая мира…»
А вот еще одно донесение военного агента в Главный штаб: «В Афганистане кампания идет не так блестяще, как англичане рассчитывали. Особенно тревожат англичан позиции вокруг Кабула, близ Газни, между Джелалабадом и Даккой и около Кандагара (Кауфман усмехнулся в усы: „Неплохо! Иными словами, всюду, где ведутся военные действия!“). Эти постоянные погони за летучими отрядами горцев, делающими неожиданные нападения и часто скрывающимися бесследно, много утомляют англичан и физически и морально. В письмах из армии и даже газетных корреспонденциях упоминается о том, что эта кампания войскам надоела».
И Горлов ссылался на «Дэйли Ньюс», опубликовавшую письмо группы солдат: «Мы все очень больны и устали от афганцев и от так называемой войны… Мы не можем подчинить эти дикие пограничные племена в три месяца. Это займет годы. И сомнительно, подчинятся ли они вообще когда-нибудь нашему владычеству, если мы не истребим их всех поголовно… Или они нас!»
Кауфман снова взял карандаш и подчеркнул слова о том, что афганцы вряд ли подчинятся британскому господству, если не будут уничтожены полностью.
— Хорошо подмечен дух народа! — произнес он вслух.
Главный начальник Туркестанского края перелистал еще несколько документов. Они только деталями отличались от тех, с какими он уже познакомился. Генерал захлопнул папку и откинулся в кресле. Какие бы еще предпринять шаги, чтобы возросли трудности, с которыми столкнулись политические противники России на Востоке? У него созревал план. «По всей видимости, Абдуррахман-хан дождался своего часа!» — мелькнула мысль.
…Ровно десять лет прошло с тех пор, как междоусобная борьба сыновей эмира Дост Мухаммад-хана за кабульский престол завершилась победой Мухаммада Шер Али-хана. К тому времени умер главный соперник Шер Али-хана — Мухаммад Афзал-хан. А его сын Абдуррахман-хан — главная опора и надежда врагов утвердившегося эмира — бежал за Амударью. Абдуррахман-хана тепло приняли хивинский хан и бухарский эмир, но, опасаясь их коварства, он перебрался в русский Туркестан. Это соответствовало интересам царских властей. С одной стороны, они намеревались держать в своих руках столь сильный козырь в политической игре, а с другой — стремились установить дружественные отношения с Шер Али-ханом и должны были жестко контролировать поведение его недруга.
Абдуррахман-хана с его многочисленной свитой поселили в Самарканде. Он сам выбрал себе место в юго-восточной части бывшей столицы грозного Тимура, в квартале дервишей Каландар-Хопа. Здесь, у ворот того же названия, раскинулся обширный, изрядно запущенный сад, некогда принадлежавший повелителю Бухары. В небольших помещениях, укрывшихся в тени деревьев, и поселился афганский сардар с челядью. Его содержание взяли на себя царские власти.
Вскоре начальник Зеравшанского округа передал Абдуррахман-хану приглашение Кауфмана навестить его в Ташкенте. Вернувшись после непродолжительного отсутствия, сардар собрал приближенных и, несколько преувеличивая, рассказал, как его опекал сам ярым-подшо, наместник ак-подшо, «белого царя», в Азии.
— В Ташкенте мне была устроена пышная встреча. На другой день после приезда меня очень сердечно принял генерал-губернатор. В тот же день он отдал визит и пригласил к себе на вечер. Там интересно было наблюдать европейские обычаи: гостей принимают в большом доме, все свободно расхаживают по комнатам, курят, тихо беседуют или едят плоды. Так продолжалось до двух часов ночи, после чего все раскланялись и уехали…
Слушатели дивились непонятным обычаям, а сардар продолжал:
— Вскоре генерал-губернатор опять отдал мне визит. Я вышел встретить его у ворот. После взаимных расспросов о здоровье я преподнес ему саблю с осыпанным драгоценными камнями эфесом, шесть кусков кашмирского сукна и два куска золотой парчи. Генерал-губернатор пробыл у меня два часа. На следующий день меня пригласил генерал Алиханов, и мы провели время весьма дружески. В Ташкенте я получал приглашения и от других генералов…
Абдуррахман-хан помолчал, воскрешая в памяти подробности своей поездки в главный город Туркестанского края. Само собой разумеется, Кауфман отнесся к нему с должным уважением, но, конечно, не «отдавал» никаких визитов. В этом отношении ярым-подшо был чрезвычайно осторожен, стараясь поддерживать высокий авторитет царского наместника. Ну а некоторые генералы действительно проявили интерес к зарубежному гостю, хотя и не столь активно, как того хотелось бы самолюбивому сардару.
Спутники Абдуррахман-хана в изгнании, удобно расположившись на обширной террасе, жадно внимали каждому его слову:
— …Тем временем подошел большой русский праздник, который они называют рождеством. Это день рождения сына их бога. В этот день генерал-губернатор прислал мне свою коляску и через секретаря пригласил приехать. Ярым-подшо по обыкновению встретил меня стоя и провел в тот же зал, где принимал в первый раз и где теперь собрались чиновники, их жены и дочери. Стол был уставлен всякими яствами. Добрая компания ела и пила до полуночи, после чего все начали друг друга целовать, говоря: «Христос, Христос!». Затем гости простились с хозяином и отправились по домам. После трехдневных празднеств генерал-губернатор снова прислал секретаря с коляской, приглашая посмотреть парад их войск. Все было очень хорошо устроено. В конце парада была взорвана искусственная мина…
Сардар передавал впечатления весело, пересыпая речь шутками, но на душе у него царила печаль: он прекрасно понимал сложность своего положения, отсутствие серьезных перспектив. Однако он верил в свою звезду и настойчиво твердил про себя: «Все в руках Аллаха!» Следовало во что бы то ни стало поддерживать надежду и в себе и среди своего окружения, подчеркивать значение своей персоны в глазах царского правительства. Когда-нибудь наступит его час!..
И он рассказал, что на новой встрече Кауфман сообщил о телеграмме русского царя, который спрашивал о здоровье сардара и якобы приглашал его в Петербург.
— Увы, от этой поездки пришлось отказаться из-за категорических возражений наших приближенных, — жаловался сардар навестившему его начальнику Самаркандского отдела Зеравшанского округа капитану Арендаренко. — Они в один голос объявили, что не отпустят меня, ибо сами тут ничего не смогут сделать.
Так ли это было — трудно сказать. Известно лишь, что визит в Петербург действительно не состоялся. Зато сардар любезно согласился удовлетворить пожелание государя запечатлеть на фотографии себя в окружении свиты.
Повествования на террасе периодически повторялись, расцвечиваемые дополнительными деталями и подробностями. Изредка, раз в два-три года, сардара опять приглашали в Ташкент, и он получал пищу для новых рассказов.
Однажды Абдуррахман-хан вернулся в Самарканд озабоченный: Кауфман поручил ему написать историю Афганистана и его владетелей. Внук Дост Мухаммад-хана и племянник героя первой англо-афганской войны Акбар-хана, сардар неплохо знал прошлое своей родины, во всяком случае «придворную» его часть. Беда заключалась в другом: он не так уж хорошо владел пером. Впрочем, с этой трудностью удалось быстро справиться. Для чего существуют мирзы?
Абдуррахман-хан.
Абдуррахман-хан уселся, скрестив ноги, на широком диване, подоткнув под бока подушки; на полу перед ним в той же позе разместился писец, разложивший на низеньком столике листки бумаги и взявший в руки калам, чтобы увековечить слова своего господина. Работа закипела. Через несколько недель ярым-подшо получил рукопись «Истории Афганистана, рассказанной сардаром Абдуррахман-ханом».
Если генерал-губернатор не только интересовался прошлым соседнего государства, но и хотел этим заданием отвлечь изгнанника от тяжелых дум, то последней цели он не добился. Перебирая в памяти события из истории своей страны, особенно связанные с его собственной деятельностью, Абдуррахман-хан как бы заново пережил многие из них. Его потянуло на родную землю так, что порой он готов был вскочить на коня и помчаться на юг, за Амударью, в теснины Гиндукуша, и, рискуя сложить голову, бросить хотя бы мимолетный взгляд на белеющие вершины Спингара, или Сафедкоха, как бы его ни называть — по-афгански или по-персидски…
Но претендент на афганский престол был волевым и чрезвычайно осторожным человеком. И он ждал, ждал, ждал… Иногда отправлялся на охоту, стараясь не утратить остроту глаза и твердость руки. С удовольствием ездил в Ташкент, когда его приглашали. Бродил по Самарканду, любуясь его величественными сооружениями, часто посещал мавзолей Гур-эмир, где был похоронен гроза соседей — ближних и дальних — Тимур, и подолгу смотрел на темно-зеленую плиту из полированного нефрита с арабской надписью, которая начиналась словами: «Это гробница великого султана, милостивого хакана Амир-Тимура-Гурагана, сына Амира Тарагая…»
Сардар ждал, ждал, ждал… Вспыльчивый и горячий, он настойчиво вырабатывал в себе терпение, сдерживал свой темперамент и проявлял внешнее спокойствие в тех случаях, когда готов был взорваться от ярости. Оказавшись в незавидной роли политического эмигранта, беженца, он словно пытался законсервировать себя для будущего. «Мне двадцать пять, — размышлял Абдуррахман-хан в 1869 году, когда пересекал серо-голубую ленту Амударьи. — Это или очень много, если впереди у меня нет ничего, или очень мало, если я могу на что-то рассчитывать в Афганистане. Ну что ж, коли судьба не ладит с тобой, поладь ты с ней, говорят у нас. Только никогда не спеши за удачей, она не любит суетливых. Когда придет твой час, удача сама повернется к тебе лицом».
Сардар старался быть в курсе происходившего там, к югу от Амударьи. Но его люди не приносили ничего обнадеживающего. Впрочем, Абдуррахман-хан отлично понимал, что даже если бы на родине и начались какие-нибудь беспорядки, то, чтобы ими воспользоваться, еще следовало ускользнуть из-под бдительного ока царских властей, отнюдь не собиравшихся осложнять положение его соперника — Шер Али-хана.
Двойственное чувство испытал сардар, когда до Самарканда докатилась весть о вторжении инглизи в Афганистан: мстительная радость при мысли о том, каково теперь приходится сопернику, и ненависть к злобному врагу, топчущему родную землю. «Что делать? — вздыхал он бессонными ночами. — Поднять своих людей и помчаться на юг, чтобы встать рядом с теми, кто наводит джезаиль на красномундирников?»
Но он ни минуты не сомневался, что Шер Али-хан не забыл шести лет кровавой междоусобицы, когда его брат Мухаммад Афзал-хан с сыном Абдуррахман-ханом, нарушив данную эмиру Дост Мухаммад-хану клятву, сражались против законного наследника. К тому же хитрый сардар, почти десяток лет проживший в русском Туркестане, не мог не отметить преимуществ европейского регулярного войска по сравнению с плохо обученными и вооруженными отрядами азиатских владык. Он понимал, что слабой афганской армии несдобровать. Так, может быть, время начнет наконец-то работать на него?
…Стоял февраль 1879 года. Было пасмурно и хмуро, но из-за далекой Амударьи, перевалив через Гиссарский хребет и его отроги, до Самарканда долетали теплые ветры. Они извещали, что весна скоро придет на берега Зеравшана. Абдуррахман-хан обсуждал на террасе с двоюродным братом Исхак-ханом сравнительные достоинства арабских и туркменских скакунов, когда во двор, отстранив преградившего ему путь привратника, ворвался человек с давно не чесанной бородой, в остроконечном, отороченном мехом колпаке, надвинутом почти на глаза. В одной руке он держал здоровенный посох, а в другой — дымящуюся кадильницу на длинной цепочке. На его донельзя грязном, изодранном халате красовался широкий пояс, расшитый золотыми и серебряными узорами и увешанный амулетами. К поясу была прикреплена высушенная тыква, в которую были насыпаны камешки, издававшие шум при малейшем движении.
Это был дервиш странствующего ордена Каландарийя. Он замахнулся посохом на слугу, который попытался его задержать, и, что-то бормоча, кинулся на террасу. Безошибочно определив, кто здесь играет главную роль, он подбежал к Абдуррахман-хану и принялся обмахивать его кадилом, шепча заклинания. Сардар кинул ему несколько монет, но тот, ловко подхватив их, не отставал и надвигался на афганца, словно задался целью оттеснить его в комнату.
Абдуррахман-хан побагровел от гнева и хотел вытолкнуть наглеца, но спохватился: грешно обижать «божьего слугу». К тому же ему показалось, что дервиш подает какие-то знаки, и он отступил в комнату, сопровождаемый каландаром. Среди бессвязных выкриков он вдруг уловил осмысленные фразы на фарси:
— Ждут тебя… Далеко-далеко на юге… Твоя семья — мать, сын. Я оттуда. Очень важные люди ждут. Кандагар… Большую власть обещают. Надо спешить! Приглашают…
Черные, слегка косящие глаза дервиша закатились куда-то под колпак, и он вновь забормотал, зачастил:
— Аллах на небесах — правитель на земле… Помните, люди, Абу Юсуфа аль-Каландари, постигшего высшую благодать и премудрость! Ищите одноухих верблюдов, вах-вах-вах! О, Чар-йар! О, четыре друга! — совсем неожиданно «божий человек» завершил свою болтовню традиционным кличем, которым афганцы восхваляли любимых друзей и соратников пророка Мухаммеда — Абу Бекра, Омара, Османа и Али.
Покрутившись несколько раз волчком, он нырнул в дверь, прошмыгнул в открытые ворота и, будто его и не было, растворился в дервишеском квартале Каландар-Хона, оставив сардара в состоянии полного смятения.
«Что это за каландар? На фарси говорит с явным индийским акцентом, в этом можно поклясться священной Каабой! Знает, что мать и сын — в Кандагаре. В Кандагаре… Туда приглашают? Но ведь город в руках инглизи. Они приглашают? Чтобы баракзайские вожди сражались друг с другом?» Словом, было над чем поразмыслить.
Через несколько дней, когда Абдуррахман-хан вернулся домой после утренней прогулки, его ожидал незнакомый ротмистр, который заявил через переводчика, что сардару следует немедленно ехать в Ташкент.
— Вас желает видеть его высокопревосходительство господин туркестанский генерал-губернатор!
«Выследили-таки этого каландара, — подумал афганец. — Хорошо бы хоть немного оттянуть время и попытаться выяснить, в чем дело…»
— Отчего такая спешка? — ответил он офицеру. — Я соберусь, и завтра мы отправимся к ярым-подшо.
Ротмистр ничего не сказал, сел на привязанную за воротами лошадь и ускакал.
— Что случилось? — спросил Абдуррахман-хан у переводчика, которого не раз встречал у начальника Зеравшанского округа генерала Иванова.
— Понятия не имею, — пожал тот плечами. — Генерал Кауфман велел вам отправляться в Ташкент, и он сам изложит суть дела.
Не прошло и часа, как за дувалом усадьбы послышался шум и конский топот.
— Сардар, там целое войско! — вбежал в комнату напуганный слуга.
Действительно, ротмистр вернулся в сопровождении отряда пеших и конных стражников. Абдуррахман-хан был вынужден подчиниться силе, и его под конвоем отвезли в резиденцию начальника округа.
— Знал бы, что меня возьмут как арестанта, сразу пошел бы, джарнейль-саиб, — хмуро бросил он Иванову.
— Почему как арестанта? — удивленно посмотрел тот на ротмистра.
— Добровольно ехать сардар отказался. И я счел целесообразным…
— Ну зачем уж так сразу бить тревогу? — погладил бороду Иванов. — Наш друг и сам понимает необходимость строгого и неукоснительного выполнения указаний и требований главного начальника края.
Вскоре Абдуррахман-хан уже катил в Ташкент в экипаже, сопровождаемый ротмистром и двумя преданными слугами. «Погубил меня этот проклятый дервиш!» — сокрушался сардар.
Абдуррахман-хан ошибался. Царские власти знали, что претендент на афганский престол поддерживает связи с приверженцами на родине, и смотрели на это сквозь пальцы. Конечно, по-иному они отнеслись бы к его встрече с британским агентом. Но визит «каландара» прошел мимо их внимания.
И тем не менее всемогущий правитель Туркестана был обеспокоен как раз возможными контактами Абдуррахман-хана с англичанами. Российский посол в Тегеране Иван Зиновьев сообщал, что прибывший в этот город капитан Чарлз Нэпир проговорился о желании Лондона видеть сардара в Афганистане. И удивительное совпадение: телеграмма Кауфману из Петербурга от начальника Главного штаба Гейдена содержала намек на целесообразность отправки Абдуррахман-хана на родину. Как это понимать?
Генерал-губернатор возмутился. Он ответил, что афганцы ведут борьбу с напавшими на них англичанами и появление там «эмигранта» внесет разлад в ряды патриотов. Вскоре, однако, выяснилось, что депешу Гейдена инспирировал «друг Англии» — под таким прозвищем в сановных кругах Российской империи был известен царский посол в Лондоне Петр Шувалов, бывший шеф жандармов…
В сложившейся обстановке лучше было, пожалуй, на всякий случай удалить своевольного сардара от афганской границы, избавить от ненужных соблазнов, поместить поближе, в поле зрения высших властей Туркестана.
Вот почему, когда Абдуррахман-хана привезли наконец в Ташкент и доставили в дом генерал-губернатора, Кауфман в деликатных тонах разъяснил ему, что постоянно нуждается в его мудрых советах в связи с событиями в Афганистане и просит не отказать ему в этом.
Абдуррахман-хану предоставили дом, в котором некогда жил военный губернатор Сырдарьинской области Головачев. Пока его приспосабливали для нового хозяина, сардар с челядью разместился в «кашгарском» квартале. Прикомандированный к Абдуррахман-хану чиновник рассказал, что за пятнадцать лет до того в Кашгаре вспыхнуло восстание против китайского господства и правителем, бадаулетом, стал выходец из Средней Азии Якуб-бек, бывший кокандский военачальник. В состав его государства сначала вошли шесть, а затем семь городов Восточного Туркестана, и оно соответственно именовалось Олтышаар («Шестиградье») и Джетышаар («Семиградье»). В 1877 году Якуб-бек умер. Среди его преемников начались раздоры. Пекин бросил против Джетышаара большую армию и, залив его кровью, восстановил там свое владычество. Тысячи беженцев хлынули в русские пределы. Сын Якуб-бека Бек Кули-бек с многочисленными приверженцами осел в Ташкенте, дав название кварталу.
Сардар внимательно слушал, сопоставляя судьбы Кашгара и Афганистана, свою и наследника Якуб-бека. В них было немало общего. И Афганское государство намерена ликвидировать более мощная держава, и ему приходится жить, а может быть, и умереть на чужбине… Однако если так записано в «книге судеб», то надо смириться! Он не подозревал, что этой зимой в его жизни произойдут решающие перемены.
Глава 19 КАРУСЕЛЬ СМЕРТИ
Командование Кабульского полевого отряда, весьма озабоченное тем, как прибрать к рукам непокорную афганскую столицу, приняло решение прежде всего избавиться от низложенного правителя.
Ранним утром 1 декабря 1879 года, когда над Кабулом еще не рассеялась ночная мгла, на пешаварскую дорогу выехала конная колонна. Ее начальник майор Гаммонд получил секретное задание особой важности: под конвоем эскадронов 9-го уланского и 5-го пенджабского кавалерийского полков вывезти в Индию бывшего эмира Мухаммада Якуб-хана. Среди английских улан и пенджабцев в ярких мундирах сквозь частокол пик с колышущимися флажками трудно было разглядеть несколько фигур в темных овчинах: по распоряжению генерала Робертса свергнутого властителя сопровождало всего несколько приближенных. Его малолетнего сына Яхши-хана оставили в столице в качестве заложника.
3 декабря колонна достигла Гандамака: путь по заснеженным горным дорогам был нелегок. Лишь немногим более полугода, размышлял Якуб-хан, прошло с тех пор, как он, полноправный и суверенный владетель, приезжал сюда, чтобы заключить договор со своими соседями. Договор плохой, недостойный Афганистана — бывший эмир уже давно это понял. Еще в Герате, молодой и неопытный, поверил он льстивым речам инглизи. Ссорился с отцом, когда тот, напоминая о прошлом, призывал не доверять им… Вот тогда все и началось: если первый камень положен криво, стена будет кривая до самого верха. Прав был отец! И вот меня везут как пленника, видно, судьба…
Колонна благополучно добралась до Пешавара. Мухаммаду Якуб-хану была отведена резиденция подальше от афганских границ — в маленьком городке Дехрадуне, недалеко от Лудхияны. Это было символично: в Лудхияне долгие годы жил его давний предшественник на кабульском троне Шуджа уль-Мульк; оттуда Шуджа ровно сорок лет назад отправился, чтобы с помощью вражеского войска завоевать свою страну. «На такое я не пойду!» — подумал Якуб-хан.
А в Кабуле британское командование изо всех сил старалось доказать населению, что отныне его уделом является полное и безусловное повиновение. Однако настойчивые призывы сдать оружие, сопровождавшиеся обещанием амнистии, не производили почти никакого впечатления. Робертс цедил сквозь зубы изысканные ругательства, читая ежедневные сводки, составленные в его штабе. Изъятое оружие исчислялось смехотворными цифрами.
— Сделаем последнюю попытку договориться с этими дикарями, — решил генерал и уединился с Мортимером Дюрандом.
Морщась, будто от зубной боли, он резко бросил своему политическому советнику:
— Лично я мало верю в политические средства воздействия. Особенно когда речь идет о таких закоренелых преступниках, с какими нам сейчас приходится иметь дело. Мой символ веры — пуля, штык. Но должна же быть какая-то польза от политической службы, черт побери! Потрудитесь, пожалуйста, сочинить какое-нибудь обращение — подоходчивее, попроще, чтобы дошло до этих оборванцев.
На следующий день на улицах и площадях снова появились глашатаи. Охраняемые конными патрулями, они разъезжали по городу, особенно часто наведываясь на базар, и читали новую «бумагу инглизи»: «У вас есть поговорка, что в Афганистане золото сильнее оружия. Это вполне зависит от вашего выбора. Что желаете — выбирайте! Правительство наше распределило: пули — врагам, а золото — друзьям. Если вы достаточно умны, то должны причислить себя к нашим друзьям!»
До самого вечера в разных концах Кабула можно было слышать возгласы охрипших дандурчи: «Что желаете — золото или пулю?» После наступления темноты они, как по команде, все умолкли, ибо даже взвод соваров не мог уберечь чересчур ретивого глашатая от увесистого камня или палки, нацеленных в него чьей-нибудь меткой рукой.
Новое воззвание особых результатов не принесло. Цифры сданного оружия в штабной сводке не возросли. Презрительно посмотрев на Дюранда, командир полевого отряда обратился к Мак-Грегору:
— Не кажется ли вам, Чарли, что пора оживить деятельность наших комиссий?
— Оживить комиссии, чтобы умертвить две-три сотни афганцев, сэр? — захохотал «Роб Рой», умилившись собственному остроумию. — Это куда полезнее, чем разные там политические штучки.
По разработанному плану было намечено провести в столице серию облав и обысков, с тем чтобы предать военному суду тех горожан, у которых будет найдено оружие.
В одном из помещений Шерпурского лагеря друг против друга были поставлены два стола. За один уселась следственная комиссия: полковник Мак-Грегор, доктор Беллью и Хаят-хан из Индийской политической службы, за другой — военно-судная: генерал-майор Мэсси, майоры Мориэрти и Хюэнс. Они ждали первых жертв.
— Скажу вам откровенно, джентльмены, — обратился к коллегам Мак-Грегор, — сегодня мною движет святое чувство мести.
— Мести? Но тогда вам нельзя вершить правосудие! — раздались возгласы.
— Успокойтесь, джентльмены, — вскинул руки начальник штаба. — Я ведь сказал: святое чувство мести! Оно не направлено против кого-либо непосредственно. Время у нас еще есть, и сейчас я вам все объясню.
Он закинул ногу на ногу и достал сигару:
— Пять лет назад я служил помощником генерал-квартирмейстера дивизии в Равалпинди, на западных рубежах индийских владений. Нас, разведчиков, интересовало все, что касалось дорог, транспортных и продовольственных возможностей Афганистана, Хорасана, Туркмении, настроения их жителей. Мне как раз предстояла поездка в Европу, и я решил сочетать приятное с полезным: отправиться сушей — через Афганистан, Персию и Россию…
«Роб Рой» обрезал и зажег сигару.
— Но наше правительство тогда заигрывало с Шер Али-ханом и категорически запретило мне пересекать афганские земли. Политика! Смешно. Тогда я отплыл из Бомбея в Карачи, оттуда в Бушир и через Шираз — Йезд — Бирджанд добрался до границ Гератского округа…
— А это уже Афганистан, — вставил доктор Беллью.
— Да, запретный для меня! — откликнулся полковник. — Как известно, запретный плод особенно сладок, а главное, нам были необходимы сведения об укреплениях Герата и дорогах, ведущих от него к Кабулу и в долину Амударьи. И я послал письмо гератскому правителю Мустоуфи-саибу, чтобы он разрешил мне провести несколько дней в городе, а сам потихоньку, не дожидаясь ответа, двинулся вперед…
Члены комиссий с живым любопытством слушали рассказ Мак-Грегора.
— Смотрю, навстречу скачет группа соваров, а впереди — моложавый афганец с полным набором кинжалов и пистолетов, как они это любят. Представляется: мехмандар Саид Рустам. Вот и почетный эскорт, думаю. Но мехмандар, вместо того чтобы сердечно принять гостя согласно своей должности, нагло заявляет, что мне закрыт доступ в Герат. Я его пытаюсь убедить и так и эдак, говорю, что здесь недоразумение, намекаю на мешочек с золотом — ничего не помогает. Он злобно смотрит на меня в упор своими огромными глазищами и грубо повторяет одно и то же: «Поверните коня в обратную сторону, миджар-саиб (я тогда был майором), и побыстрее!»
— И вы подчинились? — спросил Мэсси.
— А вы бы как поступили, сэр? Пришлось… Правда, повернув коня, через пару часов я снова попытался проникнуть в Герат уже другой дорогой и без предупреждения. Что бы вы думали? Милях в пяти от городских ворот меня нагнал все тот же мехмандар и под стражей вернул-таки в Персию!
«Роб Рой» пустил клуб дыма.
— И вот что хотелось бы отметить по этому поводу. Как-то в Бутане я отдалился на полумилю от нашего отряда, и один бутанец задел меня. Я поколотил его довольно сурово. Итог был великолепный: он стал как шелковый. Но бутанцам давно известно, что дерзких шуток с собой мы не допускаем. Когда я был с солдатами в Персии, доводилось палкой воспитывать местных слуг… Признаться, мне отчаянно хотелось отколотить этого афганского неуча — Саида Рустама. Однако можно было поклясться, что результаты будут иные, чем в Бутане или в Персии. Афганец в таких случаях немедленно хватается за нож, и последствия бывают самые печальные, ибо у него отсутствует рыцарское чувство, которое останавливает руку, готовую поразить беззащитного противника. Месть моя направлена против этих черт афганского характера. Мы должны безжалостно воспитывать афганцев, приобщая их к нравам и понятиям цивилизованного мира! — закончил свой поучительный рассказ председатель следственной комиссии.
И своевременно: британские солдаты уже начали доставлять в Шерпур людей, схваченных при облавах. Это были ткачи, кузнецы, водоносы, торговцы, бывшие сарбазы, гончары, погонщики верблюдов, крестьяне, приехавшие на столичный базар, муллы и учащиеся медресе… Одних схватили в мастерских за то, что они, подобно своим отцам, дедам и прадедам, ковали сабли или делали ружья. У других нашли, а чаще всего представляли, будто нашли, следы пороха на руках. Тот вышел из дому с традиционным кинжалом, этот приехал издалека и не успел спрятать джезаиль, положенный в повозку на случай встречи с грабителями. Кого-то приволокли с окраины, где накануне исчез индийский совар, и как несчастный ни доказывал, что он кассаб, мясник, чем и объясняются пятна крови на его одежде, ничего не помогло. Достаточно было бросить косой взгляд на группу сарбазов или на офицера, чтобы оказаться в числе «бунтовщиков».
Следственная комиссия тут же признавала каждого из доставленных в лагерь виновным, а сидевшая напротив военно-судная комиссия приговаривала его к смертной казни.
— Этого мало! — в самый разгар судебной вакханалии неожиданно воскликнул Мак-Грегор, и все лица повернулись к нему. — Мусульмане считают, что убитому неверными уготована прямая дорога в рай. А вот кто будет сожжен, в рай не попадет. Их нужно не просто казнить, но и сжигать.
— Превосходная мысль! — одобрил Робертс предложение полковника. — Действуйте!
На одной из площадей Бала-Хиссара вскоре закипела работа. Королевские саперы воздвигли огромную виселицу. По кругу было расставлено попарно сорок столбов, соединенных общей перекладиной. От обычных сооружений подобного рода изобретение «Роб Роя» отличалось не только размерами и формой: вместо веревок на каждой паре столбов крепились цепи.
Много хлопот доставило палачам изготовление быстро воспламеняющейся горючей смеси. Помог какой-то интендант, вовремя вспомнивший о находящихся в обозе нескольких бочках колесной мази. Туда что-то добавили, перемешали, и получился вполне подходящий для данного случая состав. С одним лишь изъяном: при воспламенении он издавал такой смрад, что английские офицеры отказывались долго находиться в этой атмосфере. Пришлось в штабе составлять для них специальный график. Что же касается солдат, а тем более индийских сипаев, то они — народ привычный, и не такое сносили…
В назначенный срок все заняли свои места: канониры у заряженных пушек на господствующих высотах, чтобы ударить шрапнелью в случае внезапного нападения на город бунтовщиков Мухаммад Джан Вардака или муллы Мушки Алама либо восстания в самом Кабуле; шеренги войск на пути следования осужденных к месту казни — для поддержания порядка и пресечения возможных попыток к бегству. У виселиц расставили огромные чаны, наполненные доверху горючей жидкостью.
Поскольку предыдущая казнь не произвела желаемого эффекта, было решено жителей на экзекуцию не сгонять и даже не оповещать о ней. Однако сохранить это в тайне не удалось. На рассвете того страшного дня к воротам Бала-Хиссара потекли толпы жителей Кабула. Люди пытались заглянуть за высокие стены, хоть краем глаза увидеть, что там делается. Среди них было немало женщин, скрывавших лицо под глухим покрывалом чатри. Часовые то и дело пускали в ход приклады, отгоняя наиболее настойчивых.
Начали выводить осужденных. Приговор был единым для всех, вне зависимости от возраста, рода занятий, положения. Подросток, юноша или согбенный старик, каменщик или ювелир, пастух или печник — всем была уготована одна участь — смерть. Был ли действительно в чем-то виновен несчастный, попавший в руки английского правосудия? Вершители его судьбы не задавались этим вопросом.
Трещали барабаны. У чапов действовали ачхуты — индийцы из касты «неприкасаемых». Они обмазывали воспламеняющейся смесью одежду приговоренного. Затем палачи вешали его на цепь и разжигали под ним костер. Пламя быстро охватывало сухие дрова. Его языки, набирая силу, сливались, превращаясь в мощные огненные руки, которые рвались вверх, к жертве… Еще секунда — и человек превращался в пылающий факел…
Зверская расправа, напомнившая времена инквизиции и унесшая более двухсот жизней, растянулась на несколько дней. Над Бала-Хиссаром поднялось облако густого зловонного дыма. Оно разрасталось, превращаясь в мрачную тучу. И долго висела эта туча над Кабулом, напоминая жителям о страшной участи, постигшей их родных, близких, друзей, сограждан.
По завершении казни Робертс распорядился разобрать на топливо деревянные части строений Бала-Хиссара и перевезти их вместе с остатками пороха в Шерпур, а все остальное, и прежде всего цитадель, взорвать и сровнять с землей. Вскоре великолепные памятники афганской архитектуры, слава и гордость Кабула, взлетели на воздух.
— Если и эти меры не принесут результата, — сказал командир Кабульского полевого отряда своим подчиненным, — нам придется и в самом деле стереть город с лица земли, беспощадно истребив все его проклятое население. Надеюсь, однако, что теперь эти дикари смирятся.
Ответ не задержался. Со всех британских аванпостов, расположенных вокруг столицы, стали поступать донесения о сосредоточении сил противника. Их тон становился все более паническим, и генерал поручил Дюранду выяснить через его агентов, чего следует ожидать.
— Мы практически столкнулись, сэр, с совместным выступлением различных сил: народного ополчения, бывших солдат, а также племен, — докладывал через некоторое время политический советник. — Их база к северу от Кабула, в Кохистане, а главный центр сопротивления — в Газни. Известно также, что в Газни ушли из Логарской долины остатки эмирской армии. Ими руководит Мухаммад Джан, артиллерийский офицер, произведенный в джарнейли, после того как он отличился в сражении при Али-Масджиде…
— Какова же роль Мушки Алама? — нетерпеливо вмешался Мак-Грегор.
— Это индийский мусульманин, мулла, известный своим благочестием, — ответил Дюранд. — Он давно живет в Газни и считается афганцем, очень стар, едва передвигается, но по его слову тысячи гази, борцов за веру, готовы пожертвовать собой. За Мухаммад Джаном идут афганские солдаты, за Мушки Аламом — религиозные фанатики, — продолжал политический советник. — Кроме того, против нас выступило ополчение племен. Обычно вожди племен, малики, старшины отчаянно враждуют между собой. Теперь же какая-то неведомая сила примирила их.
— Весьма несвоевременно! — бросил генерал.
— Безусловно, — согласился Дюранд. — Не знаю, можно ли верить полученному мною сообщению, но чуть ли не впервые в афганской истории женщины открыто вмешиваются в политику: жена одного из высланных нами сановников затратила огромную сумму, чтобы вооружить и посадить на лошадей крупный отряд горцев, прибывший в Газни. Правда, это именитая дама, — добавил он с усмешкой, — дочь заклятого нашего врага в первой войне Акбар-хана…
— У меня есть сведения, что мать и жена Якуб-хана тоже пожертвовали своими драгоценностями, чтобы поддержать движущихся на Кабул крестьян Кохистана, — добавил Мак-Грегор.
— Артиллерийский офицер, мулла, бывшие сарбазы, племена, горцы, женщины, крестьяне — великолепный букет! — раздраженно воскликнул Робертс. — И все — на нас. Прямо голова кругом идет. А впрочем, тем лучше: одним ударом покончим с этим сбродом. Известно ли хотя бы, сколько их и какое у них вооружение?
Дюранд задумался.
— О численности ничего определенного сказать нельзя: ряды мятежников все время пополняются за счет жителей соседних городов и селений. А оружие? Пушек у них нет — это определенно. Ружья — старинные, но неплохие, стреляют далеко. Однако их хватает далеко не на всех. А так — ножи, сабли, пики, вилы, дубины — типичное оружие простонародья!
Робертс усмехнулся:
— Справимся! Пусть подойдут поближе…
В первую неделю декабря 1879 года афганцы с разных сторон подтянулись к Кабулу. Робертс направил генерала Бэкера во главе 1200 солдат с четырьмя пушками через Чарасиа в тыл противнику, выступившему из Газни, с задачей отрезать ему пути отступления. Генералу Макферсону с 1600 солдат и десятью орудиями было поручено атаковать этих «газнийцев», помешать им соединиться с кохистанцами и оттеснить под огонь Бэкера.
— Макферсон будет молотом, а Бэкер — наковальней, — разъяснил свой замысел Робертс. Сам он двинулся с Макферсоном. События, однако, развивались несколько иначе.
Авангард Макферсона под началом генерала Мэсси дважды атаковал газнийцев, но был отброшен Мухаммад Джаном к Дех-Мазангскому ущелью и потерял четыре горных орудия. Сбить афганцев с занятых ими позиций не смог и весь отряд Макферсона. А вскоре выяснилось, что отрезанные Бэкером газнийцы вовсе не растерялись. Более того, они сами перешли в наступление.
Бэкер быстро сформировал штурмовую колонну, поставив впереди наиболее надежную часть — 500 шотландцев из 92-го полка хайлендеров, а за ними — солдат 5-го пенджабского пехотного полка, 5-го пенджабского кавалерийского полка и артиллерию. Эта колонна 13 декабря вскарабкалась на холмы, преграждавшие дорогу к Кабулу, потеснила афганцев, и Бэкер смог установить контакт с Макферсоном.
Но назавтра, 14 декабря, когда Робертс счел, что основные трудности уже позади и что его войска, занявшие возвышенности Кохи-Асмай, контролируют положение вокруг столицы (на большее он уже не мог надеяться), ему пришлось горько разочароваться. Умело маскируясь и используя складки местности у Кохи-Асмая, афганские воины стремительно атаковали отряд полковника Кларка, который занимал господствующую высоту, и заставили его бежать, бросив два горных орудия.
Мухаммад Джан постепенно усиливал давление. Афганцы рвались вперед, карабкались на холмы, старались зайти врагу в тыл. То и дело раздавались характерные щелчки джезаилей, и редкий из этих выстрелов не находил цель. Перебои в доставке снарядов, гибель многих артиллеристов, вызванная отходом отдельных частей сумятица — все это ослабляло основную ударную силу Робертса — артиллерию. Сам генерал почел за благо отправиться в Шерпурский лагерь, откуда ему было удобнее координировать действия британских войск.
Однако постепенно становилось ясно, что координировать нечего: если что-либо можно было спасти, то это следовало делать немедленно. И командир Кабульского полевого отряда приказал Макферсону и Бэкеру укрыться в Шерпуре, оставив Кохи-Асмайские высоты и другие позиции. Но афганские воины сами очистили этот район от инглизи. Они смело бросались в рукопашный бой. Их конница преследовала обратившихся в бегство врагов вплоть до лагерных валов, на которых были установлены орудия, чтобы помешать гази ворваться в укрепление. В эти дни англичане потеряли более тысячи человек и немало вооружения.
Но официальная депеша, присланная в Симлу штабом Кабульского полевого отряда 17 декабря 1879 года, носила вполне успокоительный характер: «Робертс находится с 7 тысячами человек в Шерпурском лагере, где он занимает сильно укрепленную позицию, имея запасы на пять месяцев. Первоначальная позиция была слишком растянута, и ее нельзя было удержать, не подвергаясь опасности».
Генерал Робертс оказался плохим кузнецом: ни «молот и наковальня», ни карусель смерти не смогли поставить афганцев на колени.
Глава 20 ЗМЕЯ ПОЛЗЕТ ЗИГЗАГАМИ
В начале ноября 1879 года к Абдуррахман-хану прискакал вестовой: его приглашали на совещание в резиденцию генерал-губернатора. Ехать было сравнительно недалеко, и вскоре сардар оказался в знакомом зале. Там уже собрались несколько военных. Из них афганцу был известен лишь один невысокий рыжеватый полковник лет тридцати — Куропаткин (сардару трудно было запомнить такую трудную фамилию, и он перевел ее на свой лад — «Кеклик», так в Ташкенте называли куропаток).
Когда вошел Кауфман, все встали. Обмениваясь с присутствующими поклоном, генерал-губернатор как-то по-особому взглянул на Абдуррахман-хана.
— Господа! — сказал он, когда все уселись. — В непродолжительном будущем исполнится десятилетие со времени прибытия в наши края дорогого сардара Абдуррахман-хана…
У сардара екнуло сердце: «Вот оно! Пробил мой час».
— Мы — радушные хозяева и с радостью отметим эту славную дату. Но все эти годы сардар проявлял острое и вполне объяснимое беспокойство по поводу происходящего у него на родине. Не желая подвергать такого достойного человека опасностям, мы рекомендовали ему не вмешиваться в эти бурные события…
Главному начальнику Туркестанского края не хотелось говорить об охватившей его тревоге, когда стало известно о низложении эмира Мухаммада Якуб-хана. Англичане явно вели дело к расчленению Афганистана. Они могли направить в соседние области на левобережье Амударьи своих ставленников либо (что было особенно нежелательно) попытаться оккупировать эти земли. Тогда позиции России в Средней Азии оказались бы под угрозой. Так не лучше ли опередить опаснейших конкурентов и поставить во главе этих областей человека, пользовавшегося русским гостеприимством? Тем более что прямой потомок эмиров Афганистана, Абдуррахман-хан был вправе законно претендовать на власть по крайней мере на северных территориях.
— …Но если наш гость еще не утратил желания помочь своим соотечественникам, к примеру в Чар-Вилояте, что ж, мы скажем ему, как и положено в таких случаях, «Худо-и хафиз!», «Да хранит вас бог!»
Генерал-губернатор не случайно упомянул эту провинцию. Именно она примыкала к Амударье и могла служить «буфером» между Туркестаном и теми афганскими областями, где, как представлялось, прочно закрепились британцы.
Абдуррахман-хану понадобилось все его самообладание, чтобы дождаться, когда Кауфман умолкнет. Он вскочил и с налитыми кровью глазами заговорил — тихо и не очень связно — на фарси, вставляя пуштунские, узбекские и даже русские слова:
— Да-да, конечно… Томимому жаждой вода снится! Воля Аллаха проявляется в нужное время. Джаноб-и мехрабони, благосклонный господин это хорошо понимает. Но почему лишь Чар-Вилоят? Меня знают и уважают во всем Афганистане! Дайте мне денег, оружие и несколько офицеров, и я положу к подножию трона ак-подшо, да продлятся вечно дни его, не только эту область, но и Кабул, и Герат, и Кандагар, и Хазараджат…
У него перехватило дыхание.
— И даже Пешавар, — закончил сардар, вспомнив о давно захваченном англичанами афганском городе. — Я разобью инглизи, клянусь! Мой дед, великий Дост Мухаммад-хан, научил их уважать наш народ. Они забыли его уроки. Я напомню. Еще на сорок лет!..
Кауфман слушал эту взволнованную речь со смешанным чувством. Абдуррахман-хан сразу уловил высказанное ему намеком стремление ограничить территориальные рамки его деятельности. Генерал-губернатор полностью разделял недовольство афганца. Более того, еще совсем недавно, когда конфликт с Англией грозил открытым столкновением, генерал готов был сам возглавить войска, чтобы сразиться с «коварным Альбионом»; ведь Лондон лишал Россию возможности полностью пожать плоды своей победы над Османской империей. Но был еще Горчаков со своим дипломатическим ведомством!..
Светлейший князь и сменивший его на министерском посту Гире панически боялись всего, что могло испортить налаженные с превеликим трудом отношения с Англией. Из этого и следовало исходить, если отнестись благожелательно к просьбе сардара. Деньги? Можно дать. Надо лишь подумать, в какой валюте. Не в рублях, естественно… Оружие? Сомнительно: ведь оно должно выстрелить — и за пределами России. Офицеры? Безусловно нет, ни в коем случае! Да и отъезд самого Абдуррахман-хана должен выглядеть как нечто неожиданное, даже дерзкое. Он бежал, неблагодарный. Да-да, именно бежал!.. Надо уже сейчас все растолковать ему…
— Дорогой сардар, чрезвычайно жаль, что вы все же решили нас покинуть, но мы понимаем, где находится ваше сердце, преисполненное любви и преданности своей отчизне. В знак старой дружбы мы окажем вам материальное содействие. Я свяжусь с Петербургом, чтобы определить размер суммы…
На лице Абдуррахман-хана появилась улыбка.
— Что касается русских офицеров, то тут, к сожалению, я вынужден вам отказать. Незачем ехать им так далеко. Да и вам это может помешать: соотечественники знают вас как опытного военачальника, и в свите вашей немало храбрых и хорошо обученных воинов, способных повести за собой полки и батальоны.
Сардар сделал движение, будто хотел возразить, но промолчал.
— Вооружить ваше войско — а нет сомнения, что у вас под началом будут многие тысячи, — мы по понятным причинам не сможем. Однако передовому отряду, который двинется для охраны вашей особы, предоставим ружья Бердана. Как, Алексей Николаевич, найдете у себя в бригаде 25 берданок, чтобы передать их друзьям? — обратился генерал-губернатор к Куропаткину, командовавшему Туркестанской стрелковой бригадой.
— Разумеется, ваше высокопревосходительство! — склонил голову «Кеклик».
— Ну вот, а остальное снаряжение храбрые афганские воины будут добывать у разбитых ими инглизи…
Кауфман произнес эту фразу с доброжелательной усмешкой, не подозревая, что она окажется пророческой, но в ином плане, чем этого хотелось бы главному начальнику Туркестанского края.
— И вот что еще, сардар. В наших общих интересах, чтобы вы со своими людьми как можно быстрее оказались на территории Афганистана. Бухарские и прочие власти будут своевременно оповещены о вашем продвижении, и никто не станет чинить вам препон.
Теперь заговорил Абдуррахман-хан:
— Я нижайше благодарю джарнейля-саиба за внимание и заботу о нашей скромной особе на протяжении столь долгих лет. Пока память моя будет крепка, она сохранит эту признательность! Столь же велики мои чувства к урусам за то, что они помогают нам приблизиться к престолу предков… Но ружей мало, и, даже если их станет больше, наши необразованные афганцы не смогут их чинить. Может быть, джарнейль-саиб разрешит отправиться со мной хотя бы оружейному мастеру Пеопану… Я часто говорил ему о своей родине. Он согласен поехать.
Генерал-губернатор недоуменно обвел взглядом подчиненных. Поднялся окружной инженер полковник Богаевский:
— Ваше высокопревосходительство, кажется, я знаю, о ком идет речь. У нас есть оружейный мастер Смирнов. Его зовут Феофан. Сардар, видимо, пользуется местным произношением его имени…
Абдуррахман-хан внимательно прислушивался к разговору:
— Да-да, Пеопан! Дайте мне мастера, денег, что можно, и все афганцы присягнут на подданство ак-подшо…
— Нет, дорогой сардар, — Кауфман встал, давая понять, что совещание окончилось. — Феофан или Пеопан — это безразлично. Русский человек не должен быть замешан в делах по ту сторону границы!
…Хотя 11/23 ноября 1879 года пришлось на воскресенье, дело не терпело отлагательств, и, несмотря на красный календарный день, из Канцелярии генерал-губернатора в Ливадию, временно ставшую царской резиденцией, шифрованной депешей послали экстренный запрос об отпуске 25 тысяч рублей для претендента на афганский престол. Через пять дней запросили еще 12 тысяч для его ближайших родственников — двоюродных братьев Мухаммада Исхак-хана и Мухаммада Сарвар-хана. Расходы были одобрены, и Абдуррахман-хан немедленно вернулся в Самарканд, где его приближенные почти открыто готовились к отъезду на родину.
Во вторник 9 мухаррама 1297 года хиджры, что соответствовало 11/23 декабря 1879 года, сардар покинул город, где провел в изгнании долгих десять лет. Путь его, однако, лежал не на юг, не к афганской границе. Следуя замыслу туркестанского генерал-губернатора, он отправился на восток, к Ферганской долине. Прошел день, и за Абдуррахман-ханом потянулась его свита. В заштатном городке Ура-Тюбе, лежавшем на пути из Самарканда в Фергану, сардар остановился на отдых. Через несколько дней во главе ста десяти всадников, сопровождаемый небольшим караваном, он двинулся на юг.
Несмотря на то что уже началось чилля — зимнее сорокадневье, неблагоприятное для путешественников, Абдуррахман-хан со своими спутниками перевалил через Туркестанский хребет и спустился в верховья Зеравшана. Впереди предстоял длинный и тяжелый путь…
Кауфман между тем разрешал дипломатические и технические вопросы, связанные с передвижениями «беглеца». Это было крайне важно, ибо Петербург настойчиво подчеркивал, что не желает никаких осложнений с Англией, вызванных проблемами Афганистана. И генерал-губернатор, он же — командующий войсками Туркестанского военного округа, — вызвал своего начальника штаба генерал-майора Фриде.
— Предстоит большая переписка по поводу перемещений сардара. Прошу проследить, чтобы она не носила компрометирующего нас характера. Будем именовать в ней Абдуррахман-хана, скажем, главой, или уратюбинцем, а его людей — гостями. Кроме того, следует предупредить эмира бухарского, чтобы он не чинил ему препятствий. Это — во-первых. А во-вторых, необходимо навести возможных преследователей на ложный след.
— Но, ваше высокопревосходительство, эмир Музаффар эд-Дин-хан вряд ли поймет, если мы обратимся к нему с намеками по поводу какого-то уратюбинца.
— Пожалуй! Ему надлежит писать без обиняков.
И Кауфман тут же продиктовал послание повелителю Бухары: «Афганский сардар Абдуррахман-хан скрылся, а также и родственники его, проживавшие в Самарканде. Прошу ваше высокостепенство не задерживать Абдуррахман-хана и его родственников в ваших владениях, предоставив его воле божией. Если они раз ушли, то бог с ними, пусть идут, куда хотят, вреда от этого ни вам, ни нам никакого не будет. Дело до нас с вами не касается».
Главный начальник края подумал и добавил: «Не оставьте сделать распоряжение, чтобы и беки ваши пропустили, не делая им никаких препятствий».
— Ну вот. Позаботьтесь, будьте добры, о быстрейшей отправке гонца в Бухару. А теперь необходимо известить и других. Прежде всего военного министра.
В Петербург пошла депеша: «Афганский сардар Абдуррахман-хан, отправляясь для свидания с родственниками в Ферганскую область, бежал, по всей вероятности, за Аму. Сделано распоряжение о поимке. Можно предположить, что успеет перейти на левый берег Аму».
Была послана и телеграмма начальнику Зеравшанского округа: «Сардар Абдуррахман-хан, оставив здесь семейство, скрылся. Примите меры к розыску, не пошел ли к Амударье. Донесите».
Генерал-майор Иванов откликнулся тут же: как выяснилось, из Самарканда исчезли Абдуррахмановы родственники — Сарвар-хан и Исхак-хан; по-видимому, они все заранее сговорились; на розыски беглецов была послана казачья сотня, но она вернулась, не напав на след.
Об этой неудаче Кауфман с прискорбием известил военного министра Милютина.
Было мудрено напасть на след беглеца, даже если бы все казачьи сотни Туркестана помчались перехватывать его к Амударье. Сардар подался совсем в другую сторону — в глухой горный край, в верховья Зеравшана. Но то ли он недостаточно хорошо понял общую ситуацию, вынудившую генерал-губернатора просить его как можно быстрее ехать домой, то ли уже считал себя царствующей особой, имеющей право рассчитывать на соответствующее обращение, но в Магиане он допустил промах.
Оказавшись в этом мелком владении в долине реки Магиан-дарья, Абдуррахман-хан отправил бухарскому эмиру послание с запросом, может ли он беспрепятственно двигаться по территории эмирата и намерен ли Музаффар эд-Дин-хан предоставить ему почетный эскорт? Узнав об этом, Кауфман пришел в ярость: на письме генерала Иванова появилась резолюция: «Кажется, у главы нет головы!»
Для повелителя Бухары послание ярым-подшо прозвучало как строгий приказ. Он категорически заявил, что видеться с «беглецом» не намерен и почетной охраны ему не даст. Больше того, жителям селений, через которые лежал путь сардара и его спутников, было велено держаться от них подальше. Это распоряжение выполнялось буквально: никто не желал валяться в пыли с перерезанным горлом…
Поэтому когда отряд сардара, выбравшись наконец из пределов Туркестанского края, сделал остановку в бухарском кишлаке Джауз, его улицы казались вымершими, все двери были наглухо заперты, молчали даже собаки. Однако людям и лошадям необходимы были отдых и еда. Надвигалась ночь, и Абдуррахман-хан отправил к старосте слугу с ультиматумом: если никто не откликнется на его зов, он захватит несколько домов и добудет припасы силой. То ли подействовала угроза, то ли жители почувствовали себя смелее с наступлением темноты, но на улицах показались какие-то тени, нашлась убогая мехмонхона, комната для гостей, удалось разжиться продовольствием и фуражом.
Ответственный за «бегство» начальник Зеравшанского округа Иванов в эти дни лишился покоя. По мере удаления от русских владений сардар все меньше считался с необходимостью конспирации. Считая, что это придаст ему особый авторитет на бухарской территории, он широко козырял именами высших представителей туркестанской администрации, мог поручить первому встречному доставить письмо, на конверте которого значилось: «Генералу Иванову».
Как бы то ни было, Абдуррахман-хан продвигался к цели. На протяжении декабря его группа, насчитывавшая уже до двухсот пятидесяти человек, миновала Яккобаг и Дербент, Байсун и Денау, Регар и Гиссар, Курган-Тюбе и Куляб, выйдя в конце концов к переправе через Пяндж. В первых числах января 1879 года власти Туркестана смогли наконец спокойно вздохнуть: сардар со своими сторонниками переправился через грозно ревущий, бурный Пяндж и вступил на родную землю.
…Абдуррахман-хан стоял у огромного камня, принесенного своенравной рекой откуда-то издалека. «Что предпринять дальше? — думал он. — Двинуться на Мазари-Шариф, резиденцию чар-вилоятского лой-наиба Гулям Хайдар-хана? Безумие. У того многочисленное войско. Почва не подготовлена, и даже если бы нашлись приверженцы Абдуррахман-хана, сына некогда правившего здесь Афзал-хана, это ничему не поможет… Надо еще отыскать таких людей, наладить связи… Нет, пока рано состязаться с лой-наибом.
Ладно. Это на западе. Ну а что на востоке? Бадахшан. И для его жителей он не чужак: как-никак зять бывшего бадахшанского владетеля — мира Джахандар-ша, или, как тут говорят, Джахандар-шо. Достаточно ли этого, чтобы сразу штурмовать местную столицу — Файзабад, где теперь сидит дядя жены Шо-заде Хасан? Видимо, тоже нет! Но зачем же сразу штурмовать? Нельзя ли договориться с дядей?»
Не теряя времени, Абдуррахман-хан отправился со своим писцом в стоявшую неподалеку заброшенную хижину. Мирза уселся, скрестив ноги, на вытертой кошме и разложил письменные принадлежности.
«Привет да достигнет! — обращался сардар к родственнику. — Да не скроется от вашего высокого внимания, что по воле Аллаха нам суждено было вновь увидеть священные земли нашего государства. Мы намерены полностью восстановить свои наследственные права в Афганистане. Надеемся, что мудрый мир Бадахшана — да продлятся дни его! — окажет в этом содействие всеми имеющимися в его распоряжении средствами».
Текст скреплен резной печатью Абдуррахман-хана, бумага скатывается в трубочку и вручается гонцу. Конь уже оседлан. В Файзабад!
Дело сделано. Весть о себе подана. Остается только ждать. Впрочем, ждать сардар за десять лет, хвала всевышнему, научился. Но годы мытарств научили его и тому, что делать это тоже надо умеючи. Ибо жизнь полна неожиданностей. И потому Абдуррахман-хан произвел смотр своему не успевшему обсохнуть (да и как тут обсохнешь, когда продолжает кружить суровая бадахшанская метель!) воинству. Оно выстроилось в колонну. Впереди — пятьдесят соваров-телохранителей. Половина из них вооружена берданками, остальные — тоже неплохими ружьями, какие удалось раздобыть за время самаркандского «сидения». За ними — около двухсот конных афганцев: и они далеко не безоружны, хотя их оснащение похуже. Жаль, что немало людей пришлось выделить в распоряжение Исхак-хана и Сарвар-хана и направить их в сторону Мазари-Шарифа, но ведь и там надо закреплять влияние вернувшегося в Афганистан внука Дост Мухаммад-хана!..
Сардар поначалу думал направиться к лежавшему в трех дневных переходах городу Рустак. Однако люди были слишком измотаны. К тому же неизвестно, как отнесется к нему правитель Рустака — мир Баба-хан. Если враждебно, то он легко одолеет падающих с ног от усталости воинов Абдуррахман-хана. Будет смешно и трагично потерять все в первый же день.
Благоразумие, благоразумие прежде всего. Как правило, оно всегда вознаграждается. И потому сардар разместил свой отряд в заброшенной крепости Янги-кала, стоявшей в стороне от дороги на Рустак. Его люди получили возможность обогреться и отдохнуть.
Прошел день, другой. На третий, в полдень, дозорные известили, что к Янги-кала приближается конная группа. Абдуррахман-хан поднялся на крепостную стену. Вскоре всадников уже можно было пересчитать: человек семьдесят с пиками и саблями, ружей почти нет. Впереди — толстяк в чалме, богато расшитой куртке и широченных шароварах. Хорошо видно его лицо — одутловатое, заросшее рыжей, неаккуратно подстриженной бородой. Мир Баба-хан?
Сардар подал знак впустить прибывших. С некоторой опаской оглядываясь по сторонам, в открытые ворота въехал их глава в сопровождении дюжины кавалеристов. Ему достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться, что гарнизон крепости и численно и по вооружению значительно превосходит его свиту. Это вызвало у толстяка явную растерянность, но он все же спешился и пошел навстречу медленно спускавшемуся со стены по ступенькам Абдуррахман-хану. Да, это был рустакский правитель.
Мир Баба-хан приложил обе руки к объемистому животу и изобразил поклон. Жест правителя повторили, спрыгнув с копей, его люди. Сардар ответил легким кивком и пригласил гостя в помещение. На раскинутом паласе быстро появился достархан — угощение. Абдуррахман-хан извинился за его скудость: он только что вернулся на родную землю. Последние слова он произнес медленно, как бы подчеркивая своевременность и естественность своего возвращения.
— Албатта, конечно! — с готовностью согласился Баба-хан. — Это мы должны были позаботиться о достойной встрече сардара, но не были осведомлены о ней.
Его хитрые глазки отражали внутреннюю борьбу. Затем, словно преодолев колебапия, он продолжал:
— Сегодня утром я получил приказ из Файзабада помешать вашему пребыванию в Бадахшане. Но ни я, ни мои сарбазы и совары не намерены сражаться против сардара, да будет над ним тень пророка!
Баба-хан почти не прикоснулся к еде: его одолевали сомнения. Оказавшись между двумя более мощными силами, он только что предал Шо-заде Хасана и мог лишь мучительно гадать, правильный ли сделан выбор. Абдуррахман-хан поспешил его успокоить:
— Аллах наставил тебя на истинный путь. Мы прибыли из Русийа и пользуемся ее поддержкой. Наша задача очистить от инглизи священную афганскую землю. А также от таких, как Шо-заде Хасан, которые забывают заповеди пророка о борьбе с неверными и поднимают меч против мусульман…
Мир Баба-хан понимающе улыбнулся.
— Мы переедем в Рустак, — добавил сардар. — Затем наше объединенное войско нанесет удар по Файзабаду. Хотя Шо-заде Хасан — мой близкий родственник, он не должен рассчитывать на пощаду. Ну а потом, собрав силы, мы поднимем джихад!
…Расположенный на возвышенности, омываемой речкой Джильгой, Рустак не был крупным городом. Вместе с окрестными селениями он едва насчитывал 20 тысяч жителей, в основном таджиков, узбеков, хазарейцев. В нем было три караван-сарая, три пятничные мечети, четыре медресе. Гордостью рустакцев был базар с тремя сотнями лавок. Здесь торговали пушниной, бухарскими шелковыми товарами, индийскими ситцами и миткалем; из Пешавара приезжали за тмином и лисьими шкурами. Успешной торговле благоприятствовало выгодное расположение города: во все стороны от Рустака шли дороги — на Ханабад и Кешм, Файзабад и Шахри-Бузург, на север, к берегам Пянджа, к лежащим за ним владениям эмира Бухары, русскому Туркестану.
Именно на это и рассчитывал Абдуррахман-хан. Укрепившись в Рустаке, он мог сравнительно легко связаться с афганскими пунктами, а в случае поражения — вернуться в Туркестан: ярым-подшо его не выдаст. Сам сардар обосновался в таджикском квартале, а солдат разместил в рустакской крепости. Теперь следовало приступать к главному — укреплять авторитет потомка великих баракзаев, без шума, но последовательно и целеустремленно устранять со своего пути малых и больших правителей, собирая силы и ставя под контроль одну область за другой.
Неглупый политик с изрядным жизненным опытом, он понимал, что может рассчитывать на влияние в стране только в том случае, если привлечет народ такими делами (или по крайней мере призывом к таким делам — эта оговорка весьма существенна!), которые найдут отклик в душе каждого патриота. А в ту пору каждый честный афганец считал святой обязанностью борьбу с ненавистными инглизи. Из этого и следовало исходить…
Не было в Рустаке более близкого для Абдуррахман-хана человека, чем его мирза, и не было никого, кто в те дни трудился бы с большим напряжением, чем этот писец. Сардар будто задался целью его уморить. С утра до вечера он диктовал мирзе послания и письма, а когда уходил отдыхать, несчастный грамотей должен был переписывать некоторые из них во множестве экземпляров.
«О мусульмане! — гласило одно из таких посланий, адресованное народу. — Я прибыл не для того, чтобы воевать против правоверных афганцев, а для джихада, священной войны за веру. Необходимо поэтому, чтобы вы все слушались моих приказаний; они исходят от Аллаха и его пророка. Все мы рабы Аллаха, поэтому джихад — долг каждого из нас».
Вначале сардар велел поставить в качестве подписи безликое «Мусульманин», а потом решил, что тогда воззвание не даст должного эффекта, и подписался полным именем: «Абдуррахман-хан, сын Мухаммада Афзал-хана, внук Дост Мухаммад-хана».
Там, где можно было легко добиться успеха, сардар, не испытывая неловкости, действовал вооруженной рукой против единоверцев. Правда, он старался подвести под такие действия серьезные моральные основания. Так, выяснив, что бадахшанский правитель Шо-заде Хасан не в состоянии оказать серьезное сопротивление, он направил на Файзабад крупный отряд под началом мира Баба-хана. Тот вез специальное обращение Абдуррахман-хана:
«Бек Хасан, начальники и подданные Файзабада! Извещаю вас, что я прибыл в страну, чтобы освободить ее из рук инглизи. Если мне удастся сделать это мирным путем, хорошо. Если нет, нам придется сражаться. Все вы правоверные, и вам нельзя допускать, чтобы страна оказалась под властью инглизи. Если они смогут завладеть нашей страной, наша репутация пропадет в глазах всего мира. Все народы подумают, что у вас не было достаточно гордости и стыда, и вы потеряли страну и веру лишь из-за ваших несогласий. Слушайте моего совета. Если не будете слушать меня, долг мой будет пойти джихадом и против вас как неверующих. Решайте, служить ли вам поддержкой Аллаху и Мухаммаду, или готовьтесь к войне!»
Шо-заде Хасан и некоторые его приближенные, наслышавшись о зверских расправах, чинимых сардаром над теми, кто осмеливался вызвать его недовольство, предпочли не искушать судьбу и бежали с семьями далеко на восток. Постепенно Абдуррахман-хан распространил свою власть на весь Бадахшан.
Однако выбираться из Рустака он не собирался: близ этого города у мазара (могилы) праведника Хаджи Тораба, куда сходилось немало паломников, находился горячий источник Чашмаи-Ходжа-Джаргату. Вода выбрасывалась из него с шумом и кипением, подобно фонтану; после краткого перерыва она снова закипала, как в огромном котле, под которым разведен сильный огонь, и вылетала вместе с глиной, песком и грязью. Для сардара выкопали рядом углубление, и он грел ноги, надеясь избавиться от мучившей его подагры. Горячие ванны уменьшали боль. Абдуррахман-хан приезжал к источнику вместе с мирзой, и тот продолжал строчить под его диктовку страстные призывы к населению сел, городов и провинций, к племенам и их вождям, убеждая их стать под знамена истинного борца за веру, законного претендента на кабульский престол. Иногда к этим посланиям добавлялись мешочки с деньгами.
Несмотря на отсиживание в Рустаке у живительного источника, дела сардара шли неплохо. Хотя Сарвар-хан был убит, другой двоюродный брат, Исхак-хан, сумел одержать ряд побед над войсками лой-наиба Чар-Вилоята Гулям Хайдар-хана и почти завоевал всю провинцию «во имя Абдуррахман-хана». Признания своего верховенства сардар добился и в Каттагане.
На севере страны, где народ устал от неурядиц, раздоров, безудержных поборов всевозможных «калифов на час», пользовавшихся фактическим отсутствием контроля со стороны центральной власти, всходила звезда Абдуррахман-хана. Планы Кауфмана, казалось, были близки к осуществлению.
Но дальше произошло то, чего никак не мог предположить туркестанский генерал-губернатор.
Глава 21 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЙТИ…
Первые месяцы нового, 1880 года в обстановку в Кабуле не внесли существенных перемен: как ни изощрялись Робертс и Мак-Грегор, добиться перелома им не удавалось. Периодические вылазки из Шерпурского укрепления приводили лишь к тому, что противник под воздействием мощного артиллерийского и ружейного огня оставлял несколько ближайших кварталов, превращенных в руины. Но вслед за тем, перегруппировав свои силы, генерал Мухаммад Джан Вардак и мулла Мушки Алам выбивали британские войска из разрушенных строений и снова загоняли в Шерпур. В то же время взять это укрепление и уничтожить вражеское осиное гнездо в столице афганцы не могли: не хватало военной техники. Ощетинившись пушками, скорострельными картечницами Гатлинга и превратив лагерь в мощную крепость, англичане отбивали все атаки.
Острые на язык лондонские журналисты окрестили создавшееся положение «кабульскими качелями». Но «качели» эти раскачивались не равномерно, а подлетали ближе и ближе к стенам Шерпура. Ситуация становилась все более угрожающей, и главнокомандующий по совету вице-короля увеличил гарнизон Шерпурского укрепления почти вдвое. Вместе с обозной, санитарной и лагерной прислугой численность вторгшейся в район афганской столицы армии доходила до 50 тысяч человек. К этому следует прибавить тысячи лошадей, мулов, ослов и верблюдов. Чтобы хоть как-то прокормить всю эту ораву, надо было дочиста ограбить население Кабульского оазиса и прилегающих областей.
Кратчайшую дорогу от Кабула до Пешавара также охраняло немалое войско. И его нужно было кормить, одевать, обувать, обеспечивать снаряжением и боеприпасами. Так блестяще начатый военный поход ежедневно поглощал несметные средства, не говоря уж о человеческих жизнях. И поглощал безрезультатно. Ибо об успешном завершении операции, задуманной консервативным кабинетом Биконсфилда и осуществленной лордом Литтоном, можно было говорить лишь как о весьма туманной перспективе.
Позабыв о своих воинственных замыслах, вице-король теперь жаждал хоть сколько-нибудь приемлемого окончания кабульского похода. Пушки явно не приносили ожидаемого результата. Быть может, более действенными окажутся главные козыри британской политики — золото и дипломатия? Великолепный знаток восточных дел Мортимер Дюранд оказался несколько медлительным. Его перевели с повышением в Калькутту, а на пост главного политического агента в Кабуле был назначен Лепел Гриффин, моложавый чиновник Индийской гражданской службы. Из своих сорока двух лет ровно половину он провел в Индии, куда приехал в 1859 году, окончив аристократические колледжи в Брайтоне и Харроу. Почти все это время он служил в Пенджабе помощником комиссара, а последние год-полтора — постоянным главным секретарем местной администрации. Гриффин тщательно изучил структуру власти, законы наследования, различные стороны деятельности пенджабских раджей и вождей, идеологию сикхизма и даже опубликовал три оригинальные книги на эти темы.
Казалось, в беседах с ним «Великий Могол» не упустил ни одной из афганских проблем, заслуживающих внимания. Тем не менее перед самым отъездом из Симлы Гриффин получил официальное послание от вице-короля. Одна фраза приковала внимание нового политического агента. «Я не вижу причин, — гласила она, — какие помешали бы вам тотчас же по прибытии в Кабул заняться подготовкой ухода из этой мышеловки».
Гриффин усмехнулся: «Похоже на то, что наш поэт наконец-то усвоил дух восточной мудрости. Очевидно, до него дошла афганская пословица: „Прежде чем войти, подумай, как будешь выходить“…»
Едва Гриффин прибыл в Кабул, как его настигло еще одно указание: вице-король настаивал на скорейшей посылке доверенных лиц для переговоров с Абдуррахман-ханом: пока силы претендента слабы и положение непрочно, не поздно диктовать ему условия.
Но Робертс жаждал воинских подвигов. В марте 1880 года он замыслил новую операцию, призванную сокрушить афганских дикарей. Тут — совершенно некстати — из Калькутты подоспело известие о выезде в Кабул секретаря по иностранным делам Альфреда Лайелла.
— Его только здесь не хватало, — пробурчал генерал, подобно многим военным недолюбливавший «политиков» и считавший, что их действия всегда ведут к пагубным последствиям.
Лайелл покинул Бенгалию, когда уже начинался жаркий предмуссонный период. Жара сопровождала его вплоть до Инда, куда он добрался поездом, но затем, пересев в экипаж и углубившись после Пешавара в горные теснины, он почувствовал, что замерзает. Пришлось принимать экстренные меры, чтобы — упаси боже! — не простудиться: он натянул на себя плед и согрелся несколькими глотками рома.
Однако по всему чувствовалось, что и к этим краям приближалась весна. Воздух был чист и прозрачен, окружающий горный ландшафт действовал умиротворяюще. Коляска без помех катилась к цели, а пока можно было и помечтать, и Лайелл позволил себе отдаться лирическому настроению.
Вот почему первые фразы прибывшего в Шерпур секретаря по иностранным делам вызвали у Робертса, Мак-Грегора и Гриффина немалое удивление:
— Я в восторге! Такое сказочное путешествие… Кабул и его окрестности прекрасны весной. Все в зелени. Цветут фруктовые деревья. А эта райская долина будто чаша, стены которой образуют величественные горы, покрытые искрящимся снегом. А вдали, на горизонте, вырисовывается таинственный и манящий Гиндукуш…
— Простите, сэр, — неожиданно подал голос Мак-Грегор, — не знаю кому как, но у меня эти красоты сидят в печенке!
Деликатный Лайелл смутился: он выглядит сейчас заезжим туристом, между тем как сидящие перед ним ежеминутно рискуют своей головой во славу Британской империи. Конечно же, следует заняться обсуждением проблем, вызвавших его приезд в Кабул. Тем не менее он решил все-таки досказать до конца:
— Я легко могу понять любовь афганцев к своей стране и ненависть к тем, кто нарушает ее покой…
Лица слушателей отразили еще большее недоумение. Секретарь по иностранным делам спохватился: да, лирические мотивы здесь не найдут отклика. Он продолжал уже в ином ключе:
— …Хотя сами они без зазрения совести беспокоят других в интересах своих диких наклонностей. Некоторые из вас, быть может, знают, что я не разделял до конца убеждение в необходимости этой войны, но раз мы втянулись в нее, словно в болото, надо выбираться с честью. Лорд Литтон чрезвычайно обеспокоен сложившейся обстановкой!
И Лайелл изложил перед Робертсом и его помощниками ситуацию, как она виделась из Симлы, подчеркнув аспекты, особенно тревожившие вице-короля. Более всего Литтон опасается объединения афганцев и их общего выступления. Война уже поглотила почти миллион фунтов стерлингов. Они, правда, идут из бюджета Индии, но Лондон все равно негодует по поводу таких огромных расходов. Наконец, пожалуй, самое главное — Англия находится перед всеобщими выборами. Афганский капкан — отравленная заноза для консерваторов, тем более что и в Африке события развертываются не так хорошо, как хотелось бы. В то же время для рвущихся к власти либералов — это подарок небес. Неопределенность сложившейся в Афганистане обстановки на руку Гладстону и всей либеральной оппозиции.
— …Они широко и не очень патриотично используют наши неудачи на Востоке, — подчеркнул Лайелл и впал в минорный тон. — Старый Джон Лоуренс был не так уж неправ, когда предостерегал против вмешательства в безбрежное и весьма бурное море афганской политики…
Тяжело вздохнув, секретарь по иностранным делам констатировал:
— У нас тут нет друзей. Да откуда им и быть? Если мы уйдем, не посадив на трон эмира, страну захлестнет ужасная борьба. Но если мы остановим на ком-либо свой выбор и выведем солдат, он будет свергнут народом в две недели…
— Сэр, — вмешался Робертс, — мы с начальником штаба единого мнения. Жизненные интересы империи требуют, чтобы азиаты трепетали перед ее военным престижем. Надо наводнить Афганистан войсками и выжечь всякую мысль о сопротивлении нашей воле. Если понадобится, выжечь вместе с населением!
Мак-Грегор восторженно смотрел на своего шефа, всем своим видом выражая горячее согласие. Лайелл, однако, поморщился. Его поэтическую натуру коробила такая прямолинейность.
— Я понимаю чувства, обуревающие вас, джентльмены, — сказал он, — но, откровенно говоря, у нас нет ни солдат, ни офицеров, чтобы создать новую армию и перебросить сюда, не опасаясь за спокойствие других наших владений. К тому же это потребует новых расходов и времени, а его у нас тоже нет. Поэтому необходимо политическое решение проблемы. И искать его следует безотлагательно.
Альфред Лайелл был мягким человеком. Он старался не причинять огорчений своим близким, знакомым, коллегам. Ну вот сейчас, например. Он мог бы доставить несколько неприятных минут этому славному сэру Фредерику, боевому и заслуженному полководцу. Застряв в афганской глуши, он ведь поди и не знает, что некоторые его действия по наведению порядка встретили в прессе, как бы это помягче выразиться, неодобрение. Генерал, правда, никогда не любил репортеров и старался держать их подальше от своих войск, но это не всегда помогало. Кое-что просачивалось в газеты и журналы.
Большое впечатление на Лайелла произвела, например, обширная статья «Военное право в Кабуле», опубликованная лондонским журналом «Фортнайтли Ревью». Ее автор, Фредерик Гаррисон, один из образованнейших юристов, отлично владел пером. У секретаря по иностранным делам была великолепная память, и он смог воспроизвести мысленно самый неприятный абзац: «Наши офицеры, как и солдаты, почти всегда частью палачи, частью полицейские. Они редко ведут войну без хладнокровного избиения пленных после прекращения всякого сопротивления. Они расстреливают их из пушек целыми толпами, вешают на первом попавшемся дереве, истребляют ружейными залпами целые отряды, секут их сотнями, жгут дотла селения, режут раненых, производят барабанный военный суд над священниками и старостами, провозглашая по своему произволу царство военного права».
Нет, Лайелл не стал рассказывать об этом Робертсу и его подчиненным. Зачем? Быть может, когда-нибудь сами прочтут то, что успело облететь весь цивилизованный мир. Он лишь настойчиво повторил:
— Да, джентльмены, проблему следует решать только политически. И незамедлительно!
— Тогда надо расчленить страну, раздробить, разделить на части, рассечь! — почти скомандовал командир Кабульского полевого отряда.
Лайелл встал и торжественно протянул Робертсу руку:
— Сэр Фредерик, вот здесь наши взгляды совпадают теснейшим образом. Мы предпринимаем кое-что в этом направлении. Аюб-хан, как известно, отверг дружеские предложения Британской империи. Поэтому наш посол в Тегеране Томсон ведет с шахом переговоры о передаче ему Герата. Кандагар станет самостоятельным владением под английским протекторатом. Остаются Кабул и Северный Афганистан. Для этих областей нужен человек, обладающий двумя качествами: большим авторитетом и, главное, желанием искренне сотрудничать с нами…
Впервые за все утро подал голос Гриффин:
— Отправляясь сюда, я получил специальное задание внимательно ознакомиться с личностью Абдуррахман-хана, не так давно появившегося в Бадахшане. Вы знаете, конечно, что этот внук Дост Мухаммад-хана привлек внимание нашего правительства еще тогда, когда находился в Самарканде. Полученные сведения обнадеживают. Хотя он стремится выглядеть борцом за веру и независимость Афганистана, никто из его людей против нас не сражается, а сам он отклонил предложение Аюб-хана совместно двинуться на Кабул.
И Гриффин подвел итоги сказанному:
— Складывается твердое впечатление, что Абдуррахман-хана прежде всего и главным образом интересует власть. Есть смысл договориться с ним.
— Но ведь он долго жил в России и будет стараться действовать в ее пользу, — возразил Мак-Грегор.
— Мы обсуждали такую возможность с вице-королем, — веско заявил Лайелл, — и пришли к выводу, что он будет стараться действовать в пользу того, кто даст больше. А больше дадим мы…
* * *
1 апреля 1880 года вице-король Индии лорд Литтон с одобрения статс-секретаря по делам Индии виконта Крэнбрука торжественно провозгласил полное и окончательное отделение Кандагара от Афганистана. На пост главы Кандагарского государства с титулом «вали» Литтон решил назначить престарелого Шер Али-хана, двоюродного брата и тезку покойного эмира Шер Али-хана.
В тот же день Гриффин собрал в Шерпуре дурбар в составе старшин и вождей племен, чтобы ознакомить их с дальнейшей политикой Англии в Афганистане. К тому же надо было ответить сторонникам высланного в Индию Якуб-хана, которые настаивали на его возвращении и даже обратились к британским властям с письменной просьбой о передаче престола законному монарху. Этот акт, утверждали они, приведет к восстановлению мира в стране.
Политический агент рассчитывал, что прибудет человек сорок, но явилось не более половины приглашенных. Остальные не пожелали компрометировать себя связями с инглизи: это не всегда хорошо кончалось. Однако Гриффина не огорчало отсутствие многих влиятельных афганцев. Он знал силу и быстроту молвы на Востоке и был уверен, что все сказанное на дурбаре немедленно разнесется по стране.
Гриффин категорически отверг любые планы возврата на трон Якуб-хана, чем вызвал ропот собравшихся.
— Он не принял никаких мер, чтобы защитить посла ее величества от взбунтовавшейся черни. Надо было двинуть сарбазов и соваров, выкатить пушки, а не посылать дряхлого сипахсалара или малолетнего сына: что могли они поделать там, где требовались снаряды! Кроме того, Якуб-хан враждебно относился к афганцам, помогавшим нам, и подозрительно вел себя во время Чарасиабского сражения…
Ропот не стихал, и Гриффин решил переменить тактику:
— Не мне объяснять вам, сардары, что Аллах не наделил Якуб-хана ни умом, ни волей для управления государством. Ваша же пословица гласит: «Сколько ни бей осла, он конем не станет». Впрочем, хватит о нем. У меня есть более важное сообщение: с сегодняшнего дня Кандагарская область приобретает самостоятельность. Управлять ею — под покровительством Британской империи, конечно, — будет вали Шер Али-хан. Герат, возможно, тоже станет независимым или перейдет к Ирану…
Воцарилась гнетущая тишина.
— Ну, а мы здесь должны подумать, кому можно доверить управление остальными афганскими землями — Кабулом, северными областями. Надеюсь, вы понимаете, кто бы ни был этот человек, он прежде всего должен быть искренним другом Англии. — И Гриффин предложил на выбор несколько сановников и вождей.
Участники дурбара удалились, чтобы поразмыслить над услышанным.
Мак-Грегор спросил политического агента, откуда всплыли такие имена.
— Мне было все равно, — услыхал он в ответ. — Я просто хотел разжечь между ними споры. Как вы знаете, у нас уже намечен подходящий кандидат. Его я не называл.
Вечером того же дня Гриффин отдал последние распоряжения готовому к отъезду всаднику, одетому в обычный афганский дорожный костюм — меховую безрукавку поверх белой рубахи, холщовые шаровары, сыромятные сандалии, — и тот, стегнув коня, скрылся в сгущавшейся тьме по дороге на север. В Рустак…
Через неделю, когда Абдуррахман-хан возвращался после очередной лечебной ванны в свой дом, который находился в квартале Гузари-Чармгари, его подстерегала неожиданность. Какой-то странствующий купец раскинул перед домом на земле несколько ковров и паласов, разложив на них яркие индийские ткани, кашмирские шали, расставил ящички с женскими украшениями, леденцами и прочим товаром. При появлении сардара он согнулся в почтительном поклоне.
Не удостоив его даже поворотом головы, Абдуррахман-хан прошел в комнаты.
— Махмуд! — вызвал он слугу. — Как ты посмел пустить этого торговца?
— Сардар, он сказал, что ты его знаешь и будешь рад его приезду, — пробормотал Махмуд, получивший, видимо, изрядный пешкеш.
— Вот как! Ну-ка, пришли его сюда.
На пороге вырос и снова низко склонился перед Абдуррахман-ханом купец в тюрбане и сером халате. Когда он выпрямился, афганцу показалось, будто он где-то видел эти темные, близко посаженные глаза.
— Ты говоришь, что знаешь меня, но навез в мой дом сладости и ткани. Кому они здесь нужны? Тут нет женщин!
— Осмелюсь возразить могущественному сардару. Не приобретет ли он какую-нибудь мелочь для своей жены и ее прислужниц? Хотя они пока еще находятся далеко за Амударьей, но по воле Аллаха прибудут сюда. О, Чарйар!
Голос торговца, а главное, его возглас моментально воскресили в памяти Абдуррахман-хана самаркандскую террасу и ворвавшегося к нему дервиша.
— Каландар! — воскликнул он, изменив обычной сдержанности.
— Какой каландар? Я всего лишь скромный купец, — на лице купца мелькнула легкая улыбка.
В его руках неведомо откуда появился листок бумаги, и он с поклоном вручил его хозяину. Там было всего несколько строк: «Узнав о вашем прибытии в Афганистан, отправляем через доверенного человека это письмо, чтобы вы могли сообщить английским властям в Кабуле все, что пожелали бы, относительно цели своего приезда». Подпись отсутствовала.
Прочитав записку, Абдуррахман-хан выжидательно посмотрел на гостя. Он ждал разъяснений. Бывший дервиш это понимал:
— Сардар осторожен. Это хорошо. Индийские соседи давно хотят видеть в нем достойного правителя Северного Афганистана, а может быть, и Кабула. Их не беспокоит его длительное пребывание в России. Сейчас власть в Афганистане принадлежит инглизи, и в интересах сардара ответить на их письмо.
— Я подумаю, — холодно ответил Абдуррахман-хан. — Приходи через несколько дней.
— Как сардару будет угодно. А пока прошу все же купить что-нибудь: надо же бедному торговцу оправдать дорогу! Много не возьму…
Абдуррахман-хан усмехнулся. Нарочито громко он распорядился отложить для него по паре туркменских и кашгарских ковров, а к концу недели привести в Кундуз, куда он переезжает, полдюжины текинских скакунов.
— Будет исполнено, сардар!
* * *
…Прошла еще неделя. В погожий весенний вечер посланец британского политического агента вернулся в Шерпур из поездки в северные районы. Гриффин внимательно прочел доставленный им ответ Абдуррахман-хана. Сардар был дипломатичен и краток. Он писал о бесчестье, принесенном Афганистану «упрямым безрассудством эмира Якуб-хана и его дурных советников», о необходимости для афганского народа жить спокойно и свободно между двумя великими державами; он завершал послание предположением, что Россия и Англия совместно гарантируют целостность его родины.
Намек на несостоятельность предшественника призван, понятно, подчеркнуть собственную рассудительность. Желание жить спокойно и свободно можно принять к сведению: все будет зависеть от условий и обстоятельств. Упоминание о России как о гаранте многозначительно: внук Дост Мухаммад-хана предупреждает, что не рассчитывает исключительно на англичан и будет торговаться. Впрочем, быть может, сардар не доверил бумаге и случайному вестнику все свои планы и намерения.
Что можно добавить еще, полагаясь на личные впечатления?
Темноглазый собеседник Гриффина рассказывал о своей поездке на довольно чистом английском языке. Порой проскальзывали словечки, бытовавшие в северо-западных районах Индии, но политический агент, прибывший в Кабул из Пенджаба, не нуждался в их переводе. Гонец расцвечивал рассказ о путешествии на север красочными деталями, однако Гриффин не прерывал его, не торопил, надеясь услышать ответ на один-единственный вопрос: верит ли Абдуррахман-хан, этот неудачник, больше половины жизни испытывавший удары судьбы, в свои силы? Впрочем, быть может, в том-то и состоит суть дела… Неудачи, если они не сломили человека, учат выбирать надежные, верные пути. Абдуррахман-хан не может не понимать, что ныне ключ ко всему — в руках англичан.
— …В Кундузе сардар принял меня очень тепло, — текла речь лазутчика. — Принял с глазу на глаз, конечно. Назвал своих приближенных упрямыми ишаками за то, что советовали разговаривать с нами лишь на поле боя. Сказал, что провел в Туркестане десять лет и не желал бы за добро платить злом. Он хочет дружить и с северными соседями, но особенно с Англией. Рассчитывает на ее поддержку…
Бывший «купец» помолчал, восстанавливая в памяти главное из своих впечатлений…
— …Где уговором, где оружием, где подкупом Абдуррахман-хан переманил многих вождей и правителей на свою сторону. Большую силу забрал. В Бадахшане, Каттагане, Чар-Вилояте. Народ его слушает: он умеет красивые слова произносить. Чиновники идут за тем, у кого в руках власть. Купцы не очень довольны: требует денег на содержание своих людей, войско готовит. Сам он — ничего, крепкий, раньше много пил вина, потом совсем стал абдар, — гонец употребил слово, означающее «трезвенник» и в то же время «великолепный», «красивый». — Лично разбирает жалобы. Старается, чтобы было по справедливости. Его люди разбрелись по всему северу. Напоминают, что сардар эмирского рода и, когда управлял в тех краях, добился порядка и благосостояния… Энергичный. Думаю, однако, сядет на трон — во многом переменится: очень себе на уме!.. А сейчас он готов приехать с пятью сотнями всадников в Чарикар для обсуждения дел.
Гриффин размышлял: вот оно — главное! Готов прибыть для переговоров! Ну а дальше? Ах, Абдуррахман-хан, Абдуррахман-хан… Насколько надежен будет он в качестве британского вассала? Удастся ли с ним твердо договориться? Имеющиеся на этот счет инструкции были категоричны: Англия и Афганистан! Никакой третьей державы! Собственно, и война была начата, если отбросить всю дипломатическую шелуху, ради того, чтобы утвердить безраздельное господство Британской империи над афганскими землями и их владетелем. А пока можно обещать претенденту вывод войск, и невмешательство во внутренние дела, и все что угодно!
Телеграфная связь — отличная вещь! Получив санкцию Лайелла, успевшего прибыть в Симлу, где уже находился вице-король, Гриффин принялся снаряжать миссию в Ханабад, куда из Кундуза перебрался Абдуррахман-хан — все ближе к столице.
Сардар уже основательно укрепился, приобрел репутацию патриота, и теперь вполне уместно отправить к нему не переодетого лазутчика, а официальное посольство. Правда, упаси бог включить в его состав какого-нибудь англичанина. Хотя кохистанские вожди не сталкивались с инглизи и поэтому не проявляют к ним особой враждебности, не надо испытывать их терпение, а тем более искушать чувства простых людей, обладающих меньшей выдержкой.
3 мая 1880 года из Кабула выступила не очень многочисленная экспедиция. В ее состав входили три почтенных пожилых мусульманина. Двое из них — Ибрагим-хан и Афзал-хан — были подчиненными Гриффина, прибывшими из Индии для различных политических поручений, третий, Шер Мухаммад-хан, был дальним родственником Абдуррахман-хана. Их сопровождали несколько слуг. Горные тропы уже очистились от снежных заносов, и скорость передвижения определялась только возрастом дипломатов и их способностью переносить дорожные тяготы.
Центральной фигурой был рассудительный пенджабец Афзал-хан. Ему было поручено остаться при Абдуррахман-хане в качестве британского политического представителя.
Один из слуг нес драгоценную шкатулку с адресованным сардару письмом Гриффина. Оно содержало знаменательную фразу: «Вице-король и генерал-губернатор, считая вас достойнейшим из рода баракзаев и лучше всех других принятым народом Афганистана, предлагает вам эмирский трон, обещает помочь вам в утверждении вашей власти и обеспечении ваших насущных потребностей». Если сардар намерен принять это предложение, его приглашают самым безотлагательным образом прибыть в Кабул. Никаких условий перед ним не выдвигалось. Гриффин заверял его, что англичане не желают присоединять Афганистан к своим владениям и стремятся вывести оттуда войска.
18 мая три восточных джентльмена со свитой добрались до Ханабада. Их разместили поблизости от дворца правителя провинции Каттаган, где обосновался Абдуррахман-хан. Дипломатов окружили заботой, угощали изысканнейшими блюдами местной кухни (большинство населения провинции составляли узбеки и таджики), развлекали охотой, устраивали в их честь парады. Их часто принимал сардар — либо в одиночестве, либо в присутствии своего небольшого двора.
Казалось, все идет как нельзя лучше. Единственное, чего не хватало представителям британских властей, — это ответа сардара на привезенное послание. Абдуррахман-хан держался уклончиво.
— Аллах меня осудит, — говорил он, — если я взойду на престол своих предков против воли соплеменников. Я не могу ни поехать в Чарикар, ни подписать какой-либо договор без согласия маликов и вождей. И потом, я плохо понимаю, что это за афганское государство без Кандагара и Герата?
Лишь после долгих оттяжек поставил сардар печать на письмо, адресованное Гриффину. Оно также носило туманный характер. В нем высказывались лишь пожелания дружбы и выражалась надежда на поддержку. В каких вопросах? С какими целями?
Абдуррахман-хан выдерживал характер. Абдуррахман-хан торговался.
Возвратившиеся в начале июня в Кабул члены миссии разъяснили Гриффину, что, перед тем как стать эмиром, претендент хочет выяснить характер своих будущих отношений с Англией, а также «размеры Афганистана», которым ему предстоит управлять. Обстоятельный Ибрагим-хан даже привез своеобразный вопросник, составленный им со слов сардара. Гриффин читал его вне себя от ярости: «Много же хочет знать человек, получающий ни с того, ни с сего королевство из наших рук!»
«Когда британское правительство известит меня о том, каковы будут границы Афганистана? — интересовался внук Дост Мухаммад-хана. — Войдет ли Кандагар в состав моего государства? Останутся ли представители британских властей и посол-европеец в афганских пределах после того, как между нами установятся дружественные отношения? Какого врага британского правительства, как ожидается, я должен буду отражать и какую форму помощи это правительство хочет оказать мне? И какие преимущества указанное правительство намерено мне предоставить?»
Быть может, основательность и любознательность сардара при иных обстоятельствах и умилили бы Гриффина. Но в сложившихся условиях ему было не до шуток. Он вовсе не случайно предложил Абдуррахман-хану «прибыть в Кабул самым безотлагательным образом»! Вся беда заключалась в том, что времени у Гриффина, а вернее, у всех англичан, находившихся в Афганистане, уже не было. Совершенно. И главного британского политического агента в афганской столице беспокоила мысль, не вызвана ли столь осторожная позиция претендента на престол осведомленностью в обстановке, а не просто несговорчивым характером.
Обстановка же была более чем серьезной. Ибо несколько ранее, еще в апреле, за горами и морями, в другой столице, произошли важные события, отголоски которых докатились до Гиндукуша.
Глава 22 ПАДЕНИЕ БИКОНСФИЛДА И ВЗЛЕТ ШЕР АЛИ-ХАНА
5 мая 1880 года из Кандагара в Кабул по газнийской дороге пробилась еще одна британская дивизия. Она предназначалась для укрепления там английских позиций и наведения порядка в Северном Афганистане. Ее привел генерал-лейтенант Дональд Стюарт, которому надлежало возглавить все оккупационные войска в столице, объединявшиеся в Северо-Афганский полевой отряд. Весьма озабоченный непрерывными стычками частей бригадного генерала Макферсона и полковника Дженкинса с противником в районе Чарасиа, Робертс был рад прибытию старого боевого товарища, но хмурое лицо Стюарта с печально свисавшими седыми усами свидетельствовало, что он принес недобрые вести. Поэтому, поздравив сэра Дональда с благополучным завершением нелегкого марша, изобиловавшего стычками с противником, Робертс поинтересовался, чем тот обеспокоен.
— А вы разве не знаете? — спросил генерал-лейтенант. — Диззи ушел в отставку. И лорд Литтон — вместе с ним.
Это была новость!
…В общем, что-то подобное следовало предвидеть. После оваций по поводу Гандамакского мира для англичан в Индии и на Островах наступило отрезвление. Сентябрьское восстание и гибель Каваньяри, затяжные бои осенью и зимой, «кабульские качели» — все это широко использовала либеральная оппозиция и ее пресса. Темпераментный граф Биконсфилд буквально взорвался, когда кто-то из членов кабинета бестактно процитировал на заседании выдержку из «Таймса»: «Английская нация не испытывает любви к бесполезным войнам, особенно когда они не слишком удачны». Речь шла о боевых действиях в Африке, но прежде всего в Афганистане.
Конечно, на настроениях в Англии отразились и внутренние неприятности: аграрный кризис, вызванный двумя подряд неурожайными годами, застой в промышленности и торговле (его так и не удалось преодолеть с помощью новых рынков), бессмысленное расходование колоссальных средств на военные операции, не дававшие не только экономических, но и политических плодов.
Многоопытный премьер уже давно улавливал спад своей популярности и отход будущих избирателей от консерваторов. В начале 1880 года он писал приятелю, что вряд ли проживет еще год на Даунинг-стрит, 10. Действительность подтвердила его предсказание.
Эта афганская война… Во многом все вертелось вокруг нее. Нет, что и говорить, подвел его «поэт в Симле», подвел! Энергия, решительность, целеустремленность, организаторские способности вице-короля не оправдали надежд. На одной эмоциональности далеко не уедешь.
Престарелый Диззи давно привык к пронырливости журналистов, и тем не менее они его подчас поражали. Неведомыми путями им удалось дознаться, что, рекомендуя Литтона коллегам по кабинету на пост главы англо-индийской администрации, он бросил фразу: «На Востоке нам необходим человек с воображением». Так ли было сказано полдесятка лет назад или иначе и сказано ли было вообще, Биконсфилд уже не помнил. И вдруг эта мерзкая карикатура в журнале «Панч»! В ней премьер был изображен со встрепанными волосами (это он-то, всегда старательно укладывавший свой знаменитый завиток надо лбом!) и полубезумным видом в окружении живописных афганских воинов в чалмах и овчинах, направивших на него дедовские ружья, изогнутые кинжалы и мечи. Вывернутые карманы его сюртука пусты. На заднем плане — умирающие от голода индийцы. Издевательская подпись под рисунком гласила: «Воображал ли премьер, куда его заведет воображение вице-короля?!»
Быстро проходит мирская слава. Не эти ли толпы, угрюмо отмалчивающиеся при его появлении на улицах, еще недавно восторженно аплодировали «Создателю Империи», «Победителю Берлинского конгресса», «Нашему Диззи»…
На какой-то миг в тучах блеснул просвет. Промежуточные выборы в важных округах — Ливерпуле, Шеффилде и Саутуорке — благоприятствовали консерваторам. Воодушевленный этим, Биконсфилд в понедельник 8 марта объявил в обеих палатах, что после утверждения бюджета парламент будет распущен. В среду 31 марта начались всеобщие выборы.
Кипучую активность развил лидер либералов Уильям Гладстон. Солидный возраст (Гладстон вступил в восьмое десятилетие) не мешал ему неутомимо громить в своем округе Мидлотиан, в Шотландии, «агрессивный империализм консерваторов», их маниакальное стремление к завоеваниям. И тут Афганистан выступал, конечно, как самый яркий пример. «Мидлотианская кампания», подхваченная газетами, прозвучала на всю страну.
Консерваторам был крайне необходим хоть какой-нибудь успех — в Кабуле, Кандагаре, Герате, где угодно в афганских землях, нужен был любой захудалый малик или сардар, который согласился бы договориться с англичанами! Нужны были мало-мальски обнадеживающие вести из Африки. Тогда, быть может, удалось бы создать хоть видимость близящегося решения затянувшихся проблем. Но телеграф молчал. И уже в первый день выборов голосование показало, что фортуна решительно отвернулась от Дизраэли и его соратников. Они потеряли 15 мест. К субботе тори утратили 50 мест, а с ними надежды на победу, на формирование нового кабинета. Правда, это были пока еще итоги голосования в городах. Однако на следующей неделе стало известно, что свой вклад в крушение всех планов консерваторов внесли и фермеры в графствах. Члены теперь уже становившегося «бывшим» правительства Биконсфилда подсчитали, что результаты выборов почти полностью совпадают с теми, какие принес 1874 год, но с обратным знаком.
В самом деле, в распущенном парламенте числились 250 либералов, 351 тори, 51 член ирландской партии самоуправления, тогда как теперь либералы имели 349 мест, консерваторы — 243, а сторонники «гомруля» — 60. Да, тяжелые времена… Со страниц газет не сходили материалы о воинственных авантюрах в Афганистане и Африке, о торгово-промышленном застое, неурожаях и других бедствиях. Экономические трудности и политический кризис дали себя знать!
2 апреля, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, Биконсфилд телеграфировал находившейся на курорте Баден-Баден королеве Виктории о поражении правительства. Та выразила в ответном послании свое удивление и печаль. Вернувшись с континента домой, она все воскресенье 18 апреля совещалась с премьер-министром о том, кому поручить формирование кабинета.
Сложность заключалась в том, что Виктория, чрезвычайно благоволившая к Дизраэли (ведь он, собственно, и создал предпосылки для присвоения ей пышного титула императрицы, а государству официального наименования «Британская империя»), не выносила лидера победившей партии Гладстона. Биконсфилд как-то съязвил, что Гладстон видит в ней не королеву, а учреждение. Сама Виктория с горечью отмечала: «Гладстон — единственный министр, который никогда не обращался со мной как с женщиной и королевой». К тому же он в публичных речах позволял себе выпады против столь пришедшегося ей по вкусу нового титула.
Виктория решила проявить характер и поручить формирование правительства лорду Гартингтону или лорду Гренвиллу. Они отказались, заявив, что это является прерогативой лидера партии. 21 апреля министры-тори в последний раз собрались на Даунинг-стрит, 10. Как всегда изысканно одетый, с цветком подснежника в петлице, граф Биконсфилд поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество. Затем он отправился в Виндзор и вручил королеве официальное заявление об отставке. Она была принята. Через два дня Виктории пришлось смириться с неизбежным. Ненавистный Уильям Юарт Гладстон получил мандат на пост премьер-министра…
Лорд Литтон и Лайелл находились в Калькутте, когда узнали о полном провале консерваторов на выборах. «Великий Могол» метался из угла в угол в просторном зале величественного белоснежного дворца — резиденции вице-королей Индии. Окна были затенены от палящих солнечных лучей. Мерно шелестели гигантские подвешенные опахала — панки, приводимые в движение молчаливыми слугами-бенгальцами. Неожиданно Литтон резко остановился, будто налетел на невидимую стену:
— Решено! Я немедленно подаю в отставку.
— Почему, милорд? Смена правительства вовсе не означает обязательную смену вице-короля.
— Деликатность делает вам честь, Альфред. Но мы оба хорошо сознаем, что я дал основания для многих нападок на политику кабинета. Мой прямой долг — разделить с ним ответственность. Не правда ли? Это достойнее, чем дожидаться, когда меня любезно попросят уйти, как это произошло сорок лет назад с лордом Оклендом. Злосчастный Афганистан!
Лайелл промолчал, хотя мог возразить, что и сорок лет назад и теперь никто не заставлял британских генерал-губернаторов и вице-королей снаряжать войска в «злосчастный Афганистан». Он, однако, не любил сыпать соль на открытые раны.
Литтон тут же продиктовал депешу в Лондон о своем желании разделить участь консервативного кабинета. Но удовлетворить эту просьбу, не отметив заслуги «поэта в Симле» на поприще управления индийскими владениями, было попросту невозможно. К тому же следовало укрепить позиции тори в палате лордов, отправив туда еще одного пэра-единомышленника.
Решить обе задачи взялся старый патрон и политический опекун Литтона — сдающий свои полномочия премьер. 8 апреля он отправил королеве послание в Баден-Баден. Оно было написано в обычной манере, от третьего лица, и начиналось издалека: «Лорд Биконсфилд за 6 лет (автор подумал и подчеркнул цифру) рекомендовал вашему величеству назначить 15 пэров. Его предшественник за 5 лет (цифра тоже была подчеркнута) рекомендовал вашему величеству назначить 37 пэров. Лорд Биконсфилд не хочет вступать в состязание со своим предшественником в этом отношении. Он всегда старательно воздерживался от давления на ваше величество при представлении к наградам, которые он тоже не желал обесценивать слишком широким распространением…»
Теперь можно было приступать к сути. «…Лорд Биконсфилд надеется, что ваше величество изволит даровать этот выдающийся знак благосклонности вашего величества вице-королю Индийской империи вашего величества. Еще не было вице-короля, который бы подвергся столь дурному обращению со стороны оппозиции. Лорд Литтон — превосходный человек, и, поскольку он первоклассный оратор, его присутствие в палате лордов будет неоценимым. Он по телеграфу просил лорда Биконсфилда вручить прошение о его отставке в руки вашего величества, когда лорд Биконсфилд подаст свою».
Перечитав письмо перед отправкой, Биконсфилд остался им доволен. Очень уместно, как и всегда, напоминание об Индийской империи. Женщины более сентиментальны, чем мужчины, — это известно, и упрек в адрес оппозиции по поводу преследования бедного Литтона, конечно, еще больше расположит к нему сердце королевы. Тем более что либеральная оппозиция (теперь, увы, берущая бразды правления!) всегда была ей ненавистна. Да и авторитет уходящего премьера находится на достаточно высоком уровне. Так что о судьбе ходатайства можно было не беспокоиться.
Действительно, королевским указом от 28 апреля 1880 года лорд Эдуард Роберт Булвер-Литтон был возведен в графское достоинство. Он стал пэром, что открывало ему доступ в палату лордов британского парламента.
Но ни Биконсфилд, ни «Великий Могол» не были бы самими собой, если бы, уходя, не вознаградили щедро того, кто был не просто личным секретарем, а тенью вице-короля, мозгом и душой его военно-стратегических планов, — молчаливого, мудрого и эрудированного Джорджа Помроя Колли. Того самого полковника Колли, чье мнение о границах английских владений в Азии, с точки зрения лорда Литтона, «стоило мнения двадцати Лоуренсов».
За большие заслуги во время пребывания в Индии (подразумевались, естественно, и военно-политические успехи в Афганистане, хотя они были спорны и прямо писать о них было бы верхом неблагоразумия) на полковника просыпался целый дождь наград: ордена Бани, Святого Михаила и Святого Георга, а также высшая степень ордена «Индийская звезда». Кроме того, 24 апреля 1880 года он стал генерал-майором и вновь отправился в Наталь, заменив Гарнета Уолсли на посту губернатора, главнокомандующего и верховного комиссара Юго-Восточной Африки.
По странной иронии судьбы в ту же среду, 28 апреля, когда блистательные результаты, достигнутые лордом Литтоном на Востоке, были отмечены графским титулом, в Лондоне новый парламент утвердил правительство Уильяма Юарта Гладстона. Правительство либералов, клеймивших позором деятельность Литтона в Индии, а особенно его авантюру в Афганистане. Правительство либералов, которые полагали и говорили, что если и необходимо расширять английские владения и влияние, то, уж во всяком случае, не такими вызывающими методами, какие использовали не желавшие ни с чем считаться тори.
Потише, джентльмены, поспокойнее! Меньше орудийной пальбы и барабанного боя. Меньше треска и шумихи. Больше гибкости. Право же, результаты будут не хуже.
У Стюарта, Робертса, Мак-Грегора и многих других генералов и офицеров падение консерваторов и уход Литтона с поста вице-короля не вызвали большого восторга. Ибо это означало, что сулившая награды и повышения по службе война против плохо вооруженного народа, не имеющего современной армии, видимо, будет понемножку свертываться. Те же цели. Приемы для их достижения — несколько иные…
Словно предчувствуя близкий крах своей афганской политики, Литтон еще до отставки торопился осуществить намеченный план расчленения Афганистана. Захватив в самом начале войны юго-восточные районы страны, британские власти внимательно присматривались к управлявшему Кандагарской провинцией со времен Якуб-хана пятидесятипятилетнему Шер Али-хану. Тучный и флегматичный, с заплывшими глазами на маловыразительном лице, он проявлял полную готовность служить кому угодно, лишь бы сохранить привилегированное положение. Он кичился знатностью рода и никогда не упускал случая подчеркнуть, что происходит из семьи потомственных правителей Кандагара.
— Среди двадцати двух сыновей Паинда-хана, — с тоской выслушивала свита его очередной напыщенный рассказ, — среди двадцати двух сыновей Паинда-хана, отмеченного государственной мудростью, было пятеро, происходивших от одной матери: Кохендиль-хан, Шердиль-хан, Рахмдиль-хан, Пурдиль-хан и Мехрдиль-хан. Они были будто пять пальцев одной руки и в полном согласии между собой правили знаменитым Кандагарским владением. Среди сыновей Мехрдиль-хана был отмечен я, Шер Али-хан Кандагарский…
Тут он делал паузу и пояснял:
— Почему я говорю — Кандагарский? Да потому, что после моего дяди Дост Мухаммад-хана, сводного брата кандагарских правителей, на престоле кабульских эмиров восседал мой двоюродный брат — Шер Али-хан Кабульский…
Подчеркнув таким сопоставлением равенство, он все же добавлял:
— Мой дядя, Дост Мухаммад, присоединил Кандагарское владение к землям Кабульским, и потому я верно служил Шер Али-хану Кабульскому и был взыскан его милостями. Служил и племяннику своему, Якуб-хану. Ныне же Аллаху угодно вернуть меня в наш родовой дворец владетелей Кандагара!
И тут он неизменно поднимал к небесам короткий и жирный указательный палец.
Изредка сардар со свитой выезжал из своего дворца, расположенного в северной части города. Приближенные знали: куда бы он ни направлялся, путь обязательно приведет его к усыпальнице Ахмед-шаха Дуррани, основателя Афганского государства, чьей первой столицей был Кандагар.
Шер Али-хан останавливался близ легкого кирпичного восьмиугольника, украшенного многоцветной мозаикой с небольшими минаретами по углам и позолоченным куполом. Он прислушивался к доносившемуся изнутри чтению Корана и окидывал спутников многозначительным взором: ощущают ли они все величие своего повелителя?
Большого вкуса к делам сардар не питал. После утренней молитвы он лениво выслушивал сообщения о состоянии финансов, ограничиваясь общими распоряжениями. Их смысл сводился к необходимости расширять сбор налогов и податей, даже если для этого понадобится применить войска. Не проявлял серьезного интереса Шер Али-хан и к гарему. Зато оживлялся, когда наступал час обеда. Он весьма пристрастился к шотландскому виски, которое ему втихомолку щедро поставлял британский политический агент в Кандагаре полковник Оливер Сент-Джон. Чтобы не смущать присутствовавших при трапезе правоверных мусульман, содрогавшихся от одной мысли о нарушении введенного пророком запрета на спиртные напитки, правитель распорядился подавать ему виски в чайнике под видом холодного чая.
Кандагар.
Несмотря на обильную и жирную пищу, виски давало о себе знать. К концу обеда лицо Шер Али-хана багровело. Он с удовольствием разрешал слугам взять себя под руки и отвести, а точнее, отнести в спальню и уложить среди гор одеял и подушек.
По вечерам во дворец приглашали стариков-рассказчиков. Они вспоминали разные события времен правления пяти братьев. Сардар закрывал глаза и, раскачиваясь, переносился в золотую пору детства и юности.
Так шел день за днем. Крупный отряд англо-индийских войск удерживал ключевые пункты Кандагара. На его окраине возник обычный кантонмент — укрепленный лагерь оккупантов. Город жил нервной и напряженной жизнью. Закупки продовольствия для британских солдат и офицеров привели к резкому росту цен. В тех случаях, когда возникали трудности со снабжением англичан, продукты попросту реквизировались. Пьяная солдатня устраивала дебоши, драки. В столкновения с жителями нередко вовлекались десятки людей, и дело доходило до перестрелки. Страсти накалялись. Их средоточием, как всегда на Востоке, был базар.
В самом центре Кандагара, на пересечении улиц, шедших от Гератских и Шикарпурских ворот, разместился Чорсу — огромный четырехугольник, крытый бревнами и циновками. В Чорсу и вокруг него ремесленники трудились в убогих, темных мастерских, торговцы выкладывали товар в лавках, банщики умело массировали тела посетителей бань, чайханщики сноровисто разносили сосуды с ароматным напитком, погонщики верблюдов с яростным криком «Пош! Пош!» — «Берегись!», чудом лавируя в закоулках Чорсу, вели свои караваны. Над всем этим вился дым от жаровен, далеко разносивший неповторимый запах шашлыков и только что снятых с тануров аппетитных лепешек. Много языков, наречий, говоров звучало здесь. Афганцы, входящие в состав различных племен и племенных союзов — дуррани, гильзаи, вардаки, какари, хотаки, барцы, и многие другие — таджики, хазарейцы, индийцы, белуджи либо жили тут, либо прибыли издалека со своим товаром.
И везде, о чем бы ни велась речь, в конце концов разговор обязательно сводился к тому, что волновало всех кандагарцев, страстно любивших свой край. К инглизи…
— Долго еще нам терпеть их? — спрашивал ткач.
— Дождутся: возьмемся за оружие и напомним нашу поговорку, что земля горит там, где разведен огонь, — откликался кузнец.
— Осторожно! Не болтайте лишнее, — лавочник, разрезая знаменитый кандагарский гранат — анар, предостерегающе кивал на проходившего мимо сарбаза.
— А чего бояться? — возражал жестянщик. — Он думает так же, как и мы, не то что эти красномундирные собаки.
Шер Али-хан вполне устраивал утвердившихся в Кандагаре пришельцев, а потому они старались не подрывать его авторитет, не отказывали в денежных подачках, снабжали дворцовую стражу и войско оружием, хоть и устаревшим, и боеприпасами. Сардару доносили, что в народе растет недовольство его покровителями, что на улицах нередки стычки между жителями и оккупантами, что в окрестностях города находят трупы солдат англо-индийских полков, неосторожно покинувших в одиночку район расквартирования, что его собственная армия не очень надежна.
Правитель отмахивался и принимал серьезный вид, лишь когда его навещал «кэнал Санжан», как он именовал полковника Сент-Джона, не справляясь с принятым в Афганистане, но труднопроизносимым словом «корнейль» (от английского «колонел»). Тот мягко призывал Шер Али-хана построже относиться к своим подопечным. Племянник Дост Мухаммад-хана покорно соглашался, учитывая, что этот визит пополнит его запасы «огненного напитка неверных», а может быть, и казну…
Но вот 5 апреля 1880 года полковник, который обычно не стеснял себя выбором одежды, приезжая во дворец, на сей раз прибыл в полной парадной форме и при всех регалиях. Его сопровождал взвод гусар в пробковых шлемах, темно-синих с желтыми шнурами мундирах, красных рейтузах с широкими желтыми лампасами и в сапогах с длинными голенищами. Все это свидетельствовало, что полковник явился с чрезвычайным известием. И когда Шер Али-хану доложили о приезде англичанина, он поспешнее, чем обычно, выбрался из подушек на тахте и двинулся навстречу гостю. Обменявшись приветствиями с сардаром, Сент-Джон передал ему послание вице-короля Индии.
Лорд Литтон извещал, что ее величество королева Великобритании и императрица Индии соизволила облечь сардара верховной властью, присвоив ему титул «вали». Границы Кандагарской провинции намечалось определить в самом ближайшем будущем. Впрочем, это уже не была какая-то захудалая провинция Афганистана. Карте мира надлежало обогатиться еще одним государством — Кандагарским. Лорд Литтон обещал новому властелину, что к городу подведут железную дорогу. Вместе с тем до сведения вали доводилось, что в Кандагаре будут находиться англо-индийские войска и политический комиссар.
…Миновал злополучный для консервативного кабинета апрель, «поэт в Симле» успел подать в отставку и получить ее, но Британская империя от своих планов не отступала. Утром 11 мая 1880 года в Кандагаре на площади перед дворцом Шер Али-хана были выстроены две роты незадолго до того прибывшего в юго-восточный Афганистан 66-го Беркширского полка во главе с подполковником Джеймсом Гэлбрайтом. Слева от них расположились совары 3-го собственного ее величества полка бомбейской легкой кавалерии, перед которыми гарцевал на вороном коне их командир майор Керри. Поодаль разместился с тремя пушками 5-й батареи 11-й бригады королевской артиллерии майор Коллинвуд.
В 10 часов, когда палящее солнце еще не начало жечь все живое, ко дворцу подъехал генерал-майор Примроуз, командир Бомбейской дивизии. Она так долго находилась в городе, что ее уже стали именовать Кандагарской. Генерала сопровождал английский политический агент в Южном Афганистане, а теперь еще и политический комиссар Великобритании при вали полковник Сент-Джон.
Началась официальная церемония, посвященная образованию Кандагарского государства и провозглашению Шер Алихана его главой. Виновник торжества, окруженный придворными, стоял у входа в свою резиденцию, облаченный в халат из золотой парчи. Конец белоснежной чалмы, как и положено мусульманину, свисал слева. Точнее, он не свисал, а болтался из стороны в сторону, ибо Шер Али-хан без конца осматривался: все ли видят час его торжества?
Англичане спешились. Комиссар прочел вслух уже известное письмо вице-короля (следовало бы указать — «бывшего», но Сент-Джон предусмотрительно опустил это). Выждав, пока его слова переведут, он добавил, что вали разрешается иметь совет и чеканить монету со своим именем, а это, как известно, является первейшим признаком независимости. Полковник пояснил, что тем самым восстанавливается историческая справедливость: ведь некогда, при первых баракзайских правителях, Кандагар был самостоятельным!
Затем наступила очередь генерала. По его знаку подошел капитан; за ним следовала целая вереница солдат. Они несли подарки вице-короля: меч на усыпанной драгоценностями перевязи, карманные часы с алмазами и золотой цепью, стенные часы с боем, серебряную посуду, тюки с шелком и бархатом.
Примроуз надел на вали меч и пробасил:
— Мы убеждены, что этот меч будет беспощадно разить наших общих врагов. Вашему высочеству необходимо твердо помнить, что рядом находятся войска друзей, всегда готовых в трудную минуту прийти на помощь союзнику.
Прогремел орудийный залп. За ним еще и еще. Салют из 21 пушечного выстрела знаменовал рождение нового государства.
Когда пороховой дым рассеялся, взоры собравшихся обратились к Шер Али-хану. Он выступил вперед и поднял руки, будто хотел обратиться к богу, но потом протянул их к Примроузу и Сент-Джону:
— У нас говорят: если судьба не ладит с тобой, поладь ты с ней. Я всегда старался ладить с судьбой. Если Аллах желает, чтобы инглизи нам помогали, значит, так и должно быть. Я благодарен инглизи за поддержку и постараюсь ответить им преданностью…
Он наморщил лоб, пытаясь что-то припомнить:
— Да, вот еще что… В ознаменование нашего вступления на престол мы решили облегчить положение населения. Отныне уничтожается поголовный налог на всех жителей, не принадлежащих к племени дуррани, а также налог на медные деньги!
Среди придворных раздались одобрительные восклицания. По площади не очень стройно прошли несколько сот сарбазов армии вали, разношерстно одетых и вооруженных кто дедовским мултуком, кто английским ружьем. Церемония завершилась.
Через два дня Шер Али-хан нанес официальный визит генералу Примроузу и полковнику Сент-Джону. На всем пути его следования, от дворца до английского кантонмента, были выстроены войска. Прибытие и отъезд вали отмечались артиллерийским салютом.
Скептики были посрамлены: можно ли отныне было сомневаться в подлинной независимости Кандагарского государства?!
Глава 23 АЮБ-ХАН ГОТОВИТ УДАР
В первых числах мая 1880 года в Герат через Кандагарские ворота въехал всадник. Пыль окрасила его белую чалму и зеленый халат в серый цвет. Она припушила и его густую черную с проседью бороду. Копь еле передвигал ноги, и седок даже не пытался его понукать. Путник проехал Чорсу, отсутствующим взглядом окинув бурлившую здесь, как обычно, толпу торговцев и покупателей, миновав все харчевни, хотя доносившиеся оттуда запахи жареной с луком баранины и плова дразнили аппетит.
Он оставил справа соборную мечеть Масджиди-Джума и направил коня ко дворцу правителя — Чарбагу. Въехав на площадь перед дворцом, всадник увидел такую картину: несколько десятков сарбазов маршировали, делали перестроения, обучались ружейным приемам. За ними следила группа верховых. Слух приезжего поразили отдаваемые сарбазам команды, в которых то и дело звучали английские слова.
Вдруг от группы наблюдателей отделился огромный усач. Он стегнул своего каракового жеребца, и тот в один миг примчал его к путнику.
— Дорогой Файз Мухаммад, ты ли это, наша «Благодать пророка»! Хвала Аллаху, наконец-то вернулся. А мы уже не надеялись тебя увидеть. Гафур совсем истосковался. Его и поесть по-настоящему нельзя заставить. Этого я уж никак не понимаю.
— Салам, доблестный пожиратель плова! — улыбнулся чернобородый. — Для тебя, конечно, главное — поесть по-настоящему.
— А как же? Главное дело.
— Погоди, Мурад Алим, — прервал его Файз Мухаммад. — Что это у вас за команды, как у инглизи?
Мурад Алим наморщил лоб:
— Так привыкли. Тут когда-то были военные советники — инглизи. От них и пошло.
— Нам, корнейль, надо обучать войска на своем языке.
— Да ты не ворчи: это не помешает нам бить инглизи повсюду и без пощады.
— Иншалла! Надеюсь, этим займемся очень скоро. Однако мой славный Баз валится с ног. — Файз Мухаммад ласково потрепал коня по холке. — У меня сил еще меньше. Хватит болтать, поехали к Аюб-хану.
Бывший комендант форта Али-Масджид подумал, что лицемерит: несравненно больше, чем гератского правителя, ему хотелось увидеть сына. Вместе с Мурадом Алимом он углубился в сад, окружавший Чарбаг. Почти сразу от дворца донесся звонкий возглас: «Отец!», и к ним метнулся стройный юноша. Затем, будто устыдившись своего порыва, он спокойным шагом подошел к всадникам и, как в Тезине (Аллах ведает, сколь давно это было!), придержал База.
Файз Мухаммад спешился и обнял прильнувшего к нему сына. За долгие недели разлуки черты лица Гафура заострились, под глазами легли легкие тени, но сейчас, с приездом отца, весь его облик выражал едва сдерживаемую радость.
— Афганцы, воины вы или женщины? — послышался чей-то насмешливый голос.
Оглянувшись, Файз Мухаммад увидел улыбающегося Аюб-хана. Вместе с несколькими приближенными правитель Герата наблюдал за этой сценой.
— Корнейль, подкрепись и приходи ко мне. Время не ждет, — бросил он.
— Сардар, я не корнейль. Был кефтаном, теперь — просто афганец.
— Я не ошибся, тезинец. Тебе присвоено это звание. Если хочешь, скажем так: афганский корнейль Файз Мухаммад. — Аюб-хан сделал ударение на слове «афганский».
— Благодарю, сардар! — приложив руку к груди, поклонился Файз Мухаммад.
Часа через полтора, после трапезы с Гафуром, Файз Мухаммад сидел на ковре, устилавшем пол зала для аудиенций гератского правителя. Здесь же находились везир Исматулла-ходжа в накинутой на плечи, несмотря на жаркий июньский день, меховой безрукавке, Мурад Алим, а также незнакомый пожилой мужчина в феске, надвинутой на лоб. На возвышении в кресле сидел Аюб-хан.
— Итак, что ты привез из своих странствий, корнейль? — обратился он к Файз Мухаммаду.
— Всю дорогу, возвращаясь в Герат, сардар, я размышлял над увиденным и услышанным. Непросто разобраться в том, что происходит. На севере затаился Абдуррахман-хан. Он много шумит о войне с инглизи, но, похоже, по-настоящему сражаться с ними не собирается. Выжидает, как пойдут дела. Хочет одними разговорами привлечь к себе народ, а сам бережет силы…
— Ты прав, — заметил правитель. — Мы посылали к нему четырех гонцов. Предлагали совместно ударить по врагу. Он отвечал уклончиво. Ну, а что инглизи?
— Сдается мне, что игра Абдуррахман-хана их устраивает. Они сейчас помышляют лишь об одном: как выбраться из Кабула, сохранив лицо. Кохистан объят восстанием. Со стороны Газни нападают отряды джарнейля Мухаммад Джан Вардака и муллы Мушки Алама. Покоя не дают ни днем, ни ночью. Если бы в столицу не пробилась из Кандагара дивизия Стюарта, худо пришлось бы инглизи. Они там и пошевелиться боятся. Потому и пытаются найти любой выход из капкана, чтобы их не перебили, как во времена Акбара.
— И что же они, по-твоему, будут делать для этого? — спросил везир.
— Уже делают. Втихомолку договариваются с Абдуррахман-ханом. Везде обещают золото — стараются посадить своих людей. Но они плохо знают наш народ… К джелалабадским гильзаям послали сардара Вали Мухаммад-хана. Он предложил большие деньги за переход на сторону инглизи, а гильзап убили его. В Майдане назначили губернатором своего прихлебателя — Мухаммада Хусейн-хана, а там сразу подняли восстание, и губернатор исчез. До сих пор его ищут — нигде не могут найти. Правителем Кохистана сделали Шахбаз-хана. Через несколько дней он убежал к инглизи в Шерпурский лагерь, иначе — убили бы. В Шерпуре встречает своего приятеля сардара Абдулла-хана. «Откуда?» — спрашивает. «Из Логара», — отвечает тот. «А что там делал?» — «Был губернатором». — «Почему же сюда приехал?» — «А ты почему приехал?» На том их беседа кончилась.
Рассказ вызвал улыбку на лицах слушателей.
— Говорят, инглизи затеяли мудреную игру в Кандагаре, — сказал Исматулла-ходжа.
— Чересчур мудреную, — иронически протянул Файз Мухаммад. — Нашли болвана — прости, сардар, он ведь твой родственник, — назвали независимым государем, вертят им как хотят, а он и рад.
— Да, — подтвердил гератский правитель, — сколько ни бей осла, он конем не станет! Шер Али-хан — мой дядя, в семье его звали «ласковым дурачком». Он готов сделать все, что ему скажут. А в управлении государством понимает столько же, сколько верблюд в аромате розы…
Сравнение перекликалось с известной афганской поговоркой, и присутствующие невольно снова рассмеялись.
— Смех — смехом, — нахмурился Аюб-хан, — а красномундирные собаки распоряжаются на большей части нашей земли. Мы должны как следует ударить по ним, чтобы заставить уйти. Собрали войска, обучаем их. Два полка привел из Меймене корнейль Аминулла…
Человек в феске кивнул.
— Теперь настало время определить цели и задачи похода, — закончил сардар.
Мурад Алим порывисто вскочил:
— Нечего размышлять: надо идти на Кабул!
Файз Мухаммад покачал головой:
— Сражаться с инглизи — это не плов есть. Здесь голыми руками ничего не сделаешь. Нужно иметь много пушек и ружей, да и людей, умеющих с ними обращаться. Куда нанести удар, тоже подумать надо…
— Что же ты предлагаешь? — повернулся к нему Аюб-хан.
— В Кабуле сейчас крупные силы врага. Сидят они в укрепленном лагере. Еще инглизи могут быстро перебросить солдат из Пешавара. Неподалеку — Абдуррахман-хан. Кто знает, не договорились ли они уже. Тогда он поддержит инглизи. Кроме того, из Герата к столице ведет очень плохая дорога. Пушки не везде пройдут. А без них незачем и выступать…
— Значит, Кандагар! — определил цель похода Аюб-хан.
— Да, Кандагар, — подтвердил тезинец. — К нему дорога гораздо лучше. Войск инглизи там меньше. Правда, и туда им нетрудно подбросить подкрепления, но тогда выяснится, что Кандагарское государство со своим вали полностью в руках чужеземцев. Им придется искать новые попоны для своих ишаков в Южном Афганистане или вовсе уйти оттуда. А Кабул что же? Кабул они и без того покинут: им там не усидеть…
— Разумно! — согласился правитель и посмотрел на остальных.
Везир и немногословный Аминулла также нашли обоснованными рассуждения Файз Мухаммада; не стал возражать и пылкий Мурад Алим.
— Итак, — подвел итоги сардар, — идем на Кандагар. Корнейль Файз Мухаммад будет командовать передовым отрядом, корнейль Мурад Алим — замыкающим отрядом и всем снабжением: он-то лучше других сможет позаботиться о продовольствии — это по его части! С остальными войсками пойдем мы с Аминуллой; в их числе, кстати, двинутся его мейменинские полки. В городе будет распоряжаться Исматулла-ходжа.
Совещание закончилось. Везир остался у правителя, а военные начали расходиться. Но неожиданно Аюб-хан их окликнул:
— Вот еще что! Нам, конечно, не удастся скрыть наступление большой армии, тем более что мы даже не знаем, сколько людей инглизи толчется сейчас в Герате. Но надо сделать все, чтобы они как можно позднее узнали о наших замыслах. Сказанное слово расходится по всему миру. Поэтому надо распустить самые противоречивые слухи: мы идем на Тегеран, в Систан, на Мазари-Шариф, на Кабул, на Газни, даже на Кандагар! Пусть гадают. А мы действительно пошлем небольшие группы сарбазов по разным дорогам…
Файз Мухаммад улыбнулся: молодость и отсутствие опыта ведения войны не помеха сардару: он мыслил как зрелый вождь.
— И затем, — добавил правитель, — нужно подобрать надежных офицеров, чтобы они под видом путников, купцов, дервишей тайно проникли в Кандагар и постарались привлечь на нашу сторону армию вали. Займись этим, Аминулла-хан!
— Слушаюсь, сардар!..
…К началу июня 1880 года к походу на Кандагар были готовы 8 палтанов, или полков, регулярной пехоты численностью до 4 тысяч сарбазов, тысяча всадников-соваров, 30 больших и малых орудий афганского производства, а также 3 тысячи вспомогательной конницы и обоз со снаряжением. Перед выступлением войскам зачитали воззвание Аюб-хана.
«Солдаты истинной веры! — гласило оно. — Мы идем, чтобы вернуть свои города, захваченные нашим заклятым врагом — инглизи, которых мы, иншалла, прогоним с нашей священной земли. Мы сражаемся за наши дома, за нашу страну и за нашу святую веру. Будем же неуклонно, день и ночь, двигаться вперед с твердой решимостью — победить или умереть!»
Как и было предусмотрено, в разные стороны — далеко вперед — выдвинулись крупные конные разъезды. Они пропускали путников и караваны, кроме тех, которые направлялись к Фараху, Гиришку и лежащему за ними Кандагару. Блокировав эту дорогу, гератские власти на какое-то время лишили противника возможности получать сведения о том, чего ему следует ожидать. Срок этот, разумеется, не мог быть продолжительным: нельзя долго держать в секрете передвижение крупных сил. Поэтому задача заключалась в том, чтобы быстро продвинуться как можно дальше, пока инглизи не разобрались в происходящем.
Готовясь к выступлению с авангардом, Файз Мухаммад до последней минуты пребывал в нерешительности: брать с собой Гафура или нет? Юноша следовал за ним по пятам, старался предугадать малейшее его желание, смотрел молящими глазами, но проявлял выдержку, достойную мужчины, и не надоедал просьбами. Правда, он чаще обычного заводил разговор о своем деде, и корнейль понял этот нехитрый намек: «Вспомни об отце и поступи со мной так, как он поступил с тобой!»
Накануне выступления из Герата тезинец в конце концов решился:
— Ну как, Гафур, на коней?
Сын сияющими глазами взглянул на него.
— Конечно, отец, — радостно воскликнул он.
1 раджаба 1297 года хиджры, что приходилось на 9 июня 1880 года, гератская армия выступила против врага.
…Распадение Афганистана после смерти эмира Шер Алихана на ряд полусамостоятельных владений, чего так настойчиво добивались англичане, бедственно отразилось на всей жизни страны. Междоусобные распри и неурядицы, многочисленные промежуточные границы, где приходилось платить дополнительные пошлины и налоги, не говоря уж о прямых военных действиях, — все это нанесло тяжелейший удар торговле — внутренней и внешней.
До британского вторжения дорога, связывавшая Герат и Кандагар, была одной из самых оживленных в Афганистане. На севере она выводила торговые караваны в Туркестан, в Иран, а через него в Турцию, на юге — в Белуджистан и к низовьям Инда. Пряности и ткани, кожи, пряжа и шерсть, чай, сушеные фрукты, рис и многие другие товары заполняли вьюки, мерно колыхавшиеся на верблюжьих горбах, а попутные города и селения получали немало выгод от проходящих караванов.
Древний торговый путь… Немногие смельчаки-купцы отваживались вступить на него летом 1880 года, хотя перебои в доставке традиционных товаров сулили им изрядные выгоды. Но торговые люди подчас по собственной инициативе или по чьему-либо поручению собирали сведения о посещенных краях. Этим широко пользовались британские оккупационные власти. Распоряжение Аюб-хана о задержке всех направляющихся в Кандагар, неожиданное для англичан, значительно сократило их возможности получать известия о положении в Герате.
Что намерен предпринять его правитель? Бежать из ханства? Куда? Выступить с войском? Да есть ли оно у него? Одни вопросы и никаких достоверных сведений, помогающих в них разобраться.
29 мая политический агент в Южном Афганистане полковник Сент-Джон телеграфировал из Кандагара, что Аюб-хан имеет одиннадцать пехотных полков по пятьсот человек и может двинуть в поход семь или восемь из них, т. е. тысячи четыре сарбазов. 7 июля новый вице-король Индии лорд Рипон информировал Лондон: в гератской регулярной армии семь полков по шестьсот пятьдесят человек, или 4550 сарбазов.
Первая весть о выступлении Аюб-хана в южном направлении была получена в Кандагаре 27 июня. Она запоздала почти на полмесяца и не объясняла конечной цели сардара. Хотя Аюб-хан и брат Якуб-хана, известного своим недалеким умом, надо полагать, он достаточно благоразумен, чтобы не нападать с толпой необученных и вооруженных лишь пиками и дубинками недисциплинированных оборванцев на англо-индийское войско! Скорее всего, торопится воспользоваться смутой и разграбить Систан. На всякий случай, однако, британские власти решили принять кое-какие меры.
* * *
…Во дворце правителя Кандагара занимались обычным делом: слушали рассказ дряхлого старца, сопровождавшего кого-то из «пяти братьев» (кого именно, рассказчик так и не мог вспомнить) во время охоты то ли на кабанов, то ли на тигров в прибрежных зарослях не то Аргандаба, не то Аргастана. Дослушать увлекательную, хотя и сбивчивую речь старца Шер Али-хану не удалось: доложили о приезде политического комиссара.
Полковник Сент-Джон был сух и деловит:
— Вашему высочеству, разумеется, известно о продвижении сарбазов Аюб-хана?
— Разве у него есть сарбазы? Нам сообщили, что в Герате идут кровопролитные сражения между кабульскими, мейменинскими и местными палтанами, а моего племянника то приводят во дворец, то выгоняют из него. — Вали взглянул на придворных, толпившихся вокруг трона, и их лица изобразили недоумение: как можно предполагать, что у Аюб-хана вообще существует армия!
— Скорее всего, так оно и есть, — не стал вступать в дебаты Сент-Джон. — Тем не менее следует проявлять благоразумие и осторожность. Быть может, гератцы двинули вперед какие-нибудь мелкие отряды, чтобы подстрекать неразумных против законного правителя, но и этого не следует допускать…
Так вот к чему он клонит! Надо собираться в путь, менять достойную владыки спокойную жизнь на дорожную неустроенность и военные опасности. О Аллах, как не хочется! Но ведь этот кэнал Санжан не отстанет. Уставится своими оловянными глазами, сожмет челюсти и будет молча ждать.
И пришлось вали во главе доблестного кандагарского войска отправиться навстречу неведомому.
…Среди рек Афганистана Гильменд — самая крупная. Зарождаясь в Пагманских горах, к западу от Кабула, она на протяжении около 1200 километров пересекает по диагонали в юго-западном направлении всю страну и впадает в бессточные озера Систана. До Гиришка Гильменд — типичная горная река; далее, выйдя на открытый равнинный простор и приняв ряд важных притоков, она становится широкой, многоводной. Во время весенне-летнего таяния снегов и половодья, приходящегося на май — июнь, Гильменд заявляет о себе полным голосом, разливаясь полосой до трех километров и превращаясь в серьезную преграду.
Основная переправа на главном пути из Герата в Кандагар находится у крепости Гиришк. Поэтому англичане настояли на том, чтобы вали со своим войском разместился в Гиришке, господствовавшем над подступами к реке.
За Гильмендом обычно флегматичный вали дал волю гневу:
— Из-за чего вся суматоха? Даже если у мальчишки Аюб-хана появились войска, у нас достаточно сил, чтобы хорошо проучить щенка. Несколько серьезных побед, и Кандагар будет провозглашен королевством, а малопочтенный титул «вали» — «наместник» будет заменен гораздо более звучным — «эмир». Но, может быть, еще лучше — «шах»?
По рекомендации английского военного советника Шер Алихан направил два пехотных полка и полторы тысячи соваров с четырьмя пушками к пограничному селению Вашир. О местном племени ализаев шли слухи, будто оно поддалось разлагающим призывам гератских лазутчиков и готовилось поднять мятеж. Кроме того, со стороны Фараха показались какие-то конные разъезды, а где-то вдалеке за ними горизонт затянули густые клубы пыли. Похоже, что Аюб-хану и впрямь удалось набрать вооруженный сброд. Что ж, тем хуже для него.
Вали был бы настроен значительно менее воинственно, если бы знал, что его могущественные покровители немало встревожены. Об этом можно было судить по телеграммам, которыми обменивались британские власти.
Вице-король Индии лорд Рипон — статс-секретарю по делам Индии маркизу Гартингтону в Лондон 27 июня 1880 года: «Аюб-хан идет против Кандагара с большой силой. Я думаю, что мы должны предоставить Шер Али самому защищаться за Гильмендом… Для нашего военного положения в Кандагаре небезопасно позволить неприятелю перейти эту реку. Поэтому, если Аюб достигнет Фараха, я предполагаю предписать Примроузу двинуться к Гиришку с достаточными силами, чтобы помешать форсированию реки…»
Английский политический агент в Южном Афганистане полковник Сент-Джон — вице-королю 27 июня: «9 июня регулярное войско Аюба должно было выступить из Герата. В действительности движение началось, вероятно, несколькими днями позднее. Тем не менее я рекомендую возможно скорее отправить бригаду к Майванду (если только надежны войска вали), чтобы держать в страхе племена Заминдавара и установить там наше влияние».
Вице-король — политическому агенту в Южном Афганистане 1 июля: «Даются приказания направить бригаду к Майванду. Инструкции для вас: никакое неприятельское войско не должно пересечь Гильменд. При необходимости следует оказать поддержку вали. За Гильмендом он должен полагаться на собственные силы».
Политический агент — вице-королю 1 июля: «Я советую вали не рисковать столкновением с регулярным войском Аюба в Вашире. Не имея указаний, не заверяю его окончательно в нашей активной поддержке. Однако я категорически настаиваю на немедленном выступлении бригады. Возможно, Аюб промедлит на границе, но он может подойти к Гиришку через десять дней и даже раньше».
Корреспондент «Таймс» из Кандагара 3 июля: «Я, разумеется, не предполагал, чтобы Аюб пошел так далеко, в Фарах. Он без денег. Народ к нему относится враждебно. Горные племена отказывают ему в помощи. Одна часть армии в грустном несогласии с другой. Казалось, что он не сможет выйти из своей страны, а если и выйдет, то кабульцы и гератцы тотчас по выступлении разбегутся в разные стороны, — так далеко шли, по-видимому, эти затруднения. Как ни удивительно, однако несомненно, что около 9 июня Аюб покинул Герат со всеми своими регулярными войсками: десятью полками пехоты и тремя — кавалерии, числом до 4 тысяч штыков и 900 сабель с 30 пушками. Вдобавок к этому он имеет от 1500 до 3500 человек иррегулярной конницы…
Говорят, Аюб ужасно не хотел оставлять Герат и уступил лишь, когда кабульские полки объявили, что не пойдут без него. Женатые кабульцы взяли с собой жен. На разрешение взять жен нельзя смотреть как на снисходительность, но это, естественно, показывает, что они не намерены возвратиться…
Ходят слухи, что Аюб обещал войскам отдать на разграбление Кандагар, обогатившийся за время нашей полуторагодичной оккупации. Из-за этого они могут постараться. Но я весьма мало удивлюсь, если узнаю, что они через Хазараджат ускользнут в Газни, едва почувствуют угрозу удара со стороны британских войск».
Английский политический агент в Белуджистане майор Сандеман — вице-королю 7 июля: «Я получил сведения из очень надежного источника, что Аюб-хан идет к Гильменду не с целью схватки с Шер Али, а чтобы держать страну в состоянии анархии, осложнить управление и сбор податей. Если Аюб сможет, он постарается избежать сражения с британскими войсками».
Он же — вице-королю 10 июля: «Поход гератской армии Аюб-хана к Гильменду вызвал большое возбуждение в стране. Складывается впечатление, что он намерен сопротивляться вали Шер Али, но не англичанам».
…Всячески успокаивая себя надеждами, что Аюб-хан чудом удерживает в руках бразды правления и не собирается сражаться с наводящими на него ужас англичанами, а его солдаты готовы разбежаться в разные стороны, британские власти все же решили срочно укрепить вооруженные силы кандагарского вали. Надо было создать эффективный сводный отряд из наиболее боеспособных частей и бросить его против Аюб-хана, чтобы раз и навсегда отбить у гератского правителя охоту напасть на «Государство Кандагар».
Офицеры штаба генерала Примроуза постарались. Уже 5 июля 1880 года из Кандагара выступила сводная бригада под командованием генерала Бэрроуза. Впереди под бодрые звуки оркестра шел ее авангард, гордость англо-индийской конницы, — 3-й ее величества полк бомбейской легкой кавалерии. Уж он-то знал Афганистан! В его историю была вписана вся Первая Афганская война, а кроме того, еще битвы в Персии и в Эфиопии. Своих всадников, одетых в голубые с темно-серой отделкой мундиры, с нашитыми вензелями королевы и императрицы, вел майор Керри.
За ними гарцевал 3-й полк синдской конницы полковника Малькольмсона. Темно-синие с алым мундиры плотно облегали рослых сикхов, раджпутов и патанов, из которых он был сформирован.
Легко ступая, направился к Гильменду 1-й, или гренадерский, полк бомбейской туземной пехоты. Его командир, полковник Андерсон, ехал верхом. Огромный раджпут гордо нес знамя полка с изображением белой лошади. Гренадеры, одетые в алые мундиры, также могли похвастать богатым прошлым своего полка: Египет, Эфиопия, не говоря уже о многих районах обширной Индии — вот где им приходилось пускать в ход оружие.
Далее следовали облаченные в темно-зеленые мундиры с вишневыми воротниками и обшлагами «стрелки Джэкоба», как называли 30-й полк бомбейской туземной пехоты. Их пропустил мимо себя, критически оглядев ряды, командир полка полковник Менваринг.
Но основной ударной силой бригады был, конечно же, чисто английский 66-й пехотный королевский полк. Традиционные красные мундиры, отделанные синим. Доблестный старинный полк. В каких только исторических битвах он не участвовал! И в сражениях во время длительных войн с Францией второй половины XVIII — начала XIX века, и во взятии Копенгагена в непродолжительном, но бурном столкновении Великобритании с Данией; он вел боевые операции на Пиренейском полуострове, захватывал китайские форты и осаждал Севастополь. На его знамени ощерил пасть дракон с надписью «Китай», и командиру «Двух шестерок» — подполковнику Джеймсу Гэлбрайту, широкоплечему шатену, не без оснований завидовали многие его коллеги даже в полковничьем чине.
За кавалерией и пехотой, поднимая облака пыли, громыхала орудийная батарея королевской конной артиллерии. Как и всадники, артиллеристы носили синие с алым мундиры, но на головах у них были не шлемы, а красные кивера с белыми плюмажами. На орудиях — гордый девиз: «Повсюду, куда ведет божий закон и слава».
Можно было бы сказать, что шествие замыкала полурота бомбейских саперов, если бы за боевыми колоннами не тянулась превышавшая их численностью раза в три обычная орда «вспомогательных войск» — всевозможных слуг, погонщиков, кучеров и грумов, маркитантов и маркитанток, ростовщиков, скупщиков награбленного.
Полковник Сент-Джон договорился заблаговременно с вали о том, что тот позаботится о сосредоточении в форту близ Гиришка солидного запаса продовольствия для своих солдат, а главное, для англо-индийской бригады.
10 июля кавалерия достигла берегов Гильменда. За рекой, слегка наискосок, виднелся невзрачный пыльный Гиришк. На следующий день вместе с пехотой прибыл бригадный генерал Бэрроуз.
— Наконец-то! — с облегчением вздохнул Сент-Джон, обменявшись рукопожатием с плотным, несколько сутулым генералом, когда тот, выслушав доклады подчиненных, информировал политического агента о полном сосредоточении бригады. — Чем же мы можем располагать в случае неожиданностей, которыми так богата эта проклятая богом страна?
— Тысяча шестьсот человек пехоты, пятьсот пятьдесят — конницы, шесть орудий, да еще саперы. Всего две с половиной тысячи человек.
— Неплохо, совсем неплохо. Тем более что в нашем тылу — Примроуз: он может еще что-нибудь подбросить в случае необходимости. Ну а на том берегу уже укрепился кандагарский союзник…
— Каковы же его силы?
— Примерно три тысячи пехоты, полторы-две тысячи конницы и шестиорудийная батарея. Но… — полковник замялся.
Бэрроуз недоуменно посмотрел на собеседника.
— Видите ли, генерал, именно я энергично настаивал на том, чтобы Шер Али-хан действовал самостоятельно. Боюсь, однако, что мы ошибемся, если будем связывать с его войсками серьезные планы. Они еще, как бы вам сказать, не дозрели.
— Понятно. А где же наш противник? Известно о нем что-нибудь?
— Предполагается, что Аюб-хан в пяти переходах от Гиришка. Вряд ли он осмелится атаковать британские войска. Скорее всего, в его намерения входит обойти наши позиции и прорваться к Газни. Но все равно мы должны отбить у этого зарвавшегося юнца охоту выбираться из своего логова!
Полковник Сент-Джон не случайно бросил в разговоре с генералом фразу о неожиданностях, которыми так богат Афганистан. Он имел для этого достаточно веские основания. Вечером 10 июля, накануне его встречи с Бэрроузом, в английский лагерь в сопровождении нескольких приближенных неожиданно прибыл Шер Али-хан. Он пожаловался политическому агенту, что передовые позиции покинул его двоюродный брат — сартип, генерал, Нур Мухаммад-хан. И не один, а со своим отрядом из 50 воинов.
— Еще хорошо, что только с ними, кэнал Санжан, — рассказывал кандагарский правитель. — Сартип — да поразит его гнев Аллаха! — призывал всех сарбазов и соваров… Стыдно даже сказать… Призывал плюнуть на инглизи и вали…
— Дальше, дальше! — торопил взволнованного Шер Алихана полковник.
Это он сделал зря. На несколько мгновений вали вообще потерял дар речи, а когда заговорил, то не сразу можно было уловить, что же так тревожит правителя.
— Совары — ничего… Они набраны из богатых, знатных семей… А вот сарбазы… Особенно Хайберский полк… Там люди, которым нечего терять… Десять лет стояли под Кабулом, только прошлой осенью их прислали к нам… Очень плохие слова от них только и слышишь…
— Так, может быть, разоружить их?
— Подождем немного, ведь открытый мятеж они не решились поднять… Лучше всего будет, если джарнейль-саиб Броз (политический агент понял, что Шер Али-хан имел в виду генерала Бэрроуза) переведет войска инглизи через Гильменд… Ближе к нам…
— Нет. На этой стороне удобнее маневрировать. Но мы продвинемся вплотную к реке.
Получив отказ, Шер Али-хан замолк надолго. Наконец он снова заговорил, но так тихо, что голос его был едва слышен.
— Тогда… Тогда нам трудно будет долго сопротивляться наступлению Аюба…
В понедельник 12 июля в штаб англичан поступили сведения, что обстановка в лагере властителя Кандагара стала еще более напряженной. Его солдаты начали кстати и некстати употреблять выражение: «Плюю в бороду вали!»
К вечеру Сент-Джон не выдержал и, когда с новым паническим сообщением прибыл мирза Шер Али-хана, отправил с ним письмо правителю: «Не будет ли лучше всего вашим распоряжением разоружить ваше регулярное войско (полностью или частично)? Если вы не в состоянии это сделать, то не уполномочите ли вы нас принять необходимые меры?»
Вали без долгих размышлений дал согласие, и наутро политический агент с несколькими офицерами перебрался на западный берег Гильменда, чтобы самому познакомиться с обстановкой. Затем вместе с Шер Али-ханом он вернулся в штаб Бэрроуза.
— Аюб идет! — в ужасе воскликнул вали, когда они уединились в генеральской палатке, чтобы обсудить положение.
— Ну и что? — почти одновременно ответили командир бригады и полковник. — Встретим его как следует…
Не слушая их, Шер Али-хан бормотал свое, сокрушаясь по поводу слабости собственного войска. Наконец он успокоился, оживился и даже предложил хитроумный план наведения порядка:
— Знаете что? Мы поедем к себе, а вы подведете свои части поближе к реке. Потом кэнал Санжан напишет нам важную бумагу… Мы покажем ее нашим офицерам. В ней будет сказано, что солдат Кандагара надо немедленно перевести на другой берег реки. Рядом с инглизи они бунтовать не будут… Ну а если что-нибудь случится, вы ударите по ним из пушек. Только осторожно, чтобы не попасть в нас и наших людей!
На рассвете 14 июля англичане начали передвигаться на новое место вверх по Гильменду. Пошла пехота, за ней отдельные части кавалерии. Но основные силы Бэрроуза, и прежде всего артиллерия, оставались на месте, выжидая развития событий за рекой. Сент-Джон, не отрывая от глаз бинокля, следил за лагерем вали. Все шло нормально: там снимали шатры, грузили на ослов, мулов и верблюдов нехитрое военное снаряжение. Вот уже на этот берег Гильменда перебрался родственник и приближенный Шер Али-хана — сардар Дилавар-хан, чтобы выбрать место для нового лагеря. Опустив затекшую руку с биноклем, политический агент осведомился о настроениях его соотечественников.
— Все хорошо! — благодушно улыбнулся толстолицый сардар. — Поворчали. Теперь угомонятся. Что им надо? Кормят их, поят… Нищие, а нищий спокоен: ему не страшен ни вор, ни жулик.
Полковника потешила философская мудрость Дилавар-хана, и он снова устремил взор за ленту реки. Что за чертовщина! Прошло всего несколько минут, а там уже что-то произошло. Сент-Джон протер линзы бинокля, но это мало помогло. От форта, где находился лагерь вали, расползались клубы пыли — явное свидетельство каких-то передвижений. Самые густые вели по дороге на запад, да и у брода, только что пройденного Дилавар-ханом, было неспокойно. А что это за дуга, контуры которой так внезапно наметились в обход английского лагеря в направлении на Кандагар? Сквозь просветы в облаках пыли мелькали фигурки пеших и всадников, а среди перемещавшейся на запад массы людей и без бинокля можно было различить орудия и множество вьючных животных.
— Разрази меня гром, если я что-нибудь понимаю, — процедил Сент-Джон и, стегнув коня, помчался к реке.
Оставленный так внезапно в одиночестве сардар оторопел и бросил ему вдогонку «Уша! Уша!», словно останавливая бегущего ишака.
Сент-Джону, однако, было не до оскорбления: с небольшой группой всадников через Гильменд переправлялся Шер Алихан.
Вали била дрожь.
— Собачьи дети, собачьи дети! — только и можно было услышать из его уст.
Оказавшись в палатке Бэрроуза и почувствовав себя в безопасности, правитель несколько успокоился и смог рассказать о происшедшем.
Поначалу все шло как нельзя лучше: шатры сняты, снаряжение навьючено, сарбазы и совары построены. Но когда прозвучал сигнал к выступлению, из рядов Хайберского полка вышел какой-то оборванец, приблизился к вали и, взяв его за бороду, сказал: «Нам с тобой не по пути. Иди к своим инглизи!» (Из деликатности Шер Али-хан умолчал о том, что сарбаз повернул его и толкнул ногой пониже спины.) Он, вали, хотел тут же зарубить мерзавца, но, как на зло, сабля застряла в ножнах, а из приближенных («тоже ишачьи сыны!») никто не успел этого сделать. Больше того, многие из них, даже не повернувшись в его сторону, поскакали в Кандагар. И все это заняло какие-то мгновения. Армия растаяла… Остались преданными вот эти, что пришли сюда…
— У нас теперь совсем нет солдат! — завершил свой скорбный рассказ правитель. — Мы настоятельно советуем без промедления отступить к Кандагару.
— Ну нет! — возразил полковник. — Здесь ведь стоит очень сильное английское войско. Прежде всего надо примерно наказать мятежников. Кстати, куда они делись?
— Наверно, ушли по гератской дороге, — предположил Шер Али-хан.
— Как бы не так! — зло бросил вошедший в палатку к концу разговора Бэрроуз. — Можете на них полюбоваться.
Выйдя из палатки, они увидели, что на противоположном берегу, использовав в качестве укрытий редкие рощицы и складки местности, расположились афганские воины.
— Чего они ждут? Почему не уходят? — недоумевал вали.
— Это арьергард. Прикрывает отход остальных. У них нет конницы, и они опасаются, как бы мы не бросили им вдогонку свою кавалерию, — разъяснил генерал.
— Сэр, по ним надо немедленно ударить! — вмешался политический агент.
Раздались отрывистые звуки команды, и вскоре через Гильменд переправились по четыре роты 66-го английского пехотного полка и «стрелков Джэкоба» в сопровождении двух эскадронов кавалерии и артиллерийской батареи. Афганцы открыли редкий огонь из ружей и пушек, препятствуя продвижению врага. Заросли и густая сеть арыков также замедляли наступление англичан. Лишь часа через два они вплотную подошли к афганским позициям, но удар пришелся по пустому месту: сарбазы отступили, бросив приведенные в негодность шесть старых пушек. Лишь несколько десятков самых отчаянных воинов сдерживали натиск англичан, а затем и они растворились в кустарнике и рощах.
Покарать мятежников не удалось. Но столкновение за Гильмендом имело и другую цель. Следовало проложить дорогу к форту, где были сосредоточены запасы продовольствия, приготовленные Шер Али-ханом. Поэтому, когда поле боя осталось за англичанами, Сент-Джон распорядился срочно отправить в крепость верблюжий обоз, чтобы вывезти продукты. К величайшему разочарованию британского командования, выяснилось, что восставшие сарбазы опередили его. Огромные склады оказались почти совершенно пустыми.
Снова, в который раз за последние дни, собрался совет: Бэрроуз, Сент-Джон и вали должны были оценить обстановку.
— Ваше высочество, — с отвращением произнося почетный титул своего жалкого протеже, обратился к Шер Али-хану политический агент, — сможет ли Гиришк прокормить нас?
— Нет, кэнал Санжан, он и себя кормит еле-еле. Что-то растет только возле реки. Ну еще — где арыки и кяризы. А так — пустыня да камни. Тут и лавок-то всего десятка два.
— Тогда, генерал, надо немедленно выбираться отсюда. Лучше всего — в Майванд или в Кушки-Нахуд. Нас будет отделять от Кандагара менее 50 миль. Со снабжением отряда станет легче.
Бэрроуз мрачно засопел:
— С вашего разрешения, сэр (на кандагарского правителя он уже не обращал никакого внимания), я подведу некоторые итоги. Армия нашего не очень надежного союзника самоликвидировалась, если можно так выразиться. Наше продовольствие — у бунтовщиков. Еще не вступив в борьбу по-настоящему, мы уже понесли потери. И после всего — добровольный отвод войск с выгодного рубежа! Но, к сожалению, вы правы.
…17 июля 1880 года, совершив три перехода, бригада перебазировалась в район селений Кушки-Нахуд и Майванд.
Вечером следующего дня, когда Сент-Джон размышлял над обстановкой, складывавшейся в Южном Афганистане, на пороге занятого им в Кушки-Нахуде дома выросла долговязая фигура. Длиннополый клетчатый сюртук, соломенная шляпа и пенсне на шнурке подчеркивали штатский облик гостя. Политический агент, видевший за последние недели только военных, на миг удивился появлению подобной личности в районе боевых действий. Но только на миг.
— Вы даже здесь меня нашли, Сэнди! — приветствовал он корреспондента «Таймс» Сэндона Лидса.
— Это оказалось намного легче, чем можно было предположить. Я был готов отправиться за вами гораздо дальше, Оливер. Ну, скажем, в Герат.
Сент-Джон помрачнел:
— Не оттачивайте на мне свое остроумие, Сэнди. И вообще, давайте-ка лучше размочим эту тему хорошим брэнди, иначе она застрянет у меня в горле…
Он хлопнул в ладоши и отдал соответствующее распоряжение появившемуся слуге.
Лидс лукаво посмотрел на хозяина:
— Кандагарское государство, похоже, трещит по всем швам?
— Ну, может, и не по всем — это слишком сильно сказано… Однако складывается впечатление, что в нем, как и в Датском королевстве, не все благополучно…
— Переживаете?
— Еще бы! Ведь это — мое детище, к которому с большой симпатией отнеслись и в Лондоне и в Калькутте. Жаль, если оно окажется мертворожденным.
— Вы сняли у меня камень с души.
— Не совсем понимаю вас, дружище.
— Дорогой Оливер, трудно было бы пить брэнди с человеком, который назавтра посчитал бы, что я ему подложил свинью… Поскольку мы не расходимся во мнении, что благороднорожденный и глубокомысленный Шер Али-хан со своей Кандагарской державой стоит не очень прочно на ногах, позвольте познакомить вас с телеграммой, отправленной мной сегодня в редакцию.
Сент-Джон поднес к свечам протянутый ему листок бумаги: «Вали Кандагара, — читал он, — не смог держать в руках войско, созданное с нашей помощью… Когда произошел мятеж, ни один выстрел не был сделан в его пользу. Пушки укатили, и никто не пытался их остановить. Даже те, кто не покинул его, — остатки кавалерии — пассивно наблюдали за распадением армии… Установление в Кандагаре власти сильного правителя, выбранного народом, но тесно связанного с нами собственными интересами (при условии доведения до Кандагара железной дороги), — такая цель, несомненно, стоила бы усилий, но теперь это невозможно…»
Корреспондент внимательно следил за выражением лица полковника.
«…Никто из тех афганцев, на коих пал выбор британского правительства, не был благожелательно принят народными массами, а независимый правитель Кандагарский, назначенный лишь благодаря нашему влиянию, был обречен пасть, как только это влияние ослабло. Последние события, связанные с Шер Али-ханом, доказали это слишком явно, и ничто не может восстановить его утраченное значение. Отправка вали в Индию (с выдачей хорошей пенсии) — самое подходящее предложение…»
— Ну, Сэнди, — сказал полковник, закончив чтение, — если полагаться на ваше мнение, то можно заключить, будто правитель уже пал. А это еще не так! И потом, позвольте вас спросить: когда же вы успели узнать об этом злосчастном бунте?
Лидс улыбнулся:
— Будь на вашем месте другой человек, он получил бы ответ, что на то я и журналист, пользующийся за свою оперативность заслуженным авторитетом в главной газете Британской империи. Но вам, Оливер, я скажу правду. Моей заслуги тут нет. Просто в Кандагар прискакали бывшие соратники Шер Али-хана. Они теперь, видимо, будут подчеркнуто чураться его и с восторгом рассказывать о событиях, которые произошли в лагере за Гильмендом. Сейчас фраза «Плюю в бороду вали» стала в городе чуть ли не общепринятым приветствием при встрече…
— Неприятные вести вы привезли…
— Ничего не поделаешь: я привык хоть для самого себя вырабатывать трезвый взгляд на вещи. А что вы скажете по поводу корреспонденции, посланной в Лондон? — переменил тему Лидс.
Сент-Джон задумался.
— В принципе я не очень большой любитель обобщений. Особенно широких. К тому же плохо представляю обстановку в других районах Афганистана… Но если и там аналогичные настроения, то я с вами согласен: надо побыстрее сажать на трон солидного претендента, лишь бы он учитывал наши планы и стремления, самим же — удалиться. Но не очень далеко!
Глава 24 СУДЬБА ЛЮБИТ ТЕРПЕЛИВЫХ
Между тем переговоры с Абдуррахман-ханом застыли на мертвой точке. Британский политический агент в Кабуле и Северном Афганистане наконец-то понял, что столкнулся с незаурядным дипломатом. Сардар крайне редко говорил «да», почти никогда не произносил «нет». Вот почему, когда со всех концов Афганистана начали поступать известия о нападениях на английские гарнизоны, Гриффин почувствовал, что на этих затянувшихся переговорах усиливаются позиции претендента и слабеют позиции англичан. Он хорошо помнил бумажный листок, украшенный изящным вензелем лорда Литтона и исписанный его красивым почерком, где двойной линией была подчеркнута фраза: «Абдуррахман-хан может себе позволить затеять выжидательную игру, мы — нет!»
Прошло уже три недели с тех пор, как 21 мая 1880 года новый статс-секретарь по делам Индии лорд Гартингтон указал новому вице-королю Индии лорду Рипону на необходимость ускорить вывод англо-индийских войск из Афганистана. Рипон потребовал от Гриффина в кратчайший срок прийти к соглашению с Абдуррахман-ханом (либо подумать о возвращении на родину изгнанного Якуб-хана), но переписка с претендентом не давала существенных результатов.
И Гриффин составил новое послание сардару. В нем было выдвинуто основное условие признания Абдуррахман-хана правителем: его согласие на категорический отказ от всяких политических сношений с любой страной, кроме Великобритании. Британское правительство обязывалось поддерживать властителя Кабула в случае неспровоцированного нападения, но лишь в том случае, если он будет следовать советам англичан в делах своих внешних сношений. Вопрос о Кандагаре не подлежал обсуждению: «Вся Кандагарская провинция передана под власть независимого правителя, кроме округов Пишина и Сиби, оставленных во владении Англии, — писал Гриффин. — Поэтому правительство не намерено вести с вами какие-либо переговоры по данным пунктам, а также относительно северо-западной границы, о чем было достигнуто соглашение с бывшим эмиром Мухаммадом Якуб-ханом». В остальных пунктах британское правительство шло на уступки. Оно обязывалось не вмешиваться во внутриафганские дела, отказывалось от своего настойчивого стремления поместить в Кабуле резидента-англичанина (что явилось одним из поводов к нападению на Афганистан), допуская, что там будет находиться их агент из индийских мусульман. Наконец, в письме содержалось заверение, что Великобритания останется нейтральной, если Абдуррахман-хан захочет овладеть Гератом. Это означало явную заинтересованность Англии в столкновении сардара с Аюб-ханом.
Гриффина позабавила парадоксальность ситуации: он, британский политический агент, находясь в Кабуле, предлагает пост афганского монарха засевшему в главном городе Каттагана — Ханабаде внуку прославленного эмира Дост Мухаммад-хана, а тот упрямится, делая вид, что это его мало привлекает. И — самое пикантное — ставит тем самым могущественнейшую державу мира чуть ли не в унизительное положение! «Нет, пора дать понять этому наглецу, что наше терпение не вечно», — подумал он и добавил к тексту, что, хотя его письмо не должно рассматриваться как ультиматум, на размышления он отводит четыре дня. Если ответа не будет, то на пятый день прикомандированный к сардару глава английской миссии Афзал-хан будет вынужден покинуть Ханабад.
14 июня послание было отправлено в Ханабад. Абдуррахман-хан выдержал характер. Ровно по истечении четырех суток после получения пакета — на пятый день — его мирза передал Афзал-хану ответ, и 26 июня Гриффин вертел в руках бумагу, сложенную в виде конверта и скрепленную воском, с оттиском маленькой миндалевидной печатки сардара. Теперь, получив письмо, он не торопился знакомиться с ним. «Неужели какой-нибудь новый подвох?» — с тревогой думал политический агент.
Он не ошибся: ответ давал еще одно доказательство дипломатических способностей Абдуррахман-хана. Сардар выражал удовлетворение в связи с тем, что ему передавали Афганистан в границах, определенных договором с Дост Мухаммад-ханом, а в Кабуле англо-индийские власти будет представлять не британский посол, как намечалось по Гандамакскому договору, а индийский мусульманин. Он выражал готовность не вступать без согласия Англии в контакты с другими государствами. В вопросе же о Герате Абдуррахман-хан не попался на удочку, написав, что, пока у него существуют дружественные отношения с двоюродным братом, пусть Аюб и правит.
— Прочтите мне, пожалуйста, еще раз этот документ, — попросил командующий Северо-Афганским полевым отрядом генерал-лейтенант Стюарт, когда Гриффин познакомил его с ответом из Ханабада. — Что-то я не все в нем понял.
Политический агент медленно и внятно прочел вслух весь текст послания.
— Ну и мошенник! — воскликнул генерал. Густые седые брови и свисающие усы делали его похожим на моржа. — Какой договор с Дост Мухаммад-ханом имеется в виду?
— Мне очень приятно, сэр, что вы обратили внимание именно на эту, весьма существенную деталь, — многозначительно произнес политический агент. — Мы заключили с Дост Мухаммад-ханом два соглашения — в 1855 году, когда он еще не владел Кандагаром, и в 1857 году, после того как этот город вошел в состав его земель. Двусмысленная формулировка позволяет Абдуррахман-хану ссылаться на тот договор, который более выгоден для него…
— Хотя мы постоянно подчеркиваем, что ему следует навсегда забыть о Кандагаре! — прервал своего помощника Стюарт.
— Да, сэр. А он столь же упорно игнорирует это… Но вот не менее любопытный документ.
И Гриффин протянул командующему исписанный по-персидски небольшой бумажный лоскут; на нем также стояла печать Абдуррахман-хана.
— Вы держите своего рода циркулярное письмо сардара афганским вождям, — пояснил Гриффин. — Забегая далеко вперед, он утверждает, что мы согласны признать его власть над Афганистаном в тех границах, какие существовали при наивысшем могуществе Дост Мухаммад-хана.
— Иными словами, не только с Кандагаром, но и с Гератом, и с Пишином, и с Сиби, и со всеми горными перевалами и проходами, столь интересующими нас?! — лицо генерала приобретало все более багровый оттенок.
— Разумеется, сэр. Не угодно ли взглянуть еще на одну перехваченную нами листовку? В ней сардар призывает всех, кому дорога святая вера, вступать в ряды гази — воинов, готовых отдать жизнь в религиозной борьбе. Он, правда, предусмотрительно не говорит, кому следует нанести удар, но, мне кажется, это совершенно ясно…
Генерал пришел в ярость.
— Знаете что, немедленно отправьте в Симлу телеграмму от нашего имени о разрыве переговоров с этим… с этим фокусником, — распаленный Стюарт так и не нашел подходящего эпитета. — Они с каждым днем осложняются и вообще уже ни на что разумное не похожи!
…Среди технических новшеств, которые выручали застрявших в Афганистане англичан, на первое место следовало поставить, конечно, телеграф. Хотя линию, соединявшую Кабул с Индией, несмотря на усиленную охрану, часто выводили из строя повстанцы, ее незамедлительно восстанавливали и она служила исправно. Уже через сутки Стюарт и Гриффин получили ответ на свою телеграмму.
Если командующему и политическому агенту нужны были доказательства, что новый вице-король по своему характеру резко отличался от импульсивного «Великого Могола», то ответ вполне подтверждал это. Лорд Рипон предлагал дать Абдуррахман-хану еще один шанс.
«Неожиданно порвать с ним, — писал он, — и перенести нашу поддержку и влияние на сторону его противников — эти меры, возможно, очень скоро станут необходимыми, но мы не должны прибегать к ним до тех пор, пока не получим более убедительных доказательств его двойной игры».
Глава англо-индийской администрации поручил Гриффину направить сардару любезное послание, приглашая прибыть в Кабул с небольшим отрядом и намекнуть между строк, что его закулисные действия не составляют секрета.
Стюарт помрачнел, ознакомившись с депешей, но смягчился, когда прочитал приписку: она давала ему право порвать отношения с кандидатом на престол, если тот будет продолжать фальшивить или затягивать время, и составить правительство из родственников покойного эмира Шер Али-хана. Поразмыслив, сэр Дональд совсем успокоился. «Разумеется, я тороплюсь выбраться из Кабула и вывести отсюда войска, — думал он. — Поэтому меня так бесит азиатская дипломатия этого племянника Акбар-хана, не к ночи будь он помянут… А на шее у Рипона — весь Афганистан, на котором уже сломал шею (генералу понравилась случайная игра слов) не только Окленд, но и Литтон. Ему не меньше, чем мне с Гриффином, хочется побыстрее разделаться с этим ярмом!»
Стюарт не знал, что до лорда Рипона уже дошла никак не улучшившая его настроения весть о ненадежности армии пресловутого Кандагарского государства, как не знал он и того, что вице-король испросил благословения Лондона.
Статс-секретарь по делам Индии одобрил точку зрения вице-короля. «Я считаю, что вы вполне правы, не порывая с Абдуррахман-ханом столь поспешно, как этого, кажется, хотят Стюарт и Гриффин, — писал лорд Гартингтон. — Судя по всему, для этого нет достаточных оснований, и последние телеграммы свидетельствуют, что есть возможность договориться с ним и добиться его утверждения у власти без сопротивления племен».
В Ханабад было отправлено приглашение сардару нанести визит в Кабул. Гриффин добросовестно выполнил указание Симлы, дав в деликатной форме понять будущему правителю, что ему в дальнейшем будет трудно рассчитывать на терпение партнеров по переговорам и что от них не укрылись некоторые разосланные им воззвания.
И снова Абдуррахман-хан проявил незаурядное политическое чутье. Он почувствовал рискованность новых оттяжек и, объяснив англичанам характер своих воззваний одним только стремлением успокоить воинственные племена, принял приглашение прибыть в столицу.
— Так или не так — поди проверь! — скептически пожал плечами Стюарт.
— Вряд ли он приедет в Кабул, — подлил масла в огонь полковник Мак-Грегор, дневник которого был полон враждебными высказываниями против Абдуррахман-хана.
— Почему вы так думаете? — нахмурил брови генерал.
— А я еще в должности начальника штаба Кабульского полевого отряда познакомился с несколькими влиятельными афганцами. Они уверяют, что сардар не примет эмирского трона из наших рук и покажется в столице только после нашего ухода отсюда…
И все же Абдуррахман-хан решил направиться в Кабул.
Накануне дня отъезда к нему пришел представитель Гриффина Афзал-хан. Зал для приемов во дворце ханабадского правителя, занятом Абдуррахман-ханом, гудел от людского гомона. Несколько индийских купцов, перебивая друг друга, что-то возбужденно доказывали сардару, а он, сузив глаза, сидел в кресле у небольшого окна и, казалось, не слушал их. С обеих сторон застыли, как монументы, стражники с обнаженными саблями.
Наконец Абдуррахман-хану это надоело. Он встал, невысокий, подтянутый, ладный, и зло кинул:
— Кто из вас не дурак, тот — осел! Разве неизвестно, что нам нужны деньги? Очень нужны. Потому ваши вонючие товары взяты в казну и проданы…
Брезгливо посмотрев на купцов, Абдуррахман-хан продолжал:
— Когда мы придем к власти в предназначенном нам Аллахом государстве, то, может быть, возместим часть ваших убытков или дадим вам какие-нибудь привилегии. И все — больше не о чем рассуждать.
Лицо его исказилось.
— Если вы и сейчас не поняли, вам растолкует мой палач. Нет желающих? Тогда убирайтесь вон — не до вас!
Натыкаясь друг на друга и бормоча проклятия, купцы вышли. Лишь теперь Абдуррахман-хан соизволил заметить важного гостя:
— Афзал-хан? Какому благоприятному сочетанию светил обязаны мы этим посещением? Можно было предполагать, что инглизи в Кабуле уже расспрашивают вас о нашем грядущем прибытии.
Индиец не обратил внимания на иронию:
— Я уже собирался уехать, сардар, но узнал, что ваш отряд насчитывает не шестьсот всадников, как было условлено, а намного больше…
— Это известие справедливо, достопочтенный, — спокойно ответил внук Дост Мухаммад-хана. — Но вот письмо из Кабула (впоследствии Афзал-хан сообщит Гриффину, что ему издали показали какой-то листок, за достоверность и содержание которого он никак не ручается). В нем угрожают смертью тому, кто согласится стать эмиром с помощью инглизи. Их тут называют — я прочту (Абдуррахман-хан отыскал нужное место) — «извечными врагами афганского народа». Вы, мудрый Афзал-хан, хорошо знаете историю наших народов. Разве не справедливо именуют инглизи кровопийцами?
Афзал-хан ушел от прямого ответа:
— У нас речь не о том, сардар. Какие силы намерены вы взять с собой?
— Войска возьмем столько, сколько нам нужно, — холодно ответил Абдуррахман-хан. — Хватит, чтобы обеспечить порядок и безопасность…
Он усмехнулся:
— Знаете, из-за чего тут был такой шум? Чтобы снарядить подходящее войско, пришлось перехватить пешаварский караван, четыре с половиной сотни верблюдов, который шел в Бухару, и срочно продать весь его груз…
* * *
…20 июля 1880 года Абдуррахман-хан в сопровождении хорошо вооруженного отряда в несколько тысяч воинов вступил в Чарикар, последний сравнительно крупный город перед столицей. До Кабула оставалось немногим больше сорока миль.
Молва о приближении внука эмира Дост Мухаммад-хана и племянника эмира Шер Али-хана молниеносно разнеслась повсюду, и в Чарикаре собралось множество старшин и глав племен. Наиболее важную роль среди них играл престарелый мулла Мушки Алам, духовный вождь гильзаев и один из организаторов сопротивления оккупантам. В этот город его доставили на носилках.
В Чарикаре возник, таким образом, стихийный дурбар афганской знати. На нем Абдуррахман-хан был провозглашен эмиром. Закрепляя это решение, собравшиеся прочитали по мусульманскому обычаю хутбу — молитву с упоминанием его имени.
События опережали планы сидевших в Кабуле англичан. Сардар стал эмиром независимо от их воли. Следовало торопиться с его признанием. И британские власти, заявив, что они только дожидались признания Абдуррахман-хана афганским народом, 22 июля созвали в столице официальный дурбар. К участию в нем была приглашена местная знать, вполне уживавшаяся с чужеземцами. Приехали представители Абдуррахман-хана, и Мак-Грегор получил возможность напомнить Стюарту свои слова, что претендент на престол так и не покажется в Кабуле до ухода англичан.
— Знаете, полковник, — возразил ему впавший в апатию генерал, — честно говоря, для меня самого гораздо важнее уйти из Кабула и больше не показываться здесь никогда! Пойдемте, однако, послушаем, что скажет Гриффин перед сборищем этих головорезов.
Хотя в столице была расквартирована целая англо-индийская армия, солдаты и офицеры отнюдь не чувствовали себя спокойно. Не проходило и дня, чтобы какая-нибудь часть не лишалась сарбаза, совара, сержанта, а то и офицера, неосторожно зашедших слишком далеко. С окрестных холмов постреливали в ненавистных инглизи.
Поэтому дурбар собрали на территории Шерпурского укрепленного лагеря. В одном из его уголков расстелили ковры, и на них разместились родовитые афганцы, старейшины, городская знать. На ярком солнце сверкали расшитые золотом и серебром безрукавки, надетые на белоснежные рубахи, темными пятнами выделялись дорогие халаты. Многие носили на себе целый арсенал: один, а то и два пистолета, нож, тяжелый кинжал, саблю с рукоятью, усыпанной драгоценными камнями или отделанной перламутром. Было ясно, однако, что оружие этих людей давным-давно не пускалось в ход, оправдывая афганскую пословицу: «Кинжал из золота вешается на пояс, а не вонзается в грудь врага». То были кинжалы, которых англичане могли не опасаться…
После того как проворные слуги обнесли почетных гостей кувшинами с прохладным шербетом, на небольшое возвышение поднялся британский политический агент в Кабуле и Северном Афганистане. Звучным голосом, на хорошем персидском языке Гриффин оповестил дурбар, а через него и весь мир о важных политических решениях, принятых британским правительством.
— Течение событий поставило сардара Абдуррахман-хана в положение, — говорил он, — полностью соответствующее желаниям и ожиданиям правительства. Поэтому вице-король Индии и правительство ее милостивого величества королевы-императрицы с удовольствием возвещают о публичном признании ими сардара Абдуррахман-хана, внука знаменитого эмира Дост Мухаммад-хана, кабульским эмиром.
Среди собравшихся пронесся легкий шум. Их внимание привлекли слова: «кабульский эмир». И только?!
Гриффин между тем продолжал:
— Правительство находит удовлетворение в том, что вожди и племена избрали выдающегося представителя династии баракзаев, известного воинской доблестью, а также своей мудростью и опытом. Он дружелюбно расположен к британскому правительству, и, пока он питает к нам такие чувства, поддержка Англии ему обеспечена. Свою дружбу к нам он лучше всего докажет хорошим отношением к тем из его подданных, которые оказывали нам услуги.
Дост Мухаммад-хан, Шер Али-хан, Мухаммад Якуб-хан… На престол в Кабуле был возведен четвертый эмир из рода баракзаев. Сам новоиспеченный государь пока еще сидел в Чарикаре, но сделавшие на него ставку неожиданные друзья в Шерпурском лагере, Симле и Лондоне уже позаботились об укреплении его положения. Наряду с формальным признанием, встреченным дурбаром с удовлетворением, англичане подарили новому эмиру пятнадцать лакхов, или полтора миллиона, рупий, а также передали ему девять с половиной лакхов рупий, находившихся в казне его предшественника при захвате Кабула солдатами Робертса.
Удивительны капризы фортуны! Абдуррахман-хан, только что ограбивший индийских купцов в поисках средств для снаряжения конвойного отряда, — и обладатель почти двух с половиной миллионов рупий! Для начала совсем неплохо!
И еще одно сделали британские власти: чтобы избавить эмира от трений с их ставленниками, они намекнули назначенному ими губернатору Кабула Вали Мухаммад-хану, что он может больше не считать себя связанным своими трудными и небезопасными обязанностями. «Губернат-инглизи», как его прозвали в столице, оказался достаточно сообразительным человеком и удалился в частную жизнь.
И наконец, в штабе Северо-Афганского полевого отряда возникла идея презентовать эмиру несколько орудий. Правда, скептики (в их числе был, естественно, и Мак-Грегор) выражали опасение, как бы Абдуррахман-хан, являющийся не только внуком Дост Мухаммад-хана, но и племянником Акбар-хана, не развернул эти орудия жерлами в спину покидающим Кабул британским войскам. Но их успокоил командующий отрядом. Осмотрев предназначавшиеся в дар пушки, Стюарт сказал с улыбкой:
— Эти орудия слишком стары, чтобы из них было безопасно стрелять, и слишком тяжелы, чтобы их стоило вывозить в Индию. Отличный подарок для эмира!
К началу последней декады июля 1880 года кабинет министров в Лондоне и колониальная администрация на Востоке пришли к выводу, что афганский кризис преодолен. На кабульский престол посажен надежный правитель. Кандагарское государство продолжает существовать. Все в порядке!
Британские политики и не предполагали, что основные трудности — впереди…
Глава 25 МАЙВАНД — СЛАВА НАРОДА
Это была незабываемая пора полного счастья. Рядом с могучим чернобородым отцом, не изменившим своему Базу, на специально подобранном для него по росту вороном жеребчике выезжал из Кандагарских ворот Герата Гафур. Он немедленно дал кличку вороному — «Гурбэт», «Орел», и обидчиво сжал губы, когда отец, посмеиваясь, сказал: «Какой же это орел? Скорее — орленок!»
От стен Герата до моста через Герируд авангард армии следовал по дороге, пролегавшей вдоль полей и садов. Каждый клочок земли был тщательно возделан. Селения чередовались с небольшими хуторками и отдельными богатыми усадьбами, огороженными высокими дувалами.
За Герирудом местность стала постепенно меняться. На второй день, миновав селение Мирдауд, вступили в холмистую область, с видневшимися вдали округлыми горами — то были отроги хребта Сафедкох. На третий день пути, за рабатом Мирали, построенным, по преданию, великим поэтом Алишером Навои, пересекли небольшой обрывистый кряж и начали спускаться в долину реки Адраскан. На бивак остановились вблизи обширного караван-сарая, недалеко от селения Адраскан. Тут к войску присоединилось ополчение племени нурзаи, кочевавшего в горных долинах, расположенных к востоку.
На следующий день преодолели хребет Кохидеххар и заночевали у гробницы святого Ходжа Ория. Дальше совершили небольшой переход по предгорьям и разбили походный лагерь у селения, носившего название Чашмаи Узбаки, или Узбекский Родник. Отсюда начинался богатый Сабзаварский оазис, раскинувшийся в широкой котловине. С севера, востока и юга его ограждали горы, и только на западе простиралась пустынная каменистая степь.
По заведенному Аюб-ханом порядку, если переход был не очень напряженным и до наступления темноты оставалось хоть какое-то свободное время, его использовали для упражнения сарбазов и артиллеристов в стрельбе, соваров — в кавалерийских атаках. Не склонный себя излишне утруждать, корнейль Мурад Алим пытался возражать против этого, ссылаясь на возможное недовольство солдат.
— Чьих? Твоих? — раздраженно спросил сардар.
— А хотя бы моих.
— Давай поедем к ним!
Через полчаса они подскакали к рабату, где расположился арьергард. Коноводы пасли лошадей в пойме небольшого ручья. На самом постоялом дворе, где когда-то, в лучшие дни, останавливались богатые и многолюдные караваны, солдаты завершали обед. От котлов, вокруг которых они сидели группами, доносился аппетитный запах жареного мяса.
— Хорошо живешь! — бросил правитель.
— Пустой мешок стоять не может! — довольный похвалой, откликнулся пословицей корнейль. — Люблю поесть и рад, когда могу накормить.
Поев, солдаты воздавали обычную благодарственную молитву Аллаху и поднимались на ноги.
— Салам алейкум! — произнес Аюб-хан. — Мы приехали поговорить с вами. Зовите товарищей и подходите поближе!
Вскоре его окружила огромная толпа.
— Знаете ли вы, зачем и куда мы идем? — спросил гератский властитель.
После некоторого замешательства из толпы выступил рослый статный сарбаз с изрядной сединой в усах и бороде. Конец чалмы у него был подоткнут; это означало, что он посвятил себя достижению определенной цели. За спиной, на потертом ремне, висел джезаиль; приклад и ложе его были отполированы руками не одного поколения.
— Меня зовут Ахмад. Ты немного опоздал, сардар.
Аюб-хан с недоумением взглянул на него.
— Да, совсем немного опоздал к обеду. Мы ели мясо, жаренное с рисом и луком. Ну, это наше блюдо — курма. Теперь у нас прибавится сил, чтобы бить врагов. Вот так, сардар. Поели курмы — побили инглизи!
Этот неожиданный поворот вызвал смех среди солдат. Улыбнулся и правитель.
— У тебя как-то все просто получается: поели и побили. Инглизи — сильный и опасный враг.
Ахмад нахмурился.
— К несчастью, сардар, мне, хотаку, это слишком хорошо известно. Земли нашего племени далеко отсюда — в Сулеймановых горах. Инглизи давно точат на них зубы и уже часть захватили. Много моих родных и близких сложили головы в борьбе с ними. Я — гази, дал обет сражаться против них, пока дышу!
По двору пронесся одобрительный шум.
— Ну ладно, Ахмад и все, собравшиеся здесь! — возвысил голос Аюб-хан. — Вы, конечно, уже догадались, куда мы идем? На Кандагар!
В ответ послышались воинственные возгласы.
— Там нельзя рассчитывать на плов: его в драке не раздают! — властитель Герата многозначительно взглянул на Мурада Алима. — И встретит нас не только куриная армия вали, придется иметь дело с очень сильным войском инглизи. Чтобы добиться успеха, надо как следует подготовиться. Правильно я говорю?
— Верно, сардар!
— Справедливо!
— Тогда я приказываю корнейлю Мураду Алиму найти время — даже за счет вашего отдыха и сна, — чтобы сарбазы и артиллеристы стреляли как можно более метко, а конные атаки соваров были неотразимыми.
Находчивость хотака Ахмада не осталась незамеченной: правитель назначил его начальником всех гази.
Тяжелее всех доставалось командиру авангарда Файз Мухаммаду. Он часто поворачивал коня и мчался назад: надо было строго соблюдать порядок движения — на пятки наступали основные силы армии. Тезинец похудел, осунулся, под глазами появились мешки, часто кололо сердце, но его не покидало чувство радостного возбуждения: вместе со своим народом, взявшим оружие, он шел бить ненавистного, жестокого врага. И хорошо, что в этот момент рядом с ним был его сын, его радость и гордость!
…Испокон веков, кто бы ни шел по старинной дороге из Герата в Кандагар — торговые караваны или полчища завоевателей, — все они, дойдя до Сабзавара, останавливались здесь на отдых. Огромная овальная котловина, окаймленная видневшимися на горизонте цепями гор, вся была изрезана густой сетью арыков и подземных каналов — кяризов. Поля сменялись садами, одно селение сливалось с другим, и каравану приходилось совершать целый дневной переход, чтобы пересечь этот благодатный оазис.
Его центром был прятавшийся в тени деревьев город Сабзавар; это название так и переводилось — «Средоточие зелени». В древности он именовался Исфизар, славился ремеслами и торговлей, но во время походов Тимура его жители восстали против жестоких завоевателей и убили наместника. Тогда Тимур приказал истребить всех горожан. Две тысячи человек, обвиненных в подстрекательстве, были связаны и положены друг на друга. Каждый новый ряд пересыпался землей и битым кирпичом. Чтобы заглушить стоны, рты обреченных забивали песком. Так из людей воздвигли башню смерти. Город разрушили до основания, и он, возродившись уже после смерти тирана, никогда не смог достигнуть былого богатства и славы.
Страшную память оставляли всегда после себя завоеватели в стране, лежавшей на перекрестке путей из Индии в Туркестан. Страшна была и ненависть народа к ним. И к ордам Чингисхана, затаптывавшим насмерть копытами коней сотни пленных, и к Тимуровым палачам, и к англичанам, сжигавшим невинных на карусели смерти…
После Сабзавара армия Аюб-хана еще целый день шла по дороге, пересекавшей тучные возделанные земли. Затем селения стали более редкими, а на третьи сутки, перевалив холмистый кряж Джидже, войско спустилось на пустынную равнину.
Июньское солнце палило немилосердно. Двигаться можно было только после заката либо в часы, предшествующие восходу. Аюб-хан предпочитал поднимать солдат сразу после полуночи. Пока убирали палатки и шатры, пока навьючивали груз на животных, по небу уже протягивались призрачные, мерцающие полосы; их называли Нури шаб, Свет ночи. Тропы становились заметными, и армия выступала в поход. Еще через час-полтора на востоке прорезалась тонкая полоска, сперва зеленовато-серая, затем она розовела, становилась алой и под конец золотистой, будто солнце откуда-то из неведомых далей посылало стрелы своих лучей на борьбу с тьмой. После восхода над степью продолжал веять ветерок, и лишь когда начинался дневной зной, колонны останавливались на привал, успев пройти привычный для караванов переход в шесть курухов, или восемнадцать-двадцать километров.
На восьмые сутки после выхода из Сабзавара, в четверг 16 раджаба, или 24 июня, достигли Фараха. Это произошло в канун дня праздничной молитвы — джума-намаза. Окруженный широким и глубоким рвом, обнесенный валом и стеной с башнями, город мог бы играть роль сильной крепости, если бы ров не был почти засыпан, степа не лежала наполовину в развалинах. Гафур дивился домам с куполообразными крышами и финиковым пальмам: фарахцы разводили их за красоту кроны, ибо плоды здесь не вызревали.
Он заметил, что отец, отсутствовавший несколько часов, возвратился озабоченный.
— Что-нибудь случилось, сардар? — С тех пор как отец получил чин корнейля, Гафур обращался к нему только так.
— Пока ничего, мой совар, — отшутился Файз Мухаммад. — Идем громить инглизи.
Однако на душе у него было неспокойно. Корнейль вернулся из селения Шамолгах, лежавшего в шести-семи курухах вверх по реке Фарахруд; там временно устроил свою резиденцию Аюб-хан. На совете у гератского правителя обсуждался важнейший вопрос: что делать дальше? Фарах был рубежом, покинув который, нельзя было не раскрыть своих намерений. Поэтому надо было срочно решать, куда идти: на юго-запад, к Систану, или на восток, к Кандагару. Третьего пути не было, разве что назад, в Герат.
На просторной веранде, затененной разросшимися виноградными лозами, правитель обсуждал с военачальниками порядок наступления. Каждый из них — Файз Мухаммад, Аминулла, Мурад Алим — доложил о состоянии находящейся под его началом части армии, и каждый из них практически говорил одно и то же: люди рвутся в бой. Сарбазы, совары, артиллеристы… Афганцы, таджики, хазарейцы, кизылбаши, джемшиды, фирузкухи… Забыты вражда и соперничество между палтанами — гератскими, кабульскими, мейменинскими, никого не надо подгонять, все идут вперед!
— Что ж. Тогда с помощью Аллаха — на Кандагар!
Отпустив толпившихся вокруг него вельмож, Аюб-хан еще долго сидел с корнейлями, тщательно продумывая роль и место их солдат в предстоящей битве.
…От Фараха дорога круто свернула на восток и, миновав гряду, прорезанную причудливым ущельем, вывела в суровую Баквийскую пустыню. То и дело путь пересекали ложа высохших рек, и ехавший вместе с Файз Мухаммадом проводник, уроженец Фараха, рассказывал, что в пору весенних ливневых дождей, выпадающих в окрестных горах, эти русла переполняются водой. Горе путникам, застигнутым наводнением. Не один караван погиб тут, и некоторые впадины носили имена тех, кого в пустыне захлестнули нежданно хлынувшие с гор потоки, несущие огромное количество камней и грязи.
Труднее всего было передвигаться, когда попадались участки, усыпанные острым, почерневшим на солнце щебнем. Впрочем, ненамного легче становилось, когда армия выходила к однообразным увалам. Казалось, какая-то неслыханная буря всколыхнула землю, и она застыла бесконечными волнами. Лошади и верблюды выбивались из сил, преодолевая увал за увалом.
В долине мелеющей и иногда даже пересыхающей к осени реки Хашруд Аюб-хан расположил армию на дневной отдых. От Фараха уже сделали семь переходов, вьючные и верховые животные устали, и их сразу отогнали к видневшимся неподалеку горам, где еще сохранились пастбища.
После дневки двинулись дальше. За Хашрудом все чаще начали встречаться цепи холмов, а возле селения Биабанак гератцы наконец распрощались с пустыней. На четвертый день после стоянки у Хашруда подошли к рабату, недавно разрушенному войсками кандагарского вали.
По мере приближения к позициям неприятеля Аюб-хан требовал от Файз Мухаммада все большей осторожности. Впрочем, тезинца не надо было предупреждать об этом. Он достаточно представлял себе опасность внезапного удара войск инглизи с их мощными орудиями.
— Ну, Гафур, потешился, и хватит, а теперь прояви скромность и уступи место более опытным, — с усмешкой сказал он сыну, и тот, побледнев от досады, был вынужден повернуть своего вороного в последние ряды авангарда.
Файз Мухаммад пустил коня рысью и на гребне холмистой гряды догнал головной дозор. Перед ним открылось странное зрелище. Навстречу катилась нестройная толпа вооруженных людей в разношерстных мундирах. Позади двигались лошади. Большинство их были оседланы, а поверх седел виднелись наспех навьюченные рогожные кули, чувалы, английские мешки, кое-как завязанные узлы. Завидев на холме дозорных, люди схватились было за оружие. Файз Мухаммад властным жестом остановил их. Это были взбунтовавшиеся сарбазы кандагарского вали. Разгромив военные склады, они теперь направлялись к гератскому правителю, чтобы передать ему трофеи. Прихватив старшего офицера кандагарского воинства, корнейль поскакал к Аюб-хану доложить о случившемся.
17 июля, в тот день, когда генерал Бэрроуз отвел свою бригаду от Гильменда к Майванду и Кушки-Нахуду, передовые разъезды гератских войск подошли к Гиришку.
Бэрроуз и Сент-Джон уже знали о передвижениях противника, но подобно своим соотечественникам в Южном Афганистане, все еще продолжали лелеять надежду на благополучный исход дела.
«Неизвестно, предполагает ли Аюб сражаться или торопится в Газни. Кандагарское государство совершенно спокойно», — такая телеграмма пошла из Индии в британскую столицу и была напечатана на страницах «Таймс».
Она была отправлена 25 июля 1880 года.
А через три дня…
28 июля командир Кандагарской дивизии генерал Примроуз телеграфировал бомбейскому губернатору: «Страшный разгром. Войска генерала Бэрроуза уничтожены. Мы укрываемся в крепости. По телеграфу приказал генералу Файру собрать какие только можно войска и двигаться к Кандагару».
В тот же день, в час пополудни, статс-секретарь по делам Индии маркиз Гартингтон огласил в палате общин срочную депешу: «Боевые силы генерала Бэрроуза истреблены. Гарнизон Кандагара отступает в цитадель. Всем свободным войскам в Бомбее предписано направиться к Кандагару. Из Симлы также приказано отправить туда бригаду».
…Милях в тридцати к востоку от Гильменда Гератскую дорогу пересекает довольно многоводная Кушки-Нахуд. Здесь, близ маленького укрепления, и расположил бригаду Бэрроуз. Позиция казалась ему выгодной. Вода — в изобилии, а некоторый недостаток продовольствия и топлива с лихвой восполнялся возможностью подвоза из тыла. Главное же, она позволяла не только прикрывать лежащий в каких-нибудь сорока милях Кандагар, но и контролировать подходы к расположенному менее чем в десяти милях от английского лагеря Майвандскому перевалу.
Двигаясь через селение Майванд, а затем долиной Аргандаба, Аюб-хан мог обойти Кандагар и выйти прямо к Калати-Гильзаи, а значит, и к центру антианглийских выступлений — Газни. К тому самому Газни, который британские власти стремились изолировать любой ценой. В кармане мундира Бэрроуза лежала копия распоряжения главнокомандующего англо-индийской армией сэра Фредерика Гайнса командиру Кандагарской дивизии генералу Примроузу от 22 июля: «Вы должны понять, что располагаете полной свободой атаковать Аюба, если находите себя достаточно сильным для этого. Правительство считает весьма важным в политическом отношении рассеять армию Аюба и всеми средствами помешать ее приходу к Газни».
Вся сложность положения Бэрроуза состояла в том, что он не располагал достоверными сведениями о противнике. Его политический офицер, полковник Сент-Джон, ведавший сбором таких сведений, никак не мог наладить надежную разведку.
— За деньги здесь, как, впрочем, и везде, можно получить все! — говаривал сэр Оливер. — Дело только в сумме…
Однако проходили дни, а из поступавших к нему противоречивых донесений не удавалось составить истинную картину.
Лишь 26 июля Бэрроуз сумел установить местоположение Аюб-хана и его армии. Он узнал, что гератская конница («тысячи две всадников») достигла Майванда и что за ней следует остальное войско. Хорошо сказано: «остальное войско»! Сколько его? И куда оно в действительности идет?
Посовещавшись с Сент-Джоном, генерал приказал начать подготовку к выступлению. Измотанная трехнедельным маневрированием между Кандагаром и Гильмендом в условиях изнуряющей жары, бригада в очередной раз свернула свой лагерь и поутру во вторник 27 июля, или 19 шаабана, двинулась навстречу судьбе. К Майванду.
Впереди шла кавалерия, затем конная артиллерийская батарея, за ней пехота, потом гладкоствольные пушки вали, отбитые у его восставших солдат и наспех починенные. Далее следовали саперы и тыловой обоз. Бригадная колонна медленно ползла через слегка всхолмленную местность. Почти каждую милю на пути попадались небольшие селения, окруженные полями.
В воздухе висела мглистая дымка, обычная для Южного Афганистана в знойные летние дни, и генерал Бэрроуз со своим штабом увидели очертания домов Майванда, лишь оказавшись совсем близко от него. Вдруг слева они заметили большой отряд афганской конницы. А буквально минуту спустя к англо-индийской колонне подскакали две артиллерийские упряжки Аюб-хана; развернувшись, как на параде, пушки открыли огонь.
Англо-индийская артиллерия на марше.
Порыв ветра развеял мглу, и перед генералом открылась широкая черно-белая линия: это были гератские сарбазы. До них вряд ли было больше мили. В своих темных безрукавках и светлых рубахах они лежали в высохших арыках и ручьях, выдвинув перед собой ружья. На левом фланге виднелась группа пехотинцев и всадников в белоснежных одеждах — отряд гази. Позади них зловещими темными массами угадывалась афганская кавалерия. Вскинув бинокли, английские офицеры смогли установить, что особенно оживленно было близ группы высоких тополей на окраине Майванда: по всей видимости, именно там находился Аюб-хан.
В это время раздался тревожный возглас Сент-Джона:
— Посмотрите, посмотрите!..
По тропинкам, а кое-где и прямиком через поля и сады к позициям Аюб-хана бежали крестьяне — с ружьями, саблями, кинжалами, копьями, а то и просто с дубинами. Они занимали места рядом с гератцами.
Бэрроуз развернул войска в боевые порядки. Загрохотали двенадцать английских пушек. Гератские орудия, в свою очередь, открыли огонь, и выяснилось, что их не меньше тридцати. Впрочем, артиллерийская канонада производила скорее шумовой, чем реальный эффект. Британские пушкари, нервничая, никак не могли наладить прицельную стрельбу. Афганские гранаты были плохого качества и разрывались далеко не все.
Так продолжалось до часу дня. Затем от майвандских тополей отделились два всадника и направились в сторону английских позиций. Они остановились шагах в пятистах. Оба широкоплечие, чем-то похожие друг на друга (в бинокль были великолепно видны их орлиные носы и припушенные сединой бороды и усы), они отличались разве тем, что один, на вороной лошади, был в одеянии гази, а другой, на сером коне, носил зеленую куртку и обычные серые шаровары. Всадники внимательно осмотрели расположение англичан, и по уважительным жестам гази можно было заключить, что его спутник играет главенствующую роль. По ним немедленно открыли ожесточенный ружейный огонь. Британские офицеры вызвали отборных стрелков, а горячий подполковник Гэлбрайт, отстаивая честь своего полка, даже обещал пятьдесят рупий за удачный выстрел.
Но всадники стояли как ни в чем не бывало. Их можно было принять за скульптурную группу, слегка подернутую дымкой марева. Проведя рекогносцировку, они ускакали назад.
Почти сразу вслед за тем правый фланг Бэрроуза подвергся энергичному орудийному обстрелу, а пехота Аюб-хана рассыпалась в цепь и, несмотря на град пуль, атаковала левый фланг англо-индийского войска, где находились «стрелки Джэкоба» и гренадеры 1-го бомбейского туземного полка.
— Проклятье! — воскликнул Бэрроуз. — Вот вам и дикая орда, о которой твердили ваши хваленые информаторы, — чуть ли не с ненавистью бросил он Сент-Джону. — Кто обучил этих афганцев европейской тактике?
Не на шутку встревоженный невыгодным для него началом боя, генерал направил против афганцев полк синдской кавалерии. Стараясь отсечь народное ополчение от сил Аюб-хана, ловко орудуя своими длинными палашами, кавалеристы стали теснить крестьян и ремесленников кандагарской округи. Те отбивались дубинками и ножами.
«Синдцы» явно одерживали верх, когда на соседнем холме неожиданно появилась молодая девушка, закутанная в чатри. Сорвав с себя покрывало и взмахнув им над головой, она что-то громко крикнула и запела народную песню — ландый. И хотя сквозь грохот трудно было расслышать слова, ее самоотверженный поступок воодушевил кандагарцев. А вскоре им на помощь подоспели гератские сарбазы.
Сраженный пулей, упал с коня командир «синдцев» майор Рейнолдс, затем были убиты еще несколько офицеров, и вот уже «синдцы» начали отступать.
Бэрроуз предпринял еще одну попытку переломить ход сражения: он ввел в дело 3-й ее величества полк бомбейской легкой кавалерии, гордость англо-индийской армии. Поначалу ему, как и «синдцам», сопутствовал успех. Конная лавина захлестнула холм с поющей девушкой, но дальше продвинуться не смогла. Навстречу ей вынеслась конница Аюб-хана. Афганцы атаковали более решительно, и вскоре «бомбейцы», поспешно развернувшись, умчались в тыл.
Битва при Майванде.
Старания английского командования перехватить инициативу ни к чему не привели. Пехота по-настоящему в бой не вступила. Развитие событий прочно контролировал Аюб-хан.
Тем временем более эффективно стала действовать афганская артиллерия. Рядом с Бэрроузом свалился мертвым трубач. Под генералом и полковником Сент-Джоном убили лошадей. Тяжелое ранение получил командир конной батареи майор Блэквуд.
Обстановка накалялась. К трем часам кончились снаряды для гладкоствольных пушек, и артиллерийский огонь англичан ослабел. Аюб-хан понял, что наступил решительный момент и бросил в бой пехоту. Впереди шли гази, готовые погибнуть в сражении. Они нараспев читали ясин — суру Корана, которую произносят у ложа умирающего. Их вел в атаку возбужденный боем Ахмад. Он рвался в рукопашную схватку и держал свой джезаиль за ствол, как могучую палицу.
Вслед за гази на английские позиции ринулась вся афганская пехота. «Стрелки Джэкоба» и гренадеры встретили афганцев залпами. На какой-то миг они остановили атакующих. В этот момент на бугор выскочил уже знакомый англичанам всадник на сером коне и, прокричав что-то звонкое, увлек сарбазов навстречу свинцовой завесе. Огонь гренадеров и «стрелков Джэкоба» захлебнулся. Они в панике кинулись в тыл 66-го полка, но солдаты этого полка тоже оставили боевые позиции и начали отступать, разделившись на несколько групп. Одна из них забежала в огороженный сад и образовала каре вокруг полкового знамени, отчаянно отстреливаясь. Афганцы залегли у садовой стены и открыли огонь по оборонявшимся. От меткого выстрела на землю рухнул подполковник Гэлбрайт. Те из его подчиненных, кому удалось уцелеть — их было немного, — скрылись, бросив знамя, через пролом в стене.
Гази атаковали конную батарею, и орудийная прислуга едва успела занять оборону. Потом к пушкам наскоро прицепили передки и увезли их…
На склоне дня пыль и дым заволокли поле сражения. После захода солнца быстро стемнело. Попытки Бэрроуза и его помощников спасти положение ни к чему не привели. Началось отступление, вскоре превратившееся в беспорядочное бегство. И тут наступил черед кавалерии Аюб-хана. Совары настигали офицеров и солдат инглизи на протяжении нескольких миль, рубили редевшие кучки отстреливавшихся и отбивавшихся врагов. Им помогали крестьяне. Преследование продолжалось всю ночь и завершилось на следующее утро милях в восьми от кандагарских стен, у селения Коккаран, куда Примроуз, уже получивший сведения о майвандском побоище, выслал отряд генерала Брука, чтобы спасти остатки бригады.
Первыми в Кандагар еще 27 июля влетели на конях полковник Сент-Джон, Шер Али-хан и полковник Менваринг, сопровождаемые девятью офицерами. Они возглавляли отступление. Затем всю ночь до города добирались уцелевшие участники битвы.
Среди тех, кто спасся в тот страшный день, оказался и генерал Бэрроуз. Когда он, измотанный до предела, достиг Кандагара, его обступили штабные офицеры и корреспонденты. Бэрроуз долго смотрел на окруживших его людей ошалелым взором. Произнести он смог только одну фразу: «Это были шесть-семь часов то ли сражения, то ли несказанного ужаса». Сент-Джон категорически отказался беседовать с кем-либо из неофициальных лиц, даже со своим другом Сэндоном Лидсом, корреспондентом «Таймс».
Генерал Примроуз заперся со всеми войсками в кандагарской крепости, рассылая оттуда призывы о помощи.
…Пока гератская конница преследовала англо-индийское воинство, афганцы собирали убитых и раненых.
Аюб-хан стоял перед изрешеченным пулями телом Файз Мухаммада, вынесенным с поля боя на импровизированных носилках из джезаилей, и не скрывал слез. Корнейль остался невредимым после рискованной рекогносцировки, проведенной им с хотаком Ахмадом под огнем чуть ли не всей пехоты Бэрроуза, но затем, встретив грудью залп нескольких десятков ружей гренадеров и «стрелков Джэкоба», пал вместе с Базом бездыханным.
К телу отца приник Гафур. Мурад Алим, глаза которого тоже набухли от слез, с трудом оторвал от него мальчика.
Подошли несколько гази с какими-то свертками в руках. Среди них выделялся огромный Ахмад. Он прихрамывал, рубаха была разорвана и покрыта кровавыми пятнами. Увидев изуродованное тело Файз Мухаммада, хотак заскрипел зубами и прошептал:
— Знал бы ты, корнейль, как мы за тебя отомстили! Жаль, что ты погиб… Мы бы вместе дошли до Сулеймановых гор!
По его знаку к ногам Аюб-хана гази сложили принесенные свертки. Сардар пошевелил их концом сапога:
— Что это?
Придворные подняли их и развернули. Это были знамена инглизи. На одном из них дракон с громадным хвостом разинул пасть, на другом была изображена белая лошадь.
— Захваченные знамена… — задумчиво сказал Аюб-хан. — Это хорошо. Мы достойно похороним нашего храброго корнейля. Надо, чтобы народ навеки сохранил память о герое!
Он распорядился, чтобы тезинца похоронили на высоком холме у Майванда, завернув не только в чалму, как это положено для умерших в дороге мусульман, но и в священную зеленую ткань.
— А в ноги ему бросьте знамена инглизи. Файз Мухаммад много сделал для нашей победы, а сегодня отдал за нее жизнь! Если сын героя захочет, мы возьмем его в нашу семью, — добавил гератский властитель, глядя на Гафура. — Простимся с погибшими и подумаем, что делать дальше. Дорогу себе мы проложили — и на Кандагар и на Газни!..
Родственники, земляки, соратники прощались с погибшими; их оказалось немало и среди подоспевших на помощь гератцам местных жителей: ведь многие из них почти с голыми руками шли на британские ружья и пушки.
— Что это за девушка так вовремя запела ландый? — спросил Аюб-хан у одного из своих приближенных.
— Это Малалай, дочь кузнеца из Кушки-Нахуда, — ответил тот. — Смелая! Мы хороним ее рядом с мужчинами.
— До меня донеслась ее песня, но слов нельзя было разобрать, — задумчиво сказал гератский правитель.
— А я расслышал и запомнил надолго:
Коль надо край свой защищать, Пожертвовать собой могу, Афганцу трусом не бывать, И не уступит он врагу…— Да, гордые слова! — подтвердил Аюб-хан.
Муллы затянули заунывную погребальную молитву, и вскоре на поле афганской славы выросли земляные холмики, выложенные по обычаю камнями.
Затем, уже после общей благодарственной молитвы Аллаху, ниспославшему победу, Аюб-хан в одном из майвандских домов собрал военачальников, старшин и вождей племен, чтобы обсудить планы на будущее. На ковре совета расселись участники сражения. Они горячо переживали перипетии боя, перебивали друг друга, и правителю стоило немалых усилий навести порядок.
— Сардары! Было славное дело, им и наши дети будут гордиться. Но что было, то прошло. Борьба с инглизи еще не кончилась, а незавершенное дело — что конь о трех подковах. Пока враги не опомнились, нужно идти на Калати-Гильзаи, а оттуда на Газни. Там мулла Мушки Алам и гильзайские воины ждут нас. С нами будет вся страна. Мы разобьем врага, запрем в нескольких крупных городах, а затем истребим.
Поднялся корнейль Аминулла.
— Я полагаю, что надо двигаться на Кандагар. Он рядом, и тут нам помогут жители. До Калати-Гильзаи далеко, до Газни еще дальше. Неизвестно, с чем мы там встретимся. «Кто неосторожно ходит, тот падает!» — говорят у нас. Войска устали. Надо пополнить запасы, отдохнуть. Это можно сделать во время осады Кандагара. Или когда возьмем его. Вот он, близко, — повторил Аминулла.
В комнате снова поднялся шум. Старшины племен единодушно поддержали корнейля. За предложение Аюб-хана высказался лишь Мурад Алим, да и то, тяжело переживая смерть друга, он смог промолвить только несколько слов.
Правитель понимал, что вожди не хотят уходить далеко от мест расселения своих племен, что они рассчитывают захватить богатую добычу в Кандагаре, основной базе инглизи в Южном Афганистане. Он опасался, что осада или штурм города, к которому теперь наверняка спешат отовсюду войска противника, — задача крайне сложная. Но он слишком зависел от племенного ополчения. Без него, с одними лишь измотанными гератскими солдатами, было бы крайне рискованно направляться на соединение с Мушки Аламом, оставив у себя в тылу сильный вражеский гарнизон…
И Аюб-хан пошел на хорошо укрепленный Кандагар. Это было ошибкой…
Глава 26 ЭХО РАЗГРОМА
«Телеграф, конечно, отличное изобретение. Но на него поневоле начинаешь смотреть по-иному, когда он приносит дурные вести. Уже казалось, что даже в проклятом богом Афганистане все налаживается, и тут на тебе! Теперь об этом Майванде, накануне еще никому не ведомом, неделями будут трубить все газеты».
Такие мысли угнетали секретаря по иностранным делам англо-индийского правительства Альфреда Лайелла, когда его заместитель Мортимер Дюранд принес печальную телеграмму о событиях под Кандагаром. Они сидели, размышляя над происшедшим, в кабинете на втором этаже «Иннес Оун», дома Лайелла в Симле. Распахнутое итальянское окно словно обрамляло давно знакомую живописную картину: высоченные сосны, сквозь которые просматривалась нежно-голубая долина, а за ней зеленые склоны Тара Дэви; над всем этим — безоблачное небо и застывший там орел.
В отличие от своего шефа Дюранд не был поэтом и потому не страдал избытком воображения.
— В конце концов, сэр, — сказал он мягко, — хотя бригаду Бэрроуза начисто разбили, нас прежде всего должны волновать собственно английские потери, ибо в Индии народу не счесть. А там, у Майванда, был лишь один английский полк. Англичан убито в два с половиной раза меньше, чем индийцев, а ранено в три раза меньше.
— Нельзя не отдать должное вашему трогательному стремлению успокоить меня, Мортимер. Но мы не вправе забывать и о многих сотнях погибших в наших индийских частях. Впрочем, не будем играть в прятки, Мортимер! Вы, может быть, удивитесь, услыхав, что я предпочел бы узнать о более крупных потерях, но при условии, что мы одержали верх…
— Естественно, сэр.
— Да-да, Мортимер! — Лайелл в возбуждении встал из-за стола и подошел к окну. — Дело не только в том, что британские войска потерпели тяжелое поражение. Такой бесспорной победы над нами в открытом поле не одерживал ни один вождь во всех долгих войнах в Индии… Что и говорить, этот сокрушительный разгром снова приводит в полнейший беспорядок нашу афганскую политику. Его последствия нелегко предвидеть, но он, несомненно, породит дополнительные трудности, которые придется разрубать мечом. Новые боевые действия с сомнительным исходом…
— Я с вами совершенно согласен, сэр. Бесспорно, уничтожение англо-индийских войск под Майвандом и назревающая угроза Кандагару подрывают военную репутацию Британской империи. Уже давно распространено мнение, и не только среди туземцев Индии, что Афганистан — несчастливая страна для нашего оружия и что мы не гарантированы от дальнейших неудач, пока остаемся за теми горными проходами…
Ворвавшийся ветерок пошевелил тяжелые портьеры, внес в комнату острый аромат и свежесть горного воздуха. Лайелл поежился — он был склонен к простудам, отвернулся от окна и, погладив усы, покосился на собеседника:
— Не намекаете ли вы, мой друг, на то, что я разделял точку зрения лорда Лоуренса, возражавшего против военных методов в отношениях с Кабулом? Не стану отрицать. Но я занял этот пост по предложению лорда Литтона и добросовестно выполнял его указания, хотя и не со всеми был согласен.
— Мне кажется, сэр, что и он в конце концов усомнился в целесообразности вторжения в Афганистан, но самолюбие заставляло его отступать лишь потихоньку.
— Не думаю. На него серьезно действовали только серьезные провалы. Восстание в Кабуле и гибель Каваньяри… Всеобщее возмущение в Афганистане… И Майванд на него бы подействовал. Но эмоциональную натуру лорда Литтона через какое-то время снова увлекали яркие, много сулящие, хотя и не всегда обоснованные проекты, и все шло по-старому. А потом не надо забывать, что в победоносных походах и в расширении сферы нашего господства был крайне заинтересован Лондон. Это и определило ход событий… Кстати, вот еще одно немаловажное сообщение. Ознакомьтесь, будьте добры, — и Лайелл протянул Дюранду только что сделанный для него перевод пренеприятной заметки, напечатанной в турецкой газете «Вакыт».
Там рассказывалось о тайной беседе, которую имели с султаном шесть представителей мусульман. Они заявили, «что неоднократные поражения английской армии в Афганистане произвели на мусульманский мир глубокое впечатление и возбудили надежду на скорое освобождение».
Нет, определенно следует удовлетвориться достигнутым и как можно быстрее, не останавливаясь ни перед чем, закрыть «афганский вопрос». Иначе повторятся в еще большем масштабе трагические события Первой войны. Кто-то сказал: «Афганистан — что улей с дикими пчелами. Пчел много, а меду мало!» Кто бы он ни был — это мудрец…
Секретарь по иностранным делам сел за письменный стол и принял деловой тон:
— Мы с вами заболтались, а время не терпит. Прошу вас набросать депешу в Кабул, чтобы там окончательно решили все дела с Абдуррахман-ханом и подготовились к скорейшему выводу наших войск. Я покажу ее вице-королю. Пусть хоть здесь наметится положительный результат, пока пресса не расшумелась о Майванде.
Лайелл довольно точно предвидел развитие событий. Реакция во всем мире на случившееся в Южном Афганистане это подтвердила.
Консервативная «Дейли Мейл» использовала майвандский разгром для нападок на новое правительство. Она усмотрела причины поражения в «робости либерального кабинета», отступающего из Афганистана. Газета «Стандард» меланхолически утешала читателей тем, что «на больших и гордых народах лежит грустная обязанность быть готовыми к внезапным катастрофам и спокойно их переносить». Уравновешенная «Таймс», кичившаяся своей «внепартийностью», призывала прежде всего «восстановить национальную военную честь» и лишь затем заняться урегулированием политических проблем.
«Второй раз за полтора года, — писал лондонский журнал „Сатердей Ревью“, — английские войска потерпели такое поражение, какому никогда еще не подвергались со времени уничтожения армии генерала Элфинстона на обратном пути из Кабула в 1841 году». Кандагарский разгром, можно было прочесть в журнале, напоминает «изандульскую катастрофу», которую англичане потерпели в войне 1879 года с зулусами в Южной Африке, «с той лишь разницей, что его последствия отзовутся чувствительнее и потребуют от Англии больших жертв для восстановления любой ценой ее глубоко подорванного военного престижа». Автор делал печальный вывод, что правительству, видимо, придется «очистить Кандагар».
Неприятные вещи приходилось читать британским властям — на Островах и в Индии, что и говорить! Впрочем, пока речь шла об откликах в Англии и вообще на Западе, это не вызывало особого беспокойства у Лайелла и его коллег. Но вот та же «Стандард» получила сообщение с Востока, из Бомбея… Оно гласило, что известие об уничтожении в Афганистане английской бригады породило «самое сильное возбуждение туземного населения во всей Ост-Индии». На местных базарах распространялись «всевозможные ужасные слухи». «Коротенькая телеграмма, содержащая описание сокрушительного поражения или, как в ней сказано, уничтожения британских войск, произвела потрясение во всей Индии, — продолжала газета. — В Газни дела уже осложняются, и несомненно, что майвандская неудача окажет огромное влияние на положение в Кабуле».
Вот чего следовало опасаться: падение военно-политического престижа Британской империи неминуемо усиливало надежды народов ее колониальных владений выйти из-под контроля англичан.
* * *
Ни Стюарт, ни Гриффин не были в восторге от полученного из Симлы предписания вице-короля срочно договориться с Абдуррахман-ханом о передаче ему власти в Кабуле. Оба они были крайне заинтересованы в том, чтобы поскорее выбраться из этой мышеловки, но генерал считал унизительным для авторитета Британской империи, чтобы ее представитель отправился на поклон к наглецу, предлагая ему королевство, а политическому агенту в Северном Афганистане (именно он должен был явиться этим представителем) отнюдь не улыбалась небезопасная поездка по афганским землям. Кроме того, Гриффин заключил пари с Мак-Грегором, поставив дорогой пенджабский кинжал против турецкого ятагана, что ему все же удастся заставить Абдуррахман-хана прибыть в Кабул, где и состоится их первая встреча.
Однако злосчастный Майванд спутал все расчеты. Затяжка с утверждением на престоле избранного англичанами кандидата была чревата опасными последствиями. Поэтому Гриффин решил не придавать значения проблемам престижа и воспользовался предложением Абдуррахман-хана о встрече в селении Зимма, расположенном к северу от столицы, на дороге, ведущей в Чарикар. Политического агента устраивало, что оно находилось всего в 16 милях от Кабула, а от британских укреплений в Шерпуре еще ближе — в 12 милях. Еще больше его устраивало, что между Шерпуром и Зиммой расположилась бригада генерала Гофа. И, наконец, совсем уж в хорошее расположение духа Гриффин пришел, когда командующий Северо-Афганским полевым отрядом буркнул:
— Все равно вы его на аркане сюда не притащите, так хоть произведите должное впечатление!
В устах генерала Стюарта это означало: «Возьмите побольше войск».
Но когда британский представитель прибыл в назначенное место, Абдуррахман-хана там не оказалось. Он обосновался несколько дальше по той же чарикарской дороге — в селении Ак-Сарай, широко оповестив об этом вождей племен, маликов и старшин.
Гриффин ничего не понимал. Что привлекло в Ак-Сарай потомка афганских правителей? Там нет ни крупного постоялого двора, ни дома, заслуживающего упоминания. Зачем же он забрался туда, да еще извещает всех об этом?
А дело было в следующем. Абдуррахман-хан хорошо знал историю своей страны — недаром он подготовил для Кауфмана рукопись о прошлом Афганистана — и стремился использовать ее в собственных интересах.
…В 1504 году, в месяце асад, когда солнце находилось под знаком Льва, в Ак-Сарае, готовясь овладеть Кабулом, разбил лагерь тимурид Бабур, будущий основатель огромной — от Гиндукуша до Бенгалии — империи Великих Моголов. Талантливый государственный деятель и полководец, дипломат, поэт и мыслитель, Бабур был одним из тех немногих правителей, кто не прибегал к кровавым мерам для укрепления власти и расширения своих владений. Вот почему он снискал добрую память в народе, а его гробница в Кабуле стала глубоко чтимой святыней.
Абдуррахман-хан стремился использовать народные представления о великом предшественнике и представить себя как бы преемником Бабура. То была политика дальнего прицела, рассчитанная не столько на англичан, сколько на его будущих подданных. Именно поэтому, в том же месяце асад, под тем же знаком Льва и из того же Ак-Сарая сардар решил направиться в Кабул. Именно поэтому Ак-Сарай стал местом первой встречи вступающего в права эмира и англичан.
Вершина небольшого холма была увенчана шатром, принадлежавшим бывшему правителю — Якуб-хану. Здесь намечалось проводить дурбары. В 250–300 шагах отсюда поставили шатер поменьше — для Абдуррахман-хана. Он приехал 30 июля в сопровождении многочисленной свиты («Как быстро придворные плодятся! — размышлял афганец. — Я еще не успел стать эмиром, а уже вынужден кормить несколько десятков дармоедов».) Его конвой составляли двести пехотинцев, вооруженных саблями и ружьями самых различных систем: английскими — Снайдера и Ли-Мартини, русскими — Бердана, афганскими джезаилями, но главным образом французскими — Шаспо. Была джума, пятница, — праздничный день мусульман, и внук Дост Мухаммад-хана увидел в этом счастливое предзнаменование.
На следующий день в семь часов утра прибыл британский политический агент. Впереди следовали эскадрон 9-го английского уланского полка и эскадрон 3-го пенджабского кавалерийского полка. Сочетание сине-голубых с алой отделкой мундиров с чистым, безоблачным небом и серо-зелеными красками холмов с бликами июльского солнца на их склонах создавало почти идиллическую картину. Далее ехал Гриффин со своими помощниками. Колонну замыкал эскадрон 3-го бенгальского кавалерийского полка, или «всадники Скиннера».
Все было торжественно и чинно. Политический агент спешился и послал двух офицеров доложить эмиру о своем прибытии.
Вскоре из маленького шатра вышел худой и длинный афганец, сразу же раскрывший зонт от солнца. За ним появился Абдуррахман-хан, кряжистый, бородатый, с круглым лицом, слегка тронутым оспинами. На нем были белый китель, расшитый золотыми галунами, и синие брюки, заправленные в высокие сапоги. На голове — отделанная мехом шапка, на груди — две золотые цепочки, на перевязи через плечо — шашка в золоченых ножнах.
Улыбаясь, эмир и Гриффин двинулись навстречу друг другу, обменялись рукопожатием и направились к большому шатру. Абдуррахман-хан представил англичанину своих приближенных — вождей гильзайских племен, начальников округов Логара, Кохистана, Майдана и других. Ему было трудно говорить: из-за сильной простуды он почти полностью потерял голос; отсутствие нескольких нижних передних зубов еще более осложняло беседу. Когда Гриффин задал традиционный вопрос о здоровье, он усмехнулся и развел руками.
Эмир чрезвычайно оживился, когда политический агент, знакомя его со своим окружением, назвал Мухаммада Сарвара, мусульманина из Северной Индии, помощника по особым поручениям. Абдуррахман-хан так и впился глазами в Сарвара, тюрбан которого был надвинут на самые брови, а услышав из его уст, после поклона, обычное «салам алейкум», прошептал:
— О, дервиш, мы тебя узнали! Снова увиделись… В третий раз!
Чернобровый, в легком шелковом халате, Мухаммад Сарвар опять учтиво поклонился, как бы подтверждая сказанное, и произнес:
— Очень рад, что там, за рекой, сардар не пренебрег словами жалкого раба, что он милостиво отнесся к нему в Рустаке — и стал повелителем Кабула…
— Ты нам нравишься, каландар! Если захочешь перейти на службу к эмиру, не пожалеешь!
Недавний дервиш и купец обменялся взглядом с англичанином, но промолчал и поклонился в третий раз.
Церемония знакомств наконец завершилась, и в шатре остались Гриффин, капитан Коллинз, Мухаммад Сарвар, Абдуррахман-хан, его дядя Юсуф-хан — младший сын Дост Мухаммад-хана и записывавший беседу мирза. В шатре все было устроено как в богатом афганском доме: пол устлали циновками, на них положили паласы, затем кошму, а поверх постелили ковры, на которые все и уселись.
— Итак, ваше высочество, когда вы намерены почтить столицу своим приездом? — сразу спросил Гриффин.
— Мы себя еще не совсем хорошо чувствуем. Хотелось бы встретиться со своими подданными, оправившись от болезней, — уклонился от прямого ответа эмир.
Политический агент пожал плечами:
— Как угодно! Нам некуда торопиться. Но разве вашему высочеству не желательно поскорее навести порядок в своем доме?
— Слону снится одно, погонщику — другое, говорят у нас. На Востоке над нетерпеливым смеются: удивительно, как он терпел девять месяцев в чреве матери. Мы дожидались восстановления наших прав больше десяти лет. Теперь осталось немного…
— Но, может быть, кабульский престол не представляет для вас интереса? — обострил разговор Гриффин. — Британская империя имеет огромный опыт управления народами Индии. Как вы, вероятно, знаете, с такой задачей нам удается справляться и в Афганистане…
Глаза Абдуррахман-хана сузились, брови изогнулись, и не спеша, отделяя слово от слова, он тихо сказал:
— Будем откровенны… Мы очень хорошо понимаем, что, предлагая нам трон, вы лишь стремитесь взвалить на наши плечи бремя, непосильное теперь для вас самих…
Гриффина передернуло от подобной прямолинейности, но он сознавал, что вызвал ее сам, и потому промолчал.
— Безусловно, наши трудности велики, — продолжал, словно размышляя, Абдуррахман-хан. — Народ невежествен и фанатичен, но сейчас ничего не сделаешь, не посоветовавшись с ним. На престоле чувствуешь себя неважно без денег: солдатам надо платить, чиновников содержать. Мы надеемся на Аллаха, однако и ваше правительство должно оказать нам помощь. Самый лучший способ — заключить с нами договор…
— Что за договор? — удивился политический агент.
— Как с независимым правителем. Чтобы это видел наш народ. В договоре должны быть определены и границы государства, дарованного нам Аллахом.
«Не Аллахом, а нами», — подумал англичанин, а вслух произнес:
— Вопрос о договоре мы еще обсудим, а пока меня интересует, не пожелает ли ваше высочество, чтобы где-нибудь близ Кабула, скажем, в Гандамаке, после вывода нашей армии оставался англо-индийский отряд, который в случае необходимости мог бы оказать вам поддержку?
Абдуррахман-хан резко повернулся на ковре и поморщился: его мучила подагра. После паузы он покачал головой:
— Мы не думаем, чтобы из-за нас следовало задерживать вывод всех войск. Скажем прямо: при отсутствии солдат инглизи в Афганистане мы будем чувствовать себя более уверенно, чем если они будут здесь.
— Однако, ваше высочество… — начал Гриффин, по закончить не успел. Снаружи послышался шум, крики, а затем раздалось несколько выстрелов.
Эмир быстро поднялся и, чуть припадая на левую ногу, вышел из шатра. За ним поспешили остальные.
На берегу реки, протекавшей у подножия холма, собралась толпа. В центре ее ярким пятном выделялись несколько «всадников Скиннера»; их нарядные желтые мундиры были перепачканы и изодраны. С холма было отлично видно, как афганцы стаскивали кавалеристов с коней наземь. К месту инцидента со всех сторон сбегались английские, индийские, афганские солдаты, на ходу заряжая ружья, вытаскивая кинжалы и ножи.
Политический агент не успел оглянуться, как Абдуррахман-хан скатился вниз и оказался в самой гуще толпы. Он сыпал зуботычины направо и налево, даже не интересуясь, кому они достаются, и сопровождая их сочными ругательствами на всех известных ему языках — фарси, пушту, узбекском и еще каких-то; его свистящий шепот делал ругательства особенно выразительными.
За какие-нибудь несколько минут был восстановлен относительный порядок. Гриффин был потрясен тем, что Абдуррахман-хана послушались, абсолютно не понимая его, и английские уланы, первейшие забияки в британских войсках. Правда, вслед за этим умиротворением занялись и приехавшие с политическим агентом офицеры, но они только довершили успешно начатое правителем дело.
— Теперь вы, наверно, лучше понимаете, почему мы просим не оставлять в Афганистане ваших войск. Даже для нашей защиты… Их вырежут! У каждой семьи к ним кровавый счет, — с откровенной неприязнью сказал Абдуррахман-хан своему собеседнику, когда они вернулись в шатер. Он тяжело, прерывисто дышал и все время массировал больную ногу.
— Да что, собственно, произошло? — воскликнул Гриффин.
— Ничего интересного, — раздраженно ответил эмир. — Сидели афганские сарбазы у ручья и думали, что охраняют нас. А тут приехали эти желтопузые и говорят: «Убирайтесь! Мы будем купать коней!»
Он разволновался и повторил в ярости:
— В нашей стране нашим сарбазам говорят: «Убирайтесь!» Ну, желтопузых сбросили на землю и с удовольствием поколотили. Если бы этого не сделали, мы бы расстреляли афганцев, которые повели себя как покорные скоты!
Всю субботу 31 июля и воскресенье 1 августа продолжались переговоры. Гриффину так и не удалось уговорить Абдуррахман-хана оставить в Гандамаке британский гарнизон. Не смог он добиться и того, чтобы эмир прибыл в Кабул или хотя бы в лагерь генерала Гофа под столицей, где Стюарт намеревался устроить для него почетный дурбар. Он отказался посетить и самого политического агента в Ак-Сарае, ссылаясь на категорические возражения гильзайских вождей.
— Мы очень хотим быть вашим гостем, — с улыбкой шептал пока еще не обретший голос племянник Акбар-хана, — но мои невежественные придворные против этого. Боятся, что меня либо убьют, либо захватят в плен.
Правда, и эмиру не удалось добиться желанного договора. Ему был гарантирован лишь официальный меморандум, подтверждающий обещанное в письме Гриффина от 14 июня 1880 года: Кабул может поддерживать политические отношения только с Британской империей, а она поможет ему в случае неспровоцированного нападения. Кандагарская область — самостоятельное владение. Округа Пишин и Сиби отходят к Британской Индии. Ее власти не будут вмешиваться во внутренние дела Кабула и требовать присутствия там резидента-англичанина, ограничившись посылкой туда агента-мусульманина.
3 августа, когда Гриффин из Ак-Сарая, а Стюарт из лагеря генерала Гофа, где он находился во время переговоров с Абдуррахман-ханом, вернулись в Шерпур, они пришли к единому выводу: хотя беседы с эмиром мало что разъяснили, надо выводить войска.
— Мы явно недооценили дипломатические способности этого беглого сардара. Он просто смеется над нами, — ворчал командир Северо-Афганского полевого отряда.
— Конечно! — вторил ему политический агент в Северном Афганистане. — Абдуррахман-хан прекрасно понимает, что время работает на него, и торопиться следует нам, а не ему… Мне, однако, пока еще не ясны два обстоятельства, сэр. Во-первых, знал ли он к моему приезду о Майванде и как это прискорбное событие повлияло на его расчеты? А во-вторых, почему эмир, твердивший ранее, что без Кандагара нет Афганистана, в Ак-Сарае ни разу не упомянул ни о Кандагаре, ни о Герате?
Генерал потеребил усы и бросил на своего помощника иронический взгляд:
— Мне кажется, ваши загадки связаны одна с другой и не очень сложны. О Майванде он, безусловно, узнал ненамного позже, чем мы. У них свой телеграф, работающий не хуже нашего. Эмиру ясно, что Шер Али-хан не фигура, престижа не имеет и править не будет, что мы обязательно отомстим Аюб-хану и он тоже не соперник, что, наконец, нам самим в Кандагаре не удержаться… Зачем же Абдуррахман-хану тратить лишние слова? Особенно теперь, после Майванда. Он молчит и ждет, когда Кандагар, а потом и Герат упадут к его ногам, как спелые гранаты…
И вдруг он взорвался:
— А вообще-то подобные вопросы вам, ответственному за политические дела, должен задавать я! Быть может, с моей стороны не очень тактично привлекать ваше внимание к этой щекотливой теме, но в армии существует мнение, что многие неудачи порождены ненужным вмешательством политических офицеров. Хотя то, что им надо знать, они знают плохо…
Гриффин молчал, не зная, как реагировать на эту вспышку гнева.
— …Первая афганская война и роль, сыгранная в ней Макнотоном, хорошо это доказали. Ныне Каваньяри — наш славный герой, но я не удивлюсь, если узнаю, что в кабульской трагедии повинен и он. А Майванд? Я сильно подозреваю, что в этой катастрофе немало заслуг самонадеянного Сент-Джона…
— Но, сэр, — сумел наконец вставить слово политический агент, — вы изволили упомянуть весьма достойных, компетентных людей…
— Достойные, компетентные! Конечно, кто же спорит, — отмахнулся Стюарт. — Вот только события развертываются вовсе не так, как хотелось бы. Читайте, чего нам стоит кандагарское поражение: это самая последняя информация из штаба главнокомандующего в Индии.
«Как только известие о победе Аюб-хана под Майвандом, — читал Гриффин в протянутом ему листке, — стало распространяться от Кандагара к Белуджистану, а оттуда к границам Индии, оно вызвало на всей этой территории враждебные действия против нас среди народов, считавшихся вполне дружественными Англии: среди племен у Чамапа, на плато Тоба и в долине Пишина, горцев Мури и Какара, сипаев келатского хана и, наконец, патанов южнобелуджистапской границы. Волнения достигли города Суккура, где пришлось ввести в дело милицию; беспорядки произошли даже в самом Бомбее».
Командир Северо-Афганского полевого отряда, кажется, пожалел о своей вспышке:
— Поневоле приходишь к заключению, что еще один такой Майванд и придется распрощаться не только с Афганистаном, но и с Индией, — примирительно сказал он. — Теперь нам, военным, приходится исправлять ошибки политиков. Через пять дней Робертс двинется на юг, чтобы спасти то, что осталось в Кандагаре, в этом дурацком государстве вали. А спустя два-три дня и мы покинем западню, в какой оказались. Так, кажется, лорд Литтон охарактеризовал Кабул?
— Он его назвал мышеловкой, сэр.
— Ну — мышеловку… И уйдем независимо от того, захочет ли его хитрейшее высочество эмир Абдуррахман-хан пожелать нам счастливого пути.
8 августа 1880 года пришлось на воскресенье. По установившимся традициям добропорядочным англичанам не следовало заниматься в этот день, отведенный для благочестивой молитвы и отдыха, серьезными делами. И нарушить традиции могло лишь нечто чрезвычайное. Да ведь и произошло чрезвычайное событие: Майванд! Вот почему в воскресенье 8 августа британское правительство, стремясь как можно быстрее восстановить свой престиж, направило на Кандагар девятитысячный отряд. Им командовал Фредерик Робертс, произведенный в генерал-лейтенанты. Над армией Аюб-хана уже никто не смеялся. Против нее двинули отборные части — двенадцать пехотных и четыре кавалерийских полка, причем четверть всех солдат и офицеров составляли англичане. Отряд Робертса, по обыкновению, сопровождало втрое большее число всякой прислуги.
Здесь уж политическая служба постаралась. Ее руководители учли, что внешнее равнодушие Абдуррахман-хана на переговорах в Ак-Сарае вовсе не означало его отказа от воссоздания Афганского государства в границах, установленных Дост Мухаммад-ханом. Значит, эмир заинтересован в устранении Аюб-хана, пусть даже руками англичан. Тем более что они, англичане, не намерены засиживаться в Афганистане.
И Абдуррахман-хан откликнулся на обращение инглизи о содействии. Он помог обеспечить отряд Робертса продовольствием, фуражом и транспортом, а также разослал племенам гильзаев воззвания, предписывая не мешать его продвижению.
Прошло еще три дня, и, как намечалось, из Кабула в Индию выступили остальные британские войска. Их маршрут проходил через Гандамак и Джелалабад на Пешавар. Дорога знакомая: за сорок лет до того здесь полегла выбиравшаяся из афганской столицы под огнем патриотов 15-тысячная англо-индийская оккупационная армия. Можно было бы сказать: «полегла до последнего человека», если бы не уцелел ее единственный представитель — доктор Брайдон.
Ныне положение изменилось. О покидающих Кабул инглизи обещал позаботиться эмир. На всякий случай он удержал в своей свите вождей местных племен: от них можно было ожидать всяких неожиданностей по отношению к вражеским офицерам и солдатам. Гонцы Абдуррахман-хана отправились в окрестные земли, заклиная от его имени гильзаев и дуррани, момандов и махсудов, афридиев и шинвари, как и все иные племена и роды, не препятствовать отступлению этих несчастных неверных, возвращающихся в Индию замаливать свои грехи.
К эвакуации столицы британские военные власти готовились не менее тщательно, чем к овладению ею. Из остававшихся там семи полных полков и других частей, артиллерийских батарей и саперов были сформированы три бригады, сведенные в дивизию. С ними было 30 тысяч человек лагерной прислуги и всяких маркитантов, торговцев, перекупщиков, посредников, ростовщиков, маклеров, а также обоз из 10 тысяч вьючных животных.
Долгожданный уход инглизи из Кабула… Мог ли эмир пропустить этот волнующий момент?
Наступила среда 11 августа. Было раннее утро, и солнце еще лишь готовилось заглянуть в гигантскую горную чашу, на дне которой раскинулась столица Афганистана. Тем не менее все три бригады были построены на плацу: накануне вечером им зачитали приказ, который гласил, что эмир Абдуррахман-хан приедет с войсками для прощального свидания с генерал-лейтенантом сэром Дональдом Стюартом.
Эта весть дошла и до города. Несмотря на ранний час, оттуда — верхом и пешком — до Шерпурского укрепленного лагеря добрались несколько сот любопытных. Они растянулись вдоль дороги на четверть мили от западного вала лагеря англичан. У ворот были поставлены рядом две палатки.
В 6 часов 45 минут наблюдатели заметили большую конную группу, приближавшуюся к Шерпуру. Всадник, ехавший впереди, был в военной форме (такой же, как в Ак-Сарае, отметил Гриффин), но зонтик, который он держал над головой, придавал ему вполне мирный вид. Это был эмир. Он спустился с холмов и оказался на дороге, ведущей к лагерным воротам. За ним следовали четыреста вооруженных кавалеристов и пехотинцев.
Свидание носило неофициальный характер: никаких салютов, никаких почетных караулов. Вот эмир и генерал подъехали друг к другу, обменялись рукопожатием, спешились и, окруженные свитой, вошли в одну из палаток. Там они сели на приготовленные для них стулья; остальные участники церемонии стояли.
Время англичан в Кабуле истекало, но британский военачальник — пока еще на правах «хозяина» — учтиво осведомился о здоровье эмира.
— Не овладела ли усталость вашим высочеством? Ведь вам сегодня пришлось проделать большой путь.
Переводил Гриффин. Он был явно не в форме: переспрашивал, уточнял, искажал смысл персидских слов. Абдуррахман-хан с тоской смотрел на его муки, старался отвечать попроще, односложно, мучительно вдумывался в то, что ему говорили, и, чувствовалось, что он готов в любой момент прервать эту нескладывающуюся беседу. Положение спас востоковед Каннингхем, знаток фарси. Он легко перевел эмиру высказанные Стюартом пожелания долгого и счастливого царствования и развития дружбы с Британской империей.
Внук Дост Мухаммад-хана оказался на высоте:
— Наше удовольствие по поводу возвращения в свою страну после продолжительного отсутствия, — откликнулся он, — было бы омрачено, если бы Аллах не предоставил нам возможности повидаться с джарнейль-саибом перед его окончательным уходом…
Он подождал, пока его слова переведут Стюарту, а затем продолжал:
— Просим принять благодарность за любезное внимание во время переговоров, которые завершились столь счастливо и привели нас на престол предков. Мы питаем искренние чувства к правительству инглизи и хотим, чтобы наша признательность дошла до вице-короля.
Что же, лучше не скажешь… И Стюарт, довольный столь удачным завершением беседы, попросил у правителя позволения представить ему своих коллег. Первым подошел бригадный генерал Гоф. Эмир привстал со стула и подал увешанному орденами и медалями генералу руку. Больше он этого не делал, отвечая кивком головы на поклоны офицеров. Затем он пожелал всем счастливого пути.
Вся церемония дружественного прощания заняла ровно пятнадцать минут. Англичане вышли из палатки, где остался эмир со своими приближенными, и сели на коней. Прозвучал сигнал, и бригады тронулись в путь. Уже через час возле Шерпура не осталось ни души.
Войска двигались быстро, воодушевленные радостной мыслью: они уцелели! Где-то в голове тянувшейся по дороге на Пешавар гигантской колонны ехал британский политический агент в Северном Афганистане Лепел Гриффин и разглядывал турецкий ятаган. Его полномочия в этой стране кончались. Полковник Мак-Грегор, отправляясь в составе отряда Робертса на Кандагар, счел, что проиграл пари. Но ведь в самый последний момент Абдуррахман-хан все же прибыл если не в Кабул, то хотя бы в Шерпур. И было решено, что пари закончилось вничью: Мак-Грегор получил вожделенный пенджабский кинжал.
— Вот, стало быть, чем завершилась война — по крайней мере в районе афганской столицы! — размышлял Гриффин. — Тем, что мы с «Роб Роем» обменялись сувенирами…
Итоги, которые пытался подвести корреспондент «Таймс», были столь же глубокомысленны. «Посещение эмиром Шерпура, чтобы лично в нашем лагере выразить свою признательность и пожелать счастливого пути, произвело весьма приятное впечатление, — телеграфировал он в Лондон. — Это было хорошее завершение нашей кампании в Северном Афганистане и нашей оккупации Кабула. Если бы эмир уклонился или побоялся приехать в Шерпур до нашего выступления, то говорили бы и думали, что его уверения в дружбе были ложны и что он нам не доверяет».
Эпилог
Добрые старые романы кончались свадьбой героев, преодолевших на пути к ней все преграды и трудности.
Перед читателем не роман. Главный герой этой книги — афганский народ, и о том, чем для него завершились тяжелые 1878–1880 годы, мы расскажем на заключительных страницах эпилога.
А пока, очень кратко, о судьбе нескольких исторических личностей.
Двигаясь форсированным маршем, отряд генерал-лейтенанта Фредерика Робертса торопился с севера к Кандагару. С юга к осажденному Аюб-ханом городу, где отчаянно отбивался генерал Примроуз, спешила дивизия генерала Файра. Готовилась к походу резервная Бомбейская дивизия.
1 сентября 1880 года отборные полки Робертса добились успеха в столкновении с гератскими войсками. Афганцы не сумели пополнить потери в людях и вооружении, понесенные в ходе Майвандской битвы. Аюб-хан был вынужден снять осаду и отступить.
Успех Робертса вызвал невиданную со времен борьбы с Наполеоном бурю восторга на Британских островах. За один день сэр Фредерик превратился в национального героя, чье имя упоминалось наравне с именами адмирала Нельсона и герцога Веллингтона. Его благодарили королева и обе палаты парламента. Робертс стал баронетом, кавалером Большого креста рыцарской степени ордена Бани, был награжден двумя шпагами «за храбрость», получил кучу почетных званий и степеней, а также увесистое материальное добавление в виде двенадцати с половиной тысяч фунтов стерлингов.
Вдобавок к уже имевшейся медали за афганские кампании 1879–1880 годов была учреждена особая медаль «От Кабула до Кандагара. 1880 г.»; ее окрестили «Звездой Робертса». Королева Виктория была столь любезна, что наградила обеими медалями даже лошадь сэра Фредерика — Вонолеля, а одной из них — его дога Бобби…
Казалось, нелегко было вынести этот водопад почета, излившийся на смертного. И тем не менее генерал остался недоволен. Ну, может быть, слово «недоволен» звучит слишком сильно; скажем — раздосадован. Раздосадован размерами дарованной суммы. Нет-нет, не надо думать о храбром полководце как о корыстолюбце. Дело в том, что его коллега — генерал Уолсли, действуя в Африке, получил вдвое больше за короткую кампанию в Ашанти, которая, по словам одного из мудрых обозревателей, привела только «к захвату зонтика правителя Ашанти». Это был вопрос престижа. У любого возникло бы вполне обоснованное чувство обиды…
Правда, какая-то газетенка вдруг ни с того ни с сего сопоставила все, что писали раньше о шаткости положения и слабости Аюб-хана, неподготовленности и плохой оснащенности его сброда, с лавиной наград и бурей восторгов по поводу победы над ним. Как все это понимать и чему верить? — вопрошал автор статьи, но его голос не был услышан среди всеобщего ликования нации.
Кандагарский властитель — вали Шер Али-хан… Случайная, ничтожная фигура, волею могущественных соседей вознесенная на некоторую высоту. Те же силы сняли марионетку со сцены. В конце 1880 года патрон и «крестный отец» вали полковник Сент-Джон недвусмысленно намекнул ему, что настала пора проситься на покой. Шер Али-хан покорно повиновался.
15 декабря 1880 года хозяева отправили несостоявшегося эмира в Британскую Индию. Шпалерами были выстроены англо-индийские войска, и церемониальный салют должен был придать респектабельность высылке Шер Али-хана. В Афганистане его отъезд остался незамеченным.
Однако как же поступить с Кандагаром? Он теперь без правителя, даже номинального, подставного; временно контроль осуществляется британской военной администрацией. А дальше?
…Члены палаты лордов далеко не всегда жаловали парламент своим посещением. Но в понедельник 10 января 1881 года на заседание палаты явились почти все. То был довольно ординарный случай: ожидалась «мэйдн спич» — первая речь нового пэра. Но не чья-нибудь, а бывшего вице-короля Индии, графа Литтона, поэта Оуэна Мередита.
Помещение палаты освещали неяркие лучи зимнего солнца. Пробиваясь сквозь витражи из красного стекла, они бросали багровый отсвет на безукоризненный темный костюм графа. Пэры любовались его красивым лицом, волнистыми волосами, статной фигурой, изысканностью манер. Строгая и в то же время образная речь. Да и тема вполне соответствовала настроениям высшей аристократии: величие Британской империи.
«Великий Могол» говорил о своей политике в Индии и соседних землях. Оправдывал то, что было сделано. Отстаивал то, что еще можно было отстоять: ведь эти трусливые виги во главе с Гладстоном готовы отказаться от всех приобретений в Афганистане. Он требовал сохранить власть Англии над Кандагаром, призывал соединить его железной дорогой с долиной Инда, чтобы направить торговлю Центральной и Средней Азии в порты Калькутту и Карачи, «а отсюда, — разъяснял Литтон, — в Ливерпуль и Лондон».
Ему щедро аплодировали: в палате лордов правительство либералов не пользовалось особыми симпатиями. Биконсфилд с глубоким удовлетворением писал своей приятельнице леди Брэдфорд, что его питомец становится «хозяином положения» и сможет рассчитываться с политическими оппонентами полновесными ударами.
Радость нового пэра от успешного дебюта в Вестминстерском дворце была вскоре омрачена печальным известием из Африки. 27 февраля 1881 года погиб его ближайший советник, сердечный друг и собеседник, теоретик и знаток военного искусства — Джордж Колли. Верховный комиссар Юго-Восточной Африки, губернатор и главнокомандующий, генерал-майор Колли погиб как простой солдат во время ночной атаки буров при Маджубе ровно через семь месяцев после проклятого сражения у Майванда…
Майванд, Майванд! Это именно он поставил под сомнение возможность сохранить господство Британской империи над Южным Афганистаном. В глубине души Литтон хорошо понимал, что его речь в палате лордов, как бы высоко она ни расценивалась, не окажет ни малейшего влияния на политику находящихся у власти либералов.
Ему не помогла и авторитетная поддержка: когда 8 и 9 марта 1881 года в парламенте развернулись дебаты по кандагарскому вопросу, экс-премьер граф Биконсфилд произнес патетическую речь во славу активной имперской политики и решительно высказался в пользу предложения Литтона — удержать Кандагар со всей округой, присоединив их к британским колониальным владениям.
Статс-секретарь по делам Индии лорд Гартингтон то краснел, то бледнел, читая речи консерваторов:
— Они ничего не желают знать! А ведь там творится нечто невообразимое: нападения, бунты, мятежи… Нам удастся закрепиться в Южном Афганистане, только если мы выселим или уничтожим всех его жителей, заменив их своей армией.
Мартовское выступление престарелого Биконсфилда оказалось последним в его жизни. 19 апреля он умер. По совпадению в том же месяце англо-индийские войска покинули Кандагар. Смерть лидера консерваторов явилась в каком-то смысле символом смены методов британской политики по отношению к Афганистану, смены вынужденной, вызванной героическим сопротивлением афганского народа. Вместо военного вторжения — военно-политическое давление, дипломатический нажим.
Возвращаясь в Индию, английские генералы передали контроль над Кандагаром и значительную часть своего вооружения Абдуррахман-хану, зарекомендовавшему себя наилучшим образом. Он получил и крупную денежную субсидию. В ряде столкновений войска Абдуррахман-хана одержали верх над ослабленной сражениями с англичанами армией Аюб-хана и овладели Гератом. Аюб-хан бежал в Иран и умер на чужбине после тридцати трех лет изгнания.
Майвандская колонна в Кабуле.
Но его подвиг и его заслуги перед родиной не были забыты. К одной из площадей Кабула ведет улица, названная Майвандской, а на самой площади установлен обелиск в память знаменитой победы — Майвандская колонна. Прославляющие успех афганского оружия памятники воздвигнуты также в Майванде и Кандагаре. Об этой победе до наших дней рассказывают легенды, пишут баллады и поэмы, повести и романы.
А вот старший брат Аюб-хана — Мухаммад Якуб-хан, правивший страной менее года, не остался в народной памяти. Ему не простили Гандамака и соглашательской политики. Якуб-хан пережил брата на девять лет и тоже кончил дни в изгнании.
Абдуррахман-хан, воссевший на престол в результате совершенно неожиданного поворота судьбы, сумел объединить под своим владычеством Афганистан. Он правил страной около двадцати лет. Это был свирепый правитель. Он любил повторять, оправдывая свои зверства: «Дикими лошадьми не правят шелковыми вожжами». Жизнь, полная случайностей, приучила его быть готовым ко всему. У дворца постоянно стояла наготове пара резвых коней. К их седлам были приторочены мешки с деньгами, оружием и запасом продовольствия.
Период царствования Абдуррахман-хана насыщен народными восстаниями. Все они жестоко подавлялись. Но, как ни странно, именно он оказался одним из немногих эмиров в истории Афганистана, спокойно скончавшихся на своем ложе…
Общие итоги трагических событий, нашедших отражение в этой книге, нам поможет подвести одно из ее главных действующих лиц.
Граф Литтон был искренне возмущен политикой правительства либералов на Востоке. Он потерял интерес к происходящему в парламенте, редко показывался в своем лондонском доме на Гросвенор-сквер, 12, в Вест-Энде, и лишь по важным причинам покидал усадьбу Небуорс-парк в Хартфордшире.
Литтон часто заставлял себя садиться за письменный стол, и пол его кабинета, как когда-то в Симле, вскоре покрывался клочьями бумаги. Выскакивал он оттуда взъерошенный и возбужденный. Леди Литтон уже знала: и сегодня вдохновение не пришло…
— Нет, Эдит, — жаловался он, — слишком большие запасы трудолюбия и энергии были израсходованы в Индии. Боюсь, я лишился всего, что питает вдохновение.
Чтобы отвлечься, Литтон взялся за давно начатое жизнеописание своего отца — писателя и государственного деятеля Эдуарда Джорджа Эрла Булвер-Литтона. Дело пошло, но и оно не давало ему полного удовлетворения.
«Великий Могол» попытался создать героическую поэму о тех, с кем встречался в Индии, и кто, выполняя его приказы, шел сражаться в Афганистан. Из этого ничего не получилось, и он вернулся к излюбленным полуабстрактным сюжетам, стремясь использовать в них индийские мифы.
Но снились ему сцены никогда не пережитых схваток с афганцами где-то в Бала-Хиссаре, за Джагдалаком, у Али-Масджида, на склонах Сулеймановых гор или близ Газни…
Однажды, разбирая почту, доставленную из Лондона, граф обнаружил в журнале «Импириэл энд Эйшиэйтик Квортерли Ревью» статью под туманным названием «Афганская дилемма». Под ней стояла претенциозная подпись — «Историкус».
Леди Литтон, беседовавшая в гостиной с приехавшей навестить ее приятельницей, была встревожена шумом, донесшимся из библиотеки. Через мгновение к ним влетел разъяренный пэр и, не обращая внимания на гостью, закричал, потрясая журналом:
— Послушай, что городит этот болван! «Последняя афганская война не была успешной. Те, кто ее затеял, совсем не поняли всех трудностей поставленной задачи. Они, кажется, полагали, что их предприятие будет военной прогулкой, сопровождаемой потоками звезд, орденских лент и более существенных наград для немногих избранных…»
У графа перехватило дыхание, чем немедленно воспользовалась супруга:
— Но, Эдуард, милый, ты даже не поздоровался с миссис Пембертон!
— Да-да, конечно, добрый день, миссис Пембертон! Нет, Эдит, это невыносимо. Дальше не лучше: «События вскоре рассеяли подобный мираж. Двухлетние военные действия сводились преимущественно к фуражировкам и были отмечены двумя тяжелыми поражениями — нашим поспешным отступлением в Шерпур перед фанатичными ордами Мухаммад Джана и проигранным нами злополучным сражением при Майванде. Затем наша армия ушла из Афганистана, не только не получив ни малейших выгод в возмещение пролитой крови и затраченных денег, но даже в обстановке, оскорбительной для нашей национальной гордости…» Каково, а?!
Эдит переглянулась с приятельницей:
— Разумеется, разумеется… Мы с миссис Пембертон разделяем твое негодование, Эдуард. Это какой-то злобный выпад. Ты, вероятно, сейчас же сядешь писать протест в «Таймс», не так ли?
— Еще бы! — и Литтон удалился в библиотеку.
— Дорогая, вы должны простить Эдуарда, — обратилась Эдит к гостье. — Он после Индии стал таким нервным, таким ранимым. Выходит из себя по каждому пустяку…
Тем временем «Великий Могол» размышлял над подлинными итогами Второй афганской войны, войны 1878–1880 годов.
«Перенести британские границы на Гиндукуш, а тем более к Амударье не удалось. Зато владения империи распространились на Хайберский проход, на округа Куррам, Пишин и Сиби, в результате чего обнажено и стало доступным удару сердце афганского государства — Кабул.
Место ненадежного с точки зрения наших интересов эмира Шер Али-хана занял посаженный нами Абдуррахман-хан. Правда, не совсем ясно, как он будет держать себя в дальнейшем, но пока новый правитель во многом зависит от нас.
Пришлось отказаться от надежды иметь в столице Афганистана английского резидента, который бы направлял всю жизнь этой страны. Зато эмир обязался подчинить нашему контролю по крайней мере свою внешнюю политику.
Военные действия стоили огромных средств. Но оплачены были расходы из бюджета Индии, не затронув финансов Великобритании ни на пенс.
Война унесла десятки тысяч человеческих жизней. Но в основном это были не англичане, а индийцы, ну а их достаточно много (афганские потери Литтона вообще не интересовали).
Конечно, затраченные на войну суммы можно было бы израсходовать на борьбу с голодом в Индии, но мало ли на что можно потратить деньги?!»
По мере того как бывший вице-король воскрешал в памяти все этапы афганской политики правительства консерваторов, он все больше и больше приходил к мысли, что этот «Историкус» не так уж неправ. «Если не кривить душой, то следует признать: добиться в этой войне лавров Британской империи не удалось. Было и шерпурское бегство, и майвандское поражение, получившее широкую огласку. И хотя все же удалось достичь кое-каких результатов, фанатиков-афганцев нельзя было заставить капитулировать даже с помощью новейшей военной техники. А это не позволило осуществить более широкие замыслы…»
Постепенно гнев угас, и граф решил, что опровержение мелочных придирок какого-то «Историкуса», да еще напечатанных в не очень распространенном журнале, только привлечет к ним лишнее внимание. Да и вообще — это недостойно «Великого Могола»!
Не только граф Литтон сосредоточенно следил за ходом афганских событий. Их развитие, разумеется, не могло не интересовать политиков и военных в России. В первую очередь тех, кто в той или иной степени был к ним причастен.
Генерал Николай Иосифович Разгонов собрал почти все статьи из индийских газет, рассказывавшие о происходившем в Афганистане. Его особое внимание привлекали материалы о разгроме англичан под Майвандом и о выводе британских войск из Кабула и Кандагара — плохо замаскированном отступлении армии, опасающейся оказаться в ловушке. На последнем листе папки с газетными вырезками он сделал пометку: «Пожалуй, для Англии эти индийские статьи о ее поражении в Афганистане страшнее, чем само поражение. Тут за каждой строкой чувствуешь торжество: значит, англичан можно победить! Любой человек, посвятивший себя военному делу, знает, что уверенность в победе — это уже половина победы».
…Осенью 1893 года сэр Генри Мортимер Дюранд подписал в Кабуле договор с эмиром Абдуррахман-ханом, закрепляющий захват Англией тех областей в Сулеймановых горах и на Кветто-Пишинском нагорье, где обитало больше афганцев, чем в самом Афганистане. «Мы подвели окончательный итог событиям Второй афганской войны», — писали английские газеты.
Они оказались неправы. В отторгнутых областях британские власти так и не смогли закрепиться. Горная полоса, примыкавшая к урезанным землям Афганистана, бурлила восстаниями, и в недрах англо-индийского Генерального штаба возникли неведомые дотоле термины: «Постоянная пограничная война» и «Полоса независимых племен». В самом Афганистане патриоты не могли смириться с обрекавшим их родину на застой запретом сношений со всеми другими государствами, кроме Великобритании. Миллионной субсидией можно было купить эмира, но нельзя было сломить дух свободолюбивого народа.
А когда исторические события в соседнем государстве на севере изменили соотношение сил в мире, когда Великий Октябрь 1917 года провозгласил идеи равноправия и братства народов, афганские патриоты обрели новую волю к борьбе.
И тогда пришла Третья афганская война…
Примечания
1
Клин (англ.).
(обратно)2
«Полуцарь» (узб. — тадж.).
(обратно)3
Высокий (узб.).
(обратно)4
Чар-Вилоят, область на левобережье Амударьи, в те годы включала четыре провинции: Мейменинскую, Мазари-Шарифскую, Кундузскую и Ташкурганскую.
(обратно)5
Ганч — местное название алебастра.
(обратно)6
Наваб, от наиб (араб.) — наместник, — титул феодального правителя, в данном случае должностное лицо.
(обратно)7
Церемониймейстер.
(обратно)8
Сына королевы Виктории.
(обратно)


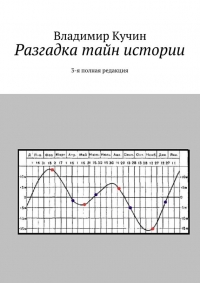


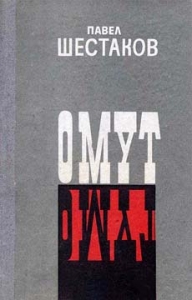

Комментарии к книге «Победные трубы Майванда. Историческое повествование», Нафтула Аронович Халфин
Всего 0 комментариев