Роман
Предисловие
Это возвышенная, нежная, облагораживающая книга, вся пронизанная чистотой и юмором, добротой и силой, — качествами, присущими людям поистине жизнелюбивым и культурным.
Левон Завен Сюрмелян — один из многих армянских детей военных лет, которым удалось перехитрить врага и не погибнуть. Об этих детях ныне известно всем. Частично их описал Франц Верфель в «Сорока днях Муса-дага», а Элджин Гроусклоус в «Арарате» дополнил это повествование.
Тем не менее именно в этой книге впервые представлена история детей, поведанная одним из них. Разрушен был их мир, но не жизнь. Многие сейчас живут в Советской Армении, России, Иране, Сирии, Греции, Канаде, Мексике, Южной Америке и США. А многие умерли на родине вместе с миром, который погиб. Друзья этих детей, оказавшиеся более выносливыми или везучими, никогда их не забудут. Их врагом не была конкретная нация или конкретный народ. Их враг — Зло, такое же отвлечённое, как понятие Зла в притче. Дети были, конечно же, невиновны. Если они и принадлежали к какой-либо нации, то это была нация детей. Они никому не причинили вреда. И всё же людское Зло стремилось уничтожить их, но дети выжили, как если бы они жили в сказке, а не в реальности.
Левон 3. Сюрмелян приехал с родины в Америку и принялся восстанавливать разрушенную легенду своей жизни.
Обо всём этом и рассказывает книга.
В повествовании вы не почувствуете и тени ненависти, ибо ненависть и смерть — напарники, а история, рассказанная здесь, — о жизни.
«К вам обращаюсь, дамы и господа» — принадлежит к числу немногих прекрасных произведений, которые мне когда-либо доводилось читать. Вся книга — словно лирическая поэма. Сюрмеляновский стиль прост и искренен, полон теплоты и юмора, и в то же время проникнут грустью человека образованного и умного.
Не представляю себе, чтобы книга кого-либо разочаровала. Это одна из прекраснейших и захватывающих историй, прочитанных мной. Говорю так не потому, что Левон 3. Сюрмелян мой друг.
Хорошую и глубокую книгу я распознаю сразу.
УИЛЬЯМ САРОЯНГлава первая ПОСВЯЩЕНИЕ В СМЕРТЬ
Однажды ярким осенним утром, когда мне было лет восемь, мать повела меня к бабушке, потому что вернулся дядя Арутюн. О нём я знал только, что он прислал из Парижа маленькую таксу дяде Левону, заядлому охотнику, члену «Армянской революционной федерации» и герою моего детства.
Пунцовые гранаты, созрев, лопались на деревьях в садах Трапезунда, был сезон апельсинов и лимонов, уличные продавцы торговали жареными каштанами и кукурузой. С моря дул тёплый ветер, воздух был сух и чист. У меня было ощущение праздника, но мама выглядела задумчивой и печальной.
Приветствовать дядю Арутюна в бабушкином доме собрались родственники и друзья. Но лица у них почему-то были скорбные. Распоряжалась собранием бабушка, величавая дама с приветливой улыбкой на лице, которая, однако, не могла скрыть её глубокой душевной скорби. Вскоре к калитке подкатил фаэтон, и из него вышел дядя Левон вместе с худым, высоким молодым человеком.
Бабушка обняла худого мужчину, расцеловала в обе щеки. Мать и остальные гости последовали её примеру, и хотя все счастливо улыбались, во всём этом чувствовалось что-то неладное.
Дядя Арутюн был года на два старше своего брата Левона, ему, наверно, было двадцать три или двадцать четыре. Он носил острую каштановую бородку, вроде французских художников, и как все высокие люди, ходил сутулясь.
В дяде Арутюне было что-то особенное, отличающее аристократов духа. Большое чувство собственного достоинства, свойственное членам семьи моей матери, было особенно заметно у её учёного брата из Парижа. Он не был похож на других, и уж совсем не походил на родственников со стороны отца. Он бы выделялся в любом обществе благородством осанки, выражением нежной печали в умных глазах. Дядя Арутюн произвёл на меня необыкновенное впечатление.
Видно, он устал с дороги и нуждался в отдыхе. Его повели наверх и уложили в постель в единственной солнечной комнате дома. Дом моей бабушки был большим и мрачным, многие комнаты были заперты и шторы в них задёрнуты; запах, царивший в доме, лучше всего, пожалуй, назвать похоронным. Пол в огромной прихожей был выложен плитками под мрамор, они пожелтели и потрескались в нескольких местах. В доме — в одном из немногих в городе — была своя турецкая баня, как знак принадлежности хозяев к местной аристократии. Ныне же бабушка пребывала в благородной бедности. Наверху, в гостиной, висел портрет дедушки в массивной золочёной раме. Как сейчас вижу его добрые глаза и гордую осанку. В те времена многие христиане ещё носили национальную одежду, но мой дед на портрете был одет как европеец — в сорочке с отложным воротником и бантом. Когда турки убили его во время резни, за несколько лет до моего рождения, он был главой нашей общины и её представителем в правительстве, самым влиятельным и передовым среди наших общественных деятелей. Дед открыл в Трапезунде первую фабрику европейского образца — большую мельницу, на которой, к безграничному удивлению жителей города, как христиан, так и мусульман, все работы выполняли машины.
Сейчас мукомольная фабрика находилась в чужих руках, и всякий раз, как мы проходили мимо, глаза мамы застилали слёзы. А дядя Арутюн, который должен был занять место своего замученного отца и залечивать раны прошлого, вернулся из Парижа больной и лежал в солнечной комнате наверху.
Он так и не поднялся с постели. Лежал там, как Иисус Христос. В его облике появилось что-то возвышенное и неземное. Мы с мамой навещали его раза два в неделю. Он помогал мне готовить уроки по французскому, а я показывал ему военные упражнения, которым нас обучали в школе. На уроках гимнастики все команды отдавались по-французски.
Repos! Вольно!
Gardez-vous! Смирно!
En avant, marche! Шагом марш!
Un deux gauche droit, un deux gauche droit! Раз-два, левой, правой!
Я любил играть в солдаты, у меня была военная форма с саблей, ружьём и прочим снаряжением. Я готовился воевать в отрядах армянского национального героя — Андраника, бросившего вызов властям Оттоманской империи.
Иногда дядя Арутюн садился в постели и что-то писал. У него была таинственная связка рукописей, к которым я относился с благоговением. Из патриотизма он изучал во Франции сельское хозяйство, хотя родился и вырос в городе. Семья моей матери была очень патриотична, но если дядя Левон предпочитал служить народу мечом и всегда носил оружие, дядя Арутюн хотел служить ему пером и плугом. Но я-то знал, что он поэт.
В постели он являл собою классический образ чахоточного поэта. За несколько месяцев он исхудал до костей. Как-то раз бабушка сказала маме:
— Прошлой ночью он просил у Левона пистолет, хотел застрелиться. Нам с трудом удалось его успокоить. Ах, боже мой, боже мой!
Губы у мамы задрожали, но, войдя к дяде в комнату, она приняла весёлый и бодрый вид. Теперь дядя Арутюн походил на Христа больше, чем когда-либо. Ах, как я любил его!
Каждую ночь перед сном я молился богу, чтобы он вылечил дядю Арутюна. Не раз нам казалось, что он на пути к выздоровлению, но едва на лице бедной мамы появлялась улыбка, как опять наступало ухудшение, и в последующие дни у него едва хватало сил произнести несколько слов. Мне хотелось плакать, когда во время очередного ухудшения я ловил его печальный, потусторонний взгляд.
Произошло это в один прекрасный весенний день, незадолго до пасхи. Я только вернулся из школы, когда мать получила весть: «Дяде Арутюну совсем плохо, доктора созвали консилиум». Она по привычке тихо заплакала, надевая чаршаф — шёлковую накидку, которую носила, когда выходила из дому, — и, взяв меня за руку, поспешила к бабушке. Мама никуда без меня не ходила.
Когда мы пришли к бабушке, я увидел в тёмной гостиной дядю Левона. Он сидел, опустив голову и закрыв лицо руками, волосы его были всклокочены. Он на мгновение поднял голову, посмотрел на нас покрасневшими глазами и ничего не сказал. Мать оставила меня в прихожей, а сама поднялась к дяде Арутюну. Я чувствовал всю серьёзность положения, но мне не приходило в голову, что дядя Арутюн при смерти. Мне ещё не приходилось видеть, как умирают люди, я даже не видел, как умирают собаки, что у многих детей обычно является первым знакомством со страшным понятием смерти. Я тайком прокрался по лестнице, хотелось узнать, что делается в комнате дяди Арутюна, но, услышав голоса врачей, бросился обратно.
Через несколько минут спустилась мама, прижимая к глазам платок.
— Иди домой, — сказала она, — дядя Арутюн умирает. Я буду здесь всю ночь.
Итак, сообщить дома другой бабушке — матери моего отца, брату и сёстрам эту зловещую новость предстояло мне. Дети заплакали, а восьмидесятишестилетняя бабушка, высокая, прямая женщина, сказала только: «Мир праху его!» и, перебирая чётки, продолжала сидеть у печи, скрестив ноги. Она давно уже выплакала все слёзы и спокойно ждала смерти, несмотря на то, что могла пешком пересечь город из конца в конец и видела получше меня.
Мы закрыли дверь, чтобы нас не слышали соседи, а ещё потому, что скорбь требует уединения. Вдруг кто-то постучал в дверь, и мы плача побежали открывать, недоумевая, кто бы это мог быть. Пришёл старый нищий турок. Нищим мусульманам не так уж хорошо жилось на нашей чисто христианской улице: старую одежду и остатки еды мы обычно отдавали нищим христианам. Но к этому старику мы оказались необыкновенно щедры. Кто его знает, а вдруг это сам Христос. Я знал историю про Иисуса, который ходил, переодевшись нищим, дабы испытать веру тех, у кого просил милостыню. Мы набили мешок нищего всевозможной едой, отдали ему свежий, а не чёрствый хлеб. Наша доброта привела его в неописуемый восторг (мы ведь отнеслись к нему как к святому), и он всё благодарил нас, приговаривая:
— Да воздаст вам аллах сполна!
Мы были почти уверены, что, увидев наши добрые деяния, бог отзовёт ангела смерти и дарует дяде Арутюну жизнь.
В Трапезунд вернулись ласточки. Когда солнце садилось за мыс Йорез и Святую гору, растянувшуюся в море тёмной линией, они по обыкновению оглашали улицы весёлым щебетаньем. Золотистые тучки окаймляли бледно-голубое небо, а у подножия возвышающейся над городом Серой горы солнце ослепляло своим сиянием. На несколько минут наша улица, как по волшебству, озарялась розовым заревом, ярко отражавшимся в окнах домов. Завораживающее зрелище! Муэдзин поднимался на высокий белый минарет и, заложив руки за уши, мелодичным протяжным голосом воздавал хвалу аллаху: — Аллах екбар — «Бог велик». Мы любили это время. Дети на улице переставали играть и восторженно озирались вокруг, словно рассматривали мир сквозь цветное стёклышко. Но сейчас красота природы заставляла нас ещё острей ощущать скорбь. Умирал наш любимый дядя, имя которого — Арутюн — в переводе с армянского означает Воскресение, умирал за несколько дней до большого и славного праздника — пасхи. Образ распятого на кресте Христа, воскресшего и парящего в облаках, переплетался в моём сознании с дядей Арутюном, и мне от этого становилось ещё печальней.
Как мне не доставало в ту ночь мамы! Её не было в столовой, где папа обычно пил перед обедом аперитив. Это были минуты семейного счастья. Отец подливал немного воды в рюмку с ракией, которая мгновенно принимала молочно-белый оттенок, залпом осушал её, а мы, дети, хором кричали: «На здоровье!» Потом он вытирал рот салфеткой и шумно по-барски крякал от удовольствия. В тот вечер он выпил молча, и мы не сказали ему: «На здоровье». Впервые за обеденным столом с нами не было мамы. Нас было семеро, но дом казался пустым.
Бог не отозвал ангела смерти. Дядя Арутюн умер, а мы, одевшись во всё самое лучшее, пошли к бабушке, чтобы присутствовать на похоронах. Гостиная на втором этаже была переполнена. Всю мебель вынесли, а портрет деда завесили чёрным тюлем. Женщины оделись во всё чёрное, и у мужчин на рукавах были чёрные повязки.
Когда мы вошли, все головы повернулись в нашу сторону. Других детей не было, и мы привлекали всеобщее внимание. В центре комнаты меж двух высоких горящих свечей стоял серебристый гроб, в котором лежал дядя Арутюн со скрещенными на груди руками и закрытыми глазами. Лицо его было белым, как мел. Гроб обступили стоявшие на коленях плачущие женщины, а бабушка, размахивая платком с чёрной каёмкой, говорила с дядей Арутюном на самом прекрасном армянском языке, который мне когда-либо доводилось слышать.
Это была серия баллад о смерти, речитатив глубочайшей материнской любви и безутешного горя. Бабушка вспоминала главные события его жизни, всё, что делал и говорил дядя Арутюн ещё ребёнком. Она напомнила, как во время резни, когда ему было шесть лет, погибли его отец и дяди, счастливые дни семьи до того ужасного события, летние месяцы, проведённые в деревне. Ты ездил учиться, говорила она, в большие университеты Европы, хотел вновь нас осчастливить, а теперь покидаешь нас, не дав насладиться тобой. Она расписывала достоинства девушки, которую выбрала ему в невесты, и именно эта часть её душераздирающего монолога показалась мне особенно трогательной. Бабушка, говорившая со своим мёртвым сыном перед портретом деда, покрытым чёрным тюлем, чтобы он не видел умершего сына, являла собою образ Матери-Армении во всей её древней скорби; слёзы, которые она проливала, были слезами бесчисленных армянских матерей, рыдавших над мёртвыми телами своих отважных сыновей. Мне казалось, что дядя Арутюн всё слышит и видит, но ничего не говорит.
Я не мог больше выносить этого зрелища смерти и скорби. Слова бабушки и вид моей мамы, рыдавшей на коленях рядом с ней, причиняли мне такую боль, что я сорвался с места и бросился к гробу.
— Ну, пожалуйста, не плачьте больше! — взмолился я, обращаясь к бабушке, маме и всем остальным женщинам, образовавшим вокруг покойного кольцо скорби. Бабушка ласково посмотрела на меня глазами, печальнее которых я не видел, и на её губах появилась вымученная улыбка. Женщины стали подносить платки уже не к глазам, а к губам. И мне хотелось стать рядом с ними, не дать им больше плакать, но чьи-то сильные руки оттащили меня назад, в боковую комнату, к моим братьям и сёстрам, и стенания возобновились с новой силой.
Вдруг внизу послышался шум. В дверях сверкнул большой крест, зал окутало облако дыма от курящегося ладана, и появились священнослужители во главе с нашим архиереем, от самого облика которых веяло смертью. Твёрдой решительной поступью направился архиерей к гробу, и люди расступались перед ним и крестились. Плакавшие у гроба женщины встали. Архиерей читал заупокойную молитву, а два прислужника держали высокие медные подсвечники. После этой церемонии вышли вперёд люди, которые должны были нести гроб. Когда они подняли его, бабушка и остальные женщины разразились громкими воплями и в отчаянии приникли к гробу, не давая его вынести. Борьба эта завершилась обмороком бабушки. Её унесли в спальню.
Дядю Арутюна хоронили со всей церковной помпой, приличествующей сыну знатной семьи. Впереди похоронной процессии в два длинных ряда несли венки. Колокола старинного кафедрального собора Богоматери печально отзванивали приглашение к похоронам.
По мере того, как процессия продвигалась по извилистым улицам, в магазинах закрывались ставни и прекращалась торговля. Все христиане, будь то армяне, греки или европейцы, — снимали шляпы и фески, и даже турки смотрели печально и почтительно. На всех лицах, независимо от религии, отражалось смирение и братство людей перед лицом смерти.
Теперь улицы нашего города превратились в улицы смерти, небо стало небом смерти, и смерть пела свою извечную погребальную песнь голосами священников и детей из церковного хора.
Дядю Арутюна сопровождала к могиле величаво-торжественная церковная музыка и проникновенные молитвы священников. Эта духовная музыка то превращалась в приглушённый шум, то разрасталась в зачин гимнов, исполняемых антифоном.
Детей не взяли на кладбище. Мы пошли домой после отпевания в церкви. Я впервые видел смерть и стал размышлять над её таинством и величием. Я был глубоко встревожен. По дороге из церкви домой я задал своему брату Онику, который был на два с половиной года старше меня, множество вопросов о смерти. Он ответил, что все мы рано или поздно умрём.
— Что ты! — воскликнул я в ужасе. — Ты хочешь сказать, и папа и мама умрут, и мы с тобой тоже?
— Да, — ответил он. — Отец, мать, ты и я — все мы когда-нибудь умрём.
Кончилось детство, полное невинности и счастья. Я не умел философски подойти к смерти и потому не находил утешения, пытаясь постичь её беспредельное таинство.
Неведомый дотоле загадочный мир явился моему детскому разуму, и он заблудился в пространстве вечного одиночества. Трагический конец, на который все мы были обречены, как утверждал мой брат, означал, что ни моя мать, ни отец, никто-никто не сможет оградить меня от смерти, что мы разлучимся и встретим смерть беспомощными и одинокими.
Но что бы ни говорил мой брат Оник, я не мог представить себя мёртвым, как дядя Арутюн. Другие, может, и умрут, но не я.
— Я-то никогда не умру, — заявил я.
— Тебе кажется, что не умрёшь, — насмешливо заметил мой брат. — Ты просто закроешь глаза и умрёшь, как и все мы.
— А я не закрою глаза! — негодующе возразил я. — И всегда буду держать их открытыми. Я никогда не закрою глаза, никогда, что бы ни случилось, каким бы больным я ни был. Скажи, пожалуйста, как я могу умереть, если глаза у меня будут всегда открыты?
Мне казалось, я открыл тайну бессмертия.
Глава вторая ПОЗОР СТРАСТНОГО ЧЕТВЕРГА
Пасха в Трапезунде! Какой это был праздник! Школы закрыты на две недели, на лицах людей, готовящихся праздновать воскресение Христово, — доброта и блаженство. Страстная Неделя была самой оживлённой неделей года.
К тому времени я уже пел в церковном хоре. Мне поручили самый завидный, но и трудный отрывок из Книги Даниила, который я должен был прочитать в ночь на великую субботу. К тому же я был одним из двенадцати мальчиков, чьи ноги наш архиерей собирался омыть в страстной четверг.
«Сам архиерей будет мыть тебе ноги! — говорили мне со всех сторон. — Позаботься же, чтобы они у тебя были чистыми».
Утром в страстной четверг мы отправились в баню. Брат и я несли два узла с полотенцами, серебряным ковшом, сандалетами, отделанными перламутром, и прочими банными принадлежностями. Мы всегда ходили в Гяур-Амами — баню для неверных, которая раньше была византийской церковью. Когда могущественный султан-поэт Мухаммед II спустя восемь лет после покорения Константинополя завоевал Трапезунд, он приказал превратить во славу аллаха самые красивые христианские церкви в мечети и общественные бани. В бане Гяур-Амами мылись и христиане и турки, но в разные дни. Женщины и дети купались днём, а мужчины — вечером. Баня находилась в лабиринте узких средневековых улочек с садовыми изгородями, увитыми красными и белыми розами. Маленькие ворота вели к дровяному дворику. Здесь же в подвальном этаже была огромная топка, при виде которой мне невольно приходила в голову мысль о геенне огненной. Громадные котлы днём и ночью поддерживались раскалёнными добела. Пересекая этот дровяной двор, мы входили в прохладный наружный зал бани, отведённый под раздевалку. Заведовала баней интересная, темпераментная турчанка с молочно-белым лицом. Она сидела, поджав ноги, с сигаретой в зубах у двери на помосте, обнесённом перилами, среди ковров и подушек, и вполне сошла бы за главную жену султанского гарема.
Турчанка приветствовала нас весьма вежливо и церемонно, как это принято на Востоке, справилась о нашем самочувствии и осыпала комплиментами, которые мама возвратила ей, как того требовало приличие.
Предбанник был круглый, с высокими двойными галереями по трём сторонам, разделёнными на открытые кабины и несколько комнат. Матрасы для отдыха в комнатах были лучше, зеркала в позолоченных рамах, и цены здесь были соответственно выше. В центре зала помещался декоративный фонтан с бассейном для рыб. В алькове старая сухощавая турчанка в банных сандалетах и пещдимале — куске полосатого полотна вокруг бёдер до колен — возилась с медными кофеварками. Разгорячённые, истомлённые гречанки и армянки, завернувшись в пушистые белоснежные полотенца, лежали на матрасах и отдыхали в послебанном оцепенении. Каждый раз, когда тяжёлая дверь, ведущая во внутренний зал, распахивалась, в предбанник врывался пар и гомон, и всё это мгновенно стихало, когда дверь захлопывалась.
Мы раздевались и, осторожно ступая по скользкому полу, входили в большой круглый зал, наполненный клубами пара. Нас встречала какофония женских голосов, детского крика и плача, перестука металлических ковшей, непрестанного плеска воды о мраморные плиты. Первые минуты, захлебнувшись паром, ты не в состоянии вздохнуть. В купальных кабинах были мраморные бассейны с кранами для горячей и холодной воды и две мраморные плиты для сидения. В кабинах поменьше было невыносимо жарко, и женщины скрывались в этих раскалённых камерах, чтобы наложить на голову хну или приставить пиявки — зрелище далеко не эстетичное.
В центре ротонды находился восьмиугольный помост, выложенный цветным кафелем, на котором купальщицы растягивалась во весь рост, и турчанки-банщицы тёрли и массировали их жёсткими перчатками. Женщины Трапезунда славились своей красотой — Рубенса бы в нашу баню!
Вижу, как сейчас, эти пышные, обнажённые тела, вижу стройных девственниц с волосами, ниспадающими на спины. Мы, мальчики, играли в пятнашки — занятие небезопасное на скользком мраморе, — прыгали на восьмиугольный помост и пускали мыльные пузыри. Они, как шарики, летали в насыщенном паром воздухе, и свет, который падал на них сквозь стеклянные отверстия высокого купола, окрашивал их во все цвета радуги.
Время от времени нам приходилось возвращаться в свои кабины, где мы терпели невыразимые пытки со стороны наших безжалостных матерей, которые немилосердно тёрли и мыли нас. Мама трижды тёрла и намыливала меня с головы до пят, прежде чем объявить чистым. И конечно, все издевались надо мной, говоря, что сколько бы я ни мыл ноги, они всё равно будут грязными.
Купание длилось четыре-пять часов, после чего, надев банные сандалеты и завернувшись в полотенца, мы возвращались в зал для одевания. Это было всё равно что вырваться из жаркой Аравийской пустыни в восхитительный рай аллаха. Мы одевались не сразу — это бы испортило всю прелесть купания; с ленивой безмятежностью откидывались на матрасы и наслаждались фруктами или освежающими напитками, утоляли голод халвой и кунжутными баранками. Уход из бани тоже совершался согласно установленному обряду. Мать расплачивалась с хозяйкой, опять обмениваясь с ней общепринятыми любезностями.
Пообедав после бани, мы пошли в церковь. Сегодня должен был совершиться самый торжественный обряд — омовение ног. Я надел красный стихарь с синей бархатной накидкой и, смущённый и гордый, занял своё место в хоре. Я знал, что мама с одобрением смотрит на меня с женского балкона.
Пока архиерея облачали в ризнице, наш регент пропел величественный гимн «Глубокое таинство», а хор монотонно напевал в антифон:
— О глубокое таинство!
— У-мммммм…
— Непостижимое, вечное!
— У-мммммм…
— Ты, который утвердил свой небесный трон в недоступном свете, в прекрасной славе ослепительных божественных духов!
— У-мммммм…
— Ты, который простёр свои созидательные руки к звёздам, своим могуществом укрепил наши руки, чтобы мы молились, воздевая их к тебе.
— У-мммммм…
После гимна, который занял у нас целых десять минут, из ризницы вышел архиерей с дьяконом и иподьяконом. С короной на голове, в блестящей ризе с поясом, украшенным драгоценными камнями, он был похож на византийского императора. Один из дьяконов, отступая назад и непрестанно кланяясь, размахивал перед ним кадильницей, а другой держал маленькую чашу и кувшин с водой. Архиерей омыл руки, затем обратился к прихожанам и стал говорить, как он грешен, и просил их молить за него Господа. Потом повернулся и вместе с прислужниками поднялся по ступенькам к алтарю. Занавес опустился.
К концу этой, казалось, бесконечной обедни пение внезапно прекратилось. Все тихо встали. Те, что лежали ничком на полу, поднялись. Мы, дети, изображавшие двенадцать апостолов Христа, подошли гуськом к алтарю и разулись в приделе. У алтаря стоял большой таз с водой. Я украдкой выглянул из-за занавеса, силясь увидеть маму, бабушек, тётушек и остальных своих родственниц, пришедших посмотреть обряд омовения. Я нервничал и дрожал от волнения, но был страшно горд. Стояла такая тишина, что слышался малейший шорох. Церковь была до отказа заполнена прихожанами, жаждущими лицезреть самый волнующий церковный ритуал; как говорится, яблоку негде было упасть. Передо мной было целое море лиц.
Наш архиерей, он же преподобный епископ, снял корону, ризу и, засучив рукава, опустился у таза на колени. Я сел перед ним на табурет и поднял над тазом ногу. Он намочил тряпку в воде и, шепча молитву, выжал её мне на ногу, после чего умастил пальцы ног благовониями. Но что мне делать дальше, я не знал.
— Целуй и ступай, — прошептал он. Я стал поднимать ногу, изо всех сил пытаясь дотянуться губами до пальцев.
По церкви прокатился шёпот, который становился всё громче и наконец перерос в раскаты смеха. Гимнастика давалась мне легко, но нужно было быть поистине акробатом, чтобы выполнить сказанное архиереем. Чем больше я старался дотянуться губами до умащённого благовониями носка, тем громче становился убийственный хохот. Мысль о том, что это, возможно, я причина святотатственного смеха в храме господнем, была так невыносима, что хотелось улететь далеко и сгинуть навеки. Они смеются надо мной, но за что? Всё поплыло перед глазами — огромное море сверкающих огней, множество лиц, растворяющихся в пространстве. Ангелы кружили над этой ужасающей, катастрофической суматохой, а сердитый Господь, насупив брови, наблюдал за мной с трона. Епископ, приняв размеры гигантского призрака, превратился в назойливую тень, всё скользившую то надо мной, то вокруг меня.
В конце концов я бросил выделывать акробатические номера и беспомощно уставился в его гневное лицо.
— Целуй крест, крест целуй! — услышал я его голос.
Значит, целовать надо было крест, а не ногу! Украшенный драгоценными камнями крест вместе с большой Библией в серебряном окладе лежал рядом на табурете. Я преданно припал к нему губами и поспешно заковылял прочь. В приделе мальчишки-певчие задыхались от смеха, они держались за бока и катались по полу. Это было ещё унизительней.
— Дурак! — сказал один из них.
Я не нашёлся что ответить. Уши у меня горели.
Ночью того злополучного дня духовенство и прихожане, одетые во всё чёрное, оплакивали распятие Христа продолжительной скорбной службой. Свечи на алтаре, кроме одной-двух, были погашены, яркие занавеси заменены чёрными, траурными. Эту полуночную службу особенно ревностно посещали женщины, которые, подобно моей маме, носили траур.
В страстную пятницу мама покрасила яйца луковой шелухой и заказала в ближайшей пекарне несколько пасхальных куличей, каждый весом в килограмм. Утром в великую субботу я вместе с остальными мальчиками исповедовался, опустившись на колени в ризнице церкви. Стоя над нами, священник читал соответствующие ритуалу молитвы, перечисляя все унаследованные человеком плотские грехи, и просил господа отпустить их. И каждые две минуты он тихо шептал нам:
— Скажите: «Согрешил я, господи!»
— Согрешил я, господи, — набожно восклицали мы.
— Да простит вам господь прегрешения ваши, — говорил священник и приступал к следующим по списку грехам.
Грешили мы или нет, а «Согрешил я, господи!» надо было говорить. Мы не понимали значения многих грехов. Библия и литургия были на древнеармянском языке, который понимали лишь старики и образованные люди.
После исповеди мы навестили тех своих товарищей, которых когда-либо обидели или невзначай причинили им зло, и просили прощения. Теперь, когда мы готовились к причастию, все старые счёты и распри улаживались в духе христианского смирения и братства. Конечно, попадались и такие нахалы, которые, завидев меня, заливались смехом и, схватившись за ногу, пытались её поцеловать.
Празднование пасхи начиналось под вечер, в великую субботу, торжественной службой и зажиганием огней. Я прочёл свой отрывок из книги Даниила необыкновенно певуче, «как блбул»[1], говорили потом взрослые, хоть я и не надеялся когда-нибудь искупить свой позор в страстной четверг.
Мы вернулись домой к традиционному ужину из рыбы, крашеных яиц и пасхального кулича. Нашими почётными гостями были нищие. Я с большой радостью собрал толпу нищих на церковном дворе и привёл с собой. Они ели за спасение души дяди Арутюна. На первой неделе великого поста мы, дети, повесили на лампе в столовой луковицу, утыканную семью перьями, затем каждую неделю вытаскивали по перу и, наконец, вытянули последнее. Это был наш календарь великого госта.
Утром в воскресение, не поев, мы отправились в церковь принимать причастие. Алтарь был ярко освещён и украшен цветами. Картина Девы с младенцем была заменена другой, старинной, изображающей воскресение Христово. В хоре появились новые лица — люди, которые носили в детстве стихари.
Регент церковного хора ударил камертоном, подал знак, и мы запели звонкими радостными голосами пасхальную входную.
— Христос воскрес! Своей смертью он победил смерть и своим воскресением даровал нам жизнь! Слава ему во веки веков! Аминь!
Из-за новой занавеси, расшитой тяжёлыми золотыми нитями и сверкающей блёстками, епископ воздавал хвалу Христову воскресению, а мы откликались пением:
Христос воскрес, аллилуйя! Придите, люди, спойте Господу, аллилуйя! Тому, кто воскрес, аллилуйя! Тому, кто озарил мир светом, аллилуйя!Присоединившиеся к нам бывшие певчие солировали, стараясь перещеголять друг друга в пении. Епископ прочёл свою знаменитую проповедь, осуждавшую женщин, из подражания моде греховного Парижа носивших декольтированные платья. В руке он держал епископский жезл с серебряной двуглавой змеёй.
Мы спели «Отче наш», раздали людям священные опресноки и, наконец, дьякон обратился к прихожанам:
— Подойдите благоговейно и причаститесь к святости!
Толпа выступила вперёд. Высоко подняв руками позолоченный потир, епископ отвернулся, произнёс слова вознесения, спустился но ступенькам алтаря и присел на корточки у края помоста между стоявшими со свечами прислужниками. Он отломил кусочек облатки, обмакнул в вино и положил в рот причётнику, который, перекрестившись, проглотил его.
По мере того как люди выходили из церкви, толпа на церковном дворе густела, ведь многим не удалось попасть в церковь, и они всю службу простояли во дворе. Все принарядились по случаю пасхи, и даже дети бедняков были в новых башмаках. На кривой узкой улочке неподалёку турки симитджи[2] в лиловых штанах до колен, красных кушаках и фесках, повязанных платками на манер тюрбанов, чтобы отличаться от «неверных» в фесках, вели оживлённую торговлю хрустящими кунжутными бубликами в окружении изголодавшихся детей с медяками в руках.
Дома нас по обыкновению ждал воскресный пасхальный обед — зажаренный целиком ягнёнок, начинённый рисом, изюмом и кедровыми орешками. Не соблюдавший поста наш отец позволил детям выпить по полстаканчика вина, думая, что оказывает нам большую милость. Он и не подозревал, что я не раз отпивал из его большой бутылки, когда поблизости никого не было. Наполнять бутылку на винокуренном заводе г-на Персидеса было моей обязанностью. Мы разбивали друг у друга пасхальные яйца. Выигравший забирал себе крашеное яйцо.
После обеда мы с Оником взяли ракеты и шутихи, купленные на наши сбережения, и вместе с Элевтераки Персидесом и другими мальчиками устроили на нашей улице весёлое празднество. Затем с позволения мамы мы пошли в кинотеатр смотреть фильм о жизни Христа. Последующие несколько дней мы ходили в гости и принимали знакомых, по обычаю произнося при встрече пасхальное приветствие:
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Стол украшал изысканный серебряный сервиз. Гостей мы угощали турецким кофе, коньяком, ликёрами, вишнёвым и розовым вареньем, лимонным джемом. Если наша служанка Виктория не знала, кому подать вначале, мама выразительным взглядом указывала ей на гостя. Это было очень важно: соблюдались строжайшие правила очерёдности — сперва угощали пожилых и высокообразованных гостей. Мы принимали всех в гостиной, подобающе меблированной: французская софа, хрустальная люстра, выписанная из Франции, местами потрескавшаяся голландская печь, которая не обогревала комнаты, пианино, круглый стол орехового дерева и роскошный персидский ковёр на полу. Наша зала была обставлена скорее в восточном стиле, но зато гостиная — в европейском.
Благословить наш дом в день пасхи пришёл приходской священник тер-Шаге вместе с пономарём, дьяконом, причётником и регентом — поистине официальный визит. Мы, дети, должны были целовать ему руку. Когда ритуал благословения был окончен, они чопорно уселись, отведали угощений и побеседовали с мамой. Она была казначеем женского совета общины, а бабушка — его пожизненным президентом. Общими усилиями им удалось собрать довольно большую сумму пожертвований на церковь и ремесленное училище для нуждающихся девочек, попечителями которого они были.
Дети должны были демонстрировать перед гостями свои способности. Старшая сестра моя сыграла на пианино, Оник — на скрипке. Я встал на стул и продекламировал стихотворение, которому в детском саду научила меня воспитательница — очаровательная дочь тер-Шаге, которую я очень любил. Прочёл я стихотворение во весь голос:
Когда я подрасту И вырастут усы, Стану я Бравым солдатом!— Замечательно, замечательно, — сказал тер-Шаге, когда я закончил. Он потрепал меня по голове.
— Он может повторить все проповеди преосвященного, — сказала мама, польщённая похвалой.
— Знаю! — сказал регент нашего хора, осторожно засмеявшись. — Я ловил его за этим занятием… да ещё с метлой в руке.
Он тоже похвалил меня за пение и декламирование.
— Ключ господень открыл ему рот, — сказал улыбаясь тер-Шаге.
Когда мне было три года, а я всё ещё не умел говорить, тер-Шаге положил мне в рот церковный ключ, чудо совершилось, и впоследствии я более чем наверстал упущенное. Мама сказала ему, что я заикаюсь, когда нервничаю, на что он ответил, что господь исцелит меня и от этого. Об ужасном происшествии в великий четверг — ни слова! Они щадили мои чувства. Я горел желанием искупить свой грех, хоть и знал, что этот позор на всю жизнь останется на мне и никто из тех, кто видел, как я пытался поцеловать свою ногу перед алтарём, никогда не забудет этого. Когда священники уходили, мама украдкой положила в руку тер-Шаге золотую монету, которую пришедшим предстояло поделить между собой в соответствии со званием. Остальные притворились, будто ничего не видели.
— Да хранит господь вас всех! — снова сказал священник, подходя к двери, и ещё раз благословил наш дом.
Глава третья ОГНЕННЫЙ КОНЬ
История и фортуна всегда благоволили к первенцам мужского пола, их считали достойными наследниками всех царств мира. Моему старшему брату Онику оказывалось предпочтение во всём, несмотря на то, что я был и ростом не ниже, и в силе ему не уступал. Чтобы доказать это, я дрался с ним каждый день. Я и в школе не отставал от него, хотя первым в классе всегда считался он. Меня никогда не наказывали. Ни один из учителей ни разу не побил меня линейкой по рукам за опоздание или незнание урока; мне ни разу не пришлось стоять в углу на коленях за бумажные птички.
И вот наступило ещё одно лето — уроков не будет целых три месяца! Вместе с остальными мальчиками из третьего класса мне выдали табель об успеваемости. С криком радости проносились мы по крутым улочкам и по традиции праздновали свободу, разбивая чернильницы о булыжник. Бегая по улицам, я время от времени поглядывал на небо и предвкушал предстоящие каникулы в деревне. Я представлял, как нахожу в тихой лесной чаще птичье гнездо с ещё тёплыми на ощупь маленькими яичками в синих пятнышках или в бледно-коричневую полоску, как подстреливаю воробьев из рогатки и как перехожу вброд ручей. Жаль, что немногие мальчики из моего класса смогут провести каникулы в деревне.
Когда я ворвался в дом, держа в руке свёрнутый в трубочку табель, мать шила на зингеровской швейной машине. Я гордо протянул ей табель. Мама очень удивилась, увидев, что по поведению у меня самая высокая оценка — десять.
— И как это только тебе удаётся их обмануть! — сказала она. — Я пойду к директору и попрошу снизить оценку до нуля.
Я ужаснулся:
— Мама, но я ведь в самом деле хорошо веду себя в школе!
Я всегда чувствовал большую ответственность перед посторонними за поддержание чести нашей семьи.
Мать согласилась не жаловаться на меня, когда я дал ей слово так же хорошо вести себя дома — большего обещать я ей не мог. Тогда, как бы в награду, она сказала:
— Возьми, примерь это, — и протянула синие штаны, которые шила.
Стоило мне посмотреть на них, как я тотчас узнал старые брюки Оника. Мама покраснела и смутилась. Её трюк не удался. Она их перешила и пыталась выдать мне за новые.
— Ты погляди на эту заплату сзади! — негодующе запротестовал я.
— Да она крошечная, с булавочную головку, никто и не заметит. Будешь носить в деревне.
Отец всегда гордился моим братом Оником и сестрой Нвард и никогда им ни в чём не отказывал. Но он никогда не гордился мной: я не играл ни на одном музыкальном инструменте, не читал и не понимал классического греческого, да и в арифметике не блистал. Что же касается отца, он считал предметами первостепенной важности только музыку, классический греческий и математику. Все его клиенты-греки знали, что Нвард — первая ученица в классе по греческому. Отец был большим поклонником греков, их языка и культуры. Жили мы на греческой улице, и некоторые армяне даже считали, что мы больше греки, чем армяне.
Вот и мама теперь очень сильно меня обидела. Если Нвард и Оник были «папиными детьми», то я и моя младшая сестра Евгине были «мамиными». Чаша весов склонялась в пользу Оника и Нвард, ибо слово отца было законом в нашем доме.
Отвергнутые Оником штаны стали кульминацией того невнимания и дискриминации, которым я подвергался. Я надел их только потому, что вспомнил о бедных и нищих ребятишках, которые мечтали бы носить такие.
— Посмотри, как они на тебе хорошо сидят, — сказала мама, подтягивая их. Оник был полненьким, а я таким худым, что штаны всегда с меня сползали.
Я встал перед зеркалом и вздохнул. «Почему я не такой же красивый, как Оник или Нвард?» — подумал я. Я был гадким утёнком в семье: смуглый, на макушке торчит пучок чёрных волос, как бы я их ни смачивал. Оник, напротив, был светлым, с мягкими каштановыми волосами, а Нвард — блондинкой. Все говорили, что я совершенно на них не похож.
Держа под мышкой скрипку, чинно вошёл Оник. К нему ходили два частных учителя. К Нвард тоже. Отец так много тратился на них. А меня он не замечал. Никто не принимал меня всерьёз. С тех пор, как Оник, продекламировав стихи, получил от патриарха Завена, главы нашей церкви, корзину груш, он возомнил себя важной личностью. Подумаешь, я мог бы продекламировать лучше него, только он знал стихи с очень трудными словами, потому что был двумя классами старше меня да ещё занимался с частными учителями.
— Сегодня зеленщик не пришёл, — сказала мама. — Пусть кто-нибудь из вас сбегает в овощную лавку и принесет оху[3] гороха и три пучка петрушки.
— Мне нужно заниматься на скрипке, — сказал Оник.
Конечно, идти пришлось мне. Все мелкие поручения выпадали на мою долю. После того, как я принёс петрушку и горох, мне ещё пришлось притащить два ведра воды из общественного источника, будто гордости у меня никакой.
Наконец я освободился и мог поиграть. Антула и Пенелопа Персидес позвали меня поиграть с ними в классы. Нежная блондинка Антула была моей возлюбленной. Я собирался на ней жениться, когда подрасту. В семье Персидес, наших соседей-греков, было шесть дочерей, каждая из которых могла бы свободно позировать Праксителю[4], настолько они все были прекрасны. Но играть с Антулой и Пенелопой мне не хотелось. Я же был мальчиком в конце концов и мне надо было доказать своё мужское превосходство. Но они упросили меня, и я согласился.
Их старшей сестре Хелене было двенадцать, и она уже с нами не играла. Сидела на пороге дома и наблюдала за нашей игрой.
— Посмотри в зеркало! — рассмеялся я, показывая на её штанишки. Так кричали дерзкие мальчишки, вроде меня, увидев штанишки девочек. Хелене зарделась и опустила юбку.
— А ну, подними, — сказал я, — дай мне снова посмотреть в зеркало!
Хелене высунула язык, выразив этим полное пренебрежение ко мне.
Я поднял тяжёлый деревянный башмак с кожаным ремешком, брошенный кем-то на улице, и швырнул в неё, без всякого желания попасть, а так, проказы ради. К моему ужасу башмак угодил ей прямо в глаз. Хелене с криком вскочила. По её лицу струилась кровь. Я стоял как вкопанный и смотрел на неё, окаменев от страха и угрызений совести. Неужели она ослепла? Антула и Пенелопа потеряли дар речи. Они ничего не говорили. Слишком хорошо были воспитаны. Настоящие маленькие дамы.
Игра закончилась. Все выбежали посмотреть, что случилось.
— Ах, боже ты мой! — закричала мама, вбежала в дом и выскочила оттуда с бинтами и йодом, чтобы перевязать Хелене рану. Она грозилась вызвать полицию.
— Даже тюрьма слишком хороша для тебя! — сказала она. — Чтоб тебе в геенну провалиться!
А Нвард, заламывая руки, направо и налево извинялась.
— Погоди, вот вернётся отец, — сказала она мне.
— Дурак! — сказал Оник.
— Дикарь! Варвар! — прибавила Нвард.
Кинувшись домой, я помчался наверх в спальню и захлопнул за собой дверь.
Теперь я отверженный, и никто больше со мной не заговорит. Уткнувшись лицом в подушку, я ждал, пока явится полиция и заберёт меня в тюрьму.
Все полицейские были турками, они носили серые овечьи папахи с полумесяцем и звездой и огромные револьверы на боку. Неподалёку от нашей улицы находился полицейский каракол[5]. Мне не раз приходилось видеть арестантов, чьи ноги были скованы тяжёлыми цепями. Я даже видел, как вешают преступников на майдане — центральной площади города, и мне мерещились их голые ноги, болтающиеся из-под длинных белых одеяний и приколотая к груди бумага с перечнем их преступлений. Судья-турок приговорит меня к тюремному заключению, а потом они закуют мои ноги в эти ужасные цепи. «Ну и пусть меня повесят, — сказал я себе, — умру как герой».
Я представил, как иду по нашей улице в наручниках, сопровождаемый двумя полицейскими; губы мои твёрдо сжаты, а голова высоко поднята. А все вокруг говорят:
— Он мальчик плохой, но храбрый.
В комнату влетела ласточка, заметалась по комнате, а затем вылетела. Это была моя ласточка, одна из той парочки, что свила гнездо в нашей верхней прихожей, потому что весной мы оставляли двери и окна распахнутыми. Теперь эта ласточка стала моим единственным другом. Она сказала на своём языке, что будет навещать меня в тюрьме и приносить весточки, как ласточка в рассказе «Счастливый принц» из армянской хрестоматии. Меня глубоко растрогала эта чудесная сказка. Комната ярко осветилась отблесками огненно-красного заката. Я прищурился и увидел в темнеющей комнате мириады светящихся, призрачных видений — они исчезали, появлялись, переплетаясь и перетекая друг в друга: то это были большие бабочки, то летающие шары, то пурпурный дым, уносимый таинственным ветром, то розовые лепестки, дождём осыпающиеся с каких-то невиданных деревьев, то молниеносно скачущие огоньки, а то прозрачные замысловатые узоры, плетущие вокруг меня воздушную паутину.
Вскоре я услышал голос отца и его шаги внизу. Значит, он вернулся из аптеки. По вечерам я всегда ждал отца и выбегал встречать его на улицу. Мне казалось, что я слышу, как он спрашивает в дверях обо мне, как Нвард, Оник и мама рассказывают ему, что я натворил. Я решил убежать из дому. Сбегу в другой город, может быть, даже в Россию. Со школой покончено! Буду зарабатывать себе на жизнь, работая подмастерьем либо в овощной лавке, либо в обувной, а может, стану продавать спички и папиросную бумагу на улицах.
По вечерам, после работы, отец всегда пребывал в весёлом расположении духа. Выпив аперитив, он громко заявлял:
— Я лорд, английский лорд! — и хлопал себя по плечу. — Вот моя женщина и вот мои дети, чего ещё может желать человек? — говорил он.
Слово «женщина» коробило мать. В его устах оно звучало как «девка». Юмор у отца был раблезианский, и он любил паясничать и шокировать дам.
После аперитива, перед обедом, отец устраивал импровизированный концерт. Мы пели его любимые песни, Оник играл на скрипке, а Нвард аккомпанировала ему. Иногда папа сам играл на скрипке и очень забавно пел церковные гимны, подражая вибрирующим голосам псалмистов. Он хвастал былыми успехами в математике. В его-то времена армянская школа была настоящей школой. Когда он входил в класс, мальчики вставали и кричали хором: «Вот идёт наш великий математик!» Не было ни одной задачи, которую он не мог бы решить. Да и учителя у них тогда были настоящие, не то что теперешние ослы и башибузуки, — говорил он.
Но сегодня стояла зловещая тишина.
Слышно было, как все встали и пошли в столовую. Я был голоден, но до меня никому не было дела. Снизу доносился запах отварного языка и гороха — блюда, которое отец называл королевским, рыбы и чая. Никто, никто меня не любил. Мне хотелось умереть.
Я подошёл к окну и стал украдкой следить за тем, что происходит у Персидесов по другую сторону улицы. Они тоже сидели и обедали. Голова Хелене была забинтована. Она не ослепла, но от раны останется уродующий шрам, и тогда никто не захочет на ней жениться, с горечью подумал я. Во главе стола сидел её строгий отец, господин Персидес, винокур. Я боялся его, но собственные дети боялись ещё больше. Он был чрезвычайно уважаемым горожанином. Я видел госпожу Персидес, трёх старших дочерей — Делисилу, Андронику, Теанон и их брата Элевтераки — моего дружка. Старший их сын учился в Париже. Конечно же, они говорят о моём преступлении. Я стал позором своей семьи и нации.
В комнате темнело. Мне стало казаться, что под кроватью и в гардеробе прячутся воры и привидения. Хотелось звать на помощь и бежать вниз. Но ведь я должен был стать бесстрашным солдатом, революционером, как дядя Левон. А он никогда ничего не боялся. Я услышал, как они все вернулись в гостиную, и ко мне в комнату вошла наша хорошенькая служанка Виктория, держа в руках зажжённую лампу.
— Отец хочет тебя видеть, — строгим тоном сказала Виктория.
— Он очень сердится?
Она кивнула. Вслед за ней я спустился в столовую, так низко опустив голову, что мне были видны только узоры на ковре. Увидев ноги матери в углу комнаты, я побрёл по направлению к ней, не осмеливаясь, однако, поднять голову.
— Эш! Осёл! — произнёс отец своё самое презрительное слово. Его нервные дрожащие руки обрушились на мою спину. Я упал. Впервые в своей жизни отец бил детей. Мне показалось, что меня поразил сам господь бог. Я был раздавлен и унижен, хотя физической боли не ощущал. Мне было больно за отца. Волосы его поседели, он работал для нас, не покладая рук, отправлял нас отдыхать в деревню каждое лето, а сам в летний зной оставался в городе готовить лекарства. Пряча лицо, я с трудом приподнялся на колени, не смея смотреть ни на него, ни на других. Потом подполз к матери и, забыв, что я бравый солдат и революционер, разревелся прямо у неё на коленях. Она дала мне немного поплакать, потом подняла наверх, уложила в постель, укрыла одеялом и когда я прочёл «Отче наш», дрожащей рукой перекрестила меня.
— Ты должен завтра извиниться перед Хелене.
— Д-да, мама.
Она ушла, а я зарыдал, накрывшись одеялом. Мне казалось, что я не переживу этого позора. Минут через пятнадцать вошла тётя Азнив, мамина незамужняя сестра, — мы, дети, любили её как вторую мать — и села у кровати. Она недавно вернулась из паломничества в Иерусалим.
Её любимцем тоже был Оник, они спали в одной комнате. Но мне она привезла из Стамбула инкрустированную перламутром маленькую мандолину, а из Бейрута — французскую почтовую открытку, на которой был изображён Наполеон верхом на лошади. Поистине утончённый комплимент!
— Шат чар эс — ты ужасный шалун, — сказала она, и в голосе её слышалось отчаяние. — Почему ты не можешь быть таким, как Оник? Он не такой проказник, как ты.
— Всё равно папа никогда бы его не побил! — сказал я, заглушая подушкой рыдания. — Здесь только меня одного наказывают. Если с-сломается с-стакан — то я его с-сломал… Потеряется что-нибудь — т-тоже я… Учителей мне не нанимают, учиться музыке не отдают!.. Таскать воду должен я, сходить в лавку за овощами и хлебом — опять я. И не б-беда, если у меня заплата на штанах… А Оник и Нвард могут делать всё, что им захочется…
— Они старше тебя, родной. Хочешь, я тебе сказку расскажу? Жил-был человек, — начала она, — у которого было три сына. Повадился к ним по ночам вор красть урожай. Тогда попросил отец сыновей поймать его. В первую ночь поле караулил старший сын, но уснул, и вор утащил урожай. Во вторую ночь поле караулил средний сын, но и с ним приключилась та же история. В третью ночь пришла очередь младшего сына — Манука. Братья посмеивались над ним, говорили, что он и мухи не поймает.
Стал Манук ждать вора. Чтобы не уснуть, он порезал себе палец перочинным ножиком, а в рану втёр соли. В полночь услышал он гул ветра и, посмотрев на небо, увидел вдруг огненного коня — крылья огненные, из глаз сыпались молнии, а из-под копыт снопами вылетали искры. Летел он быстро, а как приземлился прямо на поле — земля задрожала.
Этот удивительный конь стал поедать урожай. Манук следил за ним из-за кустов. Так вот кто вор! Он подкрался к нему сзади, прыгнул на спину и крепко стянул ему верёвкой шею. Конь забил копытами, взвился на дыбы, пытаясь сбросить Манука, да не тут-то было.
Тут конь почуял, что нашёл своего настоящего хозяина, и взмолился:
— Отпусти меня, Манук. Никогда больше не трону ваш урожай. А за доброту твою — отплачу. Свистни только и скажи три раза: «Огненный конь!» — я тотчас же примчусь.
— Хорошо, — ответил Манук. — Я тебе верю.
И отпустил коня; тот полетел и скрылся в небе. Вернувшись домой, Манук рассказал отцу и братьям, что поймал вора, но отпустил, взяв с него обещание и близко не подходить к их полю. Братья обозвали его дураком. Но с той поры никто уже не крал их урожая.
Была у царя очень красивая дочь, которую он хотел выдать замуж за лучшего наездника в царстве. Разослал царь гонцов во все концы страны, и они объявили о большом дворцовом празднестве, во время которого царевна сядет у окна во дворце, а на пальце у неё будет кольцо. Тот, кто допрыгнет на коне до окна и сорвёт кольцо с её пальца, тот и получит её руку.
Со всех концов царства поспешили наездники на состязание. Старшие братья Манука тоже решили участвовать, ведь они были добрыми наездниками. Они оделись во всё самое лучшее, вскочили на лучших коней и поскакали, оставив Манука дома. Они не захотели взять его с собой.
— Дурачок, — сказали они, — куда тебе с нами тягаться?!
У Манука не было коня, ходил он в обносках братьев и знал, что некрасив. Он совсем было приуныл, как вдруг вспомнил об огненном коне. Вышел он в поле, свистнул и позвал три раза: «Огненный конь!» Тотчас же земля загудела, задрожала, и перед ним невесть откуда возник прекрасный конь с серебряным седлом.
— Я твой друг — Огненный конь, — сказал он. — Что прикажешь?
— Скачи со мной ко дворцу, на состязание.
— С большим удовольствием.
Взобрался Манук на коня и превратился в прекрасного рыцаря. Он скакал во всю прыть. Состязание уже началось. Когда настал его черёд, конь прыгнул выше всех, не доставая нескольких вершков до кольца. Толпа закричала от восторга. — Кто он? Кто он? — спрашивали все. Но Мануку не хотелось открывать своего имени. Он повернул коня вспять и исчез.
Вечером братья рассказали отцу о таинственном наезднике, который чуть не выиграл состязание. Манук слушал их, улыбаясь про себя.
Но неудача не обескуражила братьев. На следующий день они сделали новую попытку. Манук снова всех превзошёл. Ему удалось достичь окна, коснуться руки царевны, но он не сумел сорвать кольца. Он уехал прежде, чем толпа хватилась его.
В третий и последний день состязаний Мануку наконец удалось снять кольцо с пальца царевны.
— Кольцо! Оно у него! — закричали люди. — Держите его! Узнайте, кто он!
Но Манук мгновенно исчез. Он поблагодарил Огненного коня, отпустил его и пошёл домой, повязав руку тряпкой, чтобы скрыть кольцо. Он притворился, будто порезал палец.
Царские гонцы разнесли всем приказ участвовать в новом состязании. Людей вели на состязание под угрозой смерти. В этот раз братья позволили Мануку поехать с ними. Заметив его перевязанную руку, царская дочь уже в роли гостеприимной хозяйки спросила:
— Что с твоей рукой?
— Ничего, — отвечал Манук, — я порезал себе палец.
— Дай я его перевяжу, — сказала царевна.
— Ты очень добра, — сказал Манук и снял с руки грязную тряпицу.
Царевна поразилась, увидев на его пальце своё кольцо с самым крупным бриллиантом на свете. Она улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. Она взяла его под руку и повела к царю.
— Отец, познакомься с моим женихом, — сказала она, и Манук поклонился.
— Ах! — воскликнул царь, отложив свой золотой меч в сторону и закрутив усы. — Так это ты — победитель! Я отдаю тебе свою дочь, бери её.
— Благодарю вас, ваше величество, — промолвил Манук. — Я её очень люблю.
В царском одеянии, с золотым мечом на боку Манук казался самым красивым и счастливым юношей в царстве. Его свадьбу с прекрасной царевной играли семь дней и ночей…
Когда тётя Азнив закончила свою сказку, я забыл обо всех невзгодах, выпавших на мою долю. И с той поры я всегда ездил на огненном коне. Я многим ему обязан, даже жизнью.
Глава четвёртая В АРМЯНСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Меня разбудил цокот лошадиных копыт и грубые голоса извозчиков. Выскочив из постели, я стянул с себя ночную сорочку и, дрожа от возбуждения, лихорадочно оделся. Надел новые, с загнутыми носками туфли — специально для деревни. Они были такими лёгкими, что хотелось в них летать. Кубарем скатившись по лестнице, я выбежал на улицу посмотреть на лошадей.
Они неловко переступали по булыжной мостовой. Кони редко появлялись на нашей улице, конец которой между домом Персидесов и нашим был отгорожен стеной. Я оглядел лошадей хозяйским глазом: две серые в яблоках, две гнедые с красноватым отливом и одна белая. Мне нравилось, как они пахли — запах здоровых животных, смешанный с острым ароматом седельных вьюков, кожи и сена.
Светало. Большая бледная звезда всё ещё мерцала над Серой горой, напоминающей по контурам монашью рясу. На её верхушке всё отчётливее проступал высеченный в скале византийский монастырь, возносящийся ввысь подобно белым воздушным ступеням, ведущим к божьему трону. Как первозданна и чиста была вселенная в этот ранний час, как прохладен серо-голубой рассвет! В воздухе стремительно проносились ласточки, то взмывая с пронзительным криком вверх, то устремляясь вниз. С криками, вращая в воздухе верёвками, к нам ворвались бесшабашные извозчики-лазы. Красивые, хорошо сложенные, они двигались быстро и грациозно, как дикие кошки. На них были костюмы их племени, серого или чёрного цвета: плотно облегающие колени, но сильно расширяющиеся кверху шаровары, нарядные, вышитые по краям рубашки с патронташами; чалма, обёрнутая вокруг головы, со свободно свисающими до плеч концами; башмаки с загнутыми носками, как у меня. У каждого был при себе либо кинжал, либо нож.
В доме начались лихорадочные приготовления. Отец уже ушёл в аптеку, а мать укладывала вещи. Кухонную посуду и провизию уложили в корзины и покрыли сверху ковриками и подушечками, чтобы можно было на них сидеть. В тюки с постельными принадлежностями положили тарелки, стеклянную посуду, настольные часы. Сверху тюки обернули коврами, и извозчики топтали их, стягивая верёвками. Я бегал по лестницам то вверх, то вниз, из одной комнаты в другую, ликуя в душе. Время от времени я помогал спускать вещи.
— Мама, давай и это возьмём с собой в деревню, — сказал я, протягивая ей стереоскоп. У нас был альбом с иллюстрациями, изображающими улицы и здания Парижа, сцены из «Севильского цирюльника», «Свадьбы Фигаро», «Комической оперы». Они оживали в магическом свете стереоскопа.
— Не надо, разобьётся, — коротко ответила она.
Порывшись в комнате, я вынул из-под маминой кровати картонную коробку, в которой лежала женская шляпа с перьями. Я и не знал, что мама когда-то носила «парижские» шляпы. Она всегда надевала свой мрачный турецкий чаршаф, когда выходила из дому.
— Мама, это твоя шляпа?
— Да, — вздохнула она.
— Почему ты её больше не носишь? Мне бы так хотелось, чтобы ты носила такую шляпу.
Она не ответила. Я догадался. Мама была в трауре вот уже много лет. Поэтому и перестала играть на пианино, купленном её отцом, когда она была молоденькой девушкой. В коробке были ещё бархатные и шёлковые лоскутки, и вдруг я извлёк оттуда голубой вязаный детский башмачок с пушистым белым помпоном.
— Чей это? — спросил я. — Евгине?
— Нет, он твой, — грустно улыбнувшись, ответила мать.
Я недоверчиво посмотрел на неё. У меня были такие крошечные ножки? Ведь я не могу натянуть башмачок даже на кулак. Я задумчиво потёрся щекой о башмачок, пытаясь вспомнить те времена, когда был такой крохой.
Но маме это стало надоедать, и она велела не мешать ей.
— Настоящий мышонок! Он что хочешь выкопает в этом доме, ничего от него не спрячешь, — сказала моя бабушка. Она не собиралась ехать с нами в деревню, считая, что слишком стара для путешествий. Не собирался и отец, потому что аптека должна быть постоянно открыта, но пообещал приехать на несколько дней. Кошку мы тоже не взяли с собой.
Пришли попрощаться родственники и соседи. Дети Персидеса с завистью наблюдали за нашими приготовлениями, ведь они не уезжали отдыхать на летние каникулы, как мы. Голова у Хелене была всё ещё забинтована, но я тогда попросил у неё прощения, и мы снова стали друзьями. Шумные извозчики начали грузить на лошадей тюки и корзины.
Мы тронулись, сидя в корзинах, наполовину забитых домашней утварью, — смехотворный способ путешествовать, но иначе в деревню было не доехать. Нам махали платочками на прощанье.
— Выпейте там за нас молочка!
— Не забудьте привезти нам большую тыкву, когда вернётесь!
— И жареную кукурузу!
— Смотрите, не растолстейте!
Когда мы проезжали по улице, окна домов открывались и соседи махали нам руками и платками, желая приятных каникул.
Мы проехали мимо нашей аптеки в центре города. Я гордо прочитал её название: «Центральная аптека», написанное золотыми буквами на оконном стекле по-французски, по-турецки, по-гречески и по-армянски. Возле аптеки на тростниковых стульях сидели турчанки, лица которых были скрыты чадрой, смиренно ожидая лекарств или осмотра доктора Метаксаса в задней комнате. Увидев нас из-за прилавка, отец и доктор Метаксас улыбаясь вышли из аптеки. Смуглое лицо отца гордо сияло: видите, как я забочусь о жене и детях! Выбравшись из города, мы некоторое время ехали по берегу реки, потом повернули в горы. Грунтовая дорога шла, извиваясь, по Понтийским Альпам.
— Закрой глаза, — сказала Евгине, сидевшая рядом в корзине. Оказалось, она сделала чудесное открытие: когда закрываешь глаза, лошадь пятится назад. Снова открываешь их, — и видишь, что мы едем в прежнем направлении.
— Мы будто движемся назад, правда? — сказала Евгине.
Нас это озадачило, и мы стали развлекаться тем, что закрывали и открывали глаза.
— Евгине, посмотри! — В кусты прыгнул кролик. Я вспомнил стишок о кролике, но мне от него всегда становилось грустно, потому что в конце стихотворения охотник убивал его.
Временами то Евгине, то я повисали над страшной пропастью, на дне которой, бушуя, пенился горный поток. Один неверный шаг поверг бы всех нас в бездну, в бурлящие неистовые воды. Наши лошади шли с ловкостью канатоходцев, а извозчики пели монотонные турецкие песенки:
Я спустил на воду свою лодку, Я из Ризе, из Ризе, Я сажаю на колени красотку, вроде тебя.Лошади откликались на пение громким фырканьем, а я копировал, передразнивал их.
Путешествие длилось весь день. И всю дорогу, пока мы не доехали до деревни, всё побаивались извозчиков. Лазы — народ необузданный, занимающийся пиратством и разбоем. Правда, на государственной службе из них получались отличные моряки и солдаты. Фанатичные мусульмане, они всё же отличались от турок, были скорее похожи на грузин — говорили даже, что когда-то они были христианами, как и мы.
Стоило нам въехать в деревню, как мы почувствовали себя в безопасности, ведь мы были на христианской земле. Отец снял домик, перед которым росло грушевое дерево с большими жёлтыми плодами, а на лужайке стояли в ряд молодые тополя. Прямо за домом кукурузные и табачные поля отлого спускались к лесистому берегу бурной реки. Извозчики выгрузили вещи, получили от матери причитающийся им остаток платы и бакшиш[6] и двинулись в путь, а мы стали устраиваться на трёхмесячный отдых.
У нашего хозяина мать взяла напрокат трёх овец и одну козу. Животные оставались в стаде, но их молоком пользовались только мы.
Хозяин был очень почтителен и всё говорил:
— Делайте, что хотите, окажите мне честь.
Деревня славилась здоровым климатом и питьевой водой. Тамошние груши таяли во рту и были слаще сахара. Сыр и масло этой деревни высоко ценились в Константинополе. Разводили также табак, коноплю и большущие «каштановые» тыквы, каждая из которых весила не меньше пятидесяти килограммов. В долгие зимние вечера варёная тыква доставляет истинное наслаждение. Запечённую тыкву продавали на улицах города, как и жареные каштаны.
На заре молодые пастухи сгоняли стада на горные пастбища. Их возвращение на закате становилось самым большим событием дня. Все выходили на улицу их встречать. Деревенские женщины, забравшись с прялками, веретёнами и спицами на плоские крыши своих лачуг, зубоскалили и смеялись. Горожанки с накинутыми на плечи шалями — вечера стояли прохладные — прохаживались взад-вперёд по главной улице, если её вообще можно было назвать улицей. Все взгляды устремлялись к крутому холму, на вершине которого находились пещеры отшельников и церковь.
Вначале слышался слабый, далёкий перезвон колокольчиков, становясь с каждой минутой всё громче и громче. Вскоре на холме появлялись овцы. Мальчишки верхом на деревянных лошадках неслись им навстречу, издавая воинственный клич. Стадо, возглавляемое авангардом мудрых бородатых козлов, рассыпалось по холму, а затем наводняло всю улицу. Большие колокольчики звучали глухо и печально, как валторны в пасторальной симфонии. Вправо и влево с лёгким топотом расходился поток из пушистых клубков. Овцы бежали к своим загонам с таким полным выменем, что их задние ножки выгибались в коленках наружу. Длинноногие кудрявые ягнята весело скакали рядом с овцами. Крепко обняв, мы прижимали к груди этих милых майских ягнят.
Когда начиналось доение, в деревне наступала тишина. Мы наблюдали, как жена и дочь хозяина доили наших овец и козу. Затем дочка несла нам ведро тёплого жирного молока.
Крестик качался на её прелестной пышной груди и сама она, казалось, была полна молока. Молодые горожанки не выдерживали сравнения с этими деревенскими девушками. Их цвет лица вызывал у горожанок зависть.
Наша служанка Виктория была родом из соседней деревни. У неё были мягкие каштановые волосы и пунцовые, как вишня, щёки, а фигура совершенна, как у мраморного изваяния. Мои родители взяли Викторию в семью, когда ей было девять лет, сейчас ей минуло восемнадцать, и она казалась настоящей горожанкой рядом со своими деревенскими сёстрами. Пораженные её одеждой, золотой брошью сердечком и браслетом, они относились к ней с почтением. Виктория и в самом деле выглядела элегантно. Она скорее была нашей старшей сестрой, чем служанкой, и даже брала вместе с Нвард уроки французского языка.
По соседству с нами жил молодой парень — бывший пастух, потерявший во время какого-то происшествия ногу. Он задумчиво глядел, как уходили и возвращались стада, и душещипательно играл на свирели. Он больше не мог пасти овец, ему было бы трудно взбираться на костылях на скалистые холмы. Будучи искусным оружейным мастером, он делал для нас ружья из дощечек, проволоки и пустых патронов. Мы насыпали в них настоящий порох, и они стреляли не хуже турецких армейских ружей.
— Смотрите, как бы сюда жандармы не заявились, — говорила мама, затыкая уши. Но мы-то знали, что жандармов нигде поблизости нет. Мы хотели заплатить за ружья, но бывший пастух ничего, кроме сигарет, не брал. Так и не удалось матери выяснить, куда деваются наши сигареты из фарфоровой чаши в виде фески. Она периодически заполняла её для гостей, а я так же периодически опорожнял её почти наполовину, набивая сигаретами карманы. Ему нравилось их курить. Они были с золотыми кончиками, а изготовлены из бафрского табака. Я зачарованно глядел, как он зажигает сигарету с помощью двух кремней.
Когда в середине июня начинали убирать хлеб, для нас, мальчишек, наступала пора веселья. Мы катались на молотильной тележке, состоявшей из двух скреплённых меж собой досок, внутренняя сторона которых была обита кремнем. Когда бык поднимал хвост, мы незамедлительно подставляли под него корыто для навоза, чтобы не пачкался пол гумна. К концу дня крестьяне веяли зерно, бросая его лопатой вверх. Ветер уносил мякину, а зерно благодатным потоком сыпалось на землю. Но только зажиточные крестьяне могли позволить себе есть пшеничный хлеб. Большинство обходилось более дешёвым, кукурузным. Белый городской хлеб был для них таким же лакомством, как для нас кукурузный.
Когда дядя Левон приезжал в деревню, он по дороге к нашему дому стрелял из револьвера в воздух, возвещая о своём приезде. Я повисал на нём, когда он входил в дом. Глаза матери светились.
— Дай мне подержать револьвер, — просил я его.
— Да не давай ты ему эту штуковину! — говорила мать. — Тебе и самому бы не мешало быть осторожнее.
Тем не менее дядя Левон позволял мне подержать части от револьвера, когда он его чистил и смазывал. Он только что вернулся из поездки в Константинополь и привёз нам всем подарки. Мне он подарил карандаш из слоновой кости в форме гусиного пера.
Приветствовать его пришли местные молодёжные вожаки.
— Добро пожаловать, товарищ Левон, — сказали они, гордо пожимая ему руку.
Это были прекрасные, смелые ребята с живыми чуткими лицами, одетые в костюмы лазов. Дядя Левон когда-то преподавал в деревенской школе, а эти молодые люди были членами его партии. Он их «организовывал». Они немного поговорили о деревенском житье-бытье: сборщик налогов вновь разорил несколько семей; земельные разногласия с турецкой деревней грозили новым кровопролитием; табак уродился неплохой, а фундук не удался; от крестьян, эмигрировавших в Россию и выращивающих там табак, пришли письма.
— Вся деревня хочет переехать в Сухум, — сказали они. — Скоро Россия будет производить больше табака, чем мы.
— Товарищи, — взволнованно сказал дядя Левон. — Вы должны уговорить их остаться. Их отъезд нас ослабит. Именно этого и добиваются турки. Будем надеяться, что нас ждут лучшие дни. Беседуя с руководителями нашей партии в Константинополе, я рассказал им о создавшемся здесь положении. Новые политические перемены радуют. Великие державы нас поддержат, а турецкое правительство подписало с Россией договор о введении реформ в восточных провинциях.
Молодые люди живо заинтересовались этими «реформами».
Это слово я теперь часто слышал. Серьёзные ли в этот раз у России намерения? Не замышляют ли турки свои старые козни? Хотят ли они в самом деле обеспечить равные права христианам и мусульманам? Правда ли то, что государственные законы будут опубликованы и на армянском языке, и что наш язык станет приемлем в залах суда? Правда ли то, что выполнение этого договора должно проходить под надзором генерального инспектора из Норвегии?
Тогда дядя Левон, который имел беседу с партийными руководителями в столице, дал ободряющие ответы на их вопросы.
— Только одна Германия против нас, — сказал он. — Киликию не включили в этот план, потому что немцы считают Киликию своей сферой влияния. Она расположена по Берлино-Багдадской железной дороге. Поэтому они не хотят проводить реформ в Киликии.
— Но ведь наше последнее царство находилось в Киликии, — возразил один из парней, очевидно, хорошо знавший армянскую историю.
— А что мы можем сделать? Германия боится тётушки России и поэтому поддерживает турок, — сказал дядя Левон. — Немцы лучше турок знают, что реформы в Киликии усилят армян, и мы вскоре возьмём всё в свои руки. Разве можно что-либо предсказать? А вдруг тётушка решится сойти с Кавказских гор, выкупаться в водах Средиземного моря и показать Германии нос? В нашей городской школе в будущем году начнут проходить русский язык, — прибавил дядя Левон.
Ничто не вызвало такого волнения, как это сообщение. Вместе с родным языком мы проходили французский и турецкий, но скрытый смысл изучения русского языка был настолько захватывающим, что мы подумали: наша всесильная Тётушка уже на пути в Трапезунд.
Из столицы дядя Левон привёз последние номера партийных газет «Азатамарт» («Борьба за свободу») и «Дрошак» («Знамя»), которые издавались в Швейцарии. Молодые деревенские мыслители нетерпеливо расхватали их.
— А как относится ко всему этому Иттихат?[7] — захотелось узнать одному из них.
И снова дядя Левон их приободрил.
В Стамбуле все знают, что министр внутренних дел Талаат-паша обедает и играет в нарды с нашими партийными руководителями. А Иттихат — хозяин своего слова. Дружелюбно относится к нам и Джемал-паша, новый министр военно-морских сил.
— А Энвер?[8] — Это имя было магическим для всех турок.
— Энверу ничего больше не оставалось, как похвалить армянских солдат, принявших участие в Балканской войне. Нелегко было нашим парням воевать против христиан-болгар и против Андраника[9], служившего в болгарской армии. Вот ты, Тигран, участвовал в битве при Чаталдже.
Тигран угрюмо кивнул.
— Если бы не Тигран, Андраник захватил бы Константинополь, — сказал один из молодых людей, и все засмеялись.
Но кроме хороших вестей, дядя Левон привёз от партийных руководителей предупреждение об опасности.
— Можно обедать и играть с ними в нарды, но никогда не забывайте, что нам нужно объединяться. Нас могут снова обмануть. Моего отца убили на майдане, а генерал-губернатор притворялся его ближайшим другом. Нет, всё-таки никогда не знаешь, когда нам придётся пустить в ход вот это. — Дядя Левон похлопал по кобуре револьвера, висевшего у него на боку.
Беседа принимала загадочный характер. Я стал догадываться, что они хотят обсудить нечто тайное. Дядя Левон предложил им выйти на прогулку, будто бы посмотреть новую мельницу. Мне хотелось прогуляться с ним, но я подумал, что у дяди Левона есть для товарищей и другие новости, которые меня не касаются. В последнее время он ввязался в какие-то тёмные дела, переправляя в деревни и города полученные из-за границы тайные грузы, и это страшно тревожило маму.
Ранним утром следующего дня мы с Оником и дядей Левоном отправились купаться и удить рыбу.
Неподалёку от нашего домика был красивый пруд с маленьким водопадом. Мы разделись и стали плескаться, а дядя Левон вскарабкался на камни и стал прямо под водопад, подставив воде широкую волосатую грудь. Мы последовали его примеру, но под тяжестью воды свалились на дно и стали кувыркаться в быстром течении Пруд был полон рыбы, и домой мы вернулись с нанизанной на бечёвку связкой форели, которую мама зажарила к завтраку. Какая же она была вкусная! Мама радовалась, что дядя Левон вновь обрёл свою обычную жизнерадостность, а не предаётся вместе с ней скорби по брату.
Дядя Левон взял в деревню свою двустволку. Уходил на охоту и возвращался всякий раз с полной сеткой куропаток и перепелов. Мать жарила их к ужину, да ещё часть отсылала родственникам и соседям. После ужина мы обычно выходили посидеть у калитки. Пока мать и тётя Азнив вязали, а Виктория плела свои замысловатые кружева, дядя Левон рассказывал захватывающие истории о революционерах, о том, как молодёжь деревни воевала против лазов и жандармов и своей храбростью на войне снискала себе известность даже у болгар-комитаджи[10] в Македонии; как «армяне-революционеры» захватили Оттоманский банк в Константинополе и грозились его взорвать, если не будут проведены реформы; как в Карабахе великий Давид Бек наголову разбил персов, турок и курдов; как в горах Киликии зейтунские крестьяне обратили в бегство пятидесятитысячную турецкую армию и не сложили оружия до тех пор, пока не вмешались великие державы и не пообещали защитить их права.
— Туркам никогда не удавалось покорить Зейтун, — говорил дядя Левон. — Да и в Сасуне такой же храбрый народ.
Меня эти рассказы так возбуждали, что я, заново воскрешая в памяти эти битвы, с криком «Бах! Бах! Бах!» носился по двору как угорелый.
— Вот опять с ума спятил, — с улыбкой говорила мама.
Дядя Левон всегда прерывал рассказ в самом интересном месте. Мы с Оником умирали от любопытства, но он держал нас в напряжённом ожидании до следующего вечера. Спали мы, мужчины, втроём в одной комнате, и когда ночью во дворе завывали шакалы, дядя Левон хватал ружьё и палил в окно. Остаток ночи они старались держаться подальше от нашего двора. Ни одного шакала он не застрелил, да я их никогда и не видел.
По вечерам на деревенской площади молодёжь водила весёлые хороводы, играла в карты, беседовала, вызывала духи умерших, устраивала вылазки и пикники. Дети поставили пьесу, в которой я играл солдата, нарисовав себе жжённой пробкой чёрные усы. Взрослые согласились прийти к нам на представление в наспех сколоченный театр и заплатить за вход.
По воскресным вечерам крестьяне устраивали на деревенской площади танцы; мужчины — в костюмах лазов, женщины — в вишнёвых бархатных и шёлковых одеждах, в круглых бархатных шапочках, увешанных золотыми монетами, и красных башмачках с серебряными пряжками. Они танцевали, держась за руки или плечи, смыкая и размыкая круг. Ведущий размахивал платком и выполнял самые затейливые движения.
Иногда мужчины отделялись от женщин и, подняв руки над головой, взявшись мизинцами, танцевали на носках. Лица мужчин выражали полное самозабвение. Этот ритмичный круг то смыкался — тогда они касались друг друга грудью, то широко размыкался. Они приседали на одно колено и с криком «Алашага!» вскакивали и приседали на другое колено, потом с тем же воинственным кличем подрагивая всем телом начинали стремительно кружиться, взявшись за руки. Подрагивание и являлось самой характерной чертой мужского танца. Тем временем звуки волынок и барабанная дробь достигали самых пронзительных и воинственных нот, одинаково заражая огнём и горожан и деревенских. Выстрелы из огнестрельного оружия прибавляли веселья этим танцам, обычно завершавшимся ещё одной помолвкой или свадьбой.
Наконец приехал и отец верхом на лошади, смешно выставив вперёд ноги, а душа у него, как говорится, уходила в пятки, и мы, глядя на него, не могли удержаться от смеха. С лошади он не падал каким-то чудом — хуже него ездока я не видел. Приехал он в сопровождении своих племянников Геворка и Вртанеса, оба провизоры (как, впрочем, и их отец: фармацевтика была семейной профессией).
Отец был полон решимости веселиться до упаду после напряжённого года работы без выходных. Два дня он провёл, навещая друзей, часть которых проживала в греческой деревне, и везде всех смешил. Каждое его посещение выливалось в бурное событие, и после этих визитов про отца рассказывали много смешных историй, которые нас смущали. Я ходил с ним в греческую деревню и видел, как восторженно принимали нас его греческие друзья. Они говорили, что заранее не знали о его приезде, иначе бы зажарили в его честь овцу. Греки называли папу «Карапетис», прибавляя греческое окончание к его имени Карапет.
Навестив и позабавив своих греческих друзей, он освобождался для пикника, который устраивала вся наша деревня. Отец очень любил подобные мероприятия. Для этой цели закалывали самую жирную овцу и, взвалив съестные припасы на двух осликов, мы с утра пускались в путь к папоротниковой полянке близ священного Молочного источника. Правда, из этого источника била всего лишь вкусная холодная вода. Мы выходили на кремнистую тропинку, пересекали зелёную поляну, усеянную круглыми золотистыми цветочками, которые мы называли «слезами пресвятой Девы». Согласно легенде, святая Мария каждый год приходила поплакать на эти горные луга. Я думал, она плакала по беднякам, уж слишком много детей в зимнюю стужу ходили в школу без пальто и галош. А может, плакала ещё потому, что все наши церкви находились на турецкой земле.
Именно с этого плоскогорья, где проливала слёзы златовласая Дева, а кудрявые облака повисали над тёмными горами, и где-то вдалеке слышался звон колокольчиков, — я впервые постиг возвышенную красоту нашей земли. В воздухе стоял едва ощутимый запах ладана, исходивший от цветов и растений, которые были наделены чудесными целебными свойствами и объединены латинским названием Pontica.
Добравшись до места, мы, дети, разбрелись в разные стороны, чтобы собрать хворост. Барана зажарили целиком на открытом огне, и человек, который занимался этим, цокал языком от удовольствия, поворачивая шампур. Покончив со всеми мелкими обязанностями, одной из которых было принести воду из Молочного источника, мы собрали полевые цветы и стали плести из них себе венки, портупеи и пояса. Под огромными тенистыми деревьями постелили скатерти, открыли корзины. Каждая семья внесла свою лепту в этот пир на открытом воздухе. Мать скромно выложила испечённый pâte d’Espaqne — любимый пирог отца. Немалое достижение испечь его в деревне, ведь надо поддерживать нужную температуру в печи, иначе пирог подгорит.
Дети едва держались на ногах от голода, когда мясо было наконец готово и, предвкушая трапезу, все расселись на траве. Мясо буквально таяло во рту. Ракию разлили по стаканам и провозгласили тост. Ели тушёные в оливковом масле голубцы в виноградных листьях с начинкой из изюма, риса и специй, варёные яйца, сардины, чёрные и зелёные маслины, салат и соленья, домашнюю халву, анчоусы, инжир, айву, вишню, сироп и варенье из розовых лепестков. Всё это время шутили, рассказывали анекдоты в основном про Ходжу Насреддина. Я сам знал некоторые из них. Мы ценили юмор этого легендарного мусульманского мудреца, которого никто не мог перехитрить и который за словом в карман не лез. Однажды Ходжа Насреддин одолжил у соседа котелок, а вернул его вместе с маленькой миской, сказав, что котелок разрешился миской, пока был у него дома, и сосед с радостью принял это. Через несколько дней Насреддин вновь одолжил котелок, но не вернул его владельцу. Когда сосед попросил котелок обратно, Насреддин сказал: «Извини, друг мой, но котелок скончался». — «Как может котелок умереть?» — сердито спросил сосед. — «Если ты поверил, что он может родить, то почему ты не веришь, что он может умереть?». На что, конечно, у соседа не нашлось что сказать, и котелок остался у хитрого бедняка Ходжи.
Девочки постарше играли в «виджак» — судьбу. Они наполнили глиняный кувшин водой из Молочного источника, и каждая бросила в него серьгу, кольцо, браслет или ещё что-нибудь от себя и загадала желание. Горлышко кувшина закрыли семью разными цветочками. Девочки сели в круг на траве, а самую маленькую усадили в середине с кувшином на коленях. Они запели песню, в которой подтрунивали над молодыми людьми. Затем одна из девочек стала предсказывать судьбу, используя популярную поговорку или пословицу, а другая вытаскивала из кувшина чью-нибудь вещицу. Предсказание относилось к той, которой она принадлежала, а поскольку в большинстве случаев речь шла о любовной истории или замужестве, то всякий раз, вытаскивая фант, девочки пронзительно кричали и хлопали в ладоши.
Когда стемнело, мы собрали высохший папоротник и развели большой костёр. Мальчики прыгали через пламя. Отец предложил спеть хором «Вперёд, армяне!». Размахивая руками, он отстукивал ногой такт, а мы пели:
Пойдёмте, армяне, пойдёмте вперёд Приветствовать Конституцию вновь!Это была его любимая песня. Его охрипший от курения голос был ужасен.
— Соло, Карапет-эфенди, соло! — настаивали все, смеясь над его чудачествами.
— Когда я был совсем мальчишкой, я носил стихарь, — хвастал он. — Не хожу в церковь уже четырнадцать лет, с тех самых пор, как женился, поэтому и не знаю, как поют сейчас в церкви. Ну и пели же мы в своё время!
Откашлявшись, он начал гнусавить псалмы, подражая всем трелям и переливам старых псалмистов. Это было так смешно, что улыбнулась даже мама.
Несходство их характеров становилось ещё очевидней во время подобных пиршеств. Отец всегда был душой компании, тогда как мать отличалась сдержанностью и немногословием. У мамы были длинные каштановые волосы и молочно-белая кожа, она была на тринадцать лет моложе отца и выше него ростом. Осанка, внешность, походка — всё в ней дышало благородством. В молодости она была похожа на черкешенку, и все говорили, что когда ей было восемнадцать, в неё влюбился очень красивый юноша — член австрийской королевской семьи, сосланный в Трапезунд. Но частые роды, потрясения и горести оставили след на её лице. Она не могла забыть убийство своего отца и дядей во время резни, несмотря на то, что с тех пор прошло уже двадцать лет. Турецкое правительство за революционную деятельность засадило в тюрьму младшего брата её отца и приговорило к казни через повешение. Но султан даровал ему помилование благодаря усилиям британского консула, который был близким другом дяди. Дядя бывал в Америке, говорил по-английски и, как поговаривали, был на короткой ноге с консулами и пашами. Когда его выслали из Турции, он уехал в Лондон, женился на англичанке и умер в изгнании.
Как много было скрытых ран в сердце моей мамы! Я видел, как она плакала на кухне, когда отец устроил себе именины с шампанским и оркестром. Он громко выкрикивал по-французски фигуры кадрили. Мама никогда не принимала участия в празднествах, которые отец так любил. И вдруг во время пикника, увидев её улыбающейся, я очень обрадовался. Я всегда молча страдал вместе с ней, и не было у меня счастья большего, чем её улыбка.
Всю дорогу обратно в деревню мы пели, неся в руках римские свечи[11], которые озаряли нам путь фонтанами искр. Всем нам был знаком турецкий марш.
Yashasun hurriet, edalet, mussavat, Yashasun millet! Да здравствует свобода, братство, равенство, Да здравствует народ!Слова были бесстыдно заимствованы младотурками из лозунгов французской революции. «Неужели в турецком языке могут быть такие слова?» — думали мы. Но музыка была хорошей, и мы увлечённо пели, подражая всем инструментам духового оркестра.
До отъезда отца в город случилось неминуемое — политический спор с дядей Левоном. Отец выписывал газету «Бюзантион», которая критиковала всё, что публиковалось в «Азатамарте». Читатели «Бюзантиона» считали читателей «Азатамарта» неуравновешенными, безответственными людьми с опасными идеями о социализме и тому подобных вещах, а читатели «Азатамарта» смотрели на приверженцев «Бюзантиона» свысока, как на отсталых стариков и трусливых эфенди. Предусмотрительные «бюзантионцы» старались не настраивать против себя турок, и их газету свободно могли читать и купцы, и епископы.
Что это за чушь несут руководители его партии! Отец настойчиво требовал у дяди Левона ответа. В какую такую «высокую дипломатию» играют они с Иттихатом, так называемым «Комитетом Союза и Прогресса», ведущей турецкой политической партией?
Отец твёрдо ратовал за армяно-турецкую дружбу, и был единственным армянином в Трапезунде, осуждавшим Россию, а европеизированных турок считал намного зловреднее турок-консерваторов. И он вновь обрушил на «Армянскую революционную федерацию» всё своё презрение и злую иронию.
— Она ведёт нацию к гибели! Она развалила наши школы, разъединила наш народ. Да что они знают о международной политике? И не эти ли их революционные дурачества привели к резне?[12]
Отец говорил очень серьёзно… В спорах с ним не мог тягаться даже наш учёный епископ. Дядя Левон пытался было защитить свою партию, но ему мешало уважение к возрасту и положению отца. Даже мои двоюродные братья Геворк и Вртанес не осмеливались курить в присутствии папы, а ведь Геворку было тридцать пять лет, и он уже облысел. А дяде Левону было всего лишь двадцать два.
Мама была уже на грани слёз, когда отец, высмеивая наших социал-революционеров, напомнил им один случай, связанный со старшим братом мамы, дядей Аветисом, который умер за несколько лет до смерти дяди Арутюна.
В свои семнадцать лет Аветис, артистичный юноша, увлекавшийся живописью, был секретарём местного комитета «Армянской революционной федерации», как после него дядя Арутюн. Желая основать первый в Трапезунде профсоюз, он организовал 1 Мая демонстрацию и водрузил на Сером холме большой красный флаг. Потом со своими товарищами школьниками прошагал в город с «Марсельезой» и армянскими социалистическими песнями.
Турки решили, что армяне опять бунтуют и требуют создать своё государство — их извечное пугало! — и вооружённые до зубов банды головорезов — лазов, дервишей, учеников религиозных школ и прочего «патриотического» сброда собрались на майдане, чтобы подавить это новое восстание «неверных». К счастью, комендант города оказался просвещённее их и уже знал кое-что о праздновании Первомая в странах Европы. Когда руководители нашей общины в тревоге обратились к нему за защитой, он послал войска, чтобы разогнать кровожадную толпу, и резню едва предотвратили.
— Если бы тогда турки напали на нас, мы бы сумели защититься, — сказал дядя Левон, но тут мама поднялась и вышла из комнаты. Эти политические споры в доме делали её очень несчастной.
— Чем бы защищались? — крикнул отец.
— В нашей области было восемьсот членов партии.
— Прекрасно, восемьсот героев против скольких турок? Восьмисот тысяч, а за ними миллионов? Вы ждали, что британский флот, чтобы прийти к вам на помощь, захватит Дарданеллы, да ещё на вершину Арарата поднимется? Или думали, что русский император объявит войну султану из-за того, что Аветис размахивал красным флагом и воспевал социализм?
Я не знал, что означает социализм, не понимал и половины того, что они говорили. И всё же мне казалось, что папа прав — он слишком умён, чтобы ошибаться, — и хотя Геворк и Вртанес соглашались со всем, что он говорил, и всё время возражали Левону, — я всей душой болел за дядю Левона.
В действительности я даже презирал своих двоюродных братьев. Геворк, или братец Геворк, как мы его называли, был в очень натянутых отношениях с дядей Левоном из-за старых партийных дрязг: в своё время он был членом соперничающей революционной фракции «Гнчак» («Колокол») и до сих пор хранил дома револьвер. Из партии он ушёл с чувством горького разочарования и полностью отказался от политической деятельности.
Вртанеса дети любили, по воскресеньям он часто брал нас на фаэтоне в весёлые поездки, но у него даже револьвера не было. Он ни к какой партии не принадлежал. Вртанес был красивым, галантным кавалером, флиртовал с девушками, был всегда замешан в какой-нибудь любовной интрижке. Он увлекался чтением американских детективов, и его любимыми героями были Нат Пинкертон и Ник Картер. Окончив французский университет в Бейруте, он открыл в нашем городе новейшую аптеку, и с полдюжины свах искали ему невесту, потому что ему уже было двадцать семь. Говорили, что он слишком разборчив, и что ему придётся искать невесту в Константинополе.
Они были втроём против одного. Мне так и хотелось спросить у отца: «А почему, когда ты уходишь по ночам, то просишь сопровождать тебя дядю Левона, а не Геворка или Вртанеса?»
Папа смертельно боялся бандитов-турок, которые нападали на улицах, грабили, били, а порой и закалывали насмерть христиан. Дорога из аптеки домой была сравнительно безопасной на главной улице, но была отнюдь не безопасной на кривых, тёмных улочках, прилегающих к центральной. Нам приходилось брать с собой фонарь, когда мы отваживались выйти в эти опасные переулки навестить родственников. Если отцу надо было дежурить ночью в аптеке или просто куда-то выйти после ужина, дядя Левон служил ему телохранителем.
Отец с племянниками вернулись в город. Через неделю за ними последовал дядя Левон. Каникулы наши в деревне продолжались, как вдруг в Европе началась война. Великие христианские державы объявили войну друг другу. И тогда Турция, поддерживаемая Германией, увидела возможность свести старые счёты с Россией и её союзниками — нашими друзьями.
Как бы предвещая нашу близкую гибель, произошло полное затмение солнца. В деревне старушки качали головой и мрачно говорили:
— Плохое предзнаменование. Да защитит нас господь.
В сентябре Трапезунд превратился в настоящий военный лагерь. В гавани с кораблей сгружались войска и боеприпасы, а турецкие солдаты, обученные немецкими офицерами, гусиным шагом шли на войну. Людей и боеприпасы стремительно доставляли в Эрзерум — огромную крепость, форпост против русского Кавказа.
Началась всеобщая мобилизация. Вртанес в форме турецкого лейтенанта пришёл попрощаться с нами. Он тоже ехал в Эрзерум. Он позволил мне поиграть с саблей. Я учился выхватывать длинное острое лезвие из ножен. Если он и был взволнован, то старался этого не показывать. Вртанес знал, что военная форма ему очень идёт. Кончики его усов были нафабрены и закручены вверх, как у Энвера-паши. Его записали на военно-медицинскую службу. Он попросил Нвард сыграть ему ещё разок на пианино и, когда она кончила, он захлопал в ладоши и закричал с присущим ему восторгом:
— Bis! Bis! Répétez! — будто всю жизнь только и делал, что ходил на концерты.
Дяде Левону, как единственному кормильцу вдовы, для освобождения от воинской службы было позволено уплатить налог в сорок золотых фунтов, половину которых ему пришлось занять у отца.
— Скоро и меня заберут, — мрачно сказал отец. — Брать будут всех от семи до семидесяти.
Школы открылись в обычное время, но Трапезунд не был уже прежним.
Глава пятая МОИ ТУРЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА
Сказала лягушка цапле:
— Возьми меня с собой в полёт, сестрица-цапля. Надоело мне жить в мутной воде.
Отвечает ей цапля:
— Хорошо, сестрица-лягушка. Ухватись-ка зубами за тростиночку в моём клюве. Только смотри, не пророни ни слова, пока будем лететь. Всё время молчи.
— Ни слова не скажу, — пообещала лягушка.
Так они и взлетели. Цапля летела над полями и горами, лягушка была в восторге. Но вскоре она забыла о своём обещании и как только раскрыла рот, чтобы заговорить, упала на землю и разбилась насмерть.
На уроке турецкого языка в тот день мы проходили сказку о лягушке, которая слишком много говорила. В нашем турецком учебнике было много поучительных рассказов. Сегодняшний урок напомнил мне слова отца, которые он часто повторял: «Мы, армяне, слишком много говорим, мы не умеем молчать. Мы кричали о своей любви к России, Англии и Франции со всех крыш. Турецкая юмористическая газета „Карагёз“ очень правдиво отмечала: „Если хотите узнать о положении в Дарданеллах, загляните в лицо армянину“».
Турки крайне отличались от нас: никогда не догадаешься, что у них на уме. Они всё держали про себя, а если о чём-нибудь и говорили, то нужно было понимать обратное.
Несколько дней назад мы, ученики армянской школы, устроили овацию трём русским военнопленным, офицерам-казакам с мужественными лицами. Выражая признательность за аплодисменты и крики восторга, они вежливо кланялись и улыбались, а их турецкие охранники, видя это, несомненно, скрежетали зубами, но молчали.
У нашего учителя турецкого языка, господина Оганяна, было аристократическое лицо с седеющими висками. Он носил пенсне и говорил глубоким звучным голосом. Мы все очень гордились им. Когда военный министр Энвер-паша, направляясь в Эрзерум, чтобы изгнать из пределов Кавказа русских, заехал по пути в Трапезунд, господин Оганян превзошёл всех турецких ораторов в изъявлении патриотических чувств на собрании, проводимом на открытом воздухе. Мы тоже принимали участие в собрании и, размахивая маленькими флажками, пели новую турецкую военную песню «Илери! Илери! — Вперёд! Вперёд!».
Энвер-паша поблагодарил и похвалил господина Оганяна. Речь нашего учителя была в высшей степени насыщенной и высокопарной, и это произвело на турок сильнейшее впечатление, поскольку чем меньше слов они понимали, тем больше это им нравилось. Господин Оганян употребил много поэтических персидских и арабских выражений, доведя этим своих турецких слушателей до патриотического экстаза, хотя среди них не нашлось бы и пяти человек, кто бы понимал, что он говорит.
А сейчас в классе он снял очки и протёр их шёлковым платочком. Затем, водрузив их на нос, сказал на своём великолепном турецком:
— Следующим будет упражнение по орфографии.
Мы тотчас же открыли тетрадки и проверили на пальце исправность своих тростниковых перьев. Турецкая орфография очень трудна, в ней, как в стенографии, нужно пропускать большинство гласных, но декоративные завитушки и хвостики арабской вязи были чрезвычайно красивы. Писали по-турецки особыми тростниковыми ручками справа налево. В благоговейной тишине диктовал нам господин Оганян, и в классе было только слышно, как скрипят наши перья.
Вдруг от страшного взрыва задрожали окна. Господин Оганян нахмурился. Он поднялся со стула, сошёл с кафедры и выглянул в окно.
— Боюсь, что в гавани взорвался склад боеприпасов, — сказал он.
Вслед за этими словами раздался более мощный взрыв.
Школьный колокольчик забил пожарную тревогу. Мы сбежали по лестнице во двор, а таинственные взрывы тем временем превратились в непрерывный грохот.
— Русские военные корабли обстреливают город, — взволнованно крикнул наш директор. — В церковь! Все бегите в церковь!
И мы с радостью побежали в церковь. Здесь мы почувствовали себя в полной безопасности, поскольку крест над церковью был виден с моря, а мы представляли себе русских воинов христианами, пришедшими избавить нас от турецкого ига. Может, они уже высадили войска! Мы думали, что под русским господством Трапезунд превратится в современный порт, настоящий европейский город с прямыми улицами и электричеством. Для нас тогда не существовало более волшебного слова, чем «электричество». Оно сочетало в себе все чары Парижа, Лондона и Нью-Йорка.
Я был на седьмом небе, слушая грохот русских орудий. Бомбардировка длилась час, а затем наступила мёртвая тишина, будто взорвался вулкан, подобный Везувию, и город оказался погребённым под стремительным потоком лавы, в котором христиане каким-то чудом уцелели, а все турки погибли.
Вскоре у ворот появилась толпа взволнованных женщин, которые настойчиво требовали своих детей. За мной и Оником пришла тётя Азнив.
— Вы испугались? — спросила она, прижимая нас к груди.
— Ни чуточки, — уверил я её. Я был разочарован, увидев взвод турецких солдат, марширующих по улице. — А я-то думал, что русские уже высадили войска.
— Тихо! Помни, что говорил отец: и у стен есть уши, — предостерегла меня тётя Азнив, поднеся палец к губам.
По дороге домой мы видели, как по главной улице с грохотом неслись военные немецкие грузовики, набитые турецкими солдатами. Война доставила в Трапезунд первые автомобили, и турки считали, что ими правят шайтаны, но я-то знал, что это не так. Автомобили, как и электричество, были продуктом цивилизации, европейской техники.
Проходя мимо французской школы, превращённой в турецкий военный госпиталь, мы увидели немецких медсестёр — молодых розовощёких женщин с решительными подбородками. На белых шапочках и повязках у них были красные кресты. Непонятный союз христианского креста с турецким полумесяцем встревожил меня.
— Неужели немцы приняли магометанство? — спросил я у тёти Азнив.
— Нет, мой милый, я не думаю. Но вполне могут и принять, — добавила она с негодованием.
На следующий день мы, как обычно, пошли в школу. Мальчики принесли осколки русских шрапнелей и дорого за них запрашивали. Я заполучил один осколок, обменяв его на плитку первосортного шоколада Nestle, карманное зеркальце с хорошенькой девушкой на обратной стороне и две редкие марки. Этот чудесный зазубренный кусочек железа стал для меня бесценным сокровищем. Он символизировал мощь христианской России.
На уроке нам не сиделось на месте, мы были до того рассеянны, что господину Оганяну пришлось даже постучать по столу, призывая нас к порядку. Ничего, рано или поздно русские будут в Трапезунде. Туркам их не остановить. Ведь даже один пленный казак может зарубить пятьдесят турок.
Спустя два месяца русская военная флотилия вновь бомбардировала Трапезунд, и в этот раз нам казалось, что русские обязательно высадят войска и захватят город. Бомбардировка длилась пять часов. Вокруг нас рушились здания. Страшное, но тем не менее восхитительное зрелище. К ночи русские корабли отошли, с балкона соседнего дома, в подвале которого мы прятались от обстрела, было видно, как они исчезают вдали.
На следующий день и христиане, и турки бежали в деревни. Мы выехали в Зефаноз, где у бабушки было имение. Стоял холодный дождливый февральский день. Приехав в деревню, мы обнаружили, что оба бабушкиных дома реквизированы влиятельным турецким чиновником Ремзи Сами-беем. Его ординарцы забрали ключи у смотрителя и были заняты уборкой.
Мы стояли под дождём без крова. Это было ужасно. Но что мы могли поделать? Сопротивление правительственной реквизиции каралось смертью. Хотелось бы знать, к какому типу турецких женщин относится жена этого Ремзи Сами-бея — к старому фанатичному или же новому — «просвещённому»?
К счастью, она оказалась из второй категории. Она не носила чадру, а это означало, что она культурная и эмансипированная женщина. Она приехала с двумя сыновьями верхом на лошади в сопровождении солдат. Жена Сами-бея была необычайно привлекательна, бледна, изящна и элегантна. Она рассказала нам, что родилась и училась в Константинополе. Нас это успокоило.
Её звали Сельма-ханум. В утончённых турецких выражениях она извинилась перед нами за причинённое неудобство, оказывается, она не знала, что дома заняты без ведома хозяев, и сожалеет об этом. Но поскольку её мужу необходимо проводить важные совещания с высшими турецкими и немецкими военными чинами, они вынуждены жить в этой деревне — и близко от города, и вне досягаемости огня русских солдат. Может, мы сдадим ей большой дом? Сдадим? Мы не верили своим ушам. Это была истинная дама! Мы обменялись взаимными любезностями и пришли к соглашению.
Она говорила непринуждённо, не закрывая лица, поскольку с нами не было мужчин. Отец остался в городе, потому что аптеку по закону нельзя было закрывать, а дядя Левон должен был присоединиться к нам через несколько недель. Сельма-ханум потрепала меня по голове и выразила пожелание, чтобы я и Оник поиграли с её сыновьями Махмуд-беем и Шукри-беем. Поскольку отец у них был беем, мать и сыновей своих так называла. Оба они были светловолосыми симпатичными ребятами в европейском платье. Раньше мы никогда не играли с турецкими детьми, но сейчас пожали им руки и заговорили как с друзьями.
Нам вернули один из домов — тот, что был поменьше. Несколько дней шёл непрерывный дождь, и нам не позволили выходить из дома. Но я не находил себе места, и мать удивлялась, не черти ли в меня вселились? Я ни минуты не мог усидеть на месте. Тогда бабушка где-то выкопала потрёпанного «Робинзона Крузо» в кожаной обложке и дала мне почитать. Мне было лестно получить такой подарок в девять лет. До того дня я ничего, кроме школьных учебников, не читал. Как и все мальчишки в школе, я знал историю Робинзона Крузо, но теперь я изучил её со всеми волнующими подробностями. Ни одна книга с тех пор не доставляла мне большего удовольствия.
Сельма-ханум нанесла нам визит вежливости, а мы в свою очередь пошли к ней с ответным визитом. После такого дипломатического обмена любезностями мы стали хорошими соседями, а я и Оник подружились с Шукри-беем и Махмуд-беем. Их мать с одобрением следила за нашими играми.
Господин Оганян тоже бежал в нашу деревню, и Сельма-ханум наняла его в учителя турецкого языка для своих сыновей. Я был очень рад за него: господин Оганян был беден и обременён семьёй. Мы и не знали, что турки бывают такими приятными. Сельма-ханум нас полностью покорила.
Через несколько недель кончилась зима. Зацвёл шафран. Приезжающие в деревню на осликах торговцы углем прикрепляли к тюрбанам и фескам пучки этих ярких цветов — предвестников весны. К середине апреля в Зефанозе поспели сливы и вишни. Мы играли с утра до ночи; казалось, дни были слишком короткими.
Однажды утром я проснулся от весёлого гвалта воробьёв под карнизом нашей крыши. Оник бросил в меня подушку, я ответил ему тем же, и мы погнались друг за другом на четвереньках, рыча и лая, как собаки.
— Перестаньте галдеть! — прикрикнула на нас мать. — Берите пример с Шукри и Махмуда. Посмотрите, какие они воспитанные и вежливые.
С этим нам пришлось согласиться. По сравнению с ними мы были необузданны и дики. Они носили длинные брюки, хотя были не старше нас.
— Оник! Завен! — Это Шукри и Махмуд звали нас с лужайки под окнами нашей спальни. — Сабаунуз айир олсун! — Да принесёт вам утро удачу!
— Сабаунуз айир олсун! — отвечали мы им, высовываясь из окна.
Мама улыбнулась. Мальчики были так рады видеть нас. Казалось, они жить без нас не могут.
— Спускайтесь, давайте поиграем в чижи, — попросил нас Шукри. Он ударил лаптой по клюшке и послал её прямо к нам в окно. — Видите, как мастерски я стал играть?
— Да, конечно, — согласились мы. Это мы их научили игре в чижи. Мы были их единственными друзьями в деревне, они не общались с другими детьми, даже с турецкими. Поспешно одевшись, мы сбежали вниз. Какое чудесное утро! В небе ни облачка, бабочки с жёлтыми, синими крылышками парили над кустами ежевики и рододендронами, лавровые кусты покрылись багровыми гроздьями, тут и там пели дрозды. Море было синим, как небо. На востоке высился силуэт хребта Лазистана, а за ним, в туманной дали, виднелись серебристые, как облака, Кавказские горы.
Два дня назад я посадил под акацией бобы и сейчас побежал посмотреть, проросли ли они. Покопавшись немного в земле, я нащупал их пальцами. Они вросли в землю, значит, привились!
— Мои бобы растут! — возбуждённо закричал я и, схватив Махмуда за руки, стал кружиться с ним. Он тоже был этому рад.
— А мы потопили ещё один английский военный корабль, — сказал он. — Отцу сообщили об этом ночью.
— И наши солдаты в Дарданеллах едят английский шоколад, — прибавил, смеясь, его брат Шукри.
Но то, что для них было хорошими новостями, было для нас плохими. Я помрачнел. Махмуд запел «Илери! Илери!» и зашагал по лужайке. Он тоже любил играть в солдаты. Но если я стремился стать вторым Наполеоном, то его кумиром был Энвер-паша. Махмуд-бей утверждал, что Энвер-паша сильнее Наполеона и что он приберёт к рукам Россию, Англию и Францию. Я боялся выдать свои чувства и не спорил с ним.
После завтрака мы играли с ними в чижи, а потом смотрели, как маршируют на нашей лужайке, часть которой Ремзи Сами-бей превратил в плац для военных упражнений, турецкие новобранцы. Солдатам-христианам оружия больше не выдавали, их всех собрали в рабочие батальоны. Жизнь в турецкой армии была для них сущим адом. Но и мусульманам приходилось не сладко. Мне было жаль турок новобранцев. Это был жалкий, покорный народ, уже смирившийся со своей судьбой. Они никогда не шутили, не смеялись. Некоторые даже ходили босыми. Новобранцы жили впроголодь, их держали на чёрном хлебе и бобовой похлёбке, похлёбка эта напоминала больше помои, и счастлив был тот, кому удавалось выловить в ней бобы. Теперь их подразделение готовилось к отправке на фронт. Они, наконец, усвоили, какая сторона левая, а какая правая. Чего стоило сержантам выучить их этому! Я понимал команды намного лучше этих солдат.
Пока мы смотрели, как они маршируют и как на них хрипло покрикивают сержанты, раздался телефонный звонок. Телефоны были только для служебного пользования и один такой телефон Ремзи Сами-бей установил в нашем большом доме. Но это звонили Шукри и Махмуду из другой деревни. Они побежали к телефону, а когда вернулись, то с гордостью объявили нам, что говорили с сыновьями генерал-губернатора, который собирался к ним на неделю в гости. Их отцы были близкими друзьями.
Гости приехали верхом на лошадях со своими ординарцами. Я невзлюбил их с первой же минуты. У всех троих сыновей генерал-губернатора были подлые лица, и все они были крикливыми и избалованными. Шукри и Махмуд включили нас в программу всех своих игр на эту неделю, но гостям с трудом удавалось скрывать своё презрение к нам. Для них мы были обыкновенные собаки-гяуры. Мы боялись с ними враждовать, лучше было вообще с ними не связываться.
Самый младший, мой ровесник, был и самым гадким. Мы играли в шарики и в бабки, и он всякий раз впадал в ярость, когда проигрывал. Когда играли в ловитки, я нарочно давал ему поймать себя, хотя бегал быстрее него. А когда я поймал его, он стал упрямо твердить, что не переходил моей границы. Мы повздорили. Мне следовало ему уступить, поскольку его отец был генерал-губернатором, и наши жизни были в его руках. Следовало быть с ним подипломатичней, потому что времена были опасные, но терпение моё лопнуло.
— Собака, гяур, не смей так со мной говорить! — крикнул он мне в лицо. — Всё равно вам недолго осталось жить, дни ваши сочтены! Мы перережем вам глотки! Мы всех вас зарежем! Ни одного армянина не оставим в живых! — И он провёл рукой по горлу, показывая, как они это сделают.
Нас с Оником словно оглушило. Мы перестали играть и уставились на них широко раскрытыми глазами. Я посмотрел на Шукри и Махмуда, надеясь, что они скажут, что всё это неправда и извинятся. Но они молчали. Они были всегда так вежливы с нами, а сейчас вели себя как чужие. Так значит, это правда. И они все об этом знали. Даже Шукри и Махмуд. Они слышали, как их отцы обсуждали это на своих «совещаниях». Они знали о тайных планах вырезать нас, но ни единым словом не обмолвились! Все эти месяцы мы играли вместе почти как братья, и всё это время они знали, что дни наши сочтены.
— Не говори ни слова, — предупредил меня Оник. — Идём домой.
И не в состоянии дать выход гневу, взбудоражившему мою мятежную душу, не сумев даже вызова им бросить, я понуро поплёлся с братом домой.
Дома взрослые очень серьёзно отнеслись к этой угрозе. Стали говорить о резне двадцатилетней давности, во времена Абдул Гамида. Я сидел на тахте в гостиной и слушал. Перед моими глазами промелькнули фанатики в тюрбанах, с холодными клинками, дервиши и муллы с вытаращенными глазами. Резня превратилась в неизбежную реальность, а не в смутное понятие отдалённого прошлого. Мы были обречены на смерть, на резню, все без исключения. На своих «совещаниях» генерал-губернатор и Ремзи Сами-бей в присутствии Сельмы-ханум, Шукри и Махмуда решили перерезать нам глотки, не оставить в живых ни одного «неверного» армянина. И всё это время наши соседи улыбались нам.
Я вспомнил урок из турецкой хрестоматии о цапле и лягушке.
Глава шестая МОЯ МАМА ПЕРЕДАЁТ МЕНЯ ПОД ЗАЩИТУ АМЕРИКАНСКОГО ФЛАГА
У наших дверей со штыком наготове стоял турецкий солдат. Перед каждым армянским домом в деревне были выставлены турецкие солдаты со штыками, поблёскивающими под утренним солнцем. Много караулов было и на дорогах. Под карнизом нашего дома, как всегда, чирикали воробьи, мои бобы распускали запушённые листья, посвистывали дрозды, в синих бухтах Лазистана плыли лодки с треугольными парусами, похожие на грациозных белых лебедей с картинки. А турецкие солдаты стерегли нас, как неумолимые стражи смерти.
Наше беспокойство усилилось, когда мы увидели, что двери и окна большого дома закрыты и занавеси задёрнуты. Турецкая семья, снимавшая у нас этот дом, очевидно, не хотела, чтобы мы обращались к ним за помощью.
— Пойди вниз и посмотри, не выпустит ли тебя часовой, — сказала мне мама.
Но он меня не выпустил, несмотря на то, что я сказал ему по-турецки, что мне хочется в туалет и то и дело подтягивал штаны.
— Ясак дер — «запрещено», — был его ответ.
— А зачем вы здесь стоите? — спросил я его невинным голосом, будто несмышлёный младенец.
Он пренебрёг моим вопросом. Я пошёл наверх.
— Солдат говорит «ясак дер» выходить, — сказал я маме.
Дядя Левон, наблюдавший из окна за этой непонятной осадой, щёлкнул пальцами и тихо воскликнул:
— Они ищут оружие, вот что! Они обезоружат всех армян в деревне. Посмотрите на этих чете. Они входят в дом дяди.
Мы увидели группу мужчин в сапогах и папахах, входящих в дом дяди моей матери.
— Собаки! — сказала мама.
Чете — войска партии Иттихат, состоявшие из солдат нерегулярных конных войск, грабителей с большой дороги, пиратов, головорезов и прочих подонков, освобождённых из тюрем.
Вместо того чтобы воевать с русскими на фронте, они должны были охранять «внутренний порядок и безопасность» страны… Они отличались от солдат регулярной армии свирепостью и тем, что носили черкески.
— Где мне спрятать ружьё? — спросил дядя Левон у матери и бабушки.
Я и не знал, что у него есть ружьё. Ружьё у армянина — об этом страшно было даже подумать! Но дядя Левон был бесстрашным героем.
После краткого тревожного совещания они решили спрятать ружьё под крышей. Дядя Левон вынес из нашей спальни ружьё марки «Мартини». Я его раньше и в глаза не видел. Он завернул его в одеяло, поднялся через люк в потолке и спрятал под крышей. А свой маузер, патронташ и маленькую жестяную коробку с патронами рассовал по разным местам.
Вскоре чете пришли и в наш дом. Свалили в кучу на лужайке старинные кавалерийские пистолеты, кремневые ружья, кривые персидские мечи, дробовики, секачи и вошли в дом как гордые блюстители турецкого закона. Их глава — высокий черкес, говоривший по-турецки с сильным гортанным акцентом, сказал дяде Левону:
— Нам приказано обыскать вас. Так что отдавайте оружие, не теряя напрасно времени.
— Обыщите, — сказал дядя Левон. — У меня нет оружия.
Налитые кровью глаза этого бывшего разбойника сузились от злости.
— Если мы найдём оружие при вас или в доме, мы вас арестуем. Армян, которые прячут оружие, мы сразу же расстреливаем.
Меня восхитило хладнокровие дяди Левона, когда он с улыбкой ответил им:
— Мне это известно.
— Обыщите его! — приказал своим людям черкес. Дядя Левон поднял руки, и двое головорезов стали ощупывать его по бокам и карманам. Потом они заставили нас развернуть постель и внимательно осмотрели матрацы, одеяла и подушки. Они высыпали содержимое всех выдвижных ящиков, сундуков и чулана и даже разгребли весь уголь. Сняли с полов ковры и содрали со стен всё, что на них висело. Когда во время обыска они смотрели на потолки, мне казалось, что бабушка и мама умрут от страха. Но чете ничего не нашли, и им пришлось довольствоваться нашим кухонным секачом.
Днём караул сняли, и мы могли свободно выходить. Наши соседи турки открыли двери, окна, но теперь Шукри и Махмуд не осмеливались ходить по нашей стороне лужайки.
Предчувствие, более того, — ужас охватил всех армян в деревне. Даже те, кто считали, что резня немыслима, ибо дни султана Гамида канули в вечность, и Турция стала на путь цивилизации, — даже они были убеждены, что всё это не к добру.
Несмотря на то, что христианам было запрещено передвижение, и даже для поездки в ближайший город требовался паспорт, который ни один армянин не надеялся заполучить, а почтовое сообщение прекратилось, вести о событиях в Константинополе, Ване, Эрзеруме каким-то образом доходили до нас в деревню. Всех наиболее известных армян в столице — сотни поэтов, журналистов, преподавателей, врачей, адвокатов, фармацевтов и даже членов оттоманского парламента — полиция собрала за одну ночь и выслала под усиленной охраной вглубь страны, никто не знал точно — куда. Они исчезли, и о них больше не слыхали.
В Ване руководители армянской общины были вероломно схвачены и убиты генерал-губернатором Джевдей-беем, зятем Энвера-паши. Тогда армяне подняли восстание, и всей общине грозила резня. Турки обстреливали армянские кварталы Вана с крепости. Но ванцы славились как воины, и дядя Левон был уверен, что они будут стоять до последнего.
В Трапезунде первый удар пришёлся по армянам, русским подданным, некоторые из них жили в Зефанозе и приходились нам родственниками. Их вызвали во дворец генерал-губернатора якобы для сообщения «важного известия», и они больше не вернулись. Мы решили, что их депортировали в лодках в Керасуд и держали под охраной жандармов и чете.
Примерно через неделю в городе развесили официальное объявление, и глашатаи читали его в разных концах города. Несколько экземпляров этого объявления попали в деревню, и господин Оганян, наш учитель турецкого, прочитал и перевёл его встревоженным людям, окружившим его. Он протёр своё пенсне шёлковым платочком так, как это делал в классе, и начал читать длинный указ. Он гласил:
«Объединившиеся в союз с врагами религии и государства и поднявшие мятеж против правительства наши соотечественники-армяне должны быть депортированы вглубь страны и будут оставаться там на протяжении всей войны.
Настоящим приказываем всем армянам Трапезундского вилайета приготовиться к депортации в течение одной недели с 24 июня до 1 июля. Приказ распространяется на всех армян без единого исключения. От депортации временно освобождаются только те, кто по болезни или по старости не в состоянии ходить. Они будут отданы на попечение государственных больниц. С этого дня армянам воспрещается что-либо продавать, и им будет позволено брать с собой в дорогу только то, что они будут в состоянии нести. Средства передвижения обеспечиваться не будут.
Невзирая на неблагодарность своих подданных армян, правительство не откажет им в прежней отеческой заботе и охране, сохранит их дома и магазины в опечатанном виде до возвращения хозяев из временной высылки.
Мы вынуждены прибегнуть к этим крайним мерам не только в целях защиты отечества, но и для блага и безопасности введённых в заблуждение соотечественников-армян. Не подчинившиеся приказу правительства и пытающиеся оказать вооружённое сопротивление или скрыться будут нами найдены живыми или мёртвыми. Лица, укрывающие армян, обеспечивающие им пропитание, убежище и какую-либо помощь, будут казнены через повешение, будь то мусульмане или христиане».
Господин Оганян вытер со лба капельки пота. Он сильно побледнел.
— Я посвятил свою жизнь преподаванию турецкого языка, — сказал он изменившимся голосом. — А теперь я должен читать и переводить подобное?!
Люди стали обсуждать смысл этого приказа; я внимательно слушал.
— Немцы ссылали тысячи бельгийцев, но это уже не просто подражание немецким методам. Это проклятое правительство хочет уничтожить нашу нацию.
— Называть нас неблагодарными, когда именно армяне построили Турцию! Мы строили им дворцы, где живут их кровожадные султаны, мы строили им большие мечети, мы шили им одежду и обувь, лечили их больных и даже учили их детей читать и писать на родном языке. Мы строили, а они разрушали. А теперь Иттихат хочет решить наш вопрос, депортировав нас всех — и мужчин, и женщин и детей!
— Куда они нас сошлют?
— В аравийские пустыни. Туда сейчас ссылают эрзерумских армян. Нам придётся идти пешком до Мосула и Багдада.
— До Мосула добираться месяца четыре…
— Время сейчас военное, правительство обеспокоено ванскими событиями, поэтому и хочет переместить армянское население подальше от фронта. Думаю даже, что это совет германского верховного командования. Конечно, мы пострадаем, но ведь депортация лучше, чем резня.
— Надо бежать в горы и с боями пробиться к русским линиям.
Такое предложение привело меня в восторг. О, боже, как я буду воевать!
— Не говори глупостей. Это же настоящее самоубийство!
— Как нам воевать? Наберётся ли у нас хоть пятнадцать винтовок?
Они стали спорить, обсуждать «за» и «против». Дядя Левон подвёл итог и процедил сквозь зубы:
— Что бы ни случилось, случится с нами — мужчинами! — Он хотел сказать, что правительство намеревается убить мужчин, а женщин и детей — депортировать.
Это было всеобщим мнением.
Дядя Левон был заметной фигурой в деревне, друзья пытались уговорить его взять винтовку и присоединиться в горах к отряду крестьян-дезертиров, в котором был и его двоюродный брат Парнак. Но дядя Левон покачал головой:
— Я не могу оставить мать одну.
— Обо мне не беспокойся, — сказала бабушка. — Я уже свой век прожила. Беги, спасайся!
— Я останусь с тобой, что бы ни случилось.
В тот вечер, когда Ремзи Сами-бей вернулся в деревню — всю неделю он был занят совещаниями в городе, — делегация армянских женщин во главе с моей матерью обратилась к нему с просьбой пощадить женщин и детей.
— Мы не знаем никого, к кому могли бы обратиться. Вы наш сосед и хорошо знаете нас, — сказала, краснея, мать.
А другие женщины, побойчее и посмелее, зашумели, то ли возмущаясь, то ли умоляя. По предложению бея встреча эта прошла на соседней лужайке. Его жена и сыновья предусмотрительно не показывались. Возвышаясь перед нами как бог, всесильный бей выслушал наши просьбы, а затем громовым голосом дал официальный ответ:
— Ханум эфендилер — уважаемые женщины! Ванские армяне подняли мятеж с целью всадить нашей героической армии нож в спину в то время, как отряды армянских добровольцев в русской армии тоже воюют против нас. Мы были вынуждены отступить из Вана, а тамошние бесчестные предатели, поднявшие оружие на собственное правительство, совершают страшные зверства по отношению к мирному турецкому населению.
Он замолчал, обозревая толпу, откинул большую красивую голову и заорал громче прежнего:
— Русские сформировали в Ване армянское правительство под председательством главаря этих кровожадных злодеев. Под угрозой находится само существование нашего отечества! Мы очень сожалеем, но все армяне, без исключения, должны быть депортированы вглубь страны для обеспечения безопасности тыла нашей армии. Даю вам слово чести, что наши жандармы будут охранять вас в пути, и вам не будет причинено никакого вреда. Оттоманская империя великодушна. После окончания войны, которая, несомненно, закончится нашей полной победой, вам будет дозволено вернуться в ваши дома и получить обратно имущество и добро. Наступит день, когда вы осознаете, что Россия и ваши собственные комитаджи — ваши злейшие враги, и вы поблагодарите правительство за обеспечение безопасности и свободы страны, вашего процветания и счастья, пусть даже ценой временной высылки.
Он повернулся на каблуках и большими шагами направился к своему дому.
Почему-то я представлял себе ванских армян воинами, которые живут и воюют в багряном небе. Ах, если бы я только мог очутиться там! Полететь бы на огненном коне к этим алым облакам! В ту ночь, когда я тщетно силился уснуть, в голове моей упорно вертелось слово «Ван».
На следующий день все армяне деревни стали готовиться в дорогу. Женщины и девушки шили себе рюкзаки, штаны до колен и шапки, как будто собирались на отдых. Мама надеялась, что мы составим исключение, поскольку папа был фармацевтом. Конечно же, правительство не сошлёт аптекаря, когда эпидемии косят солдат похуже пуль противника, а фармацевтов даже меньше, чем врачей. Мы были почти уверены, что отец пойдёт работать в армейский госпиталь, чтобы спасти нас. Среди его друзей и клиентов было много влиятельных турок, ведь его знали как консерватора, выступающего против наших политических партий.
Пока женщины укладывались, мы шныряли по всем ореховым рощам, чтобы вырезать трости. Недолго восхищались мы ветками — крепкими, стройными, гибкими — вскоре они посыпались на землю от ударов наших карманных ножиков. Мы отдирали кору и с помощью стёклышка вырезали на рукоятках свои инициалы и замысловатые узоры. Теперь мы почувствовали себя полностью снаряжёнными для похода в Мосул или Багдад. Я готов был путешествовать по всему миру, как тот датский путешественник, с которым я познакомился в нашей школе и получил на память фотографию с автографом.
Дерзко и весело вторглись мы на кукурузное поле и, сбивая молодую кукурузу на землю, топтали её ногами. Нам не хотелось, чтобы турки собрали урожай, который посадили армянские крестьяне. Затем мы ворвались в сад маминой тётушки. Вишня там уже поспела, и мы объедались целыми пригоршнями. Вдруг бабушка появилась на пороге своего дома — одетая в чёрное суровая пожилая женщина.
— Эй вы, негодники! Сейчас же уходите из моего сада! — крикнула она. — Я держу эти вишни, чтобы сварить варенье.
— Какое ещё варенье? — Мы расхохотались. — Ты что же, хочешь, чтобы турки их съели? — спросил я её, весело покачиваясь на верхушке дерева.
Она и сама почувствовала, что это не обычный вишнёвый сезон, — через несколько дней мы уже будем на пути в Месопотамию, и ей незачем больше беспокоиться о вишнёвом шербете, которым она так гордилась. Бабушка пожала плечами и вошла в дом.
В полдень этого дня мать получила записку от отца. Мы не готовились в путь, как другие семьи, поскольку не знали намерений отца. Записка была короткой и не оставляла никаких надежд. Он просил нас только захватить с собой несколько одеял и вернуться в город в дом тёти Шогакат.
Мы уходили из деревни как жалкие беженцы. Даже не заперли дверей нашего дома, осознавая всю тщетность этого. Турки крестьяне собрались вокруг наших домов как стервятники, почуявшие богатую добычу. Поскольку нам запретили продавать что-либо, а в Месопотамию мы должны были идти пешком, наше добро не представляло для нас никакой ценности. Несмотря на уверения Ремзи Сами-бея, никто не верил в обещание правительства хранить наше имущество под замком.
Больше всего мне было жаль оставлять выращенную в горшочке розовую гвоздику. Я полил её в последний раз и спрятал на крыше. Я бы попросил Шукри и Махмуда присмотреть за ней и за бобами во время моего отсутствия, но их окна и двери были затворены. Всякий отъезд порождает в человеке не только печаль, но и всепрощение. Мне хотелось пожать им руки и попрощаться, но они так и не вышли из дома.
По дороге в Трапезунд мы повстречали турецкую семью, по-видимому, направлявшуюся в деревню на летний отдых. Женщины, сидя верхом на ослах, держали своих младенцев на коленях, мужчины неспешным шагом шли рядом, обвязав потные шеи клетчатыми платками. Мне любопытно было узнать, как отнеслись к приказу о депортации простые люди, вроде этой семьи. Женщины закрылись чадрой, и я не видел их лиц, но печальные глаза мужчин, казалось, говорили: «К чему это? Неужели не хватит нам всем места, чтобы жить в мире? Вы не причиняли нам никакого вреда, и мы вам не желаем зла. Аллах с вами!»
Город был мёртв. Все магазины практически были закрыты, улицы опустели. Иногда встречались турки, молчаливые, унылые. Мы чуть не заплакали, увидев закрытые среди дня ставни нашей аптеки — нам никогда ещё не доводилось этого видеть. Бедный отец! О чём он думал, что делал теперь, когда у него отобрали аптеку?
Тетя Шогакат, сестра отца, жила в турецком квартале. Мы спускались по очень узкой улочке, как по винтовой лестнице на пляж. В этот призрачный закоулок, где веяло прохладой пещер и гнилостным запахом с моря, никогда не заглядывало солнце. Жизнь на этой турецкой улице была безрадостной и таинственной — решетчатые окна и изречения из Корана, высеченные на фасаде старого общественного источника. Мы увидели, как наполняют турчанки свои медные кувшины, по форме отличающиеся от христианских: горлышко у них было уже и длиннее. Они были закутаны в чадру, виднелись только окрашенные хной ногти. Они шли перед нами, стуча деревянными сандалиями, и по походке невозможно было определить, беззубые ли это старухи или красивые молодые девушки.
В конце этой похожей на овраг улицы, там, где она резко спускалась к пляжу, стоял дом тёти Шогакат. Всякий раз, как мы навещали тётку, тянуть за шнур звонка, торчащего из щели в стене, предоставлялось мне. Я дотянулся до шнура и дёрнул несколько раз. На другом конце шнура, в передней, раздался звонок.
— Это Вардануш, — сказала Нвард, услышав стук башмаков по мощёному булыжником двору.
Мы всегда определяли по стуку башмаков, кто идёт открывать дверь — тётя Шогакат или кто-либо из её дочерей. Вардануш, высокая плоскогрудая девушка с каштановыми волосами, в свои двадцать три года была ещё не замужем и считалась старой девой. Мы звали её «сестрица», потому что она была взрослой, и называть её просто по имени было бы непочтительно.
Вардануш открыла дверь и приветствовала нас без обычного радушия и улыбки. Глаза у неё покраснели, будто она плакала всю ночь. Ходить к ним в гости всегда было для нас, детей, истинным удовольствием. Этот возвышающийся над морем покосившийся домик казался нам таким уютным, солнечным и необычным. Огромные тыквы сорта «каштан» росли в обнесённом стеной дворе и на крыше сарайчика-прачечной. Позади дома был крошечный садик, предмет любви и забот хозяев. В нём умещались лишь два гранатовых и одно апельсиновое дерево, и попасть туда можно было только через люк в полу гостиной. По стенам комнат они развешивали ветки со спелыми апельсинами и гранатами. Они разводили шелковичных червей, ткали ковры и ходили на турецкие свадьбы по соседству. Всё, чем они занимались, казалось таким необычным и чудесным.
Мы, четверо детей, радостно и шумно вбежали в дом, неся на спинах свёрнутые по-солдатски одеяла. Отец, скрестив под собой ноги, сидел на тахте в гостиной.
— Здравствуй, папа! — весело поздоровались мы. Слёзы сверкнули в его глазах — он повернулся лицом к стене. Я никогда раньше не видел его слёз — весь его облик и то, как он отвернулся от нас, произвели тягостное впечатление. Лицо отца поросло седой щетиной, и он весь как-то съёжился, сломался.
В комнате царила безнадёжность — казалось, наши родные доживают свои последние дни. Дядя Степан, старший брат отца, который пятьдесят лет работал аптекарем и всегда отказывался уходить в отставку, в этот день выглядел как настоящий старик. Он перестал шутить со мной. «Уронил, уронил!» — бывало, говорил он мне, а когда я оглядывался посмотреть, что же это я уронил, он смеялся. Ну как пойдёт дядя Степан в Месопотамию? Ему уже шестьдесят девять, и он совсем седой. А моя бабушка, мать отца, скорее казалась сердитой, чем подавленной. Плотно повязав седую голову муслиновым платком, она сидела, как и отец, скрестив ноги, и перебирала чётки, — всё такая же прямая в свои восемьдесят восемь лет. Мне подумалось, что она гневается на бога, и самому богу придётся поклониться и поцеловать ей руку.
Мы внесли в эту комнату дух вольной природы и бодрящие впечатления весёлого деревенского отдыха. Все оживились, заговорили, как-то воспряли духом и принялись нас расспрашивать. Только отец продолжал молчать, казалось, если он откроет рот, то заплачет.
— Мы так много наслышаны о твоих проделках там, в деревне, — сказала мне тётушка Шогакат, и слабая улыбка разлилась по её смуглому некрасивому лицу. — А ну-ка покажи, какой ты у нас бравый солдат! Они упросили меня показать свою сноровку в турецких военных упражнениях, будто это было их последней отрадой перед смертью. Они надеялись, что я буду их забавлять и смешить, и я старался изо всех сил: я рявкал, как бесчувственный турецкий сержант, маршировал взад-вперёд по комнате, падал на колено и стрелял, потом падал на пол, продолжая стрелять, бросался в штыковую атаку и, наконец, взяв ружьё на караул, вопил во весь голос:
— Падишамиз чок яша! — Да здравствует наш великий султан!
Я обрадовался, увидев, что даже отец улыбнулся.
В деревне мы были в относительной свободе и безопасности и не подозревали, какие ужасные события произошли в городе. Тех русскоподданных армян, которых неделю назад выслали морем, расстреляли жандармы и чете, следовавшие за ними в другой лодке, а тела выбросили за борт. Но одного из этих людей, известного революционера Вардана, только ранили в голову. Расстрел происходил ночью, поэтому жандармы не заметили, что он остался жив. Он выплыл на берег и добрался до Трапезунда в состоянии такого безумия, что его арестовали на улице и направили на «лечение» в военный госпиталь, где фармацевтом работал наш Вртанес. Вардана изолировали от остальных больных и сделали смертельную инъекцию, но Вртанесу удалось повидать его перед смертью и узнать, что случилось с ним и остальными русскими подданными.
Полиция разыскивала революционеров — единственных людей, которых боялось правительство, — и высылала «морем», хотя официально приказ о высылке ещё не вошёл в силу. Лодки, переполненные членами Революционной федерации, уплывали в море и через несколько часов возвращались пустыми. Несколько сотен других людей было арестовано и выслано в концентрационный лагерь, находившийся в армянском монастыре, вдали от дороги. Нашего епископа-архиерея тоже арестовали, но его «преступление», видимо, было слишком тяжким, и его выслали в Эрзерум, дабы он там предстал перед военным судом. Он так и не дошёл до Эрзерума — стражники убили его в пути.
Многие армяне сходили с ума или кончали с собой. Один человек, живший неподалёку от нас, полоснул себя по шее бритвой и демонстративно выбросился с балкона своего дома.
Дядя Степан и его семья вернулись из деревни Тотц, где жандармы арестовали католических священников мхитаристской конгрегации,[13] а потом расстреляли и закололи их штыками в горной долине. Одно лето мы отдыхали в Тотце, и я знал этих учёных-монахов.
С самого начала я заметил, что присутствие среди нас дяди Левона не нравилось родственникам. После небольшого совещания в спальне мой двоюродный брат Андраник, поскольку мы находились в его доме, выступил как хозяин дома и сказал дяде Левону:
— Полиция ищет революционеров. Если тебя найдут здесь, то и нас вместе с тобой заберут как революционеров. Так что лучше возвращайся к себе домой.
Они знали, что сказать молодому мужчине: «Спасайся, как знаешь» — всё равно, что передать его в руки полиции. Это было выше моих сил, я весь кипел от яростного негодования, но не посмел подать голоса протеста. Не осмелилась и мама.
Дядя Левон смешался и покраснел. Он встал и, извинившись, сказал, что не знал, что его пребывание здесь нежелательно, взял под руку бабушку, и они вместе вышли из комнаты. Они были оскорблены.
Греческие друзья, которые могли бы нам помочь, рассеялись по разным деревням. Но доктор Андреу Метаксас остался в городе и навестил нас. Он был ангел, ниспосланный с неба: наша единственная надежда, единственная связь с внешним миром. Чтобы навестить нас на турецкой улице, требовалось большое мужество.
Доктор Метаксас принял нас на свет божий. Его служебная комната находилась в нашей аптеке, он был ближайшим другом и деловым партнёром отца на протяжении вот уже тридцати лет. Это был человек твёрдого нрава, могучего здоровья, с острой седой бородкой и проницательными синими глазами, поблёскивающими под стёклами пенсне, — типичный хирург. Я побаивался его резкого властного голоса, блестящих хирургических инструментов. Он говорил как человек, привыкший отдавать приказы. Родом из известной в Афинах семьи, он был греческим, а не турецким подданным, что ему и помогло — ведь король Греции был женат на сестре кайзера. Доктора Метаксаса все знали, он был самым видным врачом Трапезунда. По авторитету среди греков он был вторым после митрополита Хрисостоме.
Мужчины вместе с доктором Метаксасом удалились в спальню на очередное совещание, на котором было решено, что один из нас, мальчиков, сейчас же отправится к нему в греческий монастырь, в местечко под названием Сумелас, куда он перевёз свою семью. Этот уединённый монастырь в девственных горах Понтия был превосходным убежищем для армян.
Пока они обсуждали, кто из нас туда отправится, я прижался к матери и заплакал:
— Пошлите Оника! Я не хочу уезжать!
Мысль о разлуке с мамой была слишком невыносима для меня: я не представлял себе жизни вдали от неё. Кроме того, мне хотелось выглядеть великодушным. Родители и так бы отослали туда Оника — ведь он был старшим. Его нарядили в одежду греческого крестьянина и отправили в Сумелас с греком, погонщиком мулов. Хвала господу, что хоть один из нас спасён. Если мы все умрём, Оник продолжит наш род.
Через несколько часов после ухода Оника приехал из деревни дядя Гарник с семьёй. Краснолицый гигант из Гюмушхане был женат на старшей дочери тёти Шогакат. Дядя Гарник обладал крепким здоровьем, в то время как жена его Арусяк была худой и болезненной. Его принимали в тесном кругу нашего рода, хоть он и был трактирщиком. Дядя Гарник готов был снять последнюю рубашку, лишь бы дать своим детям образование. Старшего сына Айказа он послал учиться в Венецию в мхитаристскую школу. Но, увы! Прямо перед началом войны Айказ вернулся домой на каникулы и теперь не мог уехать обратно в Италию. Когда в комнату с рюкзаком на спине вошёл Айказ, женщины взглянули на него и вздохнули. Останься он чуть дольше в Венеции, был бы спасён.
По дороге к нам семья дяди Гарника увидела Оника в дорожном трактире, но он был так искусно переодет, что поначалу они приняли его за двойника грека.
— Нам показалось, что он нас не узнал, — сказала сестрица Арусяк. — Но стоило мне раскрыть рот, чтобы позвать его, как он поднёс палец к губам и показал жестом, чтобы мы с ним не заговаривали.
Как это похоже на Оника! Как благоразумно с его стороны! И пока остальные женщины расхваливали его, вспоминая всё, что он делал и говорил в прошлом, мама и тётя Азнив тихо плакали. Я представлял себе, как он вырастет и будет всё думать о нас, давно умерших. Он вспомнит, что у него когда-то был брат-солдат. Мы ведь с ним не только дрались, но и часто веселились до упаду.
Женщины перевели разговор на Айказа. Нам было его очень жаль. Айказ молчал и, глядя на его застенчивое лицо, я думал, что ему сейчас видится площадь Св. Марка в часы концерта, Большой канал при лунном свете, пестрящий бесконечной вереницей гондол… все те волшебные места, о которых он столько рассказывал. Ах, Венеция! Счастливая Венеция! Если бы я только мог прилететь к тебе! Превратиться бы чудом в огненного коня и переправить всех по воздуху прямо на площадь Св. Марка!
Никому из нас не хотелось есть, даже мне. Сладкий душистый виноград и груши, которыми тётя Шогакат угощала нас, остались нетронутыми.
Наши страдания усугублялись глубокой убеждённостью наших мужчин и особенно отца в том, что турецкое правительство хочет искоренить нашу нацию по систематическому плану. А приказ о высылке, как военной необходимости, был ничем иным, как хитрой уловкой для отвода глаз. Для нас как бы наступил конец света. И всё же, пока живёшь — надеешься, а мы надеялись вопреки логике, что каким-то образом нам удастся избежать этого массового смертного приговора. Может быть, правительство намерено уничтожить только опасные элементы — членов наших патриотических союзов? Тётя Шогакат подкупила соседа-турка, чтобы получить из достоверных источников хоть какие-то сведения, но так ничего и не выяснила. Даже турки не знали об истинной цели приказа о депортации, или делали вид, что не знают.
Лишь одно не вызывало сомнений. Если нас и в самом деле сошлют в Месопотамию, это станет для нас сущим адом: многие из нас умрут в пути. Отец был настроен очень пессимистично, а ведь он был большим реалистом и не мог не видеть непостижимый ужас обстановки. Единственное, что он взял из аптеки при закрытии, — был яд. Он раздал его женщинам, а они в свою очередь зашили яд в свои платья. Теперь, когда у них появилось средство покончить с жизнью и умереть неосквернёнными, лица их озарились внутренним покоем.
Но как знать, а вдруг некоторые из нас останутся в живых и в конце концов вернутся в Трапезунд? И после очередного совещания мужчины положили в глиняный горшок драгоценности и золото и зарыли его не то в подвале, не то в саду, не знаю где. Меня не посвятили в эту тайну.
Здесь в моей памяти небольшой провал. Я не могу припомнить, сколько таких мучительных дней я провёл у тёти Шогакат: не то один, не то два, а может, и три дня, и как я простился с отцом.
Было около четырёх часов дня, когда мы с мамой сели в фаэтон.
— Куда мы едем, мама? — тревожно спросил я у неё.
— В американскую миссию, — ответила она.
— Зачем?
Она поколебалась мгновение, затем со вздохом сказала:
— Американцы защитят тебя, дорогой. Доктор Кроуфорд получил у правительства разрешение содержать в своей школе мальчиков твоего возраста.
Я знал доктора Кроуфорда. Он был похож на апостола Петра и как-то странно, в нос, говорил по-армянски. Предчувствуя, что меня с мамой разлучат, я ласкался о её шёлковый прохладный чаршаф и всё заглядывал ей в лицо. Её бледные щёки ещё больше впали. Я вспомнил об австрийском принце из Вены, который, как я слышал, жил в гостинице напротив бабушкиного дома и влюбился в мою мать, когда ей было восемнадцать, и она носила парижские шляпы с перьями. Воспоминание это навело меня на мысль: если бы мама вышла замуж за австрийца, нас бы не выслали.
Фаэтон подъехал к территории миссии.
— Я сию минуту вернусь, — сказала мама извозчику, когда мы сошли.
У ворот миссии она наклонилась и поцеловала меня в голову. Губы её дрожали. Она попыталась что-то сказать, но сдержалась и, взяв меня руками за голову, снова поцеловала в лоб.
— Войди туда, родной, поиграй с мальчиками.
Я понял, что она хотела сказать совсем другое. Я всегда чувствовал малейшие перемены в настроении мамы, и ей никогда не удавалось меня обмануть, но не успел я и рта раскрыть, как она повернулась и побежала к коляске. Извозчик щёлкнул кнутом, и фаэтон отъехал.
Мне хотелось крикнуть: «Майрик! — Мама!» и побежать за ней, но я ничего не сказал. Я увидел, как она поднесла к глазам платок и плечи её затряслись. Моя бедная мама плакала по мне. Это было нашим последним прощанием. Мне не суждено было её вновь увидеть.
Я вошёл через калитку. На территории миссии толпились мальчики, которых матери привезли и оставили, доверив их защиту американскому флагу, развевающемуся на длинном шесте. Меня поразило, что эти мальчики запускали волчки, играли в шарики и бабки, менялись марками и шоколадными обёртками, как будто ничего и не случилось. Им, казалось, было совершенно невдомёк, почему их привезли туда.
А я был печален и задумчив. В одно мгновение во мне произошли глубокие изменения, которые завершают одну главу в жизни и начинают другую. Мир для меня полностью преобразился. Я смотрел на деревья, стены, окружавшие меня декоративные растения, на небо, но они уже не были теми деревьями, стенами, растениями и небом, какими я их знал. Мне казалось, что я вижу обратную — серую сторону пейзажа, что всё перевёрнуто, а настоящая, прекрасная сторона — скрыта от моих глаз.
Я вдруг осознал, что моё счастливое детство окончилось, и я стою на пороге новой жизни, в изменившемся мире, и я уже не тот мальчик, каким был, а совсем другой человек. Мне показалось, что я вдруг сразу вырос и возмужал. Каким, оказывается, радостным и счастливым был я совсем недавно! Только теперь я стал об этом сожалеть.
Глава седьмая ПО ДОРОГЕ СМЕРТИ
К вечеру в американскую миссию явилась группа хорошо одетых турок. Это были члены комитета Иттихат. Они сказали, что американцы не имеют права держать у себя армянских детей, и что мы тоже должны быть сосланы. Я хотел перепрыгнуть через забор и убежать, но уже темнело, и я испугался.
Я не знал, что делать. Турки собрали всех мальчиков и несколько девушек, работавших у американцев уборщицами, которые до прихода турок дали нам поесть хлеба с маслинами. Охваченные паникой, девушки пытались спрятаться в комнатах и чуланах. Но турки их нашли. Я тоже хотел как-нибудь спрятаться или убежать и всё поглядывал на виднеющиеся из-за ограды черепичные крыши, которые теперь на закате приобрели зловещий огненно-красный цвет.
Ещё один друг нашей семьи — адвокат-грек, который жил на нашей улице и имел большие связи, добился разрешения удочерить двух моих сестёр. Наши это обсуждали, когда я был ещё у тёти Шогакат. Узнав, что мне нельзя больше оставаться в американской миссии, он и меня решил усыновить и прислал за мной человека, который отвёл меня в его дом, где ждали меня мои сёстры. Оттуда мы все отправились в Сераи — государственное учреждение, и турок-служащий записал наши имена в огромную книгу. После этих формальностей мы уехали на загородную виллу грека, думая, что уже спасены.
Несколько дней мы жили среди друзей в полном достатке, но это вовсе нас не утешало, а скорее усиливало наши страдания. По ночам, когда мы ложились спать, Нвард и Евгине плакали. Евгине не было и семи, но она уже многое понимала.
Но вот и наступил роковой день 1 июля. Нашему народу был вынесен смертный приговор. Через неделю после того, как мы поселились у адвоката, он получил приказ выдать нас обратно правительству. О нас должны были позаботиться приюты, которые правительство великодушно открыло для армянских детей, чьих родителей сослало.
Жандарм отвёл нас в пустующий армянский дом — довольно большое здание — и мы подумали: это западня, нас убьют здесь тайком.
— Не бойтесь, — сказал жандарм, — скоро этот дом будет полон армян.
Жандармы привели туда сорок навзрыд плачущих девочек и пятнадцать угрюмых мальчиков моего возраста. Все они были католиками. Католики традиционно находились под защитой французского и австрийского послов и поддерживали тесные связи с иностранцами. Многие даже дома говорили по-французски, поэтому они надеялись, что их не тронут, но увы!
Через несколько дней жандармы привели группу женщин и детей. Мы были вне себя от радости, когда среди прибывших нашли тётю Азнив, Викторию, Вардануш, младших сыновей дяди Гарника — Микаэла и Симона — и десятилетнюю дочь Зепюр. Тётя Азнив поведала нам, что папу и маму не сослали, что они заперлись в нашем доме, который турки каким-то образом упустили, возможно, потому, что мы жили на греческой улице и были тут единственными армянами. А всех других армян утром первого июля вывели из собственных домов и погнали в Месопотамию.
— А вдруг турки их найдут? — Нвард ахнула. Тётя Азнив глубоко вздохнула, закрыла глаза и перекрестилась.
— Молитесь, чтобы их не нашли. Может, доктор Метаксас спасёт их и отправит в Сумелас к своей семье. Да пощадит нас бог!
Другой обнадёживающей новостью явилось то, что по приказу Ремзи Сами-бея двух наших бабушек устроили в правительственный госпиталь, управляющим которого был он сам. Откуда нам было знать, что и они приговорены и вскоре умрут, выпив отравленного кофе. Во всяком случае, это был менее жестокий способ убийства.
— А ты не знаешь, что с дядей Левоном? — спросил я у тёти Азнив. О нём я беспокоился больше всех.
— Его арестовали и выслали морем. Дорогие мои, я уже не знаю, кого оплакивать больше — мёртвых или живых. Слёзы мои иссякли.
Перед заходом солнца мы увидели нашу бабушку — мать моего отца — у окна третьего этажа госпиталя, недалеко от нашего приюта. Я крикнул: «Нэнé! Нэнé!» и помахал феской, но она не услышала меня. Хотел бы я знать, о чём она задумалась. Сидела неподвижно, будто она не наша дорогая нэне, а какой-то призрак в её обличье. Сидела и смотрела, как заходит летнее солнце, молчаливо и беспомощно выражая свой протест человечеству и богу. Мы были уверены, что она отказывается говорить с Ремзи Сами-беем, да и с любым другим турком из персонала госпиталя. Она была своевольна. А когда солнце зашло за мыс Йорез и стало темно, она растаяла, как видение. Больше мы её никогда не видели.
С нами обращались, как с заключёнными, и не разрешали выходить из здания. Нашими единственными посетителями были местные руководители Иттихата — элегантные, подтянутые турки. Многие из них уже жили на прусский лад, и могло показаться, что их единственной заботой были наши удобства и благополучие. Они пробовали нашу пищу на вкус, справлялись о нашем здоровье и были всегда готовы снабдить нас всем необходимым. По отношению к привлекательным девушкам — а среди нас было несколько со вкусом одетых хорошеньких барышень — они вели себя как галантные кавалеры. Как-то раз одна из девушек, пользовавшихся благосклонностью иттихатовцев, попросила швейную машинку. Очень скоро носильщики принесли с дюжину швейных машинок вместе с полным содержимым армянского магазина тканей. Девушки занялись шитьём новых полотенец и одежды для всех. Мне досталась пара коротких штанов. Те, в которых я до сих пор ходил, уже порвались от лазания по деревьям. Одни брюки служили мне неделю, не больше. Трудно было поверить, что все эти люди, такие обходительные и вежливые, напускающие на себя любезность и благожелательность, — палачи моего народа.
Мы уже недели две жили в нашем приюте, когда вдруг турок принёс нам письмо от отца и одеяло. Письмо, адресованное тёте Азнив, было отправлено из Гюмушхане. Она всё перечитывала его, озадаченная содержанием. «Мы с матерью только что благополучно приехали в Гюмушхане, — писал отец. (Я цитирую письмо по памяти). — В ссылку мы едем на фаэтоне. О нас не беспокойтесь, нам обещана полная безопасность. Проследи, чтобы дети не простужались и не нарушали своей диеты. Не давай им жареной пищи. Я посылаю тебе одеяло, чтобы быть уверенным, что они не простудятся».
Почерк был отцовский, в этом не было сомнения. Позже мы узнали, что отец и мать сдались полиции после трёх недель затворничества. Отец потерял рассудок. Когда жандармы вели их по улицам, как двух пойманных преступников, мама громко рыдала: «Верните мне моих детей! Где мои дети? Куда вы их увели?» Греки, слышавшие её отчаянные вопли, закрывали окна и плакали.
Но мы не плакали, молча перечитывая письмо отца. Бывает горе, которое невозможно передать словами и слезами.
Город Гюмушхане, в шестидесяти милях от моря, славился яблоками и грушами. Позаимствовавший своё название от серебряных копий, город сейчас приобрёл новое ужасное значение как главный пункт на пути в ссылку, где навсегда исчезали сосланные из Трапезунда. Наши родители доехали до Гюмушхане и, очевидно, пользовались определёнными привилегиями, в которых другим было отказано. Им был предоставлен фаэтон, они имели возможность переписываться с нами, но далеко ли они могли уйти из Гюмушхане? Мы сомневались в этом и совершенно не надеялись увидеть их вновь.
Принёсший письмо добродушный с виду турок представился другом отца и хотел взять нас к себе. Он уверял, что добьётся нашего освобождения. Однако он не оставлял впечатления человека влиятельного и богатого; носил он шаровары, а не брюки. Мы не захотели разлучаться с Вардануш и детьми дяди Гарника. Мы разделим их участь, какой бы она ни была. Тётя Азнив чувствовала себя ответственной за наши судьбы. Кроме того, в нас был какой-то инстинктивный страх перед турецкими домами. Мы никогда не могли бы отречься от своей нации и веры и превратиться в турок. Мы решили — если нам суждено умереть, то умрём христианами.
Через несколько дней после прихода того добродушного турка мы с мальчиками сидели на персиковом дереве, когда в саду внезапно появился жандарм и движением штыка приказал нам спуститься вниз. Мы с ужасом повиновались. «Нам даже на деревья нельзя больше лазить», — подумал я. Он выгнал нас из сада.
— Куда вы нас ведёте? — спросил я его. Мне хотелось показать своим друзьям, что я не боюсь жандармов и могу даже с ними говорить.
— Сюргун, — ответил он. — Ссылка.
— Можно я сбегаю за феской? — Я старался казаться весёлым и наивным, будто не понимал, что значит «сюргун».
— Наверх нельзя, ясак дер, — рявкнул жандарм.
Во дворе мы присоединились к перепуганной толпе девушек, женщин и мальчиков. Тётя Азнив, Вардануш, Виктория, Микаэл, Симон стояли группой, дрожа перед наставленными на них штыками. Ни Нвард, ни Евгине, ни Зепюр там не было.
— Где они? — спросил я.
Мне ответили, что их оставили в здании вместе с остальными девушками. Двери были заперты, но изнутри слышались громкие крики девушек.
Жандармы повели нас в здание армянского епархиального управления. После нескольких недель заточения улицы казались нам необычными. Я смотрел на нашу школьную площадку для игр и видел тени своих пропавших школьных товарищей, которые в мёртвой тишине играли в страшные призрачные игры.
Женщин и детей из других новосозданных приютов тоже привели в здание епархии, и мы узнали, что нас отправят в путь утром.
Ночью в ожидании смерти я сидел, свернувшись калачиком в кресле, и боялся дышать. Рядом со мной на столе кроваво-красным огнём светилась лампа. Обуявший всех нас животный страх мог кого угодно свести с ума. Мы были на грани помешательства, размышляя в безумно-напряжённой тишине о своей участи. Даже приникнув друг к другу, как бы ища защиты, мы чувствовали себя страшно одинокими.
Я задремал в кресле, а когда открыл глаза, то увидел, как все остальные сгрудились в комнате, в кровавом свете лампы, скорбные и безмолвные, оцепеневшие от бессонной ночи. Никто не говорил. Никто не двигался. Казалось, мы уже мертвы, и я вижу перед собой только призраки. Они не спали, глаза у них были открыты, но они как бы окаменели. Я протянул руку, тронул тётю Азнив за плечо и вздрогнул, когда она отозвалась. Когда за окнами растаял ночной мрак и в сером свете зари показались деревья, стены и крыши, мы встали и задвигались по комнате, погасили лампы, обменялись парой слов, поразивших меня необычным своим звучанием. Эти обыкновенные жесты, разговор, прикосновение к вещам возвращали нас к прежней, нормальной жизни, это означало, что мы продолжаем жить, и мы слегка успокоились.
Тёте Азнив удалось подкупить жандарма и через него приобрести коробочку английского печенья, заплатив за него целый фунт золотом. Вся коробка досталась мне. Никому не хотелось есть. Печенье было с шоколадной, сливочной и фруктовой начинкой, и я подумал, что оно стоит того, чтобы за него умереть.
— Ничего не может испортить тебе аппетита, обжора, — сказала тётя Азнив с бледной улыбкой.
Нас выстроили на школьной площадке. Прочитали наши имена по списку, после чего комиссар полиции нас снова пересчитал. Затем под конвоем полицейских со штыками наготове мы вышли из здания епархиального управления и медленно двинулись по улицам, как похоронная процессия. Жуя печенье, я оглядывался на знакомые здания, которые теперь, в час последнего расставания, стали для меня такими мучительно дорогими, что к горлу подступил комок. Хотя я совершенно не ощущал голода, однако подумал, что перед смертью, пожалуй, лучше съесть всё печенье в коробке.
Мы проходили мимо американского консульства, и я с тоской посмотрел на звёздно-полосатый флаг. Оттуда дорога спускалась к пляжу и шла зигзагом по всему берегу. Наши ноги утопали в густой пыли, лица обжигал горячий, словно из раскалённой печи, воздух. Ни у кого не было с собой даже узелка, хотя мы, вероятно, тоже направлялись в Месопотамию.
Проходя мимо крепости Ксенофонта, я увидел на холме развалины древнего армянского монастыря и вспомнил проведённые там счастливые дни. Дорога поднималась вверх от узкой долины Мельничной реки; и город, и море уже скрылись из виду. Ужас обуял наши души. Европа и цивилизация остались у нас за спиной, а мы очутились в кровавой пустыне Азии.
Примерно через час нам приказали остановиться. Башчавуш — старший сержант жандармов в голубых мундирах, сопровождавших нас на смерть, — поднялся па скалу и объявил, что нам ежеминутно грозит опасность нападения со стороны бандитов. Он предложил отдать ему наши деньги и другие ценности на хранение, намекнув, что за нашу защиту не помешало бы дать бакшиш — взятку.
Они построили нас вдоль дороги в ряд и ограбили одного за другим. Тёте Азнив пришлось отдать им все деньги: десять или пятнадцать фунтов золотом, шесть пиастров серебром и медью. Они забрали золото, а мелочь оставили ей. Опасаясь, что позже отберут и эти шесть пиастров, она отдала их мне.
Солнце палило обнажённую голову, и после печенья мне очень хотелось пить. Вардануш была в парижских туфлях на высоких каблуках и натёрла себе ноги. Одна полная грузная женщина, сильно вспотевшая, с распущенными по плечам седыми волосами, ковыляла в домашних шлёпанцах. Вдруг она упала на колени.
— Встать! — сердито приказал ей жандарм.
— Нет, уж лучше расстреляйте сейчас, — сказала она.
Тех, кто не могли идти, убивали на месте. Один жандарм остался подле неё, а остальные продолжили путь. После поворота, когда их уже не стало видно, в долине раздался выстрел. Через несколько минут жандарм с кровожадным блеском в глазках-бусинках нагнал караван.
Они дали нам немного отдохнуть в болотистой местности. Но нам не разрешили подойти к реке; воду мы пили из кишащего головастиками пруда со стоячей водой. Я окунал свою коробочку от печенья в грязный пруд и передавал её женщинам и детям.
Не успели мы отойти от места нашего отдыха, как вдруг я увидел в реке тело нагой женщины — река в этом месте была довольно мелкой. Её длинные волосы распустились по течению, вздутый белый живот блестел на солнце. Я заметил, что у неё отрезана одна грудь. Чуть дальше я увидел другое, на этот раз мужское тело, потом застрявшую в корнях дерева человеческую руку. Трупы становились обычным зрелищем, но когда я насчитал четырнадцать, тётя Азнив отругала меня и запретила смотреть на реку. Я никогда прежде не видел взрослых людей нагишом и смотрел на их тела с нездоровым любопытством.
Когда через несколько минут я снова посмотрел на реку, то увидел у берега длинную полосу пенящейся крови. Невозможно передать словами, какое впечатление оставила на меня эта ужасная картина, она и по сей день у меня перед глазами. Обнажившиеся корни деревьев и кустарников свернулись в клубок, как кровожадные красные змеи. Никто из нас не мог говорить, мы плелись молча, и наши лица были отмечены печатью смерти.
Я отчаянно молился, произнося в уме слова: «Боже, избавь нас от зла». Мне казалось, что господь благосклонен ко мне, что между нами возникла близость и взаимопонимание, и что пока я молюсь, со мной ничего не случится. Мне стало легче на сердце, и я даже приобрёл какую-то уверенность в себе, как человек, который получил радостные вести среди отчаявшихся людей, но хитро хранит их про себя.
— Не тревожься, — шепнул я тёте Азнив доверительно. — Я молюсь. Господь спасёт нас.
— Молись, дитя моё, молись. Я тоже молюсь, — вздохнула она.
Мы страшились приближения ночи. Об этом мы не говорили. Слова не были нужны, мы беседовали молча. Когда зашло солнце и долину смерти окутал покров темноты, шум реки стал слышнее. Я не знал, увидим ли мы снова рассвет.
Мы добрались до караван-сарая, примыкающего к мельнице, напились мутной воды, и нас погнали в мрак этой восточной «гостиницы». Тьма была кромешная. Мы жались друг к другу на голом полу, как овцы. В руках у меня была наполненная водой жестянка, и я крепко прижимал её к себе. Мы думали, что жандармы убьют нас здесь, а тела наши выбросят в воду. Река с адским шумом протекала, казалось, прямо под нами. Резню обычно устраивали по ночам. Река ревела, как тысяча диких зверей, изголодавшихся по нашей плоти.
Комната, которую занимали жандармы, была слабо освещена. Мы слышали, как они тихо переговариваются, выходят и заходят. Каждое их движение казалось нам подозрительным, усиливало нашу тревогу. Мы почувствовали запах огурцов, и, пока они ели, в караван-сарае царило спокойствие. Нам еды не давали. Затем мы услышали новые хриплые голоса. Не чете ли это — солдаты нерегулярной армии, освобождённые из тюрем преступники, которых мы боялись больше всего?
Вдруг из соседних комнат до нас дошли вопли, стоны, крики о пощаде, кто-то пробежался лёгким шагом, затем послышались грубые мужские голоса и топот тяжёлых сапог.
— Началось, — сказала тётя Азнив. Она пошарила в своей блузе, разорвала шов и извлекла яд, который в своё время дал ей отец.
— Дай мне воду, быстро!
Я передал ей жестянку. В ней ещё было немного воды. Она размешала порошок.
— Мы выпьем это прежде, чем они до нас доберутся.
Она отпила из жестянки со смертельным раствором, затем передала её Вардануш, которая сделала то же самое. Их примеру последовали Виктория и мои двоюродные братья Микаэл и Симон. Наконец, подошла и моя очередь. Руки мои дрожали, когда я взял жестянку. В ней мало что оставалось, но я знал, что и этого хватит, чтобы убить меня.
— Выпей! — сказала тётя Азнив, увидев, что я не решаюсь. — Боли не почувствуешь, уснёшь и никогда не проснёшься.
Мне стало страшно, когда я представил себя живым, а их лежащими мёртвыми рядом со мной. Я не хотел умирать, но и не хотел показаться им трусом, я, такой смелый мальчик.
Мои двоюродные братья Микаэл и Симон выпили не колеблясь. Я тоже поднёс жестянку к губам и опустошил её, и стал ждать, когда же яд постепенно одолеет нас и мы навеки закроем глаза.
Мне стало казаться, что свирепая река уже рвётся к нам в комнату, чтобы подхватить наши тела. Ну что ж, подумал я, во всех случаях мы достанемся тебе. Мне чудилось, как раздев, нас бросают одного за другим в её пенящуюся пасть. Единственным утешением была мысль, что река унесёт меня в море, и оно будет нежно, как праматерь, качать меня на руках.
Пока мы спокойно дожидались смерти, в дверях нашей комнаты появились два жандарма, один из которых держал маленькую коптящую свечу. Они похотливо-оценивающе оглядели женщин, и один из них внезапно подался вперёд и схватил одну девочку. Она закричала и стала вырываться из его рук, но напрасно. Он выволок её из комнаты, а жандарм с лампой молча последовал за ним.
Никто не осмелился и слова сказать. Мы все продолжали неподвижно лежать на полу.
Жандармы силой уводили понравившихся им женщин и девушек и насиловали в соседних комнатах, а не убивали, как мы вначале думали. И тем не менее, никто из нас не сожалел, что принял яд. Они всё равно убьют нас, если не сейчас, то на следующий день или через несколько дней. Какая разница? Нас было шесть живых мертвецов.
Я ждал признаков приближающейся смерти, но, странное дело, ничего не ощущал. И ни на кого, кроме Вардануш, яд не подействовал. Её стало тошнить, и она прислонилась к плечу тёти Азнив. Очевидно, этой дозы было недостаточно, чтобы убить шестерых. Ведь когда отец давал яд тёте Азнив, он не знал, что ей придётся поделиться ещё с пятерыми.
Виктория заползла за наши спины, чтобы жандармы не увидели её. Она была бы ценной добычей для них. Мы сели на неё. Через несколько минут вошли два жандарма, один из них, как и прежде, нёс свечу. Добравшись до нашего угла, они осветили ею лицо Вардануш, лежавшей почти без сознания.
— Она что, больна? — спросили они.
— Да, — ответила тётя Азнив.
Без дальнейших расспросов жандармы продолжили свой осмотр и, схватив одну стройную девушку, поволокли в комнату, где насиловали и остальных женщин.
Эта оргия длилась всю ночь. Утром они отпустили свои жертвы; две из них с плачем вернулись в нашу комнату, пряча от стыда лица.
Наутро после очередной переклички начался второй день шествия к смерти. Вардануш так исхудала и ослабла, что тёте Азнив и Виктории пришлось тащить её за руки, а она старалась казаться весёлой и здоровой. Она шла в середине, чтобы жандармы не заметили её и не пристрелили.
Днём нас привели в тенистую долину в стороне от дороги.
— Садитесь и отдыхайте! — приказали жандармы.
Мы покорно сели и сразу же стали искать следы предыдущей резни и ждать, когда на нас нападут «бандиты» из засады, а наши жандармы, сделав вид, будто защищают нас, присоединятся к расправе. Через пятнадцать минут после такого отдыха мы вернулись на дорогу.
Нам ни разу не повстречался ни один путешественник с тех пор, как мы покинули Трапезунд. Дорогу закрыли для транспорта, чтобы люди нас не видели.
Мы встретили только греческую солдатскую бригаду, которая работала на военной узкоколейке, соединявшей трапезундский порт с Джевизликом, находившимся в двадцати милях от моря. На этой узкоколейке не было паровозов, и солдатам приходилось самим толкать вагоны, гружённые мешками с армейским продовольствием. Они были в гражданском и смотрели на нас печальными глазами. Как хорошо увидеть снова лица христиан, лица настоящих людей, лица, выражающие человеческие эмоции! Я приветствовал их по-гречески.
— Не смей говорить с ними! — рявкнул на меня жандарм. Он был очень подозрительным и хотел узнать, что я сказал солдатам. — Смотри, а то будешь идти впереди вместе с остальными мальчиками, — пригрозил он мне.
Мальчики, у которых не было сестёр или близких родственников среди женщин, шли впереди колонны. С нами, мальчиками, жандармы обращались особенно бесцеремонно и зорко следили, чтобы мы не пытались бежать. Я всё время искал случая сбежать и был наготове.
В Джевизлик мы добрались уже под вечер. Нас, мальчиков, отделили от женщин и девочек и отправили спать в другой караван-сарай. От генерал-губернатора поступили «новые указания». Мальчиков должны были распределить по мусульманским семьям этой области, а это означало, что мы станем турками.
Какой-то чиновник принёс нам несколько корзин с тёплым чёрным хлебом.
— Не ешьте, он отравлен! — говорили некоторые мальчики.
Но мы были так голодны, и от хлеба исходил такой вкусный аромат, что мы, немного поколебавшись, всё-таки съели его. Я-то хоть поел печенья, а вот другие уже два с половиной дня ничего не ели. В караван-сарае мы влезли на нары. Они предназначались как для людей, так и для лошадей. У ворот сидел жандарм с винтовкой.
Мои двоюродные братья Микаэл и Симон вскоре уснули, но мне было неспокойно; я хотел убежать. С помощью какой-то телепатии я сообщил это мальчикам, у которых были схожие с моими мысли, и мы напряжённым шёпотом посовещались, сидя на корточках на земляном полу, усеянном соломой и лошадиным навозом.
— В той стене — щель.
— Широкая?
— Да.
— Жандармы не услышат…
— Но куда нам бежать?
— В горы, — сказал я. — Можем пожить в горах, пока придут русские.
— Но в лесу волки и медведи.
— А здесь жандармы и чете, так что выбирай.
— Шш-ш!..
Мы встали и выглянули через щель в стене. Снаружи было светло, как днём — так ярко светила луна. Галька на берегу реки отсвечивала серебром. Риск был слишком велик. Нас обязательно увидят, когда мы подойдём к реке. А реку нужно перейти, чтобы подняться в горы, да и турки сразу поймут по нашей европейской одежде, что мы армяне. Мы снова полезли на наши нары, предпочтя верной смерти жизнь в турецких семьях.
Когда утром я проснулся, большинство мальчиков уже были на ногах и казались в хорошем настроении. Это было похоже на радость, которую испытывает выздоравливающий после тяжёлой болезни, когда температура спадает и у него снова пробуждается интерес к жизни.
Мы собрались у караван-сарая в ожидании женщин и девочек, которые должны были пройти мимо нас на пути в Гюмушхане. В тревоге и спешке внезапной разлуки я не смог вернуть тёте Азнив её шесть пиастров, а мне очень хотелось отдать их ей. Вдруг мы увидели, как они идут по дороге, но их уже сопровождало меньше жандармов, чем в предыдущий день. Когда они приблизились, я подбежал к тёте Азнив, несмотря на то, что это было воспрещено. Вардануш посмотрела тусклым взглядом, не узнавая меня. Она умирала на ногах, а тётя Азнив и Виктория тащили её в середине колонны. Я вложил деньги в руку тёте Азнив.
— Мне они не нужны, — сказала она и попыталась их вернуть. — Оставь себе, родной. Они понадобятся вам, мальчикам.
— Тебе они больше нужны. — Я взглянул на дорогое мне некрасивое лицо. Она плакала без слёз, ибо слёз у неё больше не было.
— О боже, что же с вами, мальчиками, будет! — горестно вздохнула она. — Если удастся, не разлучайся с Микаэлом и Симоном.
Жандарм приказал мне вернуться в караван-сарай. По крайней мере, я отдал ей деньги. Я знал, что больше никогда их не увижу, что они идут на неминуемую смерть. В их походке была некая размеренность, словно дарованное нам продление жизни сбросило с их плеч тяжёлое бремя, и теперь они готовы встретить смерть. Я смотрел, как они идут в молчаливом отупении, поражающем людей, когда они так потрясены горем и потерями, что становятся бесчувственными ко всему.
Глава восьмая АВТОМОБИЛЬ В ДЖЕВИЗЛИКЕ
Нас, мальчиков, выставили напоказ перед охраняемым жандармами зданием местных властей, а городские лавочники и крестьяне слонялись вокруг, рассматривая нас проницательным оценивающим взглядом покупателей баранов. Каймакам — помощник губернатора — тучный пожилой человек в сером европейском костюме с золотой цепочкой от часов, висевшей на широкой талии, стоял на каменных ступеньках здания и смотрел на нас со скучающим выражением лица. Видимо, мы оказались ещё одной группой детей, от которых нужно было избавиться согласно указаниям генерал-губернатора Трапезунда. Для каймакама это было обычной служебной обязанностью, он не проявлял к нам личной неприязни.
Это был невольничий рынок, куда приводят захваченных в рабство детей неприятеля, только с той разницей, что за нас не нужно было платить, и всякий мусульманин мог забрать любого из нас. Среди посетителей было несколько женщин — одни под плотной чёрной чадрой, а другие совсем без чадры или с наполовину закрытым лицом. Но с чадрой или без неё, будь то женщины или мужчины, — все они пренебрегали мной. Казалось, я их отпугивал, хотя и старался выглядеть кротким и послушным. Хозяин кофейни, искавший мальчика для прислуживания, выбрал моего двоюродного брата Микаэла — мальчика серьёзного и благоразумного. Ещё какой-то горбоносый писец в сюртуке забрал моего лучшего друга Нурихана, потому что отец Нурихана, переводчик русского консульства в Трапезунде, в своё время оказал какую-то услугу этому турку. Сей достойный муж казался единственным цивилизованным человеком во всём Джевизлике.
Симону, другому моему двоюродному брату, не было и восьми; у него было красивое овальное лицо, розовые щёки и умные глаза. Все женщины останавливались, чтобы полюбоваться им, и все хотели усыновить его, но он без меня не шёл.
— Мы братья, — говорил я, — нас нельзя разлучать.
Я был зол на Микаэла за то, что он оставил Симона. Старшим братьям не годится так поступать. Я любил Симона, он был настоящий сорвиголова. Он мог скакать на лошади без седла, что мне не удавалось. Микаэл же, напротив, никогда не играл, а всё время зарывался носом в книги. Он умел читать и писать по-французски и по-итальянски и знал дроби. Меня он считал непоседой и невежей.
Моё желание идти с Симоном было не совсем бескорыстным. Правда, я хотел быть ему поддержкой, чтобы он остался армянином, но я и сам надеялся спастись через него… Раз меня одного никто не хочет брать, может, какая-нибудь добрая женщина возьмёт меня ради него?
Вечером я и Симон вместе с двадцатью такими же неудачниками вернулись в караван-сарай. Нам сказали, что завтра нам дадут ещё одну возможность, а те, кто не найдут покровителя-мусульманина до четырёх часов дня, будут сосланы. Но я знал, что мы достигли уже конца этапа и никакой ссылки для нас не будет — они просто вывезут нас за город и убьют.
Наутро нас снова выставили напоказ. Теперь уже посетителями были одни крестьяне. Они пришли в город продать продукты, сделать покупки и заодно мимоходом на нас поглядеть, может, из любопытства, а может, с надеждой вернуться домой с мальчиком-армянином в придачу.
Симоном восторгалась кучка зажиточных на вид крестьянок, и одна из них в короткой чадре решила усыновить его. Я сказал ей, что мы братья, и я не могу отпустить его одного, намекая, чтобы она и меня взяла. Но я её не заинтересовал, ей был нужен только Симон. А Симон не шёл.
— Вы не братья! Вы не похожи! — сказала она сердитым голосом, грозя окрашенным хной пальцем. — Лучше отпусти его с нами, а то я скажу, чтобы тебя наказали как лгунишку.
— Валлах-биллах, мы братья! — поклялся я, призывая аллаха в свидетели.
— Он в самом деле твой брат? — спросила она Симона.
Симон кивнул в ответ, мол, «да», но это было больше похоже на «нет». Тем не менее, он остался стоять со мной.
«Ах ты, дьявол, — казалось, говорили горящие глаза этих женщин. — Сам-то ты навсегда останешься неверным, а этого ягнёнка за собой поведёшь».
Я вдруг почувствовал, что особенно настаивать не нужно, может, это последний шанс Симона. Женщины грозились, что отведут меня к каймакаму и потребуют отделить от остальных мальчиков, как «опасного».
— Мы не родные братья, — наконец признался я. — Мы — двоюродные. — Я рассказал им, где его родной брат, и отпустил Симона.
Никто не хотел меня брать. Нас оставалось шесть-семь человек с одним жандармом в охране. Мои отвергнутые друзья покорно дожидались своей участи. Я хотел крикнуть им: «Давайте что-нибудь сделаем. Они же нас убьют, вы понимаете? Они нас убьют, а тела наши выбросят в реку!» Но я молчал. Казалось, каждый из нас стыдится себя, особенно, мальчик с подслеповатыми глазами. Каждый глубоко замкнулся в своей раковине, как улитка, задетая булавкой. Мы оказались забракованным, завалявшимся товаром на невольничьем рынке. Никому мы не были нужны, и только река настойчиво требовала нас к себе.
Я потерял голову. Каждая минута была дорога. Я должен был сделать что-нибудь, чтобы спастись. Меня они не убьют.
Я должен жить. К зданию властей подъехал на коне солдат нерегулярной армии — чете — и со злобной усмешкой посмотрел на нас. Башлык у него был залихватски натянут по самые глаза. Вооружённый до зубов убийца.
«Утопающий хватается за змею» — гласит армянская пословица.
— Ради аллаха, усыновите меня! — взмолился я. — Если вы меня не возьмёте, к вечеру сошлют меня.
Чете мрачно нахмурился и пристально посмотрел на меня:
— Можешь стать чете, как я?
— Да, эфенди, — сказал я, щёлкнув каблуками и вытянувшись в струнку. Мой ответ и военная выправка понравились ему. Он смерил меня с головы до ног.
— Мне нравятся твои глаза. Я возьму тебя. — Он соскочил с коня, и мы вместе пошли в контору каймакама, где его усердный секретарь приписал моё имя к списку остальных отуреченных мальчиков.
— Я не могу взять тебя с собой в деревню сейчас, — сказал мне этот чете. — Меня не будет в городе три недели, но здесь у меня есть друг, который позаботится о тебе. — Он раскрыл свой вязаный кошелёк и дал мне медяк. — Ну, беги, купи себе хлеба, а вечером встречай меня на мосту.
Итак, я был свободен! В эту минуту профессия моего благодетеля не играла никакой роли.
Я пошёл в пекарню и купил себе большой ломоть чёрного хлеба. В кофейне я увидел своего двоюродного брата Микаэла, который брал у мрачных посетителей заказы и спрашивал у них, какой кофе они хотят: с сахаром или без («шакарли» или «садех»). Каждую чашку кофе на подносе он ловко уравновешивал стаканом воды, совсем как опытный официант. Посетители проводили время, играя в нарды. Они сильно стучали костяшками по инкрустированной перламутром доске и по-персидски считали: «Ду бара! Ду беш! Шеш беш!». Другие в мечтательном покое курили наргиле. Стены кофейни были украшены засиженными мухами безвкусными литографиями, изображающими весьма идеализированные военные сценки из турецкой истории.
Микаэл был явно доволен. «Кайфеджи относится ко мне хорошо, — сказал он мне, — но хочет, чтоб я не общался с армянскими мальчиками и забыл своё прошлое. Теперь я уже турок, говорит он».
Далее я навестил Нурихана, к которому вернулись бодрость духа и веселье. «Писарь сказал, что мне не обязательно становиться турком, — радостно сообщил он. — Человек он образованный, и меня он взял только чтобы спасти мне жизнь. Но его жена не пускает меня в дом, чёрт бы её побрал. Она говорит, что мне уже тринадцать, и я слишком взрослый, а у неё четырнадцатилетняя дочь. Когда я вхожу в дом, они обе опускают чадру. Муж с женой поссорились из-за меня; мне придётся спать здесь, в конторе. Но это меня вполне устраивает. Мне только придётся носить несколько вёдер воды его жене».
Нурихану повезло больше всех. Его старшая сестра была женой швейцарского консула в Трапезунде, который приютил у себя в консульстве остальных его сестёр и младшего брата. Нурихан был длинноногий, кучерявый мальчик-католик, претендовавший на огромное наследство в тридцать, не то в сорок миллионов фунтов, оставленных ему армянским торговым «королём» из Индии. Отсюда и окончание его имени «хан», означающее по-персидски «князь».
Ну почему я такой невезучий? Меня ужасала перспектива провести всю оставшуюся жизнь в мусульманской деревне. К мосту я пошёл с тяжёлым сердцем. Чете дожидался меня там со своим другом, настоящим босоногим нищим с посохом и котомкой для хлеба на плече.
— О тебе до моего возвращения позаботится он, — сказал чете.
Нищий ухмыльнулся. Меня чуть не стошнило от отвращения. Я даже не мог стоять рядом с ним. От него исходило отвратительное зловоние нищенского племени.
— Он станет чете, когда подрастёт, — сказал мой благодетель, положив мне руку на плечо.
Повторив свой наказ нищему хорошо заботиться обо мне, чете сел на коня и ускакал грабить и убивать армян.
Нищий отнёсся ко мне с такой почтительностью, что мне стало даже забавно. Казалось, он гордится тем, что меня вверили ему на попечение. Это был двадцатичетырёхлетний парень со светлыми волосами, без двух передних зубов. В его деревню мы отправились по большой дороге.
Грязные маленькие оборвыши, игравшие в густой пыли на дороге, встретили его насмешливыми криками, называя «сумасшедший Хасан».
— Кто эта собака-гяур? Куда ты его ведешь? — кричали они, бросая в меня камни. Он поднял палку и побежал за ними, а они разбежались во все стороны.
— Сумасшедший Хасан! Сумасшедший Хасан! — кричали они из-за кустов и стен. — Отдай его нам, осёл ты эдакий, нам нужен этот неверный ублюдок! — И они кричали, что они со мной сделают.
По непристойной брани этих развратных уличных мальчишек можно было судить о том, что творится в этой грязной деревушке. Я содрогнулся.
Мы повернули в лабиринт земляных лачуг с плоскими крышами и вошли в хижину нищего — самую жалкую из всех. Но он имел двух жён, которые ходили в необъятных шароварах с таким множеством заплаток, что под ними невозможно было усмотреть ткань. Они приняли меня слёзно-ласково и, воздев к небу глаза и руки, пророчески запричитали, что аллах накажет турок за содеянные ими преступления.
— Да падёт проклятье на их головы! — говорили они, имея в виду чиновников, жандармов и всех тех, кто держал их в такой бедности и совершал эти преступления. Враги у нас были общие.
Стоя на коленях на глиняном полу, они расспрашивали меня с любопытством и жалостью:
— Твои родители, наверное, были богатые? У тебя ведь было всё? На тебе такая красивая одежда и туфли. Ах, яврум, душа моя, теперь тебе придётся жить с такими бедняками, как мы, а мы тебе даже коробка спичек купить не сможем! — Они излагали длинный перечень своих несчастий и оплакивали меня, «богатого городского мальчика», опустившегося до их уровня. — Вах, вах, за какие твои грехи, ягнёнок мой, душа моя?
Лачуга временами освещалась смолистыми вспышками хвойной палочки. Есть им было нечего, и мы легли спать без ужина. Постель была на лавке в углу комнаты, и они удостоили меня чести, к моему безграничному отвращению и ужасу, спать в ней с их мужем, в то время как они обе легли на тростниковую циновку, разостланную на полу. Нищий даже не потрудился снять с себя лохмотья, да и жёны не разделись. Я снял с себя только обувь. Одеяло было липким и жёстким от многолетней грязи и пота. Я старался не касаться его губами. Я лёг как можно дальше от нищего, но его большие ноги иногда касались моих. Зная о гомосексуальных наклонностях турок, я вздрагивал от страха.
Утром, когда я проснулся, в лачуге никого не было. Я встал, надел туфли и вышел во двор. Нищий, должно быть, ушёл в город на повседневный промысел, но куда же подевались его жёны? Я спросил у молодой девушки, живущей по соседству, и она сказала, что они работают жницами на пшеничном поле и объяснила, как туда добраться.
Я медленно пошёл по дороге к полю. Очевидно, жители этой деревни не имели никакого понятия о туалетах. Земля вокруг их лачуг сплошь была покрыта испражнениями. Я боялся, что сойду с ума, если проведу ещё одну ночь с нищим, если его ноги ещё раз коснутся моих, а как только дошёл до большой дороги, в отчаянии убежал в Джевизлик.
Я провёл день со своими друзьями. Когда наступили сумерки, Нурихан посоветовал мне вернуться к нищему, иначе, сказал он, меня сочтут за беглеца, а бегство наказывалось смертью. Я должен был вернуться, хотя предпочёл бы умереть. По дороге в деревню, недалеко от правительственного учреждения, я повстречал каймакама, совершающего свой вечерний моцион с такими же тучными, как и он, турками.
— Акшаминиз хаир олсун — да принесёт вам вечер удачу! — приветствовал я их. Это была одна из тех вежливых фраз, которым я научился от своих турецких друзей Шукри и Махмуда. — Каймакам-бей, — сказал я дрожащим голосом, — я сын аптекаря Карапета-эфенди из Трапезунда. Какой-то чете усыновил меня вчера и отдал на попечение на три недели своему другу — нищему, живущему в этой деревне. Но они так бедны, что у них даже спичек нет в доме. Пожалуйста, разрешите мне остаться в Джевизлике, пока я не найду себе другого турецкого папашу.
Вертя в руках украшенные кисточкой янтарные чётки, они серьёзно слушали меня, и я чувствовал, что не без симпатии. Оба, и чете и нищий, были известными для них личностями, и они выразили удивление, что такой головорез совершил добрый поступок, усыновил армянского мальчика. Это показалось им забавным. Каймакам разрешил мне остаться в Джевизлике с условием, что я найду себе другого попечителя.
Ту ночь я провёл с Нуриханом в конторе писца. Не было ни лампы, ни свечи, но Нурихан изобрёл новый способ освещения — зажигал нанизанные на проволоку ядра лесных орехов. Когда сгорело последнее ядро, мы опустились на колени и стали молиться. Затем он свернулся в клубок на скамье, а я на столе, и мы уснули.
На следующее утро я нашёл себе нового попечителя — уважаемого купца Османа-агу. Он держал лавку по продаже зерна и носил одежду лазов. Ходил переваливаясь, мускулы бугрились на ногах под облегающими икры штанами, а отвисающий шарообразный зад его шаровар ритмично раскачивался вправо и влево, как курдюк каракульчи. У него была правильной формы голова, каштановые волосы, карие глаза и белые руки. Он носил серебряный кинжал, патронташ на груди был украшен серебряной нитью.
Осман-ага повёл меня к портному и заказал мне льняное бельё и лазский костюм, такой же, как у него. Он назвал меня Джемалом.
Я не мог заставить себя называть его «отец». Мне хотелось любить его, ведь он спас мне жизнь, но я ненавидел его. В его присутствии я был сдержан и неловок. Он был очень набожным и пять раз в день честно совершал намаз. Услышав монотонное пение муэдзина, он умывал лицо, руки до локтей, ноги до лодыжек и падал ниц на маленький молитвенный коврик, шепча стихи из Корана.
Я думал, что он позволит мне остаться с ним в городе, но вечером он отвёл меня к себе в деревню. Она находилась высоко в горах, вдали от моря. Я пожалел, что не остался с нищим; его деревня, по крайней мере, была ближе к морю и Европе. Я подумал, что мне никогда не удастся сбежать из этой далёкой горной деревни: меня поймают раньше, чем я дойду до большой дороги.
Осман-ага жил в опрятном домике. Его жена, высокая женщина, была добра ко мне. У них был рослый красивый сын — Али, на год или два старше меня. Оба, мать и сын, стеснялись меня, ведь я для них олицетворял городской образ жизни, чудеса и очарование Европы. Мой лазский костюм не был ещё готов, и я ходил в своей одежде.
Я спал один в передней, на постели, постланной на тростниковой циновке. Натянув одеяло на голову, я перекрестился и стал отчаянно молиться богу, чтоб он услышал глас вопиющего в пустыне.
Утром, когда я ещё спал, Осман-ага вернулся в Джевизлик. В доме никого не было. Я спешно оделся и, выйдя во двор, мастерски, как мне думалось, применил дипломатический ход. Я закричал:
— Ана, нереде сун? — Мама, где ты?
Называя её матерью, мне хотелось показать соседям, наверняка слышавшим меня, что я принимаю её как мать. Я не смог бы назвать Османа-агу папой, но жена его — совсем другое дело — в ней была какая-то материнская доброта.
Весть о моём появлении распространилась по всей деревне, и соседи знали, кто я и кого зову. Мой зов передали из дома в дом, и жена Османа-аги, навещавшая в это время своих подруг и наверняка рассказавшая обо мне, прибежала домой.
— Я не хотела будить тебя, Джемал, — сказала она. — Мы уже позавтракали, но твою долю я оставила. Хочешь яичницу?
Она казалась очень довольной, и все женщины и девушки, выглядывавшие из своих окон и дверей и наблюдавшие за этой сценой, улыбнулись.
Но хотелось бы знать, как бы они отнеслись ко мне, если бы я сказал, что не стану турком и, хотя она очень хорошая женщина, никогда не забуду мою маму и не приму другую!
Пока я завтракал, в дом вошёл Али, он нёс на спине огромную вязанку хвороста и положил её в углу у очага.
— В следующий раз, когда пойдёшь в лес, обязательно возьми с собой братца Джемала, — сказала ему мать. — Ты должен подружиться с ним.
Али виновато и смущённо кивнул головой. Затем, схватив деревянный бак для воды, выскочил во двор. Его поспешность навела меня на мысль, что он не хочет, чтобы я носил воду и собирается всю работу делать сам. Закончив свои утренние дела по хозяйству, и освободившись для прогулки со мной, Али повёл меня знакомить со своими друзьями. Мы зашли к одному парню. Он служил раньше в турецкой морской пехоте и считался в деревне важной персоной. Видно было, что он ждал нас, ибо женщин дома не оказалось, а комната была наскоро прибрана. Ко мне отнеслись, как к знаменитости. Моряк был почтителен и любезен. В доказательство своей искушённости в жизни он рассказал мне, что побывал не только в Трапезунде, но и в Стамбуле.
— Покажи ему свою форму, — упросил его Али.
Моряк открыл шкаф и с гордостью показал мне свежевыстиранную белую матроску. В шкафу другой одежды не было — очевидно, одеяние это было слишком свято для него, чтобы хранить с остальными. Мне этот парень понравился. Он бывал в городах и служил матросом. Мы могли найти общий язык, стать друзьями. Ни он, ни Али ни разу не упомянули о моём армянском прошлом. Они отнеслись ко мне как к своему. Не расспрашивали меня о семье и ни разу не упомянули в разговоре слова «армянин» или «христианин».
Пришёл посмотреть на меня деревенский мулла — настоящий дьявол в тюрбане. Посовещавшись с женой Османа-аги, он сказал, ухмыляясь, как старый волк, что сделает мне обрезание, и похлопал меня по плечу своей страшной шаманской рукой.
— Не бойся, — пообещал он. — Это не очень больно.
Али сказал, что это кровавая операция, но меня больше пугал смысл её. Я подумал, что если позволю мулле сделать обрезание, то никогда больше не смогу стать христианином. Это будет окончательным и бесповоротным актом отречения от веры, национальности, семьи, Европы, цивилизации и всего того, что я так лелеял в своём страдальческом сердце!
Поразмыслив над этим дня два, я решил, что мне лучше умереть, чем подвергнуться обрезанию.
Жене Османа-аги я сказал, что не привык жить в деревне и хочу вернуться в Джевизлик. Она поняла, что я очень несчастлив, и послала за мужем. Осман-ага рассердился за то, что я не захотел оставаться в деревне, и понял, что турка из меня никогда не выйдет.
На обратном пути в город он всё время молчал, мы оба были настроены враждебно. Я почувствовал — притворяться дальше бессмысленно.
Расстались мы с ним, тем не менее, без споров и ссор, без явной неприязни: я просто ушёл от него, когда мы вернулись в город, и с того времени избегал его. Случалось, я проходил мимо его лавки, и он видел меня, но никогда не окликал, будто мы совсем незнакомы и он никогда прежде меня не знал. Отца и сына из нас не получилось, и я чувствовал, что он страстно ненавидит меня.
Другим армянским мальчикам удалось как-то приспособиться к новой жизни и, казалось, они были довольны, а я открыто бунтовал.
Джевизлик начинал отмечать рамазан[14], требующий от верующих соблюдения строгого поста с рассвета до захода солнца. Выстрел из кавалерийского пистолета с городского моста знаменовал окончание поста. По ночам мы собирались с мальчиками на главной улице, говорили по-армянски и развлекались весёлыми шумными играми, ибо праздничный дух рамазана заражал даже нас.
— Если вы не забудете этот проклятый язык, — пригрозил нам нарядный молодой турок с кинжалом, — мы и вам головы отрежем.
Я стал дерзким с тех пор, как ушёл от Османа-аги. По-армянски я говорил вызывающе громко.
Спал я у Нурихана. Питался, в основном, ежевикой и дикими фруктами, растущими в лесу вдоль реки. Однажды я посмотрел на себя в зеркало в трактире, где работал один из моих друзей, и поразился своему виду, Я стал похож на дикаря с изнурённым лицом.
Как-то раз, в период моего бродяжничества, я увидел автомобиль — открытый седан, — стоявший у здания местных властей. Я подумал, что он, наверное, принадлежит немецкому офицеру, и посмотрел на него с любовным восхищением. Мне захотелось потрогать седан руками и убедиться, что этот посланник христианского мира не призрак и не растворится в воздухе, если я дотронусь до него. Вот он, символ цивилизации!
Передо мной предстала картина прекрасного мира, откуда приехал автомобиль, но она была так далека от нас! К горлу подступили безмолвные рыдания. Захотелось обнять этот автомобиль и прижать к сердцу, как дорогого друга, найденного в пустыне. Я хотел броситься к ногам немецкого офицера, когда тот выйдет из здания, и умолять его защитить меня, увезти в прекрасный мир за морем. Он же христианин, сам оттуда приехал. И у него тоже было такое же счастливое детство, как у меня, и в детский сад он тоже ходил, и церковь по воскресеньям посещал, читал «Робинзона Крузо», и мать вязала ему носки. Но я вдруг с болью осознал всю тщетность обращения к немецкому офицеру. Он разозлится, оттолкнёт меня, может даже отшвырнуть ногой на пыльную дорогу, и тогда мне уже не ждать пощады от турок.
Я ушёл оттуда с разбитым сердцем, потерянный и одинокий. Я был обречён жить в этом ужасном мире-тюрьме.
Через несколько минут мимо меня промчался автомобиль, за рулём которого сидел немецкий офицер, а рядом — мои бывшие турецкие друзья Шукри и Махмуд. Они, видимо, выехали на прогулку. Шукри поразился, увидев меня, и привстал с места, чтобы окликнуть, но вредный Махмуд усадил его на место, и автомобиль помчался дальше на полной скорости, смеясь надо мной — ха! ха! ха! — и выпуская клубы бензиновых паров и пыли прямо мне в лицо.
Глава девятая МОРЕ! МОРЕ!
Корабли пестрели многоцветными флажками, трепетавшими на ветру, и, подходя к гавани, гудели глубоким басом, слышным на мили вокруг. Я подражал их гудкам, дуя в приставленные друг к другу большие и указательные пальцы, и вспоминал корабли, которые рисовал цветными карандашами, лёжа дома на полу. Или же, бывало, облокачивался о подоконник и часами смотрел на море сквозь обвитую виноградом решётку; я видел, как приходят и уходят корабли — французские, австрийские, русские, английские и итальянские, как по гребням волн несутся шлюпки. Я знал море со всеми его причудами и цветами: розовато-золотистым — ранним утром, небесно-голубым — днём, переливающимся всеми цветами радуги — на закате; то гладким, как зеркало, то с мириадами белых лошадок, в грозной атаке мчащихся к берегу.
На пляже перед Гончарным кварталом были чудесные цветные камешки. А вытащенные на чёрный песок лодки обнажали изогнутые кили, которые на суше выглядели безобразно, как чёрные панцири гигантских доисторических птиц. Толпа голых мальчишек под предводительством бесстрашных «революционеров» на Армянской Скале готова была сразиться с другой шумной ватагой, возглавляемой не менее отважными храбрецами на Греческой Скале, за господство на пляже, куда школьники обеих национальностей собирались по субботам. Большинство армянских мальчишек теперь уже были мертвы, пропали на дороге смерти.
И хотя море тоже превратилось в море смерти, оно подавало мне надежду на спасение. Ибо волны, омывающие берега Трапезунда, омывали также берега того прекрасного свободного мира, откуда прибывали корабли и автомобиль, что я видел. И когда автомобиль уверил меня в том, что Цивилизация всё ещё существует, что есть ещё страны, где слышится мелодичный перезвон церковных колоколов, где можно путешествовать на поездах, где улицы по ночам освещаются электричеством и где счастливые дети читают «Робинзона Крузо», — я вдруг услышал голос, воззвавший ко мне. Словно глас господень, он говорил: «Следуй за мной, отныне я поведу тебя».
Я бродил по городу, постоянно слыша этот голос, и, наконец, набрёл на лавку скобяных изделий. Оба хозяина её были греки. Я и не знал, что в тех краях есть греки. Я несколько раз прошёлся мимо лавки, думал, они не захотят, чтобы их видели со мной, ибо турки могут заподозрить неладное, но в конце концов собрался с духом и вошёл.
— Калимера — доброе утро, — сказал я.
— Калимера. — Они приняли меня за грека, поскольку я говорил по-гречески как настоящий грек. Но я рассказал им, кто я, и почему ушёл от Османа-аги.
— Так значит, ты и есть тот мальчик! — тихо воскликнул один из них.
— Разве кто-нибудь спрашивал обо мне? — взволнованно спросил я. — У нас в Трапезунде много друзей среди греков.
— Я был сегодня в конторе каймакама, — шёпотом сказал торговец, — видел там Османа-агу. Я слышал, как он жаловался на тебя. Каймакам отдал приказ вывести тебя сегодня ночью из города… — дальше он не решился продолжить.
— И расстрелять, — сказал я улыбаясь.
Они грустно покачали головами и посмотрели на меня с жалостью, недоумевая, как я не осознаю грозящей мне опасности.
— Не беспокойтесь! — усмехнулся я. — Им не поймать меня.
Я не знаю, как объяснить свою беспечность. Возможно, в этом была и показная храбрость, хотя на самом деле я вёл себя не так уж смело и героически.
Они были очень осторожны, не советуя мне ни оставаться в Джевизлике, ни бежать. Но куда бежать? Содействие армянину в бегстве каралось смертью. Однако, когда я сказал им, что доктор Метаксас ближайший друг нашей семьи, они проявили ко мне больше участия и рассказали, что семья доктора находится в Сумеласе, недалеко от их деревни. Все греки знали доктора Метаксаса, он был видным представителем греческой общины.
Чтобы ещё больше расположить их к себе, я сказал, что мой брат находится сейчас в семье доктора, что он не был выслан и доктор скрывает его в греческом монастыре в Сумеласе.
Сказал и тут же осознал свою оплошность. Это было тайной, и я не имел права её разглашать.
— Пожалуйста, не говорите никому, даже своим домашним! — отчаянно взмолился я.
Они заверили меня, что не скажут. Даже пообещали спрятать меня ночью у себя дома в деревне, но только на одну ночь, и предложили, когда стемнеет, встретиться за деревьями на другой стороне моста. Я был благодарен и за это.
— Я поеду в Трапезунд! — сказал я. — И буду прятаться в покинутых армянами домах, пока не придут русские. — Я был уверен, что рано или поздно тётушка Россия объявится в Трапезунде. Греческий монастырь находился всего в нескольких часах ходьбы от Джевизлика, но я боялся туда ходить, чтобы не подвергать опасности жизнь брата. Тогда турки схватят нас обоих.
Весь день я скрывался, а вечером встретился с греками за мостом. Они закрыли лавку позже обычного, чтобы никто не увидел, как мы вместе выходим из города. Их деревня находилась на высоких холмах. Все, кроме одной молодой женщины, спали, когда мы вошли в красивый белый домик с яблоневым садом. Как приятно было дышать воздухом в греческой деревне! Вот я и вернулся снова в прекрасный мир.
После плотного ужина, который мы съели в тишине, мне постелили чистую постель на ковре, и все быстро легли спать. Не нужно было сворачиваться в клубок, я мог свободно вытянуть ноги.
Разбудили меня на заре, когда ещё не совсем рассвело. Я надеялся, что меня приютят на несколько дней, пока мы не свяжемся с доктором Метаксасом, но они так нервничали и боялись, что даже домашним не сказали обо мне.
Когда мы вернулись в город, они дали мне два пиастра, предупредили о караульной службе на дороге, где жандармы проверяли паспорта у проезжающих, и намекнули, что ничего больше не смогут для меня сделать и мне придётся самому думать о своём спасении.
Я был так самонадеян, что даже решился просить моего двоюродного брата Микаэла присоединиться ко мне. Рискнув показаться на рыночной улице, я направился прямо в кофейню. Были дни рамазана, и хозяин кофейни всё время спал, целиком доверив торговлю Микаэлу. Единственными посетителями были бряцающие маузерами и патронташами чете. Микаэл мыл посуду в задней комнате. Я знаком показал ему: «Выйди, мне нужно сообщить тебе что-то важное».
Он боязливо вышел.
— Что случилось, Джемал? — спросил он меня по-турецки, вытирая руки о фартук.
— Почему ты называешь меня Джемалом и говоришь со мной по-турецки? Ты что, вправду стал турком? — сказал я по-армянски довольно громко, чтобы чете услышали и чтоб ещё больше расстроить бедного Микаэла. Они следили за нами своими подлыми глазами, и Микаэлу было не по себе под их взглядами. Мне тоже было не по себе — ведь эти люди были убийцами.
Микаэл не отвечал.
— Слушай, я собираюсь вечером бежать в Трапезунд. Пойдёшь со мной?
— С ума ты, что ли, сошёл? — шепнул он по-армянски. — Мимо них и муха не пролетит. Если тебя поймают, то даже не расстреляют, а просто голову отрежут. В Хамски-Кой они поймали двух братьев и так расправились с ними. Я слышал, как рассказывал об этом посетителям кофейни чете, зарезавший их как баранов. Он говорил, что их тела целых пять минут бились после того, как он им отрубил головы. Мальчики не сразу умерли, у них всё ещё дёргались руки и ноги.
— Если я останусь здесь, они меня так и так убьют. Я не могу стать турком, Микаэл. И пытаться не стоит. Осман-ага пожаловался каймакаму, и двое греков слышали, как он отдавал приказ расстрелять меня. Я провёл прошлую ночь в деревне у греков.
Глаза Микаэла наполнились слезами.
— Они поймают тебя, Завен, — пробормотал он.
Мне хотелось рассказать ему о гласе божьем, хотелось сказать — не оставайся здесь, давай убежим к морю в прекрасный мир. Но я не мог. Я не знал, как передать это словами.
Микаэл вернулся к своим кофейным чашкам и блюдцам. Я жалел его больше, чем он меня.
День я провёл в лесу на окраине города, а вечером пробрался в контору писца к Нурихану. Я дал ему два пиастра, и он вышел купить мне хлеба и маслин на дорогу. Ему уже доводилось делать покупки для хозяина, и он прихватил мне в придачу полные карманы лесных орехов, которых хватило бы на неделю.
— Как ты думаешь, где я буду завтра в это время? — спросил я, пока мы щёлкали орешки.
— В реке, — рассмеялся он, нанизывая ядра орехов на проволоку. — Боишься?
— Кто, я?! — воскликнул я возмущённо.
— А не помешало бы в этот раз! Если поймают, тебя ждёт вот это. — Он цокнул языком и провёл рукой по шее.
Перед бегством я решил немного поспать. Мы опустились на колени и помолились. С чувством, что всё теперь зависит от бога, я лёг на стол и уснул.
Мне приснилось, что один из тех солдат, которых я видел утром в кофейне, схватил меня, придавив мне коленом грудь и выхватил нож, чтобы отрезать мне голову. Я вздрогнул и проснулся как раз в тот момент, когда он приставил мне нож к горлу. Соскочил со стола на пол, дрожа всем телом. Но я пробудился от одного кошмара, чтобы вступить в другой, уже реальный.
По луне я определил, что время не очень позднее, около часа ночи. Нурихан крепко спал.
— Я ухожу, — прошептал я ему на ухо и потряс за плечо.
Он что-то пробормотал и отвернулся. Я стал трясти его сильнее.
— Да, да, слышу, я не сплю, — он поднялся, протёр глаза и зевнул. — Значит, уходишь?
Он спросил таким тоном, будто ничего особенного не произошло.
Мы подождали, пока пройдёт ночной караульный. Я подумал, что если он остановит меня и спросит, куда я иду, то хлеб и маслины выдадут моё намерение бежать из города. Поэтому я оставил их Нурихану. Он поцеловал хлеб и стал плясать от радости:
— Завтра у меня будет праздник!
Когда караульный отошёл от конторы, Нурихан осторожно поднял окно, находившееся футах в пяти от земли.
— Лучше прыгай, пока не вернулся этот сукин сын, — сказал он, стараясь говорить небрежно.
Теперь, когда мне нужно было сделать решающий шаг, я заколебался, поняв, на какой страшный риск иду. Бог ты мой, что я делаю? Возвращение в Трапезунд будет для меня сущим самоубийством. Я попаду там в лапы полиции. Но если я пойду в другом направлении, в глубь страны, а не к морю, мне придётся идти по кровавой дороге Хамски-Кой и мимо Гюмушхане. Вся страна превратилась в огромную смертельную западню для беглых армян. Мне не было места в этом мире, и если мне суждено умереть, то пусть перед этим я снова увижу море.
Не мысль о смерти мучила меня, а то, что умирая, буду совсем один, и не будет рядом никого из тех, кого знаю и люблю. Именно это одиночество перед смертью ужасало меня больше всего.
— Ну, что, не будешь прыгать, бездельник? — нетерпеливо спросил Нурихан, придерживая окно.
Я перекрестился и прыгнул.
Нельзя было терять ни минуты. Я крался на цыпочках, прижимаясь к закрытым ставням лавок, и время от времени оглядывался, чтобы посмотреть, не идёт ли кто за мной, не вернулся ли караульный. Весь Джевизлик спал: ни звука, ни огонька. Я замедлил бег, дойдя до большой дороги, и пошёл быстрым шагом.
Услышав за спиной грохот приближающейся телеги, я встревожился, но возница оказался греком.
— Куда держишь путь, дядя? — спросил я по-гречески.
Он остановился.
— В Трапезунд.
— Я тоже иду в Трапезунд. Не подвезёшь? Я устал и нога болит.
Он подозрительно оглядел меня, нахмурив нависшие брови.
— Где твои родители? Почему они отпустили своего малыша одного в такую ночь?
Надо было быстро придумывать ответ.
— Моя мать в Трапезунде. Мы живём в Гончарном квартале (район исключительно греческий). Я отнёс отцу чистое бельё в рабочий батальон, а сейчас возвращаюсь.
— Ты прошёл всю дорогу пешком?
— Да, пришлось.
Он потёр подбородок, раздумывая.
— Хорошо, влезай.
Я вскочил в телегу и сел рядом с ним на ящик. Он дёрнул поводья, и телега, в которой была лишь одна лёгкая соломенная подстилка, весело подпрыгивая, покатила по освещённой луной широкой дороге.
— Я с тебя больше одного меджидие не возьму, — сказал он.
Для меня это было большой суммой (один меджидие равен двадцати пиастрам). Я сказал, что в кармане у меня всего один медяк.
— Ну, ничего, мать твоя заплатит.
— Дяденька, но мы очень бедны. Моя мама и одного пиастра не сможет вам дать.
Он остановил лошадей.
— А я не могу возить бесплатно. Я плачу деньги, чтобы кормить лошадей.
Напрасно я его умолял. Он сердито приказал мне сойти с телеги. Я испугался, что он заподозрит во мне армянского беглеца, и чтобы не разозлить его ещё сильней, с извинениями сошёл с телеги. Он поехал дальше.
Луна посеребрила землю, по которой я ступал, и сделала её похожей на сцену из божественного сна. Она вызвала у меня такой немой восторг, что я забыл о жандармах, солдатах, каймакаме. Пальцы Понтийской ночи очертили на небе золотистые контуры земли.
Теперь уже я не был одинок, луна шла со мной, чтобы дружески приободрить меня. Когда я останавливался, останавливалась и луна, а стоило мне побежать, как она устремлялась за мной семимильными шагами. И ликовала озорная тень моя на дороге, и забавляла меня всевозможными обезьяньими ужимками. Я и сам, казалось, превратился в лунную материю, в тень.
Река звучала, как орган в ночном соборе, изливаясь фонтанами божественных брызг. Но когда я проходил мимо болезненно знакомых мест и вспомнил ту ночь, когда мы приняли яд, река внезапно изменилась — завыла свирепо, и мне почудилось, что вместе с брызгами обнажённые тела вдруг взметнулись вверх, закружились в танце смерти и упали обратно в стремительный поток. Тогда я снова посмотрел на дружелюбную луну, и ночь, словно по волшебству, стала тихой и спокойной.
Гасли звёзды одна за другой, луна потускнела, но мир не стал хуже в прохладной красоте предрассветной мглы. Мрачное старое караульное помещение, в котором жандармы останавливали проезжих и проверяли их бумаги, предстало перед моими глазами, зловещая его крыша резко вырисовывалась на бледном опаловом небе. Первым порывом было повернуться и попытаться обойти её через кусты и деревья, но разумнее было смело продолжать путь, поскольку единственным путником на дороге был я, и любая нерешительность и робость могла вызвать у них подозрение.
Ноги мои чуть не подкосились, когда я приблизился к караулке, но как ни странно, никто меня не остановил. Жандармов поблизости не было. Видимо, они спали. Я крался, как кошка, чтобы они не услышали моих шагов и не проснулись. Благополучно завернув за насыпь, я расхохотался, как сумасшедший, и весело пустился вприпрыжку по дороге. Я чуть не кувыркался от радости.
Из золотистой кузницы зари вышло солнце. Я чувствовал себя свидетелем сотворения мира, ибо человек на рассвете сталкивается лицом к лицу с таинственной драмой космических начал. Солнечные лучи сверкали, и в них, как в увеличительном стекле, отражались камешки и пылинки, лучи играли над прохладными водами реки, кувыркались по лесистым холмам, тысячами фонариков освещали землю, которую должно было завоевать солнце. И земля ответила на тёплые объятия солнца, обнажив в улыбке белые зубы сладкой кукурузы, растущей на крутых дорожных склонах.
Я восхищённо шагал сквозь величественный праздник утра, забыв о Джевизлике и смерти. Как прекрасно быть живым!
Мне казалось, что я пробудился от чудного и тяжёлого сна, будто меня вовсе и не ссылали, а со мной произошло что-то непонятное, будто я заблудился, но потом нашёл дорогу и теперь спешу домой. Я шёл всё быстрее и быстрее, словно боясь опоздать в школу. Меня ждала мама. Ласточки с пронзительным писком кружили над нашим домом, окна спальни пылали в блеске утреннего солнца. Внизу в столовой пыхтящий самовар насвистывал старые весёлые мотивы, а тётя Азнив поджаривала хлеб на медной жаровне. Запахи чая, какао, хрустящих хлебцев с маслом… Отец уже ушёл в аптеку, его большая синяя кофейная чашка стояла на обеденном столе.
В ожидании меня мама смотрела на улицу.
— Не беспокойся об этом негоднике, он вот-вот появится, — сказала бабушка.
Мяукая, вошла в столовую наша кошка с высоко поднятым хвостом, — и в этот миг меня вывел из мира грёз громкий топот копыт. Оглянувшись, я увидел турецких кавалеристов со сверкающими копьями в руках, лёгким галопом спускавшихся по дороге. Неужели каймакам послал их вдогонку за мной? Я оцепенел от страха, но овладел собой, как только понял, что и одного жандарма хватило бы, чтобы поймать меня, и что эти солдаты к моему побегу никакого отношения не имеют. Я отступил в сторону. Один из офицеров нагнулся и спросил меня:
— Послушай, землячок, далеко ли отсюда до Трапезунда?
— Я не понимаю по-турецки, — ответил я по-гречески, покачав головой.
Они промчались дальше, а я стоял и любовался их копьями. Я не дал нужных им сведений, потому что слишком хорошо говорил по-турецки. Греческие мальчики не владели турецким так, как мы, и он мог заподозрить меня.
Потом я встретил старую гречанку, которая плелась по дороге со своим ослом.
— Калимера, бабушка. Куда идёшь?
Морщинистое лицо крестьянки просияло. Она набрала воздуха в лёгкие и проскрипела в ответ:
— В Киреч-хане, сынок.
Киреч-хане!.. Ведь там находятся наши соседи Персидесы! Я вспомнил, как мама однажды сказала мне, что они переехали в эту деревню после сильной бомбардировки города. Но я не совсем был в этом уверен.
— Ты случайно не знаешь там семью из города по фамилии Персидес? — спросил я.
— А как же, знаю.
— Я тоже иду в Киреч-хане, — сказал я безразличным тоном. — Госпожа Персидес — моя тётя, сестра моей матери. Она хочет, чтобы я побыл с ними несколько недель, пока не выздоровеет мама. Она больна, лежит в постели. Мы живём в Гончарном квартале. Этим летом мы не смогли поехать отдыхать в деревню.
Она посмотрела на мои ноги, на грязную, разорванную одежду.
— Ты откуда идёшь?
— Из Джевизлика. Отец у меня там в рабочем батальоне. Мама послала меня в Джевизлик отнести ему немного еды. На обратном пути меня побили турецкие мальчишки и отняли шапку.
Я увязался за ней и с нетерпением ждал минуты, когда мы свернём с большой дороги на просёлочную, в сторону её деревни.
Небо постепенно покрывалось пятнышками облаков, и на склоны гор упали тени. С востока надвигались тяжёлые облака. Солнце то скрывалось за тучами, то сияло на синем клочке неба. От реки сильнее повеяло прохладой.
— Дождь пойдёт, — сказала старушка и, прищурившись, посмотрела наверх.
Облака собирались в огромные тучи и включались в большие маневры природы. Постепенно они полностью закрыли солнце. На востоке, где утром пылало солнце, стало темно. Длинным красным змеиным языком метнулся из чёрной башни в зубчатых стенах облаков ослепительный зигзаг. Дорога осветилась неровной жёлтой вспышкой, а за ней последовал оглушительный раскат грома. Старушка перекрестилась, восклицая: «Пресвятая матерь божья!», ткнула осла палкой, и мы зашагали быстрей. Через несколько минут на дорогу обрушился шквал ливня, наполнив воздух острым запахом сырости. Вода в реке забурлила и стала коричневой.
Мы были единственными путниками на дороге, но к нам внезапно сквозь завесу слепящего дождя стал быстро приближаться всадник. На нём была длинная чёрная бурка, острые плечи которой придавали всаднику сатанинский облик. Когда он приблизился, у меня от страха остановилось сердце — это был Осман-ага. Я торопливо заговорил со старухой, делая вид, что не вижу его, но он тотчас же узнал меня. Чёрным демоном промчался он стрелой мимо меня, пытаясь обуздать взмыленную лошадь и повернуть её обратно, и что-то крикнул мне.
Я и не заметил, как мы в эту роковую минуту дошли до просёлочной дороги, ведущей в деревню старушки, и когда взобрались по лесистому холму, Осман-ага уже не мог нас видеть из-за густых деревьев и кустарников. Я продолжал разговаривать со старухой, будто не слышал никакого окрика, а она, добрая душа, была туга на ухо и ничего не заподозрила. Я не осмеливался оглянуться, чтобы посмотреть, не едет ли он за нами, и шёл съёжившись, каждый миг ожидая, что он схватит меня за плечо мёртвой хваткой и с дьявольским удовлетворением прорычит на ухо: «Ага, попался!»
Но он не скакал за нами: видно, недоумевал, не призрак ли это того упрямого армянского мальчишки, который должен был быть расстрелян, а может, он упустил меня из-за проливного дождя. Если бы он повстречал нас чуть дальше по дороге и в ясную погоду, он бы наверняка поймал и расстрелял меня на месте или увёз бы обратно в Джевизлик, что было равносильно смерти.
Старушка сняла с ног трехи из воловьей кожи и серые шерстяные чулки, закатала до колен шаровары. Последовав её примеру, я снял свои коричневые туфли и носки, ибо дорога — обычная вьючная тропа — превратилась в поток грязи. Эта понтийская гроза меня не беспокоила, напротив, придавала больше уверенности. Мы шли по тихому лесу и мне приятен был шум ливня, жёлто-зелёные вспышки молний, внушающие суеверный страх, зачаровывали меня, когда сверкали в просветах листвы, как в окнах сказочного дворца, где живут зелёные лесные духи. Мощные удары грома были для меня славными залпами батарей небесной артиллерии, которые под личным командованием самого господа бога громили силы зла.
Вдруг я увидел с верхушки холма долгожданное море:
— Таласса! Таласса! — Море! Море! — закричал я. Старушка улыбнулась, не подозревая о причине столь сильного возбуждения.
Мне хотелось обнять обоих — и её, и осла. Бедняге приходилось довольно туго под тяжёлым грузом зерна; худые его ноги глубоко утопали в грязи. Мне всё виделось в новом свете. Мир вновь обрёл свои волшебные краски. Джевизлик казался далеко-далеко, за миллионы миль. Я вернулся в прекрасный мир.
Я шёл вприпрыжку, бежал по мокрой траве, не в силах скрыть свою радость. Взобрался на дикую яблоню и обнял её. Яблоки были твёрдые и зелёные, но отдавали свежестью и чистотой дождя, вкусом прекрасного мира на берегу моря.
— Не ешь их, сынок, живот заболит, — сказала старушка.
Я сунул несколько самых спелых яблок за пазуху.
— Отнесу их своим двоюродным сёстрам.
Мне не хотелось идти без гостинца детям Персидес.
Теперь мы спускались по неровным зелёным холмам к деревне. Старушка указала на белые домики с красными крышами, видневшиеся вдали. Они были такие уютные, будто сошли со страниц детских книжек.
— Это Киреч-хане, — сказала она.
Вместо того, чтобы прыгать от радости, я очень опечалился. Наши соседи-греки находились здесь, ничего с ними не случилось, их не высылали, они мирно жили под одной крышей, а у меня не было дома, я был один во всём мире, беглец.
Перед моими глазами, как во сне, прошла моя прошлая жизнь с детьми Персидес. Мне представилась их старшая дочь Делесила в день свадьбы. Неделями шли волнующие приготовления. Мы, дети, сделали бумажные мешочки для конфет с тиснёнными картинками, изображавшими девушек неземной красоты и молодых людей в цилиндрах, кареты, лилии и розы. Делесила вышла из дому краше ангела, в белом подвенечном платье с длинным шлейфом, с флердоранжем на голове, опираясь на руку своего жениха, высокого красивого доктора, который недавно завершил образование за границей. В свои девятнадцать лет она была как сочный персик, полный очарования юности, и была столь же светлой, насколько жених был смугл. В церковь мы поехали на фаэтонах, длинной свадебной процессией, а жених с невестой восседали в блестящей чёрной карете, запряжённой парой лоснящихся гнедых с подрезанными хвостами. А вечером на свадьбе гости пили шампанское и произносили тосты. Мы, дети, обедали внизу, в отдельной комнате, и веселились больше, чем взрослые, играя в жениха и невесту. Моей невестой была младшая сестра Делесилы, нежная бледная Антула, которую я очень любил.
Я вспомнил снеговика, которого мы слепили той зимой, когда вдруг повалил сильный снег. Он предстал передо мной и улыбнулся весёлыми чёрными глазками. Во рту у него была трубка, а опирался он на метлу. Морские чайки в сверкающих лучах восходящего солнца шумно хватали прямо на лету кусочки хлеба, подзадоривая нас громкими криками и хлопаньем крыльев. Я отчётливо представил чайку, которую легко поймала Антула; чайка села ей на плечо, как голубь Святого Духа. Мы гладили её, а потом отпустили к крикливым братьям; грешно было бы держать в неволе такую божественную птицу.
Я снова, как утром на большой дороге, впал в забытьё и не замечал ничего вокруг. Мысленно я вернулся к счастливым минутам своей жизни и чуть не оторопел, когда вдруг очутился в деревне. Ливень перешёл в мелкий моросящий дождь. Людей нигде не было видно. Клубящийся из труб уютных домиков дым говорил о том, что там варят вкусную еду, как во всех домах христиан, живущих обычной жизнью. Мы остановились перед одним из них. Дверь была закрыта.
— Твоя тётя живёт здесь, — сказала старушка и, даже не пытаясь подвергнуть сомнению мою личность, оставила меня во дворе и побрела дальше по дороге со своим осликом.
Я не решался постучать в дверь. По моему лицу струился дождь, я промок до нитки и выпачкался в грязи. Кроме того, я подумал, что могу стать нежеланным гостем. Господин Персидес был человеком суровым и никогда не улыбался. Я всегда боялся его. При ходьбе он как-то странно поднимал и опускал голову, и у него всегда был такой вид, будто он вот-вот побьёт меня своей тростью. Госпожа Персидес, напротив, была по-матерински добра.
Вдруг дверь открылась, и оттуда высунулись милые головки Антулы и её сестры Пенелопы. Они вскрикнули, словно увидели привидение, и захлопнули дверь. Послышались громкие женские голоса. Дверь снова отворилась, и госпожа Персидес с целым выводком дочерей вышла во двор. По их выражению можно было догадаться, что они хотят проверить — я это или мой призрак. Тут я не сдержался и улыбнулся.
Они завели меня домой и стали расспрашивать, как я оказался жив и как узнал, где они, но я будто лишился дара речи и ничего не говорил, а только глупо таращил на них глаза. Девочки прикладывали к губам платки, чтобы заглушить рыдания. Наконец в нескольких отрывистых предложениях я поведал им свою историю.
Они рассказали, что Ремзи Сами-бей удочерил двух моих сестёр и относится к ним как к родным. Наша прачка-гречанка их видела: выглядели они хорошо, но были одеты как турчанки и имена у них были турецкие. Я ведь не знал, что с ними случилось после того, как мы расстались. Я сказал, что видел сыновей Ремзи Сами-бея Шукри и Махмуда в автомобиле в Джевизлике и что они сделали вид, будто не знают меня.
Они подогрели воду, выкупали меня в лохани, накормили и уложили спать. Я шёл двенадцать часов без минуты передышки и шёл бы ещё дня три в нервном напряжении, но сейчас, когда непосредственной опасности уже не было, я расслабился и уснул.
Должно быть, я проспал целую неделю. Когда я проснулся, в комнату вошли дети и стали подшучивать надо мной, дразня соней. Они сказали, что живущая с ними по соседству вдова, пекущая для них хлеб, согласилась взять меня к себе при условии, если господин Персидес оплатит ей за заботу обо мне.
— Нас здесь слишком хорошо знают, — сказала Антула. — К нам приходят наши турецкие друзья, и они захотят узнать, кто ты.
— Турки повесят папу, если найдут тебя в нашем доме! — сказала Пенелопа.
В той крестьянской семье я пробыл девять месяцев. Соседи принимали меня за грека из другой деревни. Они называли меня Янко. Мне не разрешали выходить за пределы соседних дворов, чтоб не напороться на жандарма или прохожего турка, которые могут вдруг признать во мне армянина. Иногда я тайком взбирался на вершину маленькой лесистой горы, откуда ясно виднелось море. Море было мечтой, безгранично прекрасным миражом, но мне оно казалось недосягаемым.
К концу этой безрадостной зимы русский флот после целого года отсутствия начал систематически обстреливать Трапезунд, а русские самолёты с рёвом проносились над нашими горами, сбрасывая бомбы. Каждый турок, у которого имелось ружьё, выбегал из дому и стрелял в них, прячась за камни и деревья, но самолёты устремлялись вниз только для видимости, как бы забавы ради, и кружили вокруг подобно гигантским хищным птицам, пренебрегая участившимися выстрелами с земли. Когда русские стали наступать на Трапезунд, турки, охваченные паникой, бежали, сжигая за собой дома. Они боялись сражавшихся в русской армии армян. До того, как Ремзи Сами-бей перевёз свою семью в Константинополь, мои сёстры — смелые девочки — сбежали от него и, переодевшись в одежду греческих крестьянок, добрались в конце концов до семьи доктора Метаксаса в монастыре Сумеласа. Они прошли через деревню, где я прятался, даже провели там ночь, но я их не видел. Таким образом, все мы — четверо детей, оказались живы, хоть и не на свободе, но у своих друзей греков.
Бежали и турки нашей деревни. Ясным апрельским утром, незадолго до пасхи, мы собрались на зелёном деревенском лугу и смотрели, как горят дома турок. Вдруг мы увидели бегущих со штыками наперевес вверх по холму русских солдат под предводительством офицера с револьвером в руке. Они бежали прямо на нас, будто мы их враги. Мы перекрестились, чтобы дать им понять, что мы христиане, друзья и очень счастливы их видеть.
Их было около сорока — голубоглазых, рослых, белокурых парней, которые очень скоро уже улыбались нам, как дети. Деревенская знать собралась их чествовать. Даже господин Персидес, всегда такой суровый и важный, вдруг засуетился. Представитель местной знати, какое-то время проживший в России, выступил переводчиком. Офицер спрашивал, в каком направлении отступили турецкие войска, и хотел было преследовать их, но жители запротестовали. Ни в коем случае! Они не могут отпустить их, не накормив. Ведь они наши освободители.
Русские сели пировать на деревенском лугу. Им прислуживали дочери господина Персидеса. Люди чокались с офицером и солдатами и произносили приветственные тосты.
«Так вот они — русские! — говорил я себе. — Стоило дожить до сегодняшнего дня!» Не было никого счастливее меня. Мне хотелось кувыркаться по траве, кричать, рвать на себе от радости одежду. Ах, если бы они пришли чуть раньше и спасли моих родителей и родственников!
За этим взводом последовали целые полки. Русские настоящей лавиной катились по холмам. Войска выглядели великолепно — прекрасно обмундированные, хорошо вооружённые, пышущие здоровьем и энергией. Со штыками они казались выше, чем были на самом деле. Я боготворил их и ходил за ними по пятам, подбирая пустые гильзы и патроны, которые они роняли по пути. Я собрал их целый мешок. Я совершал также набеги на турецкие дома, унося оттуда оконные рамы, двери, стулья, словом всё, что можно было вынести.
В пасхальное воскресение, после службы, когда радостный священник веточкой окропил нас святой водой, мы поели мяса, которое удалось купить вдове на свои сбережения. В течение девяти месяцев мы ничего, кроме бобового супа на оливковом масле, не ели.
Двое российских солдат-армян пришли к нам в хижину и хотели взять меня с собой. Они сказали, что я принадлежу нации. Нация позаботится обо мне. Для таких детей, как я, открыты приюты. Хотя я и понимал, что они говорят, мне трудно было разговаривать с ними. Я почти забыл родной язык. В их глазах стояли слёзы. Только после того, как я уверил их на смеси греческого, турецкого и армянского, что меня окружают добрые друзья, спасшие мне жизнь, они позволили мне остаться с ними и уйти в город самому. Они только хотели убедиться, что я не вырасту греком.
На следующий день мы с вдовой двинулись в Трапезунд. На спине она несла корзину с четырьмя глиняными кувшинами с молоком и мацуном для продажи; в корзине была также буханка кукурузного хлеба и пучок зелёного чеснока на завтрак. Для неё это была очередная вылазка в город, ну а я возвращался в потерянный мир, где жил много тысяч лет назад.
Шли мы по извилистой тропе. Уже на подходе к городу дорога проходила вдоль узкого ущелья, служившего одновременно крепостным рвом старой греко-римской цитадели, возвышающейся, подобно величественному трону гордой императрицы Чёрного моря. Каким вдруг покинутым и одиноким почувствовал я себя при виде её зубчатых стен и башен! На каменистом дне ущелья извивался маленький, причудливый ручеёк, протекая, казалось, через катакомбы времени.
На отвесных краях ущелья среди обилия ползучих лишайников росли фиговые деревья, распростёршие свои зелёные листья подобно рукам древних воинов, павших под этими стенами. В глубоком, таинственном безмолвии времени я представлял себе битвы, бушевавшие у этой цитадели, я слышал крики нападающих и обороняющихся, гул варварской толпы, рвущейся сквозь неприступные бастионы прямо к морю.
Мы спустились по ступенькам к старой полуразрушенной часовне под мостом и, перекрестившись, поцеловали чудодейственную икону с изображением пресвятой Девы. В развалинах буйно разросся священный мирт. Сквозь щели в осыпающейся стене я увидел залитое солнцем море, в такой волнующей близости от меня, что можно было дотянуться рукой.
Турецкие кварталы оказались полностью покинутыми, но в деловой христианской части города жизнь возвращалась в своё русло. В предвкушении оживлённой торговли с русскими обновлялись и красились магазины. На витринах предприимчивые греки уже заменяли турецкие манекены на русские.
Был полдень. Под балконами и крышами вили гнёзда ласточки, шумной вознёй празднуя своё возвращение домой. Мои старые друзья, они с криками летали вокруг, задевая меня крыльями. Воздух наполнился сладким ароматом розового масла и нежным, божественным благоуханием пурпурных кувшинчиков глициний.
Мы пересекли город и пришли в Гончарный квартал, где у вдовы жили какие-то родственники. Море и небо сливались на горизонте в единое чисто-голубое целое.
Мы посидели некоторое время у родственников вдовы — у неё к ним было какое-то дело, и по доброму старому обычаю женщины занялись оживлённой болтовнёй. Я выскользнул из комнаты и помчался со всех ног к морю, сорвал с себя одежду и, смеясь и плача, прыгнул в воду.
Глава десятая ДОМ, В КОТОРОМ Я РОДИЛСЯ
Всю дорогу, пока мы возвращались из Гончарного квартала в торговый район города, я настороженно высматривал армян. Сердце моё подпрыгнуло от радости, когда я заметил одного за прилавком магазина тканей, напротив французской школы. Одет он был в чёрную сорочку и галстук — одежду, которую носили члены «Армянской революционной федерации», — и был похож на дядю Левона.
— Этот человек — армянин! — сказал я вдове. — Пойду, поговорю с ним.
— Барéв — здравствуй, — сказал я, входя в магазин.
— Барев, мальчик. Как тебя зовут? Ты чей?
Я глядел на него с восхищением и любовью. Произнесённые им слова прозвучали так странно. То был язык моих снов, благозвучнее которого я не слышал, и не знал, пожалуй, ничего печальнее и прекраснее него. Я рассказал о себе. Он оказался близким другом дяди Левона и тотчас же сообщил, что двоюродный брат моей мамы Парнак, воевавший в горах с отрядом крестьян, сейчас в Трапезунде.
Вдова дожидалась меня на улице, и я сказал ей, что нашёл родственника и не вернусь с ней в деревню. Так мы и расстались, договорившись ещё раз встретиться в половине шестого у обувного магазина, где оба её сына служили в приказчиках. Остаток дня она намеревалась провести в городе.
Хотелось узнать, как этот молодой человек — его звали Аракелом — остался в живых. И, отвечая на мои нерешительные вопросы, он рассказал о себе.
— В горах я был с отрядом своего старшего брата, а Парнак был в другом. Когда мы вернулись в город, нам удалось найти многое из нашего имущества. А сейчас, как видишь, я отложил ружьё в сторону и снова взялся за старый мерник.
Он был высоким и стройным, как дядя Левон, даже говорил, как он. Я тогда ещё не знал, что он ещё и актёр, поэт и музыкант. Подобно большинству революционеров, он был бойцом и интеллектуалом одновременно. Впоследствии я стал его учеником, и он научил меня армянским народным песням.
— На сей раз они с нами окончательно разделались, — сказал он, — а ведь мы им верили. И вот что они с нами сделали. — Он стиснул зубы и покачал красивой головой. — Утопили бедного Левона, живьём утопили, привязав к шее большой камень. Не забывай об этом никогда, дорогой мой. — Казалось, он говорит сам с собой. — В этом городе и двадцати армян не осталось. Они уничтожали нас немецким способом. Эти ослы тоже научились действовать по-учёному. Сначала заставляли людей рыть себе могилу, потом, связав им руки и ноги верёвками, ставили по десять человек в ряд одного за другим и стреляли насквозь одной пулей, чтобы сберечь боеприпасы. — Аракел процитировал турецкую пословицу: — «Турок за кроликами охотится в карете». Так вот, дорогой мой, турок вынуждает кроликов самих идти к нему, такой он уж хитрый. А мы — народ глупый, очень глупый! Так мы и не выучили своего урока.
Я умирал от желания увидеть наш дом, а своему новому другу сказал, что хочу пройтись по городу. Он велел вернуться к закрытию магазина, когда придёт Парнак, он-то несомненно позаботится обо мне.
Я шёл домой, и мне казалось, что я возвращаюсь из школы. Был полдень, и я представил себе, как мама процеживает на кухне спагетти, а в столовой Виктория накрывает на стол. Сколько раз я ходил по этой улице в школу и обратно! Мне знаком был здесь каждый камень, каждая ямка, все кусты роз, глицинии, каждый телеграфный столб. У меня забилось сердце, когда я их вновь увидел. Взглянув на голубое небо, я почувствовал такое же волнение, как, бывало, весной, предвкушая очередные летние каникулы в деревне.
Пройдя деловую часть города, я свернул налево от главной улицы и пустился бежать. Я бежал всё быстрей и быстрей и всю дорогу молил бога сотворить чудо, чтобы мама на самом деле оказалась дома. Я пытался убедить себя, что она на кухне, что дома всё по-прежнему, а я просто иду домой из школы обедать. Здания, стены, цветы, телеграфные столбы были прежними, всё на своих местах. Ничего не изменилось. Только теперь здесь были русские, а мы были свободны и в безопасности. Опрометью бросился я в наш переулок — и остановился. Он весь по пояс порос сорняком. Двери и окна были затворены, царили тишина и безмолвие, как на улице мёртвых. Все наши соседи греки разъехались по деревням, и я, очевидно, вернулся первым.
Шёл я к дому в конце улицы медленно, волоча ноги. Сорняк перед нашим домом поднялся выше, чем перед остальными домами, доходил мне до плеч. Дверь была приоткрыта, единственная незапертая дверь на нашей улице. Несколько минут я стоял перед ней, боясь войти в дом и не увидеть там мамы. Наконец, трепеща от благоговения, с сильно бьющимся сердцем, я вошёл.
Казалось, я нахожусь в большой гробнице. Стоя в вымощенной плитами прихожей, я оглянулся. Прихожая была голой, как мавзолей. Двери столовой, дверь гостиной, двери зала и кухни, выходящие в прихожую, уставились на меня пустым, остекленевшим взором, как глазницы, из которых выдавлены живые глаза. Все комнаты были пусты и мертвы.
Я вошёл в первую комнату справа. Ничего здесь не оставили — даже линолеум содрали с пола. В дождливые дни мы с Оником, бывало, пускали здесь волчки, а мама однажды бегала за мной, чтобы отшлёпать домашней туфлей, но ей так и не удалось меня поймать. Вот здесь, за обеденным столом, мы с Оником красили воздушных змеев в синие, жёлтые, красные квадраты и треугольники, приделывали к ним длинные шелестящие хвосты из бумажных полос. Здесь же Оник упражнялся на скрипке, на стене висела карта Греции, на которую часто приходили смотреть дочери Персидеса.
Я прошёл в залу, где висела карта побольше, на сей раз Италии. Долгое время я принимал её за волосатую ногу великана, и когда мы начали изучать в школе географию, я узнал, что это карта Италии, а «волосы» — названия многочисленных городов. Отец любил географические карты, и время от времени приносил домой всё новые. Я вспомнил карты Турции, которые чертил, раскрашивая вилайеты в разные цвета; вспомнил, что остров — это земля, окружённая водой, а озеро — вода, окружённая землёй; что Земля круглая, а не плоская, и что она движется вокруг Солнца.
Здесь зимними вечерами отец, бывало, писал по-французски письма своим клиентам. Респектабельные клиенты платили ему лишь раз в году, получив от отца подробный счёт. Стоило ему сделать ошибку, как он тотчас же бросал бумагу на пол, а я мгновенно налетал на неё, чтобы дополнить ею свою коллекцию. И я вспомнил тот вечер, когда отец побил меня. Если б он только мог ещё раз меня побить! И бабушка сидела там, у печки, на сундуке, в котором отец хранил свои бумаги. Вспомнил я и солдатскую форму, которую папа мне подарил на Новый год, когда раздавал подарки. Я видел, как мама шила её, но ничего не подозревал, пока не открыл перевязанную ленточкой большую коробку. У наших дверей греческие мальчики, держа в руках фонарики, пели церковный гимн «Ай Васил» — песню святого Василия. Отец дарил запевале серебряный меджидие, а мы набивали карманы мальчиков миндалем, конфетами, апельсинами, яблоками, сушёными абрикосами и финиками.
Мама сидела там, у окна, когда шила на зингеровской машинке. Нвард, Оник и я дрались за каждый сантиметр стола, за которым мы переписывали свои уроки. Нвард писала фиолетовыми чернилами.
Я вбежал в гостиную и тотчас же услышал громкий голос отца, он играл в баккара — «Каррррааааанттте! Брррррррр! Вот сейчас, друзья мои, сорву такой куш, что вам несдобровать, и зёрнышка не останется в ваших карманах! Карррааанте, говорю!» И круглый стол орехового дерева, стоявший прямо под хрустальной люстрой, трясся, когда он изо всех сил ударял по нему рукой, переворачивая карту лицом вверх, чтобы всем видно было, махал ею у них под носом с очередным восклицанием «бррррррр!» — и вновь проигрывал.
«Bis! Bis! Répétez! Répétez!» — услышал я голос аплодирующего нам брата Вртанеса. Игрушка Евгине — круглолицая краснощёкая кукла с длинными, как у неё самой, ресницами и сломанной рукой по обыкновению лежала на диване, и всякий раз, когда я укладывал её на спину или сажал, закрывала и открывала глаза. Мне чудилось, что в комнату входит, играя в «невесту», Евгине. Потупив взор, скромно, как настоящая невеста, она поочередно целует всем гостям руки. А там, на стене, японское бамбуковое панно с косоглазыми женщинами с зонтиками, сплошь покрытое фотографиями и французскими почтовыми открытками, в числе которых был и Наполеон на коне, — открытка, присланная тётей Азнив из Бейрута.
Я выбежал из гостиной на кухню. Она занимала почти полдома, и потолок там был такой высокий, что зимой кухню невозможно было обогреть. Увы, мамы и там не было. Но я представил себе, как она варит инжир в тазу, заготовляя на зиму инжирное варенье, а дети с блюдцами и ложечками в руках стоят, облизывая губы, в предвкушении очередной порции горячей, вкусной пенки, постоянно образующейся на поверхности медленно кипящего варенья.
Я спустился по каменным ступеням в тёмный, сырой подвал, где мы хранили уголь и дрова. Напрасно я искал хоть одну щепку, хоть кусочек угля, чтобы прижать к сердцу. Там тоже было пусто. Я побежал в нашу кладовую наверху, где хранились соленья и маслины, белый сыр в рассоле, «крестьянский сыр» в овечьей шкуре, яблоки, грецкие орехи, фундук, сухие фрукты, ящики с макаронами, мылом, мешки с мукой и рисом, деревянные ящики с большими бутылками оливкового масла; тяжёлые, конической формы, обёрнутые в плотную синюю бумагу головки сахара, которые приходилось рубить на мелкие куски при помощи молотка и старого ножа без рукоятки, старое ненужное веретено, дедушкино наргиле, детский стульчик Евгине, колыбель, в которой качала меня Виктория, — самое раннее моё воспоминание. Всё напрасно: не было ни одной пустой банки и даже нашей мышеловки. Всё исчезло.
Я поспешил наверх, в наши спальни, на балкон, в ванную, в неистовой попытке найти хоть что-нибудь на память о нашем доме, но ничего не нашёл. Задержался у дверей маминой спальни, погладил стеклянную ручку, подумав, что мамины руки, должно быть, касались её. Я вцепился ногтями в стену. В ярости и невыносимом страдании хотелось биться об неё головой. В гробовой тишине пустые голые комнаты уставились на меня печальным остекленевшим взором.
Наконец, я вышел на задворки: исчез даже курятник. Я вспомнил, как муштровал петухов и куриц, выстраивая их в ряд, заставляя выполнять команды на французском языке. А ловушка из сита, которую мы с Оником сделали для воробьёв! Мы следили за ними из комнаты, прижавшись носами к холодным окнам, и тянули за бечёвку, привязанную к ситу. Воробьям были известны наши штучки, и они вели себя очень осмотрительно. Они скакали вокруг сита, привлечённые насыпанными под ситом крошками хлеба и зёрнышками. Потом настороженно поднимали головы, прислушиваясь, наблюдая, сомневаясь — стоит ли рисковать. Затем какой-нибудь глупый воробей по неосторожности заходил в ловушку, мы тянули за бечёвку, и сито со стуком опрокидывалось на него. Но бабушка не позволяла нам держать пойманных птиц в неволе, и приходилось их отпускать. «Бог наказывает мальчиков, которые причиняют воробьям зло», — говорила она.
— Мяу! Мяу! — послышалось знакомое мяуканье. Посмотрев вверх, я увидел нашего кота, ползущего по стене, отделявшей огород от сада наших соседей-турок.
— Кис-кис! — позвал я.
Он спрыгнул, мурлыча, потёрся о мои ноги, выгнув дугой спину, поднял усатую, родную мне мордочку с выражением человеческой боли в глазах.
— Где ты был всё это время? — казалось, вопрошали его глаза. — Где остальные? Они больше не вернутся? Почему вы все ушли, оставив меня здесь одного? Мне так вас не хватало.
— Мне тоже, — сказал я, подняв кота на руки. Он был царьком нашей кладовки на чердаке, и все маленькие мышки, любительницы риса и сыра, страшились его. Сколько поколений мышей попалось ему в лапы! Он играл с ними, подбрасывая в воздух. А теперь ему нечего было сторожить, он отощал от горя и голода.
Мне не хотелось покидать наш дом, хотелось остаться в нём навеки вместе с нашим котом, но тут что-то случилось с моим горлом — я не мог дышать. Я не знал, куда девать кота, боясь, что если останусь здесь ещё минуту, умру от недостатка воздуха. Охваченный тревогой, я опустил кота на пол, помчался к дверям прихожей. Он бежал за мной и, дико мяукая, льнул к ногам. И всё же мне удалось увернуться и закрыть за собой дверь. Я вышел на заросшую бурьяном улицу, задыхаясь, как человек, выбежавший из горящего дома.
Я бежал, преследуемый жалобным мяуканьем кота из-за закрытой двери, содрогаясь от сильных глубоких рыданий, которые не выливаются в слёзы.
Когда я был уже далеко, дыхание вернулось ко мне. Но теперь ни небо, ни дома, ни цветы, ни телеграфные столбы не были прежними.
Я заметил ещё один открытый армянский магазин, торгующий фарфором. Я вошёл и поздоровался с сыном хозяина, который меня знал. Он познакомил меня с молодой девушкой, сказав, что они только поженились.
— Сколько же тебе лет? — спросил я удивлённо.
— Семнадцать. А ей шестнадцать. Мы были помолвлены ещё до войны.
Они оба лишились родителей и семей, но обрели друг друга, да и турки каким-то образом не растаскали ценных товаров в магазине. Супруги были заняты тем, что сортировали и вытирали фарфор.
— Я ходил в наш дом, — сказал я. — Но ничего не нашёл.
Девушка вздохнула:
— От нашего остались одни руины.
— Они разрушили практически все армянские дома в поисках якобы спрятанных там сокровищ, — сказал её молодой супруг. — Турецкая полиция завалила мебелью из армянских домов новую церковь на территории армянского епархиального управления, где находится наша школа. Почему бы тебе не пойти туда?
Я позавидовал им. Они начинали жизнь заново, вдвоём. Он старался вести себя как взрослый, по-деловому.
— У меня и дома много фарфора. Там у меня работают три девушки, — сказал он воодушевлённо. — И тебя могу взять. Я заплачу тебе.
Вот и появилась возможность купить вдове подарок, прежде чем она вернётся в деревню. Я охотно принял его предложение. Он послал меня к себе в дом, который оказался прямо напротив новой церкви. Поэтому прежде всего я решил посмотреть, что можно найти там из наших вещей. Входя во двор епархиального дома, я вспомнил счастливые школьные дни — первую бомбардировку города русским флотом во время урока турецкого языка, когда мы читали притчу о болтливой лягушке; ужасную ночь, проведённую здесь, когда и я находился среди сосланных, вместе с тётей Азнив, Викторией и моими двоюродными братьями и сёстрами.
Привратник армянин не позволил мне войти в церковь. Как он меня разозлил! Но стоило ему отлучиться от дверей на несколько минут, как я мигом проскользнул внутрь. Большое здание, на постройку которого наша община с такой гордостью потратила уйму денег, чтобы иметь самую большую и красивую христианскую церковь в городе, строилось уже много лет, и не было полностью завершено. Сейчас церковь была завалена грудами мебели — громоздких вещей, вроде остовов кроватей, ванн, диванов и комодов… Мне понадобилось бы несколько часов, чтобы найти здесь хоть что-нибудь, принадлежащее нам. Я бежал между рядами, бросая быстрые взгляды по сторонам, в страхе, что привратник прибежит сюда за мной. Вскоре я наткнулся на большую кипу сваленных на полу в кучу фотографий. После напряжённых поисков на коленях я нашёл нашу семейную фотографию и фотографии дяди Левона и брата Вртанеса в форме турецкого офицера. Я выскочил из церкви до возвращения привратника и бежал, не останавливаясь, пока не пересёк весь квартал.
Неужели этот мальчик в белом накрахмаленном воротнике с развевающимся галстуком, с обручем в руках — действительно я? Мне с трудом в это верилось, когда я всматривался в свой портрет в возрасте семи лет, сделанный много тысяч лет назад. Я стоял рядом с мамой, а она сидела, облокотившись о декоративный столик, на край которого, как куклу, усадили Евгине с гребёнкой и ленточками в волосах. По другую руку сидела бабушка со стороны отца в длинном, отороченном мехом платье, плотно повязанная муслиновым платком. Её морщинистые руки лежали на коленях. Виктория — в кружевном белом платье и с белым бантом на голове стояла позади меня. Оник в длинных чёрных чулках — в то время как я зимой и летом ходил в коротких белых носках — стоял, прислонившись к бабушке с мечтательно-задумчивым выражением в глазах — мои же были широко раскрыты. Рядом с ним стояла Нвард, тоже в белом платье и с белым бантом в волосах. Будто демонстрируя их длину, она перекинула одну прядь на правое плечо. К сожалению, на фотографии не было ни отца, ни тёти Азнив. Папа не любил фотографироваться, отрывать время у своей аптеки, чтобы позировать фотографу. А тёти Азнив не было, когда мы фотографировались, она совершала паломничество в Иерусалим.
Я горько рыдал, глядя на них, без слёз. Я стал выносливее. Наконец-то мне удалось найти хоть что-нибудь, связывающее меня с призрачным прошлым. Наконец-то я держал в руках точное доказательство, убеждающее меня в том, что я не всегда был одиноким, сиротой, что и у меня когда-то были и мать, и семья, и всё это — не плод моего воображения.
Поработал я с теми тремя девушками несколько часов. Нам пришлось очистить от пыли и грязи, рассортировать и расставить две полные комнаты фарфора и стекла. Лица девушек преждевременно увяли, и хотя я не задавал им нескромных вопросов, но подозревал, что им приходилось удовлетворять похоть своих турецких хозяев. Все три были одеты в чёрное и пели грустные песни. Ко мне они отнеслись как к брату.
Я был разочарован, когда узнал, что мне ещё день или два платить не будут, поскольку у нашего юного хозяина не хватало денег. И потому я пошёл на встречу с вдовой, засунув в карманы и под блузу кофейные чашечки и блюдца, — маленькие, хрупкие. Меня мучила совесть, что я их украл, но не особенно: ведь турки сами могли бы их взять и ничего ему не оставить, как, например, у нас, а ему повезло — он получил обратно всё отцовское добро. Во всех случаях всем нам повезло, что мы остались живы, а хозяин не досчитается лишь нескольких чашек и блюдец, говорил я себе.
Вдова ждала меня у обувного магазина с корзиной на спине. Она оценила мой подарок, не подозревая, что он краденый.
— Очень благородно с твоей стороны, Янко, — сказала она, осторожно заворачивая чашечки в шаль и кладя в корзину. — Я ими обязательно буду пользоваться. Теперь, когда русские уже здесь, цены на сахар упадут, и даже такие бедняки, как мы, смогут по праздникам пить кофе. Да-а, когда вырастешь и станешь богатым человеком, не забывай нас.
— Никогда не забуду, — заявил я. Я не знал, как благодарить её за то, что она спасла мне жизнь, хотя жилось мне в её доме не очень весело. — Как-нибудь навещу, — сказал я. И представил себе, как возвращаюсь в Киреч-хане, нагруженный подарками: строю ей городской дом, для деревни — новую школу и устраиваю для всех пир.
Когда мы расстались, я вернулся в магазин тканей, где встретился с моим дядей Парнаком. Он казался мне легендарным героем. Я встречался с ним всего лишь раза два до войны и не знал его хорошо.
— Ты всё ещё лазишь по деревьям? — спросил он, подмигнув мне. Он знал, что я люблю лазить по деревьям, ему об этом рассказывали бабушка и дядя Левон.
Я расспросил о его знаменитом отряде, куда входило всё население одной армянской деревни — и мужчины, и женщины, и дети. Даже женщины и дети сражались в нём. И, как ни странно, одним из командиров у них был турок, восставший против своего народа и присоединившийся к своим соседям-армянам.
— Хоть бы дядя Левон был жив! — сказал я. Мне его не хватало больше всех, разве что только после мамы.
Парнак взглянул на его фотографию и нахмурился.
— Я послал за ним, чтобы он присоединился к нам, — сказал он.
— Он не хотел оставлять бабушку одну, боялся, что её будут пытать, если он убежит.
— Всё равно её бы не пощадили.
Он повёл меня в недавно открывшийся пансион близ нашей аптеки. Я взглянул украдкой в её сторону и, увидев, что это уже не аптека, отвернулся.
— Ты можешь пока жить здесь, но за тобой нужен домашний уход, — сказал Парнак. — Это место не для тебя. Ты знаешь, что у тебя в Батуме есть родственники?
Я очень обрадовался, узнав об этом.
— Мариам-ханум, наша с твоей матерью тётя, живёт там с сыном и дочерью. Думаю, тебе лучше ехать в Батум. Я напишу ей.
Ту ночь я проспал на наспех сколоченной кровати. На следующий день я встретил на улице Нурихана, который тоже спас мне жизнь, приютив у себя в те страшные дни в Джевизлике.
— Ты жив! — воскликнул он, оторопев.
Как я рад был его видеть!
— Я думал, что тебя поймали и отправили на тот свет, ах ты, негодник! — прибавил он, смеясь, и я засмеялся вместе с ним. — В Джевизлике говорили, что поймали беглого мальчика, и мы думали, что это ты.
В Джевизлике ещё были турки. Нурихан не знал, как там наши друзья, потому что месяца через четыре после моего побега сбежал и сам. Он укрывался у своих сестёр в швейцарском консульстве, хотя до этого, пока он был в бегах, его чуть не поймали: жандармы обыскивали дома в поисках беглых армян. Нурихан тоже вскоре собирался уезжать к родственникам, живущим в России, он с гордостью сказал, что у его двоюродных братьев вблизи Екатеринодара, где живут казаки, есть табачная плантация.
Глава одиннадцатая МОЯ РУССКАЯ ФУРАЖКА
Остерегаясь немецких подводных лодок, рыскавших в водах Чёрного моря, русский пароход держался ближе к изрезанным берегам Лазистана. Когда мы проплывали мимо турецких городков, — кучки сверкающих белизной домов с красными крышами, — за нами вслед мчались дельфины. До этого мне ни разу не доводилось путешествовать на корабле. Вместе с группой армянских сирот я ехал в Батум к бабушкиной сестре.
К вечеру наш пароход вошёл в размытую бухту, занятую русскими эсминцами и боетранспортёрами. Качаясь на волнах как в расплавленном стекле, он подплыл прямо к мощённому булыжником пирсу, вместо того чтобы бросить якорь в полумиле от берега, как это делали корабли в гавани моего родного города Трапезунда. Тотчас же на улицах Батума вспыхнули электрические лампочки. Я никогда прежде не видел электрического света и пришёл в восторг.
Чтобы сойти на берег, нам не нужны были шлюпки; оставалось только спуститься по трапу. Здесь, на русской земле, я почувствовал себя в полнейшей безопасности, почти как дома, хотя оказался в незнакомом мире. То был мир Христианства и Цивилизации, мир смеха, доброты и музыки. С маленьким узелком в руках я уселся на окрашенную в зелёный цвет железную скамью и осмотрелся, взволнованный всем увиденным. По бульвару прогуливались весёлые толпы, пели девушки, играли на балалайках матросы. Девушки были толстощёкие, без чулок, ходили в лёгких летних платьях и с цветастыми платочками на русых головках. Они заигрывали с матросами, и время от времени до меня доносился их пронзительный смех.
— Итак, я в России, это и есть Батум! — говорил я себе.
Ко мне подошла женщина с двумя мальчиками.
— Ты с этого корабля, сынок? — спросила она меня по-армянски.
Я сказал «да», думая, не она ли Мариам-ханум, бабушкина сестра, которую я никогда не видел, и восхищённо посмотрел на русские форменные фуражки мальчиков. Они заговорили со мной на ломаном армянском, произнося армянские слова на русский лад. Сестрой бабушки она не была, но оказалась приятельницей моей мамы. Спросила, живы ли мои родители.
— Их убили турки, — сказал я. — Их сослали и убили. Меня тоже ссылали; дали турецкое имя и пытались сделать из меня мусульманина, но я сбежал.
— Ах, какой красивой была Звард, твоя мать! — вздохнула она, вытирая глаза платком. — Она приезжала сюда однажды с дядей Левоном. Какой это был прекрасный молодой человек! Ты не знаешь, как сложилась его судьба?
— Дядю Левона утопили в море, — сказал я, изо всех сил стараясь не плакать. — Он был революционером.
Она сказала, что бабушкина сестра уехала на месяц в Боржом, летний курорт. Богатой эта женщина не выглядела, и мне не хотелось, чтобы она думала, будто я собираюсь остановиться у неё до возвращения Мариам-ханум.
— Я пойду в приют вместе с остальными мальчиками, — сказал я, хотя от одного этого слова меня передёргивало.
Она уверила меня, что это прекрасное место, а оба мальчика с завистью добавили, что сироты плавают там каждый день. Ей хотелось приютить меня на ночь у себя, поэтому я пошёл с ними в мощённый булыжником двор, где они жили в старом, полуразвалившемся доме. Стали наведываться соседи, расспрашивать о своих родственниках в Трапезунде, а некоторые плакали, отчего я очень смущался.
На следующий день она принесла мне пару новой обуви, в которой я очень нуждался, и повела меня в гости к людям, знавшим мою мать.
— Сын Зварт, подумать только! — говорили они.
Я услышал одну историю о маме, которая произвела на меня большое впечатление. Когда мама была в Батуме, город посетил царь Николай II, и все восхищались красотой некой молодой княжны из царской свиты. Матери было жаль, что она не попала на парад и не видела этой дамы. Друзья говорили ей, что она очень похожа на княжну.
Раз моя мать походила на русскую княжну, я чувствовал себя почти русским, к тому же состоящим в родстве с царской фамилией…
Мальчики показали мне город и научили некоторым русским словам. Затем я поехал на экскурсионном поезде в приют — это было моим первым путешествием на поезде. Приют находился в деревне Кобулети, на второй станции по железной дороге в Тифлис, и походил на фешенебельный пригород Батума. Сироты жили в прекрасной вилле, выходящей на пляж. Это были сильно загорелые, наголо остриженные босоногие мальчишки. Здесь я научился плавать и наконец, после стольких месяцев голода, прибавил в весе. Из соседнего хозяйства нас снабжали вёдрами жирного пенящегося молока. Из близлежащих садов мы воровали фрукты, и я объедался тёмно-красной тутой, мандаринами, хурмой, большими жёлтыми сливами. Мы проводили на пляже весь день, с меня полностью слезла кожа, и я стал выглядеть как истинный представитель смуглого сиротского племени.
Потому-то я не стремился вернуться в Батум, когда бабушкина сестра вернулась с отдыха, и её дочь приехала забрать меня из приюта. Была середина лета. И всё же я гордился тем, что за мной приехала привлекательная, хорошо одетая молодая женщина. Она улыбнулась, увидев меня, и я понял, что выгляжу смешно. Казалось, она была разочарована.
— Ты похож на своего отца, — сказала она.
Я знал, что некрасив.
Мариам-ханум отнеслась ко мне со всей добротой. Жила она в маленьком доме вместе с дочерью и сыном Саркисом — унылым молодым человеком. Это была кроткая женщина с бледным лицом и голубыми глазами. Я каждый день ходил с ней на базар и тащил её провизионную сумку. Базар находился на мощёной площади и состоял из палаточных рядов, разделённых на секции: фрукты и овощи, рыба, мясо и домашняя птица и так далее. Высились горы арбузов и огурцов, стояли огромные бочки с кислой капустой для борща, а в некоторых секциях продавали только целиком зажаренных молочных поросят, олицетворявших грузинское понятие земного рая. Прежде мне ни разу не доводилось видеть поросят, потому что турки свинины не ели и держать свиней в Турции не разрешалось.
Я играл с русскими мальчишками, а они все ходили в русских форменных фуражках и в гимнастёрках с поясами. Мне же ничего, кроме фески, в Турции не носившему, сейчас в России больше всего хотелось иметь именно такую фуражку. Я носил белую панаму Саркиса, которая была мне велика. Мне казалось, все замечают, что панама не моя. В Батуме ни один мальчик такой не имел. Ведь Саркис купил её в Париже. Такую симпатичную панамку впору было носить побывавшему за границей молодому человеку, но это было совсем не то, что русская фуражка.
Я научился говорить по-русски и напевал про себя русские песни, которые мне очень нравились, особенно я любил песню «Волга, Волга, мать родная» из песен Стеньки Разина, знаменитого казацкого разбойника, помогавшего бедным. Я ходил на все военные парады, пил квас, лузгал семечки, как настоящий русский мальчишка. Я стремительно обрусевал, не хватало только фуражки.
Каждый день был праздником в этом самом большом и красивом городе кавказского побережья Чёрного моря, прекрасном месте отдыха для русских. Многие из них, приехавшие из таких городов, как Омск, Москва и Астрахань, никогда прежде не ели апельсинов и хурмы и не видели гор. Им нравился бульвар на набережной с австралийскими пальмами и бамбуковыми деревьями. Бульвар был самым популярным местом встреч влюблённых. В павильоне играл казацкий оркестр. По покрытым гравием дорожкам няни возили детские колясочки, и пухлые белокурые дети рылись лопаточками в песке. В казино продавали квас, мороженое, кавказские минеральные воды. Под большими тентами, разбросанными по пляжу подобно огромным макам, люди читали книги, журналы и газеты. Статные русские блондинки лежали на горячем песке весь день и даже всю ночь, когда пляж был залит лунным светом. Они были крепкие, хорошо сложенные, медово-коричневые от загара с копной пшеничных волос, а их маленькие милые носики были задраны кверху. Пышные бёдра девушек подрагивали, когда они ходили по чистой белой гальке.
Во время вечери из русской церкви разносился перезвон множества колоколов — поистине воздушный концерт громовых бронзовых и нежных серебряных курантов. Мелодичное звучание маленьких колоколов напоминало трепет ангельских крыльев, а большие грузные колокола громыхали, как пушки. Церковь была с высокими куполами сине-фиолетового цвета, луковичной формы, с русскими золотыми крестами на верхушке. Величественная и чуть грубоватая, она представляла всю мощь Святой Руси близ турецкой границы.
Были ещё большие поезда-экспрессы, приходившие со всех концов России через Баку и Тифлис. Я, бывало, ходил на вокзал смотреть на паровозы с огромными колёсами и шипящими поршнями. Нефть качали из Баку в Батум по подземному трубопроводу протяжённостью в тысячу километров, и в нефтяной гавани, пыхтя, ползли, как черепахи, плоскодонные лодки.
По воскресеньям мы навещали одну семью, живущую на даче, и я влюбился в их дочь. Звали её Шушик, что означает по-армянски «маленькая лилия», она и в самом деле была белокожей, как лилия. Шушик посещала русскую гимназию и пленила меня порывистыми манерами и весёлым чарующим голосом. У неё было много поклонников-гимназистов, которые щёлкали каблуками, целуя ей руку. Она не догадывалась о моей тайной страсти и относилась ко мне с презрением и жалостью, ибо я был всего лишь сиротой из Турции. В её присутствии я чувствовал себя таким несчастным, что едва осмеливался заговорить с ней.
У неё была подружка Араксия, гимназистка, которую я любил иной, духовной любовью, поскольку красота её была нежной, тонкой, бесплотной, а глаза мягкие и влажные. Мать её была актрисой. Эти девушки казались мне двумя сказочными принцессами, несмотря на то, что обе состояли со мной в далёком родстве. Говорили они обычно по-русски.
Однажды я похвастался, что умею читать по-французски.
— В самом деле? — спросила удивлённая Шушик с оттенком сарказма в голосе.
— А ну проверим, как он прочитает наш французский учебник, — сказала Араксия.
Я стал читать: «J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont»[15].
Это произвело впечатление. Какой-то там сирота, всего лишь одиннадцати лет от роду, а читает по-французски. Я немножко приободрился, но всё ещё сильно робел в их присутствии и что угодно отдал бы за русскую фуражку.
Однажды на базаре я нашёл уже затоптанную прохожими, но зато настоящую русскую фуражку из тех, что носили все школьники в Батуме. Я трепетал от радости, подбирая её с земли, будто сам господь бог бросил мне её с небес. Она была засалена и выпачкана, в ней прожгли одну или две дырочки, но я подумал, что смогу её отстирать и починить. Надел её на голову, и она оказалась мне совсем впору. Я побежал домой и спрятал фуражку в нижнем ящике комода, в надежде, что её там никто не найдёт. Я представил себе, как буду ходить в ней по бульвару во время парадов, играть там со школьниками. Можно прятать шапку под рубашкой перед самым выходом и при возвращении домой, мне не хотелось, чтобы родственники считали меня неблагодарным за то, что я не хочу носить подаренную ими шапку.
Но на следующий же день Саркис, чью поношенную панаму я носил, нашёл мою русскую фуражку. Он приподнял её двумя пальцами, как дохлую крысу, и с любопытством посмотрел на неё печальными чёрными глазами.
— Кто принёс сюда эту гадость? — спросил он Мариам-ханум, а она ответила, что это я, должно быть, где-то её нашёл. В это время я играл во дворе, но видел и слышал, о чём они говорили. Саркис вышел на веранду, держа в руках мою фуражку, и с выражением глубокого отвращения на лице выбросил её в мусорный бак. Он был эксцентричным молодым человеком, всегда хорошо одетым, красиво подстриженным, но он нигде не работал, был угрюм и неразговорчив. Я боялся рассердить его и всегда старался показать, как ценю подаренную им шапку, но этого я уже не смог вынести. Я побежал к мусорному баку, вытащил фуражку, отряхнул её. Саркис ничего не сказал, но сердито посмотрел на меня, словно внушая: «Только посмей принести её обратно!»
— Где ты раздобыл эту шапку? Выбрось её, — сказала мне Мариам-ханум, увидев разыгравшуюся между нами маленькую драму.
Но я не хотел и не мог её выбросить. Она слишком много значила для меня. Чувство большее, чем ярость и унижение, душило меня.
Я убежал со своей фуражкой и бродил по улицам весь день. Я долго обдумывал, что мне делать, и решил вернуться в приют. Пошёл по направлению к Кобулети, находящемуся в десяти-двенадцати километрах от Батума.
К тому времени, как я дошёл до Индустриального пригорода у нефтяной гавани, начало темнеть. Небо было облачным, и в лицо мне ударили большие холодные капли дождя. Я зашагал быстрей через железнодорожное полотно, мимо товарных вагонов и цистерн, складов, огромных резервуаров с водой нефтеочистительного завода, лудильной мастерской. Мне ни разу не доводилось бывать в этой части города, и она одновременно зачаровала и испугала меня. Я вдруг почувствовал себя очень одиноким и потерянным, меня обуял необычный страх. Земля под ногами закачалась от шума далёких городов Баку и Дербента на таинственных берегах Каспия, от звуков других миров, а маячившая передо мной громадная стена Кавказских гор стала ещё более зловещей. В сумерках в сгустившейся духоте деревья приняли причудливые очертания, воздух был насыщен треском и пронзительным хохотом стальных домовых, кружившихся на нелепом карнавале. Они стучали кулаками непонятно обо что и показывали мне свои страшные железные зубы.
Я так испугался, что повернул назад. Более того, я почувствовал себя виноватым. Бабушкина сестра была добра ко мне, и даже Саркис, которого я не любил, в конце концов, приходился маме двоюродным братом. Я представил, как возмутит их моё возвращение в приют. Люди скажут, что я испорченный, неблагодарный мальчишка или же будут во всём винить Мариам-ханум. «Не надо выносить сор из избы», — сказал я себе.
Но сердце моё разрывалось при мысли о том, что я должен выбросить фуражку. Я бросил её в море, посмотрел, как она плывёт, отвернулся и пошёл домой, снова чувствуя себя настоящим сиротой.
— Где ты был? — спросила меня Мариам-ханум, взглянув на мои пыльные башмаки. — Ну ладно, пойди умойся и пообедай.
Они уже поели, и Саркиса не было дома. Я почувствовал острый запах горячих баклажанов и помидоров, начинённых рубленым мясом и специями. Я стоял перед ней, понурив голову отчасти от стыда, отчасти, чтобы скрыть слёзы.
— Глупый ты малыш, — сказала она. — Ведь это была всего лишь жалкая тряпка!
Я молчал. Как ей объяснить, что значила для меня эта фуражка, даже такая потрёпанная! Я уже не был ребёнком. И я не из детского каприза хотел носить русскую фуражку, и не потому, что выглядел смешным и нелепым в шапке Саркиса. Нет, я не мог этого никому объяснить. Она связывала меня с неким волшебным русским городом за горизонтом, по ту сторону гор — моей единственной надеждой в минуты отчаяния и скорби на дорогах смерти во время резни. Шапка была частицей беспредельного восторга от сознания того, что я жив, свободен и нахожусь среди христиан, что обрёл утраченный мир, так горячо любимый всеми фибрами детской души. Она ассоциировалась у меня с песнями, балалайками, электрическим светом, поездами и с некой русской княжной. Она имела отношение к Богу, Европе, Цивилизации и ко всему на свете.
Глава двенадцатая ВОССОЕДИНЕНИЕ
Шёл шестой месяц моего пребывания в Батуме, когда некий молодой человек, приехавший из Трапезунда, принёс мне письмо от Оника. Да, был у меня когда-то брат, но трудно было поверить, что он и в самом деле есть и вернулся в наш родной город.
«После того, как русские заняли Трапезунд, турки сослали доктора Метаксаса с семьёй в Ардазу, и мы поехали вместе с ними, но сейчас, слава богу, мы здоровы и свободны и уже два месяца как снова в Трапезунде, — читал я. — Возвращайся как можно скорей, потому что вновь открывается мхитаристская школа, и я уже зачислил тебя туда. Позже школа отправит нас в Венецию в Мурат-Рафаэляновское училище». В письмо была вложена банкнота, на которую я должен был купить Онику наручные часы.
Я всё читал и перечитывал это письмо Мариам-ханум и соседям по двору, а своим русским товарищам сказал, что уезжаю в Италию. Я уже считал себя ничуть не хуже Шушик и Араксии.
— Может, я буду учиться в Париже и Лондоне, — сказал я своим друзьям. Представил, как вернусь в Батум и на городском балу ни Шушик, ни Араксии замечать не стану. Они будут стараться привлечь моё внимание, а я окружу себя другими девушками.
Возвращался я в Трапезунд на русском корабле.
Мы отплыли ночью, без огней. Жутким было это путешествие без луны. Маленькие звёздочки, как мерцающие светлячки, слабо светились на бархатно-чёрном небе. Вздымались волны, и сквозь грохот и гул моря появлялись русские эсминцы, словно костлявые серые ищейки с вытянутыми в воздухе носами, охраняя это коварное побережье от немецких подводных лодок.
Я спал на палубе. Утром, когда я проснулся, море уже утихомирилось, и голые крутые горы Сурмене, подобно гигантским розовым гейзерам, прорезали горящее небо. В это солнечное октябрьское утро я был потрясён белым сиянием Трапезунда.
Русские превратили старый римский пирс в современную пристань. Перемены виделись повсюду. В бухте землечерпалки углубляли мелкие места. Пыхтели маленькие паровозы, выдыхая клубы белого дыма и весело свистя, они тащили длинные цепи тех товарных вагончиков, которые когда-то толкали по направлению в Джевизлик бригады голодных солдат-греков. Как и в Батуме, гавань была полна кораблей и заминирована. Какой-то солдат показал мне корпус парохода, потопленного немецкой подводной лодкой до того, как её отогнали русские береговые батареи.
Сойдя на берег, я перекинул узелок через плечо и зашагал по портовой улице, носившей теперь, к моей радости, русское название. В витринах магазинов стояли русские манекены, продавцы газет продавали русские газеты, а уличные торговцы расхваливали свои товары по-русски. На портовой улице образовывались заторы не из-за стад овец, как в прежние дни, а из-за бесконечных верениц грузовиков, водители которых ели апельсины. Кубанские и донские казаки ехали верхом на конях вдвое больше наших, а сибирские казаки с копьями — на лохматых приземистых лошадях. По улице громыхали лафеты в больших упряжках лошадей бельгийской артиллерии. Тяжёлые мохнатые копыта коней стучали, как деревянные башмаки. Это был уже не прежний турецкий Трапезунд, а шумный русифицированный город, в жилах которого пульсировал ритм новой жизни.
На пороге дома доктора Метаксаса я встретил Оника, когда он выходил. Заветный образ из потерянного мира вдруг стал живым и близким. Мы чуть не столкнулись друг с другом и на мгновение потеряли дар речи. Щёки у Оника обросли светло-золотистым пушком, и выглядел он совсем взрослым — ему уже было почти четырнадцать. Одет он был в синий костюм с длинными брюками, а я-то всё ещё ходил в коротких штанишках.
— Ты уже стал выше меня, — сказал он. — Как ты вырос!
Я отдал ему часы. Оник заработал деньги в табачной лавке. Услышав мой голос, Нвард и Евгине кубарем скатились с лестницы. Они, рыдая, повисли у меня на шее.
— Я плачу от радости, — сказала Нвард. — Возблагодарим господа, — она подняла глаза и перекрестилась, — за то, что мы все четверо живы и снова вместе. Ведь так много семей полностью исчезли!
И в самом деле, по сравнению с ними мы казались счастливцами.
Нвард не особенно изменилась, зато Евгине уже не была той крошкой, какой я её помнил. Вдобавок она похорошела. Они сказали, что я выгляжу здоровым и сильным, и что у меня широкие плечи.
— Ты превратился в настоящего хулигана, — засмеялась сквозь слёзы Нвард.
До того, как приветствовать доктора, я поздоровался с мадам Электрой, его супругой, с Хаджи-Мана, его матерью, и с несметным множеством греческих дам, пришедших к ним в гости.
— Он не похож на нас, хулиган эдакий, — сказала им Нвард, извиняясь за мой вид и в то же время гордясь мной, — но не будь он таким, он не был бы жив сейчас.
— Он ни на кого из вас не похож, — заметила мадам Электра, как мне показалось, не особенно одобрительно.
— Я помню Завена в день его рождения, — сказала Хаджи-Мана. — Он был худым, смуглым и некрасивым, а Александро родился розовеньким и толстеньким!
Александро было греческим именем Оника. Нвард они звали Ниобе, а имя Евгине произносили на греческий лад.
— Конечно, ты не такой красивый, как брат, но ты постарайся стать умнее него, — сказала мне Хаджи-Мана. И прибавила вполголоса, чтобы гостьи не слышали: — Это очень трудно! — Оник смущённо покраснел. — Надо было послушать, дорогие мои, как Александро читал евангелие и пел наши церковные гимны в монастыре! Монахи — и те не могли бы лучше. — Затем повернулась вновь ко мне: — Ты поступи в школу, мой мальчик, усердно учись, стань достойным и уважаемым человеком, и тогда, быть может, — она подмигнула мне, — я отдам тебе в жёны Жоржетту.
Жоржетта, вторая дочь доктора, была маленькой прелестницей с безупречно-классическими чертами лица.
Мой брат и сёстры стали членами семьи доктора и выглядели скорее греками, чем армянами, тогда как я к тому времени успел сбросить с себя тот греческий налёт, который приобрёл до отъезда в Батум.
После такой официальной встречи мы вчетвером вышли из гостиной в сад. Нам надо было о стольком поговорить! Я спросил сестёр, сказали ли им Шукри и Махмуд, что видели меня в Джевизлике.
— Да, сказали, — ответила Нвард. — Мы столько плакали, что Сельма-ханум послала в Джевизлик жандарма с поручением привезти тебя обратно. Она и тебя хотела приютить у себя. Жандарм искал тебя, но не нашёл. Позже мы узнали у нашей прачки-гречанки, что тебе удалось бежать в Киреч-хане.
— Махмуд говорил мне, что ты уже удишь рыбу на дне моря, — сказала Евгине.
— Но ведь он же был совсем ребёнком, — удивилась Нвард. — В присутствии своей матери он никогда такого не говорил.
Когда жандармы пришли в мнимый приют и разъединили нас, оставшихся там девочек стали показывать туркам, которые толпами приходили туда выбирать понравившихся. Девушек постарше брали замуж, а маленьких девочек удочеряли. Сельма-ханум, очевидно, знавшая, где мои сёстры, удочерила их. Они вновь переехали в город вместе с семьёй Ремзи Сами-бея. Нвард и Евгине утверждали, что к ним относились хорошо, что бей и его жена были по-настоящему добры к ним.
Ремзи Сами-бей наших бабушек отравил в своей больнице, вместе с прочими лидерами Иттихата руководил депортацией и резнёй. Однако старался быть родным отцом для моих сестёр, даже нанял для Нвард учителя музыки. Бей был к ним добр до тех пор, пока мои сёстры притворялись турчанками.
— Нам у них было хорошо, но мы не хотели там оставаться, потому что не смогли бы отречься от своей нации и религии, — сказала Нвард. — Когда русские оккупировали Эрзерум и двинулись на Трапезунд, Ремзи Сами-бей стал готовиться к переезду в Константинополь, и мы должны были ехать вместе с ними. Однажды утром все турки пошли в гавань, чтобы отпраздновать прибытие турецкого военного корабля. Мы с Евгине тоже шли туда вместе со служанкой-турчанкой и встретили по дороге — кого, ты думаешь? — самого доктора Метаксаса. Я была одета как турчанка, но лицо было непокрыто, и он узнал меня. Мы остановились и заговорили с ним по-гречески, чтобы служанка не поняла, о чём мы говорим.
— Не уезжайте в Константинополь, — сказал он нам, — бегите от бея и сообщите мне о себе из ближайшего греческого дома. Я найду способ отправить вас в Сумелас, в греческий монастырь.
— Мы вернулись домой, и я стала накрывать на стол, когда вдруг подумала, что лучше бежать прямо сейчас, — в доме никого, кроме служанки, нет, а турки всё ещё находятся в гавани.
— А я так испугалась, когда Нвард сказала «давай убежим!», — вставила Евгине.
— Она не хотела, — продолжала Нвард, — но я сумела убедить её, и пока служанка возилась на кухне, мы надели чаршафы и выбежали из дома. Никто нас не видел, когда мы постучались в дверь греческого дома. Мы сказали, что сбежали от Ремзи Сами-бея и просим помочь нам. Они отказались взять нас к себе.
— Мы боимся, — сказали они, — в доме нет мужчин. — Но как только я назвала имя доктора Метаксаса и сказала, что он отправит нас в Сумелас, они согласились.
— Пришёл доктор Метаксас и велел нам оставаться здесь ещё несколько дней, пока он устроит наш переезд в Сумелас, но нам пришлось ждать целых три недели, совсем рядом с домом бея, нас могли обнаружить каждую секунду! Полицейские и шпионы бея разыскивали нас повсюду. Он был очень зол. Заподозрил доктора Метаксаса, ведь служанка донесла ему, что мы говорили с доктором по дороге в гавань. Полиция обыскала дом доктора и привела его к бею на строгий допрос. Бей требовал отчёта о каждом шаге доктора с минуты, когда он повстречал нас.
— Ты скрываешь дочерей Карапета! — кричал он ему в лицо. — Я повешу тебя, если ты не выдашь их мне.
— Доктор убеждал бея, что ничего о нас не знает. У него болела нога, он притворился хромым и сказал, что все последние дни пролежал в постели и что у него и без нас достаточно хлопот.
— Нас разыскивали несколько дней. Когда бей потерял надежду нас найти, он с горечью сказал: «Неблагодарные девчонки!»
Мои сёстры добрались до Сумеласа, переодетые греческими крестьянками. Евгине несла на спине корзину с улитками, будто они ходили в город их продавать, а сейчас возвращаются обратно в деревню. После трёх дней странствий по ухабистым сельским дорогам, без провожатого, попав по дороге в снежную бурю, они добрались до монастыря еле живые. Я никогда не предполагал, что мои сёстры окажутся такими находчивыми и храбрыми.
— Ворота монастыря открыл монах, — сказала Евгине, — и мы поднялись по каменным ступеням в гору. У меня закружилась голова. Монах решил, что мы нищенки.
— И что хотим укрыться от метели, — прибавила Нвард.
Доктор Метаксас укрывал в пещере близ монастыря ещё сорок раненных армян. Впоследствии монахам пришлось заколоть своих мулов, чтобы накормить раненых.
Оник описал мне этих людей — их распухшие, одичавшие лица в пещере, где они жили, месяц за месяцем, не видя солнечного света.
— Ох, как они нас напугали! — воскликнула Евгине.
— Когда мы входили в пещеру, некоторые из них таращились на нас как сумасшедшие, — сказал Оник. — Когда в монастырь пришли жандармы, мы тоже спрятались в пещере.
Ни Оник, ни сёстры не заговаривали о самых болезненных внутренних переживаниях, которые, как и мои, невозможно было передать. Я даже не смог ничего рассказать о себе, да и они не расспрашивали. Они знали, что я сбежал из Джевизлика, и этого было достаточно. По какому-то молчаливому уговору мы старались не упоминать наших родителей и горячо любимых родственников. Их имена и всё, что могло напомнить о них, из беседы исключалось. Если бы, например, кто-либо из нас нечаянно произнёс слово «мама», мы бы все зарыдали, все четверо. Наши невыразимые страдания остались в наших сердцах, как раны, которые никогда не заживут, и мы пытались их забыть в радости воссоединения. Мы с Оником собирались возобновить прерванную учёбу и смотрели в будущее с надеждой.
Глава тринадцатая УЧЕНИК АББАТА МХИТАРА
Воздух был наполнен благоуханием осени, а тротуары зарделись от упавших на них цветов глициний. Ласточки ещё не улетели в южные края, им не хотелось покидать наш город, хотя остроконечные вершины гор уже побелели от снега.
Мы с Оником шли в школу в начищенных до блеска башмаках, неся в руках новые, пахнущие свежим клеем учебники. По дороге нам повстречалась группа молоденьких гречанок, которые тоже шли в школу. Я крикнул одной из них: «Привет, толстушка!» и весело пропел ей греческую песенку:
Приди, приди, я люблю тебя Мне нужно тебе что-то сказать!Я налетел на неё и шутя обнял. Она завизжала, обругала меня, стараясь исцарапать мне лицо, а я нахально расхохотался.
— Противный мальчишка! — сказали её подружки, но одна из них захихикала.
Когда я отпустил свою жертву, она пустилась бежать к своим подружкам. Девчонки презрительно хлопнули себя по заднице, а я крикнул им вслед:
— Завтра снова обниму тебя, толстушка!
С того дня как я вернулся из Батума, я всё старался показать Онику, какой я взрослый и отчаянный малый. Вдруг мы увидели человека с такой смешной походкой, что затряслись от смеха. Всё нам теперь казалось смешным. Любые дурачества Оника, походка прохожего и то, как лошадь вскидывает хвост, любая мелочь смешила нас, совсем как в те счастливые дни, когда мы, бывало, сидели в аптеке и наблюдали то за прохожими, то за мухой, то за лавочником на противоположной стороне улицы и смеялись, как дурачки.
— Не смотри так на меня! — закричал я, согнувшись в приступе смеха и, держась за бока, прислонился к стене.
— Я не на тебя смотрю, — сказал Оник, — а на того осла, вон та-а-ам!
И пока мы содрогались от безумного глупого смеха, в уме промелькнула картина — турки убивают маму. Оник продолжал дурачиться, строить рожи и болтать вздор, но мне сразу расхотелось смеяться, и я не сказал Онику, отчего я вдруг сделался таким задумчивым и строгим.
На майдане к нам присоединились Нурихан и Ваган. Они тоже вернулись из России, чтобы учиться в заново открывшейся мхитаристской школе.
Усевшись в ряд поверх своих корзин и паланов, носильщики-турки в ожидании заказчиков, как ни в чём не бывало, болтали и шутили, точно так же, как и в те времена, когда Трапезунд принадлежал туркам.
— Собаки! Ослиные отродья! — сердито пробурчали мы, проходя мимо.
Возвращение турок-носильщиков возмутило нас, потому что в дни резни турецкая полиция нанимала эти живые телеги грабить армянские дома и магазины и, несомненно, некоторые из сидевших здесь принимали участие в грабежах.
У кофейни в тени большого платана старые бородатые турки с восточной невозмутимостью и спокойствием курили наргиле и пили кофе. Многие турки постепенно возвращались в город, потому что русские не только не притесняли их, а часто бывали даже слишком добры к ним. И нам это не нравилось.
Наша школа находилась в двух кварталах от майдана. Я с гордостью прочёл на воротах вывеску на итальянском языке: «Collegio Armeno dei Mechitaristi».
Арам уже был на школьном дворе. Как примерный ученик, он всегда приходил первым. Уединившись в уголке под магнолией, он рисовал.
— Привет, Кролик! — Мы называли его так, потому что он бегал, как кролик. Родился Арам в Лондоне и умел говорить по-английски. Отец его был секретарём американского консульства, но мы смотрели на него свысока, потому что он не был сиротой и из-за служебного положения отца его не выслали. Он не пострадал, как мы, и не совершил отважных поступков, однако заслужил право на внимание: белый флаг, которым размахивал американский консул, сдавая Трапезунд русской армии, был сшит из простыни Арама, а этот факт, по его мнению, делал его исторической личностью.
— Что ты там рисуешь, Кролик?
— Так, ничего, — таинственно сказал он.
— Дай посмотреть.
— Нет! — Он заложил рисунок в книгу, и это ещё сильнее заинтриговало нас. Он бы не стал рисовать голую девушку, Арам был не из тех, кто рисует такое. После небольшой потасовки я вырвал у него из рук книгу и вынул рисунок.
— Всего лишь железнодорожный вагон, — сказал я. — Я видел много таких в Батуме.
— Это вовсе не вагон, — возмутился он.
— Что же тогда?
— Электрический трамвай.
Электрический трамвай! Я видел настоящие поезда, но электрических трамваев не видел. Чтобы снискать наше расположение, Арам доверил свою тайну — он изобрёл новый вид электрических трамваев, которые станет производить, когда вырастет. Он объяснял нам некоторые усовершенствования, которые ввёл в конструкцию электрических трамваев, из коих я ничего не понял, видимо, оттого, что самой важной части своего изобретения Арам нам не открыл. Это оставалось под большим секретом, он ведь собирался получить английский патент на изобретение. Арам намекнул, что ему могут понадобиться партнёры, когда он создаст компанию по продаже трамваев. А так как нам хотелось разделить с ним эти сказочные доходы, мы стали относиться к нему с большим уважением.
В нашей школе было около двадцати пяти сирот в возрасте от семи до четырнадцати лет, и их распределили в три класса: старший, средний и младший. Хотя я учился в старшем, но часто играл с младшими в солдаты. Мы вскакивали на деревянных коней, я выхватывал игрушечный пистолет и с криком «avanti» вёл свой отряд отважных на славные подвиги.
Прозвенел звонок, мы отложили в сторону коней и молча разошлись по классам. В старшем классе нас было шестеро — Нурихан, Арсен, Ваган, Арам, Оник и я — самый младший из «старших».
Деканом нашей школы назначили нового католического прелата города, которого мы, по его просьбе, называли просто «Вардапет»[16], а не «святой отец» или «ваше преподобие».
Первым уроком был армянский, который сам Вардапет и преподавал. Мы вскочили на ноги, когда он вошёл в класс в чёрной атласной шапочке, надетой на лысеющую голову. Ходил он маленькими, быстрыми шажками, как женщина в узкой юбке. Он был низкорослый, чуть выше меня.
— Можете сесть.
Мы сели.
В тот день нам было задано стихотворение Гевонда Алишана[17] «Луна армянских кладбищ». Наша армянская хрестоматия была прекрасной книгой. Она не только служила нам антологией армянской литературы, но и содержала образцы произведений многих переводных авторов — Оскара Уайльда, Мориса Метерлинка, Пьеро Лотти, Ипполита Тэна, Леконта де Лиля, Леонида Андреева, Толстого, Людвига Уланда, а в разделе «Американская литература» — стихотворение некоего Ларри Хью (если я верно помню его имя). Ещё больше, чем захватывающие тексты, интересовали меня цветные репродукции знаменитых художников на всю страницу: «Кораблекрушение» Айвазовского, «Бетховен и его музыка» Балестриери и особенно картина «Война», изображающая нагого улана верхом на белом коне посреди огромного поля сражения, усеянного грудами голых тел. Глядя на это великое множество незахороненных мертвецов, я подумал, что этой картине больше бы подошло название «Резня»: трупы напоминали мне о нагих телах армян в Мельничной реке.
В стихотворении Гевонда Алишана было много архаичных выражений, значения которых я не знал, но прекрасно понимал их каким-то инстинктивным внутренним чувством. В нём говорилось о величии древней Армении. В священном, озарённом луной романтическом крае, среди целого леса копий и щитов мне виделись павшие на поле боя, но бессмертные воины-исполины с пышными шевелюрами. И над этой печальной, безмолвной и любимой мною землёй повисла луна, словно светильник господень, подвешенный на длинной серебряной цепи.
Бессмертный дух моих предков, погибших в борьбе sa христианство, просочился в моё сердце сквозь слова этого стихотворения, расшевелил во мне странные, доселе не изведанные чувства, и образ древней Армении засиял в душе, подобно лунному пейзажу прекрасных руин.
Я смотрел на портрет Гевонда Алишана, и его патриарший облик, благородные, мягкие черты лица произвели на меня большее впечатление, чем само стихотворение.
Вардапет был когда-то одним из учеников Алишана, он прочитал это стихотворение как восторженную молитву, и хотя Алишан не был причислен католической церковью к лику святых, Вардапет почитал его как святого и считал величайшим гением нашей современной литературы. Он рассказывал нам анекдоты из жизни Алишана, как все деньги, полученные за свои монументальные труды по истории, географии, флоре и фауне Армении, Алишан тратил на бедняков, а для себя даже пару новых шлёпанцев считал непозволительной роскошью. Он был непритязательным в быту и простодушным, как ребёнок, и очень любил притворяться неучем, говорил Вардапет. Он поведал нам о юности Алишана, о лорде Байроне, жившем в Конгрегации Мхитаристов на острове Св. Лазаря и изучавшем армянский язык, о многих других знаменитых поэтах Европы. Всё это произвело на меня глубокое впечатление.
Был субботний день, занятия скоро кончились. После скромного завтрака в трапезной мы немного поиграли во дворе. Но сердца наши жгла скорбь, и мы вдруг собрались впятером и решили избить какого-нибудь турка-носильщика. Разрушенный армянский дом позади школьного двора постоянно напоминал о том, что сделали турки с нашими родными.
Вардапета и других учителей в школе не было. Мы заманили молодого рослого носильщика в тот разрушенный дом, сказав ему, что нужно перетащить груду сломанной мебели. Когда он сообразил, что мы задумали, побледнел и попятился к двери, но мы загородили ему дорогу, и вдруг его феска вместе с тюрбаном от удара слетела с головы.
— Отпустите меня! — закричал он со слезами на глазах. — Я не сделал никакого зла армянам, клянусь аллахом! Не сделал!
Как только он нагнулся, чтобы поднять феску, мы навалились на него, как пятеро голодных тигров, и на его голову посыпались страшные удары.
Он был так силён, что мог один вынести на спине пианино, но сейчас от испуга даже не пытался защищаться. Мы беспощадно дубасили его, в бешенстве, схватив валявшиеся на полу обломки медной кровати, стали бить его по голове, спине, плечам. Голова турка была вся в крови, и животный горячий запах её подступил мне к горлу.
Крики его становились всё слабее, и он стал было валиться к нашим ногам, как вдруг угодил в большую дыру в полу и провалился в подвал. Мы швырнули вслед его палан[18] и крикнули ему, чтобы он рассказал другим носильщикам, что мы с ним сделали.
Турецкая община заявила официальный протест русскому военному губернатору, требуя денежного возмещения за причинённые носильщику увечья и нашего ареста и наказания. У него оказались такие раны на голове и спине, что его отправили в больницу. И нас бы арестовали, если бы дружелюбно настроенные власти не замяли дела. Но Вардапет исключил нас из школы.
Дня два мы бродили по улицам и пляжу, курили сигареты, плевались как уличные мальчишки, словом, вели себя по-хулигански, и, наконец, приняли решение жить только ради мести. Нечего рассиживаться в школе после того, что турки сделали с нами. Нурихан рассказывал истории с дуэлями, пещерами, таинственными личностями и приключениями, которые без устали поставляло нам его пылкое воображение, хотя он и уверял нас, что всё это правда, и вычитал он эти истории из книг.
Свободная бродяжническая жизнь была мне гораздо больше по вкусу, но вмешались друзья, и Вардапет согласился взять нас обратно при условии, что мы будем просить прощения на коленях.
Вначале мы отказались от подобного унизительного условия, но нас уговорили согласиться, ведь, в конце концов, он наш учитель и в какой-то мере отец всем нам. Вардапет считал нас упрямыми и своевольными и был полон решимости «сломить нашу волю», поскольку двумя основными принципами школьной дисциплины являлись послушание и покорность. Избиение турка-носильщика, кроме всего прочего, выглядело бунтарством с нашей стороны, а бунтарство было серьёзнейшим проступком, за который немедленно исключали из школы.
Мы вернулись в школу ради будущей поездки в Венецию и поднялись в комнату Вардапета, чтобы просить прощения. Дверь была закрыта, и пока мы толкались, размахивали кулаками, дрыгали ногами, фыркали и прыскали со смеху, Нурихан осторожно постучал.
— Entrez! — послышался голос Вардапета.
Мы вошли и стали перед ним на колени. Он сидел в глубоком раздумье за письменным столом — безупречный в своей чёрной молитвенной сутане. Он не взглянул на нас, его большие карие глаза были устремлены на лежащие перед ним бумаги. На стене висело распятие, а под ним — портрет аббата Мхитара Себастаци. В комнате было ещё несколько картин — остров Св. Лазаря в Венеции, Дева с младенцем, снимок, изображающий Вардапета в момент захоронения в Трапезунде останков мхитаристских монахов, убитых турками.
Мы ждали, что он заговорит, но он молчал, раздумывая. Затем, облокотясь на стол, коснулся бледными монашескими пальцами открытого лба и проникновенным голосом сказал:
— Месть — самая греховная из всех человеческих страстей.
Переждав ещё немного, как бы собираясь с мыслями, он поднял глаза и посмотрел на нас.
— Дорогие мои сыновья, турки срубили старинное древо нашей нации, — сказал он. — Вы обязательно должны отомстить за себя. Это ваш самый большой патриотический долг, священное дело всей вашей жизни. Но должны отомстить как христиане и мхитаристы, поднявшись к вершинам достижений человеческой мысли, принести честь своей школе и нации. Вы должны стать настолько угодными Богу, чтобы весь цивилизованный мир, указывая на вас, говорил: «Это молодые побеги того крепкого старого дерева, которое срубили турки, но корней уничтожить не смогли. Оно выросло и вновь зацвело». Господь простил врагов своих и сказал, что они не ведают, что творят. Задача, которую я возлагаю на вас, потребует проявления мужества, отваги и воли.
Жестом он разрешил нам подняться. Мы встали и поцеловали ему руку.
— Вы, наверное, удивляетесь, — сказал, улыбаясь, Вардапет уже иным, весёлым тоном, — почему мне нужно было поставить вас на колени. Когда-нибудь вы поблагодарите меня за это. Наполеон говорил: «Чтобы командовать, надо прежде научиться повиноваться».
В течение следующих нескольких недель я совершенно изменился. Теперь у меня появился свой внутренний мир, мир тайный, загадочный, как остров в тропических морях, как новая Вселенная; во мне произошло как бы раздвоение личности — моё обычное внешнее «я» и тайное, внутреннее.
Я открыл для себя сокровищницу книг, меня тревожили мысли, и я искал ответы на миллионы вопросов. Я жадно смотрел на любую книгу, любой клочок печатной бумаги, стремясь поглотить всё, что когда-либо было издано. Я хотел бы жить на острове один, как Робинзон Крузо — читать и размышлять там все семь лет, а после этого вернуться в мир мудрым человеком.
Узнав, что у Бенджамена Франклина был дневник, я немедленно завёл свой собственный и занёс в особую, составленную для этой цели тетрадь список тех добродетелей, которые нужно было блюсти ежедневно. И каждый вечер после занятий — а к тому времени мы были в школе на полном пансионе — я ставил плюсы и минусы против каждого пункта, оценивая себя со всей строгостью. Я делал вид, будто переписываю уроки, а между тем занимался нравственной бухгалтерией.
В это самое время ураганом захлестнула Трапезунд русская революция. Русские покидали фронт, заняв все дороги и корабли в стремлении попасть домой. Пили водку, ругались, пели, играли на гармошках и балалайках, стреляли в воздух из ружей и рвались домой… Через несколько месяцев русские ушли. Турки-носильщики пошли служить в турецкую армию, которая в то время стояла по другую сторону мыса Йорез. Теперь им оставалось биться только с армянами и кучкой грузин. Армяне и грузины создавали свои национальные армии. Для турок русская революция явилась истинным даром аллаха.
Ответственным за судоходство между Трапезундом и Батумом был назначен какой-то грузинский князь. Нам нужно было бежать прежде, чем турки вернутся в город. В городе не осталось никого, кто бы мог им противостоять. Хорошо знакомый с психологией грузин: есть, пить и веселиться, Вардапет пригласил князя на обед. Он выглядел франтоватым аристократом — ну вылитый принц и внешностью и манерами. В форме русского офицера, в белой овчинной шапке и с маленьким золотым кинжалом на боку, он явился в школу со всей своей свитой.
Они обедали наверху в кабинете Вардапета, поглощая жареных уток, плов, макароны, абрикосовый джем, мацун и пахлаву. И запивали бутылками кахетинского. (Мы тогда уже голодали). Вардапет находился в своей лучшей дипломатической форме — ублажал и льстил им. Когда он подал знак, мы вошли в комнату и запели грузинскую застольную, которой нас научил Вардапет. Если и есть на свете хоть что-нибудь, что грузины любят больше вина, — так это их народные застольные песни. Князь был в восторге. Он поднялся с места и обнял самых маленьких среди нас. По второму знаку Вардапета выступил вперёд мой одноклассник и продекламировал французское стихотворение об Армении и по-французски же объяснил, что оно написано Жаном Экаром, членом Французской Академии. Это было самым утончённым комплиментом, которым удостоил гостей Вардапет, поскольку предполагалось, что господа знают французский. Они, вероятно, ни слова не поняли, но тем не менее аплодировали.
Князь отдал нужные распоряжения, и через два дня на военно-транспортном корабле мы отплыли в Батум. Тем временем мои сёстры вместе с доктором Метаксасом и его семьёй уехали в Новороссийск. Многие греки остались в Трапезунде, но доктор Метаксас опасался новой встречи с Ремзи Сами-беем.
Батум, этот весёлый город балалаек, выглядел сейчас печально и уныло. Под нажимом Германии Советская Россия вынуждена была сдать Турции всю кавказскую зону: Батум — Карс — Ардаган, так же как и всю Турецкую Армению, занятую русскими ранее. Но армяне и грузины, претендуя на эти территории, как на свои, отказались признать договор, подписанный Советской Россией. Грузины взялись защищать Батум, а армяне — Карс, Ардаган и Баку. Баку не находился на армянской территории, азербайджанцы требовали признать город своей столицей, бакинские армяне всех фракций были полны решимости не позволить туркам и немцам захватить Баку. Они подавляли мусульманские восстания в городе и в течение десяти месяцев обороняли его от турок и немцев. После повторного захвата Трапезунда турецкая армия под командованием Энвера паши — палача нашей нации — двинулась на Батум. Маленький грузинский гарнизон в панике сбежал. Мы спешно уехали из Батума в Тифлис. Восстановившая силы турецкая армия продолжала наступать — местами быстро, местами медленно, делая временные передышки то здесь, то там. Грузинам удалось спастись, отдав свою страну под протекторат Германии. Говорили, что немецкие войска численностью в пять тысяч человек продвигаются к Тифлису.
И снова нам пришлось спасаться бегством. Только одни ворота были открыты перед нами и другими армянскими беженцами: Советская Россия. Вардапет уехал на Кубань раньше нас, чтобы устроить нашу кочующую школу в каком-нибудь безопасном месте. Следуя за ним, мы пешком прошли от Кавказских гор до Владикавказа.
Через три дня мы дошли по Военно-Грузинской дороге до Крестового перевала, где мне почудилось, будто я улетел на небеса.
В зачарованной тиши этой Кавказской Валгаллы мне слышалась божественная музыка, исполняемая бессмертными музыкантами на свирелях и барабанах, гитарах и скрипках. Горы — седобородые воины в белых сапогах с серебряными щитами и копьями — шли с нами в ногу, отплясывая великолепную воздушную лезгинку в искрящемся пространстве неземной голубизны.
Дорогу у Казбека перекрыли ингуши, не давая нам пройти. Они были враждебно настроены. Но тотчас же ускакали, завидев приближающуюся советскую штабную машину из Владикавказа. По приезде во Владикавказ нас разбил другой враг — брюшной тиф, разбросав нас по больницам и приютам. Я выздоровел в красноармейском госпитале в Краснодаре… Но всеми мыслями я был в Ереване, в героической, поражённой голодом и тифом столице новорождённой Армянской республики… Я записал в дневнике:
«Мне нужно выяснить причины резни, войн и революций, бедности и несправедливости, чтобы научить людей жить в мире и изобилии. Нужно узнать тайну, которую тщетно искали великие учителя человечества: философы, святые и учёные. И люди, указывая на меня, скажут: „Это ученик аббата Мхитара, бедного армянского монаха“».
Глава четырнадцатая ОБЩЕСТВО САМОЗВАННЫХ БОГОВ
Наш новый наставник был одет как большевистский комиссар. Это был рослый молодой человек с каштановыми волосами, с проницательными, смелыми глазами. Его движения были свободны и раскованны. На нём была коричневая кожаная куртка и армейские сапоги, а полотняная сумка была набита, как мы позже узнали, рукописями. После шестимесячного скитания по южной России наша школа обосновалась на Кубани в городе Ейске на берегу Азовского моря.
Мы с любопытством наблюдали за новым наставником через окошко, когда он гулял по саду, погружённый в свои возвышенные мысли.
— Он — поэт, — сказал с улыбкой Поль. — Его прислал Вардапет из Краснодара.
— Как его зовут? — спросили мы.
— Баграт Еркат — Баграт Железный. Он из Малатии: во время резни перебежал через линию фронта к русским, ему помогли в этом дерсимские курды.
— Он сам на курда похож, — сказал один из нас, и все засмеялись.
Поль, студент-медик, был родным братом Вардапета. Война в Европе окончилась, и Вардапет уехал в Италию, чтобы договориться о переводе нашей школы в Венецию.
— Пойди представься Баграту и разузнай, что к чему, — стали меня убеждать мальчики.
Когда я пошёл в сад и представился ему, он предложил мне пройтись.
— Расскажите мне о себе и школе, — сказал он. — Сколько вас здесь, чем интересуетесь, чем занимаетесь? Вардапет показывал мне ваш школьный журнал.
— Больше всего нас из Трапезунда, и все мы сироты. К нам присоединилось несколько новичков из Карса, Битлиса, Краснодара. Четверо из нас — в старших классах, остальные в средних и младших. Несколько мальчиков оставили школу, ещё несколько — умерли от тифа, я тоже тяжело его перенёс, и сейчас нас всего тридцать два человека. Ведём замкнутый образ жизни. Вардапет не хочет, чтобы общение с внешним миром отравляло нас. — Тут он улыбнулся. — Ейск — мрачный город. Здесь ничего, кроме ветряных мельниц и гусей нет. Зима выдалась холодная, даже Азовское море замёрзло. Мы живём по-монашески. Монастырская дисциплина не меняется вот уже двести лет. В день два раза ходим в церковь. В столовой и в комнатах тишина. Попусту теряем здесь время до переезда в Венецию.
— Терять время в таком саду, да ещё весной! — Он втянул в себя чистый после дождя воздух. На вишнёвых деревьях птицы устроили пир, листья блестели от дождевых капель.
— Хоть бы книги хорошие были! — сказал я.
— Перед тобой самая мудрая книга — книга Природы. — Баграт Еркат остановился и отломил ветку вишни. — В ней хранятся все тайны и чудеса Природы и Жизни. Я бы предпочёл такой сад всем книгам Европы.
Он вытащил из кармана кожаной куртки рукопись:
— Я только что это написал.
Он выпятил грудь и стал читать зычным торжественным голосом. Это было длинное философское стихотворение, написанное ямбом. Я не всё понял, но стихи звучали совсем как печатные. Я проникся уважением к Баграту. Да он гений!
— Ну как? — спросил он, закончив читать.
— Чудесно! — воскликнул я, глядя на него с восторгом и изумлением.
Он спросил меня о цели в жизни.
— Стать хорошим человеком, — сказал я. Он ухмыльнулся.
— Что значит «стать хорошим человеком»? Ты знаешь, что такое «хорошо»? Как ты это себе представляешь?
— Хорошо то, что… что с нравственной точки зрения достойно похвалы и угодно Богу, — сказал я запинаясь.
— «Похвально с нравственной точки зрения!» «Угодно Богу!» Всё это глупые религиозные предрассудки.
— Вы — большевик? — спросил я, потрясённый.
— Нет, конечно.
— Тогда почему вы так говорите о Боге?
— Потому что Бога нет. Бог — это миф.
Так он атеист! Но мне было лестно, что он говорил со мной не как с четырнадцатилетним мальчишкой, впервые надевшим длинные штаны, а как со взрослым, вполне созревшим человеком.
— Если не Бог создал человека, тогда кто же? — спросил я. — Разве может что-либо возникнуть само по себе, из ничего?
— Основные законы возникновения жизни всё ещё продолжают оставаться тайной, но религия ничего общего с разрешением этой проблемы не имеет. Только наука может дать нам правильный ответ. Сотворение мира по Библии — попросту сказка. Читай геологию, дарвинизм!
— Но у человека есть душа, — продолжал я настаивать. — Человек не просто какое-то животное или ископаемое.
— Никакой души не существует. Душа — это качество тела, такое же материальное.
— Тело умирает, а душа — нет.
Баграт Еркат бросил ветку и, подняв с земли палку, стал ею что-то чертить на песке.
— Тело тоже может стать бессмертным, — сказал он задумчиво. — Я не собираюсь умирать. И знаю, что буду жить вечно. Я отказываюсь признавать существование смерти и болезней. Я тоже болел тифом, но в постель не лёг, а продолжал делать каждый день зарядку. Забудь ты о своих нравственных идеях и сосредоточься на совершенстве не души, а тела. Посмотри на меня. Видишь, какие я себе развил мускулы!
Он согнул руку, и я с завистью потрогал его мускулы. Сложен он был как цирковой борец.
— Я научу тебя развивать мускулы, — пообещал он. Я был весь кожа да кости.
— Христианство, будучи отрицанием жизни, пыталось уничтожить тело, — продолжал он. — Религия — продукт больных умов. Доброта, благодеяния, любовь и жалость — для рабов, для толпы. Только сильные бывают добрыми. Задумайся над этимологией нашего слова «бари» — добрый. Оно происходит от слова «ари» — смелый, доблестный. Христианство явилось самым большим бичом нашего народа. Священники — мефистофелевские обманщики. А Вардапет — самый умный из них, типичный иезуит. Но я его перехитрил. — Баграт Еркат фыркнул. — Как только он увидел мои опубликованные стихи, он взял меня на работу. Я пришёл сюда, чтобы раскрыть вам глаза. Вы живёте, как в средневековье. Я не христианин. Если мне нужно будет перейти реку и не окажется моста, я, не колеблясь, построю его из тел моих соотечественников.
Баграт Еркат перевернул мой мир. Неужели я всю жизнь был обманут? Я стоял на краю пропасти: мир, каким я его знал, превратился в нечто призрачное. Этот человек пугал, отталкивал меня, но, как ни странно, и притягивал. В его идеях, диаметрально противоположных тому, чему меня учили, и во что я верил, таилось какое-то волшебство.
Я сообщил об этом разговоре своим товарищам, и они были поражены даже больше, чем я.
Баграт взял нас днём на пляж, и мы, четверо старшеклассников, шли за ним, как четыре его последователя. Красивым стилем доплывал он до середины Ейского залива и возвращался. У него было геркулесовское телосложение.
Хорошенькая русская девушка с накрашенными щеками и губами гуляла по пляжу, вертя в руках зонтик. Она старалась привлечь его внимание, бросая на него кокетливые взгляды, но он оставался безразличным. Мне она казалась бабочкой, феей русской весны.
— Почему бы тебе не подмигнуть ей? — спросил я его. — Разве не видишь, что ты ей нравишься?
— Любовь — это слабость, болезнь. Любить женщину — значит дать ей овладеть собой, а любая зависимость подобна цепям для свободного человека. — И он снова пустился в рассуждения о том, как важно быть сильным и твёрдым.
Баграт Еркат стал нашим кумиром. Мы, четверо «старших» мальчиков, вставали с ним за час до утреннего звонка и неистово упражнялись на открытом воздухе, копируя каждое его движение. Он выработал систему гимнастических упражнений для развития всех мышц тела, начиная с глаз и кончая пальцами ног. После гимнастики следовало холодное обтирание мокрой губкой. Затем мы прогуливались с ним по саду, а он читал нам стихи. Просил сравнивать свои стихотворения с произведениями Гомера, Гёте, Данте, Виктора Гюго. Яркие лучи солнца падали на его обнаженную грудь, а он воспевал себя в метафизических строфах, провозглашая наступление власти бессмертного человека. Эти провидческие тирады возносили нас на высоты Олимпа. Мы казались себе греческими философами, гуляющими в саду Академии.
Однажды он признался, что явился к нам с определённой миссией.
— Человек сможет считать себя богом, если станет хозяином своей судьбы, а не просто результатом творчества сверхъестественных сил. Я представляю тайную мировую организацию, которая была создана вначале в Германии, а потом распространилась по всем странам, — общество сверхлюдей. Если хотите, можете стать его членами. Из рабского, низшего класса вступить в высший класс сверхлюдей. Поскольку мы выступаем против всех существующих государств и религий, нам приходится действовать тайно. Ницше был первым, кто дал общее представление о богочеловеке посредством своей доктрины сверхчеловека, — объяснил он. — Благодаря постоянному самоусовершенствованию, физическому и умственному, развитию всех истинно аристократических качеств — железной воли, беспощадности, ненависти к толпе и грубой силе — мы сможем стать бессмертными, — утверждал он. — Нет никаких оснований полагать, что живая материя обречена на гибель. Помещённая в особую среду человеческая ткань никогда не теряет жизнеспособности. Это доказано немецкими и американскими учёными, — сказал он. — Смерть вовсе не обязательна.
Это казалось довольно логичным.
Он предложил нам поехать с ним в Константинополь, а то в Венеции нам ещё целых четыре года выносить церковь и молитвы. Религиозное воспитание уже превратилось для нас в пытку.
И тогда мы, четверо старших, инсценировали бунт. Однажды утром, когда Баграт Еркат зазвонил к подъёму, мы не обратили на это никакого внимания. Мальчики построились в ряд, а мы, болтая и смеясь, отошли в сторону. Он зазвонил снова. Мы вновь не прореагировали.
— Ну что ж, — процедил сквозь зубы Баграт. — Придётся доложить о вашем неподчинении Полю.
— Иди, докладывай, — сказали мы и весело запели:
Frére Jacques, Frére Jacques, Dormez-vous, dormez-vous? Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding-dang-dong, ding-dang-dong![19]Он увёл остальных мальчиков с собой и, вернувшись через несколько минут, подмигнул нам и сказал громко:
— Эй вы, глупые софисты! Поль в кабинете Вардапета и хочет поговорить с вами!
С пением и криками, словно пьяные, — а мы в самом деле опьянели от радости, что бунтуем после трёх лет монашеской дисциплины, — вошли мы в кабинет. Поль сидел за столом Вардапета, держа перед собой толстую книгу по анатомии на русском языке, и очень старался придать себе важный вид. Ему исполнилось двадцать, и он готовился изучать медицину в Падуе.
— Что означает весь этот шум? — спросил он. — Если у вас есть жалобы, почему не предъявляете их мне? Хороший пример вы подаёте младшим!
Мы смутились, не зная с чего начать и что ему ответить. Поль нам нравился. Мы дружили с ним; он многое для нас сделал. В подобной ситуации требовалось большое красноречие.
— Мы разорвали средневековые цепи, опутавшие наши умы, и хотим жить как хозяева своей судьбы! — прокричал я как матрос на митинге. — Сейчас не десятый век, а двадцатый! Долой религию! Да здравствует наука!
Арсен, самый старший из нас, — у него уже пробивался первый пушок, — ударил кулаком по столу Поля:
— Дайте нам по двести рублей и свидетельство об окончании с хорошими оценками, да побыстрей! Хватит с нас ложного образования!
Арсен никогда не получал хороших оценок, он был плохим учеником. Но сейчас это был лев рыкающий. Заговорил Ваган:
— Мы открыли для себя истину и отныне отказываемся верить в ложь! Век мефистофелевской лжи окончен. — Он покраснел. Он всегда краснел. В последнее время руки и ноги у него стали очень длинными, на лице появились прыщи. Ему было пятнадцать лет. До приезда сюда он посещал французскую школу.
— В век просвещения и разума… — запальчиво начал было мой брат Оник, но Поль прервал его:
— Вы что, мальчики, с ума сошли? — Он откинулся на спинку стула и, прищурившись, стал нас изучать.
— Нет, просто образумились, — сказал я.
— Мы оставляем школу и переезжаем в другой город, — сказал Оник.
— Какой город, где? — спросил Поль, проводя рукой по чёрным блестящим волосам.
— Мы не можем этого тебе сказать, — ответил я.
— Это наше сугубо личное дело, — сказал Арсен с таким видом, будто собирался разнести весь мир на части. Ему было хорошо: уроков больше не будет.
— Вы не хотите поехать в Венецию? — спросил Поль.
— Нет! — хором закричали мы.
Поль покачал головой. Он поднялся из-за стола и, сунув руки в карманы, стал ходить взад-вперёд по комнате. Обладатель прекрасного баритона, высокий, красивый, одетый с иголочки Поль был выпускником реальной гимназии. В отличие от своего брата-священника он был человеком вполне мирским, любил цыганскую музыку и вино. Мы знали, что он тайком встречается с русскими девушками. Он не стал спорить с нами о боге, но тщетно пытался убедить нас, что мы губим своё будущее, не осознаём, что мы самые счастливые мальчики в России. Поль напомнил нам, что мхитаристская конгрегация намерена оплатить нашу учёбу в лучших университетах Италии и Франции, что мы могли бы стать докторами, адвокатами, инженерами. Уже через три месяца мы будем в Венеции, там вдоволь еды, в то время как в России миллионы людей голодают.
Мы отказались слушать его, потому что уже решились. В конечном итоге он дал нам денег и свидетельства с завышенными оценками. Мы думали, что эти оценки понадобятся для поступления в другие школы. Поль был ошеломлён и обижен. По выражению его лица было видно, что он подозревает Баграта Ерката в подстрекательстве к бунту, но он ничего об этом не сказал.
Когда мы уходили, малыши плакали: ведь мы росли вместе. Мы им сказали, что позже попытаемся установить с ними связь. Нашей непосредственной целью был Ростов, где к нам должен был присоединиться Баграт Еркат. Он хотел дождаться возвращения Вардапета и под каким-нибудь предлогом отказаться от работы. Мы побросали свои пожитки в дорожный сундук Вагана и сели на поезд, направляющийся в Ростов. Мы раз и навсегда избрали путь на вечном пиру жизни.
В Ростове мы жили в комнате без мебели, спали на голом полу и голодали, истратив полученные от Поля деньги. Ваган предложил продать сундук — единственную нашу ценность, стоимостью, наверное, в пять рублей. К сундуку он питал сентиментальную привязанность, поскольку в нём когда-то находилась ботаническая коллекция его отца, которую Ваган помогал собирать ещё до резни в Трапезунде.
Но кто его продаст? Торговлю мы считали делом недостойным. Мальчики набросились на меня и заявили, что продавать должен я, словно у меня нет никакой гордости. Меня это сильно разозлило. Арсен иронически напомнил, что я когда-то любил декламировать социалистические стихи: «Дайте дорогу, мы идём, мы рабочие, в грязи и копоти». Настало мне время доказать на деле свои симпатии к пролетариату.
— Вы должны быть расстреляны Советами рабочих и крестьян! — сказал я.
— Так и быть, расстреливай, только дай нам поесть сначала, — сказали они.
Я потащил сундук на базар. Казачки в платках, стоя перед лотками, громко восхваляли достоинства своих товаров — помидоров, огурцов, арбузов и дынь. Пока я обдумывал, как же быть, чтобы меня услышали в этом разноголосом шуме, меня осенила блестящая идея: выдать сундук за американский.
— Американский сундук, очень дёшево, всего за пять рублей, граждане, американский сундук! — кричал я что есть мочи.
Через несколько минут вокруг меня собралась целая толпа, разглядывая, трогая, проверяя сундук, а я между тем продолжал оживлённо торговаться, в уме говоря им: «Вы не знаете, рабы, кто я! Я полубог и никогда не умру!»
— Не стоит покупать, — обратился к толпе пожилой мужчина. — Сундук немецкий.
— Разве он из картона, что вы говорите «немецкий»? — закричал я.
— Граждане, пощупайте его руками, посмотрите, как прочно он сделан — из настоящего американского материала! Второго такого вам не сыскать в России. Его изготовили в Нью-Йорке. Это подарок американского офицера. Я — студент, говорю по-английски. Кто-нибудь из вас знает здесь английский? Vat ees dees? — сказал я на своём ломаном английском в объёме четырёх уроков школы Берлица. — Eet ees a book, a pen, a vindo, a door. I have, you have, he, she, eet has, we have, you have, they have. I am, you are, he, she, eet ees, we are, youare, they are. All right, goddam![20]
У них не осталось ни малейшего сомнения, что я свободно говорю по-английски, что сундук не немецкий, а американский. На самом деле он был турецким.
Какая-то казачка купила сундук для приданого дочери, которая собиралась замуж. Девушка эта с загорелым лицом, сверкающими белыми зубами и роскошной грудью казалась олицетворением русской деревни. После шумных и долгих торгов мы сошлись на одиннадцати рублях. Я вернулся домой, нагруженный хлебом, сыром, помидорами, огурцами и божественной дыней.
Через несколько дней мы вновь голодали и были вынуждены носить на вокзале вещи. Я даже газеты продавал на улицах. Полубоги в роли носильщиков — это было ужасно!
Мы пали духом, но тотчас же воспряли, когда через несколько недель в Ростов приехал Баграт Еркат. У него было немного денег. Вардапет в Венеции так превознес нас, что обеспечил перевод нашей школы в Италию. Однако, вернувшись в Ейск, не застал там своих лучших учеников…
Первое официальное собрание общества сверхлюдей состоялось под председательством Баграта Ерката. Вынесли резолюцию, назначили комитеты, включая и террористический, куда вошли только Арсен и я.
— Законы нашей организации предполагают смертный приговор любому, кто встанет нам поперёк дороги или предаст нас, — сказал Баграт Еркат. — Убийство — вполне определённое оружие в наших руках. Изменнику не удастся уйти. У нас даже в Америке есть комитеты.
Я встал и заверил его, что готов убить любого, кого мы осудим на смерть. Но душу мою обуял дикий страх. Нас заманили в ловушку. Мы вставали на преступный путь. Еркат обязан был предупредить нас об этих убийствах ещё в Ейске.
— Никто не знает моего настоящего имени, — сказал он. — У меня много имён. Если мне захочется завтра исчезнуть, никто меня не разыщет.
И в самом деле, мы ничего не знали ни о нём, ни о его прошлом. Он был таинственной личностью. Время от времени он туманно ссылался на своего отца, но в основном говорил так, будто у него вообще никогда не было родителей, будто он не от смертных родился. Он не признавал никаких семейных и национальных уз: был предан только обществу сверхлюдей. В его руках мы превратились в марионеток и потеряли способность самостоятельно мыслить. Он заворожил нас. Я не знал, какие дьяволы-немцы стояли за его спиной, но был уверен, что в конечном итоге он сосредоточит всю власть в организации в своих руках. Единственно умным и предусмотрительным решением для меня было поддерживать с ним хорошие отношения до тех пор, пока я не решусь на окончательный разрыв.
Последняя схватка состоится между нами двумя, думал я и живо представил, как мы схватимся в титанической борьбе на земле и в небе, словно в древней битве между Агурамаздой и Ариманом[21], духами добра и зла. Но я одолею его. Мне казалось, что окончательное торжество добра — судьбы мира! — зависело от меня. Внешне я оставался его последователем, но внутренне готовил планы захвата крепости изнутри и сокрушения общества сверхлюдей.
По утрам мы поднимались ровно в половине шестого и бежали полуголые на утреннюю зарядку в лес на окраине Ростова. Мы стали солнцепоклонниками: Баграт Еркат посвящал Солнцу стихи. После скудного завтрака из хлеба, огурцов, помидоров, а порой и дыни, мы изучали «Происхождение человека» и «Происхождение видов» Дарвина и критиковали, согласно диалектике самодеизма, толстый научный том «Истории армянской ортодоксальной церкви», разоблачая все её мифы и обманы. Занятия трудно давались Арсену. Он старался не отставать от нас, но мы продвигались очень быстро, поглощая в течение нескольких дней целые эпохи человеческих познаний. Я много самостоятельно читал: «Философию истории» Гегеля, «Фауста» Гёте, Шопенгауэра, «Нравственное самоусовершенствование» Сэмюэля Смайлза[22]. Последняя книга вызвала бы презрение Баграта Ерката, ознакомься он с её содержанием, а для меня она стала новым путеводителем в жизни. Я выписывал оттуда афоризмы и максимы на тему морали и узнал много поучительного из жизни Гёте, Ньютона, сэра Вальтера Скотта, Фарадея, Бюффона и других великих людей, сравнивая себя с ними, когда они были в моём возрасте.
Мы развесили на улицах объявления, предлагая свои услуги в качестве учителей французского, итальянского, современного и классического греческого, армянского, немецкого языков, естественных, математических и общественных наук, философии, фребелианской педагогики, шведской художественной гимнастики, скрипки и пения. Непревзойдённый надуватель, Баграт Еркат любил высокопарные фразы. Это наше Бюро учителей было его идеей. Он настоял на том, чтобы в объявлениях мы писали «математических наук», а не просто «арифметики». Никто из нас даже алгебры не знал.
Мы заполучили двух учеников, которых отдали мне. Родители двенадцатилетней девочки хотели натаскать её по арифметике. Я и простейших задач решать не мог. Нo я заворожил её своей речью и самоуверенными манерами, притворяясь математическим гением. Моя ученица была так застенчива и скромна, что даже не осмеливалась исправлять мои ошибки.
Другой моей ученицей была девочка постарше, почти моего возраста. Её звали Анаид. Я учил её французскому. Полногрудая мамаша, чтобы нас не беспокоить, закрывала двери и оставляла в комнате одних. И тогда как бы невзначай я касался под столом колен моей ученицы, а когда она поворачивала голову, её pacnyщенные волосы задевали мою щёку, вызывая приятную щекотку. Мне хотелось поцеловать её, но я ещё никогда не целовал девушку и не знал, как приступить к делу. Вардапет говорил, что даже смотреть на женские ножки — грех. Мы были самыми целомудренными мальчиками в России.
Анаид посещала женский клуб. Одна из подружек, поэтесса с мальчишескими ухватками, влюбилась в Оника. С присущей русским девушкам смелостью она писала ему страстные письма и просила прийти на свидание в аллею влюблённых на берегу Дона, умоляя взять с собой скрипку, чтобы насладиться его «божественной игрой».
Баграт Еркат созвал чрезвычайное совещание, чтобы обсудить отношение нашего братства к обожательнице Оника. Она представляла серьёзную угрозу аскетическому сообществу. Мы разрешили Онику пойти на свидание с этой дерзкой девчонкой-литератором при условии, что он будет вести себя как подобает сверхчеловеку. А эту уступку мы сделали потому, что она отлично сочиняла, у неё был свой стиль.
Оник взял скрипку и пошёл. Но о том, что произошло на берегу Дона, в аллее влюблённых, он так и не рассказал. А мы его и не спрашивали.
Даже я вошёл в роль романтического героя. Анаид меня портила. Её клуб пригласил нас с Оником на экскурсию. Мы сходили в армянский монастырь, усыпальницу литераторов. Там были похоронены Микаэл Налбандян и Рафаэл Патканян.[23] Затем мы пообедали на свежем воздухе и стали играть в разные игры.
Вечером, возвращаясь домой, мы оказались с Анаид одни. Остальные девушки прошли с песнями вперёд. На голове у Анаид красовался венок из полевых цветов, и она казалась частицей этого чарующего летнего вечера. Мы пошли напрямик через пшеничное поле. Она указала на луну.
— La Lune, n’est-ce pas? — сказала она.
— Oui c’est la belle Lune de la Russie.[24]
Неожиданно она метнулась в сторону, как молодая лань, бросая мне вызов поймать её. Я так и сделал, промчавшись за ней почти по всему полю. Вдруг послышалось хлопанье крыльев — это из-под ног вылетела куропатка. Анаид вскрикнула и бросилась ко мне.
— Трусиха! — сказал я, поймав её в объятия. Но я поскользнулся, и мы скатились вниз по склону колючей пшеницы.
— Спасибо, — сказала она, когда я её поднял. А поскольку она стояла тихо, прильнув ко мне, я дерзко обнял её, крепко прижимая к себе. Я думал, она даст мне оплеуху и поразился, когда она позволила обнять себя ещё крепче, ровно столько, сколько мне хотелось. Ни слова протеста. Вспомнив, однако, что любовь — это слабость, недостойная сверхчеловека, я выпустил её из объятий, оттолкнул от себя. Я даже не попытался поцеловать её.
— Ты — опасна, — сказал я.
— Опасна? — Она, казалось, обиделась. Потом разгладила руками юбку, поправила волосы, надела венок, и мы продолжили свой путь через пшеничное поле слишком взволнованные, чтобы говорить.
Мы исключили из общества Арсена за игнорирование священного ритуала утренней зарядки и за явное нежелание становиться сверхчеловеком. Мы и раньше его не особенно жаловали и знали, что интеллектуального совершенства, необходимого сверхчеловеку, он никогда не достигнет. Баграт Еркат изгнал его. Арсен мне впервые стал нравиться: ведь он фактически бросил вызов «обществу сверхлюдей». Мы осыпали его бранью и наемниками, а он принял всё, не проронив ни слова, хотя был самым сильным мальчиком нашей школы. Это явилось началом падения Баграта Ерката.
Необходимые для поездки в Константинополь деньги мы собрали со своих ростовских соотечественников. Теперь, когда наша казна была почти полна, надо было поехать в Ейск, чтобы «спасти» тех многообещающих новичков, которых после нашего отъезда Баграт Еркат обратил в свою веру. Эту деликатную и рискованную миссию возложили на Оника. Поцеловав Вардапету руки, Оник притворился, будто полностью раскаивается, и добился его благосклонности. Его снова приняли в школу. Вардапет надеялся, что и мы тоже последуем примеру Оника. Он знал, что причина всей этой смуты — Баграт Еркат и так боялся его влияния, что ходил с заряженным пистолетом в кармане. Через несколько дней Оник сбежал, уведя с собой семерых новичков, и наше общество сверхлюдей в Ростове пополнилось новыми членами.
Я не знал, что думали о нашей организации мои товарищи. Мы не решались обсуждать это, когда бывали вместе. Но я страдал и мучился, мне недоставало союзников. Если бы я показал своё истинное лицо, Баграт Еркат мог приговорить меня к смерти. Невозможно было предугадать, на что он способен, и я боялся его. Даже если бы я сбежал в Америку, он стал бы преследовать меня через местный комитет этой зловещей всемирной организации. Куда бы я ни поехал, попаду им в лапы.
Но постепенно мы, трое старших, начали сомневаться в существовании подобной организации и заподозрили, что Баграт Еркат дурачит нас. Тогда мы стали готовить против него заговор. Найдя союзников — новички были не в счёт, они слепо следовали за старшими — я перестал его бояться.
Но нам нужно было держаться вместе: общий паспорт для выезда из России находился у Баграта Ерката. Даже в этом вопросе мы предоставили ему роль лидера. В нём было и человеческое обаяние: иногда Еркат бывал очень остроумен. Он мгновенно сочинял стихи, где бы ни находился — на улице, в государственном учреждении, в магазине, а затем громко зачитывал всем, кто желал послушать. Одни стихи он посвятил чиновникам паспортного отдела, другие — работникам билетной кассы, ещё несколько стихов — загадочной девушке, сидящей у окошка этажом выше нас. Она стала девушкой его поэтической мечты. Чувственности в этом не было.
Проведя три бесшабашных месяца в Ростове, мы поехали в Новороссийск. Азовское море с его ровными берегами и мелководными бухтами было истинно русским, а Чёрное море — нашим морем. Здесь даже воздух вызывал тоску по Трапезунду, по высоким сосновым лесам Понтия. Мы вновь увидели горы. Отсюда начиналась оконечность Кавказского хребта.
Мы видели, как Вардапет с оставшимися малышами и Полем поднимаются по трапу на пароход, отплывающий в Венецию. Как мне хотелось уехать с ними! К этому времени я осознал свою ошибку, но был слишком горд, чтобы признаться в этом Вардапету.
Нвард и Евгине всё ещё были в Новороссийске с доктором Метаксасом. Рядом с чистенькими сёстрами мы с Оником выглядели настоящими оборванцами. Доктор отослал свою семью в Афины и намеревался позднее присоединиться к ней. Мы наврали им с три короба о том, что и в Константинополе получим прекрасное образование.
Отплыли мы на русском танкере и нам пришлось претерпеть в море много неудобств. Почуяв нашу скрытую враждебность, Баграт Еркат держался обособленно. По приезде в Константинополь мы расстались с ним, так и не выяснив, кем он был на самом деле.
Армянские власти послали нас в Западную Бутанию в недавно открывшийся приют в монастыре Армаш около Измида. Путешествуя по лесистым холмам Бутании, мы миновали древнюю Никею. Здесь, под этим самым небом, отцы церкви решили, что в лице скорбного Христа они открыли наконец тайну бессмертия. Но не было ли и это иллюзией? Мне было грустно, ужасно грустно. Как бы я хотел, чтобы люди могли возвыситься до совершенства и бессмертия полубогов. Даже зная, что Баграт Еркат обманул нас, я отдал бы всё, лишь бы верить, что всё, сказанное им, — правда.
Трагедия человека, борющегося против своей судьбы… Наш бунт против Бога был ни чем иным, как выражением этой всеобщей бесплодной борьбы. Но та вера в Бога, какой обладали отцы церкви, тоже возникала из бунта против человеческой судьбы. В чём различие между верой и неверием? Я его не ощущал. Мне казалось, что человек противостоит небесам и, зажатый в стенах собственной судьбы, тщетно ломится в невидимую дверь своей тюрьмы. Баграт Еркат и я были собратьями по тюрьме, тщетно стучавшимися в её дверь. Он тоже превратится в прах, во что бы там он ни верил. Мысленно я возвёл его на пьедестал героя, скорее героя-клоуна, бросившего вызов смерти и жаждущего всё того же бессмертия, что и древние отцы церкви, которые умерли с этой мечтой под этим самым небом.
Взглянув на лица своих товарищей, я прочитал те же мысли, то же горькое разочарование, ту же огромную жажду и тот же вопрос. Мы молча брели по улицам, и опавшие листья шелестели у нас под ногами.
Глава пятнадцатая ПАЛОМНИЧЕСТВО К АРАРАТУ
Монастырь Армаш расположился на холмах анатолийского берега Мраморного моря. После двух лет жизни в России я особенно остро ощущал очарование и красоту этого края, где воздух, как в Трапезунде, отдавал благоуханием античности.
Невольно вспоминалась миграция древних племён — армены, фригийцы, пересекающие Босфор на пути из Фракии в Бутанию, покорившие и ассимилировавшие горбоносых хеттов, империя которых соперничала в величии своём с Вавилоном и Египтом… Ясон с аргонавтами, плывущий к Трапезунду в поисках золотого руна… Направляющаяся по этим холмам к Геллеспонту разношёрстная армия Ксеркса… Колесница Митридата Великого, царя понтийского; одетая в броню кавалерия царя царей армянских Тиграна Великого, атакующая римские легионы Помпея… Праведные отцы церкви, идущие по этим извилистым тропам в Никею на церковный собор.
В Константинополе сменялись султаны и политики, творящие кровавые злодеяния, а земля эта оставалась древней и благородной.
Большинство вардапетов армянской церкви, живущих за пределами России, получали образование в Армаше. Ныне профессора и студенты этой знаменитой семинарии были депортированы, а всё имущество и добро монастыря — конфисковано. Заброшенный за эти годы большой земельный участок возделывался теперь нами, сиротами, с большим энтузиазмом. По утрам мы учились, днём работали на участке — нас обучали земледелию для работы в Армении. Наша воскресшая родина нуждалась в агрономах больше, чем в докторах теологии.
С кратким визитом и инспекцией приехал из Константинополя наш американский попечитель: одетые в форму бойскаутов, мы приветствовали его и спели американский национальный гимн. Мы все были теперь бойскаутами.
Крестьян Армаша депортировали, но многие из них вернулись в свои дома, и деревня ожила. Турецкое правительство по различным причинам снисходительнее отнеслось к армянам, жившим в Константинополе и в ближайших районах. Крестьяне вновь возделывали свои поля и пасли стада. По воскресеньям молодёжь устраивала на поляне пляски под игру кяманчи, волынок и барабана. Они танцевали по кругу, очень грациозно смыкались и размыкались, мужчины — величаво-воинственно, женщины — как бы мгновенно повинуясь им вихрем шёлковых юбок, ритмично постукивали бархатными туфельками с серебряными пряжками, их тёмно-красные и синие бархатные блузы стесняли пышные груди. Крестьяне вернулись к нормальной жизни. И, подобно нам, хотели уехать в Армению, стать свободными гражданами двухлетней республики у подножия горы Арарат. Их предки веками жили в Бутании, но зов Айастана[25] был сильней.
В этой истинно армянской деревне было несколько чиновников-турок: мюдир (староста), полицейский, почтмейстер, имам в зелёном тюрбане потомка великого пророка. Это были добродушные, незлобивые люди, и делать им было нечего, кроме как попивать кофе, играть в нарды и читать турецкие газеты. Армаш был подведомствен правительству нового, просоюзнически настроенного султана и раскаявшейся в злодеяниях прошлого администрации, подобранной из политиков старого закала. Лидеры Иттихата бежали из страны. Великий визирь Талаат-паша скрылся в Берлине, где его вскоре застрелит студент-армянин.
Моя озабоченность судьбой Армении переросла в манию: я думал о ней день и ночь. Во время работы на монастырском участке, просыпаясь по утрам, ложась спать, умываясь, во время еды — пища была скудной, мы часто голодали — я всегда мысленно держал речь перед Верховным Советом союзников в Париже и на сессии Лиги Наций в Женеве.
Союзники заключили с престарелым правительством султана Севрский мирный договор, одной из подписавшихся сторон которого была Армянская республика, представленная поэтом Аветисом Агароняном. По этому договору Оттоманская империя, признавая Армению свободным и независимым государством, согласилась соблюдать решение президента США, который должен был провести чёткую пограничную линию между Оттоманской империей и Армянской республикой в спорных провинциях Вана, Битлиса, Эрзерума и Трапезунда.
Греки претендовали на Трапезунд, но Венизелос[26] согласился уступить его Армении. Среди греков началось движение за создание Эллинистической республики Понтия, которое турки пытались подавить массовыми казнями и кровавой резнёй. Сотни греческих деревень были уничтожены бандами чете некоего Топала Османа — головореза, ставшего вторым Тамерланом для понтийских греков. Были повторены методы армянской резни с целью оттереть греков с побережья Чёрного моря, отчасти в отместку за оккупацию греками Смирны.
Тем временем по всему побережью Мраморного моря происходили столкновения между двумя основными силами турок. Войска султана, не желающие воевать под командованием отупевших от старости и подагры черкесских пашей, постепенно отступали под натиском партизанских банд Кемаля.
Мы охраняли свои монастырские усадьбы днём и ночью, и несколько месяцев жили как в осаждённой крепости. Тайно переправив из Стамбула ружья и боеприпасы, наши инструкторы организовали самооборону деревни. Некоторые студенты раньше служили в турецкой армии или учились в турецких военных школах. Мы были готовы к отпору, если на нас нападут. Наш временный директор господин Торгомян, приехавший из Парижа, давал нам указания с оружием в руках, и каждому мальчику было дано особое задание. Мы жили в постоянной тревоге.
Однажды в монастырь пришёл просить приюта молодой черкес, утверждая, что он с Кавказа и ему негде жить. Его приютили, но, подозревая, что он турок и шпион Кемаля, назначили меня следить за каждым его шагом, поскольку я знал русский и был знаком с «кавказскими штучками». Я подружился с ним. И хоть я был уверен, что это шпион, — он всё старался выведать, какие у нас силы и сколько оружия, — я не мог не симпатизировать ему. Его приветливая улыбка, обходительность и красота располагали к себе. Побыв у нас три недели, он так же таинственно исчез.
Когда британское войско ушло из Измида, наши позиции в Армаше ослабли. Через восемь месяцев мы вынужденно покинули с такой любовью возделываемые поля — отличную фасоль, помидоры, лук, картофель, почти готовые к уборке, и вернулись в Константинополь, где, по крайней мере, сносно прожили несколько месяцев в здании турецкой военной школы в Бейлербее, предоставленном нам по требованию британских должностных лиц. Школа располагалась рядом с дворцом Бейлербей, куда был заключён в своё время султан Абдул Гамид.
В сопровождении какой-то армянки приехала из Новороссийска моя младшая сестра Евгине, «чтобы посещать школу». Пока мы были в Армаше, её устроили в приют, и она ходила в американскую женскую школу в Скютери. Евгине была хрупким созданием, и ей ещё не пришлось познать голода и лишений приютской жизни.
— Я первая в классе, — гордо заявила она, когда мы с Оником навестили её. Но на сердце у нас было тяжело. — Я научилась читать и писать по-английски — ну разве это не чудесно? — Она похудела, побледнела, видно было, что недоедает.
Я просил её не утомляться.
— Лучше быть последней в классе, но зато здоровой и крепкой.
— Разве вы не хотите, чтоб я стала образованной? — Она обиделась.
— Конечно, хотим, — отвечал я, — но будь равнодушнее к занятиям, как другие девочки. Меньше занимайся и не старайся всех превзойти.
Доктор сказал, что Евгине анемична, у неё слабые лёгкие, и запретил ей петь в хоре. Евгине любила петь и уже выучила несколько американских песен.
После подписания «мира» организация «Армянское Национальное Освобождение» решила отправить нашу сельскохозяйственную школу в Армению. Мы должны были стать первой группой репатриированных. Оник хотел остаться в Константинополе из-за Евгине; к тому же он брал бесплатные уроки скрипки у известного педагога, и жаль было от них отказываться. Он перебрался в другой приют.
Я собирался в Армению, как на войну: Оник, Евгине и я сфотографировались — может случиться, я никогда их больше не увижу. Наша новорождённая республика была со всех сторон атакована врагами, а её население умирало от голода и эпидемий.
Все мы, двести пятьдесят человек в бойскаутских формах, на французском пароходе отплыли в Батум. Анатолийское побережье Чёрного моря находилось уже в руках Кемаля, и как только Босфор остался позади, мы очутились в неприятельских водах.
В одном маленьком прибрежном городке в средневековых большеносых челнах — какие-то морские верблюды! — навстречу нам приплыли турецкие мальчишки продавать виноград, сливы и груши.
Наутро третьего дня мы вышли из Трапезунда.
— Господа, мы уже в исторических водах Армении! — торжественно провозгласил господин Торгомян.
Море здесь казалось нам иным, оно же было нашим! Интересно, что сейчас поделывает Нурихан — если он жив. Мы с ним переписывались после того, как расстались в России, но уже несколько месяцев от него не было известий. Я грустно вглядывался с палубы в очертания родного города и думал, что же сталось со знакомыми греками. Пристань пустовала, не было ни одного парохода.
На следующее утро мы вошли в Батумскую гавань, пристань которой оказалась очень оживлённой. Совершенно другой мир. Таможенные чиновники — флегматичные грузины — методично проверили наш багаж, не обратив ни малейшего внимания на наши формы и прочие принадлежности. В течение двух лет Батум был оккупирован английскими войсками, но они недавно ушли, и грузинские меньшевики завладели этим современным портом, не упуская ни единой возможности, чтобы утвердить свою власть и авторитет.
С криком «Vive la France!» мы попрощались с дружелюбным капитаном и командой нашего корабля.
Развернув огромный флаг с горизонтальными полосами красного, синего и оранжевого цвета, мы зашагали к армянскому консульству в сопровождении барабанщиков и горнистов. Консул произнёс приветственную речь и отвёл нас к грузинскому губернатору, чтобы продемонстрировать ему патриотический дух армянской молодёжи за рубежом. Губернатор оказался волосатым, бородатым мужчиной благородной наружности, некое сочетание князя и пастуха с мечтательными глазами поэта — поистине типичный представитель нации. Он произнёс по-грузински речь, по окончании которой мы закричали: «Гип-гип, ура! Грузия! Грузия! Грузия!».
Отношения между Грузией и Арменией из-за пограничных споров не отличались особой сердечностью, невзирая на общность исторического прошлого, религиозных и культурных связей.
На следующий день мы поехали в Тифлис. Грузинский герб, изображающий св. Георгия, закалывающего дракона, был намалёван на всех пассажирских вагонах. Надписей на русском языке нигде не было. Страна уже не принадлежала России. За два года здесь произошли резкие перемены.
Ещё один парад мы инсценировали в Тифлисе, и наш посол — какое прекрасное слово! — устроил нам банкет в лучшем ресторане города на Головинском проспекте, называющемся теперь проспектом Руставели по имени великого грузинского поэта средневековья. Официантками были светские девицы. Посол — мрачный, некрасивый мужчина с совиными глазами — приветствовал нас от имени нашего правительства спокойной и размеренной речью.
— В эту минуту на высотах Сарыкамыша грохочут орудия! Это Армения воюет с Турцией. Восточная армия Мустафы Кемаля вторглась в нашу отчизну. В такой опасный час армянская демократия осталась в одиночестве…
…Эта новая война явилась для нас новостью.
Нам сказали, что Карс будет держаться, по крайней мере, ещё шесть месяцев. Армянская армия, хоть и насчитывала всего каких-нибудь тридцать тысяч голодных и разутых солдат, сумеет справиться с натиском турецких войск. Мы много читали и слышали о победах армян в Сардарапате, Нахичеване, Олти, Зангезуре и Карабахе.
По дороге к армянской границе мы читали последние номера армянских газет, выходящих в Тифлисе, с ярко-красными заголовками, и обсуждали войну и её последствия.
— Наши войска отступили из Сарыкамыша по стратегическим соображениям, ребята. Когда мы пойдём в контрнаступление, то дойдём до самого Эрзерума.
— Хасанам и Махмудам и в голову не придёт, что их ожидает!
— Вы хотите сказать, что у нас есть большие пушки и бронепоезда?
— Конечно, а что ты думал! У нас — лучшая артиллерия. Два года назад наши лорийские крестьяне голыми руками захватили три бронепоезда.
— Хоть бы Андраник не уезжал в Америку! Он обязан был быть сейчас здесь.
— Что ж это такое, братцы?
— Ребята, этот Кязим Карабекир-паша, командующий турецкой восточной армией, — лучший из турецких генералов. Его нельзя недооценивать. Он очень хорошо обучен. Я видел его в нашей военной школе.
— Генерал Назарбекян в любой момент может перехитрить его искусным маневром.
У армянской границы, находившейся в сорока милях от Тифлиса, поезд остановился. Мы сошли с вагона, и, прощаясь, прокричали: «Да здравствует Грузия!»
— Мы находимся в прекрасном Лори! — восторженно сказал господин Торгомян. — Армянская Швейцария, богатая медными рудниками!
Мы смотрели на лесистые холмы, деревья и скалы, растения и полевые цветы, и сердца наши переполнялись чувствами. Холмы, деревья и цветы здесь не были такими, как в других странах, они были нашими, как-то по родному священными, окроплённые кровью и слезами, песнями и радостью Айастана.
Так, ликуя и преклоняясь перед увиденным, собрались мы в пастушьей долине у станции Санаин.
— Мы ступаем на эту священную землю как свободные армянские граждане, — сказал господин Торгомян. — В каждой пяди этой земли — прах наших предков. В той деревне, что за холмом, в историческом Одзуне захоронен царь Смбат. А посмотрите на этот белый мост: какой изумительный памятник нашей древней архитектуры! Господа, целые поколения армян умерли с мечтой об этом мгновении — стоять на армянской земле, под армянским небом свободными людьми. Так давайте же, — тут его звонкий голос оратора дрогнул, — опустимся на колени и поцелуем священную землю Айастана.
Все опустились на колени и благоговейно поцеловали землю. Это было величайшим мгновением нашей жизни.
После этой церемонии мы взобрались по холму в Одзун. Нас встретили старики деревни в больших овечьих папахах, дымя длинными тонкими трубками, и мы почтительно побеседовали с ними.
Жили они в землянках, точь-в-точь в таких, какие описал Ксенофонт в «Анабасисе» — этом бессмертном повествовании о его отступлении в Трапезунд вместе с десятью тысячами греческих войск. Господин Торгомян объяснил, что приверженность наших крестьян к землянкам, которые я видел впервые, связана с суровыми армянскими зимами. В ответ на наше «Привет вам, соотечественники», крестьяне отвечали «Привет вам, тысяча благословений». Они всякий раз прибавляли к приветствию «тысячу благословений», в отличие от нас. Мне это показалось особенно трогательным. Я уже прикинул про себя, где будет размещаться сельскохозяйственная школа, которую я собирался основать здесь.
Одзун, эту лучшую часть кавказской Армении, пытались отвоевать грузинские меньшевики, хотя во всём Лори не было ни одного грузина. Это была исконно армянская земля.
Крестьяне показали нам деревенскую церковь, построенную в IX–X веках, и могилу царя Смбата. Тысяча лет прошло с тех пор, как царь Смбат погиб, воюя за народ и христианство. Но более всего меня тронула небольшая сценка, свидетелем которой я стал, когда бродил с мальчиками по зелёным холмам. Десятилетний пастух в овечьей папахе, которую носили мужчины в Лори, перекрестился и опустился на колени перед какой-то скалой. Нас он не заметил. Вытащив что-то из кармана и положив перед собой, он снова перекрестился, встал и погнал дальше овец. Когда мы подошли к этому месту, то увидели, что алтарём мальчику служило старое надгробие с высеченными на нём замысловатыми кружевными узорами по краям и большим крестом в центре — хачкар. Перед хачкаром лежали пожертвования — мелкие монеты и бумажные деньги, к которым бедный пастушок добавил своё приношение. На станции Санаин мы ждали поезда, который повезёт нас в Ереван. Наконец, он подошёл, и гудок его в этом живописном ущелье показался нам самой прекрасной музыкой на свете.
— Ребята, смотрите — армянские буквы на вагонах!
Вагоны были все товарные, в Армении не осталось пассажирских поездов… Но с этими словами «отремонтировано в Александрополе», написанными по-армянски, товарные вагоны нашему сердцу были куда дороже, чем самый прекрасный пассажирский поезд. Мы украсили паровоз зелёными ветками и водрузили с одного боку наш армянский флаг, а с другого — бойскаутский. Машинист улыбнулся. Для него это был обыкновенный паровоз, но для нас… Как нам было объяснить ему, что значил для нас этот паровоз?! Дав два-три весёлых гудка, поезд тронулся со станции, а мы запели «Нашу родину».
Что с того, что наш паровоз работал на дровах, ведь Азербайджан, будучи союзником Турции, не продавал нам больше нефти. Что с того, что у нас не было больших городов, многоэтажных зданий, величественных общественных сооружений, пассажирских поездов, пароходов, фабрик! Что с того, что страна у нас маленькая и бедная, отрезана от остального мира, наводнена сиротами и беженцами! Она станет ядром будущей Армении, которая обязательно воскреснет, дабы занять подобающее ей место в семье народов. Нет у нас ни Батума, ни Тифлиса, ни Баку с его нефтяными промыслами, но зато у нас есть Арагац и Арарат.
— Смотрите, Арагац!
— Арагац! Арагац! — вторило несколько голосов.
Это было ранним утром следующего дня. Я вскочил и, протирая глаза, выглянул из окна вагона, чтобы увидеть Арагац. Четырёхглавый колосс — малый Кавказ, поднимался к небу из долины, похожей на море, вгрызаясь в горящие облака окровавленными клыками — подобно стае волков, устремляющихся в небо. Это потрясающее зрелище рассвета в Армении подействовало на меня так, как если бы я лицезрел величественную сцену сотворения мира и человека, дополненную библейским громом и молнией.
Арагац высокая гора Вай, ле-леле-ле! Джан, ле-леле-ле!Мы пели, а наш поезд медленно катился по выжженной степи, бывшей когда-то житницей Армении, а теперь превратившейся в пустыню. И вдруг мы увидели Арарат. Сначала показалась, вся в облаках, вершина большого Арарата, потом рядом с владыкой своим красиво встал Малый Арарат. Подножие у вершин было общим. Они походили на августейшую чету, законно царствующую милостью божьей в королевстве янтаря и рубинов, рассыпанных у их ног.
Александрополь. Второй город республики. Крепость, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря в мрачной, пустынной долине. Хотя стояло позднее лето и светило солнце, воздух был таким холодным, что мы продрогли. В Александрополе всегда холодно, сказали нам на вокзале беженцы. Молодой губернатор Александрополя, простирая руку к Арарату, произнёс пламенную речь. Он был родом из Сасуна, и сердце его было переполнено теми же чувствами, которые привели нас в Айастан. Горцы Сасуна во время резни грудью проложили себе дорогу на Кавказ, и этот молодой интеллигент был одним из их предводителей. Они обосновались в деревнях вокруг горы Арагац, и из их числа был сформирован особый кавалерийский полк национальной армии. Это были наши лучшие воины.
Самый большой приют в мире был в Александрополе. Тридцать тысяч детей находились на попечении «Ближневосточной помощи»[27], флаги которой развевались над бывшими казармами русской армии, заселёнными этими сиротами, оставшимися после турецкого нашествия два года назад. Сейчас сюда вновь возвращались турки.
Невозможно описать разрушения, причинённые здесь турецкими войсками. Орды Тамерлана — и те были милосердней. Был разрушен вокзал со всеми его постройками, даже двери, рамы, имеющаяся мебель — всё вывезено. Коричнево-жёлтый пейзаж долины покрылся грязными пятнами обуглившихся останков деревень. Церкви были разграблены и превращены либо в конюшни для армейских лошадей, либо в отхожие места для воюющего анатолийского крестьянина. В деревнях турки хватали и насиловали всё женское население, не щадя ни малолетних девочек, ни старух. Поистине, по этой стране прошли турки. Я вспомнил строки из турецких стихов:
И трава не растёт там, Где ступали копыта турецких коней.Я вспомнил ожесточённые урартские войны… Руса I и Руса II… безумных ассирийских царей с длинными курчавыми бородами… царицу Семирамиду, страстную и жестокую… Дария и Ксеркса… битву при Маназкерте в 1701…[28] падение Ани…[29] ассирийцев и персов, скифов и шумеров, римлян и греков, парфян и арабов, сельджуков и татар, османцев… Чингиз-хана, Тамерлана, Шах-Аббаса, Энвера-пашу — все они прошли по этой земле, оставив за собой реки крови. Какая злая сила побудила наших предков обосноваться на этом перекрёстке всего мира, на этом высоком мосту между Азией и Европой, Востоком и Западом, Севером и Югом?! Трагедия заключалась в нашем географическом положении! Поле боя всех племён и империй — такова история Армении.
Станция Ани. Сам город находился на другом берегу реки Ахурян, притока реки Аракс — матушки-реки Армении. Нам не было видно развалин древней нашей столицы, провозглашённой когда-то жемчужиной Востока, городом тысячи и одной церкви. Это армянский зодчий Трдат, построивший кафедральный собор в Ани, восстановил купол Св. Софии в Константинополе после землетрясения в десятом веке. В те далёкие времена армянские зодчие были признаны лучшими мастерами своего искусства. Сейчас Ани являл собой безжизненную груду руин, но его блестящее прошлое всё ещё согревало наши сердца.
Ереван был подобен оазису в пустыне. Перед нами высился во всей своей необъятности Арарат, на самом же деле он находился в пятидесяти-шестидесяти километрах отсюда. Мы вновь увидели деревья и траву. В отличие от Александрополя солнце в этом городе-саду жгло, как тропическое. Сады ломились от винограда.
— Вспомните, господа, — сказал господин Торгомян. — Выйдя из ковчега, Ной разбил свой виноградник именно здесь, у подножия горы Арарат.
— А там, под тенью того дерева, он уснул, когда опьянел, — прибавил один из мальчиков.
— Старик Ной был не дурак выпить, — сказал господин Торгомян.
— Да и кто откажется выпить вино, изготовленное из такого чудесного винограда!
Ереван, к нашему сожалению, по сравнению со столичным Тифлисом выглядел провинциальным городишкой, но вид Арарата и вкусный, без косточек, виноград, тающий во рту, как капли мёда, восполнял отсутствие высоких зданий и широких улиц. Стояла дремотная тишина. Жизнь в этих садах, перекрытых ирригационными каналами, была бы приятной, если б не война и разруха.
Мы не могли не почувствовать в окружающем близость Персии, её восточного уклада, её знаменитых садов с соловьями и розами. Когда-то в Ереване находилась резиденция персидского сардара, и хотя впоследствии город стал принадлежать России, в нём многое осталось от старого персидского облика.
Нас разместили в одном из бараков военной школы, открытой правительством для обучения офицеров Армянской армии. Все кадеты ушли на фронт, а само здание и его территория использовались теперь для муштровки новых рекрутов — крестьян в овечьих папахах и трехах.
Здесь мы впервые услышали военные команды по-армянски, и это нас потрясло. Но, увы, весёлых и радостных лиц в армии я не увидел, так же как не видел их у турецких рекрутов в Трапезунде. Казалось, они упражняются только потому, что это обязательно, а не потому, что они гордятся службой в Армянской армии и готовы умереть за свободу нации.
Чего-то не хватало этим солдатам, не было в них боевого духа. Казалось, они ненавидят своё оружие — английские винтовки марки «Росс», и им противно вонзать штыки в соломенные чучела. Крик «ура» во время штыковой атаки звучал как мучительный вопль, а не как воинственный клич.
Я съел яблоко, а солдат подобрал выброшенную сердцевину и жадно проглотил. Боже мой, наши солдаты голодают! Я вспомнил слова Наполеона — путь к сердцу солдата лежит через желудок, и предался грустным размышлениям. Разве смогут голодающие солдаты остановить наступление турецкой армии?
Но не только от голода вид у них был хмурый и поникший. Офицеры обзывали их «ослиными головами», «бестолковыми тварями» и прочими нелестными прозвищами. Воспитанники русской военной школы с её классовым расслоением, эти обрусевшие офицеры пользовались методами старой царской армии.
…В Ереване объявился Нурихан, и выглядел он как законченный бродяга.
— Я уже два месяца дышу свободным воздухом независимой Армении, — сказал он цинично.
Он был разочарован, как и многие другие армяне, приехавшие в Ереван своими глазами посмотреть на чудеса независимой Армении. Нурихан хотел вернуться в Тифлис, где жили теперь его сёстры, а оттуда поехать в Стамбул к матери, которую он не видел после разлуки в Трапезунде во время резни.
Правительство намеревалось перевести нашу сельскохозяйственную школу в провинциальный городок Нор-Баязет, но положение в стране было настолько критическим, а ближайшее будущее представлялось таким неясным, что этот план откладывали с недели на неделю. Война подошла совсем близко к Еревану. Турки наступали в направлении Арарата, пытаясь перейти Аракс. С утра до ночи мы слышали грохот орудий.
Мне только исполнилось пятнадцать, я был слишком молод для военной службы, но мне не терпелось помочь нашей стране в этой борьбе не на жизнь, а на смерть, и я выхлопотал себе место адъютанта начальника штаба, у военного министра, заменив на этом посту офицера, отправленного на фронт. Начальником штаба был подполковник с прекрасной выправкой и красивыми чёрными глазами. Он бы хорошо выглядел на балу в Тифлисе. Подполковник на ломаном армянском объяснил мне мои обязанности. Я должен был встречать посетителей, которым был назначен приём, и докладывать о них ему или военному министру, чей кабинет находился рядом; разносить донесения и прочие официальные бумаги и, что самое важное (судя по тому, каким тоном это было сказано), должен был готовить какао по утрам и подносить его в серебряном подстаканнике ровно в одиннадцать утра. Он показал мне, как его готовить на примусе.
Сей элегантный начальник штаба оказался очень пунктуальным человеком. Он приходил на работу ровно в десять утра и уходил в три часа пополудни. Обеда себе не заказывал, а довольствовался своим американским какао. Читать и писать по-армянски не умел, и всю корреспонденцию вёл на русском. Я готов был простить ему это: воспитывался он в России, но поскольку имел хорошую военную подготовку, был специалистом — народ нуждался в нём. Меня тревожило полное отсутствие в нём национального самосознания. Даже карта у него в кабинете была не Армении, а Крыма, где воевал генерал Врангель. Сколько раз я видел, как он стоит в глубоком раздумье перед этой картой. Отмечая синей чертой позиции Белой и Красной армий на Крымском фронте, он казался совершенно безразличным к позициям турецких и армянских войск. Душой он, видимо, был с генералом Врангелем в Крыму. Начальником нашего штаба должен бы стать великий полководец, а в этом человеке не было ничего великого.
Военным министром оказался крестьянский вождь из Сасуна, то есть один «из наших»[30]. По утрам, приступая к своим обязанностям, я брал у него шляпу и плащ, как только он входил, и почтительно вешал на вешалку в кабинете. Заметив, что у этой потрёпанной шляпы недоставало подкладки, и что плащ у него поношен, я проникся к нему ещё большей симпатией. В полдень я приносил ему борщ с чёрным хлебом, ровно столько, сколько получал рядовой солдат, я надеялся, что он не доест обеда, а оставит его мне, но он всегда всё съедал. Он тоже не оставлял впечатления человека, подходящего для такого ответственного поста. Ведь наша республика воевала не с курдскими партизанами, а вела настоящую войну международного значения с отборными турецкими дивизиями под командованием первоклассного генерала. А министру, казалось, нечего было делать, да и начальник штаба не выглядел особенно занятым. Мне трудно было это понять. Я думал, они должны находиться на работе по десять часов в день, отдавать приказы, звонить по телефону, отправлять срочные донесения, но из-за такого их непонятного бездействия мне самому почти нечего было делать.
Я заглядывал им в лица, чтобы узнать о делах на фронте. У военного министра было жёсткое лицо, и невозможно было понять, о чём он думает. И разговаривал он редко. Я не встречал более молчаливого человека, чем он. Лицо его никаких чувств не выражало. А на красивом лице начальника штаба никогда не бывало признаков беспокойства или умственного напряжения.
Командующий войсками генерал Назарбекян, о котором я так много слышал, был высоким, седовласым мужчиной с усталыми глазами и тяжёлыми веками, он носил форму русского генерала с синим крестом Св. Георгия на шее. В нём было что-то от убелённого сединами Арарата, но, как и начальник штаба, он говорил и вёл переписку на русском языке. Каждое утро, до его прихода, я разглядывал его большую военную карту на стене, — у него, по крайней мере, была карта Армении, — и изучал трагическое развитие войны. Хотел бы я знать, переживал ли он мучительную душевную боль, когда каждый день, передвигая назад синюю черту, сдавал туркам ещё одну часть территории, освящённой останками наших предков и кровью крестьян-солдат? Черту всегда отодвигали назад и ни разу вперёд. Я не мог не думать, что он исполняет свои обязанности главнокомандующего так, как исполнял бы их назначенный на его пост любой генерал-иностранец. Был он слишком стар, и ему давным-давно пора было уйти в отставку. Нам нужен был человек, который бы лично повёл войска на фронт, воодушевляя их, побуждая к героическим усилиям.
Я переживал одно разочарование за другим. Наша армия, какой я её видел, действовала неумело или же находилась в руках людей совершенно равнодушных. Словом, у нас не было нужных людей, настоящих армян во главе войск. Я не мог отвязаться от этой мысли даже когда читал, а на чтение времени оставалось предостаточно. Механически прочитав странички две из «Отцов и детей» Тургенева или из «Отелло» Шекспира (в армянских переводах) и не понимая прочитанного, я прерывал чтение и прислушивался к грохоту орудий на Араксе.
Пал Карс. Сдача этой ключевой позиции означала поражение нашего фронта, но на начальнике штаба эта катастрофа, казалось, совсем не отразилась; он приходил на работу в штаб ровно в десять, выпивал свою чашку какао ровно в одиннадцать и уходил ровно в три. В военном министерстве всё шло своим чередом; те же безразличные лица генералов и полковников.
С самого начала битва эта была почти безнадёжной, но я думал, что при правильном командовании мы смогли бы отстоять Карс — либо организованно сопротивляясь, либо с помощью Советской России, которая открыто предлагала дружбу нашему народу: достаточно было только принять её курс. С политической точки зрения наша нация была наивной и неопытной. Поверив, что Карс атакует турецкая революционная армия с целью передачи его Советской России, наши войска, моральный дух которых оставлял желать лучшего, не захотели воевать против своих турецких «товарищей». Все армяне Карской области верили, что революционная армия Красной Турции воюет под красным флагом социализма, ибо турецкий флаг был весь красный, за исключением белого полумесяца и звезды в центре. В течение трёх дней эти турецкие «товарищи» грабили, насиловали и резали карсских армян, не щадя даже тех, кто показывал свои партийные книжки. Срывали одежду с сотен военнопленных и отправляли в Эрзерум в рабочие батальоны, и впоследствии почти все они умерли там от холода и голода. Тем временем началось массовое движение в Карс турок для заселения опустевших домов убитых и сосланных армян, и таким образом ещё одна часть исторической Армении стала полностью турецкой.
Турки выиграли войну, дальнейшее сопротивление было бесполезно. Армения попросила мира.
Большая национальная ассамблея Анкары через своего «народного комиссара иностранных дел» потребовала и получила половину территории нашей республики, почти всё имеющееся у армян оружие, боеприпасы, коней и подвижные составы.
А пока в Александрополе проходили переговоры о подписании гибельного договора о мире, правительство отправило нас в Нор-Баязет для продолжения занятий по сельскому хозяйству.
Глава шестнадцатая КОНЕЦ МЕЧТЫ
Гроза разразилась внезапно, без всякого предупреждения. Когда мы уезжали из Еревана, погода стояла тёплая и солнечная, виноградные лозы ломились под тяжестью гроздьев. Но в горах по пути в Нор-Баязет мы вдруг очутились в мире мерзлоты, в ледяном царстве белоснежных сугробов. Бушующие порывы ветра с Арарата ударили нам в лицо слепящим снегом, твёрдым и острым, как осколки стекла. Арарат гневался — наверное, подумал я, за плохое командование армией, за политические ошибки, — и, выражая своё недовольство, выпустил на Армению всех своих злых дэвов и сказочных чудищ с сатанинскими голосами.
Буря была страшная, но мне она показалась прекрасной.
— Это наш родной снег и ветер! — крикнул я Аршаку, с трудом волочившемуся за мной, и он кивнул в знак согласия.
Когда опустилась ночь и буря стихла, в наступившей мгле мелькнули горящие угольки — глаза волков и лисиц. Для нас они не были похожи на своих собратьев в других землях, они казались нам родными, почти братьями.
Я не боялся их. Как многокупольный собор из белоснежного мрамора засверкала при лунном свете Армения. Мы перекрестились, увидев крест древнего монастыря на маленьком острове озера Севан.
Было холодно, дышать становилось всё трудней, но мы не роптали. Добрались до какой-то деревни с песнями «Наша Родина», «Луны не было», «На берегах матушки Аракс». Жители деревни ютились в доисторических жилищах, скучившихся вокруг церкви, но зато они были истинными армянами. Мы почувствовали едкий запах горящего навоза. Аршак зажал нос пальцами.
— Как, тебе не нравится? — спросил я у него, глубоко вдыхая сей аромат.
— Нет, нравится, конечно, нравится, — ответил он, разжимая пальцы.
Мы были в хорошем настроении, но страшно голодны.
— Кому горячих сочных кебабов с пловом и свежим белым хлебом? — крикнул кто-то.
— Ах, заткнись!
— Ребята, я смог бы съесть целого жареного барана, начинённого рисом.
— А мне бы хватило миски жареной картошки с мясом, помидорами, чесноком и петрушкой.
— Ради бога, хватит! Я уже падаю!
— Видишь ту звезду? — спросил я у Аршака. — Это звезда Святого Григория Просветителя[31]. Только представь, что ты стоишь прямо под ней, а на тебя сверху смотрит Просветитель.
И, следуя моему примеру, Аршак восторженно уставился на созвездие, названное в четвёртом веке именем основателя нашей церкви. На пунцовом небосклоне горели огромные золотые звёзды — армянские звёзды! Чтобы увидеть божественное великолепие араратской зимы, стоило перенести хоть пятьдесят снежных бурь.
Мы разыскали старосту и вручили ему подписанное президентом республики официальное письмо с распоряжением гражданским и военным властям округи оказать нам, как почётным подопечным государства, всяческое содействие.
— Так вы, ребята, из Константинополя? — воскликнул здоровенный староста, делая вид, что читает вручённое ему письмо. — Приветствую, тысяча благословений!
Особенно сильное впечатление произвела на него наша одежда. Он никак не мог взять в толк, как мы, живя в Константинополе, решились оставить все удобства жизни, чтобы приехать в нищую, разорённую войной Армению.
Деревню тотчас облетела весть о нашем приезде и о том, как мы одеты. Поскольку не было ни гостиницы, ни даже школьного здания, крестьянам пришлось приютить нас на ночь у себя. Староста намекнул, что если мы поделимся с крестьянами кое-чем из своей одежды и обуви, то затруднений с ночлегом и едой не будет.
Поделившись на небольшие группки, мы пошли стучаться в двери домов. Делегатом от одной группы, куда входили Аршак и ещё несколько мальчиков, выбрали меня. Мне же было поручено вести переговоры с крестьянами, потому что я знал восточноармянский диалект. Крестьяне оказались довольно гостеприимными, но в деревне едва насчитывалось сотни две жалких лачуг, и целые семьи ютились в одной, иногда — двух комнатах, порой вместе с лошадьми и коровами, если таковые ещё имелись. Тем не менее, каждая семья согласилась взять на ночлег одного-двух мальчиков. Под конец из нашей группы остались без крова я и Аршак. Мы постучались в очередную дверь. Открыла её хорошенькая девушка.
— А, вы из Константинополя! — вымолвила она прежде, чем я успел раскрыть рот.
— Могу я поговорить с хозяином дома? — спросил я. — Мы ищем ночлег.
— Да, я знаю, — сказала она, улыбнувшись. — Но в нашем доме нет мужчин.
— Кто это там, Сатеник? Что им нужно? — позвал женский голос из комнаты.
— Это мальчики из Константинополя, их двое, — ответила девушка. Сказав, что через минуту вернётся, она вошла в дом, а мы остались ждать у двери.
— Правда, хорошенькая? — обратился я к Аршаку. — Типичная армянка с прелестными пугливыми глазами газели, только что сошедшей с гор.
— Да, симпатичная, — согласился Аршак. — А ты заметил, какая у неё грудь? Именно то, что мне нравится.
— Не смей так говорить! Она же армянка! — сказал я, рассердившись.
Аршак шлёпнул себя по губам. Он был двумя классами ниже меня и на четыре года старше. Он отслужил в турецкой армии, а познания его в армянской литературе и истории были вопиюще ничтожными. Я помогал ему готовиться к урокам, а он, в свою очередь, вызвался быть моим «телохранителем». Однако он мог бы снять с меня рубашку и мне же потом продать. Аршак всегда что-то покупал и продавал, мог перехитрить десять купцов, прикинувшись простаком. Плут что надо! И щёголь — ходил в модном шерстяном джемпере в белую и синюю полоску.
Девушка вернулась, посоветовавшись в комнате со старшей женщиной. Даже сумерки не скрыли её румянца, вобравшего все краски наших полей, всё многоцветье Армении. Извиняющимся тоном, но с достоинством девушка сказала:
— Мне очень жаль, но мы не сможем принять вас обоих. Дом у нас маленький, и лишней постели нет. Свекровь говорит, что может приютить только одного.
— Свекровь? Ты замужем? — удивлённо спросил я.
Ей едва можно было дать шестнадцать. Она казалась целомудренной девой из наших народных песен и героических сказаний, ещё не решившейся на первый поцелуй с деревенским рубахой-парнем где-нибудь за стогом сена или садовой изгородью.
— Да, замужем, — ответила она, потупив глаза. — Мой муж солдат. Не знаю, где он сейчас, но сначала воевал в Карсе. Мы были женаты всего месяц, когда он ушёл на фронт.
Пришлось бы, пожалуй, ещё целый час искать ночлега для нас обоих, и я сказал Аршаку, чтобы оставался он. Девушка посоветовала мне попытать счастья в следующем доме вниз по тропинке. Простившись с товарищем, я постучался в двери этого дома и был принят его почтенным владельцем. Он оказался главой большой семьи, словно вся история наша оставила неизгладимый отпечаток на его лице.
Закурив трубку, он стал расспрашивать меня о Константинополе, представление о котором уходило у него к временам правления старых султанов. Его интересовали происходящие в больших европейских столицах события, и он был убеждён, что русские обязательно вернутся в Армению и завалят её кубанской мукой, харьковским сахаром и бакинской нефтью.
Во время беседы невестка хозяина, женщина со скорбным лицом, крутила веретено. На отпечатанных за границей новых армянских деньгах с одной стороны был изображён Арарат, а с другой — женщина с веретеном. Веретено являлось символом армянского очага, а наш очаг с его христианской добродетелью и чистотой помог выстоять нации.
Чтобы упростить дело, я открыл рюкзак и сам предложил им обменять одну из моих рубашек на еду. Больше всего эти крестьяне нуждались в одежде. Мне не хотелось говорить им, что я сирота, а не богатый мальчик из Стамбула, за которого меня принимали. Хозяин отложил трубку и, пощупав крючковатыми пальцами рубашку, пришёл в восторг от ткани и покроя. Потом передал её остальным домочадцам, и они по очереди стали восхищаться ею.
— Сколько ты просишь за неё? — спросил он.
— Сколько дадите, — ответил я.
Они переглянулись, снова пощупали рубашку и наконец предложили два фунта хлеба, фунт сыра, фунт масла, миску мёда и ужин в придачу, если я ещё не ужинал.
— Отлично! — сказал я, и мы ударили по рукам.
Турки не успели побывать в этой части Армении, и она оставалась относительно зажиточной. У крестьян было кое-что припасено на зиму. Но получить еду у них можно было только в обмен на одежду.
Невестка хозяина встала и подала мне плотный ужин из яичницы, сыра, лаваша и чая с мёдом, заваренного на горных травах.
Перед уходом она постелила мне в лучшем месте во всём доме, прямо у тонира. Я лёг и долго не мог уснуть. Как я мог спать, если мне чудился топот кавалерии св. Вардана, спускающейся со склонов горы Арарат навстречу многочисленному войску и слонам персидского царя царей? Бессмертный наш Вардан вёл свою христианскую армию в бой, а рядом с ним святейший отец Гевонд Ерец[32] высоко подымал большой серебряный крест. Ветер ли это, или я в самом деле слышу цокот копыт и ржание коней, скрежет щитов и мечей, всеобщую исповедь и молитвы в ночь перед Аварайрской битвой?[33]
Ещё мне виделось, как царь Арташес берёт в плен царевну Сатеник. Арташес вскочил на вороного коня и поскакал к реке — на другом берегу стояла царевна со своей свитой. Как быстрокрылый орёл перемахнул он через реку и метнул красный аркан с золотым кольцом, обхватил стан аланской царевны, причинив ей сильную боль, и увёз к себе. У царского храма в Арташате грандиозное праздничное шествие. Царь и его невеста, которую он взял в плен как военную добычу, скачут рядом. Вслед за ними — войска, знать, слуги и радостные толпы отправляются в храм, где свершится свадебный обряд.
Отцу богов, всемогущему Арамазду[34], приносятся в жертву белоснежные овцы и птицы. Языческий жрец проливает в священный огонь у алтаря жертвенное вино, и пламя устремляется ввысь. Сатеник отпускает белоснежных голубей на волю, убирает цветами золотую статую богини Анаит и пригоршнями разбрасывает народу жемчуг.
Крестьянская хижина, в которой я лежал, преобразилась, став мраморным залом царского дворца. На свадебное пиршество прибыла вся знать Армении, цари и царевичи соседних государств. Все они в красных штанах, на расшитых золотом поясах висят длинные мечи — главное их сокровище.
«Приветствую тебя, владыка», — говорят они Арташесу, обнимая и целуя его.
«Добро пожаловать, дорогой друг», — отвечает каждому из них Арташес.
Затем они кланяются царице Сатеник.
Златокупольный праздничный зал ярко освещён лампадами, воздух напоён благовониями. Обменявшись любезностями, гости садятся в предназначенные им кресла, и женщины восторгаются букетами роз, лилий, жасмина и фиалок, украшающими столы.
Говорят по-армянски и по-гречески, обсуждают новые пьесы и книги из Афин, политические новости из Рима. Советник и стратег царя Ганнибал[35], сидя рядом с ним во главе стола, рассказывает о военной тактике римлян.
Сначала слуги в ливреях вносят золотые тарелки с дымящимся супом. Затем на огромных серебряных подносах подают дичь — зажаренных оленя и кабана, которых днём раньше подстрелили во время охоты Арташес и Ганнибал. За оленем и кабаном следует форель из озера Севан, фазаны, дикие утки и яйца, приготовленные всевозможными способами.
Когда трапеза кончается, отроки в белых одеждах ставят перед каждым гостем бочонок с вином, и начинается здравица. Царь с царицей встают, держа в руке по рогу, и все гости следуют их примеру.
«Сначала выпьем в честь великого Арамазда, создателя неба и земли, в честь всемогущего!» — зычным голосом провозглашает царь.
И все пьют в честь главного бога языческой Армении.
Когда гости садятся, в зал входят, играя на лирах, весёлые ашуги и славят Ваагна[36]:
Небеса и Земля были в муках родин, Морей багрянец был в страданье родин, Из воды возник алый тростник, Из горла его дым возник, Из горла его пламень возник, Из того огня младенец возник, И были его власы из огня, Была у него брада из огня, И, как солнце, был прекрасен лик!Ашугов заменяет оркестр из флейт, арф, труб и барабанов. Играют волнующую и страстную мелодию, и танцовщицы медленно извиваются в танце. Затем вваливаются два скомороха и начинают дурачиться и развлекать пирующих дерзкими шутками. Гости хмелеют, танцовщицы садятся на колени к знатным господам, и даже царица Сатеник безудержно веселится…
Ранним утром следующего дня мы с мальчиками собрались на деревенской площади и продолжили путешествие. Озеро Севан сверкало как синий жертвенный огонь в мраморной чаше. Я почувствовал себя величественным царевичем, вернувшимся в Армению спустя два тысячелетия.
Рюкзаки на наших спинах стали гораздо тяжелее. Ребята, как и я, обменяли одежду на еду. Однако я заметил, что рюкзак Аршака не оттопыривается, как у остальных, и на нём нет шерстяного джемпера в синюю и белую полоску. Я прикинул, что джемпер мог стоить, по крайней мере, вдвое больше того, что я получил за свою рубашку.
— Что тебе дали за джемпер? — спросил я.
Ему не хотелось отвечать.
— Ах ты, плут, — сказал я, — а ну, выкладывай, что за него получил. Кавказское ружьё?
Он отрицательно покачал головой.
— Ради бога, Аршак, чего ты скрытничаешь?
Он усмехнулся:
— Джемпер приглянулся Сатеник, той хорошенькой девушке, что открыла нам дверь.
— И ты его отдал! Молодец, Аршак! Теперь ты становишься настоящим армянином.
Его смутила моя похвала.
— Не скромничай, — сказал я. — Ты как настоящий бойскаут совершил доброе дело. — И шутя добавил: — Ей следовало подарить тебе за это поцелуй.
— Она подарила мне кое-что побольше поцелуя, — пробормотал он, краснея.
— Что-о?! Да ты шутишь!
— Нисколько, — ответил он, хитро улыбаясь.
Некоторое время мы шли молча. По его глазам я понял, что мы думаем об одном и том же. В наших сердцах разбилось что-то, что невозможно передать словами. И прошло ещё немало времени, прежде чем мы вновь заговорили.
Глава семнадцатая ТУРЦИЯ ПОЛУЧАЕТ АРАРАТ, АРМЕНИЯ — СНИМОК
Термометр на площади в Нор-Баязете показывал тридцать два градуса ниже нуля.
— Доброе утро, товарищ! — приветствовал солдат какого-то человека, идущего по обледеневшей площади.
Одна из пуговиц его новой армейской шинели была обвязана полоской красной ткани. Такая же красная полоска красовалась на груди.
Народ на улицах смеялся, шутил, люди называли друг друга «товарищ». Перед доской городских объявлений стояла толпа и читала что-то. Я подошёл посмотреть. Краткое отпечатанное на машинке заявление нового правительства провозглашало Армению независимой Советской социалистической республикой в союзе с братской Российской Советской Федеративной социалистической республикой…
Армении оставалось выбирать между Советской Россией и кемалистской Турцией, что в тех условиях было равносильно выбору между жизнью и смертью.
В Нор-Баязет въехало небольшое подразделение Красной русской кавалерии. Молодой белокурый командир, окружённый такими же молодыми членами местного Совета, обратился к народу с балкона нашей школы, самого большого здания в городе. В конце речи он прокричал:
— Долой лакеев империализма! Да здравствует Третий Интернационал! Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует братство трудящихся масс Востока! Да здравствует братская республика социалистического Советского Азербайджана! Да здравствует социалистическая Советская Армения!
Ораторы-армяне, выступавшие после него, повторяли эти фразы в конце своей речи. Бесплатно раздавались экземпляры армянской газеты «Коммунист».
Серые стены города покрылись плакатами, портретами Карла Маркса, Ленина, карикатурами на ненавистных капиталистов. На одной из них был изображён толстый русский священник, берущий в дар цыплят и яйца от голодающих крестьян. На плакатах рабочие-гиганты держали в руках молоты, высокие солдаты-красноармейцы направляли штыки на перепуганных толстых банкиров.
За неделю до смены власти у нас ещё были уроки, но теперь их отменили. Тем не менее, нам всё ещё позволяли занимать школьное помещение, аудиторию, где мы теперь читали лекции, выступали и ставили советские пьесы. В городе было несколько талантливых актёров. Я участвовал в этих программах, один-единственный из всей школы, и, читал стихотворение о рабочих — «Дайте дорогу, мы идём!» — с грудью нараспашку, с лопатой в руках.
В течение нескольких недель мы продали всю смену одежды. У местных советов не было ни средств, ни желания нас содержать. Мы, как подопечные бывшего правительства, выглядели в их глазах контрреволюционерами. Оставался один выход — вернуться в Константинополь. Но в то время уехать было практически невозможно.
Наконец нам удалось достать разрешение выехать на грузинскую границу, и однажды, ранним февральским утром, мы двинулись в Караклис, город на железнодорожной линии Тифлис — Ереван, куда мы надеялись добраться за три дня. Это было похоже на путешествие по заснеженным дебрям Сибири, но мы не унывали и пели патриотические песни.
Местный совет в другом городе, Дилижане, отказался признать наше разрешение на выезд, и нас взяли под арест. Быть арестованным своими же соотечественниками, в Айастане! Нас построили в ряд во дворе тюрьмы, и какой-то человек грубым голосом объявил нам:
— Товарищи, прежде чем мы вас обыщем, я предлагаю сдать имеющееся у вас оружие по собственной воле. Если у кого-нибудь будет найдено спрятанное оружие, его накажут по закону революционного времени.
Это означало расстрел. Их подозрения оправдались, когда они забрали у мальчиков несколько револьверов, за которые было уплачено одеждой. Решив, что мы замышляем контрреволюцию, они принялись обыскивать каждого из нас по очереди.
Беседуя с тюремным надзирателем, уроженцем Баку, я показывал ему свою форменную пряжку с изображением Арарата при восходе солнца, читал стихи, против которых он не мог возражать, и даже говорил ему, что можно быть хорошим большевиком и в то же время оставаться настоящим армянином. Я ему вроде нравился, но он был очень осторожен, казалось, он вынужден скрывать свои чувства. Впоследствии армянские коммунисты, открыв для себя армянскую литературу и историю, стали большими патриотами.
Мы послали председателю Революционного Военного Комитета в Ереване телеграмму с протестом против нашего ареста. Это, должно быть, подействовало, потому что нам позволили ходить в уборную без вооружённой охраны. Каждый день нас посылали в ближайший лес рубить дрова. Шагая с топорами на плечах, мы пели «Марсельезу» и армянские социалистические песни.
Среди коммунистов были симпатичные, хорошо сложенные девушки в белых свитерах и вязаных белых шапочках. Дилижан со своими хвойными лесами и прекрасным климатом был известной здравницей, и много богатых семей из Баку и Тифлиса проводили там лето. В городе находился туберкулёзный санаторий.
Наконец пришёл приказ нас освободить, и мы двинулись в Караклис. Это был уже город побольше, с двенадцатью тысячами жителей и, будучи расположен на железной дороге, он привлекал много беспризорников из разрушенных войной местностей. Они умирали на улицах от голода и холода. Почти голые, натянув на себя мешки из-под картофеля, они днём и ночью лежали в снегу на тротуарах, дрожа и скуля, как раненые бездомные собаки, пока их не успокаивала милосердная смерть. Лица у них были морщинистые, старческие, и походили они больше на обезьян, чем на людей. Невозможно было отличить мальчиков от девочек. С ними даже и не заговаривали. Интересно, а могли ли они вообще говорить? Были ли у них имена, знали ли они откуда родом? Иногда они прижимались друг к другу, чтобы согреться, но единственным звуком, который они постоянно издавали, был жалобный собачий вой. Их лица и плач преследовали меня.
Я не мог жить в Армении, не работая в каком-нибудь общественном заведении. Поэтому я устроился помощником секретаря при Комиссариате внутренних дел. Коммунисты Караклиса были зрелыми людьми, и мы оказались там в более армянской и более дружелюбной атмосфере. Местные советы и администрация разных городов отличались по характеру друг от друга. Так как никто в Караклисе, за исключением одного известного молодого поэта из Вана, не знал армянского лучше меня, а в письме я даже превосходил его, то в Комиссариате на меня сразу обратили внимание, несмотря на то, что я был там самым молодым.
В отделе, где я работал, нас было трое: инженер — заведующим, поэт — секретарём, а я — помощником секретаря. Почти вся писанина приходилась на мою долю. Я также ставил вторую подпись на свидетельствах о рождении, браке, смерти, удостоверениях личности, реквизиционных бумагах и т. п. Законы Советской России вошли в силу и в Армении. Чтобы жениться, достаточно было просто зарегистрироваться. Даже видным коммунистам приходилось отвечать на мои официальные вопросы в отделе. Я чувствовал себя важным лицом, настолько важным, что, выдавая документы, подписывался только именем с росчерком, будто все знали меня по имени.
У поэта, который страдал от туберкулёза, были длинные светлые волосы, всегда красиво причёсанные, артистичные белые руки с длинными и тонкими, как у женщины, пальцами. Он поминутно прикладывал руку ко рту и кашлял, тихо и изящно. Я читал некоторые из его стихов ещё в Константинополе — нежную лёгкую лирику. В нём всё было утончённым, одухотворённым, «поэтичным». Приехал он из Турецкой Армении и не был коммунистом. Иногда он доставал из кармана новое стихотворение и давал мне почитать.
Поскольку я сам зарабатывал себе на жизнь, то стал снимать комнату в квартире с одной обособленной семьёй из Трапезунда: пожилой, убитой горем женщиной с маленьким племянником, двенадцатилетним мальчиком, отца которого сослали в Баку по той причине, что он носил белые воротнички. У неё конфисковали пишущую машинку марки «Ремингтон», и она слёзно уверяла меня, что машинка стоила не то три миллиона рублей, не то тридцать, я уже не помню. Они крайне нуждались. Мальчик научил меня петь «Интернационал» по-русски, и мы пели его по вечерам.
В глинобитной хибарке неподалёку от нашего дома скрывался бывший член армянского парламента, ветеран трёх войн с Турцией. Он родился в Ване, городе, героическими жителями которого я всегда восхищался. Я часто навещал его. Мы снимали с себя рубашки, держали их над огнём, и пока наши вши трещали подобно пулемётной очереди, обсуждали последние события, философствовали о жизни и смерти.
…Армянская ССР установила дружеские отношения с республиканской Турцией, придерживаясь более реальной политики, чем предыдущее правительство. Большевики задались целью ликвидировать национальную и религиозную вражду — именно это и было наилучшей частью их программы.
Бывшие враги и победители Турции относились к ней теперь с большой предупредительностью. Сидя на заборе, Кемаль собирал со всех сторон подношения и время от времени подкидывал кость то одним, то другим, чтобы разжигать между ними драку. То была старая, как мир, турецкая игра.
В армянской коммунистической газете я прочитал, что глава турецкой делегации в Москве заявил: «Коммунизм делает большие успехи в Турции». А один молодой армянский коммунист пытался убедить меня, что турки изменились, что они теперь наши братья, и что советизация Турции всего лишь вопрос нескольких лет.
Был подписан новый договор с Турцией. Стиснув зубы, я прочёл статью, определяющую новые границы между двумя государствами: в прошлом российские Карс, Ани, Арарат отошли к Турции. Кемаль также сохранил за собой всю великолепную территорию Западной Армении.
Турция не нуждалась в земле, которую отобрала у армянских крестьян, и, я был уверен, никогда не станет её обрабатывать. Через десять-двадцать лет по одну сторону новой границы появятся сады, оживлённые сёла и города, а по другую — невспаханные, мёртвые и безмолвные могилы наши.
Я поклялся Араратом, что когда-нибудь попаду в Ван, в эту самую древнюю столицу нашего народа, и увижу прекрасные новые здания, широкие, обсаженные деревьями проспекты, школы и научные учреждения нового, но вечно армянского Вана.
На гербе Армянской ССР изображён Арарат, ибо эта гора — символ нашего народа. Нам пришлось удовлетвориться его изображением.
Глава восемнадцатая МНЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ. ХОЧУ ЕХАТЬ В АМЕРИКУ
Моя работа в качестве помощника секретаря в Комиссариате внутренних дел Армянской ССР становилась скучной и гнетущей, потому что наступила весна: невероятно, сверхъестественно, но весна наступила. Я перестал подкладывать под рубашку газеты, чтобы согреться. В последние месяцы я с горечью думал, что при распределении земель между народами мира бог нам ничего, кроме камней и льда, не выдал. Но теперь сосульки, похожие на сабли, растаяли, и долина Памбак зазеленела, переливаясь яркими пятнами шафрана и других цветов Кавказа.
Мне хотелось написать книгу, которая стала бы Библией для человечества — «Земледелие как прямой путь». Хотелось, чтобы люди жили в белых домиках с садами, пчелиными ульями и цыплятами, а вокруг бегали здоровые и весёлые дети. Но чтобы написать подобную книгу и повести соотечественников за собой к этому идиллическому золотому веку, чтобы искоренить бедность, неграмотность, несправедливость и жестокость, — мне нужно было стать самым мудрым человеком своего времени, думал я, и самым сильным, самым совершенным.
Посему мне хотелось повидать свет и изучить всё. Больше всего хотелось увидеть Америку. Я поднялся и подошёл к окну. На тополях и акациях пели птицы, ничуть не озабоченные судьбами классов и народов. Я стал насвистывать мелодию глупой песенки, потом перешёл на итальянскую оперную арию, сопровождая её театральными жестами.
— Ха-ха-ха! — засмеялся чахоточный молодой служащий нашего отдела, показывая на меня. — Товарищи, посмотрите на него! — И у него начался приступ кашля. В свои восемнадцать лет он был самым молодым в комиссариате служащим после меня. Этот впечатлительный, бледный юноша с красивыми глазами никогда не снимал с себя грязную рваную шинель. Его шинель и моя полуобгоревшая потрёпанная фуражка прославились на весь отдел. Когда служащие подшучивали над моей фуражкой, я заявлял, что храню её для государственного музея, и что в один прекрасный день её положат под стекло и сохранят для будущих поколений.
Я повернулся и посмотрел на разрывающегося от кашля парня. Подошёл к столу. Слёзы протеста стояли в его глазах, казалось, они говорили: мне не хочется умирать, я слишком молод, я не успел ещё пожить, и сейчас весна.
— Сирак, — сказал я, — с сегодняшнего дня погода будет отличной.
Он откашлялся в платок и вытер рот.
— Ещё одна такая зима убьёт меня.
— Когда ты едешь в Тифлис лечиться?
— Я не поеду, — сказал он тяжело дыша. — Обстоятельства не позволяют.
— А как насчёт разрешения на выезд? Что ты с ним будешь делать?
— Ничего, просрочу.
Я понизил голос:
— Послушай, отдай мне. Я смогу его использовать. Поеду в Тифлис вместо тебя. Я тебе заплачу за него. Даю три фунта хлеба и месячный рацион чая и мыла.
Он задумался над моим предложением.
— Но если тебя поймают, арестуют нас обоих.
— Никто меня не поймает. А если и поймают, ты скажешь, что я его у тебя выкрал.
Он продал мне разрешение на выезд за четыре фунта хлеба и месячный рацион чая и мыла. Я пошёл к нашему заведующему отделом, смуглому маленькому человеку, в прошлом военному инженеру, никогда не снимавшему с головы форменную фуражку. Он ненавидел себя за то, что родился армянином, но я к нему привязался. Мы часто спорили с ним о достоинствах русской и армянской литератур — он ничего не знал о наших великих поэтах. Я утверждал, что Даниэл Варужан и Сиаманто не хуже Пушкина и Лермонтова.
— Я ухожу с работы, — сказал я. — Вам придётся найти другого помощника со знанием армянского языка.
— Почему? — нахмурился он.
— У меня свои планы. Хочу поехать в Константинополь, оттуда в Америку. Мне многое надо изучить, много сделать. Но когда-нибудь я вернусь. Мы снова встретимся.
— Можешь уходить с работы, если хочешь, но я ничего не знаю о твоих намерениях ехать за границу, слышишь? Ровным счётом ничего. А как ты поедешь? Есть у тебя паспорт для выезда за границу?
— Нет, он мне не нужен. Стоит только добраться до моря, оттуда я уеду куда угодно. — Я не сказал ему о только что приобретённом разрешении на выезд, с которым, по крайней мере, можно было ехать в Грузию на «поправку здоровья».
Он согласился дать мне отпечатанную на машинке рекомендацию, которую написал я сам; в ней отмечалось, что я работал в Комиссариате внутренних дел Армянской ССР и отличился по службе.
Я выехал из Советской Армении и прибыл в Тифлис самым роскошным образом — на крыше товарного вагона. В этом чудесном городе я провёл несколько дней с приключениями, носил на вокзале вещи, спал на вокзальной скамье и мысленно представлял белые домики, ульи, цыплят и счастливых ребятишек того прекрасного мира, который создам. Из Тифлиса я зайцем добрался до Батума, моего самого любимого после Трапезунда города. Я затрепетал при виде Чёрного моря, запах апельсинов и анчоусов показался мне божественным. Первое, что я сделал по приезде в Батум, — съел тарелку жареных анчоусов с грузинским кукурузным хлебом.
Не найдя никого из родственников и друзей, я присоединился к группе армянских беженцев из Армаша, устроившихся в палатках вдоль линии железной дороги. Некоторые из них хотели поселиться в Армении, другие надеялись вернуться в Константинополь.
Я разжёг костёр из краденого угля и, натянув на уши фуражку, свернулся рядом с ними на земле. Фуражка обгорела ещё больше. Я принялся сочинять первую главу книги «Земледелие как прямой путь».
Мимо костра прошла девушка, остановилась, посмотрела через плечо на сгрудившихся вокруг огня мужчин-беженцев. Потом медленно продолжила свой путь, очевидно, ожидая, что кто-нибудь из них последует за ней.
— Вот ещё одна маленькая шлюха, — сказал кто-то из мужчин.
— Братец, да здесь хуже, чем в Кемер-Алти в Стамбуле! — сказал другой.
Она ещё раза два обернулась, но никто из мужчин не двинулся с места, и она исчезла в темноте. Я встал и, притворившись, будто иду совсем в другое место, посвистывая, последовал за ней. Она замедлила шаг. Мне не было страшно: в свои шестнадцать лет я был достаточно взрослым. Она остановилась, когда я подошёл, но, увидев перед собой подростка, скорчила презрительно-скептическую гримасу.
— Добрый вечер, — сказал я по-русски, с трудом глотая слюну. — Можно пройтись с вами?
Она заколебалась на мгновенье, потом равнодушно пожала плечами:
— Как хочешь.
Она, как и я, дрожала от холода. Я взял её худенькую руку. При свете фонаря я вдруг увидел хорошенькое, нежное личико, бледное и измождённое. Ей можно было дать не больше пятнадцати. Черты лица были не русскими, волосы чёрные.
— Еврейка? — спросил я.
— Грузинка. Деньги есть?
— Конечно.
— Меньше двадцати рублей я не беру.
— Хорошо, — сказал я и с чувством собственника сжал ей руку. Да, полненькой она не была.
— Ты далеко живёшь?
— Нет.
Ещё несколько минут мы шли по колее, потом свернули на узкую тёмную улицу, обсаженную хурмой. «А вдруг у неё венерическое заболевание, — подумал я, — не лучше ли вернуться?» Но мне хотелось стать мужчиной, узнать, что это такое.
Мы вошли в маленькую однокомнатную хибарку с железной крышей. Она чиркнула спичкой и зажгла керосиновую лампу. Я осмотрелся. В углу стояла кровать; на маленьком столике, накрытом красной клеёнкой, пустая консервная банка из-под сардин и грязная посуда. Тут и там — окурки. На подоконнике — гвоздика в горшке.
— Не думал, что сардины ещё существуют, — сказал я, взяв консервную банку, чтоб рассмотреть ярлык. Итальянские. Громко прочёл, чтобы показать, что знаю итальянский.
Она села на край кровати и стала развязывать шнурки на ботинках. А я переминался с ноги на ногу, не зная что делать и с чего начинать. Она сбросила ботинки на грязный истёртый коврик и взобралась на постель.
— Ну, чего ты там стоишь? — сказала она после того, как я заплатил вперёд двадцать рублей, которые заработал, таская багаж на вокзале в Тифлисе. Сняв пиджак, я повесил его на спинку единственного стула в комнате. Она полулежала на кровати, приподняв юбку выше колен и выставив модные розовые подвязки. Я был уверен, что под юбкой у неё ничего не было…
Я старался казаться спокойным и опытным. Но так как я стал волынить, на её губах появилась насмешливая улыбка. Когда она улыбнулась, мне вдруг показалось, что я её где-то видел.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Анна.
Теперь я уже был уверен, что видел её прежде. Странно.
— Где твои родители?
— А ты кто, тайный агент? — Она подозрительно посмотрела на меня.
— Конечно, нет.
— Ну, тогда…
— Батум — красивый город, — сказал я, чтобы выиграть время и набраться духу. — А я только что приехал из Тифлиса. На Кавказе нет другого такого города, как Батум. Он мне почти как родной, хотя родился я в Трапезунде. Я жил здесь пять лет назад у сестры своей бабушки по улице Бебутова-Корсакова.
Она призадумалась:
— Бебутова-Корсакова? Я тоже там жила.
Мы уставились друг на друга. И вдруг я вспомнил — соседская девочка! Мать её была гречанка, а отец — грузин. Она часто приходила к нам во двор поиграть с девочками.
— Мария Баришвили! — вскрикнул я, хватая её за плечи. — Ты Мария Баришвили!
Она закрыла лицо руками.
— Помнишь смешного часовщика в нашем дворе с большим красным носом, которого мы передразнивали?
Она кивнула.
— А русского дьячка с длинными седыми волосами?
Она снова кивнула.
Вытащив бумажник, я показал ей снимок, на котором был сфотографирован с двумя товарищами в Батуме.
— Вот это ты, в белой панаме и с пистолетом, — сказала она. — Ты всегда играл в солдаты. Но как же ты вырос с тех пор!
— Уж эта панама! — рассмеялся я. — Терпеть её не мог из-за того, что она не русская.
Она глубоко вздохнула:
— Да, многое изменилось с тех пор.
— Да, многое. — Я пододвинул стул и сел у кровати. — Что случилось с твоими родителями, где они?
— Мама умерла. Где отец — не знаю. Он был пьяницей и всегда избивал мать. Она заболела, стала кашлять. А отец ушёл, ему было наплевать, что будет с нами. Иностранные моряки меня заставили… делать это. Они мне давали белый хлеб, колбасу, сардины, одежду, всякие хорошие вещички.
— Придёт день, когда не будет больше бедности и голода, Мария, — уверил я её. — Люди станут жить в белых домиках с садами и пчелиными ульями; все будут добрыми и довольными. Ты тоже. Никогда больше не делай этого, никогда.
— Я не хотела, моряки заставили.
Она была такой наивной, совсем ещё ребенок. Я ничего не рассказал ей о своей книге, о том, что на моих плечах — судьбы народов, но убедил её продавать жареные семечки, чтобы зарабатывать на жизнь. Я сам их продавал когда-то. Довольный тем, что перевоспитал её, я поднялся.
— Куда ты идёшь? — она села на постели, скрестив ноги и обхватив руками колени.
— Поздно уже, спать пора. — Я надел пиджак.
— Где ты собираешься спать?
— Под звёздами.
— На улице холодно и сыро. Можешь остаться у меня. — Она робко улыбнулась.
— Но здесь только одна кровать.
— Достаточно большая для двоих.
Я заколебался, но она настояла.
— Ну, ладно, — сказал я.
Я задул лампу. Разделись мы в темноте и легли. Я стойко держался края кровати, как можно дальше от неё. Мы немного поболтали. Я рассказал ей, что собираюсь в Константинополь, а потом в Америку, что буду учиться в больших университетах и в один прекрасный день вернусь в Батум совсем уже другим человеком.
Она хотела, чтобы я её тоже забрал в Америку, но это было совершенно невозможно в данных обстоятельствах.
Когда она повернулась и прижалась ко мне, моё сердце готово было вырваться из груди. Я почти не дышал. Тихонько отодвинулся. Мы молчали, я притворился спящим. Вскоре и она глубоко дышала. Я слегка тронул её. Мария не проснулась. Выскользнув из кровати, я схватил в охапку одежду и обувь и выскочил из хижины. Огонь, который я тогда разжёг, почти угас, и я добавил краденого угля.
Я спал под открытым небом, но с чистой совестью.
Однако следующим утром я снова её встретил.
— А я решила, что ты уже в Константинополе или в Америке, — сказала она, лукаво улыбаясь. — Ты меня испугался?
— Я себя испугался.
День мы провели вместе. Ходили купаться. Стройная, как берёзка, с грудью, похожей на две половинки граната, в воде она оказалась красивым, резвым существом. Затем мы пошли в порт. В док вошёл итальянский пароход «Рим» компании Ллойд Триестино — замечательное судно! Мария отказывалась подойти поближе.
— Моряки меня знают, — объяснила она.
В воде вокруг парохода плавали кусочки белого хлеба, бутылки из-под пива и консервные банки. Перегнувшись через поручни, матросы наблюдали за часовыми и голодными оборванными жителями города, которые подобно мне жадно уставились на плавающие кусочки белого хлеба. Я стал думать, как попасть к ним на судно. Позже, прогуливаясь с Марией по бульвару, мы заметили сидящих на скамейке трёх итальянских моряков.
Оставив Марию чуть поодаль, я подошёл и по-итальянски приветствовал их. Затем продекламировал итальянские стихи:
Rondinella pellegrina, Che ti posi il sul verone Ricontando ogni mattina Quella plebile canzone?[37]Ha самом лучшем литературном итальянском, на который я был способен, я рассказал им, что и сам похож на странствующую ласточку из печальной песни. И пропел:
Quando io nacqui Mi dice una voce Tu sei nato A portare la croce.[38]Да, говорил я им, я тоже рождён нести своей крест. А когда за этой песней я спел «Санта Лючию», матросы были заметно тронуты. Мы разговорились. Я узнал, что «Рим» отплывает в Стамбул в тот же день в шесть часов вечера с остановками только в Трапезунде и Самсуне. Тогда я честно признался, что хотел бы поехать зайцем на их пароходе до Константинополя. Они обещали никому не говорить об этом и по возможности помочь. Но надо было быть очень осторожным, потому что если уж меня поймают, они ничего не смогут поделать.
За полчаса до отплытия мы с Марией стояли у причала, но близко к пароходу она не подходила. Все пассажиры были иностранцы, в основном персы, хорошо одетые, солидные мужчины и несколько женщин в чадрах. Я ломал себе голову, как бы проскользнуть на пароход незамеченным. Оставались считанные минуты, когда меня осенило: конечно же, носильщиком! Ведь в некотором смысле я был профессиональным носильщиком. Итак, схватив багаж какого-то перса — два тяжёлых сундука, — я вместе с ним поднялся по трапу мимо всех — и наших, и итальянских представителей и охраны. Никто не остановил меня. Поставив вещи в каюту перса, я поблагодарил его за чаевые… и остался на палубе. Для окончательной проверки паспортов наверх поднялась группа служащих. Один из них подозрительно посмотрел на меня, но я притворился итальянцем, членом судовой команды. Одежда моя была хоть и грязной, но, в общем, её мог носить любой итальянский мальчишка. В эту критическую минуту, завидев одного из матросов с бульвара, я прокричал ему что-то по-итальянски. Подозрительные служащие перестали на меня коситься, и я на некоторое время оказался в безопасности.
Мощный вибрирующий шум моторов привёл в трепет каждую клеточку моего тела. Я стал молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твоё, да придёт царствие твоё, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Я бросил взгляд на Марию, на покрытые снегом вершины гор, окрашенные закатом в малиновый цвет, и на здания, — мне хотелось запечатлеть в памяти все подробности этих минут, и всегда их вспоминать, даже в далёкой Америке. Мария помахала мне рукой, а я украдкой махнул в ответ.
Трап подняли, громадное судно тронулось. Вспенивая воду до молочной белизны, величаво разворачивалось громадное морское чудовище — «Рим». Мария вместе с берегом скрылась в синеве сгущающихся сумерек. Прощай, Мария! Прощай, Батум! Прощай, Арарат!..
На палубе я приискал себе убежище. Один из моих знакомых моряков принёс тарелку спагетти с жареным мясом и несколько ломтиков белого хлеба.
— Оставайся здесь, — сказал он. — Не выходи. Не нужно, чтоб тебя видели.
Пароход бросил якорь в Трапезунде глубоко за полночь. Я выполз из укрытия и печально посмотрел на родной город. На берегу мерцали огни. Виднелись очертания Гузел-Сераи, старого Генуэзского замка, кипарисов турецкого кладбища, креста армянской церкви, высеченного в скале византийского монастыря на Сером холме. Позади них возвышалось понтийское царство тёмных елей.
Приблизившись к пароходу, флотилия длинноносых гребных лодок, похожая на морских верблюдов, выгрузила своих пассажиров. Турки вскарабкались вверх по трапу. Знакомый страх сковал меня.
Вдруг я очутился лицом к лицу с начальником пассажирской службы.
— Tichetta[39], — сказал он, намереваясь закомпостировать мой билет.
Я покачал головой.
— Passaporte[40], — потребовал он.
Я снова покачал головой. Сжав зубы, он схватил меня за плечи и сердито толкнул к трапу. Дав знак турку-лодочнику, чтобы тот забрал меня на берег, он пытался оторвать мои руки от поручней, за которые я изо всех сил уцепился.
Вокруг нас, наблюдая за схваткой, собрались пассажиры. Дважды я чуть не угодил за борт. Глубоко внизу, в чёрной бездне моря, ударяясь о высокие железные бока парохода, меня ждала турецкая лодка, а Трапезунд в ночи с мерцающими огнями проливал по мне слёзы. Я увидел в море множество вперившихся в меня мёртвых глаз, с нетерпением ожидающих, что я присоединюсь к ним, войду в подводное царство мёртвых, чьи тщетные крики и мольбы о пощаде никто не услышал, когда их топили во время резни.
Начальнику уже удалось столкнуть меня на две ступеньки вниз по трапу, когда для выяснения происходящего явился капитан «Рима», и я тотчас же обратился к нему, как один культурный человек к другому, на смеси итальянского с французским:
— Monsieur le capitaine, je suis un étudiant Arménien[41]. Я хочу уехать в Америку изучать науку о земледелии. Моих родителей и родственников турки убили здесь, в Трапезунде. Мне удалось спастись. Этот лодочник не довезёт меня до берега, а утопит в море. А если и довезёт, они меня расстреляют. Мы, армяне, являемся распространителями la lingua e la cultura Italiana[42].
Он слушал меня с трубкой во рту. Турки и персы почтительно расступились. Даже начальник пассажирской службы ослабил хватку.
— Пусть остаётся, — сказал капитан.
Теперь я мог свободно передвигаться по пароходу. На палубе было холодно. Какой-то турок-пассажир предложил мне свою койку, но я вежливо отказался. Волнение улеглось, и пассажиры вернулись в свои каюты. Многие вынесли постели на палубу и спали там. Я стоял один на носу корабля, подняв воротник пиджака, засунув руки в карманы, и вглядывался в море, в то время как «Рим» прорезал его гладь.
Голос моря звучал теперь как органная месса при лунном свете. «Сердце моё — как твёрдый красный щит, — бормотал я. — Сердце — как звезда на моей груди. А грудь моя — вселенная. Я плыву в Америку, в большое будущее на плоту своей мысли. Маяком мне служит горящее сердце мира — мой проводник в звёздной ночи».
Мне виделось, как из вод выходит Мария, и мы плывём вместе по лунной дорожке в широкий простор моря. Со всех сторон нас окружают морские духи, а звёзды осыпают цветами апельсина. Взмахнул крыльями ангел и улетел с веточкой к Святой Марии. Седовласый старец, морской бог, упёршись головою в звёзды, а ногами в воды, поженил нас, и стаи сирен закружились в волнах в свадебном хороводе.
Когда «Рим» вошёл в Босфор и прибыл сторожевой катер, капитан отослал меня в котельную, где я спрятался в корзине с углём. После того, как сторожевая служба удалилась, а «Рим» бросил якорь в Галате, я выскочил на палубу, стряхнул с шапки угольную пыль, лихо нахлобучил её на голову и зашагал завоёвывать мир.
Глава девятнадцатая БОЛЬШОЙ ОБМАН
Меня мучила совесть, и не раз мне хотелось сознаться во всём, но я не осмеливался. Всё это зашло слишком далеко. К тому же я не был уверен, что если и скажу правду, мне поверят.
После того, как я сходил в турецкую баню и смыл с себя грязь, копоть и вшей, накопившихся в мою бытность бродягой и безбилетником, меня приняли в один из приютов в Пера, где я нашёл своего брата Оника чистеньким и невредимым. Вместе с двадцатью другими приютскими мальчиками мы стали посещать Армянскую Центральную школу.
Паломничество к Арарату стоило мне года: Оник был уже в пятом, а я в четвёртом.
— А ты помнишь, отец собирался отправить нас именно в эту школу, когда подрастём? — спросил Оник.
Я помнил. Это была старая известная школа, но меня всегда удивляло, что она находится в трущобах Галаты, в левантийских лабиринтах, кишащих проститутками, пьяницами и подонками со всех частей света.
Оник показал мне фотоаппарат — первый приз за лучшие оценки в школе, а это кое-что значило, потому что в школе было много блестящих учеников.
— Отец был бы счастлив, — сказал я, рассматривая фотоаппарат. — Он всегда хотел, чтобы мы были первыми в учёбе.
У Оника судорожно скривился рот, и мы отвели взгляды. Даже через несколько лет мы старались не упоминать в разговоре убитых родителей и родственников. Я всё ещё не мог видеть аптеки, не представив за прилавком смуглое, стареющее лицо отца, а вспоминая мать, с трудом сдерживал рыдания.
Я считал, что учусь в Центральной временно, до отъезда в Америку. А пока нужно только немного натаскаться по математике, естественным наукам и английскому. К счастью, английский оказался обязательном предметом, и преподавал его выпускник Робертовского колледжа. Большая часть учебников была на французском, и программа в основном соответствовала программе французского лицея. Как и большинство армянских школ, Центральная была крайне бедна.
Я мечтал о поездке в Америку, и соответственно строил свои планы. Однако хранил их в тайне. Даже брат не догадывался, что у меня на уме. Но как попасть в Америку? Денег не было. Может, попытаться доехать до Нью-Йорка зайцем? Это было бы чудесным приключением. Но я боялся, что какой-нибудь современный Нат Пинкертон или Ник Картер, чьими подвигами и ловкостью я так восхищался, в конечном счёте схватят меня и бесславно отправят назад.
По непонятным мне причинам законы об иммиграции благородной и гуманной Америки были слишком строги и бесчеловечны. Не могу же я изучать земледелие и всю американскую культуру подпольно?
Однажды в приют пришёл человек с сигарой в зубах.
— Я — коммерсант из Багдада, — сказал он. — Клуб армянских женщин Багдада собрал денежный фонд, чтобы дать образование двум сиротам, имеющим способности к изящным искусствам. Дамы хотят, чтобы мальчиков отправили в лучшие школы Европы для усовершенствования. Я приехал выбрать двух счастливцев среди вас.
Мы были потрясены. Вот так Багдад! И как это похоже на армянок! Однако эти патриотки скинули меня со счетов, потому что я не имел способностей к изящным искусствам. Неужели они не знают, что спасти нацию можно только приняв на вооружение американскую науку? Зачем попусту тратить деньги на искусства?
Наши музыканты достали свои скрипки, флейты, трубы и стали неистово упражняться. Другие ребята принялись ожесточённо рисовать. Один из них всё рисовал красивые головки турчанок. Снова появился у нас похожий на английского лорда богатый коммерсант с неизменной сигарой во рту, богатый и щедрый. Позже мы узнали, что он ещё и поэт и учёный, местная газета печатала его переводы четверостиший Омара Хайяма.
— Только искусство стоит чего-то в жизни, — говорил он нам. Он прослушал старательную игру наших музыкантов, просмотрел рисунки и картины, посоветовался со специалистами и, наконец, объявил своё решение: послать в Вену изучать живопись мальчика, рисовавшего головки турчанок, а моего брата Оника — учиться игре на скрипке. Таким образом, их будущее было обеспечено.
Коммерсант тем временем подыскал себе жену и вернулся в Багдад с обаятельной учительницей в роли счастливой невесты.
Наши математики надеялись получить право на французскую стипендию на конкурсных экзаменах, проводимых Alliance Française, чтобы изучать инженерное искусство в Ecole des Ponts et Chausses или даже в St. Cyr-е[43]. Но в математике я считался классическим тупицей. Внезапный скачок от арифметики к аналитической геометрии принёс мне несказанные мучения. Директором школы был известный математик — «армянский Пуанкаре» — и нас начиняли огромными дозами математики. Блестящие знатоки этого предмета чувствовали себя в школе хозяевами положения. Слушая, как они болтают о дифференциальных уравнениях и о ряде Фурье, я глубоко страдал от чувства собственной неполноценности.
Только двое ребят с литературными наклонностями — Ваграм и Ашот, одноклассники Оника, — могли ещё как-то сохранить свои позиции в школьной иерархии. Ваграм считался литературным гением, да и внешность у него была примечательная: большая курчавая голова, которую никогда не покрывала шапка, и свободно повязанный галстук, какие носили в то время в Латинском квартале. Он переводил для «Голоса народа», редактором которого был один из наших самых выдающихся поэтов, Достоевского, Максима Горького и Леонида Андреева. Сознавая своё превосходство, Ваграм всегда над кем-нибудь или чем-нибудь подтрунивал. Всякий раз при встрече он пристально разглядывал меня, но никогда не удостаивал беседы.
Ашот, красивый мечтатель, слыл Аполлоном нашей школы. Как молитвенник, носил он в кармане пиджака «Цветы зла» Бодлера и шептал про себя их мелодичные строки. Но я не читал ни Бодлера, ни Верлена, ни Малларме, ни Флобера, ни Пруста, и потому Ашот не проявлял ко мне интереса, хотя и не игнорировал так сознательно и жестоко, как Ваграм.
Я долго обдумывал, что же такое мне сделать, чтобы привлечь к себе внимание людей, доказать им, что я существую? Нужны были друзья, которые помогли бы мне уехать в Америку. Я стал заниматься бегом, чтобы принять участие в Армянской олимпиаде и выиграть медаль, — если стану чемпионом, какой-нибудь влиятельный и денежный поклонник лёгкой атлетики окажет мне покровительство. Начал боксом заниматься. Но от этого плана пришлось отказаться, потому что, я ещё больше исхудал и извёлся. Мне нужно было в день на две тысячи калорий больше, чем обеспечивал наш скудный рацион.
Отчаявшись, я решил выдать себя за поэта.
Поэтов уважали даже больше, чем атлетов и математиков. Моей непосредственной целью было обеспечить о себе хорошее мнение «Армянского агрономического общества», которое время от времени посылало бедных студентов в Америку изучать земледелие.
И вот как я стал поэтом. Напевал я русскую песенку о Днепре, которая всегда навевала яркую картину колышущихся в лунном свете пшеничных полей и медленно текущей широкой полноводной реки. Песенка привела меня в нужное настроение. Схватив бумагу и карандаш, я принялся сочинять стихотворение. Вначале я заявил, что хочу быть «красным маком на пшеничном поле, чашею для солнца». Затем пустился описывать всё, чем бы мне ещё хотелось стать, превращаясь попеременно то в сверчка, то в деревянный мостик, просёлочную дорогу, крестьянского мальчишку, маленький серебряный крестик на груди у босоногой девчушки. Слова шли сами. Я озаглавил стихи «Пожелание». Переписав начисто красивым почерком, я послал их редактору «Голоса народа», но никому об этом и словом не обмолвился.
В следующее воскресенье, когда мы вернулись с бойскаутской экскурсии на Принцевы острова, ко мне в возбуждении подбежали малыши с газетой:
— Твои стихи! Твои стихи!
Я не верил своим глазам. Вот же они, на первой странице, у всех на виду! Теперь, когда их напечатали, мне стало стыдно. Они казались глупыми и сентиментальными. Мне не хотелось выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. Ребята смотрели на меня как на восьмое чудо света, вновь и вновь читая напечатанное в газете моё имя, словно оно стало их собственным, качали головами, вздыхали, пророчили, что я стану «великим человеком».
Когда на следующее утро я вошёл в класс, мои одноклассники захлопали в ладоши и закричали:
— Поэт идёт!
Некоторые даже повскакали с мест и комично поклонились. У меня стали гореть уши.
Что подумает Ваграм? Я вторгся в его владения, а ведь это он — поэт, избранник «Голоса народа». Мои стихи он сочтёт за пощёчину.
— Позволь поздравить тебя, — сказал Ваграм, протягивая мне руку. — Я начал читать твоё сочинение с… презрением, мысленно рвал его на куски, но закончил с уважением. Мне особенно понравились третья и четвёртая строки второй строфы.
— Ничего особенного, — сказал я, волнуясь и нервничая.
— Я бы не сказал, что стихотворение выдающееся. Тебе ещё много надо учиться.
— Конечно, — охотно согласился я.
— Но на меня оно произвело необычное впечатление. У меня появилось странное ощущение, будто я прочёл свою собственную вещь. Странно, не правда ли? Ты в точности выразил мои чувства. Можно пройтись с тобой?
Неужели это наш гордый, аристократичный Ваграм? Неужели он беседует со мной? Пока мы шли, он продолжал:
— Проанализировав это странное чувство, я понял, почему ты мне не нравился. Ты не против, если я откровенно выскажусь?
— Ничуть.
— Ты мне не понравился с первой же встречи. Тогда ты только что вернулся из Армении и поучал группу мальчиков. Потом я заметил, как ты ходишь взад-вперёд по двору, заложив руки за спину, как Наполеон накануне битвы, и не хочешь, чтоб тебя беспокоили. Твоё высокомерие действовало мне на нервы, — сказал он со смешком.
— Я знал, Ваграм, что ты терпеть меня не можешь.
— Знал? Ха-ха-ха! Да, я тебя невзлюбил. Ты раздражал меня. А ведь мы с тобой и словом не перекинулись. Я ненавидел тебя, чёрт бы тебя побрал, потому что ты так похож на меня! Казалось, я вижу в тебе собственный призрак, а ты же знаешь пословицу: «Кто увидит свой призрак, недолго проживёт»?
— Не пугай меня! — сказал я, и мы оба засмеялись.
Ашот тоже стал мне другом. Подружились мы так крепко, что даже в Америку решили ехать вместе. Но у Ашота была мать, и он не был свободен.
«Армянское агрономическое общество» и в самом деле заметило мои стихи. Обратили внимание на напечатанные вслед за ними и остальные мои стихотворения, восхваляющие природу и деревенский быт. Решив, что время подоспело, я подал им заявление на получение стипендии. И тотчас получил. Стипендия давала мне возможность учиться в земледельческом колледже американского штата под названием Канзас, о котором я никогда прежде не слышал. Община помогла мне получить рекомендацию и все остальные необходимые бумаги, а американский консул обещал дать визу.
Но мне ещё нужно было купить билет на пароход, а в Америке подрабатывать на жизнь.
Представитель пароходства предложил мне билет за полцены, если я подпишу ему благодарность, которую он опубликует в газетах, когда я уеду в Нью-Йорк. Он полагал, что для него это прекрасная реклама, и его компания заполучит больше заказов от армян. Я подписал ему благодарность.
Одна студенческая организация выделила мне пятнадцать долларов. Мальчики, с которыми мы вместе ездили в Армению, теперь все вернулись в Константинополь и работали учениками у гравёров, портных, каменщиков, плотников, ювелиров и кузнецов. Днём они расходились по разным мастерским, а ночью спали в «Доме Викри». Поскольку они зарабатывали несколько пиастров в неделю, то собрали без моего ведома сумму, достаточную для приобретения билета по льготной цене и даже сберегли ещё несколько долларов.
Я пошёл в «Викри» благодарить их.
— Не нужно было этого делать, ребята, — сказал я дрогнувшим голосом.
— Наше образование кончилось, Завен, отныне ты должен учиться за всех нас.
— И принести честь нашей нации.
— Петрос Дурян![44]
— Вы только погодите, ребята, в один прекрасный день он станет президентом Армении.
Они поместили мою фотографию в бойскаутской форме на доске объявлений. Отношение ко мне изменилось, даже грубияны стали трогательно обходительны. Я попытался выяснить, кто и сколько внёс, чтобы потом выслать деньги из Америки, но они отказывались говорить, настаивая на том, что я ничего им не должен, что они рады сделать это для меня. Но я подозревал, что некоторые мальчики отдали все свои сбережения, заработанные буквально в поте лица. Глядя на честные, доверчивые, сильные лица этих удальцов и героев, я чувствовал себя скотиной.
Некоторые ребята вырезали мои стихи из газет и хранили их в записных книжках. «Я не поэт, всё это ошибка», — хотелось сказать им, но я не мог.
Критики и настоящие поэты заметили в моих стихах качества, о которых я и не подозревал. Альманах Армянского Патриаршества собирался перепечатать их. Литературный журнал в Бухаресте хотел напечатать три из них. В Париже кто-то процитировал мои стихи на патриотическом званом вечере. Я не знал, плакать мне или смеяться.
Что я буду делать, когда откроется истина и станут известны приёмы, использованные мной в этих лирических стихах? Божественного вдохновения, как у подлинных поэтов, у меня не было. Просто я напевал себе песенки, записывал уйму слов, пришедших в эту минуту на ум, как делается, когда проводят психологический опыт на ассоциацию идей. Эти слова возвращались ко мне, насыщенные музыкальными образами. Подтасовывая, комбинируя их в строчки и строфы — в постоянном стремлении к новым дерзновенным эффектам, — я получал новое «стихотворение». Я похищал идеи с полотен художников, ведь в каждом из них я видел поэму. Вот что мучило мою совесть. Это было нечестно, пусть даже другие не видят того, что вижу я. Я как бы нашёл формулу стихов, всё стало постыдно лёгким. Конечно же, настоящие поэты творят не так.
Редактор газеты «Голос народа» пригласил меня на обед. Я ужасно боялся встречи с ним. Решил даже написать ему письмо с чистосердечным признанием, что сыграл с ним и его читателями шутку. Я изучал его поэзию в школе, его произведения входили в программу школьного учебника. Был он также одним из наших выдающихся политических деятелей. А я пытался надуть его, уверить, будто я вовсе не шестнадцатилетний школьник, а взрослый человек и зрелый поэт.
Редакция находилась в одном из массивных каменных зданий Галаты под названием Галата-хан. Прямо при входе помещалась маленькая кофейня, поскольку ни одно важное деловое соглашение не совершалось без церемонии угощения клиентов турецким кофе — обычай красивый, способствующий возникновению взаимного доброжелательства. Я поднимался в редакцию по длинной винтовой лестнице, словно карабкался в минарет. Казалось, за каждым поворотом ждёт меня генуэзский купец в красочном средневековом одеянии, чтобы, высунув голову из дверей, пригласить меня полюбоваться на шелка и специи.
В редакции я встретил директора нашей школы, который беседовал с редактором. Наш директор-математик, мужчина с острой бородкой и блестящими чёрными глазами, был похож на Мефистофеля. Выше шести футов, красивый, обходительный — он был больше похож на француза, чем на армянина. Редактор, тоже высокого роста, был интеллектуалом и аристократом, с благородной поэтической внешностью, синеглазый. Много лет назад шайка политических противников напала на него и избила, выбив один глаз. Брат редактора служил во французском флоте, и сам он годами жил в Париже.
Меня приняли сердечно. Директор вёл себя так, будто я никогда не учился аналитической геометрии в его классе, а он не ставил мне плохих оценок. Будучи профессором философии, он интересовался также и литературой.
— Мы только что говорили о твоём стихотворении «Зимняя ночь», — сказал он. И процитировал строфу, где я описывал старого волка, бредущего в деревню, луну, вязким мёдом заливающую его следы на снегу, и Дух Зимы, суровый и одинокий, идущий тяжёлой и медленной поступью по заснеженным полям.
— Твоя луна очень добра к волку, она почти влюблена в него, — сказал он.
— Волк — армянский, — сказал я. И рассказал им, что в стихах, по существу, описывается зимняя ночь у озера Севан, где у меня появилось чувство, что даже волки наши братья, ибо они — свои.
— Я слышал, будто ты хочешь уехать в Америку? — сказал редактор.
— Хочу учиться земледелию.
— А почему земледелию?
Мне не хотелось рассказывать им о своей эпохальной книге по земледелию, которая поможет создать государство изобилия и города-сады на Земле. Душа моя вновь загорелась, я представил белые домики с весёлыми счастливыми детишками и себя, идущего с ними по пшеничному полю, как Христос со своими апостолами.
— Потому что земледелие — важная отрасль, — просто сказал я.
— Но поэзия не менее важна, — возразил редактор. — Предоставь земледелие другим и сосредоточься на том, что является, я думаю, твоим истинным призванием, — на литературе.
— Поэты нам тоже нужны, — сказал директор.
«Старается вести себя дипломатично», — подумал я.
Для него-то единственным важным занятием была математика. Так считают все математики. Достаточно вспомнить Платона и его геометрию.
Редактор поднялся, взял шляпу и трость.
— Allons[45], — сказал он, — пора обедать.
Мы пошли в греческий ресторан, прохладный и тёмный, как винный погреб. За отличным обедом, который состоял из поджаренной на углях баранины, нежной мякоти артишоков в оливковом масле, молодого картофеля и кабачков, они беседовали со мной как с равным. Всё пытались отговорить меня от поездки в Америку, предлагали окончить Центральную школу, а потом, если не раздумаю, поехать учиться во Францию.
— Ты останешься, если мы предоставим тебе отдельную комнату и ежемесячную стипендию? — спросил редактор. — Это не налагает на тебя никаких обязательств, кроме обязательства писать стихи.
Предложение было соблазнительным. Отдельная комната!.. Ежемесячная стипендия!.. Конец приютской жизни… Но условие писать стихи, по крайней мере до тех пор, пока не окончу школу, а это продлится ещё три года, приводило меня в ужас. Ещё три года обмана! Нет, я не мог этого сделать. Надо иметь совесть, в конце концов.
Я отклонил их щедрое предложение. Не за лёгкой жизнью рвался я в Америку. Знал, что и там есть нищета и безработица. Но Великая Тайна, которую я искал, находилась в той части света.
— Американская цивилизация сильна, — сказал редактор. — Она поглотит тебя, как поглотила миллионы других. Ты перестанешь быть армянином, пропадёшь для нашей литературы и нации.
— Я не изменюсь никогда, — уверял я его.
Но мне очень хотелось родиться заново в Америке, вдали от пороков старого мира, начать жизнь сначала. При одной мысли о жизни в Америке все нервы и жилы в моём истощённом теле напрягались подобно натянутым проводам, и казалось, я слышу громовую поступь приближающейся битвы. Я ехал в Америку солдатом на отчаяннейший риск.
Я считал, что наши поэты — слишком добрые люди в этом полном зла мире — в ответе за наши национальные бедствия, в том числе и резню, которая лишила меня родного дома и родителей. Я тщательно изучал нашу политическую историю и пришёл к грустному выводу, что мы — нация Дон Кихотов и неизлечимых романтиков. Глядя на сидящего напротив редактора, я говорил ему в уме: «Вас как знаменитого поэта народ избрал руководителем нашей национальной делегации на Мирной конференции в Париже. И что из этого получилось? Ничего. Нас всегда обманывали, пока воля обстоятельств не привела Советскую Россию к нам на помощь. Разве смогут люди, подобные вам, справиться с Кемалем и Ке д’Орсе?»[46].
Ещё до принятия христианства были у нас цари-поэты. По свидетельству Плутарха, царь Артавазд писал по-гречески трагедии. Несмотря на его союз с Римом, Антоний вероломно схватил Аратавазда и привёз в серебряных оковах в Александрию. Здесь он и был обезглавлен Клеопатрой за то, что отказался поклониться этой потаскухе и назвать её «царицей царей». Многие мои товарищи думали, что я когда-нибудь стану «президентом Армении» только потому, что я «поэт».
— Нужно быть практичными, как американцы, — изрёк я, стараясь выразить свою теорию «земледелие против литературы». — Что пользы от поэзии? Разве можно ею набить голодные желудки? Разве может она заставить турок оставить Карс и Ван?
К концу обеда, когда подали кофе и пахлаву, мне удалось убедить их, что я знаю своё дело. Директор обещал написать рекомендательное письмо богатому американскому армянину — торговцу коврами.
— И дам тебе на французском хорошую характеристику для вашего колледжа, — прибавил он.
— Вы уже дали мне характеристику на французском, — напомнил я ему. Она была у меня в кармане, и я её показал.
— Ах, эта! Да это же ерунда. — Он с извиняющейся улыбкой повернулся к редактору: — Когда я её подписывал, не знал, что Завен умеет писать такие стихи.
— Ему остаётся только подрасти и обогатить свою лиру новыми струнами, — сказал редактор, убеждённый в том, что я «прирождённый поэт».
Я усмехнулся про себя. Но вся эта комедия не переставала тревожить меня. Я открыл было рот, чтобы признаться в обмане, но не смог.
Остаток дня я провёл с редактором. Он подарил мне две свои книги. Мы сроднились, как отец и сын.
Возвращаясь в приют, я поднялся на холм, простирающийся от Галаты до Пера. Солнце истекало кровью над минаретами Айа-Софии, подобно истерзанному сердцу Господа. Я напевал про себя симфонию — некую смесь Шопена, Баха, Бетховена, Вагнера и Римского-Корсакова. Вот уже несколько лет я напевал большие симфонии — они приходили и уходили подобно ветру. С болью в сердце я вдруг вспомнил, что дядя Арутюн тоже ездил за границу изучать земледелие, что и он был поэтом и так и умер в безвестности от туберкулёза. Петрос Дурян тоже пал жертвой этой жестокой болезни. Она сгубила многих наших поэтов. А вдруг я обрекаю себя на ту же участь, хотя я всего лишь играю в поэзию? Страшно подумать!
Я остановился на мгновение и посмотрел на пару тополей, колышущихся на ветру. В их листьях отражался блеск византийского солнца. Мне нравились тополя, благородные деревья, поэты среди деревьев. Глазам предстали трапезундсиие тополя, белые и чистые после прошедшего дождя. Затем живая картина похорон поэта.
Заупокойная месса природы после весеннего ливня. Белые тополя звенят, как церковные цимбалы. Из большой кадильницы доброй земли поднимаются видения. В сгущающихся сумерках в скорбном поклоне молятся домики. Церковный колокол всё кашляет, кашляет, этот кашель — погребальный звон.
Подобны крыльям ласковые пальцы ночного ветерка. Солнце на горе истекает кровью, как Христос на своём кресте. Наступает ночь, но в воздухе ещё парят звуки музыки, и по омытой дождём дороге, словно большие дрожащие свечи, горит бычачий чертополох.
Больной поэт, поклонник природы, наблюдает за всем этим из своего окна и тихо умирает с умиротворённой улыбкой на устах, а церковный колокол душераздирающе возвещает о смерти.
«Мне, наверное, нужно записать всё это», — сказал я себе.
Глава двадцатая АХ, ЭТА НОЧЬ В СТАМБУЛЕ!
— Внешность не заслуживает описания, — сказал Ашот по пути к дому Ваграма, который находился по другую сторону Золотого Рога. — Если бы мне пришлось описать чью-нибудь жизнь, то я ничем, кроме описания его тайны, не занимался бы. Тайна — вот правда, она течёт подобно глубокой и вечной реке внутри человека.
— Это слишком сложно для меня. Что ты имеешь в виду? — рассмеялся Ваграм.
— Хочу сказать, что у всех людей одно и то же — носы, глаза, волосы. Внешне они однообразно и монотонно похожи, а маленькие физические различия между ними для художника незначительны. Однако мыслями, внутренним миром, своей тайной, истинной жизнью мы чрезвычайно отличаемся друг от друга. Вот погляди на заход солнца. В его общепринятом описании на языке цвета, света и тени будет недоставать наиболее существенного — тайны захода солнца.
Ашот был самым величайшим литературным эстетом из всех, кого я когда-либо знал. Говорю это со всей серьёзностью.
Мы прошли через старый левантийский квартал Галаты, где на окнах дешёвых пивных, хозяева которых нанимали официанток из числа белокурых русских эмигранток, были нарисованы флаги многих государств. Стоял непреодолимый запах ракии, духов и чеснока. Мужчины с гвоздиками за ухом без конца вертели ручки шарманок.
— Ребята, посмотрите на этого африканского любовника! — сказал, рассмеявшись, Ваграм. Огромный солдат-сенегалец из французской колониальной армии жадно впился толстыми губами в белое, напряжённое лицо турчанки с откинутой назад чадрой, прислонившейся к уличному фонарю. — Что такое любовь? Какое вы дадите ей определение? — спросил Ваграм.
— Э-эх, любовь… — вздохнул Ашот. — Любовь — это Алис, а Алис — любовь. Вот моё определение.
Ашот был влюблён в хорошенькую, как куколка, школьницу по имени Алис.
— И я так думаю, — согласился с ним мой брат Оник, он тоже был влюблён в Алис. Она и в самом деле была очаровательна. К моему негодованию и досаде, они ходили за ней по пятам. Я же был суровым спартанцем и не любил никаких проявлений романтической чувствительности.
Мы все ещё были девственниками и почти ничего не знали о любви, но это не мешало Ваграму пускаться в метафизические рассуждения на эту тему.
— Что такое любовь — пёстрая ленточка, красивая фигурка или друг для души? Что бы то ни было — это всегда и неизменно — самообман! Ха-ха-ха!..
Любовь… самообман? Я не понимал этого. Но ведь Ваграм постоянно выражал мысли, в которых я не мог разобраться. Возможно, потому, что он был года на два старше меня. Порой он даже говорил как герой из русского романа.
Заплатив пошлину на Галатском мосту, мы перешли в сверкающий остроконечными минаретами Стамбул. За Принцевыми островами солнце медленно погружалось в Мраморное море. Готовясь к вечерней молитве, турки мыли ноги в фонтанах имперских минаретов. Кривые, узкие улочки этого огромного турецкого квартала, полного тайных пороков Востока, после наступления темноты становились отнюдь не безопасными для христиан, хотя к тому времени Босфор кишел большими военными кораблями победоносных гяуров. Над Стамбулом простиралась зловещая тень Мустафы Кемаля-паши. Распространялись беспокойные слухи о новой резне в Анатолии.
Ваграм жил в старом домике, недалеко от древних византийских стен города, подобно этим стенам домик оседал и рушился под тяжестью веков. На шаткой двери дома я увидел два медных дверных молоточка в форме лиры, а позади дома — неизменный для этих мест сад. Мать Ваграма — скорбная вдова, ушла на ночь, не желая мешать нам, мы остались полными хозяевами в доме и могли делать всё, что заблагорассудится. Ашот, Ваграм и мой брат Оник давали мне прощальный ужин — через два дня я уезжал в Америку изучать земледелие. Ваграм накрыл в саду праздничный стол, и пирушка с двумя бутылками «Бордо» началась. Веселье вспыхнуло на фоне разноцветной мозаики византийского заката и продолжалось под яркими алмазами восточного неба. Мы подняли бокалы и запели нашу застольную:
Ах, как хорошо быть пьяницей И весь день пить вино, Ах, как хорошо слоняться без дел, Ла-ри тумбара ла-ла-ла!Вино быстро ударило нам в голову, мы ведь не привыкли пить. Оник взял скрипку и сыграл «Очи чёрные», после чего я поднял бокал и стал сочинять:
— Солнце Стамбула упало подобно окровавленной голове… и умирает день, страстно и грациозно, как черкесская танцовщица, опьянённая агонией своей смерти… О боже, вернётся ли когда-нибудь солнце? Ребята, посмотрите на луну! Она поднимается по золотым улицам небес на прогулку… Посмотрите на неё, посмотрите же, она танцует под музыку ночи… она — душа черкесской танцовщицы, эта луна…
— Ладно, хватит!
— Больше сыра и меньше поэзии!
— Передай мне бутылку и маслины!
Мы ели, пили и орали, ударяя кулаками по столу.
— Кто поведёт меня к алтарю таинств? — вдруг протрезвев, спросил Ашот. — Давайте напьёмся нежной прохлады этой ночи, как голубого абсента, ибо завтра мне придётся покрывать наготу человеческую. (Ашот был учеником портного).
— Просим речь! Речь! — требовали мы.
Он поднялся с серьёзным выражением лица — мечтательный отсутствующий взгляд горящих чёрных глаз.
— Я посвятил себя, — заявил он, — поискам тайн!
— Опять эти тайны… Я сдаюсь… Ха-ха-ха! — прогремел Ваграм.
— Тихо! — потребовал Оник, ударив кулаком по столу. У него были нежные, белые, как у девушки, руки. — Тихо, говорю вам! Давайте послушаем его. Давайте послушаем великую таинственную речь Ашота Великого. — Настроение у Оника было приподнятое.
— Хорошо, я извиняюсь, — рассмеялся Ваграм. — Ну, валяй, Ашот, расскажи нам всё о тайне.
— Я посвятил себя поискам тайны, — твёрдо повторил Ашот. — Только тайна отличает одного человека от другого, и в то же время она — единственная связь между людьми. Только увлечённость тайной помогает мне выносить эту жизнь — иначе бы я покончил с собой. Если бы не желание проникнуть в сокровенное, я бы не вынес этой пустоты. Разве это безумие — доискиваться настоящих истин, смысла всего сущего?
— Конечно! — сказал Ваграм.
— Наше поколение, — продолжал Ашот, не обратив внимания на Ваграма, — наделено стремлением к победе и любовью к песне. Нас осталось немного, большинство убиты, но мы, выжившие, сильны, мы сильны Богом. Наше осиротевшее поколение обладает гением печали, неукротимой силой печали. Вы знаете, что в жизни я был всегда одинок. Пусть это не звучит чувствительно и сентиментально, но сейчас, когда один из нас уезжает в Америку и мы с ним, может быть, никогда больше не увидимся, я не боюсь сказать, что люблю вас как братьев. И никакая другая любовь в моём сердце не превзойдёт моих чувств к вам. Конечно, я люблю Алис, но она — всего лишь источник вдохновения, идеал совершенства. Я её как личность совсем не знаю, она только прекрасный символ, в ней воплощены все тайны её пола. — Он повернулся ко мне: — Когда ты уедешь в Америку, я буду каждый день в определённый час духовно сообщаться с тобой.
Ашот закончил свою речь и, дрожа от наплыва чувств, сел.
— Дайте мне, пожалуйста, платок. После таких слов нужно хорошенько поплакать! — насмешливо произнёс Ваграм. Затем встал и гневно уставился на нас. Сильный, как вол, с копной курчавых волос, он вдруг стал похож на молодого ассирийского тирана, готовящегося завоевать мир. — Чёрт возьми! — воскликнул он по-русски. — Мы же собрались здесь повеселиться. Что за сентиментальная болтовня! Почему ты не родился женщиной, Ашот? В самом деле, ты так красив, что мог бы сойти за девушку. Только пришлось бы чуть накраситься. Послушай, если бы у меня были такие розовые щёки, я бы непременно захотел стать женщиной. — И он залился смехом.
— Простите меня, мальчики, я ничего не могу с собой поделать. Не могу не смеяться — кругом всё так забавно. Некоторые думают, что я сумасшедший, когда я так часто смеюсь, но я и над собой смеюсь, это их ещё больше выводит из себя, а мне делается ещё смешнее. Но я хочу сделать одно признание, и не вините меня за это, потому что это Ашот всё начал. Я воевал в окопах Вана, три раза в жизни был близок к самоубийству, но моё сокровенное внутреннее чувство — глубокая жалость к человечеству.
— Позвольте мне сделать ещё одно заявление. Один из нас — лучший в Стамбуле скрипач, его удостоили стипендии, чтобы он учился в Вене. Я завидую тебе, Оник. Другой наш товарищ не крестьянин, но уезжает в Америку изучать сельское хозяйство. Ашот будет вечно и непрестанно изучать тайну и, как знать, может, когда-нибудь напишет новый коран. Что же касается меня, я хочу стать моряком на военном корабле! Вот вам достойное занятие для мужчины!
На мгновение замолчав, он усмехнулся, потом нахмурился.
— Сенг-Си, — вдруг сказал он. — Ребята, вы слышали, историю Сенг-Си, китайца? Это поэтическая притча об основных ценностях жизни. Юноша Сенг-Си стремился к власти. Когда на верблюде ему преподнесли дары жизни, он выбрал власть и отверг женщин. Он странствовал по всему миру, имел всё, чего душа захочет, но не было у него спутницы жизни. Ему была чужда женская красота. Сенг-Си потратил все свои душевные силы на жезл — символ власти. Но когда он состарился, на него снизошло прозрение. Он увидел игривых, весёлых детей, которые не были его детьми, увидел женщин, смеющихся над его дряхлым, старческим телом. Я когда-нибудь напишу об этом.
— А это, кстати, напоминает нам о том, что нужно приступить к изданию собственного журнала! Это будет толстый журнал: поначалу злой, сердитый и страстный, а впоследствии спокойный и грустный. Назовём его «Метла» и сметём ею всю паутину, опутавшую умы людей, выметем всю пыль и грязь! Завен прав. Нам нужно вернуться в деревню, к народу. Вся эта высокая культура, утончённость и байроновская хандра противны мне. Моя вторая заветная мечта, кроме служения на военном корабле, — закончив напряжённый трудовой день, посидеть в поле на травке и поесть хлеба с солью и луком.
Ваграм потянулся за бокалом, осмотрел, прищурившись, содержимое и залпом осушил его. Он причмокнул от удовольствия и продолжал:
— Хочу жить подобно песне, песне скрипки! Ребята, давайте примем твёрдое решение — стать самыми сильными, самыми добрыми и самыми совершенными из людей. И в заключение позвольте сказать следующее: хочу отрастить усы, я для этого уже достаточно взрослый. И на это есть причины. Некоторые женщины любят дьявола за то, что он весь покрыт волосами! — Ваграм расхохотался и сел.
За ним поднялся Оник.
— Я не умею произносить заумных речей, — сказал он, — но я вам сыграю любимые мелодии Завена.
Оник пронёс свою скрипку сквозь войну, резню, революцию и переселения. Скрипка была частью его самого. Он сыграл мою любимую увертюру к «Тангейзеру», а мы барабанили по столу пальцами и пели мелодию. Затем ещё с полчаса Оник играл русско-цыганские и армянские романсы. Мы выпили ещё, поели маслин и сыра, и наконец пришёл мой черёд держать речь. Я был шутом нашей компании и самым младшим в ней. Не успевал я и рта раскрыть, как они уже смеялись, а в залатанной форме американского солдата — подарок организации «Ближневосточная помощь» — я и вовсе был похож на пугало: одни кожа да кости, форма висела на мне, как на вешалке, а буйную чёрную шевелюру невозможно было причесать.
Но в тот вечер я был серьёзен и важен.
К тому времени похожий на героя Достоевского Ваграм измерял пальцами размеры луны, Ашот отчаянно доискивался в уме тайного смысла явлений, а скрипка Оника скосилась набок. Мне с трудом удавалось держаться на ногах. Вино сделало своё дело.
— Я нашёл на карте колледж, куда поеду, — сказал я. — Он в самом центре Америки, этот сельскохозяйственный колледж в штате строго геометрической формы, четыре прямые линии, совершенно прямые, как брусок сыра… Вы находите, что у меня забавный вид… Хотите поспорим, что я вернусь с красивой и богатой женой — вдовой американского миллионера? Рыжеволосой вдовой. Она живёт в Чикаго. Вот я вижу её сейчас. Ага, вот она! Говорит со своим попугаем. Она одинока, ждёт меня. Живёт на последнем этаже такого высокого здания, что если смотреть на его окна с улицы, шапка свалится с головы… Ребята, говорят, в Чикаго есть общество рыжеволосых миллионерш с собственной конституцией и клубом.
Пауза. Ещё один глоток вина.
— Мы должны жить как древние боги! — закричал я. — И как трубадуры прошлого… Вперёд, марш! Мы в окопах. К чёрту искусство! Я за то, чтобы расстреляли всех поэтов. Лучше сажать в Армении деревья, чем писать прекраснейшие в мире стихи. Да здравствуют деревья! Если стихи обязательно нужны, пусть они будут сельскохозяйственными: стихи о коровах и пчёлах, тракторах и стальных плугах… Американские машины спасут нас! Я уезжаю в Америку изучать научное земледелие, потому что это самая верная основа развития нашей нации. Земля, священная и вечная земля!.. Пусть трусы и дураки замыкаются в своих башнях из слоновой кости. Я — дерево. Простирая руки к ветрам, врастая ногами в священные хачкары нашей земли, я стою на горе, как Христос. Внизу под собой я вижу на полях комбайны, похожие на гигантских птиц с раскрытыми крыльями, а лезвия стальных плугов сверкают под солнцем, и от их страстных поцелуев разверзается чёрное чрево земли. Чрево, мальчики, чрево невозделанной земли, девственное чрево земли, святой и вечной земли!..
И каждой ночью в озарённом луной винограднике стройные красивые деревенские влюблённые будут собирать урожай. Каждая слезинка из глаз наших мёртвых матерей превратится в виноградину — прекрасную, прозрачную, напоённую лунным светом. А сверчки станут цимбалами в этой молитве, в молитве и песне наших сердец… Лары-тумбара ла-ла, ла, ла, ла!.. Четыре прямые линии, совершенно прямые, у реки Миссури… Но мы — солдаты в окопах, вперёд, марш!..
Теперь я уже скакал вперёд и угрожающе размахивал воображаемым мечом. Я видел своих друзей сквозь пелену. Они превратились в призрачные видения в тёмной, вращающейся, отдаляющейся и приближающейся пустоте. Их голоса доносились до меня издалека, проходя огромные, таинственные космические расстояния. Я услышал, как Оник снова заиграл на скрипке, Ашот громко читал Бодлера, а Ваграм хохотал до упаду, но и музыка, и голоса их доносились до меня словно из другого мира.
Глава двадцать первая К ВЕЛИЧАЙШИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Из Новороссийска приехала в Константинополь моя сестра Нвард, и мы все четверо снова на несколько дней оказались вместе. Один из наших друзей, специалист по византийским драгоценным камням и антиквариату, пригласил нас к себе в Арнавут-Кой — красивейшее предместье города на берегу Босфора, в то раннее лето похожий на уцелевший с незапамятных времён уголок рая.
Вниз по склону холма рассыпались почерневшие, словно древние иконы, домики из ветхой древесины с садами, спускающимися к морю террасами. С этой стороны Босфора находилась круглая, с амбразурами, башня римского замка Румели-Исар, а с другой, прямо напротив, возвышался анатолийский замок — Анатолу-Исар. Одной из первых прочитанных мною книг была история осады и захвата Константинополя Мухаммедом II Завоевателем, как называли турки этого остроносого крысоглазого султана. Всякий раз, глядя на построенные им замки-близенцы, я вспоминал трагический, но отнюдь не бесславный конец Восточной Римской империи и мысленно представлял, как лежит в руинах последний из цезарей в обагрённых кровью сапогах.
Для Нвард, получившей сугубо греческое образование, Константинополь обладал волнующей притягательностью. Ей тоже приятно было узнать, что многие византийские императоры и полководцы были армянами. Нвард привезла с собой семейные драгоценности, которые сберегли во время резни наши греческие друзья. Некоторые из них мы продали, а остальные разделили между собой. Мне досталось обручальное кольцо мамы. На него невыносимо было смотреть. Бриллиант, вставленный в корону из золотой филиграни, казался мне её слезой. Наша встреча была короткой. Мои сёстры собирались уезжать в Египет к нашим родственникам.
Наш друг антиквар был элегантным мужчиной с длинной поповской бородой. Он носил гетры и цветок в петлице и называл всех mon cher. Список его подопечных был длинным, но нас он практически усыновил. Когда готовились к благотворительному балу, он брал на себя все приготовления. Он прикалывал медали чемпионам легкоатлетических соревнований, нанимал учителей, находил выпускникам работу, был опекуном в приютах и школах. В течение нескольких дней, пока я жил у него, я получил полное представление об общественной жизни города, посещая с ним разные вечера, толкуя о политике с торговцами и юристами. Он часто брал меня с собой. По вечерам, когда он возвращался из своего магазина-музея, где продавал драгоценности из византийских кладов, мы ужинали и отправлялись с ним на прогулку по набережной Босфора. Мы наслаждались ночным великолепием Константинополя, где жизнь, согласно её арабскому названию «дер саадет», представлялась вечным блаженством. Из портового казино в Босфор лилась музыка, исполняемая греческим оркестром мандолин; похожие на гигантских светляков плыли в темноте паромы; воздух оглашался криками греческих рыбаков, расставлявших на песке сети, и турецких лодочников, ведших шлюпки на буксирах против течения, которое здесь было таким сильным, что невозможно было грести. Решетчатые окна турецких домов отбрасывали на воду причудливо переплетающиеся отблески, а Римский и Анатолийский замки сверкали в лунном свете золотыми зазубринками. Как мне будет недоставать всего этого в Америке! Я смотрел на всё с сознанием близящейся разлуки.
Каждый день мы с Оником купались в Бебекской бухте. Среди мраморных дворцов Бебека были и дворцы персидского шаха и египетского хедива, чьи бело-золотые яхты на якоре служили нам маяком для заплыва. Я завязал дружбу с хорошенькой русской пловчихой, которая, однако, тотчас оборвалась, когда я попытался обнять её в воде.
Бебек с древними платанами и мраморным фонтаном был турецким предместьем. Прохладный и тенистый, он сохранил особое восточное очарование XVII–XVIII веков. Мрачные евнухи, уже высохшие старики в синем одеянии, с отполированными до блеска медными пуговицами всё ещё сидели, как реликвии прошлого, у железных решетчатых калиток. Там же находился турецкий приют, и всякий раз, глядя на проходящих мимо или играющих на пляже сирот, я проникался к ним чувством товарищества. Мне их было искренне жаль. У турок тоже появилось поколение послевоенных сирот. В Константинополе не было признаков открытой вражды между армянами и турками. В достаточной мере европеизированные турецкие высшие круги сумели перекинуть мостик через ту пропасть культуры, которая разделяла мусульман и христиан в провинциях. Влиятельные турки посылали своих сыновей учиться в Робертовский колледж и Галата Сераи, где обучение проводилось на французском языке. Я всегда презирал турок и, как любой армянский и греческий мальчишка, относился к ним с большим высокомерием. Но в Константинополе я по-новому зауважал их. Ислам потерял свой непривлекательный облик, когда я увидел великолепные мечети столицы с четырьмя минаретами. Они отличались возвышенной красотой. Хотя стиль мечетей, — правда, без минаретов, — турки позаимствовали у покорённых ими христиан, но само по себе почитание ими мечети Айа-Софии — этого образца заимствования! — возвысило турок в моих глазах. А к тому времени я уже кое-что знал о средневековых арабах, об их вкладе в математику, медицину, географию, философию и поэзию. Знал о расцвете арабского искусства от Гренады до Самарканда и мог достойно оценить эту сторону исламской цивилизации.
А ведь были ещё столичные турчанки — элегантные, умные, красноречивые, отлично умеющие обходиться с людьми, в том числе и с противоположным полом. Перед их чарами не мог устоять ни один мужчина. В дни сбора средств в благотворительные фонды они прикалывали на грудь прохожим гвоздики, не проводя никакого различия между турками и христианами, и даже я бросал монеты в их ящички. Я думал, что турки своим перерождением обязаны этим восхитительным созданиям, константинопольским женщинам.
Я никому не говорил о том, что сам был очарован парой серых глаз, которые повстречал в розарии. Когда наши взгляды встретились, я заметил, как на губах турчанки заиграла еле заметная улыбка. Она срывала розы и держала букет у груди. Но что меня удивило, и от чего закипела кровь — это проказливая невинность, с которой её глаза так опасно заманивали меня. Такая могла б завлечь и погубить.
Мужчинам христианам запрещено было общаться с турчанками, а запретный плод сладок. В полётах необузданной фантазии я мысленно заводил тайный роман с турчанкой. Она посылала мне из своего сада красные розы, мы обменивались записками, а посыльным служил старый преданный слуга её дома. Я даже подумывал написать нечто сенсационное, вроде истории Ромео и Джульетты и изобразить главными героями армянина и турчанку.
Я часто заходил в общежитие Робертовского колледжа навестить Арама, моего бывшего одноклассника по мхитаристской школе, и Баграта Ерката. Колледж был единственным в Турции учебным заведением, где мальчики обоих вероисповеданий учились вместе. Арам хотел стать химиком. Судя по его рассказам о проделанных химических опытах, он был на пороге изобретения чего-то более чудесного, чем электрический трамвай. Из «дрожащего» Кролика он превратился в рослого, сильного парня. Вот что сделало хорошее питание. Отец Арама, сотрудник американского посольства, мог позволить себе отдать сына учиться в этот колледж, где одна только плата за обучение составляла около четырёхсот долларов в год.
Но как там очутился Баграт Еркат — для меня осталось загадкой. Арам не знал его по России, потому что уехал ещё до того, как Баграт стал нашим наставником. Говорили, что за обучение Ерката платил английский офицер, выпускник Оксфордского университета. Баграт в колледже стал чемпионом по штанге и даже приобрёл определенный лоск. Он вёл себя как английский джентльмен и, хотя стал немного общительней, по-прежнему скрытничал и ничего о себе не рассказывал. Я стал подозревать, что английский офицер угодил в число его новообращённых. В беседах с Багратом я избегал говорить на болезненную тему «общества сверхлюдей», да он и сам об этом не вспоминал. Он печатал свои стихотворения почти каждую неделю, некоторые из его заратустровских излияний появились и в «Голосе народа» на внутренней странице, в то время как мои стихи печатались на первой и по воскресеньям. Два года назад Баграт Еркат казался мне одним из величайших поэтов мира, а сейчас я смеялся над пустой риторикой его виршей. Но я не сомневался в его необычных умственных способностях и всё недоумевал, каков же будет конец этого «гения зла».
Студенческий городок Робертовского колледжа с современными зданиями, лабораториями, спортивным залом, теннисным кортом и беговыми дорожками являл яркий образец американской организации образования. Нигде больше в городе не было таких прекрасных помещений для учащихся… Но самым замечательным было то, что здесь армянские и греческие мальчики сидели с турецкими ребятами в одних классах, находились в ежедневном дружественном общении, без драк и улюлюканий. Среди студентов были также болгары, русские, евреи, англичане, персы, и все жили в согласии. Поскольку у Америки в этой части света не было территориальных притязаний, она пользовалась исключительным авторитетом…
Наступил, наконец, день моего отъезда. Я надел новый костюм, самый дешёвый из тех, что можно было приобрести на Большом базаре Стамбула, где цены были ниже, чем в Галате и Пера. К сожалению, он был не американского покроя, я даже подозревал, что он сшит из армейского одеяла, но зато мои новые остроносые коричневые полуботинки были в моде и у американцев. Беда только, что они скрипели, как колёса несмазанной телеги, и ступать приходилось осторожно. Я впервые побрился американской безопасной бритвой, почистил зубы американской зубной пастой, в общем, начинал жить на американский лад. Вещи я упаковал в чемодан из искусственной кожи: несколько армянских и французских книг, мамино кольцо, семейную фотографию, чистую рубашку и пару смен белья. В кармане у меня было двадцать девять долларов, на четыре доллара больше, чем предусматривалось законом об иммиграции. Мои сёстры уже находились в Египте. Оник, Ваграм, Ашот и ещё несколько товарищей пришли в гавань проводить меня. Пароход, на котором я отплывал, принадлежал греческой компании, но на нём развевался американский флаг. На сердце было тяжело, глаза затуманивали слёзы, когда мы обнялись внизу у трапа. Очутившись на палубе один, я понял, что пускаюсь навстречу величайшему приключению в своей жизни.
Первую остановку наш пароход сделал в Пирее. Для того чтобы осмотреть Афины и навестить доктора Метаксаса, в моём распоряжении было всего шесть часов. Я жаждал увидеть Акрополь и вместе с группой пассажиров вскарабкался по пыльной дороге, ведущей к бессмертным руинам, благоговейно дотронулся до них руками и, сидя под колоннами Парфенона, вообразил себя в древних Афинах.
Эту картину завершил доктор: он мог бы сойти за ожившую греческую статую. Метаксас совершенно поседел, но был всё ещё бодр и энергичен. Семья его отдыхала на курорте, с ним оставалась только его старшая дочь. Хорошенькая, здоровая девочка лет двенадцати, она поднялась на цыпочки и, к моему великому смущению, поцеловала меня. Доктор подарил мне свою фотографию с надписью: «Votre viex père, Andreas Metaxas»[47]. Мы говорили с ним в основном по-французски, потому что я к тому времени успел позабыть греческий, язык детских лет.
Он повёл меня осмотреть город, показал общественные здания и исторические памятники. Современные Афины очаровали меня, но окрестности были голыми и выжженными.
Мы посидели в уличном кафе на площади Конституции, и он подробно рассказал, как он пытался тогда спасти моих родителей. Чувствовалось, что смерть моего отца глубоко потрясла его и надломила. Ведь они тридцать лет были близкими друзьями. Я впервые по-настоящему узнал доктора. В детстве я его побаивался. Моих сестёр и брата он знал намного лучше, я ведь никогда не жил у него в доме. Он предложил мне сменить моё имя Завен на греческое Зенон по имени философа-стоика, предполагая, что оно будет знакомо американцам и его легче запомнить… в нём заговорил грек. Но он хотел, чтобы я оставался армянином. «I’espère vous voir devenir un grand homme de science et un grand patriote — сказал он. — N’oubliez ni votre pays, ni votre nation»[48].
Доктор обеднел, потеряв из-за нас своё состояние, и пытался восстановить своё благосостояние, работая в своём родном городе лечащим врачом. Афиняне не подозревали, какой это был герой — один из благороднейших сынов Эллады. Я представил себя в греческом парламенте — какую бы я произнёс о нём хвалебную речь! А как принимал бы его в Армении — с почётным караулом из пяти тысяч кавалеристов, а после его смерти воздвиг бы ему в Афинах памятник с высеченными на нём словами о дружбе из греческой поэзии или философии (доктор Метаксас умер через два года в Афинах от сердечного приступа по дороге в американский госпиталь, где служил).
В Греции я чувствовал себя почти как дома. Греки были родным мне народом, и во мне, как и в моём брате и сёстрах, жило двойное национальное самосознание — одновременно и армянское и греческое. В некотором смысле греки мне были даже ближе из-за детских воспоминаний. Я научился говорить по-гречески одновременно с родным языком, моими первыми и самыми дорогими товарищами игр были греческие дети. И, наконец, жизнью своей я был обязан грекам.
Только после того, как мы отплыли из Греции, сделав ещё одну остановку на каком-то острове, меня охватило паническое чувство человека, с корнем вырванного из собственного мира. Мне казалось, что я сам остался позади, и что не я, а кто-то другой уезжает в Америку.
На корабле привлекательная и серьёзная девушка армянка попросила меня записать ей в альбом стихи. Вернувшись к себе в каюту в нижней части корабля — я ехал «четвёртым» классом — я написал «Последнюю молитву». В долгом путешествии в заморские страны появляется чувство, сходное с предсмертной агонией. Именно это чувство выражал я, когда писал:
Моя душа — просторный храм. Гремит хорал, мерцают свечи. Но служба кончена — и вот, простоволоса и строга, Шагает девушка в толпе… Прости, господь, что в этот вечер Я так наивен и влюблён, я, бедный инок, твой слуга. Я должен умереть, господь. И пусть в душе моей вместятся Все души страждущих цветов… Пусть хрупким светом в ней горят Лучи задумчивой луны… Пусть одиноко серебрятся В ней волны тихого ручья, что тянет нить, как шелкопряд. Когда же люди, о господь, узнают о моей кончине, Пусть не жалеют, не скорбят, не приближаются в тоске. Пусть эта девушка одна придёт, подобная княгине, Не жалкий огонёк свечи, а лилию держа в руке.[49]Я тогда подумал — может, нужно умереть, чтобы возродиться вновь.
Глава двадцать вторая БЛЕСК И НИЩЕТА
Быстроходные пароходы покрывали расстояние между Стамбулом и Нью-Йорком за две недели, но наш пароход чайки окружили лишь на двадцать четвёртый день плавания. Я увидел длинную узкую полосу загадочной земли, простиравшейся над горизонтом. Америка!.. Дуновение ветерка было как дыхание Нового Света, нежное и благоуханное в первый день сентября. Все выскочили на палубу. Некоторые крестились, но почти все молчали, уж слишком торжественной была минута. Внимание людей было приковано к виднеющейся вдали полоске земли.
Мимо нас неслись парусные шлюпки с американскими флагами, столь непохожие на наши лодки с треугольными парусами, но красивые, весёлые и беспечные. Наблюдая за ними, я испытал чувство воздушной лёгкости — так бы и полетел я навсегда как морская птица, свободная от людских забот и тревог.
Из потемневших вод Атлантики перед нами предстал Нью-Йорк с устремлёнными ввысь башнями — грандиозными кубами, громадными геометрическими формами серебристо-серого цвета, высокими, как горы, воздвигнутые с математической точностью. Неужели это здания? Я замер, уставившись на зрелище Нового Света со статуей Свободы, символизирующей её дух.
Поднимающийся от небоскрёбов дым превращал Нью-Йорк в горящую Ниневию или Вавилон XX века. Какой гордый, торжественный парад индустрии! Перед нами с развевающимися знамёнами шагала из дыма Америка. Маленький смертный человек, такой ничтожный в непреодолимом океане стихий, создал это титаническое чудо на земле. Мне хотелось плакать: «Придите, о боги Греции, Рима, Египта и Вавилона, и посмотрите, что создал здесь человек, человек из Старого Света на земле Нового!» Перед лицом ошеломляющей реальности Америки Европа поблекла до ничтожности, угасла, превратившись в древний миф.
Казалось, все корабли планеты собрались в Нью-Йоркской гавани. Все страны мира прибыли сюда, чтобы возложить к ногам статуи Свободы свои достижения и людей. И надо всей этой лилипутской суматохой и толчеёй, этим шумным праздником гномов, с развевающимися знамёнами дыма гордо шагал Новый Свет.
Наш пароход остановился с резким скрежетом якорных цепей. К нему пристало посыльное судно, и на борт поднялись работники иммиграционной и карантинной служб. Пассажиры выстроились на палубе для проверки документов. Когда проверка закончилась, пароходу разрешили продолжить путь и войти в док собственно гавани — в эти непролазные джунгли кораблей.
Взяв вещи, мы сошли на берег. Пассажирам первого и второго классов после таможенного досмотра разрешили уйти, но тех, что прибыли третьим и четвёртым, изолировали и оставили под охраной. Мы, очевидно, были людьми нежелательными; здесь не учли даже то, что я приехал учиться.
— Нас отправят на Эллис-Айленд, — сказал один армянин.
— Всё это из-за бродяги из четвёртого класса, у него обнаружили вши, — сказал другой, и все расхохотались.
Охранники велели нам сесть на катер. Мы — это разношерстная толпа из греков, албанцев, евреев, венгров, румын, сербов, чехов, русских, армян и даже одного турка. Все были взволнованы и озабочены тем, что нас забирают на Эллис-Айленд. Там пришлось снова заявить, что я против двоежёнства, анархии, государственного переворота путём применения силы; что я никогда не содержался в сумасшедшем доме, не был судим, и в Америке мне никто не гарантирует работы. Я показал им письмо вице-президента известного колледжа в Канзасе о том, что я принят на учёбу и буду изучать сельское хозяйство.
Нам на одежду прикололи полоски цветной бумаги, и краснолицые американские доктора внимательно осмотрели нас.
— Все ищут ту вошь, — снова пошутил один из нас. — Пока не найдут, нас не выпустят.
В столовой от изобилия еды у многих глаза полезли на лоб: мясо, масло, картофель, хлеб, молоко, кофе, черносливы. Ортодоксальным евреям выделили отдельный стол. Ели мы с картонных тарелок картонными вилками и ложками и пили молоко и кофе из картонных стаканов. Всё было очень гигиенично, но еда отдавала картоном. Некоторые утверждали, что масло и мясо — синтетические, производятся машинами химическим путём, чему я склонен был верить.
Мы с любопытством смотрели на негров — работников Эллис-Айленда, удивляясь успехам чёрных африканцев в Америке — они, как и другие американцы, говорили по-английски, носили ту же одежду и очки в роговой оправе. Вечером громадный мулат цвета cafe-au-lait[50] с длинными размашистыми руками и могучим голосом вручил нам дезинфицированные одеяла.
Другой негр в роговых очках объявил имена принятых. Он стал очень популярен. Стоило нам его увидеть, как мы его окружали и каждый в свою очередь спрашивал, попал ли он в новый список. Мы называли его «Багаж». Он всегда говорил «Багаж», прочитав чьё-нибудь имя.
Я не знал, почему меня задержали на Эллис-Айленде. Пароходная компания неправильно записала моё имя, что, возможно, и было причиной задержки. После месяца тревог и страхов дело было улажено, очевидно, благодаря усилиям армянского секретаря Христианского союза молодёжи, и «Багаж» наконец назвал и моё имя. С чувством обретённой свободы сошёл я с катера и вступил в Нью-Йорк-сити.
— Теперь помни, — сказал я себе, — ты и впрямь в Америке, — это — Нью-Йорк. Итак, вперёд!
Я прошагал несколько кварталов, чувствуя под ногами осуществлённую мечту.
На трамвае мне удалось добраться до офиса армянского секретаря Христианского союза молодёжи, оказавшегося протестантским священником и довольно энергичным человеком. Он сказал, что патриотично настроенный торговец коврами, которому директор школы в Стамбуле рекомендовал меня как достойного помощи студента, оплатит мне лишь стоимость билета в Канзас, но платить за обучение в Америке отказывается. Он уже оплатил учёбу в американских колледжах семи армянских студентов и остался ими недоволен. Они оказались «большевиками», и были такими мотами, что носили десятидолларовые шляпы, тогда как его шляпа стоила всего пять долларов. Я засмеялся. Вот это забавно! Мне хотелось повидаться с ним, но для таких, как я, он был недоступен, и секретарь посоветовал мне держаться подальше от его магазина, который, как я понял, был первоклассным заведением с большим штатом американских служащих.
Я был разочарован, потому что надеялся получать от него пятьсот долларов в год, столько, сколько он платил остальным. И всё же я не отчаивался. Я чувствовал, что отныне мир принадлежит мне.
Заплатив доллар за ночлег в дешёвой гостинице, я провёл там бессонную ночь. До утра грохотали поезда и грузовики; стоял такой ужасный шум, что я недоумевал, как люди вообще спят в Нью-Йорке.
К следующему утру, однако, я несколько успокоился и мог уже по-настоящему осмотреть Нью-Йорк. Полицейские, регулирующие уличное движение верхом на лошадях, магазины, одежды, негр-почтальон с утренней почтой в кожаной сумке, автоматы, продающие сигареты, яблоки, апельсины, жевательную резинку, газетные киоски, — всё это крайне заинтересовало меня. И сам Нью-Йорк был городом приветливым, горожане — человечными, а вовсе не пришельцами с Марса, хотя вполне могли показаться марсианами. Я никогда прежде не видел поездов надземной железной дороги, небоскрёбов и газет в шестьдесят-сто страниц, но в остальном ничего необычного для себя я не нашёл. В Стамбуле была своя железная дорога, мост Галата тоже был длинным и местами открывался для прохождения судов, паромы в Босфоре были почти такими же быстроходными и удобными, как и в Нью-Йорке. Внутри город был менее эксцентричным и сказочным, становился совсем обычным, знакомым. Это-то сразу и привязало меня к Нью-Йорку, и мне захотелось тут жить. Как мне не хотелось теперь уезжать в Канзас, сама мысль об этом наполняла душу смутным страхом. Канзас представлялся мне редко населённым сельскохозяйственным районом с разбросанными по нему небольшими поселениями и единственным большим городом — Канзас-сити, обозначенным на французской карте Соединённых Штатов, по которой я справлялся ещё в Стамбуле.
Билет мой был готов, и поезд в Канзас отправлялся в два часа дня. Вот, подумал я, начинаются настоящие приключения! Пришлось напомнить себе, что я — «солдат» и обязан быть смелым. Набрал в дорогу сэндвичей с ветчиной и сыром, завёрнутых в бумажные салфетки. И даже исполнил давнишнюю детскую мечту: купил плитку шоколада весом в целый фунт, на которую я готов был истратить доллар, а заплатил всего двадцать пять центов.
Мне удавалось обходиться несколькими английскими словами, вроде how much; thank you; yes, sir; no, sir; please give me; I wish to go to[51] — и самым полезным для себя выражением из учебника Берлица — What is this?[52] Делая покупки, я задавал этот вопрос, тем самым заучивая названия многих предметов.
На вокзал я поехал в такси, чувствуя себя миллионером. Здание вокзала было похоже на кафедральный собор таких огромных размеров, что стоило мне взглянуть на потолок, как у меня начинала кружиться голова. В воздухе чудилась небесная музыка, здание издавало приглушённое космическое гудение. Я чувствовал себя муравьём, ползущим вместе с тысячами других муравьёв-человечков, таких же ничтожных и нелепых. Самому господу богу пристало воздвигнуть свой трон здесь, под небесным куполом, в звуках космической музыки, с ангелами, летающими у его ног. И подумать только, что это всего лишь железнодорожный вокзал! Но ведь в Америке промышленность — это божество, затаив дыхание, подумал я. И сей великий храм посвящается божеству. Как странно, что американцы — христиане, и как здорово! Христос казался неуместным в Новом Свете.
Я бродил по огромному пространству вокзала, когда ко мне подошёл негр-носильщик и протянул руку за чемоданом.
— Помочь вам с чемоданом, сэр?
— Да, пожалуйста, спасибо, — сказал я, отдавая чемодан, хотя приходилось считать каждый грош, и я бы предпочёл нести его сам.
— Я хочу поехать в Манхэттен, Канзас.
— Канзас? Хорошо, сэр. Идите за мной.
Я с благодарностью последовал за ним к моему поезду и сел в спальный вагон к окну. Меня восхищало спокойное поведение людей, входящих в вагон с вещами. Они не торопились, места было достаточно для всех. Поезд тронулся точно по расписанию, и целый час я ничего, кроме рельсов и вагонов, не видел.
Мужчина в белом пиджаке и кепке расхаживал по вагонам с корзиной, доверху наполненной едой и напитками.
— Арахис берите, граждане, вкусный, свежеподжаренный, с солью! — уговаривал он задушевным тоном. Я взял пакетик арахиса и выпил свою первую бутылочку кока-колы, которую повсюду рекламировали, — новый американский напиток с непривычным вкусом, от которого я ещё больше почувствовал себя американцем.
В Олбани я купил газеты и открыл для себя комиксы. Однако странные рисунки со словами, выходящими из губ героев в продолговатых пузырях, озадачили меня. Я понимал, что они задуманы как юмористические, но ничего похожего я прежде не видел и, даже добросовестно переведя некоторые из слов с помощью карманного словаря, — а многих слов я там вообще не нашёл, — так в них и не разобрался.
Я сделал пересадки в Чикаго и Канзас-сити, и после двух беспокойных дней путешествия, всё время боясь пропустить станцию, прибыл наконец в Манхэттен штата Канзас, приятное спокойное местечко, необычно тихое после шумного Нью-Йорка.
Университетский городок расположился на окраине города, на возвышенности. Белые здания из известняка — я сосчитал их не меньше пятнадцати — показались мне такими роскошными, что я замер в благоговейном страхе. Какая наглость с моей стороны приехать в такое заведение, имея в кармане всего семнадцать долларов! На лужайке перед зданием играл военный оркестр, а студенты с ружьями на плече проходили учения, совсем как в батальоне настоящих солдат. Я никак не думал, что американская молодёжь может заниматься военным делом. На другой лужайке девушки в белых свитерах упражнялись в стрельбе из лука, играли в бейсбол, крокет и теннис. Ну зачем мне ломать эту комедию! Как я могу надеяться на общение с такими развитыми, аристократичными студентами?
Таксист ссадил меня у ворот увитого плющом административного корпуса. В скрипящих ботинках, с потрёпанным чемоданом вошёл я в здание и стал искать кабинет вице-президента, как вдруг со всех сторон зазвенели электрические звонки и длинный коридор заполнился потоком беспечной, весёлой молодежи. Он вливался с одного конца, а выливался в другой, расширяясь в центре за счёт притоков, низвергающихся с двух лестниц. Меня тоже понесло вместе с ними до тех пор, пока я не приискал себе убежище. Я совсем не ожидал увидеть здесь так много студенток, а их были тысячи культурных молодых девушек, похожих на дочерей миллионеров. Перспектива сидеть с ними в классе смущала меня, но может, та богатая, добросердечная вдова с рыжими волосами тоже среди них? Я заметил спортивных львов университета в белых свитерах с большой красной буквой «K». Были и спортсменки, настоящие амазонки, соответственно одетые. Все они излучали здоровье и жизнерадостность и казались такими счастливыми, как взрослые дети, никогда не знавшие печали, страданий и голода. Какая утопия молодости!
Когда коридор вновь опустел, я взял себя в руки, набрался духу и спросил у проходившего мимо студента, где находится кабинет вице-президента, показав адресованное ему письмо. Он провёл меня прямо к его двери.
Вице-президент, смуглый мужчина с седеющими усами, с европейской внешностью, поднялся из-за стола и поздоровался со мной за руку. Сначала я притворялся, будто понимаю всё, что он говорит, а то как же меня примут в колледж, если я не говорю по-английски? Но тут же выдал себя, не сумев ответить на его вопросы.
— Sprechen sie Deutsch?[53] — спросил он.
Я покачал головой:
— Mais je parle un peu français.[54]
Он вызвал преподавателя французского языка, и наши лингвистические затруднения окончились. Этот человек когда-то преподавал в Робертовском колледже и знал ещё и турецкий. Мне пришлось сказать всю правду: что у меня нет ни денег, ни друзей в Америке. Могут ли они дать мне работу? Я согласен на любую. И рассказал им, в каком объёме знаю химию, геометрию, ботанику, зоологию, анатомию и физиологию.
У вице-президента был такой вид, будто на него свалилась большая проблема. Он объяснил, что колледж обеспечивает работой определённое количество студентов и что он рад бы рекомендовать меня, но я опоздал на три недели, и все рабочие места уже заняты.
Он повёл меня к моему будущему декану, архивариусу и другим должностным лицам, и после того, как я заполнил регистрационные бланки, передал меня с рук на руки секретарю Христианского союза молодежи, который одновременно являлся советником по делам студентов и помощником тренера по футболу. Этот джентльмен повёл меня на шумное собрание и произнёс там в мою честь небольшую речь, которую я так и не понял. Произнесли ещё несколько кратких речей, много и ритмично кричали под руководством двух живых подвижных юношей, подающих сигнал к овации; эти также прыгали в такт, кланялись то вправо, то влево и проделывали поразительные акробатические номера под взрывной хохот аудитории. Этот официальный кабалистический клич колледжа содержался в студенческих справочниках, один экземпляр которого достался и мне.
Cay Rah, Gee Haw, Cayhawk Saw. At’em, eat’em, Raw, Raw, Raw![55]Всё было просто замечательно. Именно такой и должна быть студенческая жизнь, подумал я. Вечером из моей комнаты в общежитии ХСМЛ я наблюдал слёт футболистов у костра. Но как ни хотелось веселиться и дурачиться вместе с ними, я держался с достоинством и отрешённо, будучи чужим.
Моя комната мне понравилась, она была идеальной для студента. Заплатил за неё вперёд на неделю — но как быть дальше? Мне не хотелось об этом думать. Я написал восторженные письма Онику и друзьям в Стамбул о своих первых впечатлениях и переживаниях, не упоминая забот, и ещё завел дневник. Моя комната была командным пунктом для будущих завоеваний. Я начну отсюда — уже начал! Вперёд, марш!
Через неделю мне пришлось перебраться в сырую, необжитую комнату в полуподвальном этаже, подметать коридоры ХСМЛ, выполнять всякие лакейские обязанности по общежитию с наигранным весельем, за которым я скрывал стыд и унижение. Но я убеждал себя, что это полезно для воспитания духа. В течение нескольких дней, пока я не устроился на работу в ресторане в центре города, где, к счастью, работало ещё несколько студентов, из коих двое были футбольными звёздами, я питался только хлебом, сыром и водой.
Когда стёрлись новизна и первоначальное очарование этого университетского городка, я почувствовал себя ужасно одиноким. И не потому только, что оказался отрезан от родных и друзей, а по той причине, что мне не повстречался ни один по-настоящему интеллектуальный американский студент, кто бы хотел посвятить себя делу процветания страны или человечества и интересовался бы не только высшими оценками для получения степени. Молодые американцы отличались ясным умом, увлекались лабораторной работой и были удивительно крепкими и здоровыми. Они были лишены какой бы то ни было мелочности. Щедрость и широта отличали характер американцев. Но культурно и духовно они далеко отставали от моих друзей в Старом Свете. Невзирая на все трудности, я был бы счастлив, будь у меня хоть один друг американец! Я ведь искал интеллектуальной дружбы только среди студентов факультета.
Вовлечённый в водоворот американской жизни, я был страшно занят, весь в работе. В основном я утешался, когда переводил Эмерсона. Он выражал мои чувства и мысли. Америка Эмерсона была мне несравненно ближе, такой я её любил и был уверен, что в прежней Новой Англии я бы чувствовал себя как дома.
Тяжелей всего приходилось по воскресеньям. Я чуть не бился головой о стену, сходя с ума от одиночества. Любая вещь из Европы, даже французские журналы в университетской библиотеке, которые, кроме меня, никто здесь, видимо, не читал, вызывали у меня приступ острой ностальгии. Я считал дни и часы, когда получу письмо из Европы.
К тому времени Оник был уже в Вене, а Ваграм и Ашот — в Париже. У них возникли свои проблемы, они тоже переживали разочарование. Франция оказалась не той страной, какой мы её себе представляли и любили. Мы считали, что принадлежим к маленькой отсталой нации Востока, не подозревая, что на самом деле это мы — истинные французы, австрийцы и американцы, и уже обогнали свои идеалы в христианском мире! Они утеряли всё то, что мы хранили и лелеяли.
Только теперь я почувствовал себя по-настоящему обездоленным. Я вздыхал, когда видел играющих возле домов ребятишек, когда невзначай становился свидетелем счастливой семейной жизни за светящимися вечерними окнами, когда ходил один по улицам, томясь от одиночества и воспоминаний. Однажды вечером, возвращаясь с работы из ресторана, где хозяйка, эдакая суровая надсмотрщица, преследовала меня даже во сне, я остановился перед одним домом и стал зачарованно слушать игру на рояле. Играли неумело, видимо, упражнялась девочка, как когда-то играли девочки на нашей улице в Трапезунде. Эти знакомые повторяющиеся пассажи были бесконечно милы мне и прекрасны. Когда перестали играть, волшебство исчезло. Благословив в душе пианистку, я задержался у дома, надеясь, что девочка вот-вот выйдет, и я её поблагодарю. У меня было такое чувство, будто она узнает меня, вспомнит, как мы прыгали через верёвку и играли в классы в далёком мире грёз. Конечно же, мы прекрасно знаем друг друга, пусть мы никогда не встречались, и она — американка, а я — армянин.
Я пошёл к себе ещё на одну одинокую ночь.
Всю ту зиму я не в силах был ни смеяться, ни улыбаться, и сбежал бы в Европу или, по крайней мере, поближе к Европе — в Нью-Йорк или Бостон, если б не стыд.
Но мне не хотелось признавать своё поражение, нет, я не побеждён, вперёд, всё время вперёд! То, что я искал в Америке, — где-то здесь близко, и я это найду! Дети, мимо которых я проходил на улице и не заговаривал, эти повторяющиеся фортепианные пассажи придавали мне мужества, утоляли в какой-то мере мой великий голод и жажду. Мы были похожи друг на друга. Вспомнив стихи, написанные на пароходе, я сказал себе: я умираю — но с тем, чтобы родиться вновь.
Глава двадцать третья АМЕРИКА У МЕНЯ В КРОВИ
С весной возвратилась и надежда. Очнувшись от смятения первой проведённой в одиночестве зимы в Америке, я снова воспрял духом, увидев, как зеленеют лужайки, цветут одуванчики — совсем как в Трапезунде и Константинополе. Мои старые знакомые — одуванчики — вновь со мной, сотнями, тысячами улыбаются мне на улицах. Я радовался, как выздоравливающий после тяжёлой болезни, срывал одуванчики дрожащими пальцами, чтобы убедиться, что они настоящие.
Однако сейчас, летней ночью, в поезде, мчавшем меня в Канзас, возобновившаяся в сердце боль от жизни на чужбине превратилась в острое физическое страдание. Ферма, где я должен был проходить практику для получения степени по агрономии, находилась за сто миль от города. Я ещё больше отдалялся от Европы. Студенческий городок в Манхэттэне, где я так несчастливо прожил всю зиму, показался теперь зоной охраны культуры, эдаким европейским оазисом в диких дебрях Америки. Поезд с ошеломляющей скоростью мчался вперёд, а снаружи в темноте таилась пугающая неизвестность. Время от времени, тревожно выглядывая из окна во мрак ночи, я видел причудливые, мрачные силосные башни, возвышающиеся подобно деревянным минаретам. Или то были первобытные могилы, в которых обитали одинокие призраки индейцев? Так или иначе, деревянные башни напоминали мне Турцию, заполняя душу ужасом перед мусульманской Азией.
Когда я сошёл на маленькой сельской станции, где Гарри, мой друг по колледжу, дожидался меня в семейном форде, у меня появилось ощущение человека, прилетевшего с ракетой на Луну. Его присутствие в этом удивительно нереальном мире немного успокоило меня.
Миновав улицы маленького городка, мы выехали в открытую местность. Поля и леса светились под луной. Я почувствовал запах ветреницы, знакомый аромат залитой луной летней земли, когда пшеницу вот-вот скосят, маки высотой по колено. Неужели это на самом деле Канзас, Америка ли это?
Я тщетно искал деревни. Повсюду открытая местность, хотя время от времени мы проезжали мимо разбросанных тут и там домов.
— Неужели в Канзасе нет деревень? — спросил я у Гарри, который ловко вёл форд по просёлочной дороге.
— Есть, конечно. Только что проехали мимо одной. Куда прибыл твой поезд. По переписи Нокс-Спрингз отнесён к деревням.
Но мне он не показался деревней. Это был городок с парикмахерскими, магазинами, банками, заправочными станциями.
— Вероятно, в вашей стране деревни совсем другие, — помолчав, сказал он.
— Видишь ли, в наших все фермеры живут вместе, — объяснил я. — Не так, как у вас: один дом здесь, другой на расстоянии мили, за холмом. Фермеры вместе отправляются в поле утром и возвращаются вечером, хотя в деревнях тоже есть поля. По воскресеньям они собираются на зелёной поляне, и молодёжь танцует, все вместе, рука об руку, а не парами. Музыканты играют на волынках и ещё на маленьких скрипках, которые держат как виолончель. Играют они отлично. Наши фермеры бедны, но зато счастливы. Они поют, когда пашут, жнут или собирают урожай. Поют народные песни, конечно. Их все в деревне знают.
— Спой мне одну, — попросил Гарри.
— Но ты ведь не поймёшь.
— Всё равно спой.
Я откашлялся и затянул весёлую крестьянскую песню о птицах. Но слова зазвучали странно. Я так долго не слышал армянского, что мне показалось, будто поёт кто-то другой. Я был так глубоко растроган, что чуть не расплакался.
На ферме Шульцев нас встретили мать Гарри, невысокая, круглолицая женщина, и его две очаровательные сестрички. Интересно, что они подумали обо мне. Сердце заколотилось, как молоток, и мне захотелось убежать.
— Где отец? — спросил Гарри.
— Пошёл спать, — ответила его мать.
Когда мы вошли в дом, я заметил в гостиной радио, проигрыватель, швейную машинку и книжные полки. К моему величайшему удивлению, в доме ничего деревенского из бытовых предметов, кроме керосиновых ламп, не было. Меня это привело в восторг. До этого керосиновых ламп в Америке я не видел.
Девушки были довольно дружелюбны, но я едва осмеливался взглянуть на них! Одна была блондинкой с молочной кожей и волосами цвета спелой пшеницы, очевидно, моя сверстница, лет восемнадцати. Другая, брюнетка, выглядела моложе и была похожа на армянку или гречанку, поэтому привлекла меня больше, чем её блондинка сестра, хотя та, очевидно, считалась красавицей в семье. Обе были одеты просто, как скромные городские девушки. Семья эта была похожа на любую городскую семью среднего достатка, и я понял, что в Америке сельское и городское население в основном находятся на одинаковом уровне развития. На родине было совсем иначе, деревня там на тысячу лет отставала от города.
Мы побеседовали немного, и мне пришлось отвечать на традиционные вопросы: как мне понравилась Америка? В каких домах живут у меня на родине, как там одеваются?
— Гарри, лучше покажи своему другу его комнату, — сказала миссис Шульц после того, как я изложил почти всю историю моей жизни.
— Верно, тебе, пожалуй, нужно как следует отдохнуть сегодня. Мы встаём засветло, — засмеялся Гарри. — В четыре тридцать: не очень ли это рано для тебя?
— Вовсе нет, — сказал я, желая угодить ему.
— У нас рано ложатся и рано встают, — сказала миссис Шульц. — Кто рано ложится и рано встаёт, здоровье, богатство и ум наживёт, — прибавила она улыбаясь. — Я приготовила для вас рабочий комбинезон на утро. Вы ведь примерно одного роста с Гарри.
Гарри проводил меня наверх, в светлую просторную комнату с двуспальной кроватью, письменным столом, шифоньером и религиозными изречениями в рамке на стене. Ставни на окнах как в сельских домах Трапезунда. Комната залита лунным светом и приятным ароматом остывающей земли в летнюю ночь.
— Тебе здесь нравится? — спросил Гарри, поставив на стол керосиновую лампу.
— Очень, — с благодарностью ответил я. Интересно, буду ли я жить одной семьёй с ними, или ко мне отнесутся как к слуге?
Оставшись один в комнате, я погладил рукой ставни и выглянул в окно, чтобы осмотреться вокруг. Во дворе, возле насоса, стояло ведро, оно отбрасывало тень, точно так, как ведро на родине, — волнующая деталь в этой ночной фантасмагории Канзас-Трапезунд. Я глубоко вдохнул опьяняющий аромат свежескошенного поля люцерны, прислушался к вызывающим трепет ночным звукам моего детства. Как это ни удивительно, сверчки и лягушки в Канзасе издавали те же звуки, что и сверчки и лягушки в Трапезунде. Я снова слушал ту же звонкую тишину ночи, ту же прекрасную летнюю музыку грёз земли.
Я посмотрел на небо. Распустились и расцвели звёзды, и небо стало похоже на тёмно-зелёное поле, покрытое одуванчиками и золотыми священными цветочками Трапезунда, которые мы называли «Слёзы Девы». Луна, словно молодая жница с белым платком на голове, плыла по цветочным полям неба. Я был объят трепетом завороженной земли, столь дорогой и близкой мне. Что за чудо, что за волшебное преображение! Впервые в Америке я не почувствовал себя чужим. Я нашёл землю, которую потерял, звёзды и луну моего детства: моей ссылке пришёл конец.
Ранним утром следующего дня я начал своё обучение на американской ферме, одетый в рабочий комбинезон. В нём я чувствовал себя американцем. Мы с Гарри отправились на пастбище за коровами. Стояло золотистое июньское утро. Молодая кукуруза потрескивала на ветру, а сад пылал цветом спелых вишен. В душе я тайно упивался видом этих вишнёвых и черешневых деревьев.
— Знаешь ли ты, — обратился я к Гарри, специализировавшемуся по садоводству, — что черешня впервые появилась в местечке близ моего родного города под названием Керасус или Керасунц, на берегу Чёрного моря? Потому она и называется так по-английски.[56]
Он удивился.
— А ты знаешь научное название абрикоса?
— Разрази меня гром, если знаю, — сказал он.
— Prunus Armeniaca — армянская слива. Ах, сколько ещё фруктов происходят из моей страны! К примеру, каштаны. Английское слово каштан[57] заимствовано от армянского каскени, что означает каштановое дерево.
Через пастбище бежал ручеёк, по его берегам росли кусты ежевики, крыжовника и даже несколько деревьев мушмулы. И завершал эту чудесную картину родник, бьющий из-под скалы, падающий по деревянному желобку с лепестком, свисающим с края. Не во сне ли я, не исчезнет ли это подобно галлюцинации?
Сонные отяжелевшие от молока коровы с трудом поднялись на ноги, вымя у них было тугим и полным. Мы погнали их к хлеву, где нас ждал отец Гарри, почтенный мужчина высокого роста, немногословный, с проницательными голубыми глазами. Но как смешно было смотреть на него, когда он садился на табурет и, положив между колен ведро, принимался доить, совсем как женщина. Как это ни нелепо, но доить полагалось нам, троим мужчинам. Миссис Шульц и её дочери и близко не подходили к хлеву.
Они готовили завтрак и накрывали на стол. Какую отличную еду они нам подали, когда мы кончили доить, — грейпфруты, кукурузные хлопья со сливками, ветчину домашнего копчения с яичницей, свежее крестьянское масло, свежевыпеченный хлеб, вкусный горячий кофе! Мистер Шульц произнёс молитву и возблагодарил господа бога Америки. В самом деле, у Америки, казалось, был иной бог, куда щедрее нашего.
Мои первые шаги в искусстве доения послужили предметом обсуждения за столом. Конечно, я был неловок и нервничал, но через неделю доил не хуже Гарри.
После завтрака мы уложили два полных десятигаллонных бидона в форд и отвезли на сборный пункт на шоссе, где их подбирал грузовик. Поездка в машине оказалась новым захватывающим приключением. Дорога с её поразительно знакомыми поворотами, кустами и деревьями по краям, чирикающими воробьями, клочками шерсти, застрявшей на проволочных заграждениях, — всё это могло быть и в трапезундской деревне и было бесконечно мне дорого. Казалось, вот-вот прибегут с полей мои товарищи детства Ваге, Николаки, Антула, Пенелопа с луками и стрелами, рогатками и палками, с венками и портупеями из полевых цветов. «Эй, где же ты был? — крикнут они. — Собирайся, пошли за земляникой, а потом устроим завтрак в поле!»
Настоящее дело начиналось только после окончания утренних работ на ферме. Нужно было вспахать поле, и я упросил Гарри позволить сделать это мне. Вспашка являлась существенной частью искусства земледелия, которое я должен был изучить, и представление об этом у меня было очень романтическое. Какой красоты и точности этот современный стальной плуг! Гарри показал мне, как нарезать борозды одинаковой глубины и ширины, целиком выворачивая верхний слой почвы.
Бросать вилами сено после полудня было не менее героическим занятием. Это была истинная поэзия. Правда, руки мои покрылись волдырями, лицо, шея и плечи загорели, а синяя рубашка вся промокла от пота. Могущественное солнце индейцев нещадно палило огромную плодородную долину Миссури. Но я бурно радовался зною земли, пыли и благоуханию люцерны.
К вечеру я до смерти утомился, но такая усталость была приятна.
Что-то важное произошло во мне, но я не мог выразить это словами даже самому себе. Мне казалось, будто в жилах моих — земля и солнце Канзаса, что я вдруг стал американцем, что я вновь родился и обручён с американской землей.
Такая американизация не имеет ничего общего с умением говорить по-английски, с получением американского гражданства, клятвой о верности Конституции. Это несущественные и поверхностные процессы.
Когда через три месяца я вернулся в колледж, то не только полностью американизировался, но, как это ни парадоксально, стал таким же, каким был в Старом Свете. Окончился кошмар прошедшей зимы. Я смеялся и дурачился, и стал счастливым, хвастливым, отчаянным канзасцем. Стоило кому-либо сказать, что наш колледж не самый лучший и величайший в мире, как я тут же оскорблялся. Я орал до хрипоты на футбольных матчах, жадно читал спортивные странички газет, словом, занимался тем, что прежде ничего для меня не значило. Я сочинил о Канзасе два стихотворения и послал в «Topeca Capital» и, к моему величайшему изумлению и радости, их напечатали.
За что воюют и умирают солдаты? Из чего складывается народ? Из языка, истории, традиций, политических организаций? Это дополняющие факторы, согласен, но в основном — из матери-земли с её одуванчиками и лунным светом, со сверчками и шелестом молодой кукурузы на утреннем ветру.
Тем летом я видел, как солнце в долине Миссури объясняется в любви к земле и как из этой любви рождаются реки золотого зерна. В дневной тиши я слышал жужжание пчёл среди полевых цветов, стук дятла. Я слушал по ночам песнь хлеба, которую пели миллионы невидимых уст на всём пространстве благоухающих пшеничных полей.
Америка вливалась в мою кровь: земля и солнце, ветер и дождь, луна и звёзды Америки были во мне.
Глава двадцать четвёртая К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА!
Сегодня, в канун Нового года, я снова пьян. Я сознаю, что позорю общество, членом которого мне выпала честь быть; позорю Америку, гражданином которой мне выпала честь быть. Дамы и господа, я всегда готов воевать за Америку[58] и не раздумывая отдам жизнь за землю Джефферсона и Линкольна.
Но я обращаюсь к вам, дамы и господа, — как мне быть, если мир мне когда-то казался не больше того переулка, где я родился? Где я со своими армиями одерживал неслыханные победы на быстрой деревянной лошадке. Где рослые мужчины в подбитых гвоздями башмаках продавали овощи, взвешивая их на весах с булыжниками вместо гирь, и зычными, энергичными голосами восхваляли на все лады зелёную фасоль и баклажаны, помидоры и артишоки. А прекрасные деревенские женщины, словно сошедшие с византийских фресок, взвалив на спины корзины с глиняными горшками и кувшинами классических форм, приходили в город продавать молоко и мацун и кричали «Xino ghala!» — «Кислое молоко!»
Я обращаюсь к вам, дамы и господа, как истинный гражданин и патриот Америки, — как быть человеку, если давным-давно мир казался ему сказкой в канун Нового года, а жизнь — прекраснее жизни любого смертного? Когда сцены исчезнувшей, но бессмертной жизни возвращаются ко мне в смягчённых и одухотворённых тонах из призрачной дымки бесконечно далёкого прошлого… Мы втыкали в буханку хлеба большую оливковую ветвь, кололи орешки и навешивали их на листья, а к веточкам прикрепляли маленькие свечки, белые, розовые и голубые. Люди дарили друг другу подарки; мальчики из бедных семей ходили с фонариками из дома в дом и пели старинные праздничные псалмы, а у нас в гостиной в это время красовалась оливковая ветвь с орешками и свечками; на столе лежали горой апельсины, сушёные финики, миндаль, грецкие орехи, яблоки, печенье и конфеты, и комната была залита золотистым светом лампы и от бушующей железной печи исходило тепло.
Как быть человеку в канун Нового года в Америке, если когда-то, давным-давно был город, построенный на склонах высокого утёса, и по теневой стороне которого, словно по белым ступеням, поднимался к трону Господнему византийский монастырь? Верхушка утёса была плоской, как стол, и, словно ковром, покрыта травой. Мы, школьники, играли и кувыркались на ней, опьянённые благоуханием старого упругого торфа и маленьких жёлтых цветочков, называемых нами «Слёзы Девы». Внизу, на расстоянии девятисот футов, находилась якорная стоянка; по небесно-голубому простору моря неслись, оставляя за собой потоки брызг, быстрые, с треугольными парусами, турецкие каботажные суда, похожие на огромных белокрылых птиц.
Дамы и господа, жить в Америке здорово! И я вам говорил уже, что всегда готов сражаться за эту страну, но как же быть человеку в канун Нового года, когда однажды, давным-давно, был монастырь, а по нашему Ванк, построенный в честь Спасителя, который не спас свой народ? Монастырь стоял на холме, опоясанный крепостной стеной, и смотрел сверху на лагерь Ксенофонта, где отдыхали караваны двугорбых верблюдов, идущих по золотому пути от Чёрного моря до Тавриза и обратно. Мы отправлялись в Ванк на несколько дней, чтобы отпраздновать Вознесение господа нашего Иисуса Христа. В древнем монастыре толпились паломники. Под ореховыми и каштановыми деревьями закалывали великолепных баранов с римскими носами и закрученными рогами, варили их в огромных медных котлах и съедали всей общиной за спасение душ наших умерших. Петушиные бои, состязания в ловкости и борьбе нас, мальчишек, держали в состоянии постоянного возбуждения. Паломники-мужчины из деревень были одеты в плотно обтягивающие рубашки, украшенные на груди патронташами, и штаны в обтяжку до колен, голову элегантно повязывали полоской ткани, концы которой свободно свисали на плечи. Их жёны щеголяли в ярких платьях из вишнёвого бархата и зелёного шёлка и маленьких головных повязках, увешанных золотыми монетами. Они танцевали по кругу под музыку барабанов и волынок; девушки застенчиво демонстрировали свою красоту, а молодые люди ухаживали за ними, выбирая себе будущих жён. Был слепой ашуг с грустной скрипкой, рифмовавший в песнях мудрые армянские изречения и в метафорах восхвалявший любовь.
Я пьян, я позорю это общество, и поверьте, мне стыдно за себя! Но как мне быть в канун Нового года здесь, в Голливуде, в Калифорнии, когда с оттепелью с высокогорных пастбищ Эрзерума в Трапезунд спускались большие стада овец? Они наводняли улицы и поднимали облака пыли, а пастухи гнали их к гавани. Впереди каждого стада овец шагал авангард гордых бородатых баранов, мудро соблюдавших порядок, с колокольчиками низкого тембра на шеях! Пастухи ходили в овечьих папахах и держали в руках длинные посохи с крюками. На шеи собак, этих больших мохнатых животных с пушистыми хвостами, надевали железные обручи с шипами, которые рвали глотки нападающим на стадо волкам.
Я отдал свой голос за президента Рузвельта и повторяю, что готов всегда сражаться за Америку. Но как мне быть, пусть я в смокинге, и у меня есть автомобиль, как мне быть, когда я вспоминаю булочника, который вёл счёт, делая засечки на длинной палке и взимая плату раз в месяц? Когда вспоминаю продавцов прохладительных напитков, спешивших по узким улочкам, словно прибывших из мусульманского рая, чтобы потчевать правоверных освежающим питьём? Они были в белых одеяниях, с белыми шапками, вышитыми замысловатым цветочным орнаментом; а к спинам они привязывали ремнями огромные медные кувшины с длинными изящными горлышками и украшали их маленькими колокольчиками, которые звенели, когда водоносы размеренно-важно расхаживали по улицам и кричали: «Airan! Buz kibi! Vishne sherbeti! Bue kibi» — «Ледяная пахта! Ледяной вишнёвый шербет!»
Когда вспоминаю венки из полевых цветов и листьев волчеягодника, которые в первый день мая надевали на херувимчиков с крыльями, висевших на каждой двери той священной улицы, и как мы отправлялись вместе с сотнями других счастливых школьников в горы за фиалками, а затем закладывали их сушиться в книги. Вам приходилось срывать землянику под кустами орешника? Есть ли что-нибудь божественнее аромата земляники? Или в Америке нет земляники? Где мне найти маленькую ягодку земляники, хоть одну ягодку, которая была бы похожа на трапезундскую и пахла бы как она?
Америка — великая страна… Большая привилегия жить в стране, владеющей восьмьюдесятью процентами всех автомобилей в мире, шестьюдесятью процентами всех телефонов, тридцатью процентами железных дорог и производящей восемьдесят процентов всех фильмов! Но сегодня — канун Нового года, и я вспоминаю своего отца, готовящего за прилавком лекарства. Мой отец был лучшим фармацевтом в мире. На том прилавке стояли два стеклянных шара и были они наполнены загадочной жидкостью: в одном — чудесного красного цвета, а в другом — голубого. Отец так и не сказал мне, что было в них и для чего они находились там. Когда я его спрашивал, он лишь таинственно улыбался. Кто мне скажет, где найти в этой стране такие волшебные шары? Они преследуют меня. Когда отец возвращался вечером домой, он снимал чёрные штиблеты, садился, подвернув ноги, на тахту, пил ракию и заявлял своей семье, что он английский лорд. После обеда он читал печатавшуюся в Константинополе консервативную газету «Бюзантион» с длинной редакционной статьёй на первой странице, истолковывавшей последние ходы в дипломатической игре между Оттоманской Портой и Великими державами. Я слышу его голос, говорящий «Карраанте!», и вижу, как он тасует карты, играя в баккара с важными гостями в нашем доме. Он орёт во всё горло, когда объявляет ставку, а мы с мамой с трудом удерживаемся от смеха.
Мне невозможно говорить о своей матери. Её образ смутно мелькнул перед моими глазами этой ночью, и я выпил четыре мартини одно за другим…
Я вспоминаю носки, толстые, грубые армейские носки на длинном голом столе. Это новогодний вечер в Ейске, городе с ветряными мельницами на Азовском море. По всему Мариупольскому заливу слышится гул орудий Красной артиллерии; Азовское море замёрзло, замёрзла бесконечная русская степь. Здесь армянский священник с острова св. Лазаря в лагуне Венеции, основатель и директор изгнанного из Трапезунда приюта, осевшего в забытом богом городе Ейске. Мы называли его Вардапет, любили и боялись его. Он говорил на двенадцати языках, и большевистские комиссары, несмотря на то, что он носил чёрную сутану, уважали его. У него были повадки кардинала, он был предприимчив, как те старые иезуиты-миссионеры, которым удавалось проникнуть даже во владения могущественных татарских ханов. Перед ним открывались все двери, и ему удавалось кормить, одевать и учить нас, пока мы скитались в разгар гражданской войны по русским степям, из города в город, из деревни в деревню. Но в канун того памятного Нового года в Ейске он подарил каждому из нас пару русских армейских носков. Я обрадовался, получив их, пусть они были слишком велики, но мне было жаль Вардапета, который всё силился улыбаться нам и быть весёлым. В тот печальный новогодний вечер, прижимая к щеке новые носки, мы задавали себе вопрос, наступит ли когда-нибудь день, когда мы вдоволь наедимся фасоли, чечевицы, гороха, капусты, неважно чего, лишь бы сесть за стол и есть, есть, есть… Нам казалось, этот день никогда не наступит. Мы забыли, что значит быть сытыми, какой у белого хлеба вкус.
Я обращаюсь к вам, скажите, как мне быть в канун Нового года в Америке, когда твои друзья детства, школьные товарищи, с которыми ты испытал горе и радость, голод и несчастья, с которыми мечтал в юности, умерли, пропали? Когда ты видишь, как горы, вооружённые серебряными щитами и копьями, проводят нескончаемые военные совещания на границе Кавказа, седовласые воины с белыми бородами, охраняющие границу между Европой и Азией? Когда видишь старую бухточку в далёком Понте, зёрнышки спелого граната, пурпурный каскад благородной глицинии на балконах и ступеньках крыльца, жёлтые розы, вьющиеся по садовым стенам, и зимними вечерами слышишь заунывные крики уличных торговцев кукурузой. Когда хорошенькие девочки, которых ты любил в детском саду или в школе, умерли, и их кости лежат незахороненные, или они живут в неволе, забытые своим народом?
Я не люблю пить. Уверяю вас, я не питаю слабости к алкоголю. Но раз в двенадцать месяцев в канун Нового года мне нужно забыть своё прошлое, новогодние дни далёкого прошлого. Я гражданин Америки, искренне предан Конституции и всегда готов воевать за Америку; но я вас спрашиваю — как может человек забыть своё детство? В эту ночь в свободной, счастливой Америке есть миллионы подобных мне людей, чьи воспоминания о прошлом не дают им покоя, но всегда, везде они — самые отрадные. Мир полон печали и воспоминаний, историй, которые невозможно передать, мучительных образов, не имеющих своей истории. Простите меня, дамы и господа… Я должен выпить ещё.
Глава двадцать пятая СЕМЬ СЕДЫХ ВОЛОСКОВ
Сегодня утром, бреясь перед зеркалом в ванной, я обнаружил на правом виске блестящий белый волос. Поискав, я нашел ещё шесть на левом. Думаю, что есть и другие, но эти семь я увидел отчётливо — осязаемые узы, связывающие мою судьбу с прошедшими семью тысячами лет.
— Чёрт бы меня побрал! — сказал я себе.
Значит, седею, значит старею. Первые признаки наступающей зимы…
Я стоял перед зеркалом, подавленный этим открытием, затем пристально вглядевшись в себя, увидел за жёсткой щетиной бороды свежее, гладкое, с открытым мечтательным взором лицо юноши, и как странно, подумал я, что у меня борода и седые волосы. Что такое время? Ведь только вчера я приехал в Америку, а кажется — много веков назад. И сегодня, через столько бесконечных лет до и после моего паломничества в Новый Свет, который буквально таким и был для меня, этот мир на другой планете, мне хочется только вернуть обратно то изумление и восторг, с которым я впервые ощутил извечное чудо жизни — чудо дней и времён года, ветра и дождя, солнца и звёзд.
Я много размышлял о великом таинстве жизни и смерти. И этим утром, увидев седые волосы на голове, мне захотелось стать ребёнком, каким я когда-то был, и так всё время, до тех пор, пока закончится мой жизненный путь. Кто знает, может, я его закончу с японской пулей в груди, или же подорвусь на немецкой мине. Тем ребёнком, каким я был в Трапезунде, белом городе с красными крышами на берегу Чёрного моря, городе, которого больше нет, и который, тем не менее, будет жить вечно. Детьми мы все были замечательными и похожими друг на друга. Жили одинаково праведной жизнью и говорили на одном и том же праведном языке, хоть и звучание слов было иным. В детях весь мир един. И истинные поэты и философы, святые и герои всех времён, везде, в Канзасе или Трапезунде, в Номе или Ла-Плате, Типперери или Хенгчоу, — всегда оставались детьми. Детьми мы достойны общества богов. А сейчас даже самому лучшему среди нас, самому преуспевающему, я могу сказать только — смотри на себя, брат, смотри и плачь.
Я хочу жить как ребёнок каждый день, час, каждое мгновение — и не быть ограниченным пространством и временем, логикой и географией, народами и историей. Я хочу быть, а не иметь. Ибо быть — значит иметь всё. Я хочу быть похожим на яблоню, которая приносит плоды без труда, на красный цветок, растущий в поле, хочу быть чашею для солнца. Хочу быть похожим на шафран, цветущий ранней весной после ледяных ветров и унылого безрадостного одиночества зимы, хочу быть полным бодрости и оптимизма. Цветы не неудачники. Они не разочаровываются, не ожесточаются, они умеют жить. Это истинные успехи, они умеют жить по-настоящему, жить безмятежно.
Ибо если вся наша жизнь, все наши усилия и труды, счастье, любовь и знания должны увенчаться смертью, и если смерть — последний господствующий монарх наших жизней, если каждая победа и поражение, каждый выигрыш и проигрыш, всякая услада души и тела, каждая прочитанная и написанная книга, каждый увиденный закат и посаженное дерево ещё больше приближают нас к бесповоротной участи, всё равно день остаётся днём, час — часом, мгновение — мгновением, как бы много или мало мы ни жили.
И смерть лучше вина, лучше философии. Она — прекрасный возбудитель, и её сознание подобно прозрачному абсенту, согревающему нас изнутри. Могу сказать за себя, что никогда лучше и мудрей не жил, никогда ясней не видел окружающее и не получал от него большего удовольствия, пока не столкнулся со смертью лицом к лицу. Ибо тогда с мира упала завеса, и всё выступило отчётливо и рельефно, в истинном свете. Земля стала более земной. Море более похожим на море. Деревья более похожими на деревья. Я увидел, услышал, почувствовал запахи, потрогал и вспомнил всё с совершенной чёткостью.
И, помня о смерти, я должен быть смиренным. И сильным. Совершенно непобедимым. Такое смирение — прямой путь к миру, к радостям жизни.
Я хочу, сказал я себе, снова ощутить нескончаемые чудеса земли, всеобъемлющей, всеисцеляющей и созидающей матери-земли, щедро дарующей и принимающей напоследок то, из чего сделаны мы все, хорошие и плохие, великие и ничтожные. Мать-земля добра везде, луна и звёзды в Америке те же, что на моей родине, и они те же для всех детей повсюду, впрочем, взрослые их забывают. Солнце и дождь, утро и ночь здесь такие же, как в призрачных краях моего непреходящего прошлого.
Не принимать жизнь как должное и всегда помнить о смерти, познать её цену, как я познал это в детстве, — в этом отныне моя цель, говорил я себе, стоя перед зеркалом, пристально рассматривая седые волосы, первые признаки наступающей зимы.
У птицы времени всего лишь один выход — Махать крыльями — и вот она в полёте.Вспоминая эти строки, я говорю себе: нужно торопиться, нужно торопиться и начать жизнь снова, пока не слишком поздно. Мне нужно снова стать таким же сильным и совершенным, как тот мальчик, который смотрел на меня из-под моей щетины. Отныне, твёрдо решил я, что бы ни случилось, я стану жить, как ребёнок, — поеду в деревню, лягу на траву и стану вдыхать запах земли и зароюсь носом в благоухающие полевые цветы. Клянусь богом, говорил я, я позволю этим своим милым старым друзьям, красным жукам с блестящими чёрными пятнышками на спинке, ползать по мне, когда буду лежать под солнечными лучами, падающими на мои воздушные покои сквозь колючие кусты, и слушать, как дрозды играют коротенькие нотки на своих флейтах. Затем встану и босыми ногами побегу по прохладной траве, обниму деревья, как давно потерянных возлюбленных и, закатав брюки, перейду ручей вброд. Я найду иву и вырежу из её веток свистульки, побегу за бабочками и жуками-светляками, соберу безымянные полевые цветы.
Потом я спущусь к морю — прислушаюсь к шуму волн и буду смотреть, как они бегут к берегу, словно белые лошадки, тряся гривой, — как они это делали в Трапезунде. Буду смотреть, как заходит солнце, большой объятый пламенем галеон, и как луна прорезает в тёмных водах золотистую просеку.
Если бы мне удалось снова проделать всё это вместе с простой девушкой, которая разделит со мной потребность в земле и море, будет испытывать такой же восторг, бегая босиком по траве и мокрому песку, тогда я несомненно буду Счастливцем, богаче самого богатого человека, мудрее всех тех, что позабыли обо всём этом. А по ночам мы будем спать под небом, трепещущим от звёзд.
Возможно, после этой войны народы мира, помня о смерти, станут жить мирной жизнью, полной достоинства и мудрости, став в душе детьми. Это моё искреннее пожелание и моя надежда.
Этот прекрасный мир возрождается в детях. В них удивительно воскресает род человеческий. Душа ребёнка подобна шафрану, цветущему на солнце. В этом заключается тайна того мира-государства, о котором мы слышали, читали и думали. Ибо братство людей вновь станет свершившимся фактом, когда мы опять станем детьми, и наше окончательное освобождение состоится, когда мы обретём тот мир, которым владели, когда были детьми.
Мы должны их помнить
(предисловие автора к армянскому изданию ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԵՆ ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆ. Ձեզ էմ դիմում, տիկնայք և պարոնայք: վեպ)
«Помните нас!» — воскликнула моя тётушка Азнив, и это были её последние слова, когда жандармы разлучили нас в Джевизлике и заставили женщин прошествовать к смерти. «Помните нас!» — говорили, казалось, все эти женщины, в то время как мы столпились в одну кучу перед каким-то «ханом» и ожидали, когда придут турки этой местности и заберут нас в свои сёла, переименуют нас в Гасана, Мехмеда, Сулеймана и вырастят как благочестивых, обрезанных турок, как людей, которым возбраняется помнить прошлое. Наверное, мы были настолько неоперившимися, что и не помнили бы ничего. Ни один армянин, способный что-либо помнить, не должен был оставаться в живых.
Вот уже более полувека мы, пережившие те дни, вспоминаем о них, ещё не придя в себя, не будучи в состоянии осознать случившееся или говорить о нём. Я не осмеливаюсь даже задумываться об этом. Для тех, кто не оказался жертвой этого почти смертельного удара, нанесённого нашему национальному существованию, слишком больно переживать прошлое, а потрясение всё ещё продолжается. Правда, я написал эту книгу, однако сумел дать лишь отрывочное, частичное представление об этих днях — когда в качестве проживающего в Америке совершеннолетнего человека я оказался в состоянии высказаться более определённо, более предметно. На протяжении всего времени, когда писал эту книгу, я носил чёрные очки и делал вид, что мои глаза воспаляются от яркого солнца Калифорнии; причём, я поступал так не только на открытом воздухе, чтобы скрыть слёзы. «Врач посоветовал», — бормотал я.
На самом деле я не плакал. Тот мальчуган, который перенёс столь ужасное бедствие, ходил с высоко поднятой головой, он был «смелым армянским воином», и я всё ещё продолжал играть воина. Был невозмутимым и хладнокровным. Отчуждённым и самоотчуждённым. Казалось, писал не я, а кто-то другой, какая-то холодная моя частица, настолько холодная, что я уже не мог её ощущать.
Я запретил себе что-либо ощущать, мысленно впрыскивал в свой организм новокаин — чтобы приглушить боль; вместе с тем, моё спокойствие приводило меня в изумление. Я должен был бесчувственно, без прикрас изобразить события — так, как я их помнил, но в уютной тишине моей комнаты слёзы невольно катились по щекам: годами сдерживаемые слёзы катились — словно из чужих глаз, тогда как человек прятался за чёрными очками.
Я написал и переписал набело, раздумывая, каким образом буду расплачиваться за комнату в следующем месяце, и бывали дни, когда у меня не оказывалось даже десятицентовика, чтобы купить буханку пресного хлеба, но мне было не до этого. Важность представляли непосредственный фрагмент или ощущение, абзац, предложение, всё то, что я должен был привести в надлежащий вид, причём это всё должно было звучать настолько правдиво, что, если бы даже не осталось и следа от Западной Армении, моя книга призвана была бы помочь историкам и этнографам воссоздать эту исчезнувшую жизнь. Я пишу для музея наций, говорил я себе, я даю показания на всемирном процессе, перед всеми людьми доброй воли. Вместе с тем меня не покидало ощущение, что этим своим откровением я низвергаю в себе что-то священное.
Писатель всегда стоит перед задачей сказать нечто несказанное. Вся трудность затеянного мною дела усугублялась ещё и тем обстоятельством, что, приступая к этой книге, я был в сумеречном пристанище между двумя языками. К тому времени я ещё не полностью забыл мой родной язык и, с другой стороны, ещё не полностью овладел английским, если, конечно, человек может когда-либо овладеть каким-либо языком, включая родной. Я надеялся, что читатель так просто не забудет то, что помнил я, и мне был необходим один из распространённых языков для пересказа этой истории. Другие очевидцы пусть пишут по-армянски; я же должен был рассказать свою историю на английском. И только свою историю, поскольку всю историю — даже если бы я её знал — рассказать было бы невозможно. В этом я был уверен. Я констатировал только то, что пережил сам и видел воочию. Я хотел рассказать всё об этих событиях с точки зрения чудом спасшегося от смерти мальчика, у которого, естественно, ограниченные знания и узкий кругозор, рассказать, не прибавляя ничего, что стало мне известно в дальнейшем. Это исказило бы историю. Я подумал: история будет более правдивой и достоверной без комментариев, и в данных обстоятельствах пара глаз, читай: глаз юного героя, будет лучше, нежели две пары, причём, вторая пара не была очевидцем событий, которые я пытался изобразить, она не принимала участия в первоначальном испытании. Мне органически претят автобиографии детского или юношеского периода, написанные с позиций зрелого человека, когда автор то и дело вмешивается в ход повествования, чтобы прокомментировать тот или иной момент, дать разъяснение тому или этому описанию или событию. Итак — именно то, что случилось со мной, и именно так, как случилось. Ничего не изменено, ничего не прибавлено.
Вся история в целом, повторяю, не рассказана и не может быть рассказана. Мёртвые ничего не рассказывают, а очевидцы всё ещё молчат. «Сорок дней Муса-Дага» написаны не армянином. Мы, очевидцы, разбрелись на все четыре стороны света и всё ещё прячем наши раны. Мы — мастера самообмана. Маскарад необходим для сохранения нашего равновесия и для упорядоченного хода будничных дел в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, Буэнос-Айресе или Сан-Паулу, Париже или Бейруте. Мы можем с негодованием говорить о той или иной новости дня, но ничего не сказать, даже не пикнуть о вещах, которые тревожат и беспокоят нас более всего. Армянин, живущий на чужбине, полон невысказанных дум, и в нём живёт большое безмолвие. К примеру, когда в день Памяти жертв геноцида, 24 апреля, американские армяне в знак протеста собираются в Сан-Франциско или перед зданием Организации Объединённых Наций, они шествуют безмолвно.
Знаю — в моей истории есть упущения. Эта книга должна была иметь двойной объём. Многое я не включил в книгу. Многие из глав были предварительно опубликованы в периодике в качестве отдельных рассказов или очерков. А в американских журналах страницы настолько перегружены, что нет возможности для публикации более пространных историй. Для напечатания торгового рекламного объявления необходимо уплатить пять или десять тысяч долларов только за одну журнальную страницу. И в этой богатой стране, имеющей двести миллионов жителей, литературные журналы до убожества малочисленны и не в состоянии платить своим сотрудникам или же платят очень мало, а предоставляемые страницы, и без того ограниченные, сокращаются из года в год. Поэтому главы моей книги короткие, это скорее резюме, нежели рассказы в полном объёме, и других глав, которые должны были занять место в книге, нет.
Я счёл необходимым снискать себе определённое литературное признание, прежде чем кто-либо из издателей взялся бы напечатать всю рукопись, и поэтому разрезал её для публикации в периодических изданиях. Ни один американский издатель не станет издавать книгу, не усмотрев в ней выгоды. Он продаёт книгу так же, как бакалейщик бакалейные товары. Молодые американские писатели не питают иллюзий по поводу издателей. Издаётся все то, что продаётся. То, что не продаётся, тотчас же отвергается. Стимул выгоды душит все ценности. Как председатель Конгресса писателей-пацифистов и как профессор английского языка и литературы университета я проповедую благочестивую нищету. За три года до выхода в свет моей книги одна из её глав — «Америка у меня в крови» — была напечатана в учебном пособии по английскому языку, изданном Оксфордским университетом. За год до выхода книги другая глава — «Моя русская фуражка» — была напечатана в сборнике «Избранные американские рассказы» в 1944 г., антология эта пользовалась большим авторитетом. Наконец, какой-то издатель соизволил поставить мою книгу на кон, и её сразу раскупили. Из-за нехватки бумаги в Америке издатель не мог иметь запасных экземпляров. Все книжные магазины Лос-Анджелеса неделями и месяцами не имели ни одного экземпляра. Я же был недоволен тем, что моя книга стала предметом купли-продажи. Стеснялся получать за неё деньги. Издателю сказал: «Мне было бы нипочём, если бы я не заработал на этой книге ни одного доллара».
Это была моя первая книга на английском языке, она была несколько простоватой: я ещё не начал обучать американских юношей их языку и литературе. Я решил не прибегать к эффектным литературным формам и приёмам, а попросту рассказал правду — так, как я её знал. Я не взывал к жалости читателя или даже — к его симпатии. «Будьте добры, оставьте шипы сострадания при себе» — вот облик всех гордых армян. Первоначально книга эта называлась «Прелюдия жизни», и я хотел было прославить жизнь вообще, всё сущее. Несмотря на то, что это была личная история, меня очень волновали общечеловеческие истины, и с самого начала моей целью было превратить эту историю армянских подростков времён Первой мировой войны и послевоенных дней в песнь юношеству, и я перешёл от личного к общественному. Хотя история эта подчёркнуто армянская, она вместе с тем не только армянская. Я постарался добавить новую главу к апофеозу всемирного юношества, добавить, так сказать, армянскую главу.
Во времена моей «благочестивой нищеты» и самых мрачных дней, когда я жил безалаберно, мне была опорой и поддержкой чистая радость воссоздания юношеских ощущений. И, может, в этом кроется причина, что эта книга или отдельные её куски нашли отголосок в сердцах большого числа американских, английских, шведских, итальянских, греческих, немецких и даже бирманских читателей.
Как говорит Д. Лорэнс, мы освобождаемся от своих болезней в своих книгах, а моим недугом была армянская болезнь. Я должен был написать эту книгу, иначе моя душа никогда бы не умиротворилась. «Помните нас!..» — звенело у меня в ушах. Ещё ребёнком я хотел знать, почему должны были случиться события, описанные в моей книге. Думаю, ответ на это «почему?» дан в главе «Моя русская фуражка». Это узловая, стержневая глава. Всё армянское население Западной Армении было вырезано на месте или угнано навстречу смерти — с русскими шапками в сердцах, а русская шапка олицетворяла собой Бога, Европу, Цивилизацию и вообще всё. Русская шапка означала электричество, защиту жизни и имущества, элементарное человеческое достоинство. Царская Россия, невзирая на свои прегрешения и пороки, была для нас «Тётушкой». Могу ли я когда-нибудь забыть, что русские солдаты спасли мне жизнь, когда я скрывался в каком-то греческом селе, куда сбежал из турецкого села и поменял имя Джемал на Янко? Дни и ночи я молился об их прибытии.
То чувство, которое я питаю к русским, — больше, нежели благодарность. Я преисполнен любви и уважения к русским ещё и по другим причинам. В конечном счёте, существует одна нация — человечество, и, так или иначе, русские являются для меня человечеством. Я очень чувствителен по отношению к русским. Для меня удовольствие смотреть на русское лицо, слушать русскую речь, русскую музыку, быть сопричастным Толстому и Чехову, Достоевскому и Горькому, героям и героиням старинных русских деревенских романов и сказок. Мне кажется, русские — это всё человечество, они воплощают в себе весь человеческий род. Я согласен — это опоэтизированное представление о русских, но моё представление о человеческом роде также опоэтизировано. Младотурки приговорили к смерти беззащитную нацию, потому что знали, что она влюблена в Российскую тётушку. И мы не скрываем своей любви. Когда, будучи школьниками, мы увидели в Трапезунде нескольких военнопленных казаков, устроили в их честь овацию. Это было непреднамеренно. Независимо от нас. Если бы могли, мы бы выбросили наши фески в грязь и надели бы на головы русские шапки. Пожалуй, эта любовь к России объясняется последовательностью армянского духа на протяжении веков, и Джемал-паша был прав, когда говорил об армянах: «Стойкие — в своей дружбе, стойкие — в своей ненависти». Другие меняются, армяне — нет.
Когда летом 1964 года я вернулся в Армению, впечатления от увиденного воодушевили меня. Миля за милей — виноградные сады и плодовые деревья, современные дома с красными крышами, мчащиеся по современным дорогам грузовые машины, заводские трубы, и снова заводские трубы. Зелень, зелень, зелень была повсюду, и от запомнившейся мне пустоши в окрестностях Еревана не осталось и следа. Это не было оптическим обманом, образ был вполне реален. Арарат устремлялся в небо передо мной и сопровождал великолепный поезд, в который я сел в Джульфе, поезд, похожий на левиафана, который парил в искрящейся пустоте небесной синевы и заполнял собой космос. Для вернувшегося армянина это страна-мечта, претворённая в жизнь кровью наших предков, их потом и слезами; и она блистает золотом наших древних церквей и монастырей, где Платон и Аристотель изучались наряду с посланиями апостола Павла. Казалось бы, Армянская республика была стать миражом в пустыне. А пустыня исчезла, но мираж остался здесь.
Я готов был лопнуть от гордости. Здесь, в Америке, я представляю себя в аудиториях такими словами: «Меня зовут Левом Сюрмелян, и я — гордый армянин…» Моим студентам запоминается «гордый армянин». Иные стремятся последовать моему примеру и быть гордыми. Я был гордым и в Ереване — на каком-то спешно созванном собрании в Доме писателей. Какой-то поэт вскочил и задал вопрос: «Если вы такой хороший армянин, почему не пишете по-армянски, почему пишете по-английски?» «Это попросту разделение труда, — ответил я. — Вы пишете по-армянски, а я — по-английски, и оба мы служим одной и той же цели. Я приехал сюда с английской рукописью армянского национального героического эпоса „Давид Сасунский“ и прошу, чтобы кто-либо из присутствующих писателей сказал мне, что как армянин он лучше, чем я». Я не сказал, что начал работать над новой книгой — «Яблоки бессмертия», книгой армянских сказок на английском языке, которые, подобно сасунскому эпосу, были изданы в Америке и Англии в качестве классических армянских произведений, и шефство над этими изданиями взяло на себя ЮНЕСКО.
Я пешком и на машине обошёл и объездил Ереван в поисках хотя бы одного здания, одной улицы, которую я видел в годы юности. Ереван ещё не завершённый город: есть возможности для благоустройства, которые, я уверен, хорошо известны нашим архитекторам, но на посетителей он производит неизгладимое впечатление. А великолепный Матенадаран свидетельствует о признании и любви к древним рукописям, рукописям, многие из которых бесценны. Матенадаран вмещает в себя мысль и сердце Армении. Традиционный стиль армянской архитектуры — это далеко не единственное, что придаёт Еревану блеск. Есть у него и свой характерный размах и вес — как у столицы вечно стремящейся вперёд республики. Его бесподобная вода струится из фонтанчиков, бассейны и озёра искрятся на солнце. Я ликовал, глядя на вывески с армянскими буквами. И мне хотелось видеть как можно больше. Вот очень уютный город, в котором удобно жить, — думал я. Ритм жизни здесь, хотя и быстрый, не изнуряет. Люди спокойны, сердечны. Сдержанные манеры, интеллигентные лица, крепкие рукопожатия. Скромные, улыбчивые мужчины и женщины занимают высокие должности, есть место смеху, дружелюбию.
Заведующий рестораном гостиницы «Армения», который обучался английскому, практиковался со мной в английском. Группы писателей, художников, артистов, певцов и музыкантов собирались в просторном зале ресторана, словно это один из жизненных центров города, место встречи для людей умственного труда. «Завен джан, я Согомон Таронци. Не помнишь меня? Мы были однокашниками в Нор-Баязете». «Ну да, конечно, теперь помню». «Отец мой был учителем в этой школе». «Да, да». «Завен джан, я Вардан». «Вардан?» «Мы были вместе в Армаше, учились на агронома». «Ванец?» «Да, ванец». «Я восторгался тем, что ты был уроженцем Вана. Мы были очень дружны». Арман Котикян, актёр и поэт и мой бывший учитель в Трапезунде, знакомил меня со всеми и дни и ночи напролёт был со мной, когда не был занят репетициями в новой пьесе. Бывшие мои однокашники приходили в гостиницу, чтобы увидеть меня. «Арутюн?», «Мкртич?».
Свой армянский я восстановил очень быстро. Прежде чем выступить по телевидению и радио, я сказал своим собеседникам, что не нуждаюсь в шпаргалке, что могу говорить без предварительной подготовки, так и поступил. Меня посетил поэт Ованес Шираз. «Завен джан, я видел вчера вечером по телевизору — ты читал своё стихотворение. Его заглавие должно быть не „Боги о посадке деревьев“, а „Молитва о посадке деревьев“». Мои друзья из Лос-Анджелеса, которые выстроили в Ереване свой собственный красивый дом и, по всей вероятности, были счастливы в своей новой жизни, пригласили меня на обед и в соответствии со своей доброй традицией сервировали стол самыми разнообразными армянскими закусками, еды было раза в четыре больше, чем мы смогли бы отведать. Могу сказать, что в Ереване обеды были вкуснее, нежели во всех первоклассных гостиницах, в которых мне довелось побывать. Хлеб-лаваш и масло были замечательные. «Это масло лучше, чем калифорнийское, — сказал я официанту, который был репатриантом из Греции. — А армянский хлеб вообще бесподобен. Это хлеб, благословленный богом. Принеси ещё немного». «А каковы ваши впечатления?» «Очень хорошие». Я понизил голос: «Но, брат мой, страна крайне маленькая. Нам мало что оставили». «Не такая уж она маленькая, если на то пошло. Вы побывали в Зангезуре?» «Нет, не было времени. А ещё я не успел побывать в Гарни, Аштараке и многих других местах, которые я очень хотел бы увидеть. Но завтра едем на Севан и в Дилижан».
Арно Бабаджанян исполнил на рояле раскатистую мелодию. Эдвард Мирзоян, председатель Союза композиторов, показал мне коттеджи с садом Дома творчества композиторов — в сосновом лесу Дилижана, идеальном месте для сочинения музыки или — а почему бы нет! — романов и стихов. «Шостакович провёл здесь несколько недель. Три-четыре дня назад уехал в Москву». Вместе с этой компанией деятелей искусства мы собрались на даче Мартироса Сарьяна, и я снова выпил коньяку и поел дыни, винограда, персиков, абрикосов, черешен. Эти дыни, виноград, персики, абрикосы, черешни были лучше, чем те, которые я когда-либо ел в Калифорнии. Моя сестра Евгинэ, репатриантка из Бейрута, была со мной, хотя случалось и так, что она по четыре, пять, шесть часов ожидала меня в гостинице «Армения» и так и уходила, не дождавшись. Мой брат Оник был очень занят в Ереване. Я думал: сумеют ли писатели Сильва Капутикян и Хачик Даштенц поехать с нами на Севан и в Дилижан, и вот, несмотря на свою занятость, они выкроили время, чтобы провести один день со мной. На Севане мы случайно встретились с Наири Зарьяном, который работал над своим переложением героического эпоса «Давид Сасунский». Когда вечером мы вернулись в Ереван, я страшно устал, но должен был увидеться с историком Ашотом Иоаннисяном и его супругой — скульптором Айцемик Урарту. А позже, близко к полуночи, я посетил поэта Веспера, он показал мне фотографию, на которой были я и мой брат Оник, и которая была снята в Ростове или Новом Нахиджеване летом 1919 года. Веспер и я вспомнили нашу жизнь в Караклисе, когда оба работали в Комиссариате внутренних дел. Я был его помощником. Я рассказал ему, что Оник проживает в Бейруте, где содержит своё семейство игрой на скрипке, и ещё я сказал, что провёл с ним два дня по дороге в Армению. Я не видел Оника и Евгинэ целых сорок два года. Старшая сестра моя, Нвард, умерла в Алеппо от тропической лихорадки, как раз в те дни, когда роман «К вам обращаюсь, дамы и господа» выходил в свет в Америке. Один из первых экземпляров книги, которую она уже не могла прочитать, положили у её изголовья.
Пришлось отказаться от поездки в Батуми, которая была намечена по программе, для того чтобы увидеть Патриарха Всех Армян в Эчмиадзине, когда он вернулся из отпуска.
Хачик Даштенц, истинный сасунец и переводчик Шекспира, прочитал рукопись моего перевода «Давида Сасунского», и академик Карапет Мелик-Оганджанян просмотрел её слово за словом и предложение за предложением. Благодаря им книга стала ещё лучше. Мелик-Оганджанян напоминал мне древних царей и нахараров Армении. Как только я входил в его квартиру по улице Киевян, его прелестная дочь открывала холодильник и доставала ещё одну дыню для меня и в придачу персики и абрикосы, виноград и черешни — эти дары земли армянской, которая некогда была пустыней, а ныне стала садом. Я целыми днями бывал в их квартире, и пометки постепенно умножались. Сердце и душа Мелик-Оганджаняна вросли в сасунский героический эпос. Он знал о нём больше, чем кто-либо другой, и не пожалел времени и сил, чтобы помочь мне пересмотреть книгу и сделать её такой, которая удовлетворила бы нас обоих. Затем я сдал рукопись директору Института литературы имени М. Абегяна Академии Наук Армянской ССР доктору-профессору Гургену Овнану — для окончательного и официального утверждения, чтобы привести в движение колёса ЮНЕСКО в Париже. Наконец, ЮНЕСКО получило одобрение своего советского отделения. Одобрение это было получено значительно раньше, нежели ожидало ЮНЕСКО, благодаря секретарю Союза писателей Эдварду Топчяну, председателю Комитета по культурным связям с зарубежными армянами Вардгесу Амазаспяну и другим ереванским и московским товарищам. Издатели почувствовали: наш героический эпос и сказки будут пользоваться достаточным спросом на книжном рынке и взяли на себя все материальные обязательства.
Мой последний вечер в Ереване: Вардгес Амазаспян и его сослуживцы устроили банкет в зале гостиницы «Армения». Евгинэ сидела рядом со мной. Стол был заставлен едой и напитками. Какая-то армянская джазовая группа играла в главном зале. Ах, если бы я мог оставаться в Ереване больше двух недель! Сам будучи учителем, я очень хотел бы посетить Университет и средние школы. Но в Америке я устроил так, чтобы ещё две недели провести в Тбилиси, Москве и Ленинграде. В моём номере в гостинице накопилось множество бутылок коньяка. Повезти с собой столько бутылок я не мог. В моём саквояже было два глиняных кувшина, которые я достал в каком-то магазине керамических изделий, так что приходилось выбирать между этими кувшинами и коньяками. Кувшины находятся сейчас в моём рабочем кабинете, я время от времени смотрю на них, и перед моими глазами встают образы армянских девушек-сельчанок, которые наполняют свои кувшины водой из родника, переговариваясь и пересмеиваясь друг с дружкой. Этот образ является для меня Арменией, и я с удовольствием встречаю его среди иллюстраций ко многим книгам, изданным в Ереване. Это ни с чем не сравнимо и безгранично обвораживает меня.
У меня не оказалось времени для посещения второго города Армянской ССР Ленинакана, а также Кировакана, бывшего Караклиса. На кироваканском вокзале я невольно вспомнил детей, умиравших посреди улиц, и моё упоение лопатой и киркой, когда началось переустройство Армении под звуки «Интернационала». Вспомнил трагическую братоубийственную войну, марширующие по улицам отряды Одиннадцатой Красной Армии, вспомнил своего однокашника Вазгена Шушаняна, который сосредоточенно бормотал свои стихи, в то время как я, бегая взад-вперёд по рынку, продавал семечки, вспомнил, как я переписывал на русском и армянском документы и подписывал свидетельства о рождении, смерти, бракосочетании в Комиссариате внутренних дел. Хотя бы один день мне следовало провести в Кировакане, который, как мне сказали, теперь стал важным промышленным центром, очень красивым городом с большими химическими заводами.
Санаин. Другие воспоминания. Не оставалось времени, чтобы увидеть Узунлар. Уже темнело, а поезд выбрался из Еревана в полдень. В конце концов, Армения не так уж и мала. Алаверди. В тёмных ущельях поблёскивали рудоплавильные домны, большая ночная горячка. Мне не хотелось, чтобы моё путешествие по Армении завершилось на этом, и решил при первом же удобном случае вернуться и увидеть всю страну — от Мегри до Лори, со сверкающими огнями заводов, когда каждая вспышка отражалась в моём сердце. Иногда в поле зрения попадали фигуры работающих в рудниках и плавильнях людей. Это — наши новые герои.
Армения, страна камней…
Но, дамы и господа, я хотел бы сказать миру:
Армения построила свою государственность на этих скалах, и радости жизни здесь представляются более сладкими, когда мы вспоминаем наше горькое прошлое. Эти скалы сверкают в лучах армянской мечты, и повсюду — это мечта всех людей. Разрозненные, разбросанные по всему миру, мы остаёмся одной нацией, и не имеет значения, где живут некоторые из нас, и на каком языке мы говорим, эта земля зовёт, влечёт, притягивает нас, и сегодня Мать-Армения — не печальная женщина, сидящая на руинах, а гигантская социалистическая кузница. Повсюду электропровода. Это уже не Азия, это — Европа. Тот армянин, который теряет национальное самосознание, перестаёт быть человеком, как бы он ни говорил: я не хочу помнить, я теперь американец, француз, англичанин… Я жалею его, даже если он преуспевает в своём деле.
Спюрк — армянская диаспора — вбирает в себя треть нации: переживших геноцид и их потомков. Мы потеряли два миллиона людей в первой мировой войне и из-за неё. Теперь армянской диаспоре угрожает «белый геноцид» — полная ассимиляция в различных чужеземных и чужеродных культурах. Спюрк постепенно тает. Спюрк располагает великими дарованиями, огромным запасом человеческих сил, который растрачивается втуне. В Спюрке многие армяне ведут героический образ жизни. Мы — армяне сложной закваски и ведём борьбу во имя того, чтобы остаться армянами хотя бы по духу. Дамы и господа, я хотел бы сказать миру: я принёс вам весть — мы не являемся исчезающей нацией. Мы будем жить. Армения будет жить вечно.
Память армянина — сокровищница и хранительница армянской мечты — бескомпромиссной, нескончаемой борьбы во имя свободы, причём свободы, должен сказать вам, не только для нас, а для всех людей. Армения всё ещё держит в руке сасунский меч, а сасунский меч разит во имя всего человечества. И мы будем жить, но будем жить не в колониях. И мы знаем — эта борьба, которую мы ведём в Соединённых Штатах, Южной Америке, на Среднем Востоке, во Франции, Англии, Греции и повсюду во имя сохранения нашей самобытной культуры, эта борьба со всеми своими обязательствами — закончится для нас поражением, но эта борьба является своеобразной победой и придаёт нашей жизни творческий Стимул, придаёт ей глубину и многообразие.
Мы — интернациональный народ. Говорим на многих языках. И по сложившейся многовековой традиции мы являемся связующим звеном между Европой и Азией, между Западом и Востоком, между Севером и Югом. Армянин — это человек классического окошка истории. В его душе издревле гнездится раздвоенность, напряжённость, породившая очень много прекрасных вещей. Эта внутренняя напряжённость имеет свою положительную сторону и превращает армянина в творческую личность и прирождённого поэта, в своего рода прирождённого художника. Благодаря этой внутренней напряжённости армянин подвижен, осмотрителен; без неё он стал бы вариться в собственном соку, закоснел бы. Спюрк, в конце концов, обречён, и, по-моему, единственной панацеей является репатриация. У Спюрка есть своя динамика, и в изгнанничестве есть и страдание, и величие.
В то время как жизнерадостный свисток поезда отзывался в лорийских горах, я хотел бы сказать: дамы и господа, в век могущественных государств и сверхдержав мир нуждается в своих маленьких нациях. Армяне умеют помнить, и поэтому мир, в особенности, маленькие, слабые нации, будут застрахованы от геноцида. То, что случилось с нами, не случится с другими. Эти преступления не должны повториться — никогда и нигде. «Помните нас!..» Было время, когда не было этого вопля. В те дни резни невинных, беспомощных людей то и дело говорилось, что младотурки (как объявляли в Трапезунде Энвер-паша и другие турецкие руководители, в то время как мы, школьники, помахивали маленькими турецкими флажками) прогонят русских из Кавказа и Центральной Азии и утвердят свою новую, великую Османскую империю, которая протянется от Эдрине до самых границ Индии. Для этого необходимо было стереть с лица земли армян и проложить дорогу турецким войскам. За этим первым этапом османской экспансии последовало вторжение в Восточную Армению в 1917–1918 и 1920 годах.
Многое можно сказать в утешение маленьким нациям. Армения мала только по территории и населению. Самый древний театр в СССР имеет Армения, и, следовательно, ей принадлежит и самое древнее искусство переписывания древних рукописей. Маленькие нации — это бриллианты в короне человечества. Самые ценные дары иногда поступают к нам в виде самых маленьких посылок. Я не знаю какой-либо другой маленькой нации, которая до сих пор играла бы ту своеобразную роль, которую играют армяне, конечно, в скромных размерах, связывая друг с другом обширные территории планеты. К примеру, на свете есть более трёхсот тысяч американских армян и столько же сирийских и ливанских. Армянин, проживающий за рубежом, может быть таким же страстным и ревностным патриотом, как и любой армянин, проживающий в Армении. Хотя я и пишу это предисловие к армянскому переводу романа «К вам обращаюсь, дамы и господа» на английском языке, что само по себе показывает беспредельность армянской трагедии, и роман этот будет переведён в Ереване на армянский язык, потому что даже я, армянский писатель, лучше изъясняюсь на другом языке, который не является для меня родным, и сейчас являюсь американским писателем, но сердцем я остаюсь тем самым мальчуганом, которым был на магистрали смерти Джевизлика, тем самым мальчуганом, который услышал слова «Помните нас!..» — и не может их забыть. Знаю, что я соединяю в себе Америку и Армению, и в армянской диаспоре есть сотни тысяч таких, как я.
Следовательно, мы, армяне, соединяем людей, а не разъединяем их, и своей многовековой исторической традицией, происхождением, своим языком, вероисповеданием, культурным и национальным обличьем принадлежим как Востоку, так и Западу. Мы должны продолжать делать всё лучшее, всё, что в наших силах, — чтобы стала прочнее наша сопричастность миру, наша связь с ним. Вот наша особая миссия, наше назначение как нации. И эта армянская связь, сопричастность со всей очевидностью возрастёт, когда ещё более окрепнет Армянская ССР, потому что она является опорой, оплотом нашей деятельности, и без неё мы пропадём. Тайной нашего существования, нашей живучести и решимости отчасти являются печали и горести, пульсирующие в нашей груди. Мы должны стать поддержкой справедливости и выкорчевать, искоренить несправедливость. За окном поезда, из огнедышащих плавилен меди я слышал удары молота: это были удары армянской решимости. Дамы и господа, — сказал я, — это удары сердца, это барабанный бой стремящейся вперёд Армении.
Левон Завен Сюрмелян (перевод Г. Карапетяна)Сканирование, OCR, исправление ошибок распознавания и явных опечаток — Владимир Айвазьян
Примечания
1
Блбул — соловей (турецк.).
(обратно)2
Симитджи — бакалейщик (турецк.).
(обратно)3
Оха — турецкая мера веса, равная 1 кг 225 г.
(обратно)4
Пракситель — великий древнегреческий скульптор, главный представитель новоаттической школы пластики. Родился в Афинах в начале IV столетия до н. э. (примечание И. Карумян).
(обратно)5
Каракол — полицейский участок (турецк.).
(обратно)6
Бакшиш — чаевые (турец.).
(обратно)7
Иттихат — наименование реакционнейшей турецкой буржуазно-помещичьей националистической партии. Организована в 1889 году. В 1908 году, придя к власти, младотурки — члены этой партии — сохранили власть султана и продолжили политику отуречивания народов Османской империи. В годы первой мировой войны, воюя на стороне Германии, младотурки проводили злостную политику пантюркизма и панисламизма, которая наиболее ярко выразилась в геноциде армянского народа. Позже главари этой партии — Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша и прочие преступники были заочно (поскольку они бежали) приговорены военным трибуналом к смертной казни (примечание И. Карумян).
(обратно)8
Энвер — один из лидеров младотурок, глава триумвирата, управлявшего иттихатской Турцией в годы первой мировой войны. После поражения германо-турецкого блока бежал из Турции, затем примкнул в Средней Азии к бухарским басмачам, боровшимся против Советской власти. Убит в бою с отрядом Красной Армии. (Примечание И. Карумян).
(обратно)9
Андраник (Озанян Андраник Торосович, 1865–1927) — выдающийся деятель армянского освободительного движения, народный герой, генерал-майор русской Кавказской армии. Возглавлял освободительную борьбу крестьянских масс Сасуна и других областей Западной Армении. В Балканских войнах 1912 — 13 гг. в качестве офицера болгарской армии воевал против Турции. (Примечание И. Карумян).
(обратно)10
Комитаджи — революционер (турец.).
(обратно)11
Свечи для фейерверка.
(обратно)12
Имеется в виду резня армян, устроенная турецким султаном Абдул Гамидом в Западной Армении в 1896–1899 гг. (Примечание И. Карумян).
(обратно)13
Аббат Мхитар или Мхитар Себастаци (1676–1749) — видный учёный и общественный деятель. Спасаясь от преследований турецкого султана, принял католичество и основал армянскую религиозную и научную организацию — конгрегацию учёных монахов, принявшую его имя. Первоначально конгрегация находилась в Константинополе, а с 1717 года обосновалась в Венеции, на острове Св. Лазаря. С 1811 г. действует в Вене его ответвление. Со дня основания и поныне конгрегация мхитаристов ведёт научную, учебно-образовательную и культурно-просветительскую деятельность. Многие её члены, учёные и писатели, разрабатывали проблемы арменоведения, ими написаны капитальные труды по истории, литературе, географии Армении, составлены ценные словари. Конгрегация издаёт историко-филологические журналы. В 1717 г. Мхитар Себастаци открыл при монастыре духовную академию, которая в своё время была известным учебным центром. Там учились армянскому языку Байрон, Стендаль. В 1833 году мхитаристы открыли в Падуе армянское училище Муратян, а в 1836 году в Венеции — Рафаэляновское училище. Впоследствии оба училища объединились, получив название Мурат-Рафаэляновского училища. Действует поныне. Мхитаристы открывали школы и во многих других странах, где жили армяне. (Примечание И. Карумян).
(обратно)14
Рамазан — мусульманский религиозный праздник (примечание И. Карумян).
(обратно)15
Спряжение глагола «иметь».
(обратно)16
Слово «вардапет» имеет в армянском языке несколько значений. В церковной иерархии — чин, равный архимандриту. Употреблялось также в значении «учёный», «учитель». (Примечание И. Карумян).
(обратно)17
Гевонд Алишан (1820–1901) — классик армянской поэзии, выдающийся филолог, историк, географ, переводчик. Член конгрегации мхитаристов. Был лауреатом Почётного легиона французской Академии, почётным членом и доктором Иенской философской Академии, сотрудничал с российской, итальянской и другими академиями. (Прмечание И. Карумян).
(обратно)18
Палан — у восточных носильщиков приспособление для переноски тяжестей на спине.
(обратно)19
Братец Жак, братец Жак, Ты что спишь, ты что спишь? Встань, звони, встань, звони, Тинг-танг-тонг, тинг-танг-тонг! (известная французская детская песенка). (обратно)20
Что это? Это книга, ручка, окно, дверь. Спряжение глаголов «иметь» и «быть». Хорошо, чёрт возьми! (искаж. англ.)
(обратно)21
Агурамазда и Ариман — согласно религии древних персов — парсизму или зороастризму — вся природа распадается на два царства: света и добра — с одной стороны, мрака и зла — с другой. Добро восходит к верховному творцу Агурамазде, пребывающему в царстве вечного света. Противоположен ему дух зла Ариман, живущий во мраке. (Примечание И. Карумян).
(обратно)22
Сэмюэль Смайлз — шотландский писатель (1812–1904). (Примечание И. Карумян).
(обратно)23
Микаэл Налбандян (1829–1866) — известный армянский писатель, общественный деятель, революционер-демократ. Рафаэл Патканян (1830–1902) — известный армянский писатель, дал высокие образцы гражданственной поэзии. Оба — и Р. Патканян и Н. Налбандян — выходцы из Нового Нахичевана (Ростов-на-Дону) и похоронены там. Новый Нахичеван — большая колония армян, переселённых из Крыма в конце XVIII века для экономического укрепления юга России. (Примечание И. Карумян).
(обратно)24
— Луна, не так ли?
— Да, прекрасная луна России (франц.).
(обратно)25
Айастан — так называют Армению армяне.
(обратно)26
Венизелос Элефтериос (1864–1936) — греческий государственной и политический деятель, основатель и лидер буржуазной либеральной партии. Премьер-министр Греции в 1910 — 15, 1917 — 19, 1924, 1928 — 32 и 1938 гг. (Примечание И. Карумян).
(обратно)27
«Ближневосточная помощь» или Комитет американской помощи на Ближнем Востоке — американское благотворительное общество. Основано в 1918 г. для поддержки населения Ближнего Востока — армян, греков, ассирийцев, пострадавших в годы первой мировой войны. (Примечание И. Карумян).
(обратно)28
Битва при Маназкерте. Маназкерт — город в Западной Армении. Согласно преданиям, его основал Манаваз, сын легендарного прародителя армян Гайка, и назвал поселение Манавазакерт. В 986 г. был завоёван византийцами. В 1054 г. на Маназкерт напали турки-сельджуки под предводительством султана Тугрила. В 1071 г. возле Маназкерта состоялось решающее сражение между турками и византийскими войсками. Во время сражения наёмные войска печенегов и других тюркоязычных племён, воевавшие на стороне византийцев, перешли на сторону своих соплеменников турок, и византийцы в панике бежали с поля боя. Упорно продолжали бой только армянские отряды. Но после того как император был ранен и взят в плен, битва была проиграна. Между императором Византии и турецким султаном Арп-Арсланом был заключён мир, по которому к сельджукам отошли Маназкерт, Хлат, Эдесса, Антиохия и другие малоазиатские земли. Битва при Маназкерте имела фатальное значение для Византии и армян. В этом сражении фактически решался вопрос о Малой Азии, и решился он в пользу турок, которые впоследствии смогли овладеть всем полуостровом. (Примечание И. Карумян).
(обратно)29
Ани — столица Армении в X–XI вв., «город тысячи церквей», с выдающимися памятниками архитектуры, крупный культурный и экономический центр того времени. (Примечание И. Карумян).
(обратно)30
Автор — выходец из Западной Армении, там же находится и Сасун. (Примечание И. Карумян).
(обратно)31
Григорий Просветитель или Григорий Партев (ок.239–325 (326) — религиозный и политический деятель, армянский католикос. Уничтожал в Армении языческие храмы и основывал церкви, имея в своём распоряжении большое войско. В Вагаршапате (ныне Эчмиадзин) на месте языческого храма основал Кафедральную церковь, с его именем связано строительство церквей Св. Рипсиме, Св. Гаяне и др. По имени Григория Просветителя армянскую церковь иногда называют григорианской. (Примечание И. Карумян).
(обратно)32
Гевонд Ерец (Иерей Гевонд) — Гевонд Ванандеци, активный деятель освободительной борьбы армянского народа в V в., принимал участие в Аварайрском сражении, своими выступлениями воодушевлял воинов. (Примечание И. Карумян).
(обратно)33
Аварайрская битва — сражение армянских войск и ополчения во главе со спарапетом (военачальником) Варданом Мамиконяном против персидской армии 26 мая 415 г. Битва была кульминацией борьбы армянского народа за свою независимость в V в. (Примечание И. Карумян).
(обратно)34
Арамазд — главное божество в армянском языческом пантеоне. (Примечание И. Карумян).
(обратно)35
Согласно Плутарху и Страбону, карфагенский полководец и государственный деятель Ганнибал после того, как Рим потребовал его выдачи, бежал в 195 г. до н. э. в Селевкию, оттуда в Армению, к царю Арташесу I (неизвестный год до н. э. — примерно 160 г. до н. э.). По свидетельству этих историков, Ганнибал выбрал для царя Арташеса I место для его столицы Арташата и помогал советами в строительстве города. (Примечание И. Карумян).
(обратно)36
Ваагн — бог солнца в армянской языческой мифологии. (Примечание И. Карумян).
(обратно)37
Ласточка, странница, Зачем ты садишься на крыльцо, Напевая каждое утро Эту жалостную песню? (итал.) (обратно)38
Когда я родился, Голос сказал мне: Ты рождён, чтобы Нести свой крест. (итал.) (обратно)39
Билет (итал.)
(обратно)40
Паспорт (итал.)
(обратно)41
Господин капитан, я армянский студент (франц.)
(обратно)42
Итальянского языка и культуры (итал.)
(обратно)43
Alliance Française — ассоциация основана в 1883 г. в целях распространения влияния Франции на остальной мир с помощью пропаганды французского языка и культуры. St. Cyr-e — специальная военная школа, готовящая офицеров сухопутных войск, создана в 1803 г. Наполеоном Бонапартом. Ecole de Ponts et Chaussées — высшее учебное техническое заведение. (Примечание И. Карумян).
(обратно)44
Петрос Дурян (1851–1872) — классик армянской поэзии. (Примечание И. Карумян).
(обратно)45
Пошли (франц.)
(обратно)46
Ке д’Орсе — утёс на Сене в Париже, прямо напротив здания Министерства иностранных дел, отсюда и условное название французского министерства иностранных дел. (Примечание И. Карумян).
(обратно)47
Ваш старый отец, Андреас Метаксас (франц.)
(обратно)48
Надеюсь увидеть вас большим человеком науки и большим патриотом. Не забывайте ни свою родину, ни свой народ (франц.)
(обратно)49
Перевод А. Налбандяна.
(обратно)50
Кофе с молоком (франц.)
(обратно)51
Сколько; спасибо; да, сэр; нет, сэр; дайте, пожалуйста; хочу пойти.
(обратно)52
Что это?
(обратно)53
Вы говорите по-немецки? (нем.)
(обратно)54
Я немного говорю по-французски (франц.)
(обратно)55
Стихотворение в основном построено на междометиях.
(обратно)56
Cherry (англ.) — вишня. Керас — черешня по-армянски.
(обратно)57
Chestnut (англ.) — каштан.
(обратно)58
Эти строки написаны автором в годы второй мировой войны.
(обратно)

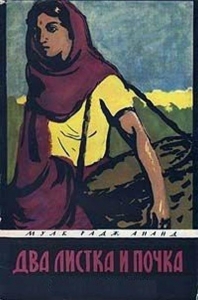

Комментарии к книге «К вам обращаюсь, дамы и господа», Левон Завен Сюрмелян
Всего 0 комментариев