Ярославская копейка
Съезжая изба Тобольского воеводства рублена в две клети. В одной разместилась писчая братия под началом подьячего Ивана Хапугина, в другой — большой сибирский дьяк Нечай Федоров. У каждой клети своя крыльцовая дверь. Третья соединяет избу изнутри.
— Звал ли, Нечай Федорович? — отворил ее со стороны общей палаты письменный голова Василей Тырков.
— Тссс! — осек его громкоголосие Федоров. — Умри покуда!
Он стоял в глубине просторного хоромца у распахнутого на Троицкую площадь окна. Никого рядом с ним не было.
Тырков недоуменно замер: чего ж тогда умирать? Однако недоумения своего не выказал. Тссс — так тссс…
Ожидая, когда Федоров вспомнит о нем, Тырков уже более внимательно оглядел хоромец. Все в нем просто и просторно. Посредине — добела выскобленный стол, на нем стопка деловых бумаг, серебряный каламарь с чернилами и пучок писчих перьев в берестяном стакане. По бокам стола — широкие лавки, обитые синим сукном. На стенах искусно рисованные ландкарты Сибири и Московии. По одну сторону от двери — печь, украшенная зелеными изразцами, по другую — решетчатый одежник с крюками из меди. В красном углу икона Спаса Вседержителя.
Повернувшись к ней, Тырков осенил себя размашистым крестом.
Федоров по-прежнему безмолвствовал.
«Ну и пусть, — рассудил Тырков. — Стало быть, важная мысль ему в голову залетела. Боится ее потерять. Даже в лице переменился. Посмотреть, так сам на себя не похож».
Федоров и впрямь преобразился. Ласковое майское солнце смыло рябинки с его серого болезненного лица, распушило окладистую бороду и редеющие волосы, наполнило синевой подслеповатые глаза, устремленные куда-то ввысь, за окно, в поднебесные дали. И читалась в них вовсе не отрешенность озабоченного государскими делами человека, а скорее озорное любопытство пожилого дитяти.
Тыркова тоже любопытство прошибло: «И чего ему там увиделось?»
Неслышно ступая, он перебрался за спину худого долговязого Федорова и проследил за его взглядом.
Ну вот, все и разъяснилось. Наискосок, на шпиле воеводского терема, примостился большой пестрый дятел. Его красное встопорщенное верховым ветром подбрюшье полыхало в желтых солнечных лучах. Короткий хвост слился с потемневшим от жары и влаги древком шпиля. Голова настороженно поворачивалась то вниз, то вверх. Выждав несколько мгновений, дятел пустил короткую дробь, затем другую — уже подлиннее и позамысловатей. А третья у него и вовсе трелью прозвучала — самому искусному барабанщику на зависть.
«Заядлый птах, — уважительно подумал Тырков. — И как его только сюда занесло? Тобольск, чай, не в тайге поставлен, а на высоком Чукманском мысу. Здесь поживиться особо нечем. Да и людновато…»
«Хотя, — набежала следующая мысль, — дятлы зря не летают. Не иначе как шашели в теремном дереве завелись. Шпиль точно менять надо. Заодно и верха перебрать».
А дятел знай себе барабанит.
А Федоров знай себе глядит.
Тут Тыркова и осенило: «Так они же родня! Не случайно Нечая Федоровича к этому краснопузику потянуло. Ведь что такое дятел? Это прежде всего несокрушимая голова и бесконечное усердие. У других от такого усердия голова бы отпала, а у них только крепчает».
Кому как не Тыркову истинную натуру Нечая Федорова знать? Ведь судьба их не сейчас свела, а зимой далекого, как эхо, но не стершегося и до сих пор из памяти сто третьего года [1]. Нечай в те поры одним из подьячих Посольского приказа был, а Тырков — конным казаком сибирской крепости Пелым. Может, и не сошлись бы они близко, не задержи тогда приказной заворуй Мотяш Мыльник жалованье пелымским казакам, пригнавшим в Москву ясачный обоз с пушниной, а заодно плененного Тырковым на бою сына немирного вогульского князьца Аблегерима Таганая. Положенные казакам деньги Мыльник успел в росты пустить, а им стал завирать, что деньги те в приходную книгу по недосмотру верхних чинов не записаны, стало быть, и по расходной статье пройти не могут. Надо сперва нужной записи добиться.
После, когда выяснилось, что все это наглая увертка, Мыльник без зазрения совести на других приказных стал вину перекладывать: это-де они у него из короба с казенкой деньги без отписок брали, с них и спросить следует. А те руками разводят: какие отписки? какие деньги? Или того нахальней: отписки и впрямь были, да мы их потеряли, теперь и не вспомнить, какие в них суммы значились. Ну, словом, круговая порука. А казаки тем временем вконец прожились, голодовать стали. Тут-то Нечай Федоров и показал себя. Казакам он харчами по-братски помог, а сам злоупотреблениями Мыльника и других крючкотворов занялся. На том случае не только казаки, но и высшее начальство Нечая Федорова заметило, а заметив, отправило в Сибирь обзор югорским и сибирским делам делать, предложения по их улучшению составлять, опыта набираться. Следуя через Пелым, новоиспеченный поверщик [2] Тыркова с собой в Тюмень и Тобольск взял, а оттуда в Березов, Сургут, Тару. Сначала давал лишь сопроводительские поручения, а когда узнал, что Тырков грамоту самоуком постиг, стал доверять ему разборку деловых бумаг, по душам на всякие отвлеченные темы беседовать. Вот и привыкли они друг к дружке, натурами сошлись. Звал его Федоров с собою в Москву, да не захотел Тырков менять вольные просторы на кремлевский муравейник. Не по нему, знать, приказная служба. На том и распрощались.
Не раз после Тырков ругал себя за то, что не последовал за Федоровым в царь-город. В Сибири ведь тоже служба не сахар. Даже если дослужишься до чина сына боярского [3], как Тырков за поимку Таганая Аблегиримова и прочие заслуги дослужился, легче не станет. Воеводы, дьяки и головы здесь каждые два года меняются. Есть среди них государского склада люди, но и временщиков немало. У них одна забота — побольше для себя и своего прожорливого семейства от несметных сибирских богатств урвать. Эти за версту чуют, кто в их ряды затесался — природный дворянин или казацкий выскочка под вид Тыркова. Ни Божии, ни человеческие законы им не писаны. Берут себе все, что плохо лежит, а больше того у служилых и ясачных людей вымогают. Терпеть их неправды мочи нет. Тырков и не терпит. За то на него всякие неприятности и сыплются.
Москва всем городам мать — белокаменная, златоглавая, хлебосольная, словоохотливая. В ней каждый день праздник. Не зря же люди в нее со всего света стремятся. Но главное, Нечай Федоров в ней большим человеком стал — вторым дьяком приказа Казанского и Мещерского дворца, к которому сибирские дела из Посольского приказа перешли. За его спиной, как за каменной стеной. Он тоже наверх из низов выбился. Не мешало бы у него выдержке и уму-разуму поучиться, опыт жизни перенять.
Однако время переменчиво. Нынче Москва — скопище людских бедствий. Год назад, чтобы подавить восстание ее жителей, наемники польского наместника Александра Гонсевского холодной рукой выжгли город. Вконец порушенный и разграбленный, он и сегодня, по словам очевидцев, не поднялся еще из руин. А Нечай Федоров вот он — за дятлом завороженно наблюдает, будто более важных дел у него в помине нет. И Тырков рядом. Словно не расставались.
А ведь не померкло еще в памяти то время, когда Москва казалась им столпом вселенной — так она была светла, нарядна и могущественна. Поляки, шведы и прочие иноземцы вели себя на ее улицах чинно, как и подобает гостям. Приезжие из российских глубинок ломали шапки перед кремлевским златоглавием. Торговые площади кипели многолюдием, а посады умелой и слаженной работой. Никто тогда и подумать не мог, что всего через три года это великолепие станет стремительно гаснуть, помрачаться, приходить в упадок. Толчком к сокрушению всего и вся стали неостановимые дожди и ранние морозы, обрушившиеся на Русию летом сто десятого года [4]. Они сгубили урожай на корню. Не вызрели хлеба и на следующее лето. Сибирские воеводства голод тогда обошел, зато много народу на московской стороне выкосил. И все из-за того, что перекупщики, о Боге забыв, цены на зерно до небес подняли. Голод ожесточил низы, стал рушить опоры, которые поддерживали порядок в государстве. Народ возопил о справедливом государе. А кремлевские верхи вместо того, чтобы подставить плечи под закачавшиеся опоры, стали их раскачивать. Вкупе с польским магнатом Юрием Мнишеком сотворили они из беглого чернеца Гришки Отрепьева лжецаря Дмитрия, помогли ему с войском разбойных казаков и польских наемников войти в ослабевшую от голода и духовной разладицы Москву. Так вот и выросла из природного бедствия кровавая русская смута. Она охватила все сословия, и нет ей ни конца ни края.
У всего своя мера. Расстояния принято измерять локтями, саженями, верстами; время — годами, веками, тысячелетиями, а чем измерить глубину смуты, затмившей Русию?
Тыркову и пало в голову: царями, лжецарями и прочими самозванцами, вот чем. А их столько за минувшие годы сменилось, что считать — пальцев на руках не хватит. Перво-наперво два выборных царя — Борис Годунов и Василий Шуйский. Да два лжецаря — тайный католик Гришка Отрепьев и тайный иудей Богдашка Шкловский, более известный как Тушинский вор. Да с десяток самозванцев помельче — Илейка Коровин-Муромец, что царевичем Петром Федоровичем назвался, Иван-Август, Лаврентий, Осиновик, Клементий, Савелий, Симеон, Ерошка, Гаврилка и Мартинка. Но эти все больше на казачьих окраинах и в степных уездах царскими наследниками себя выставляли. Ныне во Пскове еще один Лжедмитрий сидит — московский дьякон Матюшка Веревкин, он же бродячий торговец ножами Сидорка. Трудно понять, кто страной правит, — семь думных бояр [5], взявших власть в свои руки, или поляки, предательски запущенные ими в Кремль, или бунташный люд, в любом самозванце готовый узреть доброго государя, или земское ополчение, созданное людьми разных сословий, чтобы очистить наконец Московию от польских и литовских наемников и служить тому государю, который будет наречен на престол всем народом. Яркой звездой полыхнул на российском небосводе один из троеначальников этого ополчения — рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, но подлая клевета и подметные грамотки навели на него руку казаков-убийц. А два других вождя, Иван Заруцкий и Дмитрий Трубецкой, признали царем псковского вора Матюшку-Сидорку, но при этом поспешили ударить челом липовой государыне Марине Мнишек и ее «вороненку», сыну Тушинского вора, Ивану. Затмение умов до того дошло, что сначала Москва, а за ней многие другие города за глаза присягнули шестнадцатилетнему польскому королевичу Владиславу, а взятый шведами Великий Новгород готов стать под его ровесника, шведского принца Карлуса Филиппа. Из-за их спин к русской короне тянут загребущие руки польский король Сигизмунд Третий и его троюродный брат Густав Адольф, сменивший на шведском троне недавно скончавшегося короля Карла Девятого. Не дай бог никому дожить до такого столпотворения! Но, слава богу, остались еще на Руси и пастыри, и ратники, и пахари, и строители, верящие, что она непременно воспрянет. Для этого осталось сделать еще одно — последнее усилие. Но как? Когда? Какими силами?
Нечай Федоров уверен: скоро. Качнулся маятник в одну сторону, докачнется и до другой. За царские согрешения Бог всю землю казнит, а что народ скажет, тому так и быть. Надо только, чтобы сапог с лаптем на святом деле сошелся, а дворянин с мужиком. Чтобы забыли они взаимные обиды хотя бы до тех пор, пока Русия вновь обретет самостояние, очистится от чужестранцев. Тут либо петля надвое, либо шея прочь.
Согрешения законных государей и их подручников Федорову лучше других ведомы. Но когда Афанасий Власьев, с которым они не один год в приказе Казанского и Мещерского дворца вместе дьячили, склонял его предаться Лжедмитрию — Гришке Отрепьеву, настежь распахнуть перед ним и его польскими приспешниками сибирские закрома, Нечай ответил: «Это так же невозможно, как окропить водой с земли колокольню Ивана Великого на Ивановской площади в Кремле». За то и угодил в опалу, двора и вотчины лишился, был пытан на дыбе и выброшен калечным в чистом поле на волю судьбы. Более года скрывался у добрых людей, телесные и душевные раны залечивал. Лишь при Василии Шуйском о нем вспомнили, но в первые дьяки Казанского приказа так и не вернули. Слишком хлопотно. В таком разе вместе с должностью, заслуженной еще при Борисе Годунове, двор и вотчину ему возвращать надо, новыми угодьями за верность престолу жаловать. Не проще ли отправить в Сибирь покормиться, а там видно будет. Вот и расписали Федорова первым дьяком в Тобольск. Ведь Тобольск, считай, сибирская Москва. Все тамошние крепости ему подчиняются. А коли так, то для красоты слога тобольский дьяк может писаться большим сибирским дьяком. Все остальное от его хватки зависит. Сумеет поставить себя выше других — Бог в помощь, не сумеет — сам виноват.
Федоров сумел. Кого мытьем, а кого и катаньем заставил с собой считаться. Иван Хапугин и такие, как он, за это его недолюбливают, другие уважительно зовут запрягальщиком. Точнее не скажешь: запрягальщик…
Занятый своими мыслями, Тырков не заметил, как дятел перелетел на конек чердачного полога соседней домины. Зато заметил Федоров. Передвинувшись ближе к окну, он загородил его головой и плечами.
Тырков хотел было последовать за ним, но тут Федоров, не оборачиваясь, глухо спросил:
— О чем думаешь, Василей Фомич?
— Прожитое, что пролитое — не воротишь, — задумчиво откликнулся Тырков. — А мы с тобой немало пролили…
— Не жалей, — посоветовал Федоров. — Жизнь на месте не стоит. Ее и не захочешь, а прольешь. Было бы за ради чего, — и деловито уселся на ближнюю лавку. — Разговор у нас нынче особый будет. Для разгона почитай-ка грамоту, что гонец из Ярославля примчал, а я покуда в затылке почешу.
Шутка у него такая — для красного словца.
Усевшись медведем по другую сторону стола, Тырков развернул послание и, перепрыгивая с пятого на десятое, пробежал начальные строки: «Бояре и окольничие, и Дмитрий Пожарский, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и жильцы, и головы, и дети боярские всех городов, и Казанского государства князья, мурзы и татары, и разных городов стрельцы, пушкари и всякие служилые и жилецкие люди челом бьют…»
Так, понятно. Заглянул в конец. Первым к посланию руку приложил боярин Василий Морозов, затем князь Владимир Долгорукий, третьим — окольничий Семен Головин, четвертым — князь Иван Одоевский… Подпись самого Пожарского шла десятой. Он же расписался за «выборного человека всею землею, в Козьмино место Минина». Дальше шло еще более тридцати росчерков.
Ну вот теперь и в середину грамоты заглянуть можно, туда, где ее суть после перечисления московских бедствий изложена:
«…Ныне мы, Нижнего Новгорода всякие люди, сославшись со всеми городами понизовыми и поволжскими, собравшись со многими ратными людьми, видя Московскому государству конечное разоренье, прося у Бога милости, идем все головами своими на помощь Московскому государству. Да и к нам же приехали в Нижний из Арзамаса смоляне, дрогобужане, вятчане и других многих городов дворяне и дети боярские; и мы, всякие люди Нижнего Новгорода, посоветовавшись между собою, приговорили животы свои и домы с ними разделить, две части от имений своих или пятую деньгу со всех доходов им в жалованье и помогу дать и выбрали ратным воеводой князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского, а при нем казначеем посадского человека Козьму Минина Сухорукого. Также пришли к нам коломничи, рязанцы и служилые люди украинских городов, а еще добрые казаки и стрельцы, которые сидели в Москве в осаде с царем Василием; все получили жалованье. И вот лета 7120 февраля в 23 день [6] на Великий пост выступили мы, городов всякие люди, в Балахну, и в Юрьевец, и в Решму, и в Кинешму, и в Кострому, а теперь стоим в Ярославле, дабы к Москве идти вскоре, учинив перед тем крепкий совет, как нам в нынешнее лихолетье быть небезгосударными. Сами знаете, как теперь тяжко стоять без государя против общих врагов, польских, литовских и немецких людей и русских воров, которые новую кровь начинают. А как нам без государя о великих государских и земских делах с окрестными государями ссылаться? Так по всемирному своему совету пожаловать бы вам прислать к нам в Ярославль из всяких чинов людей человека по два, и с ними совет свой отписать, за своими руками. Как будем все понизовые и верховые города в сходе вместе, мы всею землею выберем на Московское государство, кого нам Бог даст. Еще при жизни своей новый страстотерпец святейший кир Гермоген, Патриарх всея Руси, умученный ныне голодом в Чудовом монастыре, стоя перед смертью, великий столп, твердый алмаз и крепкий воин Христов сказал: «Да будут благословенны те, которые идут для очищения Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будете прокляты». Пусть его слова будут повсюду слышны, как он завещал нам: «Мужайтесь и вооружайтесь! Время, время пришло! Время в деле показать подвиг и на страдание идти смело! Опояшемся оружием телесным и духовным!» Вот и помогите нам опоясаться. Сами ведь знаете, что всякому большому делу и казна не меньше нужна, а неразоренных своими и чужими лжехристями мест, откуда ссуду взять можно либо доброхотную денежную помощь получить, мало осталось; где ее взять, коли не в монастырях, да не у отчизнолюбивых торговых людей, да не у вас на Сибири? Того ради просим вас, господа и други, помогите сделать так, чтобы войско наше от скудости не разошлось, но выросло и укрепилось, а как, даст Бог, из Московского государства окаянных изгоним да своим государем жить учнем, то он велит те деньги вам сполна заплатить. Поспешайте только с посылом казны, а тако ж выборных и ратных людей нам в сход, ибо дело у нас край спешное и никаких отлагательств не терпящее…»
— Я готов! — отложив прочитанные листы, глянул на Федорова Тырков.
— Чего «готов-то»? — удивленно воззрился на него тот. — Я ведь еще и не сказал ничего.
— А что говорить? Все и так ясно: мужайтесь и вооружайтесь! Между прочим, толки о нижегородском ополчении среди служилых людей не первый день идут. То один, то другой меня спрашивает: как бы в него поверстаться? А вы с воеводой Катыревым да с воеводой Нащокиным такие разговоры запретили, будто их и нет. Небось и эту грамоту под сукно засунете?
— Эту не засунем, — твердо пообещал Федоров. — Более того, тебя и охочих казаков под твоим началом пошлем в Ярославль с помощью Пожарскому. Дело за малым: саму помощь, не мешкав, собрать. С того и начни. Тут воеводы и я — тебе первые помощники.
— И Катырев? — засомневался Тырков, помня, что первый тобольский воевода князь Иван Катырев-Ростовский сослан в Сибирь за то, что в тяжкое для отчизны время склонился на сторону Тушинского вора Лжедмитрия Второго, да и к Дмитрию Пожарскому, судя по его высказываниям, душой не лежит.
— И Катырев! — подтвердил Нечай Федоров. — Время учит. Вместе с этой грамотой Иван Михайлович письмейце от князя Пожарского получил. Писано оно с глазу на глаз, без дьяка. Что в нем, не знаю, но только приметил я, что, его читаючи, Катырев и один, и другой раз слезу смахнул. Похоже, их с давних пор что-то связывает. Не обязательно дружба. Но я по себе знаю, что и недружба с годами может в согласие перерасти. Мой тебе совет, Василей Фомич: не косись на Катырева, что он прежде с самозванцами путался. Этим многие именитые люди грешны. Ты на его сегодняшние дела и помыслы погляди. Мало ли он хорошего успел сделать?
— Поживем — увидим, — заупрямился Тырков. — Время покуда терпит.
— Опять же такое себе на ум возьми, — будто и не заметил его строптивости большой сибирский дьяк. — Вместо двух лет мы с Катыревым уже пятый год на Тобольском воеводстве сидим, перемены себе ждем. А ее все нет и нет. Седьмочисленным боярам на Москве не до нас. Они в цари польского Владислава ждут. Трубецкой с Заруцким для нас не указ. Остается Совет всей земли, что собрал в Ярославле князь Пожарский. Только его людям мы готовы сибирские дела сдать, только в его стан отъехать. Вот об чем другая забота у тебя будет. Уразумел?
— Ясней некуда, — кивнул Тырков. — А чего это Пожарский через Ярославль на Москву вздумал идти? Нешто короче пути нет?
— Будто сам не знаешь?
— Знать-то знаю, да от тебя услышать хочу: туда ли думаю?
— Туда, туда, — усмехнулся в бороду Нечай Федоров и, не оборачиваясь, повел большим пальцем за спину, где висела ландкарта Московии. — Перво-то-наперво он свою рать с замосковскими и рязанскими силами в Суздале хотел соединить, да Заруцкий опередил. Его атаманы Андрей Просовецкий с братом Иваном Суздаль и Владимир заняли. Вроде бы то и другое ополчение от чужого и своего дурна Московское государство очистить поднялись. Тут бы и стать им плечом в плечо, так нет же. Заруцкий во всем свою выгоду ищет. То с тушинским самозванцем путался, то с псковским начал. Теперь сынчишку польской девки Маринки царевичем объявить готов, а себя его попечителем. Про смерть Ляпунова и другие неправды в его стане я уж и не говорю. Оттого и решил Пожарский в прямую вражду с ним не вступать, через Ярославль его обойти. Опять же в землях Великого Новгорода шведы застряли, а Ярославль — ключ ко всему замосковскому краю… Это ли ты ожидал от меня услышать?
— Это самое, Нечай Федорович. Одними глазами глядим.
— Ну и ладно… А теперь на эту копеечку взгляни, — выложил на стол серебряную монету Федоров. — Может, она тебе что-нибудь подскажет.
На монете был изображен всадник с копьем. Из-за этого копья ходовые торговые серебрушки когда-то и назвали копейной деньгой, а ныне называют попросту копейкой.
— Ну-ка, ну-ка, — заинтересованно принялся разглядывать монету Тырков.
Давно он такой искусной чеканки не видел. Сама копейка в ноготь шириной, но всадник на ней изображен во всех подробностях. Кафтан, перетянутый широким поясом, удачно подчеркивает линии его литого, ладно скроенного тела, высокие сапоги перехвачены у колен и щиколоток, за плечами трепещет походный плащ. При желании можно рассмотреть не только нос и бороду всадника, но и его взгляд, исполненный богатырства. Столь же зримо выбит конь. Вон как нетерпеливо перебирает он резвыми копытами. Попона под седлом украшена скорее всего драгоценным камнем — лалом. Это середина солнечного круга, в который вписаны всадник и его скакун. Копье делит круг надвое. Под его острием, направленным вниз, помещаются обычно начальные буквы того города, где выбита копейка.
На монете, явленной Федоровым, отчеканены прописная буква с, а следом — заглавные Я и Р. А это без труда читается как Ярославль.
«Оно бы конечно… — подумалось Тыркову. — Ярославль издавна славится мастерами-серебряниками. Но даже самому опытному из ярославских умельцев меньше чем за месяц маточник [7] с двусторонним изображением копейной деньги не изготовить. Оттиснуть с него чеканы [8] — дело попроще, но и оно времени требует. Как же тогда князь Пожарский успел прямо с похода Денежный двор в Ярославле устроить и, не переведя дыхания, изготовить эту вот копейку? Не упала же она ему с неба…»
Тут взгляды Тыркова и Федорова встретились.
«Ну что, Василей Фомич, — спрашивали глаза Федорова. — Задал я тебе задачку?»
«Не спеши радоваться, Нечай Федорович, — ответили глаза Тыркова. — Дай подумать. А сам покуда у себя в затылке почеши. Благое занятие».
Усмехнулся Федоров, а Тырков ему в ответ улыбнулся.
«Но могло же и так статься, что маточник либо чеканы с него вовсе не в Ярославле сработаны, — рассудил про себя он. — В Ярославле их лишь в дело запустили. А изготовлены они, скажем, в Москве. Только там ныне и остались мастера-маточники наивысшего умения. Новгородские и псковские с ними ни в какое сравнение не идут… Но ежели моя догадка верна, спрашивается: как сумел резчик Московского Денежного двора, за работой которого дозирают скорые на расправу поляки, выточить и вынести столь тонко излаженный образец?»
Лишь однажды случилось Тыркову побывать на государевом Денежном дворе, да и то в спокойные для Русии годы. Расположен он не где-нибудь, а под Боровицкой башней Кремля. Место с виду приглядное. Высокий тын напоминает кремлевские стены, караульные избы смотрятся сторожевыми башенками. У подножья берегового склона неторопливо движет свои чистые воды серебристая Москва-река. Все вокруг чинно и красочно. Но стоит ступить за обитые железом тесовые ворота, краски меркнут. Строения за тыном все больше серые, прокопченные. Посреди двора навес и столы, крытые кожей. Мимо этих столов никто из мастерских не выйдет. Здесь обыскивали догола. У артельного старосты и целовальников каждая копейка, каждая кроха серебра и даже угар на строгом учете. Устройства для изготовления копеечных денег, такие как маточник и чеканы, — тем более. Вынести их с государева двора в те поры считалось великим грехом. А ныне, когда на том же дворе чеканятся монеты с именем недоцаря Владислава Жигимонтовича, так и не принявшего пока православия, это стало бы великой доблестью. В дни испытаний ум заостряется. Тогда и невозможное становится возможным».
Тырков перевернул копейку лицевой стороной и прочитал надпись: «Царь и великий князь Федор Иванович всея Руси».
Все правильно. Сыновья Иоанна Грозного, Федор и Дмитрий — последние стебли его корня. Бездетный Федор сидел на царстве четырнадцать лет, а малолетний Дмитрий так и не сумел перенять у него трон: трагический случай оборвал его жизнь в Угличе. Вот и пришлось Земскому собору усаживать на царство выборного государя Бориса Годунова. А выборный государь — отнюдь не то же самое, что природный. Коли страна в беспорядок или бедственное состояние впадет, против него и воспалиться можно. Не случайно в первые годы своего правления Борис Годунов продолжал монеты на имя усопшего Федора Иоанновича чеканить и, лишь набрав силу, сам на них стал писаться. Именно на разном отношении людей к царю выборному и природному построил свою бесчестную игру Гришка Отрепьев. Ему первому пришло на ум назваться счастливо восставшим из мертвых царевичем Дмитрием. А дальше уже само это имя проложило ему путь в Кремль. Но Гришка Отрепьев и прочие самозванцы за годы Смуты светлое имя царственного отрока кровью замазали, алчностью ненасытной, чужеверием, а имя блаженного Федора Иоанновича и до сих пор окружено ореолом святости. Потому-то и решил князь Пожарский отбить его на монетах своего ополчения. Этим он как бы хочет сказать: вернемся к старым, истинным, проверенным временем порядкам, а Бог укажет нам истинного царя.
Осмотрев монету с обеих сторон, Тырков взвесил ее на ладони. Не легкая, но и не тяжелая — в самый раз. Это Тушинский вор Богдашка Шкловский, а за ним и псковский Лжедмитрий-Матюшка-Сидорка принялись отбивать монеты не только из серебра, но и из золота, да не в четыре полушки весом, а больше. Смотрите-де, как мы богаты и в то же время бережливы. На одну золотую копейку столько же материала уходит, сколько на десять серебряных. После того золотые копейки чеканились и на Московском Денежном дворе. Но Пожарский остался верен серебряной, не порченной новым весом. Каждую мелочь учел…
— Ну и как, подсказала? — поторопил Тыркова с ответом Нечай Федоров.
«О чем это он? — не сразу понял Тырков. — Ах да, о копейке». А вслух подтвердил:
— Еще бы. Не копейка, а целое послание. Шлите-де нам не только мягкую рухлядь, сборные рубли, гривны, алтыны, но и всякое серебро для Денежного двора. На сей счет у меня кой-какие соображения уже промелькнули. Осталось их обмозговать.
— Вот и мозгуй, Василей Фомич. Но не дольше завтрашнего утра. Ты у меня за сбор серебра отвечать будешь. Начни с Катырева. Он обещал почин сделать. Заодно людей в отряд себе набирай. Из них потом лучших в Совет Пожарскому дадим. Я тем временем мягкой рухлядью займусь. А Хапугина с его подручниками пятую деньгу с пожитков, промыслов и торговых дел тобольских жителей собирать поставлю. Хорошо бы, конечное дело, и с прочих сибирских городов добровольные вклады взять — с тех хотя бы, через которые путь твой ляжет. Разумею, Тюмень, Туринский острог, Верхотурье. Да и Пелым успеет навстречу выйти, коли воевода того захочет… Как бы там ни было, а грамоты наперед я нынче по тем крепостям отправлю. Вот и видно будет, у кого какая совесть — за отчину ты живешь или за свою копейку.
— Так я пойду? — понял его последние слова как конец разговора Тырков.
— Ступай, конечно, — кивнул Федоров. — Но сперва ответь, об чем ты еще думал, глядя на ярославскую копейку? Ведь думал, я знаю.
— Все не обскажешь, Нечай Федорович. Да и не к чему. Догадки, они и есть догадки. А суть проста: князь Пожарский этой копейкой себя и свое ополчение разом на первое место поставил. Есть у него верные люди и в Москве, и в Ярославле, и повсюду. Он и сам не догадывается, сколько. Коли так дело и дальше пойдет, ярославская копейка скоро и новгородскую, и псковскую, и московскую перешибет.
— И я думаю, что перешибет, — согласился Федоров. — У Пожарского рука легкая. Бери грамоту и ступай. Копейку тоже захвати. С нею любой разговор наглядней будет. Завтра особый день — Святая Троица. Вот и радуйся, что тебе именно она на зачин святого дела придется. Зеленые Святки не каждый день бывают.
Татарские чусы
Из съезжей избы Тырков отправился в сборню — так тобольские служилые люди для краткости соборную избу городовой казачьей сотни называют. Она врублена в тарасную стену у Казачьих ворот на другом конце города. Одним слюдяным окошком сборня глядит на церкву Во имя Вознесения Господня, поставленную внутри крепости, другим — на дворы Верхнего посада.
С церковью Во имя Святой Живоначальной Троицы, под крылом которой поставлена съезжая изба, Вознесенскую не сравнить. Троицкая возносится ввысь стопой, шатровый верх которой венчает изрядной величины маковка, крытая чешуей напластованного из лиственницы и отливающего медью гонта. Издали она напоминает кедровую шишку с утонувшим в прозрачной небесной сини золоченым крестом. Такие же маковки, но раза в три меньше, украсили прилепленные к нижней половине церковной стопы тесовые теремки с кокошниками. Алтарные прирубы делают весь храм похожим на корабль. Сразу чувствуется работа прионежских либо беломорских древоделов, занесенных судьбой на сибирскую сторону.
А Вознесенская церква сложена их трех клетей, поставленных одна на другую. Нижняя шире верхней на треть, средняя — на четверть. Углы у них срезаны. Румяным яблоком светится купол, гнутый из той же лиственницы, но без гонта. Вровень с дозорной башней поднялся восьмиконечный крест из сусального золота. В единственном прирубе размещены алтарь и прихожая. Все просто, без затей. Такие примерно церквы стоят в степях от Волги до Дона возле казачьих станиц или торгово-промышленных городков.
От Троицкой до Вознесенской путь недальний. Однако время предполуденное. К этому часу застать в сборне кого-то из казачьих атаманов — дело мудреное. Проще встретить их на посаде. Вот Тырков и решид пройтись до Казачьих ворот по острожной стороне.
Справа и слева, чаще всего торцами, подступали к извилистой дороге то богатые хоромины, то среднего достатка избы, то ветхие скособоченные домишки. Ограды меж ними тоже разные — высокие и низкие, створные и одинарные, плетеные и дощатые, с могучими воротами и хлипкими калитками. Из-под оград буйно повылезла, заколосилась поверх сухой прошлогодней травы молодая задорная муравка. Разводьями вклинились в нее заросли крапивы, репейника и веющей горечью полыни. Землица на обочинах пышная, перегнойная. Зато проезжая часть дороги тверда, как камень.
Улица будто вымерла. Служилые все больше на отъезжих караулах и в дальних посылках заняты. Старых да малых тоже не видать. Лишь где-то впереди старательно, но нескладно взвизгивала детская свистулька.
Ага. Да это же пятилетний малец Тимошка, сын пешего казака Федьки Глотова, решил на себя внимание Тыркова обратить. Вон его холщовая одежка в створе темных ворот возникла. Лицо у Тимошки конопатое, смышленое. Из-под шапки густых золотистых волос светятся любопытством цепкие глазенки.
Вышагнув из своего укрытия, малец похвастался:
— Глянь, дяденька, чего у меня есть, — и, доверчиво сунув головенку в широкую ладонь Тыркова, стал извлекать из глиняной свистульки мало связанные между собой, зато громкие звуки.
— Ну, ты молодец, Тимоша! — похвалил его Тырков. — Свисти дальше, — и одарил мальчонку горстью завалявшихся в кармане кедровых орехов.
А у следующего двора его окликнула престарелая вдовуха Авдотья Шемелина.
— И куда тебя очи несут, батюшка? — заинтересованно вопросила она.
— Да все туда же, Овдока Онтиповна, — в знак особого уважения назвал ее не только по имени, но и по отчеству Тырков. — В сборню!
Овдовела Авдотья пять лет назад, когда ее муж, Семка Шемелин, казак еще старой ермаковской сотни, ходил к Москве с важным поручением от тобольских воевод, а назад не вернулся. По одним слухам, он пал смертью храбрых на реке Вороньей под Тулой, где Василий Шуйский дал решительный бой войску вновь восставшего из мертвых Лжедмитрия, Гришки Отрепьева. На самом-то деле первый самозванец еще весной сто четырнадцатого лета [9] был убит боярскими заговорщиками и выброшен нагим на всеобщее посмешище и устрашение посреди торговой площади перед Кремлем. Его имя воскресил и сделал знаменем мятежных низов бежавший из турецкого плена казачий атаман Ивашка Болотников. С ним лично будто бы и схватился на реке Вороньей Семка Шемелин, да сабля Болотникова оказалась резвей.
По другим слухам, Шемелин вовсе не от руки Болотникова смерть принял, а палачами Василия Шуйского умучен. А все потому, что признал в Ивашке того самого казака, с которым в юные поры, еще до сибирского пошествия Ермака, вместе в Диком поле из одного котла походную завариху хлебал, о справедливом Беловодском царстве мыслями в мечтах уносился. Вот и переметнулся к Болотникову. Не веря в счастливое спасение Лжедмитрия, Гришки Отрепьева, поверил, что правда сама себя очистит, ежели народишко ей в нужный час подсобит. Так и сгинул во тьме кровавого братоубийства.
Однако был и третий, самый нестерпимый для Авдотьи Шемелиной слух, — будто бы ее Семка жив и здоров, ни в каких сражениях между Шуйским и Болотниковым не участвовал, а чинно приискал себе на московской стороне красну девицу да и решил хоть на старости лет пожить в свое удовольствие, без семейного хомута на шее. А хомут у него известно какой — три дочери и сын-взросток.
Старые казаки и казачки Авдотью от души жалеют, а те, что помоложе да поглупей, насмешничают: это-де ей расплата за то, что мужа своего всю жизнь притесняла. Послушать их, так Шемелиха, как горшок: что в него ни влей, все кипит, — вот и накипелась на свою голову.
Спору нет: до потери мужа Авдотья и впрямь шумна и норовиста была, любила в доме поверховодить, но Семка на нее даже в самые щекотливые для его достоинства минуты глядел с таким искренним обожанием, какое в его-то немалых летах редко кому сохранить удается.
За годы соломенного вдовства Авдотья заметно усохла, сгорбилась, но взгляд у нее по-прежнему ясный, испытующий.
— Ты уж разберись с имя по правде, державец, — попросила она Тыркова. — Сергушку-то мово в обиду не дай. У его вина молодая, горячая. А Богдашка Аршинский — середовой мужик. С его и спрос сделать надо. Не то я сама ему глаза повыцарапаю али аршин оборву.
— Да что такое случилось, Онтиповна? Разъясни.
— Нешто не знаешь? И-и-и-и, милай! А я думала, на разбор торопишьси. Атаманы уже все там. Тебя не хватало. Да-а-а-а… Он ведь, Богдашка, что удумал? Моей Люшке-соплюшке татарские чусы исподарил. Чистое злато-серебро. А она ишшо дитя малое, несмышленое. Нашел с кем озорничать, кобелиное отродье. Ну, сынчишка мой старшенький, Сергушка, значит, и уронил его вгорячах наземь. Силушкой-то его Господь не обидел. Тут все и началось. Это бабы дерутся ворохом, а мужики-то врасходку. Помяли они друг дружку, конечное дело, сурьезно. Но вина за то, гляди-ка, на одного Сергушку пала. Его на ночь под замок заперли, а Богдашке хоть бы што. Он ведь у нас вон какой пупырь. Его пальцем не тронь. Рази ж это справедливо?
Слушая Авдотью, Тырков зримо представил себе, как молодцеватый казачий голова Богдан Аршинский дарит миловидной, не в мать застенчивой Любоньке Шемелиной не то золотые, не то серебряные татарские серьги — чусы. Конечно, слава у Аршинского по бабьей части худая — потаскун, каких свет не видывал, но такого, чтобы он со своими кобелиными ухватками к девчушкам лез, за ним до сих пор не водилось. Уж не возводит ли Авдотья на него напраслину и не с ее ли подачи богатырски скроенный Сергушка Шемелин стал Богдана Аршинского зазря валять? И такое могло статься.
С тех пор как Авдотья мужа потеряла, ее не узнать. Подозрительной сделалась, вздорной, недоверчивой. Во всем-то ей подвох чудится, покушение на доброе имя мужа или несправедливое отношение к детям. Со стороны Аршинского, так особенно.
Было время, когда он к ней, детной уже, в полюбовники набивался, дорогими подарками в отсутствие мужа пробовал прельстить. Да ничего у него не вышло. Авдотья ему в рожу прямо на Троицкой паперти плюнула. Другой бы на его месте растерялся или вознегодовал, обидой на обиду ответил, а Богдану Аршинскому хоть бы что. Засмеялся, утерся, Авдотью за смелость похвалил да и отправился как ни в чем не бывало к своей терпеливой, замотанной домашними делами невидной Аршинихе. С него в таких случаях как с гуся вода. На людях держит себя гордо, весело, нахраписто, зато домашние от него плачут. Ну сущий деспот!
С другой стороны Богдан Аршинский — удалая голова. Смел, находчив, хитроумен. В сшибках с воинственными степняками наилучшим образом себя показал, а того больше — в мирных посольских переговорах с ишимскими, барабинскими, калмыцкими князьцами. Не было случая, чтобы он труса праздновал, общего языка с лучшими людьми татарских юртов или остяцких становищ не нашел. И товарищ надежный. Взять хотя бы тот случай, когда Аршинский, тогда еще полусотник, ходил со своим отрядом на Ямыш-озеро за солью. Туда добрался без помех, а на обратном пути крепко потрепал его со своими людьми сын бывшего властителя Сибири Кучум-хана, Азим. Мало того, трех казаков запленил. Что делать? Другой бы на месте Аршинского следом за ордынцами разведчиков отправил, а Богдан сам в погоню за ними не медля бросился. И ведь сумел не только товарищей выручить, но и сам в живых остаться. Один из трех спасенных казаков — Федька Глотов, отец Тимошки, ласковое тепло золотистой головенки которого ладонь Тыркова и до сих пор хранит.
Все это мгновенно пронеслось в сознании Тыркова и задержалось на Тимошке. Он мальца кедровыми орехами, за неимением при себе ничего другого, одарил, а надо бы послаще, поценней. Вот как Богдан Аршинский в пору запоя. По натуре своей он прижимист, скуп, но стоит ему хлебнуть лишку — до того хмелеет, что начинает раздавать прожившимся до нитки казакам, а чаще их детям зипуны овчинные, полукафтаны, сапожки, сарафаны, кушаки, а однажды доброго коня со всем конским снаряжением сыну казацкому Сусару Заворихину подарил: на! гарцуй! меня, Богдана Аршинского, помни!..
— А скажи-ка, Овдока Онтиповна, — поинтересовался Тырков. — Не был ли Аршинский пьян, когда твоей Люшке чусы давал?
— Нешто я его, ирода, нюхала? — поджала истончившиеся до синевы губы Авдотья. — Да и кака разница — пьян али не пьян? Виноватый — ответь! Моя правда серая, неумытая, но я от ее ни перед кем не отступлюсь.
— Ну да, ну да, — не стал спорить Тырков. — Тогда не покажешь ли мне, матушка, сами чусы? Любопытно взглянуть.
— Чусы, как чусы. Я же-ть тебе гутарю: вещичка чистого серебра под ярым золотцем. Но долго в земле лежала. Ее, поди, кто-тось из нонешних бугровщиков по татарским могилам в степи нарыл. Може, и сам Богдашка. Но скорей всего его прихвостень Пинай Чускаев.
— Почем знаешь?
— А тут и знать нечего. Пинай со своими братовьями четвертого дня как с караулов возвернулся. Сама слышала ихние шепоты. Будто бы они где-тось в саргачинских землях ханские могилы поразрывали. Зря, что ли, Мотря Чускаевская золотым колечком перед бабами чванилась? А у ейного Евсютки я сама татарский алтын видела — поболее нашей копейной деньги будет, из хорошего серебра и с дыркой, штоб на шее носить. Откуда бы он у его взялся, если не из тех могильных бугров?.. Мы — Шемелины! Нам чужого не надо. Так што я богдашкины чусы атаману Ильину, считай, сразу отдала. Коли любопытно, из его рук на них и поглянешь. А?
— Погляжу, Овдока Онтиповна, непременно погляжу, — пообещал Тырков. — Благодарствую за подсказку. А теперь мне идти пора. Сама говоришь, атаманы уже собрались.
— За каку-таку подсказку? — вскинула все еще густые разлетные брови Авдотья.
— А за ту, где бугровщиков искать надо…
Это о них подумал Тырков, когда Нечай Федоров задал ему собирать серебро для ополчения князя Дмитрия Пожарского. На подозрении у Тыркова два человека: Авдюк Грязев и Герась Неустройко. Авдюк пришел на Тобол промышленным бытом, гулящим числом, но промышляет все больше не зверя и не птицу, а что где плохо лежит. Герась сослан за разбой из Хлынова. Прошлым летом их уличили в тайном разорении могильников, крепко высекли и нажитков лишили. Ныне мурза Елыгай из урочища Тебенди вновь жаловался на появление бугровщиков в Приишимье, просил изловить их и примерно наказать. Вот Тырков и подумал: а не Грязев ли это с Неустройкой за старое взялись? А тут Авдотья по случаю про шепоты братьев Чускаевых вспомнила. Одно к одному. Если учесть, что урочище Тебенди находится в Саргачской волости, откуда они недавно с караулов вернулись, то следы разорителей приишимских могил к их порогам ведут, а дальше — прямым ходом на двор Богдана Аршинского. Стало быть, с него и следует сыск учинить. Справедливость по отношению к Сергушке Шемелину да и к самому Богдану сей же час край как нужна…
Вот и Казачьи ворота. Окно в соборную избу со стороны Верхнего посада едва приотворено. Желтыми вспышками стреляет в глаза вставленная в окончину слюдяная шитуха. Изнутри, будто из улья, доносилось гудение приглушенных голосов. Пофыркивали у коновязи лихие жеребцы. Под ногами у них в поисках корма копошилась шумная воробьиная стая. Завидев Тыркова, она вспорхнула, посторониваясь, но тут же вернулась на облюбованное место.
Беззвучно отворив дверь в казачью избу, Тырков ступил через порог.
Во главе соборного стола восседали Гаврила Ильин и Третьяк Юрлов. Оба еще с Ермаком начинали казачить, огни и воды на сибирской службе прошли, многими ранами изранены, многими отличиями отмечены. Теперь Ильин — атаман старой ермаковской сотни, а Третьяк Юрлов — атаман пеших казаков. По правую руку от Ильина примостился его полусотник Осташка Антонов, по левую руку от Юрлова — полусотник Третьяка Иван Лукьянов. Это тоже старые ермаковцы. А их соратник есаул Ларка Сысоев облюбовал себе место на короткой лавке в углу, подальше от началия. И только Богдан Аршанский сидел у ближней кромки стола спиной к двери.
— Думаете, не вижу, куда дело клонится? — возмущался он. — Опозорить меня хотите? За старое укусить?.. Не выйдет! Я покуда казачий голова и не позволю всякой мелюзге на себя руку подымать. Эка важность, што он не казак покуда! Ныне не казак, а завтра попросится. Тогда поздно спрашивать будет. Гордый сильно: не хочет перед старшим повиниться! Еще раз повторяю: серьги я им на бедность дал. На Люшку вовсе не зарился. Она сама подвернулась, ну я сглупа и решил через нее подаяние передать. Знал бы, что из этого выйдет, за семь верст это отродье обошел. Ей-богу, правда!
Тырков сразу понял, что Аршинский имел в виду, говоря о старом позоре. Еще до того, как сгинул на московской посылке Семен Шемелин, тогдашний тобольский воевода Андрей Голицын решил сместить с должности независимого в решениях атамана Гаврилу Ильина, а на его место поставить расторопного и покладистого Богдана Аршинского. Но старые ермаковцы Аршинского не приняли. Так Голицыну и заявили: мы-де тебе не подначальны, воевода, у нас-де свой обычай. И тотчас послали к царю своих послов с челобитной: живи долго, преблагой государь, а мы тебе служим в стране Сибири с самого начала, привыкли быть с отчими атаманами, а не с головами литовского списка; сердца на нас за это не держи, а верни нам Гаврилу Ильина, понеже его одного мы хотим над собой видеть… Пришлось и царю, и воеводе Голицыну казачьему кругу скрепя зубы подчиниться. С тех пор Гаврила Ильин атаманит некасаемо, а слово его больше значит, чем слово казачьего головы, во всяком случае тобольского.
Что до Аршинского, то мать у него — казанская татарка. А родитель звался Павлом Оршинским, потому как родом он из-под Орши. Службу Оршинский начинал в войске польского короля Стефана Батория, однако во время Ливонской войны с Русией был запленен и сослан под Казань. Там и завел семью. Ну, а дальше князь Иван Траханиотов, потомок выезжих греков, взял Павла Оршинского в свой отряд, который на сибирской стороне крепость Пелым на реке Тавде, а после Березов на Сосьве ставил. Но особо служилый литвин отличился на разгромном бою против Кучум-хана на Ирмени. Лишь после этого он перевез в Сибирь жену и двух взрослых уже сыновей, которые почему-то захотели писаться Аршинскими. Всего одну букву в своем имени переменили, а будто всю родословную. Теперь Богдан больше на татарина похож, чем на литвина. Лицо у него круглое, с бронзовым отливом, нос плоский, глаза голубые, но с заметной раскосинкой. Такому, как он, грабить могилы сородичей — дело не просто позорное, а трижды позорное.
Дав договорить Аршинскому, Гаврила Ильин обратился к Тыркову:
— Чего в дверях стал, Василей Фомич? Проходи. Садись. Лишним не будешь.
— Честному народу желаю здравствовать, — поприветствовал собравшихся Тырков и сел рядом с Аршинским. — Продолжай, Богдан. Прости, что влез некстати.
— А мне продолжать нечего, — самолюбиво воззрился на него тот. — Я свое сказал. Коли спустите этому дуболому вчерашнюю вину, я сам над ним суд устрою.
Только теперь Тырков заметил, что у Аршинского рассечена бровь, а нос распух, сделался малиновым. Сергушка Шемелин и впрямь его крепко навалял. Можно себе представить, что сейчас на душе Аршинского делается, какое это для него испытание — ловить на себе непроницаемые взгляды повидавших виды ермаковцев. Да это же для него казнь египетская!
Тыркову стало жаль Аршинского, но и злость на него в то же время вскипела. Легко быть добрым за чужой счет, воровски добытые украшения «на бедность» раздаривать. Ишь, какой доброхот нашелся. Корчит из себя святую невинность. Посмотрим, что он дальше запоет…
В этот момент Тырков и увидел на столе перед атаманами крученые из серебряной проволоки серьги в виде цветов, из которых выглядывали добродушные морды неведомых зверей, отлитых из золота. Рука сама потянулась к ним.
Заметив это движение Тыркова, Гаврила Ильин поинтересовался:
— По какому мы тут делу, знаешь?
— Более или менее, Гаврила Микитич. А чего не знаю, Богдан Аршинский только что обсказал.
Усмехнулся Ильин, одобрительно кивнул. Глаза у него цепкие, с прищуром, нос тонкий, с горбинкой, лоб выпуклый, скулы широкие; стриженые кружком волосы черны, но уже сединой тронуты, зато усы и борода с краснинкой. Сразу видно, Ильин родом из Азовских степей. Сказывают, так вот и Ермак выглядел, разве что волосы длинней носил и тело помогутней имел.
— Ну и что в таком разе скажешь?
— А то и скажу, что Сергушку Шемелина наказать следует, — заиграл голосом Тырков. — Почему и не наказать? Палач его так исполосует, что любой бурундук в нем родича с первого глаза признает… А ежели не ходить вокруг да около, то вовсе не с Сергушки надо начинать, а с этих вот чусов. Они ведь где взяты? — В урочище Тебенди на Саргачике. Спросите мурзу Елыгая, он вам это с воплями подтвердит… Что за бугровщики там промышляли? — Братья Чускаевы… Тряхните Мотрю Пинаиху, с нее враз золотое колечко слетит. А у Евсютки татарская теньга на шее болтается. Они из тех же могил взяты, между прочим. Услеживаешь, Богдан, куда я клоню? Не быть тебе казачьим головой, коли следы бугровщиков на твой двор или к твоим захоронкам приведут. Это дело воровское, судимое. Сам знаешь.
Пока Тырков говорил, лицо Аршинского становилось все белей и белей, лоб сделался влажным, глаза сузились.
Закаменели и атаманы.
Дав им прочувствовать сказанное, Тырков продолжал:
— Но можно и без суда обойтись.
И снова замолчал.
— Как? — не выдержал Осташка Антонов.
— Очень просто. Про нижегородское ополчение князя Пожарского вы все, конечно, слыхали. Нынче оно в Ярославле стоит, от Сибири немедленной помощи ждет. Вот я вам сейчас грамоту от них почитаю.
Атаманы задвигались, запереглядывались:
— А ну!
Тырков с выражением прочитал, затем, дав атаманам поразмыслить над услышанным, перешел к главному:
— Мне поручено серебро и добровольников в помощь Пожарскому собирать. На вашу подмогу крепко надеюсь, атаманы. Ведь дело такое большое, что больше и не бывает. Насчет серебра неволить никого не стану. Это дело святое, благодетельное, сами понимаете. Кто сколько может, тот столько и даст. Но подсказка от вас людям все же должна быть. Ведь они к вам особо прислушиваются, понеже за вашими плечами Ермака видят и то время, когда Москва вдруг Сибирью возвысилась. О добровольниках я и не говорю. Никто лучше вас не знает, кому из служилых какая цена. Я ведь не числа ищу, а умения, не подручников, а товарищей, одним словом…
Голос Тыркова от полноты чувств дрогнул, прервался. Торопясь сгладить заминку, он повернулся к Аршинскому:
— А тебе, Богдан, я так скажу: грех с тебя спишется, коли чусы и все прочее из тебендинских могил ты в нижегородскую казну положишь. Опять в землю их закапывать поздно. Татары могут принять это за новое бесчестие. Тут, с какой стороны к ним ни подойди, все плохо будет… И тебя, дурака, жаль, твою честную службу. Пойдут толки: мол, Богдан Аршинский с бугровщиками снюхался, о добро сибирцев руки испачкал. Но мы тебя не выдадим и ни разу не попрекнем, ежели ты сам свою вину исправишь. Верно я говорю, началие?
— Верно, — подтвердили атаманы.
— Но сперва пусть крест на себя положит, что ничего от нас не утаит, — поставил условие Иван Лукьянов. — Ни своего, ни чускаевского, ни прочих бугровщиков.
— Тоже верно.
— А с Сергушкой Шемелиным как быть? — подал голос из своего закутка есаул Ларка Сысоев. — Он жа под замком со вчера сидит. Отпустим?
— Да постой ты с Сергушкой, — подосадовал на него Гаврила Ильин. — С одним не разобрались, а ты с другим лезешь.
— И с Сергушкой по правде надо решать, — заступился за Сысоева Тырков. — Про вину Богдана, кроме нас, никто не знает, а Сергушкина у всех на виду. Так что он прилюдно должен ее искупить. На первый раз и по молодости лет пусть перед Аршинским словесно покается.
— А ежели не пожелает? — опять встрял въедливый Ларка Сысоев. — Он жа упрямый, как не знаю хто.
— Лошадка тоже упряма, а везет прямо, — пошутил Тырков и тут же посерьезнел. — Коли вы мне это дело доверите, я сам с Сергушкой побеседую. Он отрок понятливый. Поймет.
— Под твое честное слово почему и не доверить? — легко согласился Гаврила Ильин и перевел взгляд на Аршинского: — А ты што молчишь, Богдан? Мы о твоей пользе печемся. Или как?
И вновь в казачьей избе легла тягучая тишина.
Не нарушая ее, Богдан поднялся с лавки, торжественно перекрестился и так же молча вышагнул за дверь.
— Ну вот, — с облегчением вздохнул Гаврила Ильин. — Кажись, разобрались.
А немногословный атаман пеших казаков Третьяк Юрлов вдруг похвалил Тыркова:
— Благодарствуем, Василей Фомич. С тобой как-то легче дела распутываются. Сами-то мы и застрять могли, а ты пришел — и все прояснилось. Удивительно даже. И как, скажи, тебе это удается?
— Сам не знаю, — пожал плечами Тырков. — Скорей всего — дело случая.
— Да случай этот не к каждому идет, — не поверил ему Третьяк. — К тому только, кто чует, где его искать. А ты чуешь. Люди к тебе. Ты к людям. Вот и весь сказ.
Полтора разговора
Отобедать Тырков завернул к себе на Устюжскую улочку, что легла в Верхнем посаде неподалеку от Казачьих ворот.
На высоком просторном крыльце под резным навесом, облокотясь на отливающую медью огородку из лиственничных досок, его терпеливо поджидала жена Павла. Завидев мужа, она оживилась:
— Ну наконец-то наш усердник явился, про хлеб-соль вспомнил. Того и гляди, солнце с обеда своротит, а его все нет и нет. Я чуть было не заскучала.
Глянул на нее Тырков снизу вверх и залюбовался: какая она у него ладная, светлая, ласковая. Годы будто и не тронули ее, а если и тронули, то очень бережно. На круглом скуластом лице ни морщинки, если не считать задорных ямочек на щеках. Но они у нее с самого рождения. Русые волосы по-девичьи в одну косу голубой лентой заплетены. Брови ровные, длинные, с крутым загибом. Луковка носа будто воском облита. Большие зеленовато-серые глаза вечно опущены, но так, что их отсвет играет на широких полных губах. И одета она не в будничное платье, а в парчовый сарафан-золотник, опоясанный не по стану, а по высокой груди. На ногах долговерхие башмаки без оторочки — чапуры, шитые шелком и опять же золотом. Павла словно хочет сказать этим мужу: для меня твое появление — всегда праздник.
На верхней ступени крыльца они будто невзначай сошлись — тяжеловесный, крутоплечий, груболицый Тырков и легкая, как голубица, залетевшая в охотничьи силки, Павла. Она вдруг вскинула на него изучающий, полный заботы и преданности взгляд и тут же отвела его, спрятала, затаила. В ответ он обнял ее и, задохнувшись от внезапно нахлынувших чувств, притиснул к себе.
— Ну, будет, будет! — первой отстранилась Павла. — Чего это ты, Василей Фомич, расчудился? Того и гляди, обеденку со спальней перепутаешь.
— А хоть бы и так, — с сожалением отпустил ее Тырков. — Все дела, дела, а пожить и некогда.
— Еще поживем, Васильюшка, — другим голосом пообещала она. — Какие наши лета?
Крыльцо в летнюю обеденку они превратили недавно — тут и посветлей, и посвежей, чем в домашней трапезнице. Складной стол для такого случая Тырков сам много лет назад изладил. Зимует он в чулане, а как только весна теплом взыграет, сюда выносится. Пообок ставятся широкие лавки, крытые зеленым сукном, а посреди стола — расписной кувшин с квасом и глиняные кружки, тоже расписные, рядом — деревянное блюдо с ржаным хлебом и сольница — как бы в привет любому, кто сюда войдет.
Вот и сейчас, положив на стол берестянку с нижегородской грамотой, Тырков первым делом утолил жажду квасом с можжевеловой приправой, отер вислые, как у моржа, усы и не торопясь стал плескаться и фыркать под рукомойником в дальнем углу обеденки.
Было время, когда здесь на крыльце или в теплой трапезнице собирались все Тырковы: он сам, Павла, ее мать — домостарица Улита, сыновья Василий и Степа, дочери Аксюта, Настя, Верунька, Луша. Но солнце на одном месте все время не стоит. Находят и на него затмения. Так случилось семь лет назад, когда Степа несчастным случаем погиб на лесном пожаре. Затем упокоилась престарелая Улита, а дети и внуки, как тому и положено быть, разлетелись из гнезда отцова. И остались Василей и Павла одни в большом крепком доме. Постоянных прислужников они не держат, только приходящих — стряпуху, дворовую девку и работника для текущих надобностей.
Кормит мужа Павла сама, никому другому не доверяя. Для нее это в радость — лишний раз с ним рядом побыть, поговорить сердечно, полюбоваться его неизбывной силой и надежностью. А то ведь глазом не успеешь моргнуть, как воеводы его с каким-нибудь спешным заданием снова за тридевять земель ушлют. А она опять жди и тревожься, не случилось ли с ним чего худого, вернется ли назад по живу и здорову.
Служба у ее Васильюшки особая — такие поручения верхнего началия исполнять, которые по силам лишь грамотеям, умудренным опытом государских дел и природной смекалкой. Однако не всяк, кто письменным головой зовется, на самом деле и впрямь голова. Москва порой таких пустобрехов на это место присылает, что курам на смех. Тырков им не чета. Шуточное ли дело, в дети боярские из рядовых казаков своим досужеством выбился, в грамотеи заделался, с лучшими людьми сибирской Москвы на одну ногу стал. Довелось ему и воеводой послужить, Томской город в землях Эушты ставя, и с немирными кучумычами походным воеводой посшибаться, а после в Чатах и Тулуманах сибирцев под высокую государеву руку подводить. Всех его заслуг, явных и попутных, разом и не счесть. Но каждая из них для Павлы невольной разлукой обернулась. Вот и научилась она ждать, а в недолгие недели оседлой службы своего суженого ценить каждый час, проведенный с ним, делать его непременно праздничным.
Не успел Тырков лицо и руки полотенцем осушить, буйные волосы на голове корявыми пальцами вместо гребня причесать, а стол уже от яств ломится. Здесь тебе и соленые грибочки, и щучья икра, отваренная в маковом молоке, икра черная стерляжья, сыр гороховый, редька с постным маслом и уксусом, студень, колбаса из гречневой каши, мяса, муки и яиц, рыбный каравай, пироги и другие сытные закуски и заедки. А на первое Павла вынесла глубокую миску с горячими щами. Это были богатые щи — с курицей, еще при варке щедро забеленной сметаной.
Тырков перекрестился и, усевшись за стол лицом во двор, спиной к сеням, не спеша стал хлебать пресные, по обычаю не соленные при варке щи, заедая их круто посоленным хлебом с горчицей. Он привык это делать молча, сосредоточенно, отрешенно.
Павла знала: в это время с ним лучше не разговаривать — все равно не ответит. Пристроившись напротив, она подперла рукой подбородок и долго сидела так, исподтишка разглядывая мужа, находя в его грубых чертах невидимую другим красоту. Он чувствовал это, но делал вид, что не замечает.
Управившись со щами, Тырков полакомился грибочками, студнем, щучьей икрой и пряженым пирогом с нельмой и яйцами, затем принял из рук Павлы чарку с хмельным медом, паренным на вольном духу с малиной, и, выпив до слезинки, благостно откинулся на стену, отделявшую крыльцо от сеней.
— Люблю, когда чарочки по столу похаживают! Да все недосуг полюбоваться, как это у них выходит. Не успеешь с одним делом управиться, другое набежит.
— И какое же дело теперь набежало? — насторожилась Павла.
— А то, которое мы все давно ждем, — откликнулся он, сминая рукой кустистую бороду. — Знаешь, что нынче во сне мне привиделось? Даже не знаю, как сказать… Вроде люди и вроде не люди. Ну, словом, толпище слепое. У одних лица от воплей багровы, а утробы расселись. Другие в замешательство впали либо в скорби великие. Третьи затоптаны лежат. Четвертые в меня пальцами со злым шипением тычут, будто я им дорогу на божий свет заступил. И у всех, заметь, вместо глаз кровавые дыры.
— Ой, Вася, не к добру это, — не удержала молчания впечатлительная Павла. — Ты уж не пугай меня сразу-то, голубчик. Нешто все до единого безглазые?!
— Я же сказал: сон это. И не плохой к тому же.
— Ну, ежели не плохой, тогда ладно. Тогда говори дальше.
— И вдруг это толпище расступилось, — не заставил себя упрашивать Тырков. — И вышел вперед обыкновенный с виду радник. Ну вот как дьяк наш Нечай Федоров, к примеру, только голосом погуще, пораскатней. «Доколе, — речет, — по чужому наущению мы будем сами себе глаза выкалывать? Доколе будем жить жизнью, которая хуже смерти? А ну, отчизники, становись со мною в скорые полки! Вынайте, братья, глаза из ножен! Будем вычищать от своих и чужих воров Русскую землю!» На кого взор ни кинет, у тех мертвые глазницы враз зрячими делаются. И на меня поглядел.
— На тебя-то зачем? Ты ж не слепой.
— Можно и с глазами быть, да ничего не видеть. Не в том дело, Павлуша.
— Тогда в чем?
— А в том, что нынче наутро гонец нашим воеводам грамоту из Ярославля примчал. Вот она, в собственном виде, — Тырков погладил берестянку с упрятанными в нее листами. — Тут слова владыки нашего Гермогена черным по белому писаны: мужайтесь и вооружайтесь! От них нижегородцы во главе с князем Димитрием Пожарским сердцами зажглись, новое ополчение против ляхов и кремлевских перевертней собрали. А его содержать надо, войско-то. Ну и просят у Сибири помощи. Давеча я эту грамотку атаманам в казачьей избе зачитал. Хочешь, и тебе для полного представления оглашу?
— Огласи, Василей Фомич, огласи, — не поднимая на него глаз, молвила Павла. — Я ведь по стезе буквенного учения не горазда. Но едва ты вошел и эту коробушку на стол положил, сразу поняла, что ничего хорошего от тебя не услышу. Все-то тебе на месте не сидится! Не навоевался еще? — и всхлипнула с какой-то детской беспомощностью.
— Вот те на! — махом раздвинув разделявшую их посуду, заключил ее руки в свои медвежьи лапищи Тырков. — Успокойся, дуреха! Лишнего себе не выдумывай. Мне ведь что велено? Обоз с серебром для денежной чеканки собрать и сопроводить его с прочей казной до Ярославля. Только и всего.
— Ой ли? — выстрелила в него недоверчивым взглядом Павла. — Так я тебе и поверила! Кто привык выше ветра голову носить, тот нигде не поостережется. Чует мое сердце, Ярославлем дело не кончится. А вдруг дальше на Москву с нижегородцами идти потянет? Я ж тебя знаю.
— Ну вот, опять ты за свое, Павлуша. Туда не ходи, то не делай. Умные люди говорят: дорогу к избе не приставишь. А я — человек службы. Такая уж мне доля выпала — жизнь дорогою мерить. Наперед сказать, куда она выведет, все равно что себя по рукам и ногам повязать. Нельзя мне это, ну никак нельзя.
— Можно, Васильюшка, можно. Ты ведь не обозный голова, чтобы в заурядной упряжке к Ярославлю идти. Свое в обозах ты сполна отходил. Пусть другие с твое походят! Али у тебя на Сибири больших дел нет? Сам рассказывал, сколько их у тебя накопилось.
— Ты это к чему клонишь? — посуровел голосом Тырков. — Чтобы я в сторонку отошел, копье в землю воткнул, как любила советовать твоя покойная матушка Улита, а заместо этого раскрыл книгу Евангелие и ничем другим больше не занимался?! Ну уж нет, Павла Мамлеевна. Христа любить — не только молитвы во имя его творить, а надо — так и мечом за Божию правду опоясаться. Все другие дела до времени и отложить не грех.
— То-то ты меня, Вася, с разу на раз и откладываешь. До того бородой оброс, что никого вокруг не слышишь, себя только.
— А ты — себя… Ведь хорошо сидели. Так нет, надо с чистой беседы на полтора разговора [10] свернуть! Я тебе про одно толкую, а ты совсем про другое заладила…
— …матушку мою покойную, будто внасмех, вспомнил, — не могла уже остановиться Павла. — Она-то чем тебе дорогу пересекла?
— Ну, ты и крапива, — покачал головой Тырков. — И что у баб за обычай — так все разом запутать, что потом на спокойную голову год не распутать. Ну да ничего, который Бог замочит, тот и высушит.
— А Бог тут при чем?.. И кого это он мочить должен? Меня, что ли?
«На такие вопросы лучше не отвечать, — мысленно посоветовал себе Тырков. — Пусть сама с собой вздорится. Глядишь, пыл из нее и выйдет».
— Отмолчаться решил? — не унималась Павла.
— Да нет, — принял он смиренный вид. — Показалось, будто меж нами тихий ангел пролетел. Ты не заметила?
На крыльце и впрямь сделалось тихо — так тихо, что оба они вдруг услышали гудение шмеля, нацелившегося на пирог с медовым верхом, шепот ветерка, собственное дыхание.
Не успели Тырковы осознать особую значимость этой тишины, как вразнобой грянули бубенчики и колокольцы. Будто тройка резвых коней влетела на Устюжскую улицу и остановилась, как вкопанная, у их подворья. На самом-то деле выездной тройки у Тыркова нет, вот и подвесил он к обвершку тесовых ворот шелковый шнур с кистью и набором колокольцев в черед с бубенцами. Их ему подарил староста Ямской слободы. Стоит за шнур дернуть — они и запляшут, оглашая округу беспорядочным перезвоном.
Переглянулись Василей с Павлой. В заобеденный час в гости ходить не принято. Неужто стряслось что-то?
— Это я, Сергушка Шемелин! — дал знать о себе с улицы мальчишеский басок. — Дозвольте войти?
Ворот с крыльца, глядевшего во двор, не видать, зато хорошо слышен ломкий голос Сергушки.
Тырков выглянул из обеденки:
— Входи, юныш, не теряй времени! Дай на тебя, удальца, наглядеться, — и сел на свое место.
Заскрипела под вескими шагами Сергушки настеленная от ворот до крыльца дорожка из сосновых плах. Промелькнула меж резными свесами и крыльцовыми перилами его лохматая голова. Крякнули в очередь одна за другой ступени, и Сергушка предстал перед Тырковыми в полный рост — богатырски скроенный, легкий телом, ну кровь с молоком. А лицо юное, розовощекое, с белесым пушком вместо усов и бороды, по-щенячьи преданное, доверчиво-глуповатое. Но самым заметным на этом лице был синяк под глазом.
«Значит, и Аршинский в долгу не остался, — с удовлетворением отметил про себя Тырков. — Нашла коса на камень».
Между тем Сергушка Шемелин, стараясь держаться солидно, приложил правую руку к груди и склонил в полупоклоне голову:
— Извиняйте, што не ко времени зашел. Мамка велела погодить до вечера, а мне не терпится поскорей спаси бог Василью Фомичу сказать. Вот я и говорю.
— Ну спасибо, так спасибо, — не сдержал улыбки Тырков. — А теперь присаживайся к столу. Угощайся, чем бог послал. В темнице-то, поди, совсем оголодал?
— Благодарствую, конечное дело, но я не за тем здесь, Василей Фомич.
— За тем или не за тем, попутно разберемся. Неси ему, Павла, щей, да погуще. Не красен обед пирогами, красен едоками. Человек из еды живет. Поевши и разговор крепче будет.
— Дак мамка меня уже покормила.
— Я того не видел. Вот и покажи, как дело было. А не покажешь, значит, вовсе и не было. Верно я говорю, Павла Мамлеевна?
— Хороший едок хозяину в почет, — не глянув на него, отправилась за щами она.
Пришлось Сергушке не только присесть, но и плотно поесть. А чтобы он не чувствовал себя скованно, Тырков и сам продолжил трапезу: отпробовал стерляжьей икры, затем к рыбному караваю приложился.
Павла незаметно ушла, оставив их вдвоем.
— Ну, хвастайся, Сергушка, зачем я тебе понадобился? — наконец полюбопытствовал Тырков.
— Про дело хотел поговорить, Василей Фомич, — враз подобрался, настраиваясь на деловой лад Шемелин-младший. Лицо у него губастое, скулы квадратные, глаза вишневые, на носу и щеках веселые конопушки. Прямого сходства с нелепо погибшим сыном Тыркова, Степой, у него нет, но говорит и держится Сергушка так, что живо его напоминает. От этого на душе то тепло, то холодно делается. Настройся-ка при таких перепадах на требовательный разговор.
— Про какое такое дело? — уточнил Тырков.
— Про нижегородское.
— А ты про него откуда знаешь?
— Дяденька Ларивон Сысоев сказывал, когда из-под замка меня выпускал.
— А про то, что ты наперед перед казачьим головой Богданом Аршинским повиниться должен, он тебе не сказывал?
— И про то говорил. Но я к этому не больно охочий.
— А зря. Никакого дела у нас с тобой не получится, сынок, коли ты на старших по летам и званию руку подымать будешь. Да еще не разобравшись. Ведь на атаманском кругу за Аршинским вины против Любоньки не найдено. Напротив, теми чусами он хотел вашему семейству на безденежье пособить. А ты на него сдуру накинулся.
— В этот раз, может, и сдуру, — вынужденно согласился Сергушка. — А когда я мальчонком был, видел, как он нашего пса Дозорку плетью до смерти забил. Ну чистый живодер! Што из того, што он меня старше и с виду добряга? Внутри-то у него черти скачут.
— Ты с виду тоже ого-го-го… детинушка возмужалый, а послушать если — уши вянут. Как был мальчонком, так в них и остался.
— Это почему же?
— У всего свой срок давности есть, Сергушка. И у мести тоже. Что было, то сплыло. Нынче не слыхать, чтобы кто-то на жесточь Аршинского жаловался. Это о чем-то говорит, как думаешь?.. То-то и оно. Жизнь на одном месте не стоит. Вместе с нею и люди меняются. Опять же у каждого свои срывы бывают, да такие, что потом совестно вспоминать.
— И у тебя, Василей Фомич?
— И у меня, вестимо. У меня даже больше. Я-то научился их замечать, вот они глаза и колют.
— Чудно говоришь.
— Не чудней твоих рассуждений. Ты ведь с намеком спросил: что из того, что Аршинский старше? Силушка в тебе заиграла. Головой под потолок вымахал. Ну и показалось тебе, что вы с Богданом не только телом, но и всем прочим уравнялись. Ан нет. Он более твоего на свете пожил, в заслугах весь и, особо заметь, в отцы-атаманы тебе годится. Отсюда и пошел обычай — старших уважать. А ты об него ноги вытер.
— Это мамка меня с толку сбила, — пересилив себя, признался Сергушка. — Да и батяня мой Аршинского сроду терпеть не мог. Вот и вышло… Откуда мне было знать, што дело боком повернется?
— Вперед умней будешь. А покуда я тебе совет дам, сынок: нынче же ступай к Богдану Павловичу и вину ему прилюдно принеси. Прилюдно, понимаешь? Обычай старше закона.
— А коли повинюсь, с собой идти в Ярославль возьмешь?
— Да ты что?! — вскипел Тырков. — Условия мне пришел ставить? Ну так я тебе сразу ответ дам: не возьму! Служба — дело серьезное. На ней не торгуются. А ты еще службы и не нюхал. Походи сперва в товарищах у бывалого казака, научись оружие держать, старшим подчиняться, потом только о себе заявляй.
— Дак я с Федором Глотовым уже сговорился. Он меня в товарищи по-соседски примет. А что до оружия, так из ручницы я не хуже его стреляю. И сабля меня слушается, и дубина.
— Вот и ладно. Глотов — послужилец хоть куда. У него есть чему поучиться.
— А его ты с собой в Ярославль возьмешь?
«Ну и Сергушка, ну и хитрован, — поразился его простодушной наглости Тырков. — Его в одну дверь не пускают, так он через другую решил зайти». А вслух посоветовал:
— Не надо со мной в прятки играть, сынок. Все равно у нас, как в той побаске, получится: кобылка есть — хомута нет, хомут добыл — кобылка ушла. Ответ мой ты слышал, и нечего меня на Глотова брать. С ним и разговора никакого об Ярославле не было. Сам знаешь.
— Нет, так будет, — заупрямился Сергушка. — Знал бы ты, Василей Фомич, как он загорелся! «Расшибусь, — говорит, — а за правду русскую перед Богом постою!» Он об тебе, знаешь, какого мнения? Ууу — еее!
Но Тырков не привык свои слова по настроению менять.
— Я все сказал. Дважды повторять не буду. Рано тебе еще в дальние походы ходить. А теперь ступай! Да подумай хорошенько, об чем мы тут беседовали.
От таких слов розовые щеки Шемелина-младшего пунцовыми сделались.
— Спасибую за хлеб-соль! — стремительно поднялся он из-за стола и уже снаружи, торопясь вдоль крыльца к воротам, в сердцах бросил: — Сперва ты меня сынком называл, а после… И-е-е-ех, Василей Фомич! А я-то надеялся…
Хлопнула воротная дверь. Дрогнули над нею колокольцы с бубенцами и тут же смолкли.
Ушел Сергушка Шемелин и досаду свою с собой унес. Но тут появилась в обеденке Павла.
— Зря ты так резко с ним простился, — подала голос она. — Можно бы и помягче. Как-никак, а Сергушка по отцу сирота. Его не только приструнить, но и ободрить надо. А концы обрубать — не твоя забота.
— Это в каком смысле «не моя»? — решив, что Павла все еще не остыла от того бестолкового разговора, в который они впали до появления Сергушки, усмехнулся Тырков. — И какие-такие концы ты имеешь в виду? Вразуми!
Но она его тона не приняла.
— Вразумлять я тебя не собираюсь, Вася, а подсказку дам. Авдотья Шемелина сына от себя далеко не отпустит. Так ведь? На нем теперь все семейство держится. Но мать есть мать. Ей неволить его простительно. А тебе нет. Вот и не возбуждай в нем супротивника. Не указывай, что ему рано делать, а чего нет. Лучше такое поручение дай, чтобы он значимость свою почувствовал. А там, глядишь, все и устроится.
— Пожалуй, что и так. Надо подумать, — без особой охоты принял ее подсказку Тырков и, глянув на удлинившиеся с восходной стороны тени, заторопился: — Так я пойду?
— Иди, конечно. Только скажи, когда вернешься?
— Рано не получится, — прихватив берестянку с грамотой, шагнул с крыльца он. — Перво-наперво с Вестимом Устьяниным посоветуюсь, потом в Успенском монастыре и на Гостином дворе думаю побывать. А с утра доложусь Нечаю Федорову и прямым ходом в Ямскую слободу двину. Серебро само на свет не явится. За ним походить надо, покланяться.
— Походи, походи, — поддакнула Павла. — С Вестима начал. По-родственному. Боголюбно. Одно только не забудь: у баб серебра не меньше, чем у кого другого. Хоть и у святых отцов.
— Это ты к чему? — замер у крыльца Тырков.
— Ох, и тугодум ты, Васильюшка, — рассмеялась в ответ Павла. — В помощницы к тебе набиваюсь, вот к чему! Не сидеть же мне в пяти стенах, когда такое делается. Пока ты с Сергушкой беседовал, я домашнее серебро впрок собрала. Теперь по другим дворам пойду, если дозволишь. В четыре ноги у нас лучше получится.
Все в Тыркове так и возликовало: ай да Павла ай да разумница! Кто бы другой на ее месте сумел быть выше себя? Даже не верится, что это она давеча на полтора разговора сбилась! И как после этого в женской натуре разобраться?
Но будто с чужого голоса он опять брякнул:
— Надо подумать. Ты жди…
— Ждать не устать, было бы чего, — приласкала она его взглядом. — Возвращайся поскорей, Вася.
Этот взгляд всю оставшуюся часть дня неотступно сопровождал его, помогал вести переговоры с монастырскими и посадскими людьми, звал назад, под родную крышу.
Вернулся Тырков, когда уже ночь на крепость пала, и темень замкнутых крепостных стен очертания дворовых построек проглотила. Такое ощущение, будто идешь по дну глубокой безмолвной пропасти, наполненной множеством едва уловимых звуков, падающих сверху.
Еще издали Тырков заметил мерцающий свет на крыльце своего дома. Его источал ночник, затерявшийся среди блюд, приготовленных к ужину. А вот и Павла в светлой воздушной подволоке поверх парчового сарафана. Белой птицей выпорхнула она к нему из густой зыбкой темноты.
— Ладно ли сходил? — спросила она шепотом.
— Ладно, — эхом откликнулся он. Затем предупредил: — Есть не буду. На Гостином дворе постоловался. — И вдруг смущенно признался: — Спешил обеденку со спальней перепутать. А?
— Значит, дождался, — жарко обняла его Павла. — Имеешь полное право…
Жизнь переменчива
Вкладочное серебро, собранное в городе и на посаде, Тырков решил хранить в малой ризнице за иконостасом Воскресенской церкви. Божий храм для такого дела — самое надежное место. А если в нем служит иерей, подобный Вестиму Устьянину, так и вовсе. Ведь это не просто поп, а поп казацкого рода, бессребреник и страстотерпец. К тому же сват Тыркова.
Пути их сошлись без малого четверть века назад в Соли-Камской. Тырков к тому времени успел на казацкой службе заматереть, а Вестим, только-только из взростков выйдя, на отцово выбыльное место поверстался. Отец его Устьян Иконник не только службу исправно нес, но и мастером на все руки был — кедровые доски для изготовления икон ладил, ставцы и складни растворенным в ртути серебром покрывал, а к церковным праздникам большие восковые свечи с кресчатым подножием лил. Да вот беда, однажды его в тайге на заготовках подрубленной лесиной насмерть прибило. А тут как раз царское повеление тамошним вотчинникам Максиму и Никите Строгановым приспело: сто служилых людей для поставления Лозвинского городка спешно набрать и походным порядком за Камень отправить. Ну и пришлось Вестиму вместо отца в казацкую лямку впрягаться. А какой из него казак? — Телом небогат, лицом неказист и нрава чересчур смиренного. Такого соплей перешибить можно…
Оно и перешибло бы, не возьми Тырков Вестима к себе в товарищи. Где надо, свое плечо вместо него подставлял, от обид и напастей уберечь старался, по-братски делился всем, что сам имел. Тот и потянулся к нему всей душою.
Из Лозвинского города их перевели на службу в Тобольск, который в ту пору подчинялся Тюмени и стоял не на ближнем мысу Алафейской горы, называемом Чукманским, а на дальнем — Троицком. Успенского мужского монастыря за острогом тогда еще не было, а было общежитие немощных братий и сестер во имя Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, и сиротствовало оно на другом берегу Иртыша возле устья реки Тобол безо всякого сторожения. Лишь церква Во имя Всемилостивого Спаса стояла уже там, где сейчас стоит, — под высоченным береговым кривляком на идущей через Кречатников перевоз в сторону Тюмени дороге.
Истосковавшийся по Божьим храмам Вестим при любом удобном случае стал бывать не только в тобольской городовой церкви Во имя Живоначальной Троицы, но и в Спасской, и в Зосимо-Савватиевской. Узрев такое досужество, святые отцы принялись его к духовному пению приобщать, к таинствам церковной службы, а после и к рукоположению в церковный чин готовить. Особенно старался настоятель монастырского общежития Кондрат. С черными попами в Сибири скудость превеликая. На Московской Руси им живется куда вольготней, чем за Камнем, оттого и бегают они от сибирской повинности всякими правдами и неправдами. Вот и решил Кондрат залучить блаженного, по его разумению, казака к себе в обитель.
Но Вестима не в иеромонахи, а в белые попы тянуло — к пастырской службе, несущей добротолюбие и милосердие всем и каждому. Однако, не скрепив себя узами супружества, о такой службе и думать нечего. Ведь это таинство во образе духовного союза Исуса Христа с церковью. А где на Сибири сыщешь ту, что готова разделить с тобой подобный союз? Православных невест, как и черных попов, здесь и по сю пору по пальцам счесть можно. Не по своей же воле большинство служилых и посадских людей с иноверками по грехам своим и похотям живут. Так они же миряне, с них и спрос другой.
Запечалился Вестим, в раздвойство впал. Не по нему далее в казаках оставаться, однако пришлось терпеть, случая, который бы все по своим местам расставил, дожидаться.
И такой случай вскоре представился. Тогдашний тобольский воевода Владимир Кольцов-Мосальский послал Тыркова с отрядцем казаков в Самарские, Кодские и Назымские городки за ясаком, а Вестима, по хотению настоятеля монастырской обители Кондрата, в Тобольске оставил. Пусть-де к принятию обета послушания готовится.
— Неладное это дело — в твои-то годы от жизни в монастырь уходить, Вестим, — осердился Тырков. — Опомнись. Слово крепкое дай, что меня дождешься.
Тот в ответ:
— А что изменится? Ты, чай, не в Москву посылан, Василей, а совсем в другую сторону. Там невестить некого.
— А я говорю: вперед не забегай! — отрубил Тырков. — И на другой стороне православные люди живут. О Каяловых небось слыхал? То-то и оно. Коли тебе к ним нынче не попутно, я исхитрюсь мимоходом побывать. Кто знает, может, твоя судьба там прячется? Но ты сам решай!
Предложение Тыркова застало Вестима врасплох. Ну, конечно же, он слышал о русских старожилах, за много поколений до сибирского похода Ермака перебравшихся на Обь с Дона и его дочерней реки Каялы. С остяками [11] и татарами за полторы, а может, и две сотни лет они сумели найти общий язык, сохранив при этом свою веру и обычаи, а со служилыми людьми чуждых им московских царей, породивших на Руси неостановимую смуту, иметь дела заопасались: очень уж они буйные, многогрешные, невоздержанные на крепкое питие. Вот и затаились в таежной глуши неподалеку от тех мест, где Иртыш сливается с Обью, — на Самарских и Назымских увалах. За такую отчужденность жители Тюмени, Тобольска и Лозвинского городка их сильно невзлюбили, стали каялами либо челдонами презрительно называть. Но одно прозвище другого не лучше. Ведь каялы — это кривой берег, похожий на коромысло, а челдон — человечишко с Дона. Вместе получается кривой человечек или что-то в этом роде. Зато сибирцы к русским старожилам относятся с превеликим почтением, величают их паджо-лака, а новопоселенцев с Руси, будь то служилые, посадские или пашенные люди, зовут отчужденно — каса-гула, иначе говоря, просто люди. По одним слухам, челдоны в Сибири в задавние времена от нашествия свирепых ордынцев укрылись, по другим — из донецких степей их природные бедствия выпугнули. Будто бы реки тогда вдруг вспять потекли, а земля стала проваливаться под ногами. Одно точно: челдоны свою веру и язык и здесь сохранили. А вера людей не только по крови, но и по душам роднит.
Мысленно взвесив все это, Вестим уступил Тыркову:
— Спаси Бог, Василей! Я подожду. Сам сказал: мое слово — твое дело. Удачной тебе дороги, брат…
Затяжным выдался тот ясачный поход в усть-иртышское Заобье. Зато на редкость удачным. Пушнину казаки собрали сполна, к тому же наилучшего качества. Никого из сибирцев при этом не обидели и на себя встречных обид тоже не навлекли. Еще и в двух челдонских поселениях на реке Назым исхитрились побывать.
Речь у здешних отшельников старобытная, однако при желании понять ее можно. Одевкой они больше с татарами и остяками схожи. Но в церковной избушке у них все по православному обычаю устроено. Поселение свое они станицей называют, выборного главу — большаком, тайгу — полем, служилых казаков бродниками, коней — комонями или бахмутами. Они у них мохнатые, низкорослые, выносливые, с редкостным голубым подцветом…
Там Тырков и приглядел четырнадцатилетнюю Палагушку, дочь престарелого охотника Демыки Каялова. Лучше невесту для Вестима Устьянина и сыскать трудно — ростом невелика, лицом приглядна, словами зря не сорит, к старшим уважительна и Бога превыше всего чтит.
Стал Тырков Палагушку за Вестима сватать, а Каяловы в толк взять не могут: жених-то где? Пусть сначала покажется, серьезность своих намерений как-то подкрепит. Нешто невеста сама к нему за тридевять земель должна добираться, людей смешить, себя ронять? Не по ней городской вертеп, где ни складу, ни ладу, а только одни соблазны и удручения.
Тырков терпеливо возражал: он-де Палагушку вовсе не в казачки зовет, а в попадейки. Город со всем его копошением — это одно, Божья церква — совсем другое. При ней жизнь по-иному течет — тихо и праведно. От такой тишины голова у Палагушки, на таежном вздолье выросшей, вовеки не заболит. Тем более за спиной у Вестима. Он ей надежной опорой и защитой будет. За это Тырков головой ручается…
Каяловы внимательно слушали его доводы, с чем-то соглашаясь, а что-то молчком пропуская. Как будто у них выбор был. Ведь все они меж собой давно и на много раз перероднились. Не оттого ли на иных лицах видна была печать вырождения? И напротив, здоровыми и привлекательными выглядели те из челдонов, у кого глаза, нос и скулы примесь остяцкой или татарской крови выдавали. Природа не терпит полусемейной замкнутости.
В конце концов своего он добился — сговорил Палагушку за Вестима, а ее родителям в церковной избушке перед иконой Пресвятой Богородицы побожился, что доставит их дочь в Тобольск целой и невредимой и в дальнейшем будет заботиться о ней по-отцовски.
Пообмякнув душой, стали Каяловы Палагушку в дорогу собирать. Казаций отрядец тоже в движение пришел:
— Погостевали и будя! Хуже нет — ждать да догонять! И без того уже назад плыть припозднились!
А Тыркова ни с того, ни с сего по речному бережку напоследок пройтись потянуло. Дошел он, гуляючи, до учуга, чуть не наполовину перегородившего Назым поперечным тыном, и хотел было повернуть назад, да глянул на реку. Между сваями, наискось вбитыми в илистое дно, плотной стеной топорщился разбухший прутняк. В нем сквозь зыбкий слой воды проглядывали окна с прицепленными к ним плетеными ловушками. Каждая имела две воронки. В горловину передней рыба легко войти может, а назад выйти не умеет: задняя-то воронка заткнута, а спасительный вход посредине ловушки находится. На Руси такие плетенки называют вершами, или неретами, а на Сибири все больше мордами.
Одну из них, непривычно большую, с явным усилием вытянул на мосток из запруды небогатый телом рыбарь в легком зипуне. Поднатужась, он взгромоздил морду на колено и, ототкнув кляпыш, стал вытрясать трепещущую рыбу в узкую, челном сплетенную корзину. Морда то и дело съезжала у него с колена, и тогда муксуны, язи и стерлядки проплескивали в коричневатую, настоянную на донных травах воду.
Но что это? С плеча рыбаря вдруг свесилась длинная толстая коса.
«Ба, — запоздало понял Тырков, — Да это и не рыбарь никакой, а здешняя молодена! Сразу ее в долгополом зипунишке и не распознать».
Молодена его тоже заметила. Прядь непослушным русых волос ссыпалась ей на глаза. Чуть выпятив нижнюю губу, она сдула ее, приветливо улыбнулась Тыркову и уже легко поднялась на ноги с наполовину опустевшей мордой. И вновь потекла из ловушки живая рыбья струя, взблескивая серебристой чешуей на прохладном солнце.
Тырков пораженно замер: такой ослепительно прекрасной увиделась ему незнакомка. Дождавшись, когда она водворит ловушку на место и с огрузшей корзиной сойдет на берег, он решительно заступил ей дорогу:
— Чья такая будешь, красавица? Назовись!
— Божьим соизволением Павла я! — с готовностью откликнулась девушка. — Мамлея Опалихина дочь. Нешто за три дня не заметил меня, Василей?
На щеках ее так и заиграли задорные ямочки.
— Ахти на мою голову! — чтобы скрыть смущение, задурачился Тырков. — Недосуг по сторонам смотреть было. Зато сейчас глаза втройне радуются.
С Мамлеем Тырков столкнулся в первый же день по прибытии в Каялы. Поприветствовал его, как положено. Хотел теплым словом перекинуться, а тот в ответ промычал что-то нечленораздельное и, зверовато глянув из-под кустистых бровей, заковылял к себе в избенку на отшибе. Сразу видно — нелюдим. С таким и захочешь, так не побеседуешь.
— Не серчай на него, мил-человек, — заступился за Мамлея один из челдонов. — Языка у него нет, вот и дичится. Язык-то ему палач подрезал.
И поведал Тыркову не такую уж и редкую для Сибири историю. Родом Мамлей из Пермских краев. С малых лет на медном руднике у промышленников Строгановых жилы рвал, а когда совсем невмоготу стало, подпалил в городке Канкор, что сгорожен при впадении в Каму реки Пыскорки, дом Строгановского приказчика да и убег за Камень. Сперва меж инородцев скитался, потом к Каяловым пристал. Молодой был, дюжий, все у него в руках кипело. Вот большак каяловский ему и говорит: «Оставайся у нас насовсем, странник. Любую девку взамуж бери, новой семьей обзаводись…» А у Мамлея душа по старой болела. Ну и решил он в родные края сбегать, вызнать, что там и как. Приказчик ведь и помереть за минувшее время мог, а с ним и опала на Мамлея подзабыться. Мало ли чего на белом свете ни бывает… Долгонько его назад не было. Каяловы решили, что это добрый знак. Значит, судьба наконец сжалилась над Мамлеем? Ан нет. Снова приволокся он к ним — хоть и с женой, но без языка. Тут объяснять нечего. Как попал однажды в Опалихины, так в них и остался… Куда только силушка подевалась? Согнулся на один бок, волосом дремучим зарос, одичал до неузнаваемости. От такой жизни и жена его Улита раньше срока белой и иссушенной стала, в келейницу превратилась.
Есть ли у Мамлея дети, челдон не упомянул, а Тырков не спросил. Не о том ему тогда думалось. А жаль. Узнай он про Павлу раньше, не стоял бы сейчас перед ней в растерянности.
— Давай подсоблю! — Тырков торопливо перенял у нее гладкое изручье корзины с рыбой. — Заодно и тобой полюбуюсь, коли ты не против.
— Мне что? — пожала она плечами. — Любуйся, коли охота. Да и я на тебя не прочь поближе глянуть. Чай, не скоро другие молодцы к нам заявятся. Девок для своих приятелей заручать, себя забывая, — и устремилась по утопающей в зарослях тропинке к родительскому жилищу.
— Тебя-то, надеюсь, еще не заручили? — примериваясь к ее легкому стремительному шагу, спросил он.
— Да вроде нет, — бросила она через плечо. — Женихались только. Но мне это ни к чему. Пустые хлопоты.
— Что так?
— Кто знает… — вздохнула она и, перебросив тяжелую косу за спину, с каким-то жалобным вызовом обернулась: — Может, тебя ждала!
Не удержавшись, они налетели друг на друга и замерли грудь в грудь, боясь пошевелиться.
— Значит, дождалась! — словно о давно решенном, вымолвил Тырков и обнял Павлу: — А я тебя…
Увидев на пороге своей избенки дочь, а за ее спиной начального человека казачьего отрядца с корзиной в руках, Мамлей Опалихин все понял и заплакал. Долго не мог успокоиться. Утирая глаза хвостом сивой бороды, пытался сказать что-то важное, брызгал слюной, тыкал пальцем в иконный угол, складывал руки над головой, обнимал Павлу. Следом заскулила ее мать — домостарица Улита. Немного успокоившись, стала креститься и поклоны истово класть.
— Это они в Пыскорский монастырь засобирались, — объяснила Павла Тыркову. — Давно дожидались… Одна я у них осталась. А теперь и меня вроде как нет…
Однако не только до Пыскорского монастыря Мамлей не дотянул, но и до Тобольска. В пути, на струге, рассекающем встречную волну, Богу душу отдал. Будто задремал, убаюканный скрипом весел, плеском иртышских вод, криком суетливых чаек, дыханием бескрайних сибирских просторов. Лицо его было спокойно и умиротворенно, как у человека, до конца исполнившего свой земной долг и получившего наконец заслуженный отдых на небесах. Успокоилась и Улита. Решила с дочерью до конца своих дней оставаться.
Что до Вестима Устьянина, то Палагушка полюбилась ему с первого взгляда — точно так же, как полюбилась Тыркову его Павла. Обе излучали ту простоту и сердечность, которую так щедро рождает близость к природе, повседневная работа и неприхотливость. Вот и сыграли сослужильцы сразу две свадьбы. Сыновья-первенцы у них тоже один за другим родились. Вестим к тому времени принял духовный сан и отбыл в Тюмень к Никольской церкви, а Тырков остался служить в Тобольске. Но товарищество их на этом не распалось, а лишь крепче стало. Да и то сказать: от одного города до другого по битой дороге каких-то полтораста верст, а это по меркам конных казаков рукой подать — всего два лошадиных бега. Туда и обратно за четыре дня обернуться можно. Вестима такой пробежкой не испугать. Он хоть и священник, но казацкая выучка в него накрепко въелась. О Тыркове и говорить нечего. Дорога для него — второй дом.
Только вскоре судьба их в разные концы сибирского ополья развела: Тыркова в Кондинские и Тавдинские земли, а Вестима в Тарское Прииртышье. Там и там предстояло новые сибирские крепости срубить — Пелым и Тару, православными храмами их украсить, с немирными вогулами, остяками и татарами в дружбу войти.
Казацкое дело известное — в одной руке плотницкий топор, в другой пищаль или острая сабля. Жаль, третьей и четвертой нет, а то бы и им работы хватило.
У походного попа тоже забот не меряно. Ведь казаки, как дети, — набедокурят, а потом душу перед отцом духовным настежь норовят открыть. Им немного и надо — поплакаться, утешение или строгое наставление от него получить. А после опять с чистой совестью грешить и каяться, каяться и грешить.
Именно тогда, на Пелымском ставлении, Тырков близко сошелся с нынешним атаманом старой ермаковской сотни Гаврилой Ильиным, покойным Семеном Шемелиным, отцом Богдана Аршинского Павлом и другими казаками Тавдинского списка. Всего за две недели срубили они из березового жердя Пелымский острог с семью башнями. Об этот острог немирный вогульский князец Аблегирим со своими сыновьями, внуками, племянниками и споткнулся. Не захотел подобру-поздорову царю Федору Иоанновичу челом ударить, под его высокую руку стать, волостишку и другие пожалования на Москве с почетом получить, пришлось с оружием в руках его осаживать. Тогда Тырков и отличился, в честном единоборстве осилив Таганая Аблегеримова. Это открыло ему путь в Москву, свело с Нечаем Федоровым, ускорило продвижение по службе. А потом Нечай сам в Сибирь поверщиком пожаловал. Занятый при нем новыми делами и поручениями, Тырков все реже и реже вспоминал о Вестиме Устьянине. Не на глазах он, как прежде, а потому и не в мыслях текущего дня. Вспомнится порой, своим праведным теплом душу согреет и вновь отдалится, станет не человеком, а образом.
И вдруг до Тыркова докатилась весть, что с Вестимом беда случилась. Послал его Тарский воевода Андрей Елецкий к чатскому мурзе Кошбахтыю с предложением отступиться от недобитого правителя Сибири Кучум-хана, русское подданство к своей пользе принять. Но татары с Черного острова посольский отрядец в пути переняли, а казака Горячку Смерда коньми надвое разорвали — дескать, так и с другими тарскими жителями будет, если они нос из крепости высунут. На такое изгальство Елецкий тем же ответил — погромил и сжег городок на Черном острове, но Устьянина и его спутников там не нашел. По словам плененных татар, сын Кучум-хана, Алей, их кочевым аргынам запродал. Теперь ищи ветра в поле.
Андрея Елецкого на воеводстве сменил его брат Федор. Охота ли ему посольский отрядец, не при нем плененный, в киргизских степях искать? У него других забот полон рот. Отмахнулся от Тыркова, как от назойливой мухи:
— Нет у меня людей, чтобы с тобой к аргынам посылать. И уверенности нет, что пленники у них. Степняки — народ хитрый, осмотрительный — сбыли, поди, твоего Вестима с рук найманам, киреям или кыпчакам. Мало ли наших полоненников по их стоянкам разбросано? Всех не воротишь.
Тогда Тырков казацкий круг из бывалых послужильцев собрал:
— Каждый из нас в руках степняков может оказаться, братцы. Но у каждого вера должна быть, что товарищи его в неволе не бросят. Не бросим же и мы своих товарищей! Сами покуда не имеем возмоги в пределы ордынцев ходить, так у них торговые бухарцы и прочий хожалый люд бывает. Русский, да еще священник, в любом обличии приметен. Или кто-то из азиатов об нем проговорится ненароком. Вот и ниточка к нему. Ухватясь за нее, и весь клубок распутать можно…
Год ушел у Тыркова на то, чтобы на след Вестима напасть, еще год, чтобы с помощью сартов, приходящих в Тару и Тобольск из Южной Сибири с торговыми караванами, его из неволи на изделки с Московской Руси выменять.
Народ, у которого томился Вестим, звался карагасами и кочевал с оленьими стадами от реки Уды до Кана. Поначалу карагасы держали его на веревке, заставляли собирать сушняк для очага, таскать тяжести, прислуживать на стоянках. Кормили объедками, относились, как к собаке. Однако то упрямство, с которым он переносил такое обращение, та страсть, с которой молился, та чистоплотность, с которой он содержал себя и свою изношенную, выгоревшую на солнце и давно потерявшую первоначальный цвет фелонь, навели их на мысль, что Вестим не простого, а шаманского рода, а раз так, то не следует гневить его небесных и подземных покровителей, лучше делать орусу всяческие поблажки и кормить досыта…
Так Вестим стал страстотерпцем. А когда его сын-первенец Никита и старшая дочь Тыркова, Аксюта, слюбились и под венец счастливые пошли, старые товарищи и вовсе породнились.
Вот почему не с воеводы Катырева, как советовал Нечай Федоров, а со своего закадычного друга и свата Вестима Устьянина Тырков сбор пожертвований для нижегородского ополчения начал.
— Наконец-то и нам честь выпала русскому делу послужить! — выслушав его, исполнился радостью Вестим.
Уже к вечеру следующего дня ризница Воскресенской церкви стала похожа на сокровищницу, разделенную перегородками на несколько частей.
— А перегородки для чего? — не понял Тырков.
— Чтобы чистое серебро с мешаным не путать, — объяснил Весим. — Чистое у меня в этом отсеке соберется. Рядом — белое, с оловом смешанное. Дальше — черное, с примесью серы. Здесь — свинчатое, а здесь на меди.
— Лишние труды, — вздохнул Тырков. — Ведь все это добро придется ломать и плющить. Целиком везти да еще в такую даль — чересчур громоздко и заметно. Сразу разбойные шиши набегут. Да и возов чуть не вдвое больше потребуется.
— Зачем ломать? — удивился Вестим. — Проще переплавить, а слитки по возам упрятать. Слитки-то небольшие, плоские. По лигатурам их нехитро разложить. Зато на Денежном дворе в Ярославле хлопот не будет.
— А ведь и правда! — хлопнул себя по лбу Тырков. — Как я сам до этого не додумался? Ну сват! Ну голова! У кузнеца Тивы Куроеда выварной горн для переплавки серебра хоть и грубоват, да выбирать не из чего. Лишь бы ты ему с переплавкой по старой, по отцовской памяти помог. Сделаешь?
— Вестимо, Василей! Мог бы и не спрашивать. Это долг мой!
При крещении родители нарекли его Ивашкой, но когда малышонок, едва на ноги встав, на просьбы старших стал по-взрослому отвечать «вестимо», они и прозвали его Вестимом. Это второе имя к нему так прижилось, что, и возмужав, он им остался.
Есть люди, которых время старит, усушивает или, напротив, вширь разносит. А Вестим каким в юные годы был, таким и в зрелые остался. Разве что невыразительное в молодости лицо его со временем обточилось, стало привлекательным и даже величавым. В нем читается скорбь, мудрость, прозрение и еще много такого, что дарует нелегкая, но праведная жизнь. Таким же величавым, распевным и многозвучным стал несильный когда-то его голос.
— Вот и договорились! — собрался уходить Тырков.
Но Вестим остановил его:
— Спросить тебя хочу, Василей. Ежели Микеша мой попросится к тебе в дружину, возьмешь ли?
— Мог бы и не спрашивать, — дрогнул от нахлынувших чувств Тырков. — Эх ты, чудила… Разве моя дочь Аксюта ему не жена, а ты не сват? Разве он не сын нам обоим?
— Богу видней, когда и что спросить следует, — строго глянул на него Вестим и вдруг признался: — Думал, что сын по моим стопам пойдет, да, видать, не судьба. К ратному делу его тянет.
— Не журись, сват. Ты тоже, чай, не сразу иереем стал. Жизнь переменчива. Уж кому, как не тебе, это знать.
Бог в долгу не останется
Лиха беда начало. Собирая серебро для князя Пожарского, Тырков и дружину себе начал собирать. Второго после Микеши Вестимова добровольника он присмотрел на тележном дворе Ямской слободы. Это был рослый детина в широком крестьянском азяме из полосатой домотканой коломенки. Легко приподняв одной рукой извозничью телегу, другой он сперва на переднюю, потом на заднюю ось по новому колесу надел и бережно опустил на землю. За его действиями во все глаза наблюдала слободская ребятня — мал мала меньше. Не успел детина со своим делом управиться, как она дружно сыпанула в кузов, обшитый лубом.
— Покатай, дядька Харлам!
Тот ласково оглядел нетерпеливых седоков и с готовностью встал в оглобли. Сделал первый, затем второй шаг, а потом сноровисто покатил телегу по двору, проверяя ее ходовую часть, а заодно веселя детишек.
— Шибче! Шибче! — разохотились они. — А ну-кась вильни, как давеча вилял!
И это их желание Харлам с охотой исполнил. Резко поворотив передок телеги вправо, он тут же изменил направление. Задняя тележная ось, наглухо скрепленная с дрогами, от такого шараханья вздыбилась, грозя перевернуть телегу, но какая-то невидимая сила вновь привела ее в равновесие.
— Еще! Еще! — радостно завопили парнишонки, а притихшие девчушечки заранее округлили полные испуга и восторга глаза.
Харлам Тыркову с первого взгляда по душе пришелся. Мало ли на свете людей крепкого сложения и высокого роста, иначе говоря, лымарей? Но такой мягкой бережной силы, как у Харлама, такого умения на одну ногу с ребятней стать, не теряя при этом своей взрослости, Тыркову встречать еще не приходилось. Вот он и задумался. На том большом деле, которое ему выпало возглавить, не только ратники, искусно владеющие холодным и стрельным оружием нужны будут, но и работники, хорошо знающие тележное, кузнечное, сапожное, портняжное, шорницкое и другие разные ремесла. Без них в пути много времени и сил впустую потерять можно.
Прежде Тырков Харлама в Нижнем городе не встречал. Значит, он из людей гулящих, неустроенных, бессемейных. По всему видно, колесник и притом изрядный. У ямщицкой братии свой колесник есть, да силой и годами он крепко износился. Она давно ему помощника искала. Похоже, нашла. На вид Харламу лет тридцать, не больше. Такой и в дальнем походе хорош будет…
Заметив пристальный взгляд Тыркова, Харлам с легкого шага перешел на тяжелый, затем и вовсе остановился. Широкое лицо его со встрепанной бородой и длинными пшеничного цвета волосами, схваченными сыромятным ремешком, как-то вдруг померкло, сделалось неприветливым.
— Чего смотришь, прохожий? — спросил он с усмешкой. — Давно не виделись али как?
— Да уж давненько, — не замешкался с ответом Тырков. — С тех самых пор, как моя бабушка внучкой слыла. А может, и поранее. Нешто не помнишь?
— С какого бы я пошиба помнил? — непонимающе уставился на него Харлам.
— Коли подойдешь, так и объясню.
Любопытство заставило колесника подойти:
— Ну, вот он я. Говори!
— Про бабушку мы с тобой после потолкуем. А нынче спрошу в упор, без обиняков: хочешь ли ты святому делу послужить?
— Ежели оно и впрямь святое, почему нет? — удивился Харлам.
— Святое, святое, — заверил его Тырков. — Про нижегородское ополчение, что князь Пожарский на Руси собрал, слышать не приходилось?
— Чай, не безухий. На ямскую сторону вести не пеше идут, а коньми прилетают… Говори дальше.
— А дальше — «пожарцы» подмоги от Сибири ждут. Смекаешь? На меня это дело положено. Вот я и гляжу. Мастеровые лымари под вид тебя мне край как нужны. Богатств не обещаю, но сыт будешь. Соглашайся!
— Быстрый какой, — растерялся Харлам. — Ты ж меня вовсе не знаешь. А я — тебя.
— Ну так познаемся. В чем дело? Василей Тырков я, здешний письменный голова… А на тебе вся твоя родословная написана. Выговором ты вроде вятский, а судьбой скорее всего из крестьян, которых нарядом с пашни сорвали либо казенным делом на новые земли в Сибирь перевели. Так я говорю?.. Ну а дальше жизнь каким-то случаем вкривь пошла. Пришлось своих бросить и с места сняться. На последние копейки выправил проезжую грамоту, и вот ты здесь, Харлам. Как тебя по батюшке-то прозывают?
— С утра Гришаков был.
— Ну вот и ладно, Гришаков. По рукам, что ли?
— По рукам, воевода. Святое дело на дороге не валяется.
«Этот не подведет, — обрадовался Тырков. — Надо будет узнать, что ему жизнь скривило».
Оказалось — излишняя доверчивость. Дал Гришаков по добросердию своему поручительство за гулящего человека, который наг и бос в Усолье на Каме с семьей притащился и захотел там на государеву пашню стать. А в том поручительстве известно, что писано: ежели доверенный Харлама с места сбежит, то все убытки на него лягут. Ну а тот возьми и впрямь сбеги. Семьишку свою в четыре рта на произвол судьбы бросил, зато харламовскую жонку, которая чуть не вдвое моложе брошенки была, с собой прихватил. Брошенка Гришакову, ясное дело, ни к чему, а детишки, хоть и чужие, а все равно как свои. Очень он к ним душой привязался. Так и тянул сразу три лямки: пашню на государя пахал, пеню его же казне выплачивал, сирот при живом отце поил и кормил. Но любому терпению конец бывает. В самый разгар полевых работ городовой управщик сдернул его дорогу в Усолье чинить и чистить. А Харлам заартачился… Ах так?! Мигом набежали бездельные стражники, стали руки ему крутить. А он этого не любит. Вот и треснул их лбом об лоб. После такой передряги хошь не хошь прочь надо подаваться. С тех пор и бегает. Одно хорошо: бегая, тележником первой руки стал. Кто ж такого из Сибири в Усолье на расправу выдаст?
— Считай, отбегался, — узнав невеселую историю Харлама, объявил ямскому старосте Тырков. — Я его к себе забираю. Не себя ради. Дело требует. Еще два-три охотника с Ямской слободы мне пообещай. Сделаешь?
— Не сомневайся, Василей, — заверил его тот. — Будут тебе люди вместе с серебришком.
— Вот и ладно. Бог в долгу не останется…
На следующий день в дружину к Тыркову попросились казаки Стеха Устюжанин, Юряй Нос и Федька Глотов. Каждый троих стоит. Крепки, уживчивы, прямодушны, и Русь для них не пустой звук. Этих Тырков взял с радостью. Правда, Федька Глотов стал было просить и за Сергушку Шемелина, но Тырков отрубил:
— Слышать про него не хочу! Хорошо море с берега, а Сергушка издали. Мал еще старших задирать, — однако, вспомнив увещевания Павлы, смягчился: — Но ты его все же с глаз не спускай. Мало ли что…
Не успел Тырков с казаками разобраться, следом половники [12] воеводского подьячего Ивана Хапугина идут. Вместо того, чтобы сразу о деле речь повести, стали плакаться на свою худую жизнь. Слушал их Тырков, слушал да и посочувствовал:
— Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла… Чего от меня-то хотите, ребятушки?
— Как чего? — опешили они. — Места! Слыхали мы, будто ты, державец, большое серебро на увоз собираешь. А мы люди нехилые. По твоему слову хучь до Москвы иттить готовы. Лишь бы ты нас копеечкой за то не обидел.
— Так. Понятно, — сопнул рваной на бою с ордынцами ноздрей Тырков. — А пашня, что вы на Ивана Хапугина пашете, без вас как же будет? Под мое слово хотите ее бросить?
— Ну што ты! Как можно? Мы ж на ней своих половников оставим, а сами при тебе будем. Нам в караулах куда как привычней.
— Стало быть, у вас свои захребетники имеются? Чего ж тогда плакались? Своего времени не жалко, так мое б пожалели… Милости прошу к нашему шалашу мимо ворот щи хлебать…
Ушли мужички, костеря Тыркова на чем свет стоит. Враз он для них державцем перестал быть. Такое сплошь и рядом бывает. Отказы получать никто не любит.
Следующий разговор у Тыркова с большим сибирским воеводой Иваном Катыревым состоялся. С ним он привык все дела через Нечая Федорова решать. Однако на сей раз пришлось идти к нему самолично.
В воеводской палате, стены которой были обиты зеленым сукном, потолок голубым, а пол украшен лещадью, Тыркова ждали два короба с серебряными блюдами, вазами, кубками. Среди них то рог, окованный серебром, проблеснет, то пояс с серебряными бляшками, то коломарь, увенчанный изображением льва, то еще какая-нибудь замысловатая вещица. Все это подношения сибирских князьков, тайш, тарханов либо откупы торговых и промышленных людей, без которых теперь шагу ступить нельзя.
— Проходи, Василей Фомич, докладывай, — скупо улыбаясь, поднялся навстречу Тыркову дородный Катырев, облаченный в камчатый лазоревый кафтан с бобровой опояской, желтые козлиные штаны и сафьяновые сапоги, отливающие изумрудной зеленью. — Сколько чего успел сделать?
Выслушав Тыркова, тяжело вздохнул:
— Сам знаешь, казаков и стрельцов у меня нынче не густо. И взять неоткуда. Так что сильно губу на них не раскатывай. Самое большее, что я могу с тобой отпустить, десятка с полтора. Да еще дозволяю поискать охотников среди тех послужильцев, что из Томска, Сургута, Тюмени, Березова и других городов с посылками к нам явились и покуда назад не убыли. Не все же Тобольску за Сибирь отдуваться! Пусть-ка и другие воеводы не серебром, так служилыми людьми поделятся, — тут Катырев хитро глаза сощурил: — Вроде как в долг, но без возврата. А?
Тырков криво улыбнулся, а про себя подумал: «Полтора десятка казаков с Тобольска всего… Не мало ли? Даровым серебром откупиться хочет. Да и что с катыря [13] взять? Сейчас скажет: остальную дружину из пришлых и посадских людей набирай»…
Как в воду глядел Тырков. Помолчав со значением, большой сибирский воевода повел свою речь дальше:
— Князь Пожарский земским войском богат. Заметь, Василей Фомич, земским! А кто, спрашивается, под его знамя встал? В первую голову миряне. Так и ты делай! Жилецких и промышленных людей на Тобольске, слава богу, хватает. Выбрать есть из кого. Ну, а мало будет, так по пути в Ярославль еще сколь надо доберешь. Для этого Нечай Федоров ныне же тебя походным воеводой напишет. Он мне давеча напомнил, что ты на сына Кучум-хана, Алея, в сто пятнадцатом [14] году походным воеводой ходил, а до того на томском воеводстве в товарищах у Гаврилы Писемского сидел. Вот снова и повоеводствуешь.
От таких слов Тыркову совестно стало. Он Катырева в душе с мулом равняет, а Катырев его в походные воеводы тем же часом ставит. Неладно получилось, ох неладно. На доверие доверием следует отвечать, задние мысли отбросив.
— Не сомневайся, Иван Михалыч, — дрогнул голосом Тырков. — Служилых людей теперь по пальцам считать буду. Лишних не запрошу. Ополченье, так ополченье…
Но пообещать легко, а выполнять обещанное куда как трудней бывает. Мог ли Тырков знать, что атаманы Гаврила Ильин и Третьяк Юрлов надумают отдать ему в дружину своих сыновей Ждана и Надея, а полусотники Ивашка Лукьянов и Осташка Антонов своих — Ольшу и Христюху? Все четверо — хваткие, степенные, речью и видом похожие на отцов.
Пример заразителен. Решили не отставать от своих старшин и другие ермаковцы. Фромка Бородин привел к Тыркову своего добродушного увальня Савоську, Пашка Ерофеев — балагура и мечтателя Томилку, Дружина Васильев — невеликого ростом, но юркого и башковитого Хватку, Гришка Мартемьянов — знатока и любителя коней Конона, Федька Антропов — медлительного, но основательного во всем Матюху, Тарах Казарин — легкого на ногу узкоглазого молчуна Аспарку по прозвищу Бердыш, а сын покойного атамана Черкаса Александрова сам, без заступника, припожаловал.
От такого нашествия Тырков за голову схватился. Вместе с Устюжаниным, Носом и Федькой Глотовым у него уже четырнадцать служилых казаков набралось, а следом за ними еще столько же, если не больше, возбудилось. Да четыре стрельца. Одни опытом богаты, другие молодостью и душевным порывом, третьим Бог силы телесной добавил.
Одному, затем второму добровольнику из служилых Тырков как можно мягче отказал, а третий вскопытился:
— Чем я хуже ермачат? За отцовы заслуги нехитро наперед выскочить, а ты свои покажи! Я в поле двадцать лет без малого, а Матюха Антропов или тот же Томилка Ерофеев и по году еще не служили. Это как? Ты нас рядом поставь, сравни, тогда и видно будет, кому какое место дать.
— Неправильный разговор, — набрался терпения Тырков. — Не с того конца его вести надо.
— А с какого?
— А с того, что я не на службу людей набираю, а на служение. Чувствуешь разницу? Местничать тут никак не годится. Так что досады свои в сторону отложи. Сперва подумай. Ну поставлю я тебя рядом с Матюхой и Томилкой, сравню и што? Тебя похвалю, а их отрину? А на чем же тогда они свои заслуги покажут? Нет, друже, молодым дорогу надо давать, смену себе готовить. Иначе под корень изведется племя казацкое. Ты лучше из посадских людей, что у тебя в соседях, добровольников приведи. Земской люд тоже к служению прилучать надо. Тут золотая середина должна быть — они и мы, бывалые и только-только мужающие.
Пришлось строптивцу отступиться.
Помня дозволение воеводы Ивана Катырева приискивать себе заединщиков из служилых людей других сибирских городов, оказавшихся по делам в Тобольске, Тырков без труда удвоил свое воинство. Среди иногородних казаков он сразу выделил своих бывших послужильцев Иевлейку Карбышева и Треньку Вершинина. Восемь лет назад судьба свела их на Сургутском плотбище, где чинились и строились дощаники для казаков, заверстанных на поставление Томского города. Среди множества разгоряченных работой лиц больше других Тыркову тогда запомнились эти. Почему? А потому, наверное, что была в них какая-то удалая красота, свежесть, неутомимость. С той же неутомимостью двигали они тяжелыми греблами, перебарывая могучее течение только-только вскрывшейся ото льда Оби, а после долгого изнурительного плавания сходу вместе с другими походниками принялись Томскую крепость рубить, подбадривая товарищей шутками и собственным примером. За два года, что Тырков пробыл на томском воеводстве, Карбышев и Вершинин ни разу по службе не оплошали, напротив, все делали проворно и с охотой. На таких во всем положиться можно…
Узнав, что делается в казацком стане на Чукманском мысу, пришел в движение и Нижний город. Кто-то из посадских сам захотел в дружину Тыркова вступить, а кто-то вслед за казаками старой ермаковской сотни сыновей или племянников поспешил выкликнуть. Всего за несколько дней более двух десятков земских добровольников набралось. Вот и отдал их Тырков под начало Треньке Вершинину и Стехе Устюжанину. А в десятники к ермачатам хотел было поставить Иевлейку Карбышева, но те, не дожидаясь его решения, выбрали себе в большаки Афанасия Черкасова, сына того самого Черкаса Александрова, что двадцать девять лет назад доставил от Ермака царю Иоанну Грозному весть о сибирском взятии, затем в самом конце сто седьмого года [15] вместе с товарищем Тарского воеводы Андреем Воейковым окончательно разгромил войско живучего Кучум-хана на реке Ирмень близ впадения ее в Обь, а незадолго до своей смерти успел составить казачье написание пошествию дружины Ермака в Сибирь и оставил листы с тем написанием на хранение Вестиму Устьянину в Воскресенской церкви вместе с алтарными книгами.
Среди добровольников Верхнего посада Тырков выделил водовоза Федюню Немого. С утра и до вечера громыхает он со своей водовозкой от Иртыша на гору и обратно, а когда выпадет свободная минутка, свистульки ребятишкам ладит, корзины на загляденье плетет, туеса делает. Единственное окошко своей избенки резными досками украсил, а крышу теремком слепил. При случае и звонаря, и мельника, и мыловара, и много еще каких рукодельников подменит. Не стар и не молод, не слаб, но и не силен. Жил невенчано с остячкой из Бояровых юрт, да она от него снова к сородичам вернулась. Вот и остался один, как перст. Такому в дорогу собраться — только подпоясаться.
А среди добровольников из Нижнего города приглянулся ему табунщик монастырского стада, крещеный татарин Ивашка Текешев. Еще год назад он и двух слов по-русски сказать не умел, а теперь так и сыплет ими, пусть не всегда правильно, зато бойко.
— Бери меня к себе, главный человек! — потребовал он. — Хужум [16] месте идить нада. Моя твоя помогай буду. Твоя моя кони дай. Орусы говори: друг другу другом будь!
— Правильно говорят! — подтвердил Тырков. — Желание твое похвально, Ивашка, но сказать по совести, не совсем мне понятно. Веры-то мы с тобой теперь одной, это правда, да по разные стороны света выросли. У вас тут на Сибири свои раздоры шли и продолжаются, а на Московской Руси — свои. Издали их понять трудно бывает. Насколько я сведом, есть и среди татар, и у остяков с вогуличами такое рассуждение: белого-де царя настоящего на Москве давно нет, на Сибири одни воеводы остались, а русских людей в городах везде мало; не побить ли их разом по такому случаю? Как ты сам на это смотришь? И зачем тебе ввязываться в чужие ополчения да еще в те края идти, где ты сам не бывал?
— Неправильна эта рассуждение, — с достоинством ответил Текишев. — Мудрые люди говори: хорош-не хорош был твой стоянка, когда кочевать иди, видно будешь. Моя тоже так думай: хорош-не хорош Москва, когда джунгары и аргыны [17] приходи, кто нам защиту дай? Москва — большой народ, широкая спина. С ней живи, без нее плохо будешь. Ее царь — мой царь. Ее враги — мои враги. Сам с тобой иди хочу. Если не иди, как я твою сторону света знать будешь?
«Ай да Текишев, ай да молодец! — мысленно похвалил его Тырков. — Ну, точь-в-точь, как я казаку, вздумавшему с ермачатами местничать, ответил. Такого смело можно в поход брать — успел русского духа набраться».
А вслух сказал:
— Правильно мыслишь, Ивашка. Мы теперь все заодно делать должны. Куда передние колеса везут, туда и задние поспешать должны…
Серебряный воздух
Нижний город разбрелся по широкой луговине меж семи рек и речушек. Самая большая из них, Курдюмка, вытекает из оврага за северной оконечностью Алафейской горы и, прежде чем впасть в Иртыш, струит свои ржавые, плохо мылящиеся воды под высоченным, в тридцать с лишним саженей [18]. Чукманским мысом. Здесь в нее впадает речонка, которую жилецкие люди называют просто Ручьем. А дальше к Иртышу устремляется тоже небольшая, зато чистоводная, двумя ключами подпитанная речка, о которой следует сказать особо.
Получая чин сына боярского, Тырков и поместье впридачу к нему должен был получить. Но их в ту пору у Тобольского воеводства еще не было. Вот и предложил ему князь Андрей Голицын самому сыскать подходящее место близ города да и построить там посильную деревеньку. Тогда Тырков и выбрал пустошь у этой речки, а дворы подрядил ставить тех самых казаков Устюжаниных, что поделали улочку в Верхнем городе у Казачьих ворот. Со временем деревенька Тыркова влилась в Нижний город. Речку, само собой, стали называть Тырковкой, улицу вдоль нее — Второй Устюжской, а жить сюда перешли дети Тыркова. Сначала Василий с молодой женой и ее многочисленными родственниками, затем Аксюта с Микешей Устьяниным, следом Настена с мужем, а при них невесты на выданье Вера и Луша. Так и живут себе в пять дворов. Слава богу, согласно живут, по первому слову помогая друг другу. А Павла беспокойной птицей сверху вниз перелетывает, чтобы тут же снизу вверх устремиться. Откуда у нее только силы на это берутся?..
Каждый раз, спускаясь в Нижний город по Казачьему взвозу, Тырков останавливается на середине склона, чтобы зачерпнуть глазами расстилающуюся под ногами даль, уходящую за излучину Иртыша к Тоболу и дальше — к лугам и озерам среди таежных урманов. Ширь-то какая, первозданность, величавость! Будто кто-то Невидимый звуками, красками, глубоким дыханием мир наполнил. А за спиной земляною стеной, в которой не увидишь ни единого камешка, вознесся яр с крепостными башнями и бревенчатыми пряслами, надежно подпирающими сквозистое небо. Разве есть еще где-нибудь такая буйная, щедрая и вместе с тем суровая красота, как в Сибири? Разве есть еще где-то такой город, где одна из семи речек зовется Тырковкой?..
Вот и нынче Тырков замедлил шаг на середине Казачьего взвоза. Здесь от него отделяется Малый Казачий спуск. По нему путь до Ручья, на берегу которого поставлена кузня Тивы Куроеда, намного ближе. Пришла пора складочное серебро, перевезенное к Тиве накануне из Вознесенской церкви, в слитки превращать.
День выдался теплый, но ветреный. Сильная заверть подернула рябью луговые речки и старицу Иртыша — будто рыбацкие сети на них набросила, а дымы на трубах Нижнего города порвала, сплющила и порывами понесла к земляной стене Алафейской горы, смешивая их с запахами близкого жилья. Один из таких порывов и запорошил глаза Тыркову. Он долго не мог проморгаться, а когда наконец стал различать хоть что-то, не узнал привычного семиречья. Юрты татар с береговой линии Иртыша надвинулись на беспорядочно поставленные строения прочих посадников. Курдюмка и другие речки слились с кривыми улицами, застеленными в болотистых низинах хворостом. Торговую площадь стерла ядовито-фиолетовая пустошь. А таежное заречье и вовсе в синее пятно превратилось.
Этого только не доставало — от встречного ветра глаза не уберечь. И ведь что самое обидное — ветер-то западный. Казаки называют его не как-нибудь, а ветром с Руси, или московским ветром.
Осторожно ступая, Тырков двинулся вниз по Малому Казачьему спуску. Шаг к шагу, ветер к ветру — и вот он уже у подошвы Чукманского мыса. Вот ступил на выбитую в молодой пружинистой траве тропинку. Вот по ходульному мосточку перешел на другую сторону плещущего в низкие берега Ручья. Вот через огород и заднюю калитку прошел на просторный кузнечный двор Тивы Куроеда.
У коновязи под навесом беспокойно похрапывал заседланный жеребец, недовольный множеством кур, которые расхаживали у его ног.
«Чей бы это такой конек мог быть? — попытался рассмотреть жеребца сквозь пелену в глазах Тырков и сам себе ответил: — Ну, конечное дело, Нечая Федорова! Только его каурый имеет темные оплечья и не в масть желто-бурый навис [19]…»
Едва не наступая на кур, до которых так охоч любитель поесть Тива, Тырков вошел в избу.
— Эй, Груняша! — присев на лавку у двери, деловито кликнул он. — Выдь сюда да подай-ка мне две крупицы соли!
Из дальнего закутья тотчас выкатилась грудастая, коротконогая кузнечиха Груня.
— А-а-а, это вон кто! — всплеснула она полными руками. — Чичас принесу, Василей Фомич, и снова скрылась.
Раньше соль приходилось дорогой ценой из Соли-Камской в Сибирь завозить, а с недавних пор казаки ее сами на Ямыш-озере добывать стали. Путь к нему втрое короче, но сыновья Кучум-хана Ишим и Канчувар и до сего дня этот путь крепко стерегут. Через заставы ордынцев не каждый раз пробьешься. Так что ямышская соль дешевле не стала. Казаки — рядовичи и неимущие посадники ее и впрямь крупицами мерят. Но семейство Куроедов не из их числа. У них соли всегда в достатке. Вот и сейчас кузнечиха вынесла Тыркову сразу щепотку.
— Благодарствую, — подставил он ладонь. — А скажи-ка на милость, Груняша, кто еще кроме дьяка Федорова на кузне сейчас собрался?
— Еще Стеха Устюжанин, Савоська Бородин да мои сынчишки Игнашка с Карпушкой, да твой сват Вестимчище с твоим же зятем Аникитой.
У простого народа так принято: себя и свою ровню умалительно называть Стеха, Савоська, Игнашка, Карпушка, государевых людей при чине и звании — по имени-отчеству и непременно с «вичем»: Василей Фомич, Нечай Федорович, ну а попов черных и белых вовсе до небес возвеличивать: Вестимчище или, скажем, Диомидчище. Не совсем складно звучит, зато впечатлительно.
Слушая кузнечиху, Тырков сначала в уголок левого глаза возле переносицы крупицу соли положил, потом в уголок правого. Ах ты, господи, защипало-то как! Однако терпеть можно.
— Ну што, полегчало? — выждав некоторое время, участливо спросила хозяйка дома. — А то я для Тивы настой чистяка приготовила. Жалко сказать: глаза у него чуть не на всякий день воспаляются. А нонче еще и ветер загулял. Не им ли тебя прихватило?
— Им, им, Груняша. Но все, как видишь, прошло. На-ко возьми, что осталось, — Тырков молодецки поднялся. — Спасибо за соль, за ласку. Пойду я. Не люблю, когда меня долго ждут…
Но в кузне работа и без Тыркова уже кипела. В горновом окне под широким челом выварной печи бился, гудел, плескался многоцветный огонь, а внутри, над горнилом, зыбился слепяще-белый солнечный полукруг. Это плавился серебряный лом, выплескивая в тягу пучки искр. Вокруг затаилась пещерная полутьма. По стенам двигались тени. Звучали отрывистые голоса.
Тырков остановился на пороге, ослепленный. Голоса разом смолкли.
— А вот и Василей Фомич пожаловал, — первым обозначил его появление Нечай Федоров. — Каким это ветром тебя носит?
— Тем же, что и тебя, Нечай Федорович! — не задумываясь, ответил Тырков. — Заезжим.
— А конь тебе для чего дан? Ногами вверх-вниз много не набегаешься. Когда-то и подъехать надо. Опаздывать не будешь.
— Так мы ж не договаривались, что и ты сюда заявишься!
— А я без уговора. Прогулки ради. Решил серебряным воздухом подышать.
При этих словах все заулыбались, задвигались. Лишь Тива Куроед, мельком глянув в сторону Тыркова, попенял одному из сыновей-близняшек:
— Не зевай по сторонам, паря. Поддуй маленько. Не видишь, што ли, огонь падает?
Его слова прозвучали, как упрек собравшимся: не для разговоров-де мы здесь сошлись, а для дела, вот и займемся им.
Сын Тивы, то ли Игнашка, то ли Карпушка, принялся докачивать воздух в топку, а Вестим Устьянин, облаченный в глухой кожаный передник, стал у изложницы, дожидаясь, когда через литник потечет в нее первая серебряная струйка.
И вот она потекла, заполняя дно квадратной изложницы жаром текучего серебра. Оно шипело, укладываясь в опоку, сделанную из суглинка с меловым известняком.
Тырков и Нечай Федоров замерли позади Вестима Устьянина. Жар выварного горна жег их лица, огонь слепил глаза. Закрываясь от него руками, все трое внимательно следили, как рождается первый слиток — толщиной в палец, шириной — в два.
Выждав нужное время, Вестим достал его из гнезда разливной ложкой и, осмотрев со всех сторон, посоветовал Тиве уменьшить входное отверстие изложницы. Тот заспорил было, но затем согласился.
Так и пошло. Вестим свое слово скажет, Тива — свое. Игнашка с Карпушкой их пожелания тут же исполнят. Им полувзгляда достаточно, полузнака. Казаки в свою очередь сыновьям кузнеца стараются подсобить, а Микеша Устьянин слитки к двери охладиться уносит.
Много раз Тырков видел Вестима на церковной службе, но впервые заметил его на службе серебреника. И ту, и другую он исполнял самозабвенно и с превеликим достоинством. Все бы священники такими, как он, были не пришлось бы святой церкви краснеть за попов, в личной жизни от Божьих истин отступающих.
Вот и Нечай Федоров таков же. Редкий дьяк государские дела столь добросовестно и бескорыстно вершит. Что с его колокольни кузня Тивы Куроеда? — Песчинка, не более. А Нечаю и до нее дело есть. Нашел время, приехал. Само его присутствие здесь вдохновляет.
Тырков глянул на Федорова — и не узнал его: лицо набрякло, тело огрузло, дыханье тяжелым сделалось.
«Вот тебе и серебряный воздух! — встревожился он. — Годы свое берут. Пора бы и поберечься. Так нет, надорвусь, но все равно заявлюсь. Неугомонный…»
Сам Тырков к яркому свету, копоти и духоте, несмотря на мураши в глазах, успел притерпеться, а Федоров — нет. Надо его поскорей из этой душегубки выводить, не то он с ног свалится.
— Ну все, братцы! — стараясь не выдать своей тревоги, деловито объявил Тырков. — Вы тут заканчивайте с Богом, а нас с Нечаем Федоровичем другие дела ждут. За себя Устюжанина оставляю. Он знает, куда серебро перенесть… А тебе, Тива, низкий поклон и великое почтение за помощь.
Не говоря ни слова, Нечай Федоров последовал за ним.
Завидев хозяина, жеребец с темными оплечьями (таких принято называть крылатыми) потянулся к нему, но Тырков повел Федорова дальше — к лавке под широким навесом.
— Принеси-ка нам водицы, голубушка, — велел он случившейся поблизости дочери кузнеца, — Изжаждались совсем.
Нечай Федоров тяжело привалился к подпорному столбу, непослушными пальцами расстегнул кафтан на груди, захлебываясь, стал глотать ветер, который вдруг таким желанным и освежающим сделался.
— Ты прости, Нечай Федорович, что я тебя из кузни выдернул, — будто не замечая его немощи, подпустил в голос виноватости Тырков. — Сомлел малость в преисподней у Тивы. Вот и запросилось сердце на волю.
Нечай Федоров с усилием глянул на него и, едва ворочая языком, согласился:
— Глаза у тебя и впрямь красные… Отдыхай… Да и мне полезно…
Вода, принесенная дочерью кузнеца, заметно взбодрила обоих.
— Как серебро надумал везти — вроссыпь или внакладку? — вновь сделался деловитым Нечай Федоров.
— Вроссыпь, — отлегло у Тыркова от души. — Задал я колеснику Харламу Гришакову и Федюне Немому в брусяных днищах обозных телег схоронки поделать. Снизу пласт с гнездом для слитков, сверху — глухая доска для отводу глаз. Другое гнездо в передке, где подушка осевой связи. Вот и пойдем мы — с виду как обычный обоз.
— Ничего не скажешь, дельно придумано… И когда же ты будешь готов выступить?
— А уже, считай, готов. Осталось все собрать да уложить. Завтра Троицкая неделя кончается. Стало быть, на Исакия [20]… Между прочим, знаменательный день! Помню, в детские поры дединька мой Елистрат Синица сказывал, будто именно на Исакия змеи ползучие начинают идти на свадьбы змеиные, да не как-нибудь, а змеиным поездом, и ежели укусит человека какая гадина, не заговорить от нее никакому знахарю. После таких страхов мы босыми в лес или в поле опасались бегать.
— А нынче не страшно? — усмехнулся Федоров. — Смута, чай, повсюду гуляет — что в городах, что в глубинках, что по большим дорогам. Мог бы другой день для спокойствия выбрать.
— А в тех сказках, на которых меня ростили, клин клином вышибался. Потому и привык я от земных и небесных гадов не прятаться, своим поездом к ним навстречу идти.
— Хорошая привычка. Ее и держись. На Исакия — так на Исакия… У меня грамоты в Ярославль тоже, считай, готовы. Пора Артюшку Жемотина да Игната Заворихина спешной гоньбой к Пожарскому отправлять. Пусть знает князь, что мы его клич услышали и близко к сердцу приняли. По себе знаю, каково в неведеньи быть… А теперь давай с жалобами разберемся.
— С какими еще жалобами?
— Так Овдока Шемелина челом на тебя нам с воеводой Катыревым ударила. Не знаешь, что ли?
— Первый раз слышу. И на что жалуется?
— А на то, что ты ее Сергушку к себе в дружину не берешь. Других ермачат без разговора взял, а от ее ненаглядного нос воротишь.
— Пусть сперва Богдану Аршинскому повинную даст!
— Уже дал. Нешто ты и об этом не знаешь?
— Значит, не успел.
— А надо бы. Тогда тебе известно было бы, что Овдока Богдана больше не хулет. Отступилась к лешему. Ныне у нее самый большой обидчик — это ты. Ведь что получается? Она в ополчение князя Пожарского любимого сына жертвует, а ты ей препятствуешь. Исплакалась вся, изгоревалась. Заслуги Семена Шемелина перечисляет. Просит в ее положение войти.
— Я и вошел! Сергушка теперь в семье главный кормилец. Как можно вдову с ребятишками без него оставлять?
— Ну, это дело поправимое. Катырев обещал ей пособие дать. Да и я ее без заботы не оставлю. Можешь не сомневаться.
— Ладно, Нечай Федорович. Так тому и быть. Если честно признаться, я и сам насчет Сергушки Шемелина в колебания впал. Он мне моего Степу порой напоминает. Даже подумал: а не взять ли мне его к себе в стремянные?
— Правильно подумал! При тебе он сохранней будет.
На лавку рядом с Нечаем Федоровым сноровисто вспрыгнул красноперый петух и по-хозяйски прошелся по свободному краю. Спихнув нахальника наземь, Нечай Федоров вдруг признался:
— Кабы можно было и моего Кирилу под твое начало вернуть, я бы душой успокоился. А то ведь его опять на крутых поворотах заносит. Слыхал?
— Слыхал, — сочувственно вздохнул Тырков. — Но только я этим слухам не верю И ты не верь…
Первый раз младшего сына Федорова, Кирилу, занесло восемь лет назад. Тогда он с другими московскими недорослями челобитие Лжедмитрию, Гришке Отрепьеву, подписал. Спасая сына от костоломов Разбойного приказа, Нечай Федоров его на поставление Томского города поспешил отправить. И вовремя. Попробуй крамольника из-за Камня достань! Руки коротки. В Томске Кирилу тоже не раз заносило, но там Тырков его метания умело спрямлял. При нем Кирила сначала письменным головой, а затем и воеводским дьяком стал. В его-то годы это редко кому удается. Разве что на Сибири. Но особая история у Кирилы с женитьбой вышла. И здесь его угораздило не в кого-нибудь, а в иноверку влюбиться. Избранницей его стала Айбат, дочь эуштинского князя Тояна Эрмашетова, по челобитию которого и ставился Томской город. Как быть? Дело могло плохо кончиться, не получи Кирила в то время письмо от отца. В нем Нечай Федоров наказывал сыну во всем Тыркова слушаться, каждое его слово воспринимать как родительское. Вот Кирила и попросил благословения у Тыркова. Тот не стал чувствам названного сына противиться, сам убедил Айбат православие принять и покреститься в Анну, а после того и под венец молодых подвел… Вскоре родилась у них дочь Русия. Казалось бы, все на лад пошло. Возмужал Кирила, остепенился, способности во многих делах проявил, в том числе на стезе слагательной. Однако при нынешних томских воеводах, Василии Волынском и Михайле Новосильцеве, вновь закуролесил. Они сторонниками царя Василия Шуйского были, а он его за царя не признавал. Ну и прицепился к их лихоимствам, будто это невидаль какая, особенно в смутную пору. Хорошо, Нечая Федорова к тому времени дьячить в Тобольск прислали. К нему и сбежал Кирила. Собирался к себе Анну с дочерью забрать, да забоялась она от родных мест отрываться. Ее понять можно, а Кириле без семьи жизнь не в жизнь. Оттого и заскучал он, начал винцом баловаться, отцовых подьячих задирать… И это бы еще не беда: с кем не бывает? Побесится — остепенится. Так нет же. Не сказавшись отцу, Кирила в Москву подался. Лишь письмейце успокоительное ему оставил: хочу-де могилу матушки проведать, со старшим братом Иванцем и родимыми сестрицами повидаться, посмотреть, что на Московской Руси делается, а получится, так и Авраамию Палицыну исповедаться, вразумления на времена текущие и грядущие у него получить.
Иван Федоров в ту пору уже ни мало, ни много подьячим Патриаршего двора был, а наставник их с Кирилой детских лет, Авраамий Палицын, как и сейчас, келарь главного на Руси Троице-Сергиева монастыря. Оба на острие московских событий находились, всю их подноготную знали. К кому как не к ним душой и делами прилепиться? Вот Кирила и прилепился. С того времени и поглотила его тамошняя круговерть с частой переменой врагов и союзников, лжецарей и правящих бояр, а главное — с междоусобицами в стане отчизников, душой за Русь болеющих. Сначала Кирила отцу весточки слал, в подробности своих личных дел не вдаваясь, а потом и вовсе умолк. Случилось это с год назад, когда двуличный боярский суд обвинил патриарха Гермогена в том, что он в тайном сговоре с Тушинским Лжедмитрием ворует против польского королевича Владислава, которому Москва и другие лучшие города по воле своих управителей присягнули, на слово поверив, что их избранник вскоре примет православную веру и выведет польское войско из России. Это был прямой оговор, ибо Гермоген напротив требовал от правящих бояр и влазчивых поляков истребить наконец таборы тушинского царика, бежавшего в Калугу, а отряды коронного польского гетмана Станислава Жолкевского и полковника Александра Гонсевского, бывшего посла, два года после этого просидевшего в Москве почетным пленником, ни под каким видом в Кремль не впускать. Но предательская часть седьмочисленных бояр во главе с Федором Мстиславским впустила-таки их в главную крепость царь-города, а против Гермогена состряпала ложное обвинение. Владыка и верные ему люди тотчас были взяты под стражу, а Патриарший двор распущен и разграблен. Лишь Иванцу Федорову и еще нескольким служителям двора удалось бежать в Троице-Сергиев монастырь, с честью выдержавший многомесячную осаду литвы и поляков. Во время московского пожара польские факельщики заперли и подожгли дом, где вместе с другими горожанами находились жена и малолетняя дочь Иванца. После их гибели он и постригся в монахи. Ныне он с товарищами во все города и веси призывные грамоты шлют: погоним-де ляхов из Московского государства всем миром!.. Со старшим сыном у Нечая Федорова, слава богу, все ладно — и связь, и единодушие не утеряны. А Кирила, судя по всему, не там, где надо бы, свое место нашел. По свидетельству обозников, недавно в Тобольск из московских краев возвратившихся, его в близком окружении казачьего атамана Ивана Заруцкого видели. А Заруцкий князю Пожарскому ныне не товарищ. В одной руке у него ветвь мира и согласия, в другой — острый нож или яд измены. Ну как Нечаю Федорову такое о любимом сыне слышать? Тут любой сердцем дрогнет…
— Наперед знаю, — нарушил затянувшееся молчание Федоров. — Пути твои и Кириловы где-нибудь да сойдутся, Василей. На тот случай крепко запомни: свое родительское слово по отношению к нему я с тебя не снимал и не снимаю. Ты ему в Томском городе как отец был, им и дальше оставайся.
Несмотря на старую дружбу они привыкли именовать друг друга по имени-отчеству, а тут Федоров Тыркова только по имени назвал. Сам он этого в порыве чувств не заметил. Зато заметил Тырков.
— Не сомневайся, Нечай, — положил он свою ладонь на его руку в частых старческих прожилках. — Ты меня знаешь.
— Знаю, — ответил ему тот благодарным рукопожатием. — Потому и прошу…
Начальник мира
В тот самый час, когда большой сибирский дьяк Нечай Федоров в Нижнем тобольском городе с Василием Тырковым беседовал, его сын Кирила прибрел наконец к белостенному монастырю Во имя святых Бориса и Глеба, что под Ростовом Великим расположен. Упрятанный за деревянными стенами с потемневшими от времени сторожевыми башнями, монастырь лучился навстречу ему всеми своими разновеликими куполами, крытыми узорным лемехом.
Неожиданно для себя Кирила услышал щебет птах, которых прежде не слышал, стрекотание полевых кузнечиков и даже шелест легкого ветерка, запутавшегося в его давно нестриженой бороде. И сразу мир вокруг ожил, раздвинулся, одухотворился. Боже, хорошо-то как! Тихо. Первозданно. Будто и не бесчинствовали здесь недавно то литва и поляки, то казаки из ополчения Трубецкого и Заруцкого, посланные на заготовку кормов, но отколовшиеся, чтобы на себя безнаказанно пограбить. Будто и до сих пор не тащатся сюда из Ростова и Углича больные и калечные, опаленные многолетней смутой.
Один из страдальцев, с ворохом тряпок на обожженной голове, с трясущимися руками и босыми изъязвленными ногами, увязался за Кирилой еще в Шугари. Превозмогая себя, он ковылял следом, а встретив мимолетный взгляд Кирилы, отвечал ему какой-то кривой замученной улыбкой. В Борушках калечный по немощи своей отстал, но у сельца Сагило вновь появился. Пожалеть бы его, да всех не пожалеешь.
Чтобы хоть теперь избавиться от назойливого спутника, Кирила сошел с дороги и двинулся цветущим лугом к реке Устье. Высокая, по пояс, трава сдерживала шаг, медовые запахи кружили голову. Идти бы так да идти, ничего больше не видя и не слыша, отдавшись этому опьяняющему чувству, но мешало желание узнать, а что там у него за спиной?
Не выдержав, Кирила оглянулся.
Дождавшись, когда он это сделает, калечный издали осенил его двуперстным крестом — будто благословил на что-то, и лишь затем зашаркал к воротам святой обители.
Озадаченный этим его благословением, Кирила двинулся дальше.
Вот и заводь наполовину пересохшей реки Устьи. Возле нее росло несколько вязов. Кто-то рубил их, да не дорубил. На одних ветвях листьев совсем нет, на других они сиротливо обвисли, потускнели, оттого и тень под ними серая, дырявая. А от заводи и вовсе тухлым болотом веяло. Кувшинки с желтыми мясистыми соцветиями напомнили Кириле чешуйчатые сочленения боевых панцирей. Будто и здесь прошло злое побоище, оставив гнить в заводи сраженных латников в боевых доспехах.
Поискать бы текучую воду, но Кирила так изжаждался, что рад был и стоячей. Сбросив под ноги дорожную суму с медными листами, из которых бьют церковные кресты, он пал на колени. Раздвинув даже на ощупь жестяные кувшинки, пил долго, жадно, не чувствуя вкуса воды, а лишь ее обилие. Потом так же долго отдыхал, по-собачьи забредя руками в прибрежный ил, тупо вглядываясь в свое зеркальное отображение. Капли, упадающие с носа и бороды, смазывали его разбегающимися кругами. Но в следующий миг отображение восстанавливалось, чтобы снова разрушиться.
Не так ли и сам Кирила в минувшие три года после бегства из Сибири разрушался и восстанавливался? Разрушался и восстанавливался. Разрушался и вновь восстанавливался. А теперь изнемог, опустошился, изверился. Что дальше?
Лицо его давно обсохло, но он не в силах был встать, лишь переставил поудобнее затекшие руки да передвинул с ломких колючих веток занывшие колени. От этих его расслабленных движений в воду осыпалось еще несколько капель. Откуда они взялись?
И тут Кирила понял, что плачет. Слезы затуманили глаза. Но странное дело, они не жгли, а просветляли.
Внезапно слезная пелена исчезла, и Кирила вновь увидел в воде свое отображение. А рядом — другое. Оно странным образом двоилось.
«Да это же батюшка родимый!» — догадался Кирила.
И правда, из речного оконца, будто из глубины времен и пространств, глянул на него строгий отец Нечай Федорович. За его спиной угадывался еще кто-то, но не явно, сглаженно. А может, там никого и не было — тень, не более.
«Здравствуй, сынок! — молвил отец. — Устал, поди, жить без родительского слова? Ну, ничего. Скоро ты его опять услышишь».
«Где? Когда?» — только и успел подумать Кирила, но чудесное оконце уже заплыло кувшинками.
Выдернув руки из вязкого ила, он обмыл их наскоро мутной водой и лег под искалеченными вязами так, чтобы монастырские купола больше не выпадали из поля зрения. Они соединяли его с небесами, а через них с отцом, так нежданно напомнившим о себе. Ничто в жизни не случается беспричинно. Всему свое место и время, ну и, конечно, душевное состояние.
Прав, ох как прав батюшка. Устал Кирила без родительского слова. Смертельно устал. Отправляясь из Тобольска в Москву, он думал, что слово это, как не раз бывало в детстве и отрочестве, смогут заменить учительские наставления Авраамия Палицына, человека, которому дано вершить дела не только церковные, но и государские. Трудно представить другого келаря, который бы лучше него в Смутное время сумел вести разбросанное в Москве, Радонежье и по многим другим русским землям хозяйство Троице-Сергиевой обители, сохраняя, а то и приумножая ее житницы, казну и земли.
Достоинств у Палицына не счесть: и умен-то он, и прозорлив, и щедр, и решителен, и посредничать между противоборствующими сторонами искусно умеет. А какие сказательные летописания делам дней минувших и нынешних он в свободное от текущих трудов время слагает! Каждое слово в них образно, отточено, уместно. Каждое событие мудро истолковано. Кирила уверен, что будущим читателям они дадут обильную пищу для ума и сердца, возбудят преданность православию и любовь к отечеству. Вот и Кирила не без его влияния с юных лет к сочинительству вкус почувствовал, многое от него почерпнул, многому научился. С радостью перенял бы и другие его умения, но при взрослом общении оказалось, что в своих поступках и образе жизни Палицын далеко не так свят, как надлежало быть отцу-наставнику. Не вправе Кирила его за это судить, но выбрать себе другого духовника, который бы принял его покаяние и отпустил перед Святым Причастием грехи, он вправе. Вот и стал искать Кирила себе душеводца, могущего помочь ему своим примером из тьмы заблуждений выбраться. Спасибо брату Иванцу — надоумил, где такого искать. Ну, конечно, в Борисо-Глебском монастыре, где уже тридцать четыре года сидит в затворе крестьянский сын Илья Кондаков, нареченный при пострижении Иринархом. По-гречески это значит — начальник мира.
Широко разошелся в народе сказ о том, как святой старец укротил литовского магната Яна Петра Сапегу, полтора года без малого безуспешно осаждавшего Троице-Сергиев монастырь, отданный ему Тушинским цариком Лжедмитрием Вторым на разграбление. В те поры и нагрянул воинственный иноземец в Борисо-Глебскую обитель к Иринарху за благословением своему черному делу. Видя такую его наглость, затворник с достоинством возрек: «Не туда ты пришел, ясновельможный пан. Я в Руси рожден и крещен, за истинного русского царя Бога молю, а не за самозванца, посаженного руками иноверцев и предателей. Со всех сторон неприятели Московское государство, аки псы голодные, на клочья рвут, и всем порубежным народам мы теперь в посмех и в позор, и в укоризну. Но долго этому уже не быть. Знаю! Верую! Мое отечество — Русь, мой дом — сей монастырь, мое благословение — лишь тем, кто своей вере служит и своей земле вовеки предан остается».
Такая его непреклонность сбила спесь с горделивого Сапеги. «Истину глаголишь, батька, — через силу признал его правоту он. — В коей земле жить, тому царю и править. Но я-то человек вольный, королю и королевичу не служу, от царя Дмитрия не завишу. Стою при своих заслугах».
Иринарх покачал головой укоризненно: «На чужой каравай зявиться — невелика заслуга. Лучше возвратись, господине, во свою землю. Полно тебе в Руси воевать. Аще не изыдешь из нее или опять на Русь явишься, не послушавшись слова Божия, то в ней смерть примешь».
Тут и вовсе сник самовластный пан Сапега. Из монастыря он ушел тогда тихо, с миром, да еще и пять рублей на молебен старцу прислал. Однако от своих злобесных дел так и не отступился. За то ему и смерть вскоре на Москве сделалась. Жил, жил, воевал, воевал, а все равно от кары Божьей не уберегся. Остатки его войска с гробом предводителя спешно отбыли в Литву. Проще сказать, бежали. Это ли не предупреждение всем прочим искателям легкой поживы, топчущим Русскую землю?
Зато князя Михаила Скопина из рода Шуйских Иринарх возлюбил, как сына родного. Они спознались два года назад, когда Скопин, опираясь на поддержку предложивших свои двоедушные услуги шведов, погнал от Великого Новгорода до самой Москвы тушинских изменников, гонорных ляхов и литву. Благословив князя, Иринарх вослед ему слал то освященную просфору со словами: «Дерзай, не бойся, Бог тебе поможет!», то крест, сделанный им самим для укрепления воинской мудрости ратоборца Михаила. Скопину в те поры всего двадцать четыре года минуло, однако многие хотели видеть его на троне вместо царствующего дяди, бездетного и нелюбимого в народе Василия Шуйского. Скорее всего это и стало причиной гибели Скопина в Москве, которая встретила своего любимца звоном колоколов и всеобщим ликованием. На крестинах одного из московских бояр Скопину подсыпали в угощение яд. Это злоумыслие молва приписала жене Дмитрия Шуйского, еще одного властительного дяди князя. Да и то сказать, Екатерина Шуйская из змеиного гнезда родом. Именем ее родителя Малюты Скуратова, главного опричника первого русского царя Иоанна Грозного, и до сей поры старых и малых, правых и виноватых на Руси пугают. Заопасались дядья своего племянника: а вдруг он, и правда, мимо них на престол возжелает сесть? Вот и устроили ему отравление. Увы, крест Иринарха, защитивший Скопина от врагов явных, не смог уберечь его от врагов тайных. Но свято место пусто не бывает. Уже возвестил прозорливый старец, что грядет на место почившего витязя другой защитник земли Русской — тоже князь, но лет на десять постарше. Кто таков? — Глядите и увидите! Вроде как на князя Дмитрия Пожарского намекнул.
Однако не только магнаты и князья ищут благословения у вещего Иринарха. Старец открыт для людей всех сословий. Одним он дает утешение, в других вселяет веру, третьих пристыжает, четвертых врачует, пятых отвращает от пристрастия к питию хмельному… Как-то он встретит Кирилу? Кабы знать наперед, так и не колыхалось бы неспокойное сердце.
Отлежавшись под вязами, Кирила встал, пучком мокрой травы почистил изношенный кафтан, другим пучком обтер прохудившиеся сапоги, расчесал пальцами волосы и, схрумкав два последних сухаря, ходко зашагал к монастырским воротам.
Имя Иринарха открыло их и повело его через два темных двора мимо Просфорного дома и занятых своими делами чернецов к дальней стене между тринадцатой и четырнадцатой сторожевыми башнями деревянной крепости. Здесь, в летнем затворе, и пребывал Иринарх.
Большинство отшельников проводит свое время в постах, самоистязаниях и молитвах. А Иринарх, по рассказам очевидцев, взял себе за правило еще и трудиться, принося вещественную пользу. Для монастырской братии он волосяницы из конских грив и хвостов вяжет, для нищих платье из крапивы шьет, для калик перехожих обутки делает: из подкорья молодых лип — лычные лапти, из подкорья лип старых — мочалыжники, из ивы-ивняки, из ракиты — верзни, из вяза — вязовники, из березы — берестяники, из тала — шелюжники. А для себя самого ужище железное чуть не в двадцать саженей длиной сковал, медных крестов более сотни изготовил.
Однако слышать о трудовых занятиях Иринарха — одно дело, зреть их — другое. Первое, что увидел Кирила, войдя в затвор, — цепь, которой старец себя к стене и колоде, называемой здесь стулом, приковал. Пучок света из единственного верхового оконца играл серебром его волос, схваченных железным обручем. Из-под бороды проглядывало шейное путо. Грудь и плечи его были увешаны веригами. Нижняя часть тела связнями из белого крушевца опоясана. Руки и пальцы утиснуты множеством оковцев. Казалось, Иринарх весь одет в железо. Лишь местами из-под него проглядывало темное, прошитое свиной щетиной рубище.
Колени Кирилы сами подломились. Разве можно смотреть на богатырского старца сверху вниз?! Ведь не железо он на себя взвалил, а грехи человеческие. В том числе — грехи Кирилы. Подобно Исусу Христу подвиг искупления бессрочно творит.
— Отче! — только и сумел выговорить потрясенный Кирила. — Прими! Смилуйся! Выслушай! — и уронил на грудь голову.
Твердая, как подошва, ладонь Иринарха ласково легла на нее.
— Пришел наконец-то, сыне мой, — голос у старца глухой, с придыханием; чувствуется, что зубы у него искрошились, а частью повыпали. — Ну, здравствуй, здравствуй. С чем припожаловал?
Кирила вскинул на него глаза.
Лицо у Иринарха широкое, скуластое, нос бугорком, щеки прорезаны глубокими морщинами, переходящими в уголки губ тонкими закрылками. Взгляд острый, испытующий; от такого озноб по коже идет. Но взгляд этот не отталкивал, а притягивал, побуждая к откровению.
— Беглый я! — как в студеную воду бросился Кирила.
— И от кого же бегаешь? — участливо полюбопытствовал Иринарх.
— Сперва от жены и дочери, но это поневоле, до времени. Потом от родительской опеки. После от поборников одной власти к другой… Можно обниматься, но не верить. Я не такой. Вот и надорвался. Теперь от себя самого бегаю. А что дальше делать, не знаю. Просвети, отче! На тебя последняя надежда.
— Не ты один в бегах ныне, чадо. Многие умом заблудились, живут вкривь и вкось, не по совести. Главное ты мне вкратце обсказал. Теперь подробно говори, без утайки. А я покамест лаптишко доплету, дабы не терять светлого времени, да тебя горемычного послушаю. Ты тоже свой лаптишко плети, но честными словесами. Там видно будет, что с тобой дальше делать.
Только теперь Кирила заметил в руке у старца крючковатый кочедык величиной со спицу, а на коленях обувную колодку с плетением, которое уже обрело очертания лаптя. Поперечные лыка загнуты на обушник, продольные на запятке внакрест сходятся. Строчки ровные, крупные, одна к одной. Вот так и Кириле говорить надо: крупно, просто.
— Ежели издалека глянуть, я сызмала себя высоко ставил, — словно пробуя тонкий лед под собой, начал он свою исповедь. — Матушка мне все дозволяла, а родителю не до меня было. Он в ту пору на Москве дьячил, сторону царя Бориса крепко держал. А я рос поборником новых порядков, которые из других христианских государств шли. Вот и качнулся к лжецаревичу Дмитрию. Откуда мне было знать, что за ним другой из мертвых воскреснет, за ним третий да и станут они Русь, как на пытке, жечь и ломать?! Теперь-то я на прошлое с высоты времени гляжу, а тогда в мечтах о свободном царстве далеко залетал. Так далеко, что едва в государев застенок не угодил. Ладно, батюшка меня вовремя в Сибирь спровадил. Из нее мне многое по-иному увиделось. Осознал я там его слова про то, что под чужую голову идти — свою нести. А еще про то, что свое плохое чужим хорошим не исправить, потому как у каждого народа своя вера, свои обычаи, свой язык. Лишь корысть на всех одна, как моровое поветрие. У нее ни веры, ни совести нет, а только черная алчба. Это она главный разор миру чинит…
Слушая Кирилу, Иринарх очередное лыко кочедыком в переплетку повел, а сам нет-нет да на коленопреклоненного каяльщика внимательно глянет. Теперь свет из верхового оконца с седовласой головы старца на его руки в сеточках набухших жил переместился. Кабы не оковцы, эти руки не ползали, а сновали.
— Вот и у меня сибирская служба на заворуйстве томских голов Ржевского и Бартенева споткнулась, — продолжал Кирила, завороженно глядя на эти изработанные руки. — Первые-то воеводы, Гаврила Писемский и Василей Тырков, справедлиы были, строительны, о службе пеклись, о дружбе с тамошними сибирскими людьми, а как на Москве самозванство сделалось, и на Сибири дела криво пошли. У кого сила и власть, тот и прав. Поначалу-то я Ржевского и Бартенева за их грабеж и неправды с очей на очи устыжал, а потом прилюдно шум поднял. Об том лишь жалею, что не на трезвую голову…
Руки Иринарха при этих словах замерли. Из глубоких подбровий проблеснули синие искры. Только теперь Кирила понял, какого цвета у старца глаза. Ну, конечно, небесные.
— Знаю, отче, что ты противник хмельного, — поспешил объясниться Кирила. — Весь мир от него хочешь отвести. Глаголишь, будто это Господь на нашу землю за пьянство иноплеменников навел. По моему разумению, не только за это… Но я с себя никаких вин не снимаю. Что было, то было. Грешил, когда душа вон из тела от неправды рвалась. А воеводам это и надо. Ведь у них как? Пил, не пил, а коли скажут, что ты в потере памяти и рассудка изменные речи на царя и его двор нес или о другом каком-то своем воровстве проболтался, значит, так оно и было. Не зря говорится: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Попробуй отвертись! У них власть, свидетели, оговор. Даже те, с кем ты бражничал, на другую сторону тотчас переметнутся и на тебя пальцем покажут. Вот и со мной так вышло. Взяли меня под крепкую стражу. А тут как раз воеводы сменились. Обрадовался я. Ну, думаю, Волынский и Новосильцев — люди свежие, немараные, они во всем по чести разберутся… Как же, разобрались! Сами служилым людям хлебного и денежного жалованья давать не стали, казною и властью начали торговать. И меня в свои дела втаскивать пытались. Но я снова шум поднял, а это наказуемо. Стыдно сказать, но пришлось мне из Томского города бежать, как зайцу на загонной охоте. А у меня жена всех похвал, дочь Русия. Ныне ей ровно семь лет. Это как?
Иринарх укоризненно глянул на Кирилу, будто напоминая, что он пришел к нему каяться, а не спрос делать.
— Когда я к Москве вернулся, брат Иванец сказал, что все мои напасти от гордыни идут, — поспешил исправиться Кирила. — Так оно и есть. Не по заповедям Божьим жил, а по своему разумению. Не в свои дела лез. За ложными вождями шел. Другими многими грехами грешен. Но ведь и Москва стала, как овчарня, на которую волки напали, а лучшие овцы с волками задружились, про стадо забыв. Вот оно и шарахается из стороны в сторону, понять не может: кого держаться? Один не по правде на царство сел, другой не по правде на царство лезет. Кому присягать — этому или тому? Кому верить? Перевертней расплодилось, как вшей на нищем. Всяк свою пользу ухватить норовит. Тут меня зло и взяло: ну как так можно?! Стал рвать прежние связи и сам не заметил, как остался сам с собой — без друзей и без покровителей. Хоть опять за вино берись! Махнул было на все рукой: никому я ничего не должен и присягать никому не буду. Но когда пан Гонсевский по согласию с первым думным боярином Федором Мстиславским Стрелецкий приказ под свое начало взял и стал наших стрельцов на Москве заменять своими приспешниками, а ляхам полную свободу на бесчинства дал, тут я твердо понял, что нельзя дальше сидеть сложа руки. Ну где это видано, чтобы войско, которое на словах дружеским считается, на деле монастыри и дворы своих же союзников грабило, женок насиловало, священников к заутрене не пускало, а тех, кто замечен со стрельным оружием и даже просто с топором, как у себя в Польше, в воду сажало?! Один гусар, куражась, прямо на коне в церковь Бориса и Глеба на Варварке въехал. Ну я его за это выследил и прибил — чтоб другим неповадно было над народом русским измываться. Да и не я один на ляхов и всяких наемных немцев тогда поднялся. Кто камнем с крыши кинет, кто оглоблей при случае огреет, кто нож всадит. Обида за обиду, кровь за кровь. Так всегда было. С той малой охоты большое побоище началось. Проснулась наконец Москва. Кабы поляки из конца в конец ее не выжгли, не сидеть бы им сейчас в Кремле и Китай-городе со своими боярскими прихвостнями… Три дня жгли, тыщу людей в чистое поле на мороз выгнали, а тем, кто в развалинах бедовать остался, велели в знак покорности белыми полотенцами подпоясаться. Вот тебе и новые порядки хваленых христианских государств, которые мне прежде наилучшими казались…
От долгого стояния на твердом, как камень, земляном полу колени у Кирилы заныли, но по сравнению с тем, что терпит Иринарх, это всего лишь малое неудобство. Вот и не посмел он переменить положение. И согнать муху, севшую ему на лоб, не посмел. Терпеть, так терпеть.
— Полотенцем я, понятное дело, обвязываться не стал. За то меня и схватили. Вместе с другими, пойманными в руинах, повели в Яузе топить. Но тут казаки во главе с Иваном Заруцким нас отбили. Он и спрашивает меня: «Кто таков?» Я сказал. Заруцкий обрадовался: «Мы тут затем, чтобы все было, как при прежних государях. Без приказных грамотеев нам подлинной власти не построить, ляхов не избыть, народ не замирить. Иди к нам на службу. Денежный оклад получишь, поместье, товарищество…» Врать не буду, знал я, кто такой Заруцкий. И про то, что свое боярство он не где-нибудь, а в Тушине из рук ложного царевича получил. И про другое разное. Но обиженный люд к нему не случайно валом валил. И слава об его отваге и непримиримости к полякам не случайно повсюду гремела. Значит, было за что. Всяк хотел оказачиться и под его твердую руку встать. За малое время Заруцкий изрядное казачье войско собрал и под Москву привел… Видом он тоже хоть куда. Мне, к примеру, с первого слова поглянулся. Мало ли что за ним прежде числилось. Главное, теперь он готов был волков из овчарни погнать…
В очередной раз, оторвавшись от плетения, Иринарх испытующе глянул на Кирилу, затем перевел вопрошающий взгляд в угол кельи за его спиной.
«Кто бы там мог быть? — встревожился Кирила. — Если келейник, я бы его давно заметил», — и вдруг понял: это Исус Спаситель с иконной доски на них взирает!
«Неужто я что-то не так сказал?» — набежала другая мысль.
Иринарх звякнул веригами.
— Но ведь так оно и было! — сбился Кирила. — Я и сейчас не умею на середине быть. Задним умом думаю — когда уже занесет дальше некуда… А с Заруцким меня почему занесло? Лестно было, что он меня из прочих выделил. Уж очень крутой судьбы человек. Родители у него из тернопольских мещан. Грамоте сына не учили, на польского короля молиться заставляли. Он от них на волю и сбежал. Стал казачить в Диком поле. Там в плен к крымским татарам попал, галерным невольником по разным морям плавал. От них тоже сумел уйти. В атаманы его удаль молодецкая вынесла, ум и мертвая хватка. Умел напролом к своей цели идти. С таким не заскучаешь. Вот и стал я при нем вроде как письменный голова. Приговоры и другие нужные бумаги готовил, заслуги живых, павших и от ран изувеченных для Большого разряда записывал, особые поручения исполнял. Не раз вместе с Заруцким в отчаяннейших переделках побывал, но у него и впрямь рука легкая… Обещанное поместье он мне в Звенигородском уезде отмахнул да еще тридцать четвертей земли с деревнями в Пусторжевском. Они тогда из рук в руки переходили — от законных владельцев к самоназваным, а от тех — к малопоместным или беспоместным ополченцам из дворян и бедных детей боярских. Я в тех поместьях по разу только и появился. Их литва и казаки успели донага обчистить. Да я и не за поместья с Заруцким пошел — вторженцев бить! На его злоупотребления в казенных и земельных делах, на то, что земское ополчение он вечно задирает и своих казаков тоже не очень-то милует, глаза приходилось закрывать. Он по таборам [21] боярином ходил. Уйти от него сразу у меня духу не хватило. Решил подождать, пока наши с ним дела сами развяжутся. Они вскоре и развязались… Это я об убийстве Прокопия Ляпунова говорю. Ныне все за его смерть Заруцкого винят. Будто это он своих черкасов на Ляпунова натравил. На самом-то деле это пан Гонсевский сподложничал. Его люди от имени Ляпунова настрочили грамоту во все города с призывом бить и топить казаков, где поймают, а когда государство Московское успокоится, и вовсе истребить этот «злой народ». Руку Ляпунова искусно подделали да и заслали мнимый лист за его подписью к казакам в таборы. Те, ясное дело, всколыбались. Дернули Ляпунова к себе на круг, стали допрашивать, его ли это рука? Ляпунов говорит: «Рука вроде моя, только я этих слов не писал и не мыслил». Атаман Карамышев ему не поверил, в измене обвинил, за саблю схватился. Казаки на расправу круты. Заступился было за Ляпунова дворянин Иван Ржевский, так они и его зарубили. А ведь знали, что Ржевский Ляпунову по делам внутренним первейший неприятель. Ярость им глаза застелила. Побежали еще кого-нибудь из ляпуновцев погромить. А я как раз в разрядную избу на Воронцовом поле по делам зашел. Слышу, шум. Вышел за порог, а на меня казаки с саблями бегут. Впереди Авдюшка Мыло, липовый казак, из мещерских мыловаров. Мы с ним прежде в гуляй-городе [22] против пана Гонсевского рука об руку ходили. А тут он глаза кровью налил, вот-вот саблей полоснет. Макнул я тогда витень [23] в костер, на котором станичная каша варилась, и давай огнем от Авдюшки отмахиваться. У него разом шапка на голове вспыхнула. Он и завертелся, огонь вокруг себя разметывая. Те, что за ним следом бежали, на миг отхлынули. Тут атаман Андрей Просовецкий подоспел, свару кое-как унял, а мне велел от гнева казацкого подальше убираться. Будто я после этого сам остался бы с ними… У служилых казаков, что в Диком поле от крымских и прочих татар оборону держат, порядок, выручка, совесть, а тут сброд какой-то. Не зря седьмочисленные бояре, зовя другие города от Заруцкого отложиться, писали в своих грамотах к земцам, де сборные казаки хуже жидов: сами своих казнят и ругают, дворян, детей боярских, гостей и лучших торговых людей грабежом позорят и вперед русское государство хотят по рукам пустить… Все вроде душою за Русь горят, а душа-то у всех разная. И повадка у каждого своя. Между ратными и посадскими людьми совета никакого нет. Чистая вольница. Посмотреть со стороны, вроде большое ополчение под Москвой собралось, а изнутри поглядеть: шито оно гнилыми нитками. Вот и разбегаются людишки. А для меня эти нитки тогда порвались, когда я огнем Авдюшку Мыло запалил. Не знаю, жив ли он теперь или нет. На боевом деле бьешь неприятеля без оглядки. А Авдюшку жалко. Свой же…
Стоило Кириле имя Авдюшки Мыла вслух произнести, встал у него перед глазами калечный, что безмолвно шел за ним от Ростова, а на подходе к Борисо-Глебскому монастырю вдруг перекрестил его и исчез. Ростом и телосложением они с Мылом схожи, а в лицо бедолаге Кирила старался не глядеть — уж очень тряпки на его головке отталкивающе смотрелись.
«А вдруг это Авдюшка был? — сбился со слова Кирила. — Если так, он меня простил. А я — его…»
Иринарх между тем доплел лапоть и, подставив его под блуждающий свет из оконца, стал придирчиво осматривать свое рукоделие. Значит, и Кириле пора свою исповедь заканчивать.
Чувствуя, что пересохший от волнения язык вот-вот перестанет слушаться его, он всхлипнул:
— Ныне, отче, я не живу, а прозябаю. Родительским наставлениям не следую. Сам себя за это презирать стал. Мечусь, как птица в заклепе.
— Это у тебя до поры до времени, чадо. У лебедей ведь птенцы вовсе не белы. Белыми они после становятся, когда чистое от нечистого в себе отделят. Так и тебе предстоит сделать.
— Я стараюсь. Так ведь не получается. Будто кто-то меня под руку подбивает. Одно и осталось — в чернецы от мира, как ты, уйти.
— Рано тебе о старчестве думать, сыне мой, — не одобрил такое его намерение Иринарх. — Ибо долга своего ты еще не исполнил.
— О каком долге ты говоришь, блаженный?
— Отечеству в трудную годину послужить, вот о каком. Выше него лишь долг перед Господом нашим Создателем, ибо он о нас не токмо на небеси, но и в миру печется. Насилие греха не воспрещено разрушать насилием добрых стремлений. Они в тебе первенствуют, чадо, но теснимы грехами. Отрешись от них, но сбереги стремление очистить родимую землю от иноверных хватателей и разорителей. Вот тебе малый крест, вот тебе лаптишки на дорогу. Ступай в Ярославль. Стань под хоругви нижегородского подвига. Остальное тебе само откроется.
Кирила потрясенно принял бесценные дары и в порыве чувств припал губами сначала к одной, потом к другой руке старца. Они были сухие и холодные, как железо оковцев.
Утирая внезапно брызнувшие слезы, Кирила достал из дорожной сумы медные листы для церковных изделий и подал Иринарху с поклоном.
— А это тебе ответно, отче!
— Сам догадался или кто подсказал, в чем нужду имею?
— Брат Иванец из Троицкой обители, — признался Кирила. — Он твой великий почитатель. Это он мне внушил, что покаяние — второе рождение от Бога.
— Истинно так, — подтвердил Иринарх. — Убежище всякого зла мучениями совести разрушается. Теперь же иди и помни: я дал тебе себя послушать. Однако все, что ты здесь сказал, не токмо я, но и Господь слышал. Перед ним тебе и ответ держать.
— Иду, отче! А ты многолетствуй! Очень тебя прошу. Твои цветущие седины всем нужны…
Выйдя из затвора, Кирила еще долго слышал голос Иринарха. Ветхий годами ключарь предложил ему переночевать в келье покаянников, содержащихся в монастыре, но Кирила отказался. Его ждал Ярославль.
Голова к месту
За три версты до Ярославля Кирилу догнал полуконный-полупеший обоз. Не дожидаясь, пока он вытеснит его на обочину, Кирила сошел с дороги и, присев на поросшую малосильной травой кочку, стал ждать, когда эта череда седоков, возов и ходцев проволочится мимо. Над нею сеялось пронизанное солнечными лучами облако пыли, и лишь возглавляющие обоз всадники не купались в нем. В облике одного из них Кириле почудилось что-то знакомое.
«Ба, да это Мирон Вельяминов-Зернов, — не то удивился, не то обрадовался он. — Значит, и Мирон решил сменить ополчение».
После горькой до слез гибели Прокопия Ляпунова Вельяминов оказался одним из тех немногих поместных дворян, что остались в осадном лагере под Москвой. Его ополченцы наглухо заперли поляков и их кремлевских приспешников у Тверских ворот Белого города. Кириле не раз случалось бывать в расположении отряда Вельяминова. Там всегда царили порядок и согласие. Воинской хваткой Бог Мирона не обидел, силой и храбростью тоже, а что до прежней его службы на лжеименитого Тушинского царика, так за нее жители Владимира, где он прежде воеводствовал, чуть не до смерти его камнями побили, приговаривая: «Вот враг Московского государства!». Следы тех побоев изуродовали лицо Вельяминова, но не совесть. Служба под началом Ляпунова это хорошо показала. Вот и теперь он не куда-нибудь спешит — в Ярославль.
«А кто это рядом с Мироном пригарцовывает? — закрылся ладонью от солнца Кирила. — Никак Исак Погожий?.. Ну, точно!».
Стольник из Углича Исак Погожий — тоже из ляпуновцев. Он стерег неприятеля на Трубной площади у Покровских ворот и тоже показал себя умелым предводителем и расчетливым храбрецом. Видом и повадками — чистый русак, хоть и наречен при крещении Исаком.
Когда всадники поравнялись с Кирилой, Вельяминов скользнул по нему отсутствующим взглядом, зато Погожий сходу поворотил своего рыжего впрожелть жеребца на кочковатое обочье.
— Мир по дороге, Кирила Нечаевич! — поприветствовал он его сверху. Каким случаем здесь?
— И тебе здравствовать, Исак Семенович! — радуясь встрече, откликнулся Кирила. — Случай у нас, похоже, один. В Ярославль иду — под хоругви нижегородцев.
— А в лапти почто обрядился? Или похолопствовать по случаю решил? Так по тебе издали видать, что ты по чину не ниже сына боярского будешь.
— Если думаешь, что я ряжусь, то зря! Эти лапти Иринарх сплел и дал мне в дорогу до Ярославля.
— Вон оно как, — смешался Погожий. — А мне не давал, хоть я из Углича к Борису и Глебу не единожды наезживал и у него в затворе бывал.
— А ты в другой раз в обитель пеше пойди, — посоветовал Кирила. — С покаянием. В Святом Писании сказано, что Бога один кающийся грешник больше радует, нежели девяносто девять праведников.
— Ты-то сам в чем покаялся?
— Во всем, что избыть хотел. Бог меня слышал. Коли хочешь, у него спроси.
Мимо прогромыхала пушка, поставленная на четыре высоких колеса. За ней другая. Дальше на возах громоздились пушечные ядра и рогожные кули с порохом. Вперемешку с боевыми холопами Вельяминова и Погожего шли казаки и добровольные ополченцы. У кого топор за поясом, у кого самодельная пика, а у кого и рогатина. От копья она отличается тем, что венчает ее не острое жало, а двулезый нож шириной в две ладони.
— Вишь, какая у нас сила? — горделиво подбоченился Погожий. — С такой Пожарский нас без слов к себе примет. Да уже, считай, и принял. Мирон-то Вельяминов в Ярославле поперед нашего был, его тогда в Совет всей земли и записали. Но он сразу под Москву воротился — за своими людьми. Тут и мы с братом Дмитрием к нему пристали. Жаль, у тебя своих людей нет. Ну да не беда. Пошли с нами! Пожарский нас с Мироном в Ярославле ждет, а обоз велел отвести в его подгородный стан на берегу Пахны. Вот и решай быстрее!
— Пеший конному не товарищ, — усмехнулся Кирила. — Да и не получится быстрей. Мне сперва переобуться надо.
— Это правильно! — одобрил его Погожий. — На лаптях не написано, кто их сплел… Переобувайся пока, а я тебе тотчас коня пришлю, — и, крутанув своего каурого жеребца, затрусил в голову обоза.
Проводив его взглядом, Кирила развязал оборы на портяных подвертках, внакрест идущих вниз от колен, и бережно снял их вместе с лаптями. В мирное время даже самый завалящий мужик без лицевых подверток, напущенных для нарядности на исподние, из дома не выйдет. Это примерно то же самое, что вместо полотенца заношенной онучей утереться. Но в сполошное время, когда вокруг стон и разор, деревенским и дорожным людям не до таких мелочей. Потому-то до предместий Ярославля Кирила в одних портянищах, не привлекая к себе внимания, и дошагал. А в большом городе, набитом не только посадскими, черными, но и чиновными, торговыми и прочими избыточными людьми, даже в смутную пору человека привыкли по одежке встречать. Так зачем же лишний раз привлекать к себе внимание?
Кирила проворно надел сапоги и стал ждать обещанного коня.
Обоз замыкали возы с кладями, укрытыми парусиной, и с десяток серых от пыли пешцев. Сразу и не поймешь, казаки это или стрельцы, так в их одежде и в оружии все перепутано. Одни с саблями, другие, с ручными пищалями через плечо, третьи с копьями.
Вот и они прошагали.
Кирила двинулся было следом, но тут из облака удушливой пыли вынырнул на своем жеребце Исак Погожий. В поводу он вел коня с мешаной шерстью. Махом вскочив на него, Кирила стал обгонять обозников по придорожной луговине.
Мирон Вельяминов встретил его кривой улыбкой:
— А мне баяли, будто ты опять к себе в Сибирию подался, в Томской город, подальше от наших дел. Выходит, брешут?
— Выходит, так, Мирон Андреевич. Хоть я от Сибири и не отказываюсь.
— И правильно делаешь! Ну как человеку на свете без заповедного уголка обретаться? У меня тоже свой есть. И у Исака…
Нравом Вельяминов добродушен и безвреден, на язык прям и бесхитростен, но его иссеченное глубокими рубцами лицо так перекошено, что кажется, будто он зло кривляется, не произносит, а выплевывает слова.
Вскоре обоз разделился. Большая его часть с грузами и пушками под началом Дмитрия Погожего двинулась в подгородный стан Пожарского, а Вельяминов и Погожий-старший с Кирилой и небольшим отрядцем устремились в Ярославль — на встречу с предводителями нижегородского ополчения. Так и въехали через ров и воротную башню в посад, уходящий вдоль берега широкой Которосли к Волге. На стрелке меж реками возвышался облицованный белым камнем Ярославльский кремль. Он был едва виден сквозь череду дымов, которые курились повсюду — на улицах, за оградами жилецких, складских, кузнечных и прочих дворов, среди невзрачных скученных построек, на их задворках. Дымы шибали в нос горелым навозом.
— Фу ты, пакость какая! — скосоротился Вельяминов. — Что за душнота?
— Не слыхал, что ли? — удивился Исак Погожий. — Моровая язва [24] тут погуляла. Хорошо, хоть мертвяков на дороге не видать.
— Так ее же вроде избыли?
— Выходит, не всю.
На одном из крестцов [25] плотницкая артель ставила бревенчатый сруб с причудливым кровельным изгибом.
— Эй, ребяты! — окликнул мужиков Погожий. — Чего лепите?
Один из плотников, помолчав для порядка, ответил:
— Спаса Обыденного, мил человек. Во избавление от моровой язвы.
— Уж не князь ли Пожарский вас надоумил?
— Он самый! Когда мы крестным-то ходом городовые стены вместе с ним обошли, он и велел церкву Спаса Обыденного здесь срубить. Штоб мор назад не воротился.
— И много схоронили?
— Я не считал, но кубыть много.
— Будя языком зря чесать, — осек плотника пожилой древодел, по всему видать, артельный старшак. — Или дела другого нет? А вы езжайте себе, добрые люди, езжайте.
— Ну, бывайте тогда! — попрощался Исак Погожий.
— Ангела-Хранителя и вам…
С Пожарским они встретились не в кремлевских палатах, как ожидал Кирила, а на земском дворе неподалеку от задымленного посадского торга, и не сразу по прибытии, а лишь после того, как он с заморским гостем перебеседовал.
Не зная, что там за гость, Вельяминов хотел было в съезжую избу без очереди войти, но стремянной Пожарского, Семен Хвалов, молодой, дюжий, расторопный рязанец, ему дорогу заступил:
— Не можно, воевода! У князя теперь важный разговор. Просил не мешать.
— И кто у него там такой важный? — скосоротился Вельяминов.
— Вроде как посольский австрияк, — ответил Хвалов и, помолчав, добавил: — Из персидских земель едучи и к нам припожаловал. Значит, не мал, коли по всему свету ездиит.
— Не мал, говоришь? — хмыкнул Вельяминов. — А какова при нем позадица [26]?
— Ежели ты про его людей спрашиваешь, так вон они — у колымаги дожидаются. Их он здесь оставил, а сам — один в избу вошел.
Вельяминов глянул через плечо и, увидев возле крытой коляски двух иноземцев в лакейских шляпах, рассмеялся:
— Это не люди, а людишки, служилый! Проще говоря, холопы! Таких в позадицу не берут. Вот и смекай, что к чему. Может, у Пожарского и австрияк ныне, но не посольский.
— А кто же тогда?
— По-моему, так сверчок запечный. Ко мне во Владимир такие не раз наезживали — сплетню государскую продать либо двор в городе поклянчить. Руки у них на чужое завсегда чешутся. Истинных-то послов в кремле принимать положено, большим числом. Как думаешь?
— Можно и в кремле, — согласился Хвалов. — Только в нем князь мало бывает. Там все больше бояре со стольными дворянами толкутся. А наш любит, чтоб попроще — среди людей. Все приказы почитай на посаде разместил — к Минычу поближе…
Пока он говорил, за его спиной отворилась дверь и на крыльцо выступил неласково поминаемый Вельяминовым австрияк. Он был одет в коротайку из серого бархата, треугольную шляпу и высокие сапоги со шпорами. Из-под шляпы свисали длинные маслянистые волосья. Клинышком торчала черная бородка и кошачьи усы. Постояв, важно направился к коляске.
— Чучело огородное! — буркнул ему вслед Вельяминов.
Обернувшись, австрияк смерил его презрительным взглядом:
— Твое чучело тоже надокучело, — и, довольный своим знанием русского языка, победно двинулся дальше.
— Ах ты, вражина! — побагровел Вельяминов. — Да как ты смеешь?! На воеводу…
Но тут на крыльце появился примиритель. Лет этак тридцати пяти, довольно высокий, плечистый, в нарядном становом кафтане без ворота. Кирила сразу понял: это Пожарский.
— А вот и Мирон Андреевич! — изобразив на скуластом синеглазом лице не то радость, не то удивление, воскликнул князь Дмитрий. — Тебе и всем, кто прибыл с тобой, желаю здравствовать! Входите, рассказывайте!
Пришлось Вельяминову отложить свой гнев до другого раза. Однако в съезжей избе, грузно опустившись на лавку у стола и усадив рядом Погожего и Кирилу, он дал волю своим чувствам:
— Ныне, куда ни плюнь, либо лях, либо литвин, либо немчура ржавая, а с ними венгры, шведы с финнами и прочая саранча залетная. Всем дай! Терпежу нет! Совсем уже по миру Русь пустили. А тут какой-то австрияк чучелом меня обзывает. Ты его каверзу, должно быть, слыхал?
— Допустим, — не стал отказываться Пожарский. — Но сдается мне, Мирон Андреевич, что с тебя самого все и началось. А коли так, то лучше не жалуйся. Что до русской погибели, то и она не от одних иноземцев пошла. Сами себе беду накликали. Изнутри. Ты уж не серчай на меня на прямом слове, но главная русская кровь под хоругвями русских лжецарей пролилась. Мало среди нас тех, кто за нее не в ответе. И хватит на этом!
— Да я только спросить хотел, что от тебя австрияку надо, — смешался Вельяминов. — Или это тайна какая? Так тут все свои. Исака Погожего ты знаешь. А это Кирила Нечаев, сын большого сибирского дьяка Нечая Федорова. Раньше он при Заруцком был, но еще допреж нашего от него отстал. А ныне его к тебе сам Иринарх направил. И мы с Исаком за него поручаемся.
Пока Вельяминов говорил, Кирила чувствовал на себе изучающий взгляд не только Пожарского, но и лет на десять его постарше человека в кафтане простого покроя, с отложным воротом и длинными рукавами. Роста он среднего, худ, широкоплеч, на вид добродушен. Держится незаметно, в сторонке, но по тому, как порою переглядывается с ним князь, не трудно догадаться, что и он здесь немалую власть имеет. Судя по всему, это Кузьма Минин, казначей ополчения, выборный всею землею человек. Больше некому. Ополченцы между собой по-свойски называют его Минычем.
— Ну, коли так любопытство разбирает, скажу, — решился Пожарский. — Австрийский дом и его император Рудольф, видя досады и грубости, которые нам Речь Посполитая да крымцы, а теперь и союзные шведы чинят, готовы помочь Русии из Смуты выйти.
— Это каким же образом? — насторожился Вельяминов.
— А ты сам догадайся!
— Денег под заемное письмо дать да наймитов со всего света насобирать. Так, что ли?
— Хитрее, Мирон Андреевич. Хитрее!
— Тогда и не знаю, — пожал плечами Вельяминов.
— Дозволь мне сказать, Дмитрий Михайлович? — подал голос Кирила.
— Говори!
— Скорее всего речь возле брата австрийского императора, арцы-князя [27] Максимилиана крутилась. Де не лучше ли он в русских царях будет, чем польский королевич Владислав или шведский принц Карлус-Филипп…
— Охо-хо-хо! Ха-ха-ха! В русских царях… — взорвался утробным смехом Вельяминов. — Придет же в голову такое…
Все его тучное тело так и заколыхалось, а короткие ноги под лавкой задергались, зашаркали о пол.
— Не тот ли это Максимилиан, что при царе Борисе хотел его дочь Ксению за себя взять, а заодно с ней Русию с Польшей в придачу? — отсмеявшись, прохрипел он.
— Тот самый! — подтвердил Кирила. — Ну и что?
— А то, что пердун он и больше никто! Что было, то сплыло и назад не воротится. Нынче нам принцы и королевичи не в диковинку. Натерпелись от них дальше некуда. Своего чаем! Так я говорю, Дмитрий Михалыч?
— Так, — с трудом сдерживая улыбку, кивнул Пожарский.
— Старый-то Карла шведский нынче помер. Теперь на его место Густав сел, вроде как двоюродный брат польского короля Жигимонта. Тут уж я вконец запутался, кто мимо кого на русский трон лезет: Густав мимо ихнего принца Карла-Филиппа или Жигимонт мимо королевича Владислава, этого выблядка польского? До первой грозы лягушки всегда молчат, а ныне уж больно расквакались.
— С лягушками сейчас недосуг разбираться. Но Федоров верно сказал, — дождавшись, когда Вельяминов уймется, деловито продолжил Пожарский. — Посланник Рудольфа Грегори нам тут с Кузьмой Минычем имянно Максимилиана расписывал.
— Гляди ты! — смущенно икнул Вельяминов. — Бывает, что и вошь кашляет, а кукушка гнездо вьет… И что же ты этому Гре… Гришке ответил?
— Ровным счетом ничего. Походили вокруг да около. С посланцами ведь как говорить приходится? Коли он спроста, и я спроста. Коли он с хитрости, и я с хитрости. Будто на тонком льду… Придется письмо Рудольфу всем советом писать. Без него Грегори уезжать отказывается. А мне ни к чему, чтобы он здесь соглядатаем был.
— Вот и задай письмо для Совета Кириле Нечаевичу составить. Он ведь по письменной части ого-го-го!
— Да и в деле не плох, — поддержал Вельяминова Исак Погожий. — Рука у него твердая.
Пожарский невольно глянул на правую руку Кирилы. На ней не хватало двух пальцев.
Заметив этот взгляд, Погожий поспешил объяснить:
— Для письма он перстянку надевает, а саблю и так крепко держит.
— Сперва доложите, какие при вас силы и припасы, — повернул разговор в другую сторону Пожарский. — А после все остальное обсудим. Мы и так не с того начали.
В его голосе появились строгость и начальственность.
Будто зов полковой трубы услышав, воеводы тотчас подобрались и по очереди стали отчет перед князем держать.
Слушая их, Кирила сравнивал рожденного людской молвой и собственным воображением Пожарского с человеком, который был сейчас перед ним, и, странное дело, не ощущал большой разницы. Тот и другой нравились ему. Этот — за простоту и внутреннюю силу, исходящую от него, тот — за мужество и решительность.
Впервые имя Пожарского, прозванного Хромым, громко рядом с именем мятежного дворянина Прокопия Ляпунова прозвучало. Случилось это полтора года назад, вскоре после того, как брат Ляпунова, Захарий, князья Иван Засекин, Василий Тюфякин и Федор Мерин-Волконский, встав во главе разъяренной толпы, насильно постригли в монахи царя Василия Шуйского. Место Шуйского тотчас заняли седьмочисленные бояре. А месяц спустя крещеный татарин Петр Урусов, начальник стражи Тушинского вора, прирезал своего повелителя на псовой охоте. Вот и развязались руки у сторонников, а тем более у противников самозваных Лжедмитриев, за спиной которых поналезли на Русь ляхи, литва и их наемники. Это они навязали ей заочно в цари польского королевича Владислава, который и до сей поры отсиживается в Кракове, не желая креститься, как было договорено, в правосланую веру. А тут еще новый приступ Смоленска, более года терпящего жестокую осаду королевского войска. Три раза поляки вламывались в горящий город, но, слава богу, безуспешно.
Терпению русских людей пришел конец. Первым против захватчиков, опекаемых двоедушной Семибоярщиной, поднялся рязанский воевода, предводитель тамошнего дворянства Прокопий Ляпунов. «Из державцев земли нашей, — возопил он, — бояре стали ее губителями, променяли свое государское прирождение на худое рабское служение врагу!». В ответ московские бояре заодно с ляхами устроили на него охоту и чуть было не схватили в собственном поместье на реке Проне. Но Ляпунову удалось выскользнуть у них из-под носа и укрыться за деревянными стенами Пронска. Сидя в осаде, он изловчился отправить окрест призывы о помощи.
От Пронска до Заразска [28], где в ту пору воеводствовал Пожарский, сто десять верст. Но именно он вместе с коломенцами первым подоспел на помощь осажденным. Отогнав запорожских казаков и боярско-польских вояк, Пожарский доставил Ляпунова в Переяславль-Рязанский. Там их силы на время объединились.
Вдохновленный примером патриарха Гермогена, рязанский архиепископ при небывалом стечении народа благословил воевод на подвиг изгнания из русских земель богохульной латыни, которая эту землю псует и позорит. По сути дела именно там, в Переяславле-Рязанском, и родилось первое народное ополчение. Оно помнило слова князя Пожарского, еще при Шуйском разошедшиеся в народе: «Ныне ни царя Василья, ни вора, ни королевича не слушать, а стоять за государство!».
Из Рязани Пожарский поспешил к себе в Заразск — собирать в поход земских людей, но приспешник седьмочисленных бояр воевода Сумбулов в отместку за свое поражение на реке Проне решил погромить спасителя Ляпунова в его воеводстве на реке Остер. Крадучись последовав за ним, он ночью проломил шаткую острожную стену деревянного посада и без труда захватил его. Однако на рассвете, не дав преследователям упиться радостью легкой победы, Пожарский с горожанами нагрянул на них из-за белокаменных стен Кремля и, ведомый чудотворной иконой Николы Заразского, обратил их в беспорядочное бегство. Во время той вылазки князь был ранен. Это и выбило его на время из седла.
Вслед за Переяславлем-Рязанским и Заразском восстали против польских и московских богоотступников Муром, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир. Смена власти там учинилась мирным путем. Зато за Коломну пришлось биться с ожесточением. После этого и потекли в ополчение отряды из Тулы, Калуги, Серпухова, Каширы и других городов. А три месяца спустя, на день святой мученицы Дарии [29], когда солнце враз обломало грязно-синий лед у прорубей, взбунтовался московский люд.
Началось все с потасовки у Водяных ворот Китай-города. Напуганные приближением земского ополчения, глава временного боярского правительства Федор Мстиславский и польский наместник Александр Гонсевский велели снять с других укреплений и установить на стенах Кремля и Китай-города пушки. Наемники кликнули себе на подхват торговых извозчиков, а когда те в ответ им дулю показали, стали сечь непослушников саблями, палить по ним из мушкетов… Ах, так?! Извозчики взялись за кнуты, булыжники, оглобли. Ну-ка поглядим, кто кого?!
Схватка переросла в побоище. Оно перекинулось в Белый и Земляной город. А там мужики в набат ударили. Пришла пора отважиться на смерть или согласиться на позорную жизнь под сапогом иноземцев.
И надо же было такому случиться: не раньше и не позже, а именно в ночь на Дарию-прорубницу в Москву князь Пожарский, воевода Иван Бутурлин и казачий голова Иван Колтовский подоспели, чтобы изнутри сопротивление ляхам в царь-граде возглавить. В Белом городе они разъехались, договорившись о дальнейших действиях.
Пожарский к себе на Сретенку отправился. Там у него усадьба — под боком у Варсонофьевского монастыря. Удобнее места для намеченной цели и придумать трудно. Тем более что усадьба на ту пору пустовала. Свое семейство Пожарский давным-давно в Суздальский уезд в родовое имение Волосынино-Мугреево отправил, подальше от московских и заразских треволнений. А семейство у князя немалое — матушка Мария Федоровна, жена Прасковья, сыновья-погодки Петр и Федор, меньшой Васютка и три дочери — Ксения, Анастасия и Елена.
Пожарский тут же собрал посадских старост, стрелецких голов, начальных людей Пушечного двора, что на Трубной площади, и велел им скликать отчизников. Война — так война! На ней домашним тазом не прикроешься, столовой ложкой не побойцуешь. Нужно войско, нужно стрельное оружие, нужен военный порядок.
Ополчение Пожарского стремительно росло и вооружалось, а он его тут же разбивал на отряды и расставлял по местам от Сретенских до Тверских ворот. Всего за день под его начало стеклось до трех тысяч добровольников.
Еще два многочисленных отряда собрали Бутурлин и Колтовский. Они заняли Замоскворечье и линию от Покровских до Яузских ворот. Прокопий Ляпунов прислал им подкрепление.
Каждая слобода в те дни стала очагом сопротивления.
Не раздумывая, примкнул тогда к восставшим и Кирила. И сразу услышал имя Дмитрия Пожарского. Оно передавалось из уст в уста. Очевидцы с восторгом рассказывали, как на переходе от Кузнецкого Моста к Лубянке Пожарский остановил бронированную немецкую пехоту и, рассеяв ее пушечными ядрами, погнал к Китай-городу, словно стадо баранов. Доблестные мушкетеры бежали, теряя по пути шлемы, алебарды, тяжелые мушкеты. На подмогу им вынеслись из Кремля польские рыцари. К панцирю каждого сзади прицеплены два крыла, чтобы всадники походили на архангелов, нагрянувших с небес. Но крылья им не помогли. Удальцы Пожарского выдергивали крылатых конников из седел крюками, били жердями, подстреливали из пищалей, крушили топорами. А пушкарей тем временем князь отправил к Яузским воротам на Кулишки, чтобы неприятель не ударил оттуда. Немало наемников он тогда побил и поранил. Остальные едва ноги назад, за кремлевские стены, унесли. Будто втоптали их туда небесные силы.
После того победного боя Пожарский велел своим ополченцам срубить на Сретенке у Введенской церкви боевой острожек. Такие же укрепления по его совету поставили у наплавного моста напротив Кремля и на Кулишках Иван Колтовский и Иван Бутурлин.
На следующий день в сопровождении других седьмочисленных бояр на переговоры к восставшим выехал главный польский потатчик кравчий Федор Мстиславский. Он стал уверять их, что ни сам, ни его соправители, ни король польский Сигизмунд и его доверенные люди не хотят нового кровопролития и обещают наказать виновных за то, что уже свершилось. Но для этого надо не медля сложить оружие.
Тем временем наемники, выскользнув из Кремля, напали на защитников Чертольских ворот, подожгли Стрелецкую слободу, церковь Ильи Пророка, Зачатьевский монастырь за Алексеевской башней Белого города и посад у Земляного вала, а затем устремились в Замоскворечье. Поджигатели появлялись то здесь, то там. Их побивали в одном месте, но они появлялись в другом. А огонь делал свое дело. Он гнал по улицам обезумевшие толпы, мешая ополченцам бить врага.
Дольше других продержался острожек на Сретенке. Вместе с другими его защитниками в дыму неостановимого пожарища пал тогда Дмитрий Пожарский. Слух об этой горькой потере разнесся далеко вокруг. Со слов очевидцев, князь получил смертельное ранение в голову, а тело его верные люди вывезли на подводе вместе с другими павшими в одну из загородных скудельниц [30]. Однако позже на этот слух наложился другой. Будто бы Пожарский жив: его старцы Троице-Сергиева монастыря, считай, с того света вынули, выходили и к семье в Волосынино-Мугреево набираться сил отправили. Но князь по-прежнему плох: черной немочью [31] страдает и вряд ли теперь сможет к ратному делу вернуться.
В то время и случилась у Кирилы душевная распутица. Вдруг все ему безразлично стало, тягостно, раздражающе. Он жил, а будто и не жил, видел, но не узнавал, слышал, но не придавал услышанному значения. Вот и весть о нижегородском ополчении во главе с Пожарским лишь коснулась его сознания, царапнув мыслью: не поднять болезному князю такое громадное дело, не довести до конца…
И вот теперь, сидя в съезжей избе на ярославском посаде, Кирила невольно искал в облике и поведении Пожарского признаки падучей болезни. Рубцы на голове князя если и остались, то под шапкой русых волос их не видать. Затылок или всю голову в отличие от бояр и большинства думных и поместных дворян он не бреет, предпочитает стричься. Взгляд цепкий, внимательный. Лоб высокий, крутой. Но красавцем Пожарского не назовешь. Лицо у него скорее мужицкое, нежели княжеское. Глаза глубоко посажены. Нос крупноват, чуть клюваст. Губы широкие, но верхняя тоньше нижней. Голос глухой, но приятный.
Что до прозвища Хромой, то оно приклеилось к нему еще в те годы, когда в жарком бою с крымскими татарами Пожарский был ранен в ногу, но не покинул поля боя, пока возглавляемые им стрельцы не обратили степняков в бегство. Пять лет службы на западной границе закалили его духовно и телесно. Затем столь же стойко и решительно Пожарский громил вторгшихся на Русь поляков и воровских тушинцев. Со временем его хромота стала малозаметной, а прозвище приобрело почтительный оттенок. Хромой — значит заслуженный, бывалый, показавший себя в бою…
Спасибо Иринарху, что направил Кирилу в Ярославль. Имени Пожарского старец не назвал, но оно и без слов сказалось. Вот человек, не искавший боярской шапки у самозваных лжецарей, не запачкавший себя дружбой с коварно поналезшими в Москву иноземцами, не перевертень, не мздоимец, не горлопан, а честный воин, отчизник, семьянин. Подобных ему среди нынешней знати по пальцам сосчитать можно. Да такого богатыря никакая немочь не возьмет, а если и возьмет, он ее силой духа превозможет…
В переднем углу съезжей избы по бревенчатой стене приразвернута малиновая хоругвь князя Пожарского. С нее взирал изображенный до пояса Господь Вседержитель. В левой руке он держал раскрытое Евангелие, а правой благословлял присутствующих.
Вглядевшись в мелкие буковки, Кирила наконец понял, что Новый Завет раскрыт на словах от Матфея: «Приидите, благословенны Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». А края хоругви украшали тропарь и кодак Всемилостивому Спасу: «С вышних призираяй и убогия приемляй, посети нас озлобленные грехи, Владыко Всемилостиве; молитвами Богородицы даруй душам нашим Велию милость».
«Любопытно бы взглянуть, что изображено на исподней стороне хоругви», — думал Кирила.
Размышления эти не мешали ему следить за сообщениями Вельяминова и Погожего, за тем, как Пожарский выхватывает из них главное, прозорливо оценивает, а вопросы устройства, жалованья и кормления новоприбывших переводит на Кузьму Минина. Сразу видно, что они все делают в товарищах, понимая друг друга с полуслова.
Минин, по слухам, тоже человек бойцовского склада. Еще до того, как его стараниями собралось нижегородское ополчение, Кузьма дрался с изменниками у села Козино в Ворсме и в Павлове-на-Оке под началом воевод Андрея Алябьева и Бориса Репнина, а во время московского восстания заодно с горожанами — у Покровского собора на Рву, на Лубянке и Сретенке, считай, рядом с усадьбой Пожарских. Но в ту пору они с князем друг друга еще лично не знали. Именно он убедил нижегородцев поставить во челе ополчения князя Пожарского, сказав о нем: «Сей муж душою прям, в измене не замечен. Такой нам и нужен»…
— Исполать [32] вам, други! — подвел итог услышанному Пожарский. — Ныне вы не просто свои отряды в общую копилку кладете, нынче вы в нее свои души кладете. Теперь она у нас с вами одна! Так не отступайте же от нее ни на шаг!
Не успели воеводы от таких слов плечи развернуть, головы вскинуть, глазами заполыхать, Пожарский вновь заговорил деловым голосом:
— Посему мой вам наказ: праздно на Пахне не сидеть, а учить новичков ратному делу. Так следует учить, чтобы пот градом сыпался! Да и старым служакам не грех с ними по-возиться. Я днями у вас побываю, на месте всю изготовку проверю. А теперь ступайте! Мы с Федоровым сами побеседуем.
Дождавшись, когда шаги воевод на крыльце затихнут, Пожарский и Минин обратили ожидающие взоры на Кирилу.
Пришлось ему заново о себе рассказывать.
На этот раз он старался быть по-военному краток. Лишь историю с убиением Прокопия Ляпунова изложил в подробностях, да и то затем, чтобы Пожарский знал, кто на самом деле виноват в его смерти. Пан Гонсевский, вот кто!
— Это как же тебя надо понимать? — так и впился в него едким взглядом Пожарский. — Ивана Заруцкого выгораживаешь? Выходит, еще не отрешился от него?
— Отрешился! — с трудом выдержал этот враз потемневший взгляд Кирила. — Но ложь умолчания все равно остается ложью. Лишние грехи мне ни к чему, — голос его невольно задрожал. — Уж не обессудь, князь!
— А скажи-ка, мил человек, — миролюбиво вопросил Кузьма Минин, — про ложь умолчания ты сам додумался, али за кем другим повторил?
— За батюшкой Нечаем Федоровичем.
— Ну, это повтор хороший. А теперь расскажи, как ты попал к Иринарху…
Были и другие вопросы — об отце, о Сибири, о тамошней службе, о том, каким образом Кирила связан с Авраамием Палицыным. В конце концов Пожарский и Минин решили: быть ему для начала вторым дьяком Казанского приказа при Совете всей земли. Дьячит в нем Евдокимов Афанасий, сын Жданов, человек дельный, опытный, хорошо знающий положение дел в казанских и мещерских краях, но за сибирским столом никогда прежде не сидевший. Вот пусть Кирила за этот стол и сядет. Не место к голове идет, а голова к месту.
Заручательство
Приказная изба стояла на посадском торгу, который с наступлением обеденного часа стремительно опустел. Рублена она в два верха. На первом разместились столы Поместного приказа и Большого прихода, на второй вели две крутые лестницы: одна — на половину Новгородской, Устюжской и Соли-Галицкой четвертей, другая — в палату Казанского и Разрядного приказов.
Афанасий Евдокимов оказался невысоким дородным человеком лет сорока — сорока пяти. Его стол занимал лучшее место — у окна на лицевой стороне избы. Окно, несмотря на удушливые дымы, было распахнуто настежь, поэтому Кирила и Евдокимов заметили друг друга, еще когда Кирила шагал через обезлюдевшую площадь.
— Можешь не добрыдничать, — едва глянув на вошедшего, досадливо махнул рукой Евдокимов. — Лучше говори, с чем пришел.
В палате стояло еще пять столов. На одном из них валялся засохший листик березы, на другом белела плошка с почти выгоревшей до конца тонкой церковной свечкой, на двух дальних поблескивали крытые зеленой глазурью каламари, пятый и вовсе был пуст. Похоже на то, что сидельцев в приказе явная нехватка.
Так оно и оказалось. Узнав, что Кирила не проситель, каких немало к нему захаживает, а новый дьяк, присланный ему в товарищи князем Пожарским и Козьмой Мининым, Евдокимов заметно оживился.
— Ну наконец-то! — поскреб он указательным пальцем плешь, увенчанную прядью рассыпающихся в разные стороны белесых волосинок. — Один, вишь, сижу аки перст. Ни подьячего, ни повытчиков, два писца всего, да и тех больше на побегушках держать приходится.
— Куда же остальные подевались? — спросил Кирила, а сам мысленно ругнулся: «Да закрой же ты окно, Евдокимов! Дышать нечем».
— А вот сам и посчитай. Ивашку Безуха я в казанские уезды для денежных сборов отправил. Дозорщики вернулись и говорят: нет больше Ивашки. Как так?! А его, оказывается, ляхи по пути перехватили. Он им сдерзил. Так они его за это к первым же воротам заживо прибили. А какой человек был! Мухи не обидит… Следом Финака Штинников от моровой язвы преставился. Ну, это болезнь. От нее кому как повезет. А третьего дня Герася Кутьина не стало. Будто бы он с городской стены ненароком сверзся. Но я-то думаю, столкнули его оттуда, чтоб в делах не мешался.
— Кто столкнул?
— В том-то и дело, что никто толком не видел. Но по-моему, люди Ивана Биркина. Один из них, Горячка Похабов, как раз перед тем смертной погибелью Герасю грозился. Видать, Герась ему крепко на хвост наступил. Одного в толк не могу взять: что его вдруг на стену понесло…
— Не тот ли это Биркин, что родом из Рязани и Прокопию Ляпунову свояком доводится?
— Он самый! Чтоб ему пусто было! — Евдокимов хотел сказать что-то еще, но, спохватившись, осек себя и отворотился к окну.
— Чего замолк? Продолжай, коли начал. Можешь не опасаться: мне Биркин — никто, так что ни одно слово за эти стены не выйдет.
— Ну ежели так, пожалуй что, и скажу. Очень мне этот Биркин своими нападками досадил. Хочет, чтобы его не ниже князя Пожарского ставили. А сам ну чистый сосуд сатаны! Это я уже не свои слова говорю, это я за Козьмой Минычем повторяю.
Не усидев на месте, Евдокимов подхватился и, заложив руки за спину, стал ходить по палате: пять шагов в одну сторону, пять в другую. Потом вдруг закрыл окно и сел на лавку рядом с Кирилой.
— Значит, так, — хлопнул он его по колену, — Козьма Миныч, как и я, уверен, что это по наущению Биркина, а не сам Герась со стены упал. А Пожарский подтверждений требует. Но тут и без подтверждений ясно. Надо только Горячку Похабова в оборот взять. На допросе он все подчистую и выложит. Нет, что ли?
— Я тут человек новый, — уклонился от прямого ответа Кирила. — Ты лучше про сосуд сатаны разъясни. Что Минин в виду имел-то?
— А то и имел, что Биркин, как зараза ходячая, сперва от Шуйского к Тушинскому вору и назад к Шуйскому бегал, в Арзамасе воеводой был, потом к Прокопию Ляпунову пристал. Тот его в Нижний Новгород за подкреплением послал, а Биркин сам себе на уме. В стряпчие ухитрился влезть. Дрянной человечишка, ненадежный. По чужим спинам наверх привык карабкаться. Это он Козьму Миныча чуть не на смех поднял, когда тому трижды один и тот же вещий сон был, будто святой Сергий Радонежский к нему явился и приказал возбудить всех отчизников на ополчение. Теперь-то все знают, что так оно и было, а на ту пору Биркин многим умы смутил. Ладно бы тем дело и кончилось, так нет же. Когда Пожарский ополчение на себя принял, надо было в Казань верного человека послать, чтобы он и там силы подсобрал. Несмотря на предупреждение Минина князь именно Биркина туда и послал. А что из этого вышло? — Когда Биркин свое войско в Ярославль привел, голова татарской сотни Лукьян Мясной на военном совете прямо заявил: Биркин-де по пути показал себя в городах и уездах не лучше ляхов — корма силой брал, расправы несогласным чинил, служилых татар обижал. С того, вишь, свара и затеялась. Биркин от обвинений Мясного отмахнулся, стал требовать, чтобы его в товарищи к князю Пожарскому поставили — и никак не меньше. Но тут, слава богу, Боярская дума во главе с нынешним воеводой Василием Морозовым его на место поставила: сколько войска собрал, тем и начальствуй! Вот Биркин и бесится. Грозился своих людей прочь увести. Козьма Миныч говорит: «Пусть уводит. Не очистясь от сора людского, к Москве нельзя выступать». А Пожарский медлит. Будто ему одной смерти мало. Будто не видит, с кем другая может приключиться.
«Это он за свою жизнь опасается, — понял Кирила. — Как знать? Может, и впрямь беду чует, а может, пустыми страхами терзается. Ведь ничего явного против Биркина и Похабова у него нет. Одни догадки».
— Ну, а мне-то в таком разе как быть? — ища у Кирилы сочувствия, впился в него взглядом Евдокимов. — Самому, что ли, Горячке Похабову шею свернуть или, может, тебя на помощь позвать?
— Зови! — ответно тронул его колено Кирила. — Но сперва осмотреться дай, с делами познакомь, устрой с дороги.
— Ах, да! — спохватился Евдокимов. — Извиняй на слове, — и, пересев к свому столу, заговорил подчеркнуто сухо: — Приказные все больше на дворе у купца Никитникова жительствуют. И Козьма Миныч с нами, понеже все приказы в первую голову ему подчиняются. Место чистое. Моровая язва — тьфу! тьфу! — к нему не пристала. А свободная лавка для спанья для тебя завсегда найдется. Выбирай любую. Можешь хоть сейчас отправляться. Скажешься от кого, тебя разом накормят, напоят и постелют. А у меня, вишь, дел не меряно, — для наглядности Евдокимов поворошил стопку бумаг на приказных книгах.
— Да ты не обижайся, Афанасий Жданович, — поспешил исправить положение Кирила. — Мне не к спеху.
Он вдруг почувствовал, как одиноко должно быть в осиротевшей палате Евдокимову, потерявшему сразу трех подьячих. Сможет ли Кирила заменить их? Сумеет ли помочь в трудную минуту? Не потянет ли его отсюда в подгородный стан под начало Мирона Вельяминова или Исака Погожего? Ведь страстотерпец Иринарх Кирилу не по теплым купеческим дворам отсиживаться послал, а на переднюю линию. Только где она сейчас эта линия? По каким приметам ее узнать?
— Давай, что ли, к делам перейдем, Афанасий Жданович, — примирительно предложил Кирила. — Мне сказано, что я сибирским столом займусь.
— Э-э-э-э… — снова поскреб белесую плешь Евдокимов. — Можно и перейти… Прежде Сибирью у нас Финака Штинников занимался. Вон его стол — где свечка. Там, вишь, в углу и сибирская коробка поставлена. Но я тебе сразу скажу: смотреть в ней особо нечего. В Ярославле мы долго стоять не собирались, а до Сибири — не ближний свет. Для нас она ныне, как журавель в небе. Вроде бы курлычит где-то, а не видать и не дотянуться, хоть ты три сибирских стола заведи. Грамоты, конечное дело, шлем. Это само собой. Но отписок на них пока раз-два и обчелся. Да и те выжидательные. Правда, сейчас присылка от соликамских Строгановых должна быть. Дают они нам под заемное письмо четыре тыщи рублев и другой всякой помощи по мелочи. А расходы-то у нас вон какие! Тут хоть бы с ближних волостей вклады и повинности на срочные нужды собрать.
— Но ведь собираете!
— Если бы не Козьма Миныч, не знаю, что и было бы. Умеет он до людей достучаться. Тут много купцов из Москвы и других городов набежало. Всем свои нажитки от разбоев охота уберечь. Ищут, где им лихолетье пересидеть. Миныч им и растолковал: кто частью своих богатств, не скупясь, с ополчением поделится, тот все остальное под его защитой в целости сохранит. Иначе ведь все потерять можно… Просто и понятно, да?
— Понятней некуда!
— Правда, поначалу неувязки были. Того же Никитникова с Лыткиным взять. Стали они божиться: наши-де приказчики все, что можно было, сполна дали. Не гоже-де брать больше того, что имеется. Да и не в праве… Тут мне Козьма Миныч мигнул: «Доставай, Афанасий, вкладочную книгу да зачти, что там писано!». Я зачел. А там сущие крохи. Стал Миныч богатых гостей вежливо совестить, а они, вишь, не совестятся. Пришлось к ним строгость применить. Кликнул Козьма стрельцов: «Ведите скаредников под ружьем в воеводскую избу!». Те и повели. А у Пожарского как раз выборный земской люд собрался. При них Миныч вины Никитникова и Лыткина огласил, а за вранье потребовал их разом всего имущества лишить. С ним, коли что, шутки плохи! Пожарский Козьму, ясное дело, поддержал. Выборные люди тоже. Куда после этого нашим толстосумам деваться? Пали они на колени, в содеянном покаялись. Теперь оба Минину первые помощники и хлебосольцы. Следом еще четыре ярославских да три московских купца враз раскошелились. На том покуда и живем. Да соловецких старцев к солидной сумме удалось склонить. Правда, им руку Пожарского [33] подавай, понеже Миныч для них чином мал. Однако сговорились. А это другим монастырям наилучший пример… Что до меня, то я с Биркиным никак разобраться не могу. Он из Казани одну казну явил, а я от верных людей знаю, что есть у него и другая, поболе первой. По словам Лукьяна Мясного, Биркин проездом еще много чего именем ополчения нахватал. Где все это? — Прячет двоедушник!
— Ну так надо концы к запрятанному найти, — высказал свое соображение Кирила. — Это же не иголка в стоге сена. Это казна!
— Вот! — обрадовался его заинтересованности Евдокимов. — Я Герася по следу и пустил. А из этого вишь, что вышло?.. Но ниточка у меня все же есть. Шепнул мне по случаю торговый человечишка, что за пять сот ефимков один из ближних людей Биркина готов схоронное место указать. Сама-де казна многожды больше. Но сперва он от нас заручательство за печатями Пожарского и Козьмы Миныча требует, да не на свое прямое имя, а на предъявителя. Сразу видать, опытный заушник. Я тотчас к Минычу: так, мол, и так. А он мне и говорит: «Нам, Афанасий, выбирать не из чего. Будут ему от нас от обоих печати. А что делать, ежели и возле святого места черти водятся?»
— Постой, постой, — перебил его Кирила. — Разве у них не едина печать на двоих?
— А как иначе? — удивился его вопросу Евдокимов. — Каждый свое дело делает. Зачем Пожарскому в казенные дела лезть, а Минину в ратные? Не зря этот умник казенной печати больше домогается, нежели княжеской. Вот они! Сам посмотри! — достав из стопки бумаг нужный лист, он протянул его Кириле.
Это было то самое заручательство на предъявителя, о котором только что говорил Евдокимов. Его скрепляли большая и малая печати. На большой красовались два рыкающих льва. В передних лапах они держали щит с изображением ворона, клюющего вражескую голову. А под щитом валялся поверженный дракон. Все это многозначное изображение было обведено круговой надписью: «Стольник и воевода и князь Дмитрий Михайлович Пожарково Стародубсково».
— На место львов лучше бы медведей поставить, — осторожно высказался Кирила. — Слышал я, будто бы еще великий князь Ярослав тут в единоборстве медведя одолел и на месте их схватки город во свое имя поделал. Ярославль. Вроде быль-небыль, а не худо бы ее вспомнить.
— Тут львы неспроста взялись, не думай, — заступился за Пожарского Евдокимов. — Самозванцы-то, вишь, под двуглавого орла царевать лепятся, а он им вперетык не то что медведей, львов придумал. Шибать, так шибать, чтоб всем народам понятно было!
— Пожалуй, что и так, — согласился Кирила и переключил внимание на печать «выборного всею землею человека Козьмы Минина Сухорукого». На ней был изображен древнегреческий богатырь в легкой одежде через плечо. Он восседал на просторном стуле с подлокотниками. В правой руке богатырь держал чашу. У ног его стоял остроконечный кувшин. Надо думать, чаша и кувшин олицетворяли изобилие и сохранность, дающие человеку силу и уверенность.
— Это тоже придумка князя? — спросил Кирила, возвращая Евдокимову заручательство.
— Само собой… Теперь эту бумагу надо обменять на писульку, в которой место утаенной от земского совета казны будет указано.
— Ну и в чем загвоздка?
— Биркин, вишь, своим станом держится. Он его вверх по Которосли разбил. На правом берегу. А татар Лукьяна Мясного и других несогласников на левый берег отправил. Опытный вражина. Хорошо стережется и людей своих в Ярославль, кроме Горячки Похабова да еще двух-трех таких же, не выпускает. Мне ехать туда не с руки. Я для Биркина вроде как меченый. А кого другого послать? Ближних подручников у меня всех повыбило. Тут у любого голова набекрень скрутится. Может, ты на свежий ум подскажешь? Хотя откуда? Ты у нас человек новый и не сильно понятный.
— Вот поэтому меня и пошли! — загорелся Кирила. — Не пожалеешь!
— Та-а-а-к, — будто впервые увидев его, оценивающе оглядел Кирилу Евдокимов. — А что? Ежели тебя приумыть да приодеть, вид вполне подходящий будет. И за словом в карман не лезешь… Думаем дальше. Ну вот, скажем, приехал ты к Биркину сам по себе, как второй дьяк, для знакомства. Хоть он и терпеть наш приказ не может, а встретить тебя и поговорить обязан. Так? — Так! Уже хорошо…
Тут Евдокимов умолк, задумался. Его круглое лицо с прямой, как лопата, бородой и тонким длинным носом порозовело. От переносицы на лоб полезли едва заметные морщинки. Не задерживаясь там, они переместились на плешь и, достигнув пучка белесых волос, стремительно скатились к жиденьким бровям.
— Ну а что толку? — очнувшись, выстрелил в Кирилу небольшими серо-зелеными глазами Евдокимов. — Поговорить с тобой Биркин, конечное дело, поговорит, но ведь ни на шаг от себя не отпустит. Я его волчьи повадки знаю! Не-е-ет, одному тебе к Биркину ехать не резон. Для отвода глаз тебе, вишь, сопроводитель нужен, да не какой-нибудь, а такой, чтобы с Биркиным сумел сладить. К примеру, воеводский дьяк Семейка Самсонов. Уж он-то сумеет на себя внимание взять. Говорун, каких мало. При нем тебя не видно, не слышно будет.
Евдокимов снова умолк, потом решительно подытожил:
— Пускаться наудачу — дело ненадежное. Однако и выбирать не из чего. Раз ты такой смелый, давай попробуем. Нынче же я попрошу Козьму Миныча под любым предлогом Самсонова в стан к казанцам направить. И тебя заодно с ним. Может, и получится укоротитить Биркина.
— А как же я этого предъявителя узнаю? — почувствовал охотничий вспыл Кирила.
— Ты его — по синей повязке на левой руке, он тебя — по красному рубчатому кафтану с козырем [34] и по сапогам из зеленой юфти [35] с круглыми нашвами на каждом голенище. Когда надо, он сам к тебе подойдет. Ну и обменяетесь подрукавными листами. Он тебе писульку с указанием, где спрятана казна, передаст, ты ему — заручательство.
— Не много ли ухищрений для такого случая? — усмехнулся Кирила. — Красный кафтан, зеленая юфть, круглые нашвы… Что я ему — скоморох-потешник? И где это взять так вот вдруг?
— Где надо, там и возьмем, — успокоил его Евдокимов. — Об этом пусть у тебя голова не болит. Ради казны и потешником побыть не зазорно. Главное, что ты сам на дело вызвался, без подсказки, — и вдруг заулыбался: — Так как, говоришь, тебя прозывают?
— До сих пор Кирилой звали.
— А величают?
— Сын Нечаев Федоров.
— Ну вот и сладились, Кирила Нечаевич. Вовремя ты в Ярославль явился. Будем теперь вместе кашу хлебать.
— Скорей бы!
— Как вскипит, так и поспеет, — заверил его Евдокимов, в очередной раз трогая пальцем плешь. — Ты мне лучше скажи: имеешь ли ты отношение к сибирскому дьяку Нечаю Федорову? Или это только совпадение имен?
— Сын я его. А что?
— Да нет, ничего. Просто Господь тебе дал от хорошего корня пойти, а мне под началом твоего батюшки уму-разуму поучиться…
В это время в дверях палаты появился безбородый человек в долгополом суконнике. Заметив его, Евдокимов переменился в голосе.
— Это Сенютка Оплеухин, писец наш, — и махнул рукой Оплеухину: — Ну, чего стал? Давай сюда бумаги. Всех ли обошел?
— Всех! — выложил тот перед ним стопку листов.
— Вот и ладно. Оставь! Я после погляжу. А сейчас сопроводи Кирилу Нечаевича на жилой двор. Он, вишь, теперь у нас в приказе второй дьяк. Уразумел?.. Заодно у сапожника и кафтанника побываете. Пусть они с него мерки снимут. Коли в запасе подходящих одевок нет, придется шить заново. Он скажет, какие. Так-де Козьма Миныч распорядился. К завтрему штоб все готово было! Ну и, конечное дело, баньку обеспечь, бельишко чистое, покойчик наилучший. Сам видишь, человек с дороги.
— Нашу баньку долго растоплять, — живо откликнулся Сенютка. — А у Лыткина как раз в новой торговой бане помывочный день. Может, к нему Кирилу Нечаевича сводить?
— Своди! — разрешил Евдокимов. — Только скажи банщику, чтобы он ему лавку и таз уксусом протер и пропустил отдельно от купчишек. Береженого Бог бережет, — и пояснил Кириле: — Двор Лыткина через дорогу от Никитникова стоит. Авось не заразишься.
— Вот за это благодарствую! — обрадовался Кирила. — Мне лишь бы до баньки добраться. Век не банился.
— Тогда ступайте. Да постарайтесь к ужину управиться. Время есть…
В столовую избу Оплеухин Кирилу к концу трапезы привел, когда прислужники стали уносить в приспешную грязную посуду.
Изба была разделена на две половины. В одной стоял обеденный стол для приказного начальства, в другой — для едоков из писчей братии.
Еще с порога Кирила окинул собравшихся цепким изучающим взглядом и, натыкаясь на знакомые лица, занял место рядом с Афанасием Евдокимовым.
С другой стороны стола приветливо улыбнулся ему сивый морщинистый Савва Романчуков, служивший прежде дьяком Московского Денежного двора. Знакомство у них шапочное, но ничем не замаранное. Зато сделал вид, что не заметил нового послужильца Андрей Иванов, вскормленник отца Кирилы Нечая Федоровича. При Борисе Годунове Иванов был подьячим приказа Казанского и Мещерского двора и в домашнем кругу Федоровых звался просто Андрюшкой. А в царствование Самозванца Отрепьева, когда отец в опалу попал, сразу поднялся во вторые дьяки не только своего, но и Посольского приказа. И вот теперь — на тебе! — в одном из приказов князя Пожарского сидит. Про таких говорят: живет, как намыленный.
Но больше всего Кирилу поразило присутствие за трапезным столом бывшего кремлевского дьяка Семена Сыдавного-Васильева. Нешто князю Пожарскому и Козьме Минину не ведомо, с кем они дело имеют? Подлый изменник! Это благодаря ему и таким, как он враждотворцам и пресмыкателям, великое московское посольство, прибывшее осенью сто девятнадцатого года [36] под осажденный польским королем Сигизмундом Смоленск рассыпалось, как карточный домик, а потом и вовсе под замок в Мариенбургской крепости попало. Сыдавный-Васильев во челе этого посольства рядом с такими именитыми людьми, как князь Василий Голицын и митрополит Филарет Романов, по воле случая оказался. А посланы они были к Сигизмунду на царство королевича Владислава звать. К этому седьмочисленных бояр и их сторонников склонил коронный польский гетман Станислав Жолкевский, нагрянувший под Москву с большим войском. Однако патриарх Гермоген и другие отчизники настояли на ряде непременных условий. Первым делом Владислав должен принять православную веру греческого закона, венчаться на царство патриархом и православным духовенством, а повенчавшись, блюсти и чтить храмы, иконы и мощи святых, в церковное управление не вмешиваться, в латинство никого не совращать, католических и других храмов не строить. Кроме того — во всех делах советоваться с Боярской думой и земскими людьми, жидам в государство въезд закрыть, бояр и чиновников выбирать лишь из русских, а королю Сигизмунду осаду со Смоленска снять и не медля вывести войска в Польшу. Но Сигизмунд на это заявил: «Сперва сдайте Смоленск и присягните королевичу, а как мы по милости Божьей на нашем царском престоле будем, тогда и прочие дела урешим». Голицын и Филарет на это ответили: «Того никакими мерами учинить нельзя, чтобы в Смоленск твоих людей запустить, господарь. А коли и возьмешь ты его приступом мимо крестного целования, то мы на судьбу Божию и свою стойкость положимся, но ни на шаг от своих слов не отступимся».
Продолжали они упорствовать даже тогда, когда боярское правительство через гонцов велело им ворота непокорной крепости отворить. Более того, главные послы собрали на совет все свое посольство. На нем было принято единогласное решение: не пускать в Смоленск литву и поляков ни под каким предлогом; уж лучше навязать на себя камень и броситься в воду. Однако уже через малое время Семен Сыдавный-Васильев, думный дворянин Василий Сукин и другие разных чинов посольские люди пошли на соглашение с Сигизмундом. Пообещав уговорить москвичей и жителей других городов быть верными королевичу Владиславу и его венценосному родителю, они получили от Сигизмунда грамоты на поместья в русских землях и разъехались по своим дворам. А коварный король велел схватить и отправить в Польшу Василия Голицына, единственного из родовитых бояр, кто и впрямь достоин был царского трона, а вместе с ним митрополита Филарета. Это ли не прямая измена государскому и земскому делу?
Но хуже всего, что одновременно с дьяком Сыдавным-Васильевым был пожалован Сигизмундом и отъехал к Москве еще один именитый посол — келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, бывший дотоле для Кирилы образцом святости и прямодушия. После он в свое оправдание ссылался на то, что действовал исключительно к пользе обители, терзаемой противостоянием вер и народов. Но как тогда объяснить неожиданное сближение Палицына с Сыдавным-Васильевым после их возвращения в Москву?
В первый раз Кирила увидел Сыдавного-Васильева в Богоявленском монастыре на Никольской улице в Китай-городе, где во время осады Троице-Сергиевой обители жил ее келарь. При Кириле они беседовали как-то странно, намеками, будто их связывало нечто, ведомое им одним. А может, так оно и было… Но ежели Палицыну его воспитанник не судия, то Сыдавного-Васильева Кирила с тех пор невзлюбил вдвое, переложив на него горечь и обиду за временную слабость своего наставника…
— Знакомьтесь! — представил собравшимся нового сотрапезника Козьма Минин. — Кирила Федоров, сын Нечаев. С сего дня будет в товарищах у Афанасия Евдокимова. Так что прошу любить и жаловать! — и стал перечислять своих послужильцев: — По правую руку от меня Патрикей Насонов и Семен Сыдавный. Это дьяки Большого прихода. Дальше Андрей Иванов и Савва Романчуков, дьяки Новгородскей чети и Денежного двора. За ними разрядный и воеводский дьяки — Андрей Вареев и Семейка Самсонов. Ну а после дьяки Земского двора Афанасий Царевский и Дорога Хвицкий. Запоминай крепче, Кирила Нечаев… А по левую руку, стало быть, — Николай Новокшонов, поместный дьяк, вы с Афанасием Евдокимовым, дьяки Владимирской и Устюжской четей Григорий и Александр Витовтовы, да Герасим Мартемьянов из Соли-Галицкой, да посольский дьяк Петр Третьяков.
«Тушинский делец, — мысленно досказал за него Кирила. — Ну и этот не лучше Сыдавного».
Минин сидел во главе стола. В одной руке он держал чашу для питья, другую грел на медной посудине, до горлышка обернутой полотенцем. В таких посудинах принято подавать горячий сбитень на меду с травами, лавровым листом и стручковым перцем. Значит, он предпочитает запивать кушанья не ягодным квасом, не хмельным медом, а целебным переваром.
— А теперь, Семейка, продолжай, что начал, — посчитав знакомство законченным, переключил всеобщее внимание на дородного рыжеволосого дьяка Минин. — О какой это панье ты хотел нам соврать?
— Ни боже мой, Козьма Миныч. О вранье забудь! — сощурил тот хитроватые, полупринакрытые тяжелыми веками глаза. — Побаска — всякому уму подсказка, хучь житейская, хучь балагурная, хучь богатырская, хучь докучливая. Вот тебе, к примеру, какую желательно послушать?
— Да уж лучше житейскую.
— Правильно! — одобрительно крякнул Семейка. — Времена переходчивы, а злыдни-то общие. Живешь — не оглянешься, помрешь — не спохватишься…
«Так вот он каков, Семейка Самсонов, — исподтишка разглядывал его Кирила. — Тоже через подмосковные таборы прошел. Наслышан о нем, хоть и вижу впервой».
Тем временем прислужник поставил перед ним блюдо с жареной на рожнах курятиной, а к ней чашку с гречневой кашей.
Кирила с утра ничего не ел. Однако у него хватило выдержки сначала испить хлебного кваса, не спеша отпробовать каши и лишь затем приняться за курятину. Это не мешало ему присматриваться к другим приказным и внимательно слушать Семейку.
— Однажды на Руси шум сделался, — играя голосом, начал тот. — Откуда ни возьмись, нагрянул на нее некий Бородавочник, спихнул с трона прежнего царя и сам на него непристойно влез, а царицкой польскую девку панью Маринку сделал. Ни вида у нее, ни совести, ни зада, ни переда, зато гонору, что красных соплей у курыли [37]. Вот и стали они в четыре руки да в четыре ноги бесов крутить, народ баламутить. Со всего света проходимцев в государство, как вшей, понапускали. Те отродясь бани не знали, зато в шляпах надменничают и при оружии. И столько вокруг воров и бездушников вдруг наплодилось, что всколыбался честной люд, стал срамить этого самого Бородавочника: «Кто ты такой, сукин сын? Откуда взялся? Таких, как ты, царей у нас дома на конюшне хватает!» Стукнули его, осердясь, грякнули — и нет больше Бородавочника. До того сердечные раззадорились, что тут же вытряхнули его из царских одежд и стручком вверх на главной площади бросили, чтобы, значит, другим неповадно было на Русь зявиться. А панья Маринка под лавку с перепугу забилась. Сидит там, зубами клацает, смертушки своей неминучей ждет…
Намеки Семейки всем понятны. Бородавочник — это, ясное дело, Лжедмитрий Гришка Отрепьев. На переносице у правого глаза имел он весьма заметную бородавку. А панья Маринка — дочь польского магната Юрия Мнишека. Преуспев в расхищении королевской казны, решил он и царскую казну к рукам прибрать. Вот и породнился с Отрепьевым.
Кириле любопытно стало: куда Семейка свою побаску вывернет?
— В старину как говорили? — многозначительно помолчав, продолжил свою быль-небыль тот. — Доброго чти, а злого не жалей! Но с паньей Маринкой по-другому вышло. Сослали ее в Ярославль щи хлебать, да не за обыденный стол, как у нас, а прямиком в воеводские палаты, на шелка и бархаты. Такое наказание ей вышло: на всем готовом в неге сидеть, два года в чисто небо поплевывать, ждать, когда другой лиходей из навозной кучи вылезет. Ждала, ждала да и дождалась! Он к ней: объяви-де, что я и есть воскресший из мертвых Бородавочник, а проще сказать, Кощей Бессмертный. От него дурным духом шибает, а ничего не поделаешь. Сколько собаке ни хватать, а сытой не бывать. Так и панья Маринка. Стала она и с этим злыднем народ дурить, слезами людскими умываться, полотенцем с золотой каймой утираться. Вот и пошла молва: не оттого ли в Ярославле моровая язва сделалась, что панья Маринка к Тушинскому вору в постелю прыгнула? С Кощеями у нас сущая беда, а с Кощеихами и того плоше. Нынче эта польская девка нового лешака к себе в постелю заманила. Хочется ей, чтобы он ее мальчонку, в Тушине невесть от кого прижитого, в цари-царевичи толкал.
— Это ты про Ивана Заруцкого, что ли, баишь? — высказал догадку Дорога Хвицкий.
— Это я про первого и, дай бог, последнего атамана-боярина речь веду, — невозмутимо поправил его Семейка. — А как того казачину на самом деле звать-величать, про то тебе лучше ведомо. Знаю только, что из-за этой пройдохи паньи Маринки он свою законную жонку в монастырь затворил, сына к ее двору в Коломне приставил, а сам с нею в блуде без зазора живет. Совсем с ума сбился путаник. И других сбивает.
— Ну и в чем соль твоей побаски? — подал голос Петр Третьяков.
— Этого я и сам покуда не знаю, — всхохотнув, откровенно признался Семейка. — Но поскольку мы в Ярославле обретаемся, мне про панью Кощеиху и подумалось. А так или нет, уж не обессудьте.
— Ну все! — подал голос Кузьма Минин и веско добавил: — Посидели и будя!
Перекрестясь, он первым встал из-за стола. За ним начали подниматься остальные. Кирила отложил в сторону ложку, тоже готовясь присоединиться к ним, но тут Минин опустил ему на плечи руки, как припечатал:
— Сиди! Человек из еды живет. Без нее у тебя подушка в головах вертеться будет, — а Евдокимова попросил: — И ты с ним посиди, Афанасий. Вдвоем веселее застолье коротать.
Внимание Минина приятно Кириле.
«А руки у него веские, — отметил про себя он. — Такие камень в творог сомнут. Какой же он после этого Сухорук? Скорей Твердорук…».
— Ну и как тебе россказни Семейки понравились? — поинтересовался у Кирилы Евдокимов, когда они остались одни.
— Почему россказни? — возразил Кирила. — Очень даже складные былички. Со своим поворотом, с новым взглядом.
— Что же в них нового, скажи на милость?
— Никому до Семейки не пришло в голову самозваных лжецарей с Кощеями Бессмертными сравнивать, а он сравнил. Ну а чем Марина Мнишек не Кощеиха?
— Пожалуй, что и так, — легко согласился Евдокимов. — А мне, вишь, показалось, что ты в мыслях далеко отсюда унесся, так далеко, что ложкой в тарелку попасть не можешь. Или ошибаюсь?
— Да нет, Афанасий Жданович, врать не буду. Увидел я тут Семена Сыдавного и глазам своим не поверил: как такого земля носит?
— Это почему же? Объясни! — потребовал Евдокимов.
Пришлось Кириле напомнить ему историю со Смоленским посольством. Выслушав ее, Евдокимов вздохнул:
— Вот что значит подлая Смута. Она души нетвердые наскрозь перепахала — кому меньше, кому больше. Трудно сейчас безгрешных найти, ой трудно! С неба, вишь, они к нам не свалятся. Вот и приходится князю и Козьме Минычу с теми дело иметь, кто о совести вспомнил и прежние свои измены делом решил искупить. Так что ты на Сыдавныго волком-то не смотри. По мне так он не хуже других за этим столом будет. И дело свое доподлинно знает… Да ты ешь, ешь, пока жаренка совсем не остыла.
— И то верно, — снова взялся за ложку Кирила и поспешил переменить тему: — Ты вот лучше скажи, почто Минина Сухоруком кличут?
— По родовому прозвищу, Нечаич. Один из его дедов сухоруким был, от него, видать, оно дальше и пошло. А ежели Козьму Миныча или кого из его пяти братовьев взять, так им скорей Микулами Селяниновичами зваться впору.
— А я слыхал, будто Минин вроде и не крестьянского роду.
— Ты меня слушай. Из самого что ни на есть крестьянского! Отец-то его, Мина Анкудинов, в Балахну из-за Волги пришел, из деревни Сорвачево, что на реке Чуди. Солеваром он уже в Балахонском Усолье стал, свои соляные промыслы там завел, состоятельным человеком сделался. И детей новому рукомеслу обучил, а оно, вишь, слабых не любит. Паи от своих соляных труб Мина старшим сыновьям расписал — Федору с Иваном. Вот и пришлось Козьме на стезю мясной торговли стать, а это тоже дело нелегкое. На ней он и развернулся, в земские старосты вышел, не только друзей, но и врагов заимел. Коли услышишь, что кто-то его мясником или говядарем назвал, знай, что это либо супротивник ему, либо мелкий завистник. Да и сам в разговоре случайно не прошибись. Он, вишь, к этому чуткий.
— Спасибо, что предупредил. Постараюсь не спотыкаться…
От сытой и обильной пищи, от выпавших на него за день переживаний да еще после бани с веничком Кирила до того осоловел, что вскоре перестал понимать собеседника.
— В сон меня что-то поклонило, — едва ворочая языком, признался он. — Мне бы вздремнуть чуток, Афанасий Жданович.
— Да и я притомился ныне, — поддержал его Евдокимов. — Оба, чай, с ранья на ногах, — и, проводив Кирилу до покойчика, отведенного ему в подклети теремного дома купца Никитникова, сердечно пожелал: — Ляг, опочинься, ни о чем не кручинься! Завтра тебя большие дела ждут.
Укоротить Биркина
Разбудила Кирилу утренняя звезда. Она мерцала в слюдяном окошке, будто золотая рыбка в серебряных струях. Казалось, протяни руки, и она заплещется у тебя в ладонях.
Кирила улыбнулся звезде и долго лежал, радуясь чистоте своего тела и той необычной легкости, которую оно успело забыть, а теперь наконец-то вспомнило. Не удивился, увидев на лавке у двери красный рубчатый кафтан с козырем, а под лавкой сапоги из зеленой юфти с круглыми нашвами. Мысленно похвалил Евдокимова и Сенютку Оплеухина, а больше того — Козьму Минина. Ведь это он так приказную службу поставил, что теперь она и сама срочные дела его именем распорядительно решает.
Одеваясь, Кирила обнаружил вкладыш в левом рукаве кафтана. Он был вдет в три петли по шву. Ну, конечно, это то самое заручательство, которое показывал ему вчера Евдокимов. Оно было накручено на тонкий гибкий стержень и упрятано в чехол из вощеной материйки. Вынуть и вернуть его на место труда не составило.
Вот и за утренней трапезой Минин зря время не терял. Каждого из приказных послужильцев он своим поручением озадачил, а воеводскому дьяку Семейке Самсонову и Кириле сразу после завтрака велел к князю Пожарскому явиться.
— Дошло до меня, — обращаясь главным образом к Семейке Самсонову, объяснил им в воеводской избе Пожарский, — что дьяк Никанор Шульгин и его сват Амфилохий Рыбушкин, что нынче в Казани дела правят, решили, не мешкав, отозвать Ивана Биркина с войском восвояси. Не пристало-де главному городу Понизовья и его ставленникам быть в нашем ополчении меньше Нижнего Новгорода и его начальных людей, то бишь меньше нас с Кузьмой Минычем. А Биркин только этого и ждет. Как бы мы ни старались, раскола с отступниками все равно не избежать. Давеча я у него в стане был, теперь пусть он в Ярославль на переговоры явится. Расходиться пристало с миром, по согласию всех сторон. Так ему и скажи! Все дворяне и мурзы, кои решат остаться при нас со своими отрядами, должны иметь от него выход беспрепятственный. В обиду мы никого не дадим. Про обиду особо подчеркни. Ты это умеешь! В споры не вступай. Твое дело — показать, что мы к любым его выходкам готовы. Хоть он и первого десятка человек, да не первой сотни. А закончи тем, что посредником у нас будет владыка Кирилл. Ныне он по зову всей земли в митрополиты ростовские и ярославские с покоя из Троицкой обители вернулся, дабы губительные междоусобия гасить. О том же мы просим казанского митрополита Ефрема.
— Выходит, ты меня, княже, только со словесными разговорами к Биркину посылаешь? — дослушав Пожарского, заволновался Самсонов. — А не мало ли будет? Биркин изворотлив, аки Змей Горыныч. Скажет одно, а перевернет на другое. Давай я ему грамоту для пущей важности от тебя настрочу. На грамоту ответ положен.
— Твоя правда, Семейка. Жаль, время не терпит. Ведь тотчас надо!
— Я мигом, Дмитрий Михайлович. За час и управлюсь.
— Ну ежели за час, то готовь! Кирила Федоров тебе поможет. Мы с Кузьмой Минычем его в сопутники тебе даем. Он теперь дьяк Казанского приказа. Вот и пусть в казанские дела вникает.
Клетушка Самсонова располагалась тут же, за стеной палаты Пожарского. В ней умещались лишь стол, две лавки и короб, склепанный из железных листов. В таких приказные сидельцы обычно хранят ценные бумаги и казну для текущих расходов.
— Проходи. Присаживайся, — гостеприимно пропустил Кирилу вперед Самсонов. — Уговоримся так: я пишу и писанное тебе проговариваю, ты слушаешь и, ежели что не так, подправляешь. Один ум хорошо, два — лучше…
Но поправлять Кириле ничего не пришлось. Каждое слово у Семейки на редкость складно и уместно в строчку легло.
Пожарский написанное Семейкой тоже одобрил. Приложив руку к грамоте, напутствовал:
— Ну, с богом! В сопровождение возьмете конных ратников. Они уже во дворе дожидаются. Поспешайте! Как вернетесь, сразу ко мне!
У Больших посадских ворот им встретился отрядец серых от пыли всадников. Его возглавлял знакомый Кириле по московскому ополчению воевода Корнил Чеглоков, замаравший себя прежде службой королю Сигизмунду. Съехавшись, они обменялись сухим приветствием.
— Ты как здесь? — спросил Чеглоков.
— Дьячу! А ты?
— Повинную грамоту Дмитрия Трубецкого, Ивана Заруцкого и всех соборных чинов нашего Совета Пожарскому везу, а лично ему — жалованную грамоту на богатое село Вороново в Костромской губернии, коли помиримся.
— В чем Трубецкой с Заруцким каятся?
— В том, что крест Псковскому вору целовали, а теперь сыскали, что он вовсе не царевич Дмитрий, а беглый дьякон Матюшка Веревкин, служивший прежде в церкви на Яузе. С сыском в Псков ездил известный тебе Ивашка Плещеев. Он его при бегстве к Гдову и схватил. Ныне Матюшка, аки зверь на цепи, в наших таборах сидит. А я с атаманами сюда послан, чтобы всемирному союзу наших ополчений поспособствовать.
— Та-а-а-к, — вклинился в их разговор Семейка Самсонов. — От Матюшки, значит, отступились? А от Тушинского воренка, что с польской блудницей под охраной Заруцкого сидит, нет, что ли?
— А ты кто таков, чтобы спрашивать?
— Воеводский дьяк, вот кто!
— От воренка мы еще раньше отступились, — через силу выдавил из себя Чеглоков и тронул коня.
— Постой! — перегородил ему дорогу Самсонов. — Мы с Кирилой Федоровым в казанский стан следуем — к Ивану Биркину. Там небось тоже захотят сказанное тобой услышать. Сделай милость, отряди с нами одного из твоих атаманов.
— Хучь бы и меня, — выехал вперед длинноусый казачина в блескучем жупане, заломленной набекрень барашковой шапке и с серебяной серьгой в ухе. — Я з Биркиным дуже знаемый.
«Да это же Микола Перебей Нос! — узнал атамана Кирила. — С ним Биркину от нас и вовсе не отвертеться. Ай да Семейка, ай да быстроум! Не зря говорится, что на ловца и зверь бежит».
До того, как примкнуть к московскому ополчению, Микола огни и воды с мятежным Иваном Болотниковым прошел. Позже перехватывал со своей ватагой польские разъезды. На ляхов, которых запорожцы кличут псяюхами, его имя наводило ужас. Поместные дворяне старались обойти его стороной — уж очень он нравом взрывчат. Зато сирые и убогие, зная его ласку и щедрость, славили его по многим дорогам серединной Русии.
— Як ся маешь, добродию? — полюбопытствовал Микола Перебей Нос, выезжая вслед за Семейкой Самсоновым за ворота. — Чи не стужилось тебе отут без дела сидети?
— Погодить — не устать, было б потерпежное, — не замешкался с ответом Самсонов. — Не мне одному его ждать стужилось. Но ведь дождались! И до вас наконец дошло, что с поганой травы доброго сена не будет.
Четыре дюжих казака, оттеснив конных ратников, пристроились в затылок своему атаману.
— Це мои порадники [38], — ухмыльнулся он. — Бисовы дети. Умеют пиймати вовка за вухо. Ты од них спиною, а они до тебя рылом. Так я кажу, хлопцы?
— Так, батько, так, — заулыбались казаки. — Чому ни?..
Сразу за воротами в отъезжем поле начинался подгородный стан земского ополчения. Ярославская дорога поделила его на две части. Меньшая уходила вдоль стены к Волге, большая к Которосли. Туда и повернул коня Семейка Самсонов. За ним последовали остальные.
Мимо казачьих станиц, огороженных рогатинами и стенами на повозках, они вскоре добрались до временного поселения казанских ратников. Один из его караульщиков, признав в Самсонове дьяка князя Пожарского, нагло заявил:
— Приезжай завтра, державец. Иван Иваныч на время отъехал. Без него никого пускать не велено.
— Ось я покажу тебе «не велено»! — взъярился атаман Микола. — З вогнем жартуешь! Ишь надувся, як пивтора нещастя! Ану покличь пана Ивана. Скажи: Микола Перебей Нос хоче його видеть. Хоч бы там що було, зараз яви!
Возле въездных решетчатых створ стала собираться толпа зевак. Вскоре появился и сам Биркин. Против ожиданий Кирилы он оказался довольно моложавым и приглядным на вид человеком. Если бы не водянистые навыкате глаза, по-рыбьи глядевшие из-под бровей, его вполне можно было бы назвать красавцем.
— Что за шум? — притворно удивился Биркин. — Что за люди?
— А твои послужильцы говорят, будто ты в отъезде, — насмешливо глянул на него сверху вниз Самсонов.
— Для кого здесь, а для тебя, Семейка, и точно в отъезде. Говори, с чем пожаловал! Недосуг мне.
— Признал, значит. Вот и ладно. Но давай сразу договоримся: я тебе не холуй, ты мне не господин. А пожаловал я по важному делу: грамоту от князя Пожарского привез. Со мною здесь хорошо знакомый тебе атаман Микола Перебей Нос со своим делом от Трубецкого и Заруцкого. И дьяк Казанского приказа Кирила Федоров. Из седла переговоры лишь у бездельных людишек приняты. Вот и принимай нас, как положено.
— Так это ты, Микола?! — вмиг сделался радушным Биркин. — Мы с тобою, как рыба с водою, я ко дну, а ты на берег! Ха-ха-ха-ха! — и велел стражникам: — Отпирай ворота! Нынче у нас гости на хрен да на редьку — незваные, да желанные! — и предупредил Самсонова: — У себя, как хочешь, а в гостях, как велят.
— Это само собой, Иван от Ивана, — спешился Самсонов. — Но и ты вели всех своих дворян и детей боярских тот же час к себе звать. Ты ведь разговора на кругу не боишься?
— Будет тебе круг, — в сердцах пообещал Биркин. — Будет!..
Изнутри его вместительный шатер был подбит серебристым сукном, а лавки крыты зеленым бархатом. Сразу видно: человек на удобства падок.
Пока собирались на круг начальные люди казанского стана, Кирила не столько в их лица вглядывался, сколько на левую руку каждого внимание обращал. Но ни у одного из них синей повязки так и не приметил.
В пику посланцам князя Пожарского первое слово Биркин предоставил атаману Миколе Перебей Носу. Тот говорил долго, пылко, то и дело сбиваясь на обиды запорожцам от седьмочисленных бояр и крымских татар под началом Кантемир Мурзы, на междоусобицу в ополчении Трубецкого и Заруцкого, а под конец стал высмеивать Псковского вора Матюшку Веревкина и призывать к нерушимому союзу между всеми, кто ненавидит ляхов и прочих наймитов, опоганивших Русь.
Одни слушали его с каменными лицами, другие торжествующе переглядывались, третьи презрительно улыбались, четвертые возмущенно ерзали, всем своим видом показывая, что присягнувшие Матюшке и сами его не лучше: легко воровать, да тяжело отвечать; очень уж вор слезлив, а плут богомолен.
Еще большую бурю чувств вызвала грамота Пожарского. Зачитав ее, Семейка Самсонов такими прямыми и доходчивыми пояснениями ее сопроводил, что по шатру возбужденный гул прокатился. В конце концов порешили, что каждый из собравшихся волен поступать по своему разумению, не препятствуя при этом один другому, а князю Пожарскому отписать, что счет дружбы не портит.
Сей уклончивый ответ Биркин велел положить на бумагу своему писцу, все это время сидевшему у него за спиной. Тут-то Кирила и заметил, что рука казанского грамотея обвязана синей тряпицей. Так вот он где хоронился, сердечный! Ну наконец-то…
Лицо писца было похоже на головку сыра, упрятанную под гриву темных прямых волос. Нос торчал морковкой, рот затерялся в бороде. Но все это грубое месиво скрашивали по-девичьи большие голубые глаза.
— Всякое дело концом хорошо, — облегченно объявил Биркин. — Больше я никого не держу!
Однако собравшиеся в воеводском шатре не спешили расходиться. Одни окружили шумно заспорившего с Биркиным Семейку Самсонова, другие Миколу Перебей Носа, третьи, возбужденно переговариваясь, столпились у выхода. Воспользовавшись этим, Кирила прилепился к столу, на котором писец разместил свои писчие принадлежности.
— При таком-то гаме нужные слова в голову не полезут, — посочувствовал ему Кирила.
— Коли не отрывать меня попусту от дела, то и полезут, — огрызнулся тот. Затем долго чистил перо о волосья за ухом, всем своим видом показывая, что более ни о чем говорить с чужаком не намерен и вдруг бросил на край стола туго скрученную записку, да так ловко, будто она там и прежде лежала.
— Экий ты сердитый какой! — с неменьшей ловкостью смел ее со столешницы Кирила. — А с виду душа-человек, — и, оставив взамен таким же образом скрученное заручательство, усмехнулся: — Ну извиняй, коли так. Только смотри не утони в чернилах.
На их мимолетную перепалку никто из старшин и внимания не обратил. Утихшие было страсти вновь разгорелись. Однако до тех пор, пока Кирила не выехал за решетчатые створы биркинского стана, его жгло опасение: а не велит ли каверзный воевода обыскать посланников Пожарского и Минина напоследок? Уж очень легко все получилось. Как по писаному.
Нет, не велел. Вместо этого Биркин придуриваться стал:
— Скатертью дорога, добродеи! Сказал бы я вам на прощанье умное слово, да дома забыл. Так и быть, без него скачите. Придорожная пыль неба не коптит. Авось не скоро встретимся!
«Шути, шути, пока шутится, — усмехнулся Кирила. — Как бы потом своей шуткой не поперхнуться».
В Ярославль он возвращался, как на крыльях. Спешившись, первым вошел к Пожарскому, молча передал ему драгоценную записку. Говорить мешало сбившееся от волнения дыхание. Да и зачем говорить, если все, что надо, в ней сказано?
Пожарский деловито прочитал записку. Затем с чувством стиснул плечи Кирилы:
— С добрым тебя почином на новой службе, Нечаич! Так и дальше будь! В поле две воли: кому Бог поможет…
Через час в Закоторомский стан князя Андрея Сицкого ускакал отряд ратников под началом воеводы Федора Левашова. Вернулся он с семью бочонками, набитыми драгоценностями и серебряными ефимками.
А к вечеру того же дня Иван Биркин увел в Казань большую часть своего ополчения. По пути он завернул на Закоторомский стан и, не обнаружив там припрятанной казны, стал рвать на себе волосы. Потом, запытав до смерти одного из своих подъячих, отправился дальше. Звали того подъячего Худяком Черемисиным. Козьма Минин велел похоронить его по-людски — под медным крестом, какие обычно ставят родовитым дворянам.
Шведский капкан
Стоило Кириле Федорову в деле с Биркиным себя показать, как душевная распутица, много месяцев его мучившая, душевным подъемом сменилась. Для начала он решил просмотреть бумаги, которые ему от покойного Финаки Штинникова вместе с сибирской коробкой перешли. Вытряхнув их на стол, он отложил в сторону указатель пути к Печоре, Югре и реке Оби, роспись более короткой Соликамской дороги, которую проложил и обустроил посадский человек Артемий Бабинов, дорожник по пермским и вятским землям и ворох беспорядочных записей, расчетов, памятей. Внимание его привлекли грамоты начальным людям Вятки, Выми, Соли-Вычегодска, Яренска, Ваги, Устюга и некоторых других ближних к Сибири городов. Писаны они были набело, но руку к ним никто из начальных людей Совета всей земли не приложил. Стало быть, по назначению они так и не отосланы. Почему?
Кирила пробежал глазами по строчкам одной грамоты, заглянул в следующую, потом в третью, четвертую. Во всех на первом месте шло требование, не мешкав, выслать в Ярославль для ратных людей Сибири хлебный долг за несколько лет.
«Фу ты, бессмыслица какая! — фыркнул Кирила. — О каких долгах и о каких сибирских ратных людях может идти речь, если ополчение в Ярославле недавно стоит? Тут Финака явно перемудрил».
Своим недоумением Кирила с Афанасием Евдокимовым поделился.
— Не удивляйся, друже, — успокоил его тот. — Раньше Вятка, Вымь и другие некоторые города хлебными дачами для прокормления послужильцев сибирских непашенных областей и впрямь облагались. Вот Финака и решил к нашей пользе прежние обязательства повернуть. Мысль, согласись, неглупая, но очень уж задиристо изложена. Мягче бы следовало, вразумительней. А за ратных людей Сибири он принял боевых татар, чувашей и черемису, которых мурза Араслан с берегов заволжской Кокшаги привел. Кто-то ляпнул ему, де это сибирский царевич с войском, он и поверил. Но я, вишь, грамотам этим ходу не дал. Так они в коробке и лежат.
— Лучше б сжег, чтобы не мешались.
— Сжечь не хитро. А надо ли? Ты лучше в них вчитайся. Знать будешь, что до тебя было. А вдруг ловчей эти грамоты повернешь? Ум у тебя хваткий. Мой тебе совет: с чистого листа за Сибирь берись. Кроме Тоболеска и Верхотурья, больше никуда за Камень не писано. А с тех пор, вишь, два месяца прошло, третий за порог ступил. Много чего за это время поменялось. Князь Лопата-Пожарский Пошехонье от воровских казаков очистил, князь Черкасский — Антониев монастырь и Углич усмирил, воевода Наумов — Переяславль-Залесский. Теперь за нами Тверь, Суздаль, Владимир, Ростов, Кашин, Касимов, Устюжна Железопольская, Белоозеро, Поморье, Кострома, многие другие поволжские города и веси, а все это вместе — чуть не половина Руси замосковской. Еще про псковского самозванца Матюшку-Лжедмитрия отпиши. Сам знаешь что. Бездельный-де народишко, что крест ему целовал, от него-де нынче отступился и на цепь, аки пса шелудивого, посадил. Ну а дальше про Ивана Заруцкого и князюшку Трубецкого — как они на твоих глазах повинную с Чеглаковым давеча нам прислали. Про это изложи особо, решительными словами. Веры-де им нет и не будет. Черного кобеля не отмоешь добела! Ну а о новгородских делах сильно не распространяйся. Держись того, что Миныч за утренним столом сказал.
Надев на культю правой руки перстянку из рыбьей кожи с двумя накладными пальцами, он положил перед собой первый лист.
— На бою с ляхами отхватило? — глянув на преобразившуюся культю, полюбопытствовал Евдокимов.
— Было дело, — не стал опровергать его догадку Кирила.
На самом деле пальцы ему поломал ямщик Антипка Буйга. Случилось это еще в ту пору, когда Нечай Федоров, спасая сына от ищеек Сыскного приказа, отправил его в Сибирь на строительство Томского города. На переходе от Верхотурья до Туринского острога у Кирилы с Антипкой ссора вышла, ну и решили они ее руколомом решить. Раньше Кирила в таких поединках всегда победителем выходил, а тут Бог от него отступился. С тех пор и приходится ему писать в перстянке. Еще досадней расспросы, где это он пальцы потерял. Вот и нашелся ответ на все случаи жизни: было дело.
Судя по всему, ответ этот первого дьяка вполне удовлетворил. В очередной раз почесав указательным пальцем плешь, Евдокимов занялся своими делами. А Кирила вдруг в необычайное волнение пришел. Ведь грамота, которую он сейчас напишет, уйдет в Тобольск не только за рукой Пожарского и других вождей ополчения, но и за приписью Кирилы, их сибирского дьяка. Вместе с большим сибирским воеводой Иваном Катыревым прочитает ее и отец Кирилы, большой сибирский дьяк Нечай Федорович. Как он воспримет эту припись? Поймет ли, что сделана она его сыном?
Зачин у всех грамот примерно одинаков. Вот и Кирила мудрить не стал — начал, как принято, с челобития:
«По избранию всей земли московского государства всяких чинов людей у ратных и у земских дел стольник и воевода князь Пожарский в Сибирь, в Тоболеский град, большому воеводе Ивану Михайловичю Катыреву-Ростовскому в товарищах с Борисом Ивановичем Нащокиным от своего имени и от имени стоящих во челе с ним соизбранников свое почтение и терпеливое изложение дел случившихся, текущих и завтрашних для общего решения и взаимства шлет…»
Прочитанным Кирила остался доволен. Во-первых, нынешнюю титлу Дмитрия Пожарского он во всей ее пространной полноте привел, зато других членов ярославского земского Совета упомнил, как неких соизбранников, безымянно. Хотя они и мнят себя первыми, но пусть знают свое подлинное место. Во-вторых, надоело писать заученное «челом бьет». То ли дело «свое почтение шлет». Смысл тот же, но звучит более веско и ново. А как уместно сказано — «терпеливое изложение» или «для общего решения и взаимства»! Тут важны даже не сами слова, а их связь и оттенки.
Ну вот, теперь можно и к обещанному изложению перейти. Это ничего, что рука, да еще в перстянке, поначалу за мыслью не успевает. Глядишь, и разгонится. Главное, писать так, будто с отцом после долгой разлуки беседуешь. Тогда ни одна стоящая мысль не потеряется.
Кирила писал и радовался: а ведь получается! Однако, дойдя до новгородских дел, задумался. На утренней трапезе, похожей больше на заседание приказного правления, нынче присутствовал судья Монастырского приказа Степан Татищев. Он только что вернулся из Великого Новгорода, куда ездил с выборными от пятнадцати городов людьми, чтобы лично узнать у тамошнего воеводы князя Ивана Одоевского и митрополита Исидора, как складываются у них отношения со шведским наместником Якобом-Пунтусом Делагарди, но больше того — как новгородцы собираются строить их с нижегородским ополчением: дружить, враждовать или в сторону отойдут, дабы не мешать ему самому с ляхами и седьмочисленными боярами на Москве разобраться. При этом Татищев должен был убедить новгородцев, что не следует им без ведома ярославского совета затаскивать чужеземцев в свое государство, в северные и поморские города.
Дьяки засыпали его вопросами: как там на Волхове, да что, да почему? Он отвечал охотно, не обращая внимания на хмурый взгляд Кузьмы Минина. Из его ответов выходило, что ждать добра от Новгорода не приходится, потому как низы там ропщут на бесчинства шведов, а верхи, сохранившие в неприкосновенности свои земли и положение, выступают с иноземцами заодно. Но хуже всего, что шведы на время с Речью Посполитой споры из-за Ливонии отложили. Как бы это их перемирие не обернулось союзом против Русии, а Великий Новгород совсем от нее не отрезало.
— Не боись, — остудил Татищева поместный дьяк Николай Новокшонов, — Сигизмунд с Карлом терпеть друг друга не могли. И с сыном Карла Густавом то же будет. Нет больше врага, чем обиженный родич.
Трудно с ним не согласиться. Ведь Сигизмунд шведским принцем из династии Ваза был, когда родной дядя, похитив у него престол, объявил себя Карлом Девятым, великим королем Шведским, Вендейским, Финским, Лопьским, Каявским, Естенским и Лифляндским. Но и Сигизмунд, несмотря на столь неудачный для него поворот судьбы, в конце концов тоже преуспел. Ныне он не только король Речи Посполитой, но и герцог прусский, и претендент на московскую корону. Его мечта — создать империю от Балтийского моря до Черного, от ближайших европейских стран до Сибири. На пути к ней он сродного брата, короля Швеции Густава Второго, точно не пожалеет.
— Будете составлять в города грамоты, — вернул дьяков к новгородским делам Кузьма Минин, — так и напишите: Степан-де Татищев в расспросе сказал, что в Великом Новгороде от шведов православной вере никакой порухи, а христианам никакого раззорения нету. Все живут безо всякой скорби. Принц же Карлус Филипп по прошению Новгородского государства будет в Новгороде вскоре. Хочет он креститься в нашу православную веру греческого закона, чтобы по всей воле Новгородского государства людей царем стать. Верно я сказанное тобой излагаю, Степан?
Татищев растерянно промолчал.
— Стало быть, верно! — сам себе ответил Минин и, обежав взглядом враз переставших жевать приказных сидельцев, предложил: — На этом покуда и остановимся! Наши посланцы в Новгороде побывали, теперь черед новгородцев в Ярославль припожаловать. Об этом Татищев твердо с ними договорился. Зачем же нам наперед рассуждать, добро мы от этого получим или худо? Меж собой еще куда ни шло, но никак не дальше. Ведь мы люди невольные, во всем должны исходить из пользы делу. Только из нее одной! Вот я и сказал, какая польза сейчас должна быть. Союзные города, которые мы к себе для общего земского Совета приглашали и приглашать будем, должны покуда лишь то знать, что государя мы, только соединясь со всею землей, выбирать станем. А будет ли это Карлус-Филипп или кто родословный из русских кровей, время покажет. Нынче же у нас одна забота: перед тем как идти к Москве, убедиться, что в спину нам никто не ударит.
— Коли так, — заявил Татищев, — прошу писать, что это не я в расспросе о новгородских делах шведов агнцами божьими представил, а митрополит Исидор и боярин князь Одоевский. Не то меня же потом лжесвидетелем сочтут. В век не отчистишься.
— Степан у нас на правду черт! — с улыбкой глянул на него Минин. — Как скажет, будто припечатает. Мне и добавить нечего. Пишите, как он говорит! Лишь бы не во вред делу.
Прямота Татищева по нраву Кириле пришлась. Неважно, что он лет на пятнадцать старше и видом не орел, зато в рот начальству не заглядывает. И судьбы у них местами схожи. Кириле вот тоже в новгородские земли переговорщиком ездить доводилось — Иван Заруцкий его туда вместе с дьяками Прокопия Ляпунова и князя Трубецкого в январе 7119 года [39] посылал. Через посредников из новгородской знати они должны были договориться с тем же Делагарди об отправке в помощь первому ополчению шведского подкрепления. Вернувшись в подмосковные таборы, Кирила не стал черное за белое выдавать, а сказал, что думал:
— Шведы ничем не лучше поляков. Прежде всего они денег и городов требуют, а от своих обязательств горазды уклоняться. Про то многие верные люди нам сказывали, да и мы сами это поняли. С ними лучше не связываться. Попадем в капкан, как царь Василий Шуйский.
— Нам лучше знать, попадем или не попадем! — осек его тогда петушистый из себя, но не очень умный князь Дмитрий Трубецкой.
— За всех не говори! — вступился за Кирилу соперник Трубецкого по троевластью Иван Заруцкий.
Но Прокопий Ляпунов не дал искре разгореться:
— Ступай, правдолюб, — велел он Кириле. — Ты свое дело сделал. Предоставь нам решать, связываться с Делагарди или нет…
И вот теперь тот давний разговор у Кирилы в памяти всплыл.
«Неужели Минин, а стало быть, и Пожарский хоть какую-то надежду на совместные со шведами действия против ляхов питают? — подумал он. — Да нет, быть такого не может! Из слов Минина за утренним столом другое следует: не утряся отношения с Великим Новгородом, опасно двигаться дальше. Но как его указание про добротолюбие шведов в тоболескую грамоту вставить? С тем, что я уже написал, оно не вяжется. Очень уж невнятно получится. Я ведь в начале терпеливое изложение обещал, а не куцее. Придется все же и про шведский капкан упомянуть, про то, к чему Выборгский договор о военной помощи Русию привел…».
Договор этот Василий Шуйский со шведским королем Карлом IX в феврале 7117 года [40] заключил. По нему в войско царского племянника Михаила Скопина-Шуйского пять тысяч конных и пеших наемников под Великим Новгородом влились. В их числе были не только шведы, но и немцы, и франки, и англы, и шотландцы, и датчане, и еще бог весть какие народы. Перед тем, как выступить против Тушинского вора, его польских сторонников и бунтовской черни, наемники поклялись воевать лишь с прямыми недругами царя, а верные ему города и погосты [41] по пути к Москве не жечь и не грабить, крестьян в плен не брать, над иконами не святотатствовать. Однако выдержки у иноземцев лишь до Твери хватило. Там они у Скопина по сто тысяч ефимков за каждый месяц службы потребовали, а он им смог лишь половину выплатить. Они назад и повернули. Стали кричать, что московский царь кроме достойного жалованья обещал им в награду порубежную крепость Карелу с прилежащим к ней уездом дать — и не когда-нибудь, а через одиннадцать недель после их прихода в Великий Новгород. Где награда? — буйствовали они. Почему Карела ворота не открывает и своих людей с оружием и церковными образами на Русь не выводит? Ведь уже целых шестнадцать недель минуло. Чем не случай упрямцев как следует проучить?!
С того и началась необъявленная война шведов с государством Московским. Первым делом они к Кареле подступили. Хотели ее сходу взять, да не вышло. Поставленная на гранитной скале, снизу она скрытым под водой частоколом загородилась. Остров — да и только, а на нем две тысячи защитников, которым ни русский царь, ни шведский король, не указ.
Надолго шведы запнулись о Карелу. Ее защитники вконец оголодали и оцинжали, огромные потери в схватках с неприятелем понесли, но чести своей не уронили. Когда их осталось не более ста человек, решили они взорвать крепость. Узнав об этом, двадцатисемилетний шведский военачальник Якоб Делагарди, по происхождению своему француженин, дал слово, что выпустит их с миром и почетом, если они от своего намерения откажутся. Так и сталось. Ушли они в Орешек беспрепятственно — с гордо поднятыми головами.
Орешек — тоже изрядная крепость. Но взять ее Делагарди так и не удалось. Обломав об нее зубы, он отправился грабить Ижорский погост, дважды брал приступом Ладогу, но так и не взял. А возле Яма, Копорья и Гдова кружил другой шведский ястреб — Еверт Горн.
К тому времени, когда шведы к стенам Великого Новгорода подступили, многое в Московском государстве переменилось: Скопин-Шуйский, отогнавший от Москвы тушинцев, был предательски отравлен, его венценосный дядя Василий Шуйский свергнут с престола, насильно пострижен в монахи и увезен пленником в Польшу, его место заняли седьмочисленные бояре, Тушинский царик Лжедмитрий-второй был убит, восставшая Москва сожжена войском Гонсевского, новгородцы, как и жители многих других городов, поневоле принесли присягу польскому королевичу Владиславу. Они меж двух огней оказались: с одной стороны ляхи хозяйничают, с другой — шведы. А тут еще Смоленск после двадцатимесячной героической обороны пал. Как тут быть? С какой стороны избавления от неисчислимых бедствий ждать?
Пользуясь распрями в русском стане, шведы стали шептунов и перелетов в Великий Новгород засылать, щедрыми посулами его лучших людей приманывать: Новгород-де так же богат и велик, как Москва, а потому волен жить своим государством; для процветания ему следует призвать на царство одного из сыновей шведского короля Карла Девятого; принц же, который будет прислан из Стокгольма, православную веру приняв, добрым отцом Новгородскому государству станет…
Однако ждать, когда плод созреет и сам в руки упадет, шведы не стали. Делагарди решил события убыстрить — силой захватить Великий Новгород. Но не тут-то было. Получив сокрушительный отпор, он неделю залечивал раны у Колмовского монастыря и чуть было не ушел за Волхов. Если бы не предатель Ивашка Шваль, тайно открывший шведам Чудиновские ворота, нового приступа могло бы и не быть. Но что случилось, того не переменишь. Наемники разграбили и сожгли большую часть города, а тех казаков, стрельцов и посадников, что укрылись в неприступном кремле, стали голодом морить.
Видя, что сопротивление смерти подобно, престарелый воевода Иван Одоевский и убеленный сединами митрополит Исидор сдали неприятелю свою твердыню. «Лучше владеть городом, а не умирать голодом», — решили они. Ради этого и договор об искренней дружбе и вечном мире со Швецией заключили. Он обязывал их всякие отношения с заклятым врагом, польским королем Сигизмундом Третьим, его подданными и наследниками не медля прервать, присягнуть на верность одному из шведских принцев, а до его прибытия на царство повиноваться графу Якобу Делагарди.
Договор был составлен явно в пользу шведов, но имелись в нем и такие вот уступки состоятельным и служилым новгородцам:
«Всяких чинов люди сохраняют старые права; имения их остаются неприкосновенными; суд совершается по-прежнему; для суда беспристрастного в судебных местах должны заседать по равному числу русские и шведские чиновники… Между обоими государствами будет свободная торговля с узаконенными пошлинами. Казаки могут переходить, по их желанию, за границы; но слуги боярские останутся по-прежнему в крепости у своих владельцев…».
Не удивительно, что многие поместные дворяне пусть и не очень надежной, но все же опорой для шведов стали, от Москвы решили отделиться, о создании Новгородского государства всеместно объявить.
Нынче, по свидетельству Степана Татищева, Новгород мало изменился, да вот беда, изнутри на него будто порча напала. Люди друг на друга чужими глазами глядят, чужими ушами слушают, чужими умами думают. Словно на чужой пир с похмелья попали…
Стараясь не углубляться в подробности, Кирила сделал обзор новгородским событиям от Выборгского договора до дней нынешних. В него он, не удержавшись, вставил народное присловие о том, что легче запустить тараканов в дом, чем после их оттуда выкурить. А закончил примирительными словами Минина, которыми он всем приказным дьякам велел положение дел в Новгородском государстве описывать. Будто порох медком подсластил. Еще и похвалил себя мысленно: «Вроде складно получилось. Не мое дело — колесо гнуть, мое дело — ступицы сверлить. Авось и проскочит…»
Напомнив тобольским воеводам, что сборочная казна и добровольники нижегородскому ополчению и завтра, и послезавтра нужны будут, Кирила закончил грамоту призывом изложить в ответ состояние дел сибирских и свои насущные заботы, не скупясь при этом на отечественные слова. На отечественные — значит, на природные, одномысленные, доверительные. Но отец-то Кирилы, Нечай Федорович, сразу поймет, о каких словах речь. О тех, вестимо, что от него сын в Ярославле ждет.
Под настроение Кирила и в Томской город грамоту набросал — давним своим недругам: Василию Волынскому и Михаилу Новосильцеву. Они на воеводстве уже пять лет без смены кукуют. Уквасились, поди, на одном месте сидючи, нахапали всякого добра с верхом, а вывезти к себе в подмосковные имения не могут. Не зря Кирила в годы своего томского дьячества их казнокрадами в глаза называл. Вряд ли они это забыли. А если забыли, не худо и напомнить. Не впрямую, конечно, а тех чиновных и промышленных людей безымянно обличая, что от помощи земскому ополчению уклоняются. Прочитав такое, они сразу поймут, кто эту грамоту составлял и кого при этом в виду имел. Подпись князя Пожарского с соизбранниками покажет, что его сила им теперь не под силу, а может, даже и побольше.
Томская грамота получилась намного короче и строже тобольской. Не стоят Волынский с Новосильцевым того, чтобы на них душу тратить. Да и рука от долгого писания заныла.
Стащив с нее отпотевшую изнутри перстянку, Кирила спросил Афанасия Евдокимова:
— Читать будешь?
— Зачем? — удивился тот. — Ты сам себе голова. Неси сразу Семейке Самсонову. Он Пожарскому передаст. Ему лучше знать, когда князь из стана на Пахне вернется и за дела земские с Минычем засядет. Может и до завтрева задержаться. Его не угадаешь.
— А что там такое на Пахне?
— Казаки Прошку Отяева словили. Не слыхал про такого?
— Как же, знаю! Он у Тушинского вора спальником был, но потом в стан к Ивану Заруцкому переметнулся. Боевой атаман. Литву бил беззаветно.
— Кабы только литву, и разговора бы не было, — дернул бровями Евдокимов. — Он же с мирными людьми войну затеял. Собрал вокруг себя всякую шишголь и пошел грабить окрестные имения, монастыри и посады. Где ни пройдет, там плач и позоры. В страх многие уезды вогнал. Нынче, вишь, в Кехомской волости Суздальского уезда расхищал и пустошил. Но это дело ему с рук не сошло. Князь Пожарский над ним суд на казацком кругу убыл делать — чтоб другим неповадно было. Он за порядок в войсках отвечает, а Миныч за корма, одежу, тягло. И мы, заметь, вместе с ним. Оттого у нас среди казаков и земцев тех безобразий, что в таборах Заруцкого и Трубецкого творятся, давно нет…
Семейка Самсонов оказался на месте. Высунув от усердия язык, он старательно выводил на исписанном ровными, красиво зауженными буквами новую строку.
— Над чем потеешь? — весело полюбопытствовал Кирила.
— Не мешай, — сердито откликнулся тот. — Собьюсь же.
Кирила послушно замер у него за спиной. Глаза сами побежали по написанному:
«…Как вы, великий государь, — читал он, — эту нашу грамоту милостиво выслушаете, то можете рассудить, пригожее ли то дело Жигимонт король делает, что, преступив крестное целованье, такое великое христианское государство разоряет, и годится ли так делать христианскому государю! И между вами, великими государями, какому вперед быть укреплению, кроме крестного целованья? Бьем челом вашему цесарскому величеству всею землею, чтоб вы, памятуя к себе дружбу и любовь великих государей наших, в нынешней нашей скорби на нас призрели, своею казной нам помогли, а к польскому королю отписали, чтоб он от неправды своей отстал и воинских людей из Московского государства велел вывести…»
Кирила сразу понял, к кому обращена эта грамота. Ясное дело, к австрийскому императору Рудольфу Второму. И повезет ее в Вену тот самый Грегори, которого Мирон Вельяминов чучелом огородным по прибытии в Ярославль обозвал.
— А что о Максимилиане Рудольфу напишешь? — полюбопытствовал Кирила.
— То и напишу, что к Москве его примут с радостью. Главное сейчас — Австрию на свою сторону перетянуть. У нее вес в Европах немалый…
В тот же вечер вернувшийся с Пахны воеводский дьяк Андрей Вареев за трапезой в столовой избе рассказал, что казачий круг приговорил разбойника Прошку Отяева к битью кнутом и к высылке в Соловецкий монастырь под самый тяжелый тюремный затвор. По татю и наказание. Как аукнется, так и откликнется.
А на другой день Семейка Самсонов доверительно сообщил Кириле, что князь Пожарский к писаным в Сибирь грамотам руку приложил.
— И все? — взволновался Кирила. — Нешто ничего к этому не добавил?
— Сказал, что рука у тебя легкая, но с заносом. В ближние города так писать не следует, а в дальние можно.
— Что еще?
— Что ты ему пригодишься, когда новгородские послы в Ярославль явятся. А пока больше Миныча слушай. Он зря не скажет… Или ты еще чего-то ждал?
— Как бы тебе сказать, Семейка, — замялся Кирила. — Родитель мой в Тоболеске уже пять лет дьячит, а положено два. Пора бы его и сменить.
— Не все сразу, — вздохнул Самсонов. — Время нынче такое, что и неположено жить приходится. Но мысль у тебя дельная, зря только с семейного конца поставлена. Или ты забыл, что дьяки вместе с воеводами меняются? Лучше с Ивана Катырева начинай. Он и чином повыше, и в Сибири, чай, не меньше твоего родителя служит.
— Значит, одобряешь?
— Одобрять-то одобряю, но не обнадеживаю. С воеводами у нас нынче не густо. Знати хватает, да толковых послужильцев среди нее наперечет. Еще когда из Нижнего Новгорода в Ярославль шли, князь Дмитрий в Костроме и Суздали воевод сменил, потом в Устюжне, Угличе, Переяславле-Залесском, Ростове, а на Белоозере — дьяка. На очереди Владимир, Кашин, Тверь, Касимов. Так что придется тебе с Тоболеском в очередь стать.
— Ничего, — повеселел Кирила. — Я подожду. Было бы чего.
Ермакова хоругвь
Тем временем, миновав Тюмень и Туринский острог, дружина Василия Тыркова двинулась к Верхотурью.
Во всех этих крепостях сидели на воеводстве сородичи злосчастного царя Бориса Годунова — в Тюмени Матвей Михайлович, в Туринске Иван Никитич, в Верхотурье Степан Степанович. Первый и третий Годуновы прежде думными боярами были и купались в лучах своей знатности, а второй так и застрял в московских дворянах. По сравнению с ними это не больше, чем серый воробышек. Еще один высокоименитый боярин, в прошлом кравчий, Иван Михайлович Годунов правил в стороне от Сибирского тракта в полынь-городе Пелыме. Однако с месяц назад наскочил на него другой серый воробышек — Федор Алексеевич Годунов: я-де послан тебе на смену вождями московского ополчения Дмитрием Трубецким и Иваном Заруцким! Тот ему в ответ: меня на Пелым природный государь Василий Иванович Шуйский посадил, а потому негоже мне с места сходить, пока другой избранник на царство не повенчается; но коли так вышло, оставайся у меня гостем, Федька, только в воеводские дела не лезь!
«Ах, так! — взвился ставленник Трубецкого и Заруцкого, — Это мы еще поглядим, кто у кого в гостях! Хоть ты и высоко летал, Иван Михайлович, да, видать, отлетался. И Федькой меня больше не кличь, не то сам Ванькой станешь! Не посмотрю, что ты в кравчих был, влет срежу!»
Словом, нашла коса на камень. А разбираться в этой заварухе кому? Не Москве же. Там поляки с седьмочисленными боярами хозяйничают, под Москвой казацкие таборы Трубецкого и Заруцкого. А ближняя власть в Тобольске находится. Вот и пришлось Годуновым свои челобитные большому сибирскому воеводе Ивану Катыреву слать: рассуди, дескать, нас по мудрости своей, иначе мы за последствия не ручаемся. А Катырев дьяку своему Нечаю Федорову разбираться с Годуновыми поручил, но так, чтобы Ивана Михайловича с воеводского места не сгонять и с Федором Годуновым при этом не разругаться. Мало ли как судьба повернется. Ветры-то нынче на Руси в разные стороны дуют. Не дай бог между ними оказаться — голову вместе с шапкой снесут.
Тех же Годуновых взять. При царе Борисе они столько земель и власти нахватали, что казалось, конца и края их всесилию не будет. Но от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Стоило на Москве Лжедмитрию Гришке Отрепьеву воцариться, все Годуновы разом угодили в опалу. Одних это сблизило, других, напротив, перессорило. Одни больше потеряли, другие меньше. Пережив многие гонения, бывшие царедворцы мало-помалу стали восстанавливать свое положение. Наиболее удачливые из них оказались на службе в Сибири. Здесь не только отличиться можно, но и покормиться вволю, и Смутное время в относительной безопасности пересидеть.
Радоваться бы Годуновым, что так для них дело повернулось, поддерживать друг друга во всем, не чинясь былым положением, а они меж собой свару затеяли, чье воеводское место выше. Матвей Михайлович себя рядом с большим сибирским воеводой Иваном Катыревым ставит, ведь Тюмень — первый город [42], срубленный за Камнем. Не зря его в деловых бумагах поначалу Старой Сибирью называли, а Тобольск — Новою. Значит, и заслуг у него не меньше. Остальные сибирские города [43] — последыши, с первыми их равнять не следует. Степан Степанович на этот счет иного мнения придерживается. На втором после Тобольска месте он числит Верхотурье. Без него в Сибирь ни войти, ни выйти. Не зря его сибирскими воротами зовут. При них большая государева таможня через свои заставы все торговые и прочие потоки процеживает. Иван Никитич на это самолюбиво огрызается: «Все сибирские воеводства равны, понеже одному делу служат». А Иван Михайлович на том стоит, что не стоило бы Тюмени и Верхотурью перед Пелымом выставляться, ибо на нем весь сибирский север держится.
Дальше — больше. Посчитавшись степенями своего воеводства, Годуновы и степенями родства принялись считаться: кто из них от братьев и сестер царя Бориса прямую линию ведет, а кто от сестер и братьев его деда и бабки, кто больше от Лжедмитрия Гришки Отрепьева пострадал, а кто с самозванцем в это время якшался, у кого какие вины и заслуги при Тушинском воре нажиты и как это на их судьбу повлияло. Стоит одному неосторожное слово в запальчивости обронить, другой, узнав об этом из третьих или четвертых уст, в обиду впадает: иная-де родня хуже горькой редьки; держаться за нее — себе дороже; и дальше в том же духе. С глазу на глаз они редко видятся, вот и норовят вклеить в текущую переписку какую-нибудь издевку. Один ущипливо заметит: на чужой-де лавке легче сидится, чем на твоей, родственничек! Другой его тут же отбреет: у меня теперь своя лавка не хуже, но я тебя на нее не зову…
Замаялся Нечай Федоров отношения между родичами-соперниками улаживать. А тут на Пелым еще один Годунов заявился. Вот уж и впрямь пятое колесо у телеги. Легко Катыреву расплывчатые указания давать: разберись-де с Иваном и Федором по-умному, ни того, ни другого при этом не оттолкнув, против тобольского началия не настроив, а как это сделать, да еще на расстоянии, даже не намекнул.
Однако Нечай Федоров и не такие узлы привык распутывать. Первым делом он в Тюмень, Туринск и Верхотурье именные грамоты отправил. В них, после принятых в таких случаях славословий, говорилось:
«…И тебе бы, господине (имя рек), встретить нашего походного воеводу Василея Тыркова хлебом-солью и готовыми ночлегами, понеже идет он не на погулянье бездельное, а в подмогу Совету всей земли и князю Димитрию Пожарскому, ставшему ныне с нижегородским ополчением на ярославском дворе для скопа сил и животов [44]. И собрать бы тебе, не мешкав, серебро, зипуны и прочие доброхотные вклады, и людей с Васильем отрядить, сколько сможется. Ведь ты, воевода, человек царского корени, а посему больше других должен понимать, что дело о жизни и царстве идет, что руский народ быть без государя не привык и не может, как не может он терпеть нашествие нечестивых жидов-поляков с литвою и наемными иноземцами, раззорение нашей веры православной. И помыслить бы тебе (имя рек), о том, что лишь торжество руского оружия вернет тебя в царь-город Москву, покажет, что в буреломное время слез и бедствий не изродились семена рода Годуновых, что крепки они меж собой и людьми, поелику сибирская служба важна и почетна. И помнить бы тебе, воеводе, что всякий из нас должен свое малое посильное дело так делать, чтобы от этого большое засветилось и напитало Русию волей и силой, аки солнце животворящее. И порадеть бы тебе со всеми вместе на благо отеческое!».
То же самое Нечай Федоров написал пелымскому воеводе Ивану Михайловичу Годунову, но с таким дополнением:
«Хоть и не близко ты к Верхотурью-городу обретаешься, господине, а все ближе на треть, чем твой туринский сокровник Иван Никитин. Ну и решай, чем ты других Годуновых плоше. От мудрости слово так поставлено: коли большая дорога к тебе не прилегла, ты к ней приляг. Захочешь нижегородскому ополчению помочь — успеешь! Быть тебе, как и прежде, на воеводском месте в Пелыми. С тем же гонцом отдельное послание Федору Алексееву сыну Годунову отправлено. Писано в нем, чтобы твоего места не домогался. Прочее он сам тебе изглаголит, ежели глупота ему ум не затмит. На ваше здравомыслие и досужество уповаем. Да будет посему…».
А Федору Годунову большой сибирский дьяк за подписью Ивана Катырева такую отповедь дал:
«Это похвально, соискатель, что в пору междоусобной брани ты оказался в стане тех, кто под Москвой польских людей и их приспешников крепкой осадой осадил, но как быть, если веры началию этого стана не стало? Ведь по всем городам от них грамоты шли, чтобы без Совета всей земли государя не выбирать, псковскому лжецарю Сидорке крест не целовать, малолетнему отпрыску паньи Маринки, прижитому от Тушинского вора Богдашки, не прямить. Но они, свое честное слово не сдержав, страдниками божиими [45] себя явили. Много на них и других неправд, разбоев и похищений. Вот и скажи по совести, как тебя, радетеля за прирожденного христианского государя, угораздило от них ярлык [46] на пелымское воеводство принять и со своим сродственником тяжбу затеять? Ведь сам знаешь, что две головы на одной шее не растут. Опомнись, пока не поздно, с Иваном Михайловичем с души на душу объяснись, понеже он не враг тебе, а ты ему; а когда сызнова породнитесь, либо в Тоболеск к нам на службу явись, либо с Васильем Тырковым к князю Пожарскому в Ярославль ступай. К нему нынче весь народ повернулся. Вот и ты повернись, подспорником в деле соединения московских таборов с нижегородским ополчением будь; тогда тебе дорога не токмо на Пелым, но и куда повыше ляжет. И помни: лишь благоразумие в словах и поступках к благоденствию и благостоянию ведет…».
Перед тем как отправить эти грамоты, Нечай Федоров Василию Тыркову их показал. Пусть знает, что ему от Годуновых ждать, пусть на любой поворот в отношениях с ними настроится, особенно с Федором…
От Тобольска до Верхотурья путь неблизкий. Но это смотря какой мерой считать. Можно верстами: кружным путем через Тюмень их без малого пять сотен наберется. Можно поприщами, иначе говоря, суточными переходами по двадцать верст каждый: их получится около двадцати пяти. Но бывалые обозники проходят это расстояние за шестнадцать дней. Само собой, день на день у них не приходится. Ведь если проезжая полоса более или менее чищена, ямины на ней засыпаны, мосты через реки и речушки исправны, а сама она по равнинным местам следует, вот как от Тобольска до Тюмени, то не диво и за пять дней десять поприщ отмахать. А попробуй столь же быстро идти, когда дорога в гору повернет, начнет рыскать по каменьям и заломам из пней, хвороста и бурелома, то приближаясь к реке Туре, извивами стекающей с югорского хребта, то удаляясь от нее, вот как от Тюмени до Туринского острога. Тут больше одного поприща за день не каждый обоз одолеет, а тот лишь, что опытный голова ведет.
Василию Тыркову опыта не занимать. Он Сибирь вдоль и поперек исходил и изъездил, а уж на Сибирском тракте ему хоть глаза завязывай — не оступится, не заблудится, через самое опасное место возы, словно по чистополью, проведет.
Однако в совершенстве знать дорогу — полдела. Не менее важно так людей расставить, чтобы каждый знал свое место и дело.
Конечно, таких разбоев, как в Московской Русии, на Сибири нет, но и здесь порой налеты на обозы случаются. Стоит сойтись на каком-нибудь глухом перекрестке двум-трем беглым душегубам, тотчас начинает собираться вокруг них ватага из ссыльных и гулящих людей. Сделав несколько удачных пограблений, она дружно рассыпается, чтобы так же нежданно возникнуть в другом месте. Нападает она чаще всего вроссыпь, с разных сторон, хватает все, что под руку попадет. Каждый заботится лишь о своей поживе, спасает лишь свою шкуру. Сброд он и есть сброд — от него больше переполоха, чем урона. Но и переполох на походе чреват потерянным временем, сбитым настроением и ненужными пересудами.
Чтобы оберечь от дорожных шишей возы с упрятанными в брусяные днища серебряными слитками, Тырков поставил пообок цепочки конных казаков и пеших посадников, вперед выслал конный разъезд Стехи Устюжанина, а замкнул строй охранным десятком Треньки Вершинина. Еще один десяток возглавил тележник Харлам Гришаков по прозвищу Лымарь. Чуть какой воз захромает, он со своими людьми тут как тут — на этом колесо проворно сменит, на том ходовую часть починит. А за коней на походе велено отвечать крещеному татарину Ивашке Текешеву и близнецам Игнашке и Карпушке, сыновьям кузнеца Тивы Куроеда.
Все до мелочей предусмотрел Василей Тырков, одно из вида выпустил: походный стяг. Спохватился уже перед самым отходом из Тобольска. Но тут ему на выручку атаманы старой ермаковской сотни Гаврила Иванов и Третьяк Юрлов пришли. На Троицкой площади прилюдно вручили они ему расписную хоругвь. На левой ее стороне изображен святой Дмитрий Солунский, небесный покровитель Дмитрия Донского. Своим острым копьем он пронзает золотоордынского хана Мамая. А на правой стороне писан архангел Михаил, покровитель воинов. Он вострубил к небесным силам, призывая их на помощь русскому оружию. Солунский сидит на земном коне, архистратиг — на небесном, с распахнутыми в полете крыльями. Лик одного обращен вперед, лик другого — назад. Одного венчает золотой нимб, другого — государская корона. С такой точно хоругвью большой казачий атаман Ермак Тимофеевич вернул Русии ее сестру Сибирь. Еще при царе Иоанне Грозном, спасаясь от домоганий бухарского Кучум-хана, приняла она русийское подданство, но не смогла Москва тогда уберечь Сибирь от ордынцев. Девятнадцать лет пришлось ей жить под пятой Кучума, лишь затем пришло освобождение…
— Так пусть же напоминает это знамя, — сказал на прощанье Гаврила Иванов, — те незабываемые годы, когда русский дух Сибирью воспрянул! Верю: воспрянет он и теперь. Другой враг у Москвы ныне, но сердце-то у нас в груди одно. Одно на всех и освобождение будет!..
Хранить и воздымать заветный стяг выпало Ольше Лукьянову и Савоське Бородину, самым дюжим из ермачат. Оба статные, русоголовые, выносливые. Им будто на роду написано знаменщиками быть.
Великое дело — ермакова хоругвь. Казалось бы, всего-то кусок струящейся по ветру материйки, а гляди, какая могучая сила в нем заключена — шаг сам собой тверже делается, дыхание ровней, душа полетней. Чувствуя это, подлаживаются под мерное движение кони. Даже скрипы колес становятся мягче.
Не менее важна в пути общая песня. Давно замечено: она дорогу коротает. Однако не всякий походник сильным и раздольным голосом наделен, а только избранные. Остальные душой за ними тянутся, стараясь украсить напев своими далеко не всегда стройными и приятными подголосиями. И не важно тогда, кто как поет, а важно, что каждый про усталость забывает и всем своим существом начинает чувствовать, что новые силы обрел.
Поначалу Василей Тырков в песенные дела своей дружины не вмешивался — другие заботы его занимали. Потом вдруг стал замечать, что певуны у него не так расставлены: в конце обоза густо, в середине пусто, а тем, кто впереди, задора и выдумки не хватает. Вроде бы голосисты, а подпевать им не тянет. Наверное, потому, что каждый своим песенным даром упивается, о товарищах по дружине забывая. Вот и решил Тырков растянуть певунов по всему строю — через три воза на четвертый, чтобы песня ровно по строю текла, всю дружину собой разом обнимая. Так больше лада будет. А впереди, сразу за ермаковой хоругвью, двух наилучших запевал поставил. Пускай других за собой ведут.
Уже на переходе из Тобольска до Тюмени стало ясно, кому головными запевалами быть. Ну, конечно, Михалке Смывалову и Микеше Вестимову. У Михалки голос серебром рассыпается, у Микеши — медью звенит. Один к бодрящим песням склонен, другой к задушевным. Один матерый мужик, другой молодяга. Но именно эта непохожесть их и объединяет.
Кто таков Микеша, всем ведомо: сын Вестима Устьянина, зять Василея Тыркова — высокий чернобровый казак, не привыкший себя вперед выставлять. А Михалка Смывалов — человек пришлый. Его Тренька Вершинин, следуя на посылках из Томского города в Тобольск, где-то возле Тары подобрал, а когда Тырков Треньку к себе в дружину взял, и Смывалов тут оказался. Родом он из Беломорья — с реки Пинеги; сиротой в кабале у монастырского рыбника вырос; сбежал от него в Устюг Великий, плотничал там на судострое, потом качальщиком варницы в Соли-Вычегодской был и много еще где спину гнул, пока не потянуло его гулящим бытом в Сибирь — вольного воздуха хлебнуть, спину хоть немного распрямить.
Однако, глядя на Михалку, не скажешь, что судьба его очень уж замучила. Напротив, взгляд его ясен и улыбчив, будто вся его жизнь из шуток-прибауток и погуляний состоит. Вот и свой переход из десятка Треньки Вершинина, замыкающего обоз, в головные запевалы Смывалов улыбкой сопроводил:
— Не мной сказано: последние будут первыми! Так оно и вышло. Жаль только, что первее первых на свете не бывает…
Михалка с Микешей без труда общий язык нашли. Всего за один день они не только спелись, но и старые песни на новый лад переиначивать стали, да так, что заслушаешься.
Из-за леса, леса синего, Из-за рек лукоморских с озерьями, Изо славного города из Тоболеского Путь-дорога к Москве нарождается. Через лешие места она торена. Потом насквозь, как рубаха, пропитана. Лютым холодом она проморожена. Ярым солнышком она разукрашена. Высота ли, высота поднебесная. Красота ли, красота придорожная. Широко раздолье по всей земле. Не насмотришься им, не надышишься…Заслышав ту песню, завидев ермакову хоругвь, встречные обозники спешат посторониться, а угнездившиеся на новых землях крестьяне-переведенцы снимают шапки и почтительно смотрят вослед, пытаясь угадать, что это за воинство такое и куда оно путь держит. Сходятся на том, что кроме бусурман [47] сибирских есть бусурмане московские и заморские. На них тоже, видать, укорот приспел.
Встретить дружину Тыркова у Тюмени, напоить-накормить с дороги, разместить на ночлег у Ямской слободы под раскидными пологами первый тюменский воевода Матвей Годунов перепоручил своему напарнику, второму тюменскому воеводе Федору Боборыкину. Ему же велел Тыркова к себе в хоромы на вечернюю трапезу звать. Но Тырков отказался: негоже-де мне от своих людей отлучаться да и недосуг — ночь коротка, перекушу наспех да спать лягу, уж не обессудь…
А про себя при этом подумал: «Раньше ты меня, боярин, у порога стоймя держал, худородство мое всяко подчеркивал. Ну так и не взыщи. Притомился я нынче, чтобы с тобою праздное застолье разделять. Спасибо и на том, что встретить распорядился. Коли так дело в Туринске и Верхотурье пойдет, дней за двенадцать Сибирь проскочим».
Но вышло, за тринадцать. Первая задержка на реке Узнице вышла. Это приток Туры. Здесь переправу размыло, пришлось подходящий брод искать. А там один из возов на камнях опрокинулся. Конь биться стал да и перешиб копытом спину зазевавшемуся дружиннику. Едва живого доставили его в Туринскую слободу. Хорошо, там знахарь оказался. Оставил он пострадавшего у себя за щедрое вознаграждение, обещал выходить к тому времени, когда дружина назад возвращаться будет.
А в Туринском остроге пожар случился. И произошло это не раньше и не позже того вечернего часа, когда головная часть дружины, проследовав через Ямскую слободу мимо Спасской церкви, на мост через речку Лахомку вступила. За нею на горе высилась сама крепость. И вдруг над той ее частью, что обращена к Туре, в клубах черного дыма вскинулось розовое пламя.
Не успел Тырков распоряжение походникам дать, как из строя под началом быстроумного Афанасия Александрова, сына Черкасова, вынеслась шестерка конных ермачат. Вслед им Тырков отправил десяток конных казаков Стехи Устюжанина.
Уже в стенах острога они поняли, что горят амбары, поставленные на береговом уступе, и, вооружившись невесть откуда взявшимися крючьями и пехлами, вместе с туринцами стали разваливать и скидывать вниз стреляющие огнем бревна. Бревна сшибались, переворачивались в воздухе, отскакивали от выступов крутого склона и, шипя, падали в темные воды Туры. Со стороны посмотреть, захватывающее зрелище: будто кто-то невидимый в сумерках жрение языческое сотворяет. Тут и не захочешь, а вспомнишь, что прежде на этой горе находилось остяцкое городище Епанчин. По нему и теперь Туринский острог нередко Епанчином называют.
Пришлось на отдых дружине остаток ночи и утренние часы дать.
Невелик Туринский острог, вдвое меньше и малолюдней Тюмени, однако, получив грамоту из Тобольска, Иван Годунов успел пять ратников в ополчение выкликнуть и полтора воза добровольных вкладов собрать — столько же, сколько выставил Матвей Годунов. Днем, провожая дружину Тыркова, туринский воевода, будто ненароком, обронил:
— От хвастливой курицы да худые яйца…
Тырков понял, о ком речь — ну, конечно, о Матвее Годунове, однако промолчал, зная, куда разговоры на эту тему могут завести.
— Была бы у меня под рукой Тюмень, разве б я столько дал? — не унимался туринский воевода. — Да ты сам сравни, Василей Фомич.
— Уже сравнил, Иван Никитич, можешь не сомневаться. Лично о тебе у меня мнение самое похвальное. О других говорить не будем. На святом деле грешно считаться. Лучше давай вспомним былое. Как-никак, а служишь ты в том самом месте, где у Ермака первая стычка с сибирцами вышла. Я тут в уме прикинул, когда это сталось, и вышло у меня ровно тридцать лет тому. Вроде бы много, а будто вчера.
— Да-а-а, — неопределенно протянул туринский воевода. — Вчера — не сегодня. Что было, то прошло. Всего не упомнишь, Василей Фомич, да и не к чему вроде.
— Кому как, — не согласился с ним Тырков. — Ты человек московский. А московские люди, заметил я, беглым взглядом вокруг привыкли смотреть. Отслужат свое и поминай как звали. Зачем им знать о каком-то Ермаке или еще о чем-то бывшем и далеком? Но мы-то здесь остаемся, Иван Никитич. Здесь! А если едем куда, непременно возвращаемся. Так что прощай и помни: без Ермака ни Туринска, ни тебя самого здесь бы не было.
Будто подслушав их разговор, Микеша Вестимов завел песню, которую любили певать в своем кругу казаки старой ермаковской сотни. К нему тотчас подстроился Михалка Смывалов. Слов он явно не знал, но иные из них подхватывал по догадке:
Как по белым по рекам подымалися Удальцы-молодцы ермаковские На Земной на Пояс по большой воде На резвЫх на лодках на коломенках. На ту сторону они перехаживали. С-под небес на Сибирь они поглядывали. — Ну-ка где там засел Змей Горынович, Старый хан Кучум, что Сибирь пленил?..С этой песней и продолжила путь дружина Василия Тыркова. С каждым шагом песня крепла, становилась шире, многозвучней:
Как по черным по рекам спускалися На резвых на лодках на коломенках Удальцы-молодцы ермаковские, Чтоб Сибирь опять к Москве прилепить. Не успел тут змей-Кучум и глазом сморгнуть, Как они на него все насыпались, Отрубили ему враз-то буйну голову, А другие от них он едва унес…Кто через Камень в Сибирь хаживал, тот знает, что белыми реками здешние жители называют те из них, которые на его западных склонах зарождаются и несут свои воды в Московскую Русь, а черными — восточные, текущие в Русь Сибирскую. В пору большой воды белые реки чуть не до истоков глубокими становятся, судоходными. Перебираясь с одной на другую, можно до поднебесных вершин добраться и, сделав там пешую переволоку, по черным рекам спуститься в чащобы лукоморские. Вот большой атаман Ермак Тимофеевич со своей дружиной и совершил стремительный бросок за Камень. Воспользовавшись временем осенних дождей, он сначала вверх по белой реке Чусовой и ее притоку Серебрянке поднялся, затем посуху переволок струги к Жаровле, а дальше по черным рекам Баранче, Тагилу и Туре домчал до Тобола. Он знал, что еще весной Кучум-хан отправил старшего сына Алея грабить Чусовские городки в пермских землях и дал ему для этого лучшую часть своего войска — закаленных в боевых походах уланов, а при себе оставил лишь вспомогательные отряды юртовских татар и остяков. С Тобола Ермак повернул струги на Иртыш, где находилась главная крепость Сибирского ханства, Искер, и там, у мыса Потчеваш, обратил его защитников в бегство. Однако уже на четвертый день после этого сражения сибирцы стали возвращаться в свои жилища и вести с Ермаком переговоры о том, как им вернуться за спину Москвы.
Обо всем этом, но по-былинному кратко и рассказывала песня о сибирском взятии, с которой дружина Василия Тыркова выступила из Туринска. А ермакова хоругвь, плывущая впереди, напоминала о том, что Искер был взят не когда-нибудь, а 26 октября 7091 [48] года — на день памяти святого Дмитрия Солунского.
Словно продолжая эту песню, на переходе до Верхотурья родилась другая — о нынешнем сибирском ополчении:
Как у нас-то было на святой Руси. На святой Руси Смута сделалась. Смута смутная, подколодная. Лжецари на Москву литву навели. Про беду про ту всей Земле слыхать. Сам собою и припев к ней сложился: Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины!Под такой припев и шаг бодрей становится, и дорога ровней, и небо выше.
Вострубила труба тут серебряна: «Что, ребятушки, призадумались, Призадумались, прикручинились? Не пора ли взашей нам чуженинов гнать, Под крыло идти к князь-Пожарскому?»Дождавшись, когда их черед настанет, походники с чувством подхватывают:
Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины.А Микеша Вестимов и Михалка Смывалов песенное повествование дальше ведут:
То не гуси, братцы, и не лебеди Со лугов, озер подымалися — Подымалися добры молодцы, Добры молодцы, все люди вольные, Люди вольные, православные…Сергушка Шемелин, стременной Тыркова, раньше других торопится выкрикнуть:
Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины!!Голос у него звучный, но непесенный. Однако на косые взгляды товарищей Сергушка и внимания не обращает, так высоко душа его воспарила.
Поначалу песня имела три запева с припевом, но где-то между Салдинской слободой и Верхотурьем она стала заметно длинней:
Тут и вышло вперед знамя ратное, Знамя ратное, ермаковское, Атаманами сбереженное. Повело оно в путь за три волока Против смутчиков и наемников Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины! Впереди-то, поглянь, воеводушка. На борзом коне он поезживает. Молодцов своих он подбадривает: «Вы шагайте по торной дороженьке, Поспешайте на дело на отчизное»… Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины!Верхотурье срублено в излучине реки Туры на скалистом утесе. С одной стороны его подрезает речушка Свияга, с другой — Дернейка. По кромке утеса со стороны Туры и Свияги постенно слеплены казенные избы и угловые башни. Со стороны Дернейки к городу примыкает Жилецкая слобода с острожным частоколом. И лишь та часть Верхотурья, что не защищена реками, обнесена рвом и двойными бревенчатыми стенами с земляной засыпкой. Город венчает соборная церковь Во имя Живоначальной Троицы, потому и утес принято величать Троицким камнем. А в Жилецкой слободе поставлена церковь Во имя Воскрешения Христова.
Взору тех, кто следует в Верхотурье из Сибири, открываются сначала купола Воскресенской церкви и лишь затем — Троицкое златоглавие. Они словно в небеса, лежащие на лесистом склоне, врезаны.
Еще издали Тырков заметил людей в рясах, степенно шествующих к дороге через пригородную чистину. Первой его мыслью было: «Странствующие монахи». Однако, приглядевшись, он заметил впереди невеликого ростом, припадающего на левую ногу, но еще крепкого телом Иону Пошехонца. Стало быть, это не случайные путники, а старцы Никольского монастыря, вышедшие его дружину встречать.
Лишь теперь он вспомнил, что Нечай Федоров заодно с верхотурским воеводой Степаном Годуновым собирался и монастырского игумена Иону о предстоящем походе оповестить. Но с Ионой Тырков рассчитывал встретиться во вторую очередь. Ведь на первом месте у него дела службы, а их положено с воеводой решать. Стало быть, что-то случилось, раз Степан Годунов свое место Ионе уступил.
Спрыгнув с коня, Тырков передал поводья Сергушке Шемелину и поспешил навстречу старцам. Шел и радовался новой встрече с Ионой…
Познакомились они одиннадцать лет назад. Тырков, в ту пору присланный в Верхотурье таможенные неполадки расследовать, стал свидетелем распри тогдашнего воеводы Ивана Вяземского с черным попом Ионой Пошехонцем. Иона дал обет построить рядом с Троицким камнем монастырь Во имя Николы Чудотворца, но Вяземский запретил ему и его споспешникам брать для постройки храма и келий близкий к городу казенный лес. Препирательства меж ними кончились тем, что воевода строптивого попа в темницу запер и велел не кормить три дня, а Тыркову, вступившемуся за Иону, в сердцах бросил: «В другой раз не будет меня всяко лаять… Да и то сказать: поп со всего возьмет, а с попа ничего не возьмешь. Это как?». Однако к вечеру того же дня он упрямца из затвора выпустил. Иона тут же челобитную на имя царя Бориса Годунова написал да побоялся с воеводским посыльным ее в Москву отправлять: не дойдет ведь, Вяземский ее мимо себя вряд ли пропустит. Вот и обратился к Тыркову: помоги!..
На добром деле почему и не помочь? Тырков челобитие Ионы с верным человеком прямо в руки Нечая Федорова переправил, ведь такие дела от имени государя в ту пору именно он, второй дьяк приказа Казанского и Мещерского дворца, решал. Ответ из Москвы последовал скорый и твердый: «Лесу на построй Никольской обители столько дать, сколько на то потребно будет, понеже сибирская земля им премного богата, а православными монастырями нищенствует».
Получив такое указание, Вяземский ухмыльнулся: «Здесь не сказано, что лес я тебе должен давать мирской дачей, Иона, так что пиши казне заемное обязательство. Задолжаешься, вмиг сговорчивей станешь». Пришлось Ионе кабальную запись на себя делать. Зато монастырь на глазах расти стал, крепкой стеной от придорожной суеты отгородился, церквой, рубленой, как принято в поволжском Пошехонье, украсился.
Сменивший на воеводстве Вяземского Неудача Плещеев взялся было долг с Ионы сыскивать, а тот гол как сокол. Одно и осталось: в долговую темницу его засадить. И снова Тырков, по делам через Верхотурье следовавший, из затвора его вызволил. Более того, убедил Иону самому с челобитьем в Москву поспешить. И снова Нечай Федоров ему поспособствовал: именем царя Бориса заемный лес монастырю списал, Ионе и дьячку государево жалованье положил, еще и церковное строение с собою дал. С тех пор Иона Пошехонец и Василей Тырков сблизились настолько, насколько могут сблизиться люди, живущие в разных городах, но единые в стремлениях и помыслах…
Вот и сейчас, сойдясь под стенами Жилецкой слободы, они замерли, всматриваясь друг в друга, разговаривая глазами, будто вдруг дар речи потеряли. Первым спохватился Иона. Оборотившись к иконе Николая Чудотворца, которую нес молодой чернец, он с чувством возгласил:
— О всеблагой отче Николае, пастырю и учителю всех, верой притекающих к твоему заступлению! Перед твоею иконою здравствуем прибытчикам, идущим на дело, которое само себя хвалит. Молитвами твоими отжени от них усталость, испроси им у Христа Бога нашего твердости и терпения, от всяких бед и скорбей избавления, научи подвигам добрым подвизаться, удостой покровительства своего и от всех злых и бедственных обстояний огради, подаждь согласие и дерзновение ныне и во веки веков!
Затем старец осенил Тыркова большим медным крестом и уже будничным, но по-отечески теплым голосом добавил:
— Рад зреть тебя и твою дружину, державец. Добро пожаловать в нашу обитель на постояние и молитву. Се с воеводой нашим Стефаном Стефаниевичем согласовано.
Поцеловав крест, Тырков ответил:
— И я рад тебя видеть, отче. Спасибо, что со всей душою встречаешь. Дай тебе Бог всего в честь и в радость.
В это время знаменщик Ольша Лукьянов, покинув строй, встал рядом с чернецом, держащим икону, и все увидели, как встретились святые образы Дмитрия Солунского и архангела Михаила со светлым образом Николы Чудотворца.
Сам собою сложился порядок дальнейшего движения: впереди чернец и знаменщик, за ними игумен и походный воевода, следом старцы, головные запевалы и все остальные ополченцы-обозники. Путь их лежал вдоль Жилецкой слободы к отрогам Троицкого камня, где кончалась Туринская дорога и начиналась Соликамская. Там и утвердился недостроенный еще монастырь Во имя Николы Чудотворца. Его высокие стены острием вклинились между берегом Свияги и еще одного притока Туры-Калачика.
Как у нас-то было на святой Руси. На святой Руси Смута сделалась… —взвились над дорогой звучные голоса Михалки Смывалова и Микеши Вестимова. Дождавшись припева, походники привычно грянули:
Издалеча-далеча, из Тоболеска, Из сибирской и-ех из украины!Через проездные ворота Жилецкой слободы вышли к дороге несколько любопытствующих стариков и женщин с ребятишками. Сколько мимо обозов езживало, сколько всяких людей хаживало, а такое шествие им видеть раньше не доводилось. Будет о чем потом поговорить. Счастливцы…
Воспользовавшись тем, что их никто не слышит, Тырков спросил у Ионы:
— Сам-то Степан Годунов где?
— Прихворнул малость. Но дело и без него делается. Не беспокойся.
— А о пелымских воеводах что скажешь?
— Федор здесь, тебя дожидается.
— С пустыми руками пришел?
— Считай, что с пустыми.
— Как он тебе поглянулся?
— И так, и сяк. Речь слышна, да сердца не видно.
— Какова же речь?
— И шьет, и порет, и лощит, и плющит.
— Что делать собирается?
— С тобою идти, но далеко ли, не сказывает. Думаю, до развилка, сам знаешь, до которого. Так что полагаться на него не советую.
— Понимаю, отче. Нанесла же его нелегкая на мою голову! Ну да ничего. Как-нибудь оттерплюсь…
Вскоре показались монастырские строения. Миновав Святые ворота, дружина втянулась на просторное подворье. Уместив на нем возы, коневщики отогнали лошадей за ограду. Там до самой береговой линии Калачика простерлась поросшая молодой травой низина. На ней они и оставили пастись стреноженных коней. А караулить их выпало Ивашке Текешеву с двумя помощниками.
Хлебосольные старцы сделали все, чтобы дружина после трех дальних переходов душой и телом в их обители отдохнула. А душой лучше всего отдыхается в Божием храме. Только здесь можно почувствовать всю красоту и целительность общей молитвы, набраться сил на следующие переходы.
Вечернюю службу в Никольском храме Тырков отстоял вместе со всеми, а утреннюю ему перебил Федор Годунов. Явившись в монастырь, он стал обиды Тыркову высказывать:
— Почто до сих пор в воеводской избе не побывал? Или думаешь, она за тобой ходить станет? Ошибаешься! Всякая служба свой порядок знает!
В ответ Тырков лишь плечами пожал, всем своим видом показывая, что не с того Годунов разговор начал.
Поняв это, тот стал о своем назначении в Пелым рассказывать, о грамоте, которую получил от большого сибирского воеводы Ивана Катырева, о своей готовности присоединиться к дружине.
Тырков слушал его по-прежнему молча, отстраненно, чувствуя, что Годунов чего-то не договаривает. Не выдержав, спросил:
— Говори прямо, Федор Алексеевич, в чем твоя забота?
Споткнувшись о его пристальный взгляд, Годунов голову вскинул:
— Коли мы дальше вместе идем, не худо бы нам обо всем сразу договориться!
Голова у него заметно сплющена: лоб длинный, нос длинный, подбородок тоже длинный. Борода на нем торчит, как метла на черене. Волосы горшком стрижены. Уши тонкие, заостренные. Видом не вышел да и умом, похоже, не блещет, а ведет себя, как гонорный пан. Вот что делает с людьми царское имя.
— Ну так и договаривайся, — нахмурился Тырков. — Вот он я.
— Ладно, Василей Фомич, слушай! Я как-никак московский дворянин, литву и поляков бил, родословие царское имею. И прислан сюда, заметь, полномочной властью. А у тебя всего чин сына боярского, хоть ты весь в заслугах. Вот и посуди: гоже ли мне на походе ниже тебя быть?
— А как тебе мыслится?
— Вровень!
— Вровень, так вровень, — не стал спорить Тырков. — Лишь бы ты без моего согласия ничего не решал. Ни-че-го! Такое у меня будет условие.
Его уступчивость озадачила Федора Годунова. Уж не подвох ли какой у сына боярского на уме?
— А ты сговорчивый, Василей Фомич. Глядишь, и поладим…
Провожать дружину высыпало все Верхотурье. На этот раз ермакову хоругвь выпало нести Савоське Бородину. Шаг у него веский, спокойный. И лишь заалевшие щеки выдавали его волнение.
Глядя на хоругвь, Тырков устремился мыслями вперед — в ярославский стан князя Пожарского, а оттуда прямым ходом к Москве. Ему вдруг увиделось, как вместе с другими стягами нижегородского ополчения хоругвь эта победно вступает в Кремль, а вместе с ней вступает в него вся служилая, посадская, крестьянская и ясачная Сибирь.
Рядом с Тырковым на мышастом жеребце трусил его нежеланный соначальник Федор Годунов. Он тоже смотрел на ермакову хоругвь, но пустыми глазами. Его уязвляло то, что приходится покидать Сибирь не солоно хлебавши. Хорошо, хоть походным воеводой, а не отставным искателем воеводского места. Годунов прикидывал, что ему выгодней — к Трубецкому и Заруцкому при первом же удобном случае вернуться или и впрямь на сторону Пожарского перейти? И не находил ответа.
Сибирь осталась у них за спиной. Но они еще вернутся в нее: Тырков в Томск — первым воеводой, Федор Годунов в Пелым — на место своего сородича Ивана Михайловича, а тот — первым воеводой в Тару. Вместе с ними получит назначение Иван Биркин, тот самый, что хотел стать вровень с Дмитрием Пожарским, утаил часть казны нижегородского ополчения, но потом ее лишился. Ему доведется воеводствовать сначала в Березове, затем в Мангазее. Не зря говорится: пути Господни неисповедимы.
Со свечой Гермогена
Утро на Самсонов день [49] выдалось ясное, голубоглазое, но в полдень по Ярославлю прокатился проливной дождь с подстегой. Однако надолго его не хватило. Он тут же сменился ситничком, пропущенным через самосветное солнце. Но и ситничек быстро иссяк, растворился в теплом парящем воздухе. Лишь влажные пятна на дорогах и крышах указывали на то, что дождь все же был, и немалый.
Давно замечено: если на Самсона Странноприимца случится дождь, следом другие аж до бабьего лета зарядят. А в мокрую пору хорошего сена не заготовить. Почернеет оно, гнилью пойдет. Чем тогда скотину кормить? Гречихе, которая сухую погоду любит, да и другим злакам, тоже не поздоровится. Зато просо уродится на славу — густое, плотное. Соберут его бабы, от шелухи отолочат, а из полученного пшена худо-бедно станут в зиму кашу варить, а то и пироги-пшенники делать.
Приказные дьяки сено не косят и просо не ростят, но и мимо их внимания дождь на Самсонов день не проскочил. За ужином только о нем разговору и было. Ведь от того, что у земледельцев в поле, напрямую зависит, сколько припасов для нижегородского ополчения заготовщикам кормов собрать удастся. Да и для предстоящего похода к Москве слякоть помехой может стать. Хоть до нее путь недальний — всего двести пятьдесят верст, а дороги во многих местах разбиты, все в ухабах да рытвинах. После дождей они и вовсе в болотину превратятся — ни пройти, ни проехать.
— Для нас теперь дождь, как монах на свадьбе, — пошутил Семейка Самсонов. — Мало того, что не зван, так еще и не уместен.
— Это ничего, — подал голос Кузьма Минин. — Дождь-то недолгий был — чирикнул и нет его. Значит, и другие недолгими должны быть. Зачем пугать себя раньше времени? И поважней дела есть.
Дьяки приготовились слушать, что за дела их завтра ждут, но тут Дорога Хвицкий, тугой на правое ухо дьяк Земского двора, поворотился к Самсонову:
— Какой это монах для нас не уместен, а? Уж не троицкий ли келарь Авраамий-громословец?
— При чем тут Авраамий? — пожал плечами Самсонов. — Я другое в виду имел. Совсем другое.
— При том, — объяснил Кузьма Минин. — Нынче Авраамий со словом старцев Троицкого монастыря и впрямь к нам на беседы пожаловал. Вот Дороге и примнилось, что это о нем Семейка что-то негожее брякнул. Успокойся, Дорога! Он тебе после все как есть обскажет.
Но Хвицкий и не думал успокаиваться:
— Ныне кто свечу Христова воина Гермогена перенял и высоко держит? — Владыка Троицкий Дионисий с избранником Божиим Авраамием. Их не зовут, они сами приходят!
— А и верно, — запереглядывались дьяки. — Митрополит наш Кирилл от ветхости своей пастырским словом не силен. Вот бы Авраамия послушать.
— Даст Бог, послушаем! — заверил их Кузьма Минин. — А пока пусть дела своим чередом идут. Авраамий в Спасо-Преображенском монастыре пребывает. Там у нас свой приказ. Через него и будем сноситься. Остальное Совету земли решать да князю нашему Дмитрию Михайловичу.
Известие о том, что Авраамий Палицын прибыл в Ярославль, взволновало, но не обрадовало Кирилу. Могучий образ святого старца Иринарха, провидца и страстотерпца, вытеснил из его сознания образ человека, которого он прежде обожествлял так же страстно, как Дорога Хвицкий, а, пожалуй, и поболее, но потом вдруг охладел к нему. Голову сверлила мысль: «Палицын здесь, в Ярославле. Свидимся ли? А если свидимся, что я ему скажу? Что он мне скажет?»
В волнении Кирила отхлебнул из кубка житного кваса и, поперхнувшись, часть его проплеснул себе на бороду. Чувствуя, что все взоры обратились к нему, промокнул влагу коротким утиральником из рыхлой камчатной ткани и как можно беспечней вымолвил:
— Не в то горло попало.
— Кабы в него вина, а не квасу влить, и второе бы горло первым стало, — добродушно подтрунил над ним Семен Сыдавный-Васильев.
— В свое и вливай! — огрызнулся Кирила. — Тебе, чай, не привыкать!
— Я бы влил, тем паче повод есть, — разулыбался Сыдавный. — Впрочем, за хлебом-солью и смех с хреном за милую душу съестся.
— Но, но! — вмешался в их перепалку Кузьма Минин. — Что за разговоры? Чтоб я такого больше не слыхал!
Кирила послушно уткнулся в свою тарелку.
«Много чести — с Сыдавным перепираться, — думал он, — У него одно на уме: вино да вино. Однако нынче он про него с намеком сказал. И понимать его надо так: за здравие-де Палицына не грех напитком покрепче кваса угоститься. Думал, я ему поддакну. Видит, что душа у меня к нему не лежит, а все равно лезет. И не в первый уже раз. В прежние-то годы этот гусь высоко летал. Привык дело с боярами и церковной властью иметь, с поверенными людьми то польского, то шведского короля на посольских встречах заздравничать. Вот и въелись в него застольные острословия. А у Минина трапезы деловые. Хмельного-развеселительного он не терпит. Однако Сыдавного если и пресекает, то больше для вида. Значит, ценит. Знать бы только за что…»
После ужина дьяки разошлись по своим углам в жилецких покоях купца Никитникова. Отправился к себе и Кирила. На двух монахов посреди двора, держащих под уздцы оседланных коней, он и внимания не обратил. Зато они его сразу приметили.
— Братко! — негромко уронил один из них.
Кирила замер, потом радостно бросился навстречу:
— Иваша?!
Это был его старший брат Иванец, в иночестве Феодорит. Два месяца назад они вот так же вечером на подворье Троице-Сергиева монастыря встретились, но тогда Кирила ждал Иванца. Он прибрел к нему за советом: как дальше жить? кому верить? за кем следовать? Авраамий Палицын на ту пору в Москве был, вот Иванец и посоветовал к Иринарху с поклоном пойти. Теперь они снова рядом. Ну не чудо ли?.. Впрочем, никакого чуда и нет. Иванец — келейник Палицына. Где ему как не при келаре быть?
От избытка чувств у Кирилы в глазах защипало. Обнимая брата, он вышептнул:
— Обо мне Авраамий спрашивал?
— И не единожды. А нынче повидаться к тебе отпустил. Так что вторую спальную лавку готовь.
Отстранившись от Иванца, Кирила глянул на его спутника:
— А он разве не останется?
— Нет, братко. Се раб Божий Вахтисий из Спасской обители. Сопроводить меня по отзывчивости своей вызвался. Я бы и пеше дошел, да на верхах быстрее. Давай ему за это на прощанье поклонимся.
Они проводили Вахтисия до ворот. Там чернец резво вскинулся на коня и в поводу со вторым скакуном неспешно затрусил в сторону Спасо-Преображенского монастыря. Солнце давно закатилось за черту крепостной стены, но его желтые лучи с розовыми переливами еще подсвечивали вечернее небо. В этих лучах очертания всадника гляделись как изображение, сделанное писчим углем на иконной доске: некий монах-воин, устремленный в даль заоблачную.
— Видишь? — спросил Кирила, захваченный этим видением.
— Вижу! — без объяснений понял его Иванец.
Подождав, пока Вахтисий скроется за поворотом, а вместе с ним померкнет внезапно возникший образ ратника в черном одеянии, соединивший в себе немало славных имен из прошлого и настоящего, братья поспешили в дом. Им не терпелось остаться вдвоем, чтобы наговориться всласть. Затеплив свечу, они уселись друг против друга.
— Ну, рассказывай, братко!
— Ты старший, ты и начинай, — возразил Кирила. — У меня уши чешутся тебя послушать.
— Ладно, — не стал спорить Иванец. — Только нового я тебе мало скажу. В нетерпении люди многих городов и краев пребывают. Устали ждать, когда земская рать из Ярославля к Москве двинется. Спрашивают: когда безнарядью конец будет? Вот и взялся батюшка Авраамий это дело ускорить, а получится, так и Пожарского с Трубецким примирить. Все же они друг к другу ближе, чем к Ивашке Заруцкому. Оба княжеского рода. Душою на царской службе заматерели. Даже наречены одинаково.
— И что из этого? — не удержался от прекословия брату Кирила. — Разве можно сокола с петухом равнять? Один в небе княжит, другой у навозной кучи. Об именах я и не говорю. Сам знаешь: Димитрий по-гречески — сын богини Земли Деметры. К Пожарскому это очень даже подходит, а к Трубецкому? То-то и оно… Димитрии всякие бывают.
— Я сказал: все же. И не со своих слов, братко. За Дионисием и батюшкой Авраамием повторяю. Тут к ним посланцы от Трубецкого приезжали — уверить, что подмосковное ополчение не по своей воле, а по злому умыслу казачьей вольницы псковскому самозванцу Матюшке крест целовало. Слава богу, сейчас от греха этого отложились. Вот и просил Трубецкой передать Пожарскому, что готов мимо Заруцкого с ним в союз войти, за Московское государство верой-правдой постоять.
— Всяк про правду трубит, да не всяк ее любит.
— И я так считаю. Но ведь и за Трубецким немалая сила собралась. Другую-то в помощь взять негде.
— Выходит, Авраамий сюда Трубецким послан? — так и вскинулся Кирила. — А я думал, что его соборные старцы уполномочили.
— Допреж всего он сам себя уполномочил! — голос Иванца дрогнул, на лбу залегла сердитая складка. — Не ожидал я от тебя таких слов о благотворце нашем, братко. Нешто и впрямь думаешь, что он на посылках у Трубецкого может быть? Ну так я тебе твердо скажу: ни у него, ни у кого иного из малых сих! Лишь Господь наш спаситель ему судья да народ православный. Одно им движет: подвиг изгнания из Московского государства изменников и душителей да упование на грядущий мир и покой. Ради этого он готов примирять тех, кого еще можно примирить, собирать тех, кто еще не собран, ободрять слабых духом. Сам знаешь, что в подмосковных станах делается. Многие дворяне для ран, поместного раздела либо от бедности, а больше того — от казачьего грабежу и всякого дурна, которое Заруцкий попускает, прочь разбегаются. Но и в осажденном ими Кремле дела не лучше обстоят. Там сейчас горстка польского и литовского войска осталась. Зборовский свой полк с обозом из Москвы вывел, а те жолнеры, что с ним не ушли, с голоду ропшут, началие свое в копейку не ставят, о том лишь думают, как ноги поскорей назад унести. Следом за Зборовским Гонсевский восвояси собирается. Нюх у него крысиный. Чует, что дело плохо. Самое время по ним общими силами ударить, пока Зборовскому и Гонсевскому смена из Польши не подошла. Вот батюшка Авраамий и спешит увязать подмосковные дела с делами ярославскими. Увязать, а не навязать! Понимаешь?
— Не серчай на меня, Иваша, если я не то ляпнул, — с готовностью повинился Кирила. — Сам не знаю, с чего это я мыслью не туда повернул?
— Истинно речешь: не туда! Ну коли осознал, то и слава богу… Врать не буду: не со всеми соборными старцами и мирской властью у батюшки Авраамия согласие есть. Иные только на словах с ним едины, а на уме готовы повернуть, куда ветер подует. А у Пожарского как? Ладит ли он с Советом всей земли?
— Насколько я успел понять, кое-как. Для бояр он всего лишь неродовитый стольник. Хоть его весь народ на ополчение избрал, а первым воеводой земских полков против коронного литовского гетмана Яна Ходкевича и казачьего атамана Наливайки бояре Совета всей земли своего князя Дмитрия Черкасского-Мастрюкова послали. Но, может, это и к лучшему, что Пожарский в Ярославле остался. Вместе с Мининым они общее дело наладили, мало-помалу власть над боярскими старшинами взяли. На посаде им быть удобней: к войску ближе, от происков ярославской верхушки дальше. Но она и тут Пожарского своими придирками достала. Третьего дня он в Кремль по слову ярославского воеводы боярина Василия Морозова был зван, да по срочной занятости не управился. Так он за ним окольничего Семена Головина прислал. А тот, аспид, все делает с улыбочками. Вот и в этот раз он до того наулыбался, что вечером у князя приступ черной немочи сделался. Он от телесных ран еще не оправился, а тут душевные. Хорошо, Минин рядом был. Он умеет человека из падучей поднять. Уж не знаю, сможет ли Пожарский с Авраамием нынче перебеседовать. Минин к нему никого не допускает. Всем языки строго-настрого велел замкнуть.
— Ах ты, боже мой, какое несчастие!
Движимый нахлынувшими чувствами, Иванец опустился на колени и, крестясь на икону Спаса в красном углу покойчика, зашептал: — О, Христос Всеблагой Господь Бог наш, Всещедрый Владыка, простри твои руки к честному воину князю Димитрию, от всяких бед и лютых болезней его сохрани…
Кирила опустился на колени рядом.
— …також-де от нестерпимыя огневицы, трясовицы и черной немочи избави, от видимых и невидимых врагов соблюди, уврачуй силой своего неисточимого врачевания, даруй здравие на великое дело государского очищения, осияй его светом благодати свыше, сподоби нас, грешных, узреть плоды здравия его и твое милостивое предстательство о детях своих, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
Вместо молитвы, в которую погрузился Иванец, у Кирилы получилось причитание: …избави …соблюди… уврачуй… даруй… осияй… сподоби… аминь. Но причитание это было такое же искреннее, как и молитва.
— Верю я, — торжественно поднялся с колен Иванец, — что даже на ложе болезни князь Пожарский свидится с батюшкой Авраамием. Словом своим он зажжет свечу его выздоровления.
— Вот и наш дьяк Дорога Хвицкий слово Авраамия со свечой Гермогена сравнил, — поднявшись за ним, вспомнил Кирила.
— А какими словами преславный угодниче Христов Иринарх душу твою к Пожарскому подвигнул?
— Не поверишь, Иваша, слов-то особых и не было. Сидел он, мои покаяния слушал, лапоть меж тем плел, а напоследок изрек: стань-де под хоругви нижегородского подвига, остальное тебе само откроется. И лапти в дорогу дал. А я ему — твои медные листы для изготовления крестов.
Иванец приблизил ладони к настольной свече, будто обнимая ими язычок высокого пламени. Глаза его стали большими, золотистыми.
— Вот об чем слагания писать надо, братко. Или канон об Иринархе у тебя уже есть? Ну так поделись скорей!
— Не сподобился покуда, — чувствуя неловкость, вздохнул Кирила. — Признаюсь тебе по совести: отвык слагательно мыслить. Начну и застряну. Будто ходить заново учусь.
— Нешто и впрямь ничего до конца не довел?
— Я же говорю: об Иринархе — нет.
— Об ком же тогда?
— Было дело, во времена благоверного князя Дмитрия Донского мыслями перетек. Очень уж они с нынешними схожи. Но это черновой набросок, не более того.
— Не беда, братко. Любой твой набросок для меня хорош будет. А ну-ка зачти, как бывало, сделай радость!
И так он это сказал, что Кирила встречной радостью исполнился. Достав спрятанный лист, он прокашлялся и объявил название:
— «Доколе».
Помолчав, вскинул голову и, помогая себе голосом, взмахом руки, выражением лица, стал читать:
— Доколе панам литовским резать русские бороды? Доколе поганой орде залесские земли топтать? Время, время настало воздвигнуть черное знамя, с ликом Исуса Христа войском за Дон перейти.
Дон отступить не позволит от поля от Куликова. Опнулась здесь сила о силу. Сошлась здесь со смертью смерть.
«Доколе ярлык на княженье брать из рук окаянных?» — вспыхнул душой князь Дмитрий, что будет назван Донским.
«Коли погибнем, — сказал он. — В руках у Господа будем. Коли в живых останемся, Господу будем прямить!»
Путь он мечами прорубит, палицы кровью омоет, копья о копья сломает, ударит щитами о щит. Скошенным сеном лягут павшие в сече ратники. Орда побежит, увидев, что Русь опять высока.
Но снова и кровь, и распри. Снова ликуют вторженцы. Время, время настало «доколе» лукавым сказать. Не ты ли, княже Пожарский, потушишь пожар застарелый? Не ты ли, скрепившись сердцем, положишь Смуте конец?
Иванец слушал Кирилу жадно, завороженно, а под конец шмыгнул носом и, смахнув набежавшую слезу, срывающимся голосом признался:
— Пронял ты меня, братко, не знаю как… Черновой набросок, говоришь? Дай тебе Бог и дальше таких набросков! Вот с какими словами надо идти в народ! Вот какие грамоты надо слать в города! Завтра же я этот лист батюшке нашему Авраамию покажу. Пусть порадуется, что ты от его слагательных уроков не отошел и про нынешние дела через минувшее время широко мыслишь. А про палицы, кровью в бою омытые, ему, как никому другому, понятно будет. Ведь ты за ними Ивана Микулаевича Палицу рядом с князем Донским себе образно представил? Или я ошибаюсь?
— Нет, — соврал Кирила. — Его имянно.
Сказал и сам в это поверил. Потому поверил, что, описывая Куликовскую сечу, вложил в руки Дмитрия Донского мечи и щиты, копья и палицы всего русского войска, а о том, что среди ратников князя был и прапрапрадед Авраамия, прозванный за богатырскую силу и храбрость Палицей, Кирила знает с тех самых пор, как подростком вместе с Иванцом гостил в родовом поместье своего наставника. Находится оно в Переяславском уезде в тридцати семи верстах от Троице-Сергиева монастыря и зовется Рождеством-Светлым. Место это красоты редкостной: бескрайние луга и дубравы, чистоводное озеро, а на его берегу богатый двор с резными воротами и пятиглавая церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Этим поместьем и еще двумя вотчинами подольский воевода Иван Микулаевич за ратные подвиги был пожалован, за верность русскому оружию. На одной половине его родового щита изображен орел в золотой короне и с золотым клювом, на другой — всадник с палицей в руках.
Вот и Авраамий — монах поневоле. До своего пострижения он воеводой города Колы в Мурманских землях был и звался тогда Аверкием Ивановичем Палицыным. Однако на ратном поприще отличиться не успел. В 7097 году [50] по делу о заговоре Шуйских против Бориса Годунова, в ту пору царского шурина, слуги и наместника при блаженном государе Феодоре Иоанновиче, он в опалу угодил. Поначалу отбывал ссылку в Соловецкой обители на Белом море, потом сумел перебраться в Троице-Сергиев монастырь, но долго в нем не задержался. Около десяти лет провел в Богородско-Свияжской обители под Казанью и лишь в царствование своего доброжелателя и покровителя Василия Шуйского вернулся в Троице-Сергиев монастырь — да не простым иноком, а могущественным келарем. Теперь он ведает не только имуществом, но и всеми мирскими делами первейшего на Руси монастыря.
— А помнишь, братко, как мы с тобой в Рождестве-Светлом палицы тайно поделали и, вообразив себя ратоборцами, в чащу лесную заломились? Глядь, навстречу чудо-юдо рогатое. Му-у-у! Пригляделись, а это бычок от стада отбился. Вот смеху-то было!
— С бычком ладно, — оживился Кирила. — Я другое запомнил: как мы те палицы за тучу закидывали. Кто выше, тот и богатырь. Я кинул, да себе же на голову. Хорошо, палица легкая была. Ушибом отделался.
— Спать с ними ложились, — подхватил Иванец. — Верили, что за ночь сила из них в нас перетечет, — но вдруг осекся и, тяжко вздохнув, другим голосом продолжил: — Наведались мы недавно с батюшкой Авраамием в Рождество-Светлое. Ох, наведались! Литвяки по нему саранчой прошли. Все пограблено и порушено. Нет больше Рождества-Светлого, осталось лишь Рождество-Пустое. Так теперь его надо называть. А когда мы сюда мимо Ростова путь держали, завернули в Протасово, где батюшка Авраамий на свет появился. Но и это имение Палицыных по рукам пущено. Там Ян Сапега побывал, в людей страх вложил, обобрал до нитки. Если что и осталось, так одни слезы.
— Ничего, Иваша, те слезы им еще отольются. Сломают козлы головы по самые бороды! Давай лучше пращура князя Пожарского вспомним, Василия Андреевича Стародубского. Он ведь тоже на Куликовом поле был и рубился с Мамаями не хуже Ивана Микулаевича.
— Да ну?!
— Вот тебе и да ну! Я тут между прочим родословную Стародубских-Пожарских через воеводского дьяка Семейку Самсонова вызнал. И кто бы ты думал во челе этой родословной стоит? — Младший сын великого князя Всеволода Большое Гнездо, правнук Владимира Мономаха.
— Выходит, Пожарский из рюриковичей?
— Выходит, так. А дед его, Федор Иванович Немой, был в числе тысячи лучших слуг Иоанна Грозного. Под его рукой и на Казанское взятие ходил. Кабы не опала, что на него опричники возвели, род Пожарских и ныне бы высоко стоял. Видишь, как судьба заслуженных людей злой рукой гладит?
— Теперь все переменится, братко, вот увидишь! — заверил его Иванец и напомнил: — А сейчас твоя очередь рассказывать. Только все по порядку…
Спать они легли за полночь, но еще долго переговаривались, лежа в темноте с открытыми глазами, слыша, как в углу скребется мышь, а за окном шелестит вновь набежавшая морось, которую и дождем-то не назовешь.
Уже под утро приснилось Кириле, что стоят они с Иванцом посреди Рождества-Пустого. Двери и окна вокруг настежь распахнуты, дождь проливной хлещет, до нитки их промочил. Посреди дождя свеча негасимая горит, а над ней радуга семицветная мреет.
Но вот свеча навстречу двинулась, и видно стало, что держит ее почтенного вида и возраста черноризец. Лицо у него широкое, скуластое, взгляд пронзительный, нос прямой, точеный, а губы в окладистой бороде утонули. Коренаст, дороден, первой сединой тронут.
— Видишь? — шепотом спросил у Иванца Кирила.
— Вижу! — эхом откликнулся тот. — Се наставник наш батюшка Авраамий, братко.
Приблизившись, Авраамий коснулся креста на груди Иванца, и крест тотчас огненным сделался.
— Служи и дальше благоверию, чадо, — раскатисто изрек он и оборотился к Кириле: — А ты, чадо, слову душеподъемному служи. Язык коснеет, а перо не робеет. Вот тебе перо, мной отточенное. Оно промаху не даст, — и протянул ему негасимую свечу. — А теперь ступайте, детушки, всяк к своему делу, будьте ему свечниками.
Не успел Кирила и шага сделать, свеча в его руках в огненное перо превратилась.
А дождь все лил и лил, извергая на землю бушующие потоки.
У распахнутых настежь ворот братья разом оглянулись. За спиной Авраамия им увиделся манящий призрак высокого седовласого старца с огненным посохом и огненными очами.
— Видишь? — снова спросил Кирила.
— Вижу, братко, — ответил Иванец. — Се святитель и преподобномученик Гермоген, обережатель миру крещеному. Он знак нам подает, что свет стоит до тьмы, а тьма до свету. Пора из тьмы выходить.
И только он эти слова произнес, дождь обмяк, поредел, а потом и вовсе прекратился.
Кирила открыл глаза, соображая, где это он. Глянул на спальную лавку у противоположной стены. Иванца на ней не было. Значит, ушел, когда звезды еще только-только до зари досветились. И лист с «Доколе» унес. Хорошо это или плохо, наперед не узнаешь…
Весь день его жгла тревога: не помешает ли внезапно обострившаяся болезнь Пожарского делу, с которым прибыл в Ярославль Палицын, а если нет, то договорятся ли они о времени выступления нижегородского ополчения к Москве?
К вечеру стало ясно: договорились. Об этом с великой потайкою сообщил Кириле Семейка Самсонов. Пожарский пообещал Палицыну и соборным старцам Троице-Сергиева монастыря, что уже до Владимира-Красна-Солнышка [51] выступит под Москву его передовой отряд, а после переговоров с новгородским посольством, которые состоятся в Ярославле, и вся остальная рать следом двинется. Нельзя сказать, что Палицын остался доволен таким решением, но и недовольства большого не выказал. На очереди у него встречи с Морозовым, Долгоруким и другими боярами, стоящими во челе Совета всей земли.
«Теперь Авраамию не до меня будет, — полуогорчился-полууспокоился Кирила. — Ну и пусть! Хватит и того, что я с братом увиделся».
Однако утром следующего дня Афанасий Евдокимов, глянув в окно, всполошился:
— Мать честная! Никак сам троицкий келарь к нам пожаловал! Не к тебе ли случаем, Кирила Нечаевич?
Кирила поспешил к окну. И правда, у Посольской избы остановилась монастырская коляска. Из нее вышел Авраамий Палицын и, сопровождаемый Иванцом, неспешно проследовал к переднему крыльцу. Вскоре его шаги послышались на лестнице. Отворилась дверь, и в палату вплыл раскатистый голос:
— По здорову ли живешь, чадо? Встречай на досуге!
Кирила припал губами к его руке, пахнущей благовонным маслом, а Палицын в ответ по голове Кирилу погладил:
— Ну вот и свиделись! Дай-ка я на тебя погляжу… Слов нет: возмужал, возмужал! И к делу пристрастен. Я тут успел немало похвальных слов о тебе услышать и премного рад этому. Так и будь, чадо! А лист со слаганием, что Феодорит от тебя намедни явил, и вовсе меня утешил. Теперь моя душа за тебя спокойна: на правильное место Бог тебя вывел…
Палицын говорил, не давая Кириле слова вставить, но это Кирилу не тяготило. Напротив, он рад был, что ему можно только смотреть и слушать, слушать и смотреть.
А за окном играло лучезарное солнце, какое обычно бывает на день святых апостолов Петра и Павла. По народной примете с Петрова дня лето красное начинается, зеленый покос. Каков-то он на самом деле будет?
Один ополчения не делает
Миротворное слово, данное Авраамию Палицыну, Дмитрий Пожарский исполнил в точности. В середине июля он отправил под Москву конных дворян с боевыми холопами — общим числом в четыреста сабель. Отряд хоть и небольшой, но отборный: у каждого за плечами не одна схватка с неприятелем. А воеводами над ними князь поставил московского дворянина средней руки Михайлу Дмитриева и потомка захудалого тверского боярства Федора Левашова.
Выбор на них пал не случайно. Дмитриев еще при царе Иоанне Грозном службу начинал. Ратным духом крепок, в делах междоусобных многоопытен, судьей на различных тяжбах и сложных переговорах бывал. Когда поляки Гонсевского Москву с холодным расчетом выжгли, в ополчение к Прокопию Ляпунову подался. Ляпунов Дмитриева и его людей с честью принял, а самого Михайлу Самсоновича своим соратником и советником сделал. Так что в подмосковных делах Дмитриев как никто другой сведущ. Он знает, чего от засевших в Кремле и Китай-городе поляков и седьмочисленных бояр ждать, как вести себя с рыскающими в поисках кормов отрядами Яна-Кароля Ходкевича, но особенно — как в отношениях с Трубецким и Заруцким промашки не дать. Уж он-то их двоедушную натуру знает.
Левашов вдвое моложе Дмитриева, а потому излишне горяч, нетерпелив, а порой неуживчив, но силы и смекалки ему не занимать. Любое слово Михайлы Самсоновича для него неоспоримо. Это после Пожарского, пожалуй, единственный человек, которому он готов подчиняться беспрекословно. Именно такой товарищ и нужен на походе Дмитриеву. Один другого дополнит, а надо будет — и заменит.
Отправляя их в дорогу, Пожарский наказал:
— Ваша задача, други, в Москву во что бы то ни стало войти, между Тверскими и Петровскими воротами острожек поставить и рвом его тотчас обнести. В стан Трубецкого, а тем паче Заруцкого, входить не велю, даже если они звать к себе станут. Однако всех, кто от них захочет к вам перейти, принимайте. В первую голову казачью голытьбу и земских охотников. Они от своих атаманов столько всякого натерпелись, что держаться за них не будут. При этом смотрите, чтобы кто во измене к вам не явился. Но главное, повторяю, в Москву войти, первую ногу там поставить.
— Хорошо задумано, Дмитрий Михайлович, — похвалил Пожарского Федор Левашов. — А кабы сразу двумя ногами ступить, так еще бы и лучше было!
— Лучше-то лучше, да нам во все стороны глядеть надо. Чай, не одна Москва внимания требует, другие направления тоже. А ну как шведы из Тихвина по Белозерску ударят? Ныне без выхода в Поморье нам не сдобровать. Всему свой черед. Пока с новгородцами о мирном соседстве не уговоримся, трудно мне полки в одну сторону разряжать, — тут Пожарский перевел взгляд на Дмитриева: — А ты что молчишь, Михайла Самсонович? Или другое мнение имеешь?
— У меня одно мнение: каждый на свое дело переложиться должен, — спокойно ответил тот. — Сделаем, Дмитрий Михайлович! Нельзя не сделать.
— Ну тогда в путь! — обнял его Пожарский. Затем обнял Левашова: — Не подведите, родимые. Сохрани вас Бог…
Он чувствовал себя бодрым и здоровым. Ни озноба, ни стеснения в груди, ни кружения головы, которые обычно предшествовали приступу черной немочи, князь не испытывал. Маньяки [52] у него перед глазами не появлялись, топтаться на месте его не тянуло, однако последний приступ падучей, случившийся неделю назад, научил его не обольщаться внезапному приливу сил…
В тот раз, почувствовав такую же, как сегодня, легкость в теле и желание не медля заняться делами, которых за время его болезни накопилось превеликое множество, Пожарский велел своему стремянному Роману Балахне заседлать Серка. Прямо с крыльца шагнул в стремя и, раздумывая, куда ему следует отправиться в первую очередь, сделал по двору круг, потом другой, третий. День выдался жаркий, безветренный. Конь шел боком, ожидая, пока перед ним распахнут ворота, нетерпеливо частил ногами.
И вдруг князь ощутил, как изнутри его, раздирая грудь, исторгается нечеловеческий крик. Он сам не узнал свой голос. По телу прокатилась внезапная судорога, руки и ноги свело, голова запрокинулась, небо перевернулось…
Очнувшись, Пожарский долго не мог понять, где он, что с ним. Наконец сообразил, что лежит на земле, под сплетенным из лыка теремцом [53], другое лыковое плетение втиснуто ему меж зубов, кафтан на груди расстегнут, под голову положено что-то мягкое, а мизинец левой руки придавлен подошвой широкого в носке сапога из зеленой юфти. Чей это сапог, он сразу догадался. Ну, конечно, Кузьмы Минина. Так он припадок черной немочи останавливает. Вот же дал Бог человеку способность чувствовать, где он в этотчасец нужен. Можно сказать, счастливый случай, а можно сказать: так и быть должно.
Другой счастливый случай — поведение Серка. Когда у Пожарского судорога началась, конь не вздыбился, не понесся вскачь, как сделал бы другой жеребец, почувствовавший лихорадочные удары стремян, а остался стоять на месте, еще и крупом заметно осел, будто зная, что надо делать. Подоспевшие на помощь Роман Балахна и Кузьма Минин подхватили князя на руки и без ушибов уложили наземь.
С виду Серко и впрямь сер: темная шерсть у него с белой перемешана, но белой значительно больше. Он ею, как сединой, припорошен, хотя летами еще не стар — об этом говорят не исчезнувшие до конца яблоки на боках, густая черная грива и такой же черный упругий хвост. Рядом с иноходцами бояр, возглавляющих Совет всей земли, Серко не смотрится: слишком уж простоват, не породист. Разве такой скакун большому воеводе ополчения положен? Но Пожарский его не за масть любит, а за преданность и понимание. И Серко отвечает ему взаимной любовью.
Не менее предан Пожарскому Роман, невидный из себя молчун с рябым от оспы лицом и печальными глазами. В прежние годы он ломал соль в Балахне, а когда его земляк Кузьма Минин, ставший нижегородским старостой, призвал народ не жалеть имущества и животов своих на строение ратных людей, одним из первых отдал в общую казну все, что имел. Минин ему безоговорочно верит, потому и убедил Пожарского взять Романа к себе вторым стремянным. И правильно сделал. В отличие от молодцеватого рязанца Семена Хвалова его обычно не видно и не слышно, но в нужную минуту он всегда оказывается рядом. Вот как сейчас.
— Рано тебя молодечество взяло, Димитрий Михайлович, — с ласковым упреком склонился над распластанным посреди двора князем Минин. — Придется тебе еще чуток на покое побыть. И без тебя управляемся.
Словно подтверждая его слова, между плечами Минина и Романа Балахны потянулась к Пожарскому губастая морда Серка. Погладив ее, князь будто и своего ближайшего помощника погладил.
— Ладно, — едва ворочая языком, произнес он. — Побуду… Что бы я без вас делал? — и провалился в глубокий врачующий сон.
Если бы сейчас Пожарского спросили, сколько за неделю лекарь Минина Герась Недосека в него лукового сока, травяных отваров, кваса на корнях полыни и медвежьей желчи с медом влил, он, не задумываясь, ответил бы: ведро — и был бы недалек от истины. Однако не только покой и снадобья поставили его на ноги, но и сознание того, что связи с людьми, избравшими его своим предводителем, до того крепки и многосторонни, что теперь и без его присутствия на станах ополчения дело не застопорится, а еще и усердней делаться будет…
Едва за Дмитриевым и Левашовым закрылась дверь, Пожарский перешел в иконный угол.
— Помоги, Господи, нашему делу и дальше исправно делаться, — перекрестясь, зашептал он. — Мало ли что со мной может статься. Ополчение — не стадо, чтобы без пастуха с дороги сбиваться. Каждый в нем головой и руками общей силы должен быть, ее умом и мечом, верой и совестью. Лишь так мы нынешнее лихолетье изживем и своими порядками жить станем.
Положив на себя новый крест, Пожарский вздохнул:
— На бояр, что лишь выгод от ополчения ищут, у меня, Господи, надежды мало. Сбежались они в Ярославль до поры до времени, а как потребуется свои головы на ратное дело нести, так и развеются, будто дым. На воевод честных и отчизных единственно уповаю, на посадский люд, крестьян да на человека всех мер и достоинств Кузьму. Благодарю, Господи, что дал ты мне их в товарищи.
Перекрестившись в третий раз, Пожарский признался:
— Чаял я, Господи, своего брата по дяде, Дмитрия Петровича Лопату, ныне под Москву двинуть, да он в Устюжне Железопольской непредвиденно задержался. Пришлось к Москве Михайлу с Федором посылать. Слов нет, они люди столь же надежные, но я-то в своих расчетах на Дмитрия настроился. В полковой службе он до недавних пор нужного опыта не имел, но когда до боевых действий дело дошло, многих бывалых военачальников хваткой и доблестью превзошел. К тому же он одноименник и близкий родич мой — Дмитрий Пожарский, но ветвью Лопата. Вот я мысленно себя в него и вложил, чтобы незримо к Москве идти, с пути не сбиваясь. Не сочти это за самообольщение, Господи, но мне на том твой голос был. Дозволь еще раз дерзнуть и ему последовать. Как только Дмитрий здесь будет, велю ему второй отряд к Москве собирать. Дам под начало и конных, и пеших ратников — вдвое больше, чем первому отряду. Прав Авраамий, поспешать на приступ надо, — и вдруг посетовал: — Застоялись мы с Серком дальше некуда. На люди нам пора, Господи, — в земскую избу, на площадь, в походные станы… Вразуми Кузьму, Господи, чтобы он меня больше не жалел. Пусть двери ко мне настежь откроет, а?..
Уже на следующее утро эта его просьба начала исполняться. Минин к нему казачьих атаманов, Ивана Бегичева с Иваном Кондыревым, привел.
— По добру по здорову, люди добрые! С прибытием вас! — чуть прихрамывая, вышел в приемную палату Пожарский. — С каким делом пожаловали?
— Дело делу — рознь, а иное — хоть брось! — усевшись на гостевую лавку, издали начал Бегичев. — Кто в деле, тот и в ответе.
Скулы у него шире ушей, прокуренные усы ниже обритого подбородка свесились, нос орлиный, взгляд петушиный, жесткие волосы на голове горшком стрижены. Летами не молод, но еще и не стар.
— Еросливому да копостливому и свято дело не в честь, — согласно закивал мешковатый, щекастый, похожий на большого бородатого ребенка Кондырев. — Мы к тебе со своей бедой пришли, князь, сказать, что на Ивана Заруцкого серчаем.
— Это потом, — неодобрительно глянул на него Бегичев. — Сперва-то нам проведать желательно, как тут у вас дела делаются, с нашим житьем их сравнить. Ведь на одних татей ополчились…
— На одних, да по-разному, — строптиво перебил его Кондырев. — К чему вокруг да около ходить? Так и скажи, Иванко, что дело Заруцкий неладно поставил. Сам во все горло живет, а нам на горло бесчинно наступает.
— Дак ты, Иваха, уже сам все и сказал, — усмехнулся Бегичев. — Тебя разве остановишь?
— И не надо останавливать, — поспешил с примирительным словом Пожарский. — В избе у меня, атаманы, много не увидишь. Для этого надо на станах побывать, в людях. Вот и побудьте, посмотрите своими глазами. А пока, чтобы время зря не терять, беду вашу давайте обсудим. Она, как я понял, и нас касается.
Атаманы переглянулись.
— Что верно, то верно, — согласился Бегичев. — Ну тогда слушай, Дмитрий Михайлович. Мы люди обычные, худые, но в расхищение окрестным государствам руськую землю решили не давать. Потому и пошли под начало к Заруцкому.
— Из каких краев? — уточнил Пожарский.
— Из Перемышля и других украинских городов и весей. Как только услыхали, что Заруцкий за правду неподвижную стоит, так и влили свои силы к нему в ополчение. Думали, он и впрямь с нами братствовать будет, понеже родом из наших мест, да многие слова у него с ветру сказаны. В одну сторону говорит, а глядит-то — в другую! Рука у него на ляхов тяжелая, тут спору нет, но стоит ему оружие из рук выпустить, они у него загребущими становятся. Он ведь много городов и волостей на себя бесчинно записал. Торгует поместьями и должностями, как цыган ворованными коньми, а мы в землянках мерзни, в плохих кожухах и шлыках бараньих холодуй и голодуй! Вот тебе и первый среди равных, как быть должно по законам казачества. Ему такой царь нужен, при котором можно грабить и властвовать.
— И жалованья из земской казны совсем не дает, — поддакнул Кондырев. — Одеянье на нас, поглянь, — износилось в нитку. А на казаках — и того хуже. Но в приговоре-то всей земли, что еще при Прокопии Ляпунове оглашен был, ясно сказано, что ежели атаманы и казаки служат давно и захотят верстаться поместными и денежными окладами и служить с городов, то их желание надлежит тут же исполнить. А которые верстаться не захотят, тем давать хлебное и денежное жалованье. А жалованья-то у нас как не было, так и нет.
— О притеснениях казакам и земцам от Заруцкого говорить и вовсе обидно, — терпеливо выслушав товарища, чинно продолжал Бегичев. — От его гордости и самоуправства нам много позору и бесчестия сделалось. При всяком удобном случае он боярством своим без зазрения совести величается. А какое это боярство, ежели оно в Тушине у самозванца законопреступного получено? Хуже того, Заруцкий нынче с Ходкевичем тайные сговоры завел. Гетман его прельщает на королевскую сторону перейти. Сговорились они или нет, врать не буду, но для меня большого удивления не будет, ежели сговорятся.
— И для меня, — поддакнул Кондырев.
— А не поблазнилось ли вам про сговор, атаманы? — испытующе глянул на них Пожарский. — Чем слова свои подкрепите?
— Есть чем, — сам того не замечая, Бегичев стал подкручивать сначала один, затем второй ус. — Недели с две назад к князю Трубецкому польский ротмистр Павел Хмелевский со своим отрядом перебежал. Он из тех, кому в нашествии на нашу землю участвовать прискорбно. Терпел он терпел неправды своего короля Жигимонта да и решил перейти на руськую службу. А чтобы ему веры больше было, указал в нашем стане лазутчика, через которого гетман Ходкевич с Иваном Заруцким сносился. Лазутчик этот именем пан Болиславский. Сразу хватать его не стали, дождались, когда он под Волок Ламской к Ходкевичу тайком пустится. Тут уж все улики налицо. Сперва-то панок этот запирался, юлил, но как только его на пытку огнем взяли, язык тотчас развязал. Но разве Трубецкой отважится иск Заруцкому вчинить? Так пока все дело и повисло. Одни казаки горой за Заруцкого стоят, другие в тяжелом недоумении пребывают, третьи приповесили головушку на левую сторонушку. А он волком по станицам мечется либо торчит меж людей, как пугало в горохе.
— По такому случаю, князюшка, и хотим тебя поскорей к Москве звать, — не утерпев, забежал вперед Кондырев. — Нам свежий заводчик нужен, достоверный, об литву и самозванство не замаранный. Как ты.
— Дело ваше понятное, атаманы, — помолчав, ответил Пожарский. — И у меня веры к Заруцкому нет и не будет. Все мы в плену у его козней и сумасбродств оказались. Хуже нет измены от того, на кого прежде уповали. Но один человек ополчения не делает, хоть он какой умелый ни будь. Это и ко мне также относится. Вместе будем стараться, сколько Бог помощи подаст. Сила к силе идет, честь к чести. Где им нынче сойтись как не под Москвой? Я туда и воевод дозорных нынче послал, чтобы у Тверских ворот накрепко стали. Вы их по пути должны были встретить.
— Как же, встретили! — разом откликнулись Бегичев и Кондырев. — А тебя самого когда ждать?
— По обстоятельствам, атаманы, по обстоятельствам. Точно сказать пока не могу, уж не обессудьте. Но вот что хочу знать из первых уст: каковы сейчас дела у кремлевских поляков?
— А какие дела могут быть у голодных тараканов? — дернул себя за желтый ус и поневоле скривился Бегичев. — Рыскают, где бы съестную крошку ухватить. Царскую казну вконец растащили. Теперь покрова с усыпальниц московских государей сдирают, золотую и серебряную утварь намелко крошат. Но ими сыт не будешь. Корма нынче дороже золота и алмазов стали. Города-то и волости вкруг Москвы дотла разграблены. Приходится ихним заготовщикам в глубинки черные забираться, в лешие места, да не все оттуда назад возвращаются. На что у нас народ смирный был, а и тот нынче всколыбался, в топоры и вилы ляхов ловит. Ну и мы, конечное дело, побиваем. Однако полной осады Кремлю сделать не получается. Сил маловато. Этим Ходкевич и пользуется. Кабы не он, кремлевские поляки давно передохли бы. Он их припасами поддерживает, но сам в Кремль не становится. Опасается, как бы в ловушку вместе с ними не попасть. Хитер бобер…
— А Гонсевский вслед за паном Зборовским еще не пустился?
— Утек! Только его и видели. Но с ба-а-льшой добычей. Сколько сокровищ он нахватал, один черт ведает. Шиши, что на Смоленской дороге озоруют, его подловили. Но пешим с конными разве совладать? Гайдуки Гонсевского над ними верх взяли. А кого им словить удалось, на кол в устрашение другим посадили. Сильно лютуют, телячьи головы! Ну, ничего, скоро долютуются.
Издевка Бегичева понятна Пожарскому. Православная церковь употреблять в пищу телятину не велит, а католическая разрешает. Вот и приклеилось к полякам прозвище телячьи головы.
— Кто же теперь на месте Гонсевского? — спросил Пожарский. — Или никого еще нет?
— Смоленский наместник Ян Потоцкий племянника своей сеструхи, Николая Струся, с подкреплением прислал. По нашим прикидкам у него под рукой до трех тысяч войска. Да у Езифа Будзилы в Кремле полк. Но Струсь с Ходкевичем крепко не ладят, чтоб им и дальше друг другу хвосты крутить! А Будзила меж ними, как зерно между жерновами, попасть не хочет. У него своя печаль: как бы скорей в Корону Польскую с золотой сумою вернуться. Так и живут в разные стороны…
Почему мира между Струсем и Ходкевичем нет, Пожарскому объяснять не надо. Да потому, что Струсь — мелкая сошка, гонорный поляк, возомнивший себя орлом, а коронный литовский гетман Ян-Кароль Ходкевич и впрямь орел. Это он семь лет назад наголову разгромил при Кирхгольме в Ливонии шведского короля Карла Девятого и его восьмитысячное войско. За ним числятся и другие громкие победы. По заслугам рядом с Ходкевичем можно поставить разве что престарелого коронного польского гетмана Станислава Жолкевского, но тот отказался продолжать войну с Россией. Случилось это после того, как польский король Сигизмунд нарушил договор об избрании на московское царство королевича Владислава и заключил под стражу непреклонных русских послов Василия Голицына и Филарета Романова. Сигизмунду ничего другого не осталось, как поставить на место престарелого, склонного к допотопному рыцарству Жолкевского литовского гетмана, пообещав в случае победы отдать Смоленск великому княжеству Литовскому. От такого предложения Ходкевич отказаться ну просто не мог.
А вот имя польского ротмистра Хмелевского, всплывшее рядом с именем Ходкевича, заставило Пожарского вспомнить ожесточенный бой с ротой неприятеля в сорока верстах от Коломны у села Высоцкое. Время стерло подробности, но оставило в памяти то упорство, с которым сражались застигнутые врасплох гусары и черкасы под началом своего удалого головы. Хорошо бы узнать, тот ли это Хмелевский или всего лишь его соименник. Хмелевских среди поляков хоть пруд пруди…
Слушая Бегичева, Пожарский мысленно соединял имена, события, расположение противоборствующих сторон, вспоминал упрек Авраамия Палицына в промедлении к пользе поляков, спрашивал себя, а не лучше ли было бы и впрямь угрозой со стороны Новгородского государства пренебречь и, пустившись на удачу, вместе с подмосковными ополченцами на приступ временно опустевшего Кремля поспешить? Вроде бы разумно. Но всякий разум на своей выучке держится, на своих обстоятельствах. Да и поздно назад оглядываться. Вперед смотреть надо. Что случилось, того не переиначишь…
Два дня пробыли в Ярославле атаманы. И так им порядок и согласие в нижегородском ополчении понравились, что Кондырев признался Бегичеву:
— Как все равно на другом свете побывал. На божеском. Уезжать жалко.
— Ну дак и оставайся, Иваха. А я твоим казакам скажу, что ты с Пожарским за кушаньем сидеть разохотился. Пусть-ка у них слюнки текут, тебя вспоминаючи.
— Экий ты, Иванко, зловредный какой! Возмечтать не даешь!
— Ладно, мечтай, только с коня не свались ненароком. Мне тебя подымать неохота.
Шутки шутками, но и Бегичев не меньше Кондырева расчувствовался. Да и было с чего. Пожарский на прощанье их сукнами на платье одарил, ратным оружием, серебряными ефимками и сердечным напутствием:
— До скорой встречи, атаманы. Коли Заруцкий притеснять станет, к воеводам Дмитриеву и Левашову ступайте! Главное — в кулак собраться да и ударить им по окаянной шее…
Именно в эти два дня Пожарский почувствовал, что черная немочь его наконец-то отпустила и можно опять себя не жалеть. А тут и князь Дмитрий Лопата-Пожарский из Устюжны Железопольськой, которую защищать от шведов был послан, наконец-то вернулся. Да еще и с обозом. В Ярославль он доставил сорок возов ядер, пищалей, дроби и копий да двадцать возов скоб, гвоздей, прутового железа, лопат, кирок для Спасо-Преображенского монастыря, да еще столько же возов со съестными припасами для ополченцев.
Осмотрев грузы, Пожарский похвалил Лопату:
— Молодецкое дело управил, брат! Готовься к новому! А пока обскажи, что на Мологе и вокруг делается? Не было ли покушений Устюжне от шведов или от гулящих черкас?
— Бог миловал, Дмитрий Михайлович. Стоит, как утес на болоте. Шведам она не по зубам. На Белоозере бы такую иметь…
Годами князь Лопата старше Пожарского, нравом степенней, видом значительней, но обращаться к брату привык по отчеству. И нет в том показной ущемленности родича, а есть лишь признание его заслуг и воинского старшинства. К тому же князь Лопата немногословен. В пять-шесть слов он умеет уложить то, на что другой сотню потратит…
В прежние времена Устюжна была обычным торговым и ремесленным посадом, никаких укреплений на случай военных действий не имела. Но когда литва и поляки, нахлынувшие вместе с первым самозванцем Гришкой Отрепьевым, стали ее пустошить, а затем Тушинский вор своих людей собирать корма, налоги и кузнечные изделия «царским именем» прислал, железопольцы грудью против них встали. Всего за месяц они свой мирный посад такой крепкой стеной обнесли, такие высокие сторожевые башни в них врубили, что если со стороны посмотреть, Устюжна и впрямь на утес похожа сделалась. А у подножья этого утеса глубокий ров с частоколом на гребне лег. На верхах через него не проскочить, кони брюхо порвут. Другой такой крепости на севере теперь и не сыщешь. Что до болота, про которое князь Лопата упомянул, то устюжское железо и впрямь не в горах добывается. Берега Мологи, Ворожи и Инжи, на которых Устюжна укоренилась, твердую и плодородную землю имеют, а вокруг — зыбкие болота. Вот и получается: утес на болоте.
Пожарскому это растолковывать не надо, он все на лету схватывает.
— И я того же мнения держусь. В Белозерске крепость не хуже устюжской надо поделать. Как думаешь, кого мне туда послать? — испытующе поглядел он на брата.
— Только не меня, — отрубил Лопата. — Я спиной назад ездить не умею.
— А коли не тебя?
— Тогда Григория Образцова, — облегченно вздохнул тот.
— Вот и я так думаю: Образцова. А ты, не мешкая, отряд под Москву собирай! — велел Пожарский и хмыкнул: — Ишь, ухарь. Спиной назад он ездить не умеет. А другим это, выходит, за обычай? Не тебе бы так говорить, Дмитрий, не мне бы слушать.
Князь Лопата на это лишь плечами пожал. Он свое слово сказал, а последнее пусть за Пожарским остается. Кому как не большому войсковому воеводе положено его говорить?
Обсудив спешные дела, братья расстались. Но из одних спешных дел тут же вырастают другие. Пожарский прежде всего тем озаботился, что вологодский воевода Петр Мансуров дымного пороха ему прислал на треть меньше, чем было договорено, а князь Лопата обнаружил, что коней в отряде не достает. Вот и пришлось в Вологду атаманов Олешку Кухтина и Андрея Шилова отряжать, а в монастыри, которые ополчению коньми задолжались, атамана Евстафия Петрова и Якова Мокеева.
Много и других забот на них навалилось. Но чем бы они ни занимались, мысль о броске под Москву отряда дворянской конницы не давала им покоя. Пожарский снова и снова спрашивал себя, правильно ли он рассчитал время и силы, не допустил ли какого-нибудь промаха? А Лопате не терпелось узнать, с чем ему придется столкнуться вскоре.
И вот наконец долгожданная весть пришла: выдержав короткий, но жестокий бой с польскими гусарами, заступившими коннице дорогу, отряд Дмитриева и Левашова прорвался к Тверским воротам Белого города и сумел там укрепиться. А помог им в этом тот самый перебежчик Павел Хмелевский, что указал князю Трубецкому лазутчика в стане Ивана Заруцкого. В решающую минуту он со своими пахоликами ударил полякам в спину. Пока те разворачивали коней, не зная с кем рубиться, отчаянный вихрь рассек крылатые эскадроны и обратил их в бегство.
Помня наказ Пожарского, Дмитриев тут же отправил к нему гонцов с известием о первом успехе. Ротмистр Хмелевский со своими людьми вызвался сопроводить гонцов. В пути к ним присоединились князь Иван Буйносов-Ростовский и выборный дворянин Наум Плещеев. Так что в Ярославль они прибыли сборным отрядом.
Едва глянув на Хмелевского, Пожарский понял: это тот самый поляк, с которым они когда-то рубились у села Высоцкое. Правая щека белым рубцом до ресничной дуги стянута, и от этого кажется, что глаз ротмистра до половины наружу вылез. Смаргивает редко, глядит в упор. Но в остальном лицо Хмелевского уродливым не назовешь. Черты у него тонкие, выразительные, кожа обветрена и покрыта плотным загаром. Он-то и подчеркивает голубизну его глаз.
— Многолетствуй, коронный воевода! — приложил руку к груди Хмелевский. — Кого Бог свяжет словом, того ни царь, ни король не развяжет. Вот так и я с тобой верным словом связаться хочу. Прими под свое начало! В князе Трубецком я промашку дал. Заруцкому не верю вовсе. Коли и в тебе промахнусь, в монастырь уйду. Другой жизни мне нет.
По-русски он говорил легко, но по тому, как складывал и произносил слова, угадывалась речь поляка. Она хорошо вязалась с его суровым обликом, исполненным скрытой телесной силы, со словами Ивана Бегичева о нем и, конечно, с отвагой, которую ротмистр проявил в сражении со своими соотечественниками под Москвой. Что и говорить, для него это был трудный, но осознанный выбор. Выбор человека чести.
— И ты, пане Хмелевский, многие лета здравствуй, — ответно приложил руку к груди Пожарский. — Рад видеть тебя в наших полках. Узнаешь ли меня?
— Узнаю, князь.
— Вот и ладно, союзник. Отныне мы служим общему делу…
Слушая их, Буйносов и Плещеев оскорбленно кривились. На их лицах было написано: «Где это видано, чтобы коренных русичей из старинных дворянских семей за спиной поляка-перебежчика держать?».
Однако Пожарский вид сделал, что их возмущения не замечает, а про себя ругнулся: «Не вам бы на меня глаза выпучивать, голуби. Нынче трудно такого дворянина сыскать, который бы тому или другому самозванцу не прямил, а вместе с ними и польскому нашествию. Лучше на себя посмотрите да вспомните хорошенько свои грехи».
А грехов у обоих и впрямь достаточно. Наум Плещеев тем прославился, что семь лет назад вместе с думным дворянином Гаврилой Пушкиным в Москву, присягнувшую сыну скоропостижно скончавшегося царя Бориса Федору Годунову, прелестную грамоту Лжедмитрия Гришки Отрепьева явил. Зачитанная с Лобного места, она воспламенила толпу на разграбление Кремля и подлое убийство юного царя Федора вместе с его матерью-царицей. А когда самозванец, окруженный польскими гусарами, торжественно в Москву въехал, тот же Наум Плещеев послушно за ними последовал. С тем же рвением служил Лжедмитрию и его польскому окружению Иван Буйносов-Ростовский. Лишь позже они одумались, на сторону первого, а затем второго ополчения перешли, в стычках с литвой и черкасами атамана Наливайки свою верность отечеству показали. Буйносов был ранен и отбыл на лечение к себе на Манатьин стан Вяземского уезда, а Плещеева Совет всей земли отправил с поручением в понизовые города. Оба теперь на хорошем счету, но и о прошлом забывать негоже.
Закончив разговор с ротмистром Хмелевским, Пожарский внимание на Буйносова и Плещеева переключил.
— Вы у меня свои люди, — обезоруживающе улыбнулся он. — Чай, не обиделись, что я с нашего союзника встречу начал? Он с боя прибыл…
— Да и мы не с прогулки, — насупился Плещеев. — Полторы сотни даточных людей с монастырских и дворцовых вотчин тебе в пополнение привели, послание игумена Исайи из Сторожевского монастыря в Звенигороде, свежие известия из других городов, а ты нас на ногах держишь.
— Почетных людей стоя принимать следует, — нашелся Пожарский. — Тем паче с долгожданными известиями и ратным пополнением. От души благодарствую, радуюсь и приветствую. Не числом дело красится, а душевным рвением. Ну а теперь садитесь, други, рассказывайте. И ты с нами останься, пан Хмелевский. Коли будет что сказать, скажешь. Первым делом мне хотелось бы услышать, какие города по-прежнему к Ивану Заруцкому склоняются.
То ли нарочно, то ли случайно Плещеев начал с Заразска, где прежде воеводствовал Пожарский, затем назвал Арзамас, Курмыш, Заруцк. Хмелевский добавил к этому Воротынск, Болхов, Тарусу.
— Немало, — вздохнул Пожарский. — Ну да ничего. Сегодня так, завтра этак. Поборников-то у нас куда больше… Теперь свое мнение о звенигородском игумене Исайе скажи, Наум Михайлович. Сможет ли он в наших полках под Москвой ратный дух Божьим словом и правдой крепить, подходящ ли здравием, чисторечив ли, любим паствой?
— Истинно так, Дмитрий Михайлович, — ответил Плещеев. — И здрав, и любим, и тверд в горении своем. Счел великой честью твое внимание к себе. Об том в его послании писано…
И потек у них живой многослойный разговор о положении дел в станах сторонников и противников нижегородского ополчения.
— А ты что молчишь, Иван Петрович? — вдруг спросил князя Буйносова-Ростовского Пожарский, — Притомился с дороги? Или рана дает о себе знать? Ты ее, поди, и залечить толком не успел?
— О ране… не будем! — самолюбиво отрубил Буйносов. — Сам видишь: я — здесь! Не всем говорить, надо же кому-то и послушать.
— Ну, слушай, слушай. А я тебя тем временем спрошу: хватит ли у тебя сил и желания на большое воеводское дело? На нем ум нужен, опыт, выдержка и здоровье бычье. Вот как у тебя. О каком воеводстве речь, я пока умолчу. Мне знать важно: готов ли ты ради государской пользы его принять?
— Любое воеводство в честь, ежели оно к государской пользе повернуто, — с достоинством ответил Буйносов.
— А ты, Наум Михайлович, что скажешь?
— И я того же мнения держусь! — приосанился Плещеев.
— Иного ответа я от вас и не ожидал, — одобрительно кивнул Пожарский. — Так и порешим, други. Быть вам на воеводстве в одной из порубежных земель. Где именно, Совет всей земли решит.
— Я думал, речь о полковом воеводстве идет, — спохватился Буйносов. — Там от меня толку больше было бы.
— Со стороны видней, где от кого больше толку, — не согласился с ним Пожарский. — Думаешь, почему я тебя выбрал? Да потому, что от ратного дела ты не бегаешь, назначения по дальним городам не выпрашиваешь, лихолетье в укромном месте пересидеть не ищешь. Тебя хоть в Белозерск, хоть в Тоболеск, хоть еще куда пошли, везде ты в службу себя вложишь. А Плещеев тебе поможет.
— Ах, вот ты куда нас сватаешь? В Тоболеск! — догадался Буйносов. — Так бы сразу и сказал, чем за Совет всей земли прятаться.
— От тебя хоть голову за пазуху сунь, все одно видать, Иван Петрович… Ну, раз ты такой догадливый, поимей в виду: мы до того в Смуте увязли, что дальше своего носа разучились зреть. Вот и живем ближними заботами, о дальних не задумываясь. Сибирь взять. Ею мы не просто за Камень заступили, ею мы в державу выросли. Теперь у нас две опоры. Москва со своими городами — по одну сторону Земного пояса [54] стоит, Тоболеск со своими — по другую. Что из этого следует? А то, что сохранить и укрепить Тоболеск столь же важно, как для самостояния и природного государя освободить Москву. Это, согласись, не всякий сумеет. Ведь между сибирских народов трений не меньше, чем между Русией и Короной польской. Воистые степняки мирных татар и остяков зорят, против Москвы настраивают. Тут всяко приходится действовать — то силой оружия, то силой убеждения. Насколько я сведом, нынешний тоболесский воевода Иван Катырев больше лаской и терпением берет. А он из того же рода Ростовских, что и ты. Кому как не тебе, Иван Петрович, его на воеводстве сменить? Тем паче Катырев на нем пятый год сидит, а его напарник Борис Нащокин — шестой.
— Да разве я отказываюсь? — удивился Буйносов. — Сам сказал, что я укромного места не ищу. Так оно и есть…
На следующий день выступил к Москве отряд князя Дмитрия Лопаты-Пожарского. В товарищи ему большой войсковой воевода отрядил своего дьяка — Семейку Самсонова. Хваткой и нравом он отчасти на Кузьму Минина похож, а это в походе — половина успеха.
Некоторое время спустя дозорные казаки привели в воеводскую избу послужильца в рваном кафтане, который когда-то был зеленого, а стал болотного цвета. Голова простоволоса. Лицо в ссадинах и кропоподтеках. Вместо сапог напялены домашние чуни.
— Вот, князь! — доложил старший из казаков. — С того берега рыбаки перевезли. К тебе просится. Важное дело, говорит, и больше ничего объяснять не желает.
— Ступайте, я сам разберусь, — отпустил их Пожарский и переключил внимание на послужильца: — Кто таков? Сказывай свое дело.
Оказалось, это Артюшка Жемотин, гонец большого сибирского воеводы Ивана Катырева-Ростовского. Вместе с другим посыльщиком, Игнатом Заворихиным, мчал он Пожарскому грамоты из Тобольска, Верхотурья и других сибирских городов, да неподалеку от села Холм-Галичского уезда нарвались они на отряд разбойных черкас атамана Анашки Безуха. Он их побил, пограбил, на привязь посадил, голодом мучил. Случай помог Жемотину бежать, а Заворихин у черкас бедовать остался.
— Грамот сибирских, я вижу, при тебе нет, Артемий, — выслушав историю Жемотина, огорченно вздохнул Пожарский. — Жаль. Не твоя вина, но все-таки… Может, на словах что скажешь?
— Да все и скажу! — заторопился Жемотин. — В дороге и не такое случается. Вот Иван Михайлович и велел мне на память то положить, чего чужим глазам знать не положено.
— Ну-ка, ну-ка, выкладывай!
— В тоболесской грамоте писано, что он к тебе на день Исакия Змеевника дружину с обозом выслал. А на словах велел передать, что казна для ополчения большей частью в серебряные слитки переплавлена, дабы на Денежном дворе ее сразу в дело пустить. Но об этом только воевода Василей Тырков знает да его ближние люди. По виду-то обоз обычный…
«Наконец-то и Сибирь на наши призывы откликнулась! — обожгла Пожарского радостная мысль. — Уж и не чаял я от Катырева помощь получить, да еще в серебряных слитках. Если обоз из Тоболеска на день Исакия вышел, ждать осталось недолго. Вот Кузьма обрадуется, когда про это узнает! У него нынче на Денежном дворе серебра всего ничего осталось».
— Погоди-ка дальше рассказывать, — остановил Жемотина Пожарский и, кликнув стремянного Романа Балахну, послал его в Приказную избу за Кирилой Федоровым. Кому как не Федорову в этом важном разговоре участвовать? Ведь он сибирский дьяк, все знать и исполнять по своему столу должен. Потом велел Жемотину: — А ты мне пока про черкас Анашки Безуха изложи, Артемий. Где своего напарника искать советуешь?..
Но Кирилу Федорова ждать не пришлось. Еще когда казаки Артюшку через торговую площадь вели, он узнал в нем конного казака, который в Тобольске при его отце на посылках служил, и увязался следом. Будто чувствовал, что понадобится Пожарскому. Так оно и вышло.
Жемотин Кирилу тоже узнал, а это любой разговор упрощает. Не дожидаясь, когда Федоров об отце спросит, сам поспешил сообщить, что большой сибирский дьяк Нечай Федорович, слава богу, в прежнем здравии пребывает, да и в Тобольске все, как обычно, делается, разве что с мыслями в сторону нижегородского ополчения.
— Хорошие мысли, — одобрительно кивнул Пожарский. — Ну тогда повтори, Артемий, что мне перед тем сказал, и дальше продолжим…
Кирила внимательно слушал Жемотина, а сам думал о внезапном назначении Семейки Самсонова. Эта новость бередила душу. Чем он хуже Семейки? И он бы чернильную работу хоть сейчас на живое походное дело поменял.
Его душевные метания не укрылись от зоркого взгляда Пожарского.
— Тебя что-то заботит, Кирила Нечаев? — спросил он.
— Дело к походу близится, — глаза в глаза ответил ему Кирила. — Дозволь мне, князь, сибирскую сотню на подгородных станах набрать. Из тех охотников, что за Камнем по службе или по другому какому делу бывали.
— Нешто у нас в полках таких всего сотня? — деланно удивился Пожарский. — Перепиши, конечно. Лишним, я думаю, не будет. Но сперва князя Ивана Буйносова-Ростовского повидай и Наума Плещеева. Они воеводами в Тоболеск на место Катырева и Нащокина расписаны. Знаю, ты и о дьяке спросишь, но равной замены твоему батюшке мы пока не нашли. Ищем…
Ратный обоз
Большие дороги рождаются из малых — это каждый знает. Но не каждому случалось пускаться в путь по дороге, которая на глазах ужимается до проселочной, затем и вовсе до верховой или пешей тропы, уводящей в таежные дебри либо за край солнечного всполья. Но когда ноги начинают спотыкаться на ровном месте, а колеса телег и копыта коней то и дело цепляются за поваленные лесины или комья ссохшейся грязи, тропа вдруг упирается в стоячую стезю. Так принято называть следы телег и подошв, поросшие мелкой бледной травой, едва пробившейся сквозь укатанную до блеска землю. Вид этой стези бодрит, внушая надежду, что где-то поблизости непременно должна быть торная гужевая дорога. Так и есть. Вот она, долгожданная! И уже из нее вырастает широкий, пластом уходящий за окоем торгово-перевалочный тракт, на котором мир снова становится просторным и шумливым.
Именно таким переменчивым путем уже сорок три дня шла сибирская дружина Василия Тыркова. От Верхотурья до Соликамска путь этот лег по дороге, которую еще при блаженном царе Федоре Иоанновиче разведал и проложил через Камень посадский человек Артемий Бабинов. Спасибо ему за то, что все эти годы, не взирая на Смутное время, он со своими людьми исправно чистил и мостил ее, спрямлял косогоры на спусках и подъемах, следил за тем, чтобы ширина проезжей полосы была в полторы, а то и в две сажени.
Большой Бабинову дорогу не назовешь, но и малой тоже. Двести пятьдесят верст блуждает она по горным теснинам — сначала по берегу реки Мостовой, затем пересекает реку Лялю, от нее выходит к сторожевому Павдинскому камню, а оттуда разгонисто устремляется вдоль берега Кырьи к берегам Косьвы, Тулунока, Яйвы и других горных рек и речушек, пока наконец не спустится в подгорье к Соли-Камской.
Немало на этой дороге осыпей и локтей, иными словами, частых поворотов, опасных переправ тоже хватает, зато там, где кони могут ноги изломать, вешки предупредительные поставлены, а через каждые двадцать верст вкопан крытый столб с иконой Спаса Нерукотворного или Николы Чудотворца. Всяк знает присловье: Никола — в путь, Христос — по дорожке. Их святые лики всех спешащих мимо приветят, ободрят и новые силы в душу вложат. Не случайно сибирская дружина эту дорогу всего за шесть дней промахнула.
Дальше Тырков свой ратный обоз через Пермь, Вятку, Котельнич и Кострому намеревался вести. Узнав об этом, Федор Годунов уперся:
— Как хочешь, Василей Фомич, а я тебе на том согласки не дам. Разве ты не знаешь, что на пермских дорогах делается?
— Скажешь, так и узнаю, Федор Алексеевич, — набрался терпения Тырков. — Последний раз я там для сбора денежной казны войску Михайлы Васильевича Скопина-Шуйского был. Года с три назад. А что такое?
— И-и-и-и, — щеки на узком лице Годунова пузырями вздулись и со смешком лопнули. — Был, а спрашиваешь. Там дороги в полный упадок пришли. Беспутица безпролазная. К тому же лишний крюк придется делать. Дорогое время на этом потеряем.
— А нам выбирать особо не из чего. Либо через Пермь идти, либо северным путем — через Соль-Вычегодскую, Устюг Великий и Тотьму с Вологдой. Но это крюк куда дальше пермского. И разбоев на нем больше случается. Ты-то сам, Федор Алексеевич, что предлагаешь?
— А то и предлагаю, чтобы из Соли-Камской прямо на Вятку идти!
— Очень уж опасно через глухие места гусем пускаться. Сам представь: растянется обоз по черному лесу, а разбойные шиши тут как тут. И заблудиться в малоезжих местах проще простого. Время на этом потерять можно куда больше, чем выиграть. Не зря говорится: в объезд, так к обеду, а прямо, так, дай бог, к ночи поспеешь.
— Сказать все можно, Василей Фомич, а только ты мое мнение не отбрасывай! — потребовал Годунов. — Ведь договорились на равных дела решать. А на твою присказку другая есть: волков бояться — в лес не ходить.
— Да я вроде не из пугливых, — сопнул рваной ноздрей Тырков и пообещал: — Ладно, Федор Алексеевич. Но я сперва все же со знающими людьми посоветуюсь, — и отправился к проводнику.
— Это не беда, что прямой дороги до Хлынова [55] нет, — неожиданно для Тыркова поддержал предложение Годунова тот. — Зато перемежных хватает. С одной на другую недолго переступить. Что до разбоев, то они обычно у больших дорог случаются. Там есть чем поживиться. А тут угол тихий. Погостов мало, все больше починки в один-два двора. С них сильно не разживешься. Новоселы-то люди незажиточные. К ним через дебри тащиться — только ноги напрасно бить. Так что особо бояться на этом пути нечего. Там если и бывали стычки, то между соседями, не дальше.
— А где лучше Каму перейти, чтобы на прямой путь, не петляя, стать?
— У Соли-Камской, где же еще? На этой стороне топлива для варки соли перестало хватать, так его теперь из забережья возят. Вот и удлинили там прежнюю дорогу. Плотбище тоже подновили. Переправа надежная, можешь не сомневаться…
Но колесник Харлам Гришаков, с которым Тырков перебеседовал следом, предложил пересечь Каму напротив срубленного на правом ее берегу Усолья. Оттуда-де путь через Орел-городок в Кудымкар и дальше через Вятский погост в Хлынов ляжет. Он короче и наезженней объездных дорог.
Тырков сразу понял, что про Усолье колесник не зря речь завел. Там у него ребятишки-нахлебники, родным отцом брошенные, остались. Вот сердце у него и защемило.
— Не с руки нам через Усолье идти, Харлам, — не стал обнадеживать Гришакова Тырков. — День, а то и поболе на этом потеряем. Ты лучше о запасных тележных колесах подумай. Они нам за Камой при любом разе сгодятся.
— Ну тогда мне самому сбегать в Усолье дозволь! — требовательно попросил Гришаков. — Я мигом обернусь. Край как надо, Василей Фомич.
— Боюсь, не получится. Там тебя за прошлые вины схватить могут. Ты ведь двум государевым послужильцам головы в сердцах расшиб. Так я говорю? А с беглого, сам знаешь, двойной спрос. Потерпи покуда. Я тебе прощенную грамоту за рукой Пожарского обещаю.
— Мне сейчас быть на Усолье приспело! — заупрямился Гришаков. — Устал я голову в кусты прятать. Да и не к чему. Прежние управщики уже поди-ка поменялись. И сам я нынче не тот. Кто теперь меня узнает? Но коли за этим дело стало, могу и скрытнем пойти. Мне только бы на детишков глянуть: как они там? Я кой-чего для них скопил. Вот и отдал бы.
— Я все сказал! — упрямством на упрямство ответил Тырков. — Ты мне рядом нужен, Харлам. Поговорили и будя!
Строптиво полыхнув глазами, Гришаков молча отошел.
«Еще чего доброго своевольничать начнет, — кольнуло Тыркова недоброе предчувствие. — Видишь ли, приспело ему… С виду тихий, а внутри бодаться готов. Вот и толкуй ему про прощенную грамоту. И-эх!».
Не удержавшись, Тырков рукой досадливо махнул.
По-своему истолковав это его движение, к нему тотчас устремился Федор Годунов, издали наблюдавший за переговорами.
— Ну и что тебе знающие люди присоветовали? — спросил он.
— Да то же, что и ты, Федор Алексеевич. Значит, быть по сему! Давай-ка прикинем, как нам за Камой дружину с обозом перестроить. Всякая дорога свой порядок любит.
— Это смотря о каком порядке речь, — насторожился Годунов.
— А вот послушай. Людей у нас собралось за две сотни. И еще соберем! Ну а поскольку именно ты вятским путем идти удумал, кому как не тебе переднюю сотню вести? А я со второй следом пойду. Ты — иголка, я — нитка. Глядишь, и проткнемся.
Мысль поиграть на честолюбии Годунова пришла Тыркову не случайно. Ведь его напарник, как глухарь на токовище, готов упиваться даже видимостью своего главенства. Вот и пусть себе вместе с проводником обозу путь прокладывает. Оглядываться на идущих следом ему недосуг будет. Зато Тырков через верных людей каждый его шаг сумеет проследить. Сзади на походе обзор куда как шире, да и возможностей на помощь Годунову при необходимости подоспеть намного больше.
— Знаменщиков и тобольские возы в середину поставим, — дав Годунову заглотить наживку, деловито продолжил Тырков. — Вместо двух дозорных разъездов сделаем четыре, а то и больше. Добавочные с боков пустим. Связь быструю во все стороны усилим. Остальное в пути утрясется. Что скажешь?
— Толково размыслил, Василей Фомич, по справедливости, — исполнился собственной важности Годунов. — У меня тоже кой-какие соображения будут. Дай только подумать.
— Думай на здоровье, Федор Алексеевич. Время терпит…
Через Каму обоз перебрался на коломенках, переделанных в перевозни с огороженными помостами для коней и грузов.
Уже на другой стороне хватились тележники своего десятника Харлама Гришакова, обежали пристань, спрашивая у походников, не видел ли его кто-нибудь, и, не доискавшись, сообщили о случившемся Тыркову.
«Так я и знал! — мысленно ругнулся он. — Ну Харлам, ну строптивец! Решил меня в дураках оставить… Да и я хорош. Надо было сразу его в Усолье отпустить. Ведь чувствовал, что он в самовольство готов удариться».
А вслух сказал:
— Гришакова я вперед отправил. И нечего тут людей дергать. Ступайте-ка по своим местам, поломошники. Бог в помощь.
Тележники послушно разошлись…
Правый берег Камы намного выше левого. От причала наверх устроен широкий, изрядно разъезженный взвоз. Поднявшись по нему с последними дружинниками, Тырков невольно замер: красота-то какая! Широко разлилась напитанная июльским солнцем могучая Кама. Неспешно катит она свои тяжелые многослойные воды по зеленым просторам, а над ней плещут голубые небесные волны, подернутые белыми гребешками разорванных на мелкие клочья облаков, вьются хлопотливые стрижи и ласточки, парят, высматривая добычу, безобидные на вид беркуты, охотятся за рыбой речные чайки. Воздух напитан множеством запахов, звуков и таких ярких причудливых красок, что душа не в состоянии вместить их все сразу. Ну что за сила у земли и небес, способных сотворить столь разнообразную и насыщенную красоту жизни?! Она ликует и угасает, чтобы тут же возродиться и продолжить свой путь в манящую вечность…
За спиной Тыркова всхрапнул конь. Это стремянной Сергушка Шемелин за ним явился. Передавая поводья, сообщил:
— Воевода Годунов вперед двинулся. Велел и тебе за ним поспешать.
— Ну, коли велел, будем слушаться, — усаживаясь в седло, усмехнулся Тырков. — Наше дело простое: вперед не выдаваться, назад не оставаться.
С того и началась у дружины новая полоса испытаний. Неплохо обустроенный Артемием Бабиновым Соликамский тракт позади остался, а впереди легла та самая переменчивая дорога, которая то ужимается до стоячей стези, то вновь вырастает до проселочной.
Поначалу она шла по гарям, буйно поросшим цветущим разнотравьем, вдоль березовых куртин из тонкоствольного подроста, молодого ильма и осинника, затем втянулась в ельник, перемежающийся с пихтой, лиственницей, а порой и с кедром. Тайга здесь большей частью вырублена. Осталась лишь череда пней с почерневшей щепой да не тронутый дровосеками подлесок — кусты рябины, черемухи, можжевельника. По пням видно, как высоки и стволисты были срубленные ели и пихты — большинство из них одному человеку не обхватить. То там, то здесь попадались следы ям для выжига древесного угля, брошенные шалаши и землянки.
Тырков окрестил этот лес дырявым — так много было в нем непривычных для глаза пустот. Пустоты эти до звона прогреты зыбкими солнечными лучами. Но рядом с ними оставалось еще много влажных и прохладных зарослей, из-под которых змеями выползали на дорогу могучие корни срубленных деревьев. Возы на них, кособочась то в одну, то в другую сторону, со стуком подпрыгивали, путники запинались, а всадники норовили объехать бугристые места стороной.
Чем дальше дружина уходила от Камы, тем меньше попадалось ей встречных возов, груженных древесным углем в рогожных кулях или варочными дровами, бочками с дегтем, пихтовым или скипидарным маслом, корзинами с ягодой и грибами, строевым и поделочным лесом, зато таежное краснолесье становилось все плотнее, выше и сумрачней. Дорога как-то вдруг обезлюдела, превратилась в тропу. Пробираться по ней что пеше, что конно — сущее наказание, ночевать — не лучше. Даже сонная одурь после изнурительно долгого перехода не гасит до конца ночное многозвучье. А вдруг это не барсук норы мелких зверушек вышел зорить, а рысь или волк в поисках легкой добычи рыщет? Не филин ухает, а леший возле ночного стана бродит? Не стебель папоротника-кочедыжника шею щекотнул, а гадюка под бороду залезла? То один походник от подобных видений вскрикнет, застонет или вскочит очумело: «свят! свят! свят!», то другой. Какой уж тут отдых, если на утро голова болит, будто кто-то незримый в ней ковырялся?
Федор Годунов, поначалу бодрый и деятельный, от таких перемен заметно сник, стал придираться к проводнику: так ли он обоз ведет? по той ли дороге? скоро ли белый свет над головой забрезжит?..
К вечеру следующего дня в тайге стали вновь появляться гари и вырубки, а затем и местный житель встретился. Сразу видно, пермяк-охотник: лицо скуластое, глаза светлые, но узковатые, на голове высокая валяная шапка с отворотом, поверх рубахи, выпущенной до колен, наброшена меховая накидка с наплечниками, на поясе нож и сумочка для огнива, в руках посох, похожий на копье.
Переговорив с ним по-пермяцки, проводник успокоил Годунова:
— Правильно идем, воевода. Скоро сельцо Грибищево будет. Там места чистые, просторные. Лес тоже есть, но легкий, сосновый…
Наконец тайга расступилась, и заметно уширившаяся дорога вынырнула на раскорчеванное под рожь, лен и овес поле. Стена золотистых колосьев уходила вдаль к огороженным выпасам для домашней животины, а за ними поднимались на увал крепкие дворы с избой-церквушкой посредине. Это было долгожданное сельцо Грибищево.
Отродясь не видавшие у себя в глуши такого большого обоза, грибищевцы встретили дружину настороженно, если не сказать, боязливо. А тут еще Годунов на них страхи нагнал, потребовав, не мешкая, принять и накормить походников.
Здешний староста, высокий пожилой мужик с непомерно длинными руками и с такой же непомерно узкой грудью, указал место для ночлега, молча поклонился и исчез. Следом попрятались и другие селяне.
— Ах, так?! — разгневался Годунов. — Не хотят по-хорошему, получат по-плохому, — и велел подвернувшемуся под руку дружиннику: — Живо бери людей и ступай за старостой. Хоть из-под земли стервеца добудь! Я ему такое заговение устрою, век помнить будет!
Пока тот, без особого, правда, рвения, приказ Годунова исполнял, Тырков со своей сотней подоспел. Сразу уразумев, что происходит, бросил:
— Горлом изба не рубится, а согласие не делается. Дозволь мне, Федор Алексеевич, с глазу на глаз со старостой перебеседовать. А сам пока ночлегами займись. Так у нас дело лучше заладится.
Оставшись наедине с Тырковым, староста вдруг разговорчивым сделался. Он сразу понял, что этот воевода зря лаять его не будет, а выслушает и, может быть, даже в его положение войдет. А оно не такое уж и завидное. Одно дело, когда в жизнь Грибищева никто зря не вмешивается, другое, когда всяк норовит чужим добром не по правде разжиться. Волостной и уездной власти сверх положенного дай, на государя вдвое отчисли, хотя Москва, по слухам, давно без него живет и ляхам во всем потворствует. А тут еще бездельные казаки набегать повадились. Зимой их ватага в Грибищеве крепко поозоровала. Мед и деготь весь уразбоили, сухие и соленые грибы. Ну это куда ни шло! Так ведь коней чуть не всех забрали, овец и бычков перерезали. Хорошо, бабы коров выплакали. Без коров как же? С тех пор поселяне оправиться от такого разора не могут. Так что угощать проезжих особо нечем. Разве что молоком да птичиной, да огородным овощем. Но их на всех, поди-ка, не хватит. Зажиточных-то людей на селе раз, два и обчелся. Остальные — сироты малые либо старые. С них и взять нечего.
— Да мы брать ничего и не собираемся, — успокоил старосту Тырков. — Нам привет важнее всего другого. Чай, не без своего запаса идем. Но коли молочка или чего свеженького дадите, сполна заплатим.
— Это совсем другое дело! — повеселел староста. — Это мы враз спроворим. Копейка никому лишней не будет.
И тотчас дворы грибищевцев распахнулись. Бабы стали выносить обозникам кто чем богат. Несмотря на поздний час забегали по стану ребятишки. А мужики так за ворота и не вышли. На вопрос Тыркова — почему? — староста ответил:
— На всякий случай. Мало ли что статься может.
— И что, к примеру?
— Опасаются, как бы твои люди их не приневолили. Ведь те казаки, что зорить нас приходили, тоже-ть ополчением представлялись. Будто бы они против зловредных бояр и польского змееныша Владислава за прямого руського царя поднялись. Ну и поверстали у нас трех мужиков. Против силы куда денешься? За главного у них хромец был, именем Чебот, но я бы его скорее Хайлой назвал, до того он горласт и вздорен. Сперва мне этот хромец про какого-то Заруцкого байки плел, потом его писаное полномочие в нос совал. А я сроду грамоте не научен, в московских делах плохо смыслю. Мне лишь бы тут тихо и согласно было. Хорошо, хоть неприбыльных мужиков удалось отдать, а кого поухватистей при себе оставить.
— Хромец, говоришь? — оживился Тырков. — Уж не Пивов ли? Чебот Пивов, а?
— Навроде он. А ты почем знаешь, гсподине?
— Мир тесен. Приходилось в Пермь по делам службы наезжать. Был тут у вас на воеводстве другой Пивов — Петр Васильевич. Дельный человек. Может, помнишь?
— Откуда? У меня на воевод память дюже худая, — скорбно вздохнул староста. — Лучше сразу скажи, куда клонишь?
— А туда и клоню, что Чебот Пивов — племяш Петра Васильевича. И тоже в Пермском крае подвизался.
— Да ну?! — сглотнул слюну староста. — И чего ему тогда рядом с дядей не сиделось? Был бы сыт и пьян, как дети других высоких покровителей.
— Время такое, мил-человек. Великая разруха в умах сделалась. Ну и натура, само собой, наружу вылезла. Хватай, круши, наверх по чужим головам лезь! Этот заворуй двум самозванцам успел послужить. Тогда и охромел. В опалу его сюда сослали, а он пристава порешил и в разбой ударился. Не только станы, города с другими атаманами захватывал.
— Не может такого быть.
— Может. Три года тому, когда я между пермичами и вятичами по сбору казны для князя Скопина-Шуйского посредничал, в Котельниче чуть не полторы тысячи государевых изменников собрались. Четыре сотни из них Чебот Пивов привел. А нынче у него под рукой сколько?
— Человек пятьдесят.
— Негусто. Захирел Чебот, измельчал. По твоим словам выходит, что он нынче за Ивана Заруцкого прячется… Про Заруцкого я тебе так скажу: заслуженный человек, но очень уж ненадежный. Он часть подмосковного ополчения собрал и кремлевских поляков в осаде держит. Но настоящее ополчение сейчас в Ярославле копится. Под князем Дмитрием Пожарским.
— Сроду про такого не слыхал.
— Еще услышишь! Его время впереди.
— А тебя самого как величать?
— Василей Фомин Тырков я. Имя негромкое, но я его стараюсь не марать. Назовись и ты.
— Стафей Долгоруков.
— Ну что же, Стафей, со знакомством нас. Скажи напоследок, куда Чебот Пивов идти собирался?
— Сперва в Малмыж на Вятке, потом куда-то на Унжу… Да ты не заботься, Василей Фомин, на день пути вокруг дороги спокойные.
Но Тырков велел выставить усиленные караулы. Осторожность лишней не бывает.
Как хорошо после сытного ужина испить парного молока и сладкой колодезной водицы и уснуть под высоким звездным небом зная, что завтра дорога наконец-то ляжет по солнечным увалам с легкими сосновыми борами, устланными белым мхом, похожим на ковер, украшенный кустиками вереска, толокнянки, брусники, что у сельца Грибищева с длинноруким старостой Стафеем, который, как и все мирные люди Московского государства, об одном лишь мечтает — о тишине и согласии, его дружина может отдыхать спокойно…
Второй раз через Каму ратный обоз Тыркова переправился у деревушки, которая звалась Завозней, потому что гоняла по канату плоскодонный перевоз сажени четыре в длину и столько же в ширину. Кама здесь намного же, чем у Соли-Камской и заметно медлительней. Оно и понятно. От Завозни до ее истока всего полтораста верст. Отсюда она течет на север, чтобы затем повернуть к Соли-Камской, Перми, Сарапулу и, набрав силу, устремиться к своему устью на Волге.
Людей и коней Тырков решил отправить через Каму вплавь — это им не в тягость, а в радость будет. Кому не охота искупаться, силой и сноровкой с другими померяться, душою встряхнуться? А подводы с грузами, одежду, оружие и тех немногих походников, что с водой не дружат, перевоз тем временем на левый берег по очереди переправлять станет. Вот дело и убыстрится. Одно плохо: от любопытных глаз деревенских жителей не устережешься — почти все дворы к реке выходят.
Вода на песчаных отмелях основательно прогрелась, однако чем глубже в нее погружаешься, тем холоднее становится ее нижнее течение. С берега наплывают медовые запахи лугового приречья, стрекот кузнечиков, пересвисты снующих с места на место зуйков. Высоко всплескиваясь, серебром играет на солнце рыба. А вокруг зеленый гребешок лесов поднебесный купол, как в церкви, подпирает.
Одновременно с дозорным отрядом Стехи Устюжанина Тырков отправил на другой берег перевоз с головными телегами. Дождавшись, когда он вернется, усадил на него еще и Федора Годунова. Пускай распоряжается переправой с той стороны. Так ему и себе спокойней будет.
Один за другим пускались вплавь конные и пешие десятки. Наблюдая за ними, Тырков вдруг с завистью подумал: «Вот бы и мне так. Уж и не помню, когда я в последний раз в воду входил, — и тут же спросил себя: — А кто тебе сейчас-то мешает? Воеводский чин? Возраст? Приличия? Так на них иной раз и плюнуть не грех».
И так ему захотелось ощутить себя молодым, никакими правилами и обязательствами не скованным, что он скинул на руки Сергушке Шемелину шапку, кафтан, сбросил сапоги, отдал меч и велел:
— Снесешь на перевоз. Нам тут больше делать нечего. Скажешь Треньке Вершинину, чтобы все оставшиеся возы одним ходом сумел доставить. Свою одежду тоже сдай и вдогон пускайся.
— Это я мигом! — бросился исполнять его приказание Сергушка.
С конем в поводу Тырков вошел в воду, окунулся с головой, отряхнул по-собачьи волосы и, сам не зная чему, беззаботно рассмеялся.
Конь скосил на него лиловый глаз, оскалил зубы и, тряхнув гривой, тоже рассыпал вокруг себя облачко брызг.
Они плыли не спеша, наслаждаясь привольем, его первозданной красотой и собственной силой.
Уже выходя на берег, Тырков вдруг почувствовал за спиной что-то неладное и обернулся. На противоположном берегу, на причале у Завозни казаки Треньки Вершинина отбивались от оравы невесть откуда взявшихся шишей. Пока одни из налетчиков махали дубьем, другие хватали с возов все, что под скорую руку попадало, третьи разбирали оставшихся у коновязи извозных лошадей.
От досады Тырков ладонью по воде ударил. Надо же так опростоволоситься! Ведь знал, что шиши на переправах обычно тех обозников грабят, которые оказались отрезанными от попутчиков рекой, так нет же, увел основные силы за Каму, оставив горстку дружинников на произвол судьбы.
Не раздумывая, Тырков повернул назад. Следом за ним посыпались в воду скорые на подъем ермачата.
А у Завозни творилось что-то непонятное. Шиши вдруг перестали нападать на обозников. Бросая коней и награбленное, они заметались по берегу. На причале появились новые люди. Вместе с казаками Треньки Вершинина они стали разгонять шишей. А те не очень-то и сопротивлялись. Словно стая вспугнутых птиц, прыснули во все стороны.
Оказалось, это Харлам Гришаков, догоняя обоз, мужиков из Зюздинской волости на помощь привел.
Где находится Зюздинская волость, Тыркову известно. Севернее Завозни верст на триста, а от Усолья и того дальше. Но Тырков привык ничему не удивляться. То, что на первый взгляд несуразным кажется, потом самое простое объяснение находит. Так и здесь вышло.
Еще во времена Иоанна Грозного зюздинцы получили право всякие денежные сборы платить один раз в год по шестидесяти рублей, выбирать у себя в погосте судью — кого между собой излюбят, и жить своей правдой. Но пришли черные времена. Стали к ним из Кай-городка и других мест наезжать посадские и волостные люди, тягло себе в карман править, дворишки грабить, жен и детей бесчестить, а самих кормильцев летом в пашенную пору в напрасных поклепных делах волочить. Совсем житья от них не стало. Вот и отправили зюздинцы выборных людей в Пермь к воеводе. А тот их слушать не стал, ногами затопал, еще и коломенку, на которой они вниз по Каме спустились, на себя отобрал. Пришлось мужикам назад своим ходом тащиться. Когда через Кудымкар шли, опять в расхищение и плен попали. Не зря говорится: «Это не диковинка, что кукушка в чужое гнездо норовит залезть, а вот то диковинка, кабы свое свила». Нынче кукушек видимо-невидимо развелось, только они теперь бороды и усы почему-то носят. Хорошо, скитальцам в пути Харлам Гришаков и еще два усольца встретились. Харлам им и растолковал, что рыба с головы гниет, а чистят ее с хвоста. От него же зюздинцы про князя-батюшку Дмитрия Пожарского узнали и про ратный обоз воеводы Тыркова, который где-то неподалеку быть должен. «Век жалеть будете, — сказал Харлам, — ежели к нему не пристанете». Вот они и решили: чем в потемках блуждать, бесчинства кайгородцев и волостных живодеров вытерпливать, лучше в земское ополчение податься. Глядишь, что-нибудь и переменится. Без крыл только ветер летает…
Усмехнулся Тырков. Ну какая обида после этого на Харлама Гришакова может быть? Сам пришел, одиннадцать добровольников с собой привел, нападение шишей помог отбить. Слава богу, без большой крови дело обошлось. Ссадинами да вывихами отделались. Еще и двух шишей захватили. Один мордатый, наглый, в добротном кафтане, другой — худой, жалкий, дыра на дыре.
— Чьи будете? — наскоро выслушав Гришакова и зюздинцев, грозно глянул на них Тырков. — Небось Чебота Пивова люди?
Мордатый презрительно отвернулся и сплюнул себе под ноги розовую слюну, а худой заплакал:
— Смилуйся, воевода! Грех попутал. Еська Талаев я. Из Егожихи [56]. Жгли меня из наговору, что напускаю на людей икоту, ведовством промышляю. Вот я и отчаялся. Сам видишь, до нага дожился. Нигде мне привету нет. А тут вдруг позвали, я и пошел. Думал, хоть маленько разживусь. Видать, не судьба. Сам-то я не злодей, не думай. Вот те крест!
— Знахарь, значит?
— Ага. Травы знаю. Хвори перешибать умею.
— Ну а с тобой рядом кто?
— Кудим Душегуб! — костистые пальцы Талаева сами собой в кулачонки сжались, голос гневно задрожал. — Раньше он в подручниках у Чебота Пивова ходил, а теперь свою шайку собирает, да никак собрать не может.
— Цыц ты! — вперил в него злобный взгляд Кудим. — Язык вырву!
— Рви! Не то своим подавишься!
— Слушай меня! — оборвал их перепалку Тырков и распорядился: — Еську отпустить! Душегуба связать и в телегу бросить! Мы его в Хлынове приставу сдадим. А ты, Харлам, бери к себе под начало новиков — и в путь! И без того много времени потеряли.
Пока казаки возились с начавшим брыкаться Кудимом Душегубом, Еська Талаев стоял, как вкопанный. Потом бросился за Тырковым.
— Не надо меня отпускать, воевода, — взмолился он. — Идти мне все равно некуда. Коли с собой не возьмешь, утоплюсь.
— Разве для того тебя мать родила, чтобы топиться? — укорил его Тырков. — Ладно, становись в обоз. Авось пригодишься…
И правда, Талаев расторопным и умелым лекарем оказался. В дороге чего только ни случается! Этот ногу подвернул, того гадюка укусила, третий кипятком себя оплеснул, четвертый от зубной или желудочной боли корчится, на пятого помытуха [57] напала… Еська тут как тут. Приумылся, приоделся — и не узнать его стало. Говорит коротко, веско, смотрит строго, требовательно. И захочешь его ослушаться, так себе же во вред…
Неподалеку от Трех Дворищ Вятского погоста кому-то из казаков дозорного разъезда показалось, что он стон из-под земли слышит.
— Стой, братцы! — перекрестился он. — Тут дело нечистое. Будто баба на помощь зовет.
— Помстилось, поди, — засомневались товарищи. — Откуда в лесу баба?
— Откуда-ниоткуда, а проверить надо. Глядите лучше.
Стали глядеть и ахнули: а ведь и впрямь баба, точнее сказать, голова молодайки в стороне от дороги из плотно умятой земли торчит. Глаза огромные, светло-зеленые, на губах кровь запеклась, русая коса отрезана и рядом брошена. Что бормочет, понять трудно.
— Изменщица, — догадался казак, первым заметивший голову. — Видать, мужем за блуд наказана. У нас в станице таких тоже по горло закапывали. Чего делать-то будем? Может, мимо проедем?
— Я те проеду! Человек же… А ну, соколики, слазьте с коней. Откапывать будем.
— Чем откапывать-то?
— Рук жалко, так деревяшку подходящую найди. Чай, не боярин…
Вынули казаки молодайку из земли, а она едва дышит. Тело холодное, руки синие. Хорошо, обоз подоспел. Еська Талаев ее тотчас своими снадобьями напоил, барсучьим жиром растер и в шерстяное одеяло укутал. Дождавшись, когда лицо у нее порозовело, а на лбу пот выступил, полюбопытствовал:
— Как тебя зовут, голубка?
— Луша.
— Ну как, Луша, на том свете живется?
На его шутку она лишь мелко-мелко зубами застучала.
В Трех Дворищах выяснилось, что Луша — жена здешнего мельника. От роду ей шестнадцать лет. Отец против воли ее замуж за мельника выдал, вот она верности мужу и не соблюла. Сошлась с Егоркой Сиротой с соседнего починка. Мельник их в сладкий час и застал. Велел сыновьям от первой жены схватить их, Лушу отвезти подальше и заживо земле предать, а Егорку в подполе запереть — пока для него подходящая казнь не будет придумана.
Пришлось Тыркову вмешаться. Егорку Сироту он тут же на волю велел выпустить, а мельниковых сыновей прилюдно выпороть. Надо было бы и самому мельнику горячих плетей за его изуверство вкатить, да слишком уж стар он, едва-едва ковыляет.
— Дикий ты человек! — пробовал пристыдить его Тырков. — Бога не боишься. А он твои седины нынче пожалел, мой кнут от тебя отвел.
— Любодейка она! — брызгая слюной, тоненько выкрикнул в ответ мельник. — Вот и получила по закону!
— Против твоего закона другой есть: покоряй сердца любовью, а не страхом и копейкой! Ешь с голоду, а люби смолоду!
— Кого люблю, того и наказываю! — не унимался мельник. — И ты мне не судья. Я на тебя управу найду! Ты небось тута не самый большой…
Егорка Сирота с первого взгляда Тыркову понравился. Невидный из себя, худенький, одежонка на нем продувная, годами чуть постарше Луши, а смотрит соколом и говорит с достоинством. Выйдя из подпола, он первым делом к Луше бросился. Склонился над ней, гладит, ласковые слова шепчет. А когда обоз дальше двинулся, молча зашагал рядом с телегой, на которой лежала она. И никого это не удивило. Сразу видно: никакой это не любодей, а человек с верным сердцем. И Луша не любодейка, а обычная деревенская девчонка, которая раньше времени бабой стала. Выросла она на выселках Никольского стана Хлыновской дороги. Туда и попросила ее отвезти. Ведь обоз все равно мимо пойдет. А там будь, что будет.
Чем-то Луша Тыркову жену напомнила.
«Эх, Павла, Павла, — подумалось ему, — как тебя порой не хватает! Умучаешься тут с бесконечными хлопотами, очерствеешь вконец, и некому тебя приласкать, утешить, а то и поворчать по мелочи. А так хочется почувствовать родное тепло, красотой женского тела насладиться. Ведь годы летят. Упущенного не воротишь. Да вот ведь не бабье это дело — дорога. Тут дай бог мужику сдюжить…».
А еще Тыркову вспомнилось, как Павла однажды по весне под лед провалилась. Вытащили ее из студеной воды едва живую. Дотронуться страшно — горит вся, в забытье впадает. Два дня он у ее изголовья просидел, травами на меду отпаивая, пот утирая, молитвенные настрои шепча, а когда она первый раз улыбнулась и голову от подушки оторвала, от счастья прослезился, чего с ним прежде не случалось.
Вот и Лушу так же три дня лихорадило, а на четвертый ночью она тихо, как свеча, угасла, никого не потревожив. Хотели похоронить ее на ближайшем кладбище, но Егорка Сирота устыдил Тыркова:
— Коли взялся добро делать, не останавливайся на середине, воевода. Возле родительского дома ей спокойней почивать будет.
— Твоя правда, Егорий, — согласился Тырков. — Светлая у тебя душа. Жаль расставаться будет.
— А я и не собираюсь расставаться, — по-взрослому сообщил Сирота. — Разве что на время.
— Вот как?! — не нашелся, что сказать Тырков. — Ну-ну…
Отыскать родителей Луши на Никольском стане труда не составило. Это были пожилые, изработанные, туповатые люди. Увидев тело дочери, они в голос завыли. А когда им Тырков три рубля на похороны дал, завыли еще громче. Егорку Сироту они скорее всего за стороннего человека приняли. Велено ему помогать, вот он и помогает. Велено остаться с ними, вот и остался…
Ратный обоз Егорка Сирота уже в Костромском уезде догнал, когда дружина к переправе через Унжу подошла.
Помня, что именно в эти края Чебот Пивов свою разбойную ватагу увел, Тырков начал переправу с особой предосторожностью. А Федор Годунов, вместо того чтобы деятельно помогать ему, принялся перечислять, кто из Годуновых в Костромском уезде родовые поместья имеет. Покойный боярин Дмитрий Иванович в Луговой половине — раз, сын боярский Семен Васильевич в Великосольской волости — два, внуки Осипа Осана в селе Дуплехово — три, Иван Михайлович в селе Сущево — четыре, нынешний тюменский воевода Матвей Михайлович в Сорохотской волости — пять, окольничий Петр Васильевич тут неподалеку — шесть…
Терпел Тырков, терпел — да и не вытерпел:
— Разбойники рядом, так песни пой, лошадь пристанет — выше хвост подвязывай. Так, что ли, Федор Алексеевич? Чем пустомелить, пошел бы ты… на другую сторону!
Годунов обиделся:
— Гонишь?
— Гоню! — подтвердил Тырков и, заметив, что один из возов задним колесом с причала съезжает, бросился к нему.
Но его опередил невысокий ухватистый ополченец с котомкой за плечами. Поднатужившись, он вытянул воз на прочное место.
Глянул Тырков: да это же Егорка Сирота. Молчком появился. Будто и не отставал никогда.
«Все повторяется, — пришло на ум Тыркову. — Сначала Харлам Гришаков, повидав приемных ребятишек в Усолье, в нужный час нас на Каме догнал, теперь Егорий, схоронив Лушу, ко времени на Унжинскую переправу подоспел. Сто́ющие люди. С Божией помощью наше ополчение еще на одного ратника больше стало, а дорога еще на один день укоротилась. Правильно говорят: кто в дороге не бывал, тот света не видал…».
Поворотный день
К тому времени, когда в Ярославль наконец-то пожаловало посольство из Великого Новгорода, на переговоры с ним съехались представители Ростовского, Костромского, Галичского, Бежецкого, Пошехонского, Переяславского, Суздальского, Владимирского и других уездов, вставших заодно с нижегородским ополчением. Как и предлагал Совет земли, выбраны они были изо всяких чинов по человеку, по два, а то и по три.
Против ожиданий прибыло их так много, что съезжая изба, где они собрались накануне посольской встречи, едва вместила все это шумное многоликое общество. Ярославцам, принимающим их, пришлось потесниться, а приказных дьяков Петра Третьякова, Савву Романчукова и Кирилу Федорова и вовсе на крыльцо выпроводить.
Без лишних слов собравшиеся решили поставить во челе переговоров с новгородцами князя Дмитрия Пожарского, а в товарищи ему выкрикнули самых знатных и родовитых членов Совета всей земли — бояр Василия Морозова, Владимира Долгорукого и окольничего Семена Головина.
Бояре предчувствовали, что так оно и будет, однако, отправляясь на посад, в глубине души все же надеялись, что имя захудалого князя-выскочки, страдающего к тому же черной немочью, прозвучит после их имен.
«Ну что ж, — вымученно улыбаясь посланцам городов, думали они. — Еще не все потеряно. В этой душной клети, где всякая мелочь смеет себя с нами запанибрата держать, Пожарский для нее — свет в окошке. Но с новгородскими-то послами мы не здесь встречаться будем, а в кремлевских хоромах. Посмотрим, как они себя там поведут. И не такие людишки в робость перед богатством и могуществом власти впадали. А эти чем лучше?.. Пожарский тоже хоть и князь, но мужицкой закваски. Это на посаде да на ратных станах он чувствует себя, как рыба в воде, а в кремле и маху дать может. Волноваться болезному вредно. Вот и надо ему волненье устроить, но с умом, без грубости. А там вожжи из рук у него перехватывай и посольскую колымагу к полной дружбе со шведами правь! Без их содействия ляхов из Москвы навряд ли выгонишь, а достойного поставленника на русское царство из других влиятельных государств едва ли сыщешь…».
Пока Морозов и Долгорукий этими мыслями себя тешили, Семен Головин решил действовать. Выждав подходящую минуту, он взял слово.
— Коли новгородцы себя отдельным государством перед нами объявили, то и у нас в Ярославле ныне великое государство собралось, — обежав многозначительным взглядом уездных представителей, задушевно начал он. — Мы с вами сего дня и есть Московское государство! Вон сколько городов своих лучших сынов для большого совета сюда прислали. Вместе мы в силах тому посодействовать, чтобы два наших распавшихся по воле судьбы государства снова едиными и нерушимыми стали. Тут разные пути могут быть, но ни один из них мимо того не пройдет, об чем Великий Новгород со Шведским королевством честным договором скрепился. Вот я и хочу единодушно избранного нами вожатая, князя Пожарского, спросить, какая у него линия на этот счет будет? К чему готовиться, Дмитрий Михайлович, скажи прямо, уважь и наставь.
— Изволь, Семен Васильевич, я отвечу, — нахмурился Пожарский. — Высоких слов ты тут много сказал, да не все к месту. Разве можно договор, под насилием писаный, честным назвать? Спору нет, скрепляться нам с Новгородом надо, но к своей, а не к чужой пользе. Как думаешь, что для нас сейчас самое главное? Молчишь? Ну так я за тебя скажу. По-твоему главное — шведского принца Карлуса-Филиппа на новгородский престол дождаться. А по-моему — перемирие на новгородском рубеже удержать, как мы его до сей поры удерживали, и не дать северные русские города в подчинение тем, кто готов иноземцам в рот заглядывать. У меня линия простая: на чужое не зариться, но и своего ни под каким предлогом не отдавать. У глупости или благодушия плохие последствия бывают. Тебе ли этого не знать? Ведь ты на посольских делах зубы съел.
— Не вежливо говоришь, князь, — укорил его Головин, всем своим видом показывая, что такого обращения не заслуживает. — В глупости уличаешь. Про зубы какие-то вспомнил. А я к тебе с великой почестью…
— И я к тебе, Семен Васильевич. Это у меня голос такой, что невежливым кажется. Зато за слова головой ручаюсь. Но ежели я не прав, поправь бога ради. Разве не ты с дьяком Сыдавным-Васильевым три года назад договор о военной помощи со шведами в Выборг заключать ездил?
— Ну, я. А что тут такого? — пожал плечами Головин.
— Ровным счетом ничего… Если не считать, что по этому договору Москва права на Ливонию потеряла, шведскую деньгу у себя запустила, а Карелу с уездом за здорово живешь королю Карлу сдала. Где это видано, чтобы города за пустые обещания дарить? Это ведь не яблоки и груши, не подаяние сирым и убогим, а судьбы людей, государское достоинство и завтрашний день, в который чересчур щедрой рукой нельзя залазить.
В земской избе повисла мертвая тишина. А Кирила Федоров, к этому времени переместившийся с крыльца внутрь помещения, мысленно присвистнул: «Так вот кто шведский капкан помогал настраивать — Семен Головин и Сыдавный-Васильев! То-то они мне сразу не поглянулись… А Пожарский возле себя их держит. Это как понимать? Знает и терпит. С таким терпением горшок рассядется, да ему же на голову…».
— На меня цареву вину не сваливай! — грозно потребовал у Пожарского Семен Головин. — Я на том посольстве все по слову Василия Шуйского делал. Выше него не прыгнешь.
— Общие указания он тебе дал, не спорю, но пределы уступок ты уже на месте решал. Так? — Так! Ну и расширил их по доброте душевной. Легко дарить шубу с чужого плеча, а ты с себя сними, тогда и поймешь, что у всего своя цена есть. О ней-то в первую голову и думать надо.
— Все это пустые домыслы. Их ты ничем не докажешь, — скривил губы Головин. — Зачем прошлое ворошить? Оно ведь и укусить может.
— Тогда пусть сейчас кусает! А завтра нас непростой разговор с новгородцами ждет. Вот я и хочу тебя, Семен Васильевич, настоятельно попросить, чтобы ты вперед с дружбой к шведам не забегал, каждый свой шаг, как следует, обдумывал. Да и всем нам этого правила надо держаться.
— За всех не говори! — уже не скрывая внезапно прорвавшейся злобы, дернулся Головин. — И вообще… Не много ли ты на себя берешь, князюшка?
Пожарский помедлил, прикидывая, как получше ответить, но его опередил земец из Пошехонья.
— Сколько мы дали, столько и берет! — спокойно вымолвил он и посоветовал: — А ты, боярин, остынь. Или правда уши колет?
— Что зря спорить? — поддержал его меньший дворянин из Галича. — На одних плечах двум головам не ужиться. Раз поставили Пожарского думать, его бы и слушаться.
— На него мы надежны, как на свою душу.
Поняв, что если не все, то большинство представителей уездов его сторону держат, Пожарский закончил сход шуткой:
— Посольское дело такое простое, что проще, кажется, и не бывает. Один тучу в дом принесет, другой ведро для нее припасет. Дай бог, чтобы завтра нашим ведром новгородскую тучу удалось расчерпать.
На лицах собравшихся засветились одобрительные улыбки.
Чтобы хоть как-то скрасить щекотливое положение, в которое он попал, Семен Головин поспешил ухватиться за шутку Пожарского своей:
— Тебя послушать, Дмитрий Михайлович, так послов у нас не пашут, не сеют, не куют, не вяжут, а только жалуют: кого рыбкой, а кого и репкой. Ты-то сам к чему больше охоч?
— К рыбке, Семен Васильевич, к рыбке. Но не к той, из которой уха сладка, а к той, что в новгородской туче нам своим ведерышком ловить придется. Про это я уже сказал. Осталось всем нам душой скрепиться и начатое дело до ума довести. Как только с ним развяжемся, к Москве без запинки выступим. К походу у нас все готово. Верю я, что завтра для ополчения поворотным днем станет. А вы верите?
— Верим! — из конца в конец встречными потоками покатились нестройные голоса. — Как не верить?.. Без веры мы народ пропащий… Вера — всякому делу мера…
И только кто-то в дальнем углу вперекор остальным бормотнул:
— Поколе хлеб в печи, не садись на нее — испортится.
Дождавшись, когда земцы умолкнут, Пожарский на это ответил:
— Спаси вас Бог за веру, сподвижники! Какова она, таков и сон, а каков сон, таков и хлеб. Постараемся правильно испечь его, не испортив сомнениями…
Следующее утро началось с дождливой пасмури. Но первый человек в Ярославском кремле воевода Василий Морозов распорядился все светильники в приемной палате зажечь. К приходу Пожарского и его окружения она наполнилась множеством маленьких солнц, свет которых играл на стенах, обитых светлым рисунчатым полотном, на лещади полов из красного дерева, на широких пристенных лавках с искусной резьбой-опушкой, отражался в ликах хоромного иконостаса, в узорных слюдяных окончинах, оправленных в медные переплеты, и в зеркале печи, выложенном фигурными изразцами с синей поливой. Такое обилие света настраивало на торжественный лад, придавало силы и уверенности.
Ровно в три часа утра [58] высокие, подбитые сукном двери отворились и в палату неспешно вступили новгородские послы. Впереди шествовал высокий дородный князь Федор Оболенский-Черный в камчатом лазоревом кафтане и зеленых сафьяновых сапогах. На шее у него поблескивал золоченый крест с красными рубинами, на бобровой опояске красовался нож в окованном серебром чехле-влагалище, а на широком лице с выдвинутой вперед челюстью застыло выражение бесстрастной почтительности. Отстав от него на полшага, следовали игумен Вяжецкого монастыря Геннадий — по правую руку, и дядя первого самозванца Лжедмитрия Отрепьев-Смирной — по левую. Игумен облачен в длиннополую фелонь, на черном поле которой серебром горел восьмиконечный нагрудный крест, а Отрепьев-Смирной — в алый кафтан с позолоченными застежками и сапоги из белой юфти. Оба коренастые, костистые, с круглыми постными лицами. За ними важно вышагивали посольский дьяк, пять дворян разных степеней и столько же лучших посадских людей, избранных новгородской общиной.
Навстречу им вышел князь Дмитрий Пожарский. Его медно-коряного цвета кафтан с откидными наплечниками стянут широким наборным поясом. Никаких особых украс, все строго, но внушительно. Зато сопровождавшие его бояре Морозов, Долгорукий и Головин разоделись по-царски: поверх атласных ферязей с рукавами, упадающими до пола, и стоячими воротниками-козырями, усыпанными жемчугом и самоцветными камнями, они надели становые кафтаны из легкого шелка с короткими рукавами, а Долгорукий — еще и распашную шубу из бобра, крытую красной парчой.
Сойдясь посередине палаты, та и другая сторона обменялись поклонами и многословными, как принято в таких случаях, приветствиями. Затем выборные люди Новгорода заняли лавки напротив представителей московских уездов, а Пожарский пригласил Оболенского с товарищами за стол переговоров. Деловито спросил:
— С чего начнем, Федор Тимофеевич?
— С чего Смута пошла, с того и следует разговор вести, — тряхнул смоляными кудрями Оболенский. — Пока мы все касательно к ней по порядку не разложим, в нынешних отношениях нам концов не найти.
— Так тому и быть, — обменявшись взглядом с Морозовым и Долгоруким, согласился Пожарский. — Первое слово за тобой. Приступай, князь. Вместе и рассудим.
А Семен Головин, задетый его невниманием за живое, требовательно осведомился у Оболенского:
— И куда же по-твоему эти концы ведут?
— К кончине благодетельного государя Федора Иоанновича и венчанию на царство его шурина, слуги и наместника Бориса Годунова, — с готовностью откликнулся Оболенский. — Но законна та власть, что Богом дарована и из чрева матери помазана. Слов нет, скипетр всей русской державы Годунов решением Земского собора получил, но сталось это по хотению сердец его приспешников, а не по воле всех вельмож и прочего народа. Про это вам самим не хуже моего ведомо, господа, однако же и повторение не лишним бывает. Ну а когда некоторый вор-чернец сбежал из Московского государства в Литву и объявил себя убиенным царевичем Димитрием, сыном Иоанна Грозного, посыпались на Русию неустройства всякого рода. С тех пор и началась игра царем, как детищем, а страна наша в двоемыслие впала, в мятеж и нестроение…
Имени беглого чернеца Оболенский не назвал, но и без того было ясно, что речь идет о Гришке Отрепьеве. А его дядя Отрепьев-Смирной сидел рядом и согласно кивал белесой с пролысиной головой, всем своим видом показывая, что его, кроме имени, ничто больше с племянником, Гришкой-самозванцем, не связывает.
Князь Оболенский между тем принялся излагать, каким путем пала под ноги лжеименитому Гришке Отрепьеву царская корона и как после его позорной смерти она досталась Василию Шуйскому, сколько крови пролил второлживый самозванец Тушинский вор, стараясь спихнуть с трона Шуйского, и какой унизительный конец оба они приняли (Тушинский вор убит начальником его же татарской охраны, Петром Урусовым, а Шуйский скинут с престола и отдан полякам на унижение. Облачив бывшего царя в монашескую рясу, ляхи его для шутовства в Корону Польскую увезли: вот-де что и с другими вашими поставленниками будет!). Тут Оболенский горестно вздохнул и скорбно сложил на груди руки.
— Потому и разбрелась Москва во все стороны, истомилась от скорбей и нашествий. Где ей опору искать? Всеми храмами не отмолить грехов наших, а таскать их на себе уже мо́чи нет! Какая польза была возлюбить тьму больше света и переложить ложь на истину? А ведь переложили! Как сатана своим мерзким светом очи русские омрачил! Следом за Москвой Бог и на земли Великого Новгорода гнев свой неутолимый навел…
Слушая Оболенского, престарелый князь Владимир Долгорукий поначалу оживлялся, одобрительно двигал кустистыми бровями и крутил мшистой головой, потом укладывал голову на грудь и, впав в дрему, начинал сладко посапывать, но вскоре опять встрепенывался и поглядывал вокруг важно и заинтересованно. В отличие от него Василий Морозов ловил каждое слово новгородского посла, но ничем своих чувств не выказывал. Зато Семен Головин раздраженно ерзал и сопел. Ему все не нравилось — и многословие Оболенского, и внимание к этому многословию собравшихся, и чересчур яркий свет в палате, но в первую голову — поведение Пожарского.
А Пожарскому не до Головина было. Он давно догадался, к чему Оболенский свою страстную речь клонит. Да к тому, что Смуту, порушившую государские устои Русии, ей самой ныне не избыть — очень уж худо выборные цари Годунов и Шуйский себя показали. При одном самозванство на свет выплодилось, при другом страна от него и вовсе расшаталась, в измены и братоубийства впала. Ей теперь свежий самодержец нужен, в кровавых тяжбах за трон не замешанный, дружбой с поляками и литвой не замаранный — и непременно цесарского роду! Имени польского королевича Владислава, которому Москва и немало других городов сослепу присягнули, Оболенский при этом называть не станет, а лишь намекнет на то, что именно Речь Посполитая первому Лжедмитрию на русский престол сесть помогла, после чего одни ее вельможные паны в тушинском стане оказались, другие в Москве, на которую Тушинский вор пасть раззявил. Можно ли после этого польским ставленникам доверять? Задав этот вопрос, Оболенский вспомнит, как Москва за помощью к Шведскому королевству за дружбой и помощью против ляхов и тушинцев обратилась и как эта просьба не только Москву, но и Великий Новгород — при всех былых и нынешних сложностях — договорными обязательствами скрепила. И главное из этих обязательств — просить себе в государи шведского королевича. Лишь он новые силы в старые мехи влить сможет, а русский упадок к европейскому расцвету повернуть…
В своих ожиданиях Пожарский не ошибся. Именно так Оболенский цепь своих рассуждений и построил, но при этом добавил к ним обиду Великого Новгорода на земское ополчение Прокопия Ляпунова. Было дело, Ляпунов прислал к нему своего посланника воеводу Василия Бутурлина с просьбой помочь против ляхов со шведами о военном подкреплении договориться. Новгород на это согласием ответил. Более того, обязался часть предстоящих расходов на себя взять, а коли понадобится, одну из пограничных крепостей под заранее оговоренный выкуп заложить. И это в то время, когда Новгород сам нужду и опасности превеликие терпел. В любой день ему грозило нападение либо из Литвы, либо из Ливонии, либо из-под осажденного поляками Смоленска, а в новгородских землях шведы тем временем вольничали. Ну и что новгородцы за свои старания получили? — Очередные попирания! Ведь на переговорах с Якобом Делагарди Василий Бутурлин себя коварно повел. Опередив новгородских послов, он спросил графа, какие крепости шведский король хотел бы за поход на ляхов получить? Делагарди того и надо. Вместо одной он сразу шесть крепостей затребовал: Ладогу, Орешек, Иван-город, Ям, Гдов, не считая отданной еще Василием Шуйским Карелы. А Ляпунов вместо того, чтобы отозвать зарвавшегося Бутурлина, мимо новгородского воеводы Ивана Одоевского Большого Никитича прислал ему распоряжение — отдай-де в залог от нас Орешек и Ладогу. После этого граф-маршал Делагарди новгородский деревянный город взятием и взял…
— Мы за Ляпунова не в ответе, князь, — в очередной раз стряхнув с себя дремоту, подал голос боярин Долгорукий. — И за Василия Бутурлина тоже. Его поляки на дыбу брали, вот у него ум за разум и заходить стал.
— Чем старыми трениями со шведами глаза нам колоть, — разомкнул уста молчавший доселе воевода Морозов, — скажи лучше, Федор Тимофеевич, главное посольское слово, с которым ты к нам в Ярославль прибыл.
— Да, да, скажи! — горячо поддержал его Семен Головин. — А то ходим вокруг да около.
Сбитый с толку, Оболенский задумался, потом, исполнившись важности, изрек:
— Ведомо вам самим, честное собрание, что Великий Новгород от Московского государства отлучен никогда не был, и теперь бы вам так же, учиняя меж собою общий совет, быть с нами в любви и соединении под рукою единого государя. Для этого от матери и венценосного брата Густава Адольфа послан к нам шведский королевич Карл-Филипп. Да поможет он нам переложить печаль на радость! Да укрепит умами и душами!
При этих словах взгляды новгородцев скрестились со взглядами выборных из других городов и тут же разбежались.
— Это что же получается? — горестно вздохнул Пожарский. — При прежних государях послы и посланники прихаживали к нам из иных государств, а ныне из Великого Новгорода вы послы! Слушаю и своим ушам не верю. Разбудите, ежели сплю. Искони, как начали быть на Русийском государстве государи, не было меж нами порубежий — и впредь быть не должно! По моему разумению, мы здесь для того и собрались, чтобы совместный шаг на этом пути сделать. Правильно сказал князь Оболенский: Смута из многих причин сделалась, и первая из них та, что на государском верху ограда выше колокольни оказалась, царские милости в боярское решето стали сеяться, а земля, от самозванства затмясь, без истинного царя овдовела. За такие согрешения Бог всю землю и казнит, в который раз нам напоминая, что без Него свет не стоит, а без государя земля не правится.
— Истинно речешь, Дмитрий Михайлович! — одобрительно возвысил голос игумен Вяжецкого монастыря Геннадий. — Сердце государя в руке Божией, а коли государя нет, то и народ без сердца мается. Никак не можно земле без государя стоять!
— Верный слуга Богу царь всего дороже! — добавил Отрепьев-Смирной. — Царь думает, а народ ведает. По словам Степана Татищева, что у нас в Новгороде от ярославского Совета был, и вы к избранию на царство шведского королевича склоняетесь. Так ли это?
— Так! — подтвердил Пожарский. — Если королевич православную веру примет, тогда и мы готовы посодействовать. Однако сомнения нас не отпускают. Развейте их для обоюдной пользы.
— И в чем ваши сомнения заключаются?
— Не обижайтесь, други, если я невольное сравнение сделаю, — почтительно попросил Пожарский. — У всех на памяти, как польский король Жигимонт хотел дать на Московское государство сына своего, королевича Владислава, да через крестное целование коронного польского гетмана Жолкевского и через свои личные послания манил с год — и не дал. Вот и шведский король Карл так же собирался на Новгородское государство сына своего вскоре отпустить, но до сих пор, уже близко к году, государь-королевич в Новгороде так и не появился. Тут невольно подумаешь: а не выйдет ли с ним то же самое, что с польским Владиславом у Москвы вышло? Ведь ездили уже за королевичем в Стокгольм посланцы Великого Новгорода, полгода там под надзором почетными гостями просидели. Хорошо хоть, не солоно хлебавши, назад вернулись. А то польский Жигимонт наше посольство во главе с Василием Голицыным и митрополитом Филаретом Романовым, отправленное под Смоленск, до сих пор в заключении держит. Они от нужды и бесчестия, будучи в чужой земле, погибают. Тут у кого хочешь слезы закипят, а персты в кулаки сожмутся.
— Сравнение твое не к месту сказано, Дмитрий Михайлович, — нахмурился Оболенский. — На ту пору, когда наши посланники за королевичем в Стокгольм явились, король шведский здоровьем совсем упал. Хвори его замучили, преклонные лета, война с Данией, другие заботы. Не до Новгорода ему уже было. Смерть за ним по пятам шла. А когда король Богу душу отдал, Карлу-Филиппу поневоле задержаться пришлось. Сперва на похороны отца, а после на коронацию старшего брата, Густава. Зато теперь он в дороге и, надо думать, скоро в Новгород прибудет. Уверяю тебя: такой статьи, как учинил над Московским государством Жигимонт, от шведского королевича мы не чаем.
— И мы тако ж! — заявил Морозов, а Долгорукий и Головин его в голос поддержали.
Видя за спиной Пожарского такое единодушие, Отрепьев-Смирной с ходу в наступление перешел:
— При чем тут Жигимонт и его сын Владислав? Между ними и Карлом-Филиппом такая же разница, как между булыжным и самоцветным камнем. Учинил Жигимонт неправду над Голицыным и другими послами московскими, да тем себе какую прибыль сделал? Теперь мы без них собрание против врагов наших, польских и литовских людей, держим, на Карла Филиппа уповаем, его ждем.
— Без кого это без них? Без Голицына, что ли? — неожиданно для самого себя взорвался Пожарский. — Да если бы теперь такой столп, как родословный князь Василий Васильевич, был здесь, то за него бы все держались! И я мимо него судить, кому на царство поставиться, не стал бы. К такому делу меня бояре и вся земля приневолили. Но они же велели вам передать, что Земской собор согласен Карла-Филиппа лишь по летнему пути ждать, а если и дальше проволочки начнутся, поступать по своему усмотрению. Справедливо это или нет, вам решать, други. Что скажете?
— Справедливо! — подал голос один из новгородцев.
— Всякому делу своя пора, — присоединился к нему другой.
И вдруг вся палата загудела, как растревоженный улей.
— Чего зря время тянуть?.. Свой государь-батюшка надежней… Кому земля поклонится, тому и будем служить… Пусть за царя его вера скажет…
Разволновался и князь Оболенский. Дождавшись, когда шум уляжется, он торжественно изрек:
— От истинной православной веры мы не отпали, братья. Как условились, королевичу Филиппу-Карлу будем бить челом, чтоб он в нашей православной вере греческого закона был, и за это хотим все помереть. А коли Карл-королевич не захочет быть в православной христианской вере греческого закона, то не только с вами, боярами и воеводами, а со всем Московским государством вместе, хотя бы вы нас и покинули, мы одни за истинную нашу православную веру помереть готовы, а не нашей, негреческой веры, государя не хотим!
— Святые слова! — просиял светлыми, глубоко посаженными глазами Пожарский. — Ну тогда, Федор Тимофеевич, нам три дела сделать осталось. Первое дело: скрепиться на том, чтобы людям Новгородского государства быть с нами в любви и совете, войны не начинать, городов и уездов Московского государства к себе не подводить, наших жен, детей и мужей, задержанных в новгородских землях, на тех, что бежали в Ярославль от новгородского взятия или были иманы со шведами в языцех, обменять, вольную торговлю на обе стороны открыть. Верим, что королевич к вам скоро придет и православную веру перед лицом земли примет.
— Можешь считать это дело решенным, князь. Сам видел, что все мы за него грудью стоим. Переходи ко второму.
— Второе от первого не отделимо. Устный уговор хорошо, а письменный — лучше. Вот мы и хотим его на лист положить и своих людей с тобою в Новгород отправить.
— Разумно, — одобрительно глянул на него Оболенский. — Наше соглашение только крепче от этого станет, а возвращение — почетней. Отправляй, Дмитрий Михайлович! А пока доверенных следовать в Новгород огласи, — и с улыбкой добавил: — Сдается мне, что у тебя с ними все наперед поименно решено.
— Почему «у меня»? — пожал плечами Пожарский. — У нас! У всех, кто здесь Совет всей земли представляет. Не уговорясь на берегу, не пускайся в реку. Вот и мы того же правила держимся… А послать в Новгород мы наметили людей достойных и разумных. Перво-наперво городового дворянина Секерина. Встань, Перфилий Иванович, представься.
С лавки неподалеку от них поднялся невысокий, крепко сбитый пожилец со следами давних ожогов на широком скуластом лице.
— В товарищах с ним пойдет посадский человек Шишкин Федор сын Кондратьев. Покажись, Федор.
Шишкин оказался напротив очень высоким и дородным.
— Ну а с ними подьячий Девятый Русинов. Где ты, Девятка?
— Здесь я! — из дальнего угла отозвался тот и с чувством поклонился новгородцам.
— Стало быть, и со вторым делом разобрались, — подытожил Оболенский. — А третье дело какое?
— Тебя от души обнять, Федор Тимофеевич, а в твоем лице всех твоих сопроводителей. Хороший разговор у нас составился. Его бы и впредь по-братски держать.
Тут они разом встали и крепко обнялись.
Не претерпев, не спасешься
Едва отбыли восвояси новгородские послы, Ярославль загудел, как растревоженный улей. Ополченцев на посаде заметно прибавилось. От пристани к Большим воротам и дальше вереницей потянулись возы с упрятанными под рогожи грузами. Кузнечные дворы задымили, заухали, наполнились пригнанными на подковку коньми. Распахнулись оружейные амбары. В ближние и дальние города и слободы поскакали порученцы Дмитрия Пожарского, а навстречу им зачастили посыльные с загородных станов. Не остались в стороне и посадские люди. Побросав свои дела, стали они собираться то здесь, то там, чтобы обсудить последние новости, а заодно на сборы земской рати поглазеть.
— Ну наконец-то дело стронулось! — радовались они. — Осмотрением князя Пожарского Совет всей земли с Великим Новгородом замирился. Теперь у ополчения руки развязаны. Можно и по ляхам с плеча ударить. Эвон какая силища на Которосли и Пахне собралась!
Однако вперетык к серьезным речам тут же и шутейные зазвучали.
— Хорошо чужой рукой бить, а ты своей ударь-ка, смоги! Небось сто оправданий найдется. Пошел бы-де я на ляхов войной, да седло у меня репьяное, плетка гороховая, конь из глины леплен, а жена ненаглядна ждать не обучена. Вот и жаль мне ее без призору оставлять. Петухов-то вокруг вон сколь, и все со шпорами. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Около — четыре, а прямо — шесть!
На веселую беседу все падки. Кому не охота народ посмешить, свою шутку к чужой пристроить? Вот и вылазит вперед очередной балагур. Озорно ухмыльнувшись, просит:
— Иван, зануздай мою кобылу!
Затем, изменив голос, сам себя спрашивает:
— Зачем это?
— Не видишь, что ли, Москву назад брать еду!
— А сам что, справиться с кобылой не могешь?
— Да ты глянь, паря, у меня-жеть ломоть в руках.
— Ну дак положи его в шапку.
— Не лезет!..
И так потешно он разговор двух неотесанных мужиков изображает, что даже самые неулыбчивые посадники лицом теплеют. А балагуру того и надо.
— В прохладе живем, — сообщает он. — Язык болтает, а ветерок продувает. Ел, не ел, а за столом посидел. Сам не воевал, зато ратничков у себя на дворе повидал.
— А скажи-ка, любезный, что ты за Москву просишь? — делая вид, что ищет за пазухой деньги, подступает к нему следующий потешник. — Я торговаться не привык. Куплю не глядя. Но только учти: медные деньги звонче золотых. Чай, колоколов из золота не льют…
Однако не всем подобные шутки по вкусу.
— Цыц на вас, зубоскалы! — обрывает их один из посадских распорядителей. — Недосуг нам, ребяты, на пустяки сбиваться. Речь про новгородское замирение шла. Но удержит ли оно шведов — вот задача. Так что своя рука не токмо в ополчении, но и здесь нам потребна будет. На ляхов ходи, но и про шведов не забывай! Свиньям в огороде одна честь — полено!
— А и верно! — поддерживают его одобрительные голоса. — Ярославль — тоже место горячее. Ежели в Москве гром гремит, и у нас слыхать. Ежели над Новгородом молоньи заметались, и над нами небо треснет. Это с краю отсидеться можно, а мы тут, как у черта на лысине: снизу пламя, а сверху дым. Вот и крутись, как хочешь…
На двух безусых юнцов в серых долгополых кафтанах с короткими широкими рукавами и шесть сопровождавших их всадников, проскакавших мимо, никто из посадников и внимания не обратил: мало ли гостей в Ярославль наезживает? После московского пожара изрядная часть столичного дворянства и купеческой знати по северным замосковским городам разбежалась. Вот и пересылают детей друг к другу — из Ростова в Ярославль и другие окрестные города. У них своя жизнь, свои заботы, свои связи. А коли так, пускай себе скачут! Но когда всадники к воеводской избе князя Пожарского повернули, а юнцы, молодецки спешившись, навстречу взволнованному родителю на крыльцо взбежали, посадников радость прошибла:
— Так это же сыны Дмитрия Михайловича! Его стать, его выглядка. Ну чистые орлы! И одеты без бахвальства. Детки из имущих семей привыкли рядиться в парчу да бархат, в круглые заморские коротайки с борами и золотым шитьем, а эти, поглянь, в простых опашнях прибыли.
И пошла гулять по Ярославлю молва: «Неробкую душу в князя Пожарского Бог вложил. Сам против ляхов идет и сыновей с собою ведет. Значит, верит, что одоление за земской ратью будет. Добрый знак!».
Юнцы и впрямь сыновьями князя Пожарского оказались. Петру шестнадцать лет минуло, Федор на год младше. Один лицом в отца пошел, другой — в мать. Глаза у него большие, девичьи, нос тонкий, чуть вздернутый, с губ мечтательная улыбка не сходит.
Вместе с ними в Ярославль прибыл сын Кузьмы Минина, Нефед. Он вдвое старше братьев-погодков, зато ростом на голову ниже и в плечах попросторней. Сразу видно — человек тертый, степенный, доброжелательный. Ну точь-в-точь дворовый дядька, приставленный к отпрыскам поместника средней руки, чтобы охранять, направлять и заботиться о них ежечасно.
На самом-то деле с Петром и Федором Нефед знаком шапочно. Он за отца мясную торговлю в Нижнем Новгороде вести остался, матушке своей, Татьяне Семеновне, не богатой здоровьем, помогать, а родовое поместье Пожарских Волосынино-Мугреево в Стародубском уезде у реки Лух находится. Ездить туда не попутно, да и не за чем. Минин с Пожарским великим делом скрепились, а семьи их так и не смогли сословные различия преодолеть, общий язык найти. Да скорее всего и не искали.
Так бы оно и дальше шло, если бы месяца полтора назад Минин не передал сыну через посыльного просьбу: привези-де, сынок, братьев Пожарских в Ярославль; пусть родитель на них порадуется, а я на тебя. Нефед тотчас в Мугреево отправился: собирайтесь, княжичи, отец зовет! Но тут новый порученец к нему из Ярославля примчался: погоди-де ехать; князь Дмитрий внезапно занемог, но ты скажи матушке Марии Федоровне и княгине Прасковье Варфоломеевне, что поездка ваша исключительно из-за дел срочных откладывается; скоро позову. И вот позвал…
Передав с рук на руки сыновей Пожарскому, Нефед отправился в земскую избу — отца обнять, а княжичей наедине со своим отцом оставить. У каждой встречи свои речи.
После первого порыва, когда чувства наружу рвутся, Петр и Федор вспомнили, что не дома находятся, а в воеводском хоромце, где судьбы Московского государства решаются, вот и напустили на себя серьезность. Пусть родитель видит, что из отроческих лет они уже вышли, умеют быть сдержанными и самостоятельными. Но ломкие, с юношеской хрипотцой голоса, нескладные порой движения, размахивание руками, когда не хватает слов, и другие признаки переходного возраста никуда не денешь. Они с головой княжичей выдают.
«Милые вы мои, — глядя на сыновей, растроганно думал Пожарский. — Не спешите старше, чем есть, казаться. В каждом возрасте человек один раз живет. Это как ступени. Без них на колокольню не взойдешь, к Богу не приблизишься. Главное — душой возрасти, а тело за ней само потянется. Если она крепка, скоро меня во всем обойдете. Дожить бы до такой радости, чтобы и мне было у кого поучиться…».
Не успел Пожарский сыновей о домашних и дорожных делах расспросить, холоп купца Никитникова явился.
— Видели твоих княжичей ехамши, — сообщил он. — Вот и велено их в баньку звать. Не откажи, Дмитрий Михайлович. От всего сердца прошено. Баня с дороги — наипервейшее дело.
— Смотри ты, какое внимание! — не сдержал удивления Пожарский и глянул на сыновей: — А вы что скажете?
— С превеликим удовольствием, батюшка!
— Ну и ладно. А я пока с делами управлюсь. Не ждал вас нынче, если честно сказать, а время горячее. Ступайте, добры молодцы, да не забудьте Нефеда с собою взять, а заодно и мугреевцев, что вас сюда сопроводили…
Купец Григорий Никитников сам к воротам вышел, чтобы званых гостей с почетом встретить. Еще издали он радушием рассиялся, шапку к груди притиснул, приветственные слова говорить начал. Но тут между ними пьян на коне ухарь в золоченой ферязи въехал.
— Прочь с дороги, Ошмянская шляхта [59]! — кренясь из стороны в сторону, грозно заорал он. — Где тут Кунавина слобода? Блудену хочу! Гулявицу! У нас не в Польше, хрен редьки больше!
— Ну тогда тебе не сюда, а в Нижний Новгород надо, любезный. У нас Кунавиной слободы нет, — спеша поскорее от него избавиться, ласково объяснил Никитников. — А лучше всего ляг да проспись. Оно и разъяснится.
Но ухарь подозрительно на него уставился:
— А здесь что?
— Здесь Ярославль!
— Зачем Ярославль? Мне в него не надо. Он хуже Вильны. Ярославцы Спаса на воротах продали. Кукушкины дети. А в Вильне семь дорог для жида и три для поляка…
Выборматывая это, ухарь крутил головой, выхватывал мутным взглядом то одно, то другое лицо, пока не остановился на Нефеде Минине.
— Ты-то мне и нужен, приятель, — разулыбался он. — У тебя бородка нижегородка, а ус макарьевский. Ну хоть ты по дружбе скажи, где эта чертова Кунавина слобода?
— Тебе русским языком ответили: пойди проспись! Негоже сдуру города хаять. Ярославль плох, а какой тогда хорош?
— Твоя правда: все хуже! Новгородцы такали, такали, да себя шведам и протакали. Москва, старушка горбатая, по нашим бедам не плачет. Ездил черт в гам-город Ростов, да напугался крестов. Кострома — блудливая сторона. Рязанцы мешком солнце ловили, блинами конопатили. О казанских сиротах и говорить нечего. Всюду народ честной: коли не вор, так мошенник.
— Сам-то откуда? Или свое имя отдельно от поносных речей держишь?
— Ничуть не бывало! Я смоленский дворянин Иван Доводчиков. Слыхал про такого? Про нас говорят: смоляне-де польская кость, только собачьим мясом обросла. Вранье это! Если мы и собаки, то ляхов, как кошек, терпеть не можем… А теперь ты назовись.
— Нефед Кузьмин сын Минин, — с достоинством ответил Нефед. — Борода у меня и впрямь — нижегородка, а сам я купеческого роду.
— Минин, говоришь? — озадачился Доводчиков. — А с тобой кто?
— Княжичи Петр и Федор Дмитриевы Пожарские.
— Так бы сразу и сказал, — Доводчиков вмиг взбодрился, расквашенное тело постарался в струну собрать, но это ему плохо удалось. — Добро пожаловать! Чей берег, того и рыба, — затем тронул поводья и, свесив голову, затрусил дальше.
— Бездельный человек и слова у него бездельные, — попытался загладить выходку Доводчикова Григорий Никитников, — Дмитрий Михайлович и Козьма Миныч уже ставили его на место, но ему все неймется. Совсем с языка свихнулся, по краю терпения ходит. Сами небось заметили: сперва надулся, как жаба болотная, но стоило вам назваться, тут же увял. Вот что имя ваших родителей значит! Они тут строгий порядок навели — кабаки на многое время заперли, дозоры против казацкой вольницы учинили, в уважение к ополчению людей ввели. И вам бы во всем с них пример брать.
— Они свое уже заслужили, а нам служить еще только предстоит, — вздохнул Петр. — Как тут прямой пример возьмешь?
— Я в том смысле сказал, что родители для вас похвальным образцом должны быть, — уточнил свою мысль Никитников. — Остальное приложится.
— Это само собой, — согласился Нефед. — Для того и прибыли…
На следующее утро стоявшие на посаде ополченцы свои полковые и полуторные пищали на площадь перед съезжей избой выкатили, а ярославский воевода Василий Морозов еще три к ним в придачу велел со стен города снять. Ни он, ни Долгорукий, ни Головин, ни другие высокопоставленные члены Совета всей земли с Пожарским к Москве идти не собирались. У всех свои причины для этого нашлись. Но все поспешили чем-нибудь свою увертливость сгладить. Морозов — пушками и ядрами к ним, Долгорукий деньгами и съестными припасами, Головин уверениями, что, управившись с неотложными делами, тотчас за земской ратью со своими панцирными холопами выступит.
С собою на площадь Пожарский Петра и Федора взял. Ему ли не знать, какое благоговение у подростков любое воинское оружие вызывает, тем более огнестрельное? Вот пусть и взыграет в них мужское начало. Ведь мужчина — не только добытчик, но и защитник, пахарь и воин одновременно.
При виде пушечного наряда у княжичей и впрямь глаза неподдельным интересом зажглись. Забыв обо всем на свете, они к пушкарям подступили, стали наблюдать, как те готовность каждого орудия к походу проверяют.
— Смотри, какая чудная мортира, — перешептывались они. — Без хвостовика. И рукав у нее очень уж короткий… А это однофунтовый фальконет немецкой выделки… А это коронада. Вертлюг у нее, похоже, со спуском… А это… как думаешь?
— Ломовая пищаль, — подсказал чумазый пушкарь в казацкой шапке с кисточкой. — Для осадного дела в самый раз. Любую стену проломит, — и пошутил: — Один старый еврей из Мозыря назвал ее дыркой, обитой медью. Ничего себе, дырка, а? Съест и не подавится.
Глянув на сыновей, Пожарский понял, что теперь их отсюда калачом не выманишь, и велел стремянному, Семену Хвалову:
— Останься с ними, Сема. Я скоро вернусь.
Пока Пожарский в съезжей избе разрядные списки проглядывал и спешные распоряжения давал, площадь торговым, посадским и ратным людом наполнилась. Каких только одежд здесь ни увидишь — кафтаны самых разных цветов и покроев, стеганые тегиляи, свиты, паневы и сарафаны, летники, ферязи, зипуны, чуги, подоплеки, охабни, кунтуши, шабуры, армяки, чапаны. Столь же разнообразны головные уборы — шапки, колпаки, платки, тафьи, кички, брили, капелюхи, но и простоволосых, брито-чубатых голов немало. Это запорожское и донское казачество в многоликой толпе растворилось.
Управившись с разрядными делами, Пожарский на крыльцо вышел, от солнечного света и ярких веселых красок сощурился: ох и денек погожий случился! Порадоваться бы ему вдосталь, испить взахлеб, ни о чем другом, кроме этой благодатной красоты и земного буйства, не думая, — да забот не меряно накопилось, и сыновья ждут.
Легко сбежав с крыльца, Пожарский направился к ним. Рядом тенью поспешал второй стремянной Роман Балахна.
Завидев князя, встречные спешили расступиться, почтительно кивали, кланялись, желали доброго здоровья, а зазевавшихся Роман успевал отодвинуть в сторону.
Неожиданно он подался назад и, едва не сбив Пожарского с ног, заступил ему за спину. В следующий миг князь почувствовал несильный толчок. Тело стремянного обмякло, стало оседать. Кто-то вскрикнул. Кто-то побежал.
Обернувшись, Пожарский подхватил Романа на руки, почувствовал на пальцах его горячую липкую кровь и тотчас увидел убегающего. Это был дюжий детина в красном казакине. Шапка с него успела свалиться, обнажив бритую голову с серебряной серьгой в ухе и длинным чубом, который запорожцы называют оселедцем. Стало быть, это застепной казак.
В испуге перед ножом, который он все еще сжимал в руке, толпа отхлынула, освободив ему дорогу.
— Носилки сюда! — распорядился Пожарский. — А черкаса этого поймать. Живо! — и склонился над Романом.
— Носилки! Носилки! — понеслось по рядам.
Рана у стремянного оказалась глубокой. Она шла наискось от бедра к пояснице. Кровавое пятно на кафтане на глазах угрожающе ширилось.
— Рубаху! — не глядя на окружающих, потребовал Пожарский.
И тотчас мужики, случившиеся рядом, поскидывали с себя верхнюю одежду, а затем и рубахи. Пожарский выбрал ту, что почище, и, рывком отделив рукава от нательницы, умело наложил на рану сначала одну, потом другую полость. Крепко стянул. Для верности порвал и другую рубаху.
Роман поднял с земли серое от пыли лицо и невольно застонал.
— Спаси Бог тебя, братец! — погладил его по русым рассыпчатым волосам Пожарский. — По конец жизни тебе обязан.
— Чего там, — через силу улыбнулся Роман. — Это мне награда, что ты живой.
Тем временем бердники [60] приволокли злоумышленника. Казакин на нем был порван, лицо разбито, руки заломлены за спину.
— Кто таков? — оценивающе глянул на него Пожарский.
— Кому треба, той знае, — сплюнул кровавую слюну тот.
— Зря дерзишь.
— Этого спроси, князь, — вытолкнули бердники на круг еще одного задержанного. — Може, он скажет. Тоже утекать бросился. Мы его и словили.
Второй казак был облачен в зеленую чугу. Грудь перехвачена дорожной сумкой, за пояс заложены ложка и нож, лицо круглое, бритое, усы ниже подбородка свесились.
— Говори! — велел ему Пожарский.
— Та вы що, хлопцы? — округлил глаза вислоусый. — Хиба не бачите, що я мирный чоловик? Безладдя учинилось, от я и злякався. У цем случае краще погано бегати ниж хороше стояти. Коли б той розум наперед, що потим. Видпустите мене, га?
— Не верьте ему, люди добрые! — выступила вперед пожилая баба в белом платке и коротком сером летнике. — Это Обреска, а который с ножом — Степан Сергач. Два сапога пара. Я слыхала, как они о злом деле шептались, только не поняла, об каком. Теперь-то вижу.
— Чтоб те хохлы да повыдохли! — выкрикнул кто-то у нее за спиной. — Черт с них голову снял да себе и приставил.
— Бей черкасов! — заволновалась толпа. — Чего удумали: на князя нашего руку подымать! Разбойники! Пролазы! Злыдни! А этот, с серьгой в вухе, еще и ухмыляется…
— Стой! — вмешался Пожарский. — Самосуда не допущу! Ведите их в съезжую. Сдайте князю Хованскому. Пусть допросит. Там видно будет, что с ними делать.
Разбившись о князя, как о береговой уступ, волна людского гнева с ворчанием отхлынула. Этим поспешили воспользоваться бердники. Огородив покусителей скрещенными топорищами, они погнали их к съезжей избе. А Пожарский, оглядевшись, нетерпеливо шумнул:
— Где же носилки?
— Довязываем, воевода! — послышался голос неподалеку.
Вслед за этим на кругу появились мужики с жердинами, наскоро скрепленными широкими поперечинами. Кто-то из толпы тут же застелил их холщевыми покрывками, и получилось переносное ложе. Осторожно уложив на него Романа, мужики вопросительно глянули на Пожарского:
— Куда прикажешь нести, воевода?
— В лекарню Герася Недосеки, что в заднем придомке купца Никитникова… Ступайте, но с превеликим бережением. Я догоню!
Душа Пожарского за сыновей растревожилась. А вдруг и на них кто-то напал? Самое подходящее место и время. Одна надежда на пушкарей да на стремянного Семена Хвалова. Он человек глазастый, расторопный — в обиду Петра и Федю не даст…
А вот и они навстречу торопятся. Эхо событий на площади и до них докатилось. На юных лицах еще тревога написана, но губы уже готовы вспыхнуть радостной улыбкой.
— Следуйте за мной! — на ходу велел сыновьям Пожарский и поспешил за носилками.
Коморка Герася Недосеки была наполнена горшками, деревянными посудинами разной величины, пучками лесных и полевых трав. Остальное пространство занимали две лавки и крохотная печь. Столом лекарю служил широкий подоконник. Ни дать, ни взять — жилье лесовика из народных быличек. Да и сам Герась вполне мог сойти за лешего: худой, остроносый, бороденка и волосы на голове серыми космами торчат, одежда длиннополая непонятного покроя. Но взгляд живой, умный.
Изловчившись, бердники протиснули носилки за порог и, переложив Романа на лавку, удалились. Следом вошел Пожарский, а Петру и Федору только и осталось место у порога.
— Вот, — объяснил лекарю князь. — Метили в меня, попали в Романа. Ты уж поставь его на ноги, Герась. Христом Богом тебя прошу.
Недосека в ответ только губами пожевал.
Осмотрев повязку, наложенную Пожарским, он решил ее не менять, лишь обильно смочил пахучей пихтово-травяной жидкостью, а самого Романа напоил целебным зельем. Затем ловко обрезал и снял сначала верхнюю, потом нижнюю часть кафтана. Убедившись, что ноги Романа в коленях сгибаются, попросил пошевелить пальцами. Удовлетворенно вздохнув, сообщил Пожарскому:
— До веку далеко: все заживет, князь. Занимайся спокойно своими делами. А Роман покуда у меня побудет.
— Не стеснит ли случаем?
— Теснота — не лихота. Али не слыхал: в тесноте люди песни поют, а на просторе волки воют?
— Ну тогда ладно. Лечи его, как меня лечил. Я в долгу не останусь… А ты, Роман, поправляйся скорей. Я к тебе попозже наведаюсь.
Вслед за сыновьями Пожарский вышагнул за дверь. Один камень с души у него свалился: рана у Романа неопасная. Но давил другой камень: кто столь подлое покушение на него замыслил? Этого только не хватало — в своем стане среди своих единомышленников с оглядкой ходить! И когда? — Накануне выступления! Да еще при сыновьях. Они на мир широко открытыми глазами смотрят. Для них земское ополчение и предательство — вещи несовместимые. И вдруг на тебе — удар исподтишка. Тут самый погожий день поневоле хмурым покажется, солнце потускнеет, краски свой истинный цвет потеряют.
Словно почувствовав, какие мысли отца одолевают, Федор ласково припал к его плечу:
— А пушкари тебя любят, батюшка! И все тебя любят. Мы же видим.
— Не претерпев, не спасешься, — солидно добавил Петр строку из Писания.
— Чада вы мои, прибытчики! — растроганно притиснул их к себе Пожарский. — На тернистом пути и терний много. Сами видите, ко всему готовыми надо быть. Живем, как на ветру свеча горит. Ну да ничего, справимся, — и спохватился: — А Семка Хвалов где?
— Только что здесь был, — заоглядывались княжичи.
— Носит его невесть где, — нахмурился Пожарский. — Хотел к Минину его послать… Ладно, успеется. Заглянем пока в съезжую избу. А вдруг Хованский уже с допросом управился? Он человек хваткий…
Князь Иван Хованский, племянник мужа сестры Пожарского, Дарьи, и впрямь зря время не терял. Поняв, что из Степана Сергача клещами слова не вытянешь, он за казака Обреску взялся, в страх его без пытки вогнал. Тот ему все и выложил. Их-де со Степаном Иван Заруцкий в нижегородское ополчение под видом выкликанцев заслал, чтобы князя Пожарского жизни лишить. Хорошее вознаграждение за это обещал, а к нему — атаманство. Как перед таким посулом устоять?
Слово за слово, Хованский и подробности этого покушения вызнал. Оно давно готовилось. Сначала Заруцкий его дворянину Ивану Доводчикову поручил. Тот головой и поместьями Заруцкому обязан, но и к Пожарскому как старый знакомец вхож. Пробовал Доводчиков князю яду в кубок подсыпать, да стремянной Роман Балахна ему помешал. Так это или нет, поди проверь. Доводчиков и обманет, не дорого возьмет. Очень уж он на хмельное падок. А может, вид делает, чтобы от своих обязательств отлынить.
Когда стало ясно, что от Доводчикова толку мало, Заруцкий смоленского стрельца Шанду подослал. У того под рукой пять верных смолян, на все готовых. Несколько дорожных засад они на Пожарского устроили, да все без толку. А когда князь черной немочью занедужил, Шанда к его стремянному, Семену Хвалову, по дружбе подкатился, стал серебряными ефимками смущать: ты-де меня и моих стрельцов на двор Пожарского впусти, остальное само собой сделается; за это ты десять серебряников сразу получишь, а после — еще двадцать. Чем плохо? Сперва-то Хвалов и слушать ни о чем таком не хотел, грозился на Шанду донести. Потом десять ефимков все-таки взял, но стал дело с ночи на ночь перекладывать. В третий раз Заруцкий Степана Сергача в Ярославль наладил, а ему в придачу Обреску дал. У Сергача промахов не бывает. Узнав, что Пожарский с новгородцами отношения уладил и вот-вот в поход двинется, он сам за нож взялся. Теперь зубами от злости скрежещет, грудь себе вконец оплевал, поверить не может, что попался.
Пожарский выслушал Хованского молча, потом горестно вздохнул:
— А ведь за Иваном Заруцким раньше правда и впрямь была. За отчину он голову готов был сложить. Теперь я ему мешаю. Войну с ляхами и их пособниками не даю в свои руки безраздельно взять, малолетнего сына вдовой царицы Маринки Мнишек на Московское государство посадить, а самому при нем без оглядки властвовать… Жаль мне вас, казаки. Слепые вы. В дурное дело ввязались.
— То не козак, що боиться собак, — оскалился в ответ Степан Сергач, а Обреска руками голову обхватил:
— Пропав ни за цапову душу! Що з нами тепер буде?
— Сам-то как думаешь?
— Йдучи по чужу голову, и свою неси.
— Правильно! Что заслужили, то и получите, — подтвердил Пожарский. — Посмотрим, что Совет всей земли скажет.
— Сперш увсех спиймати треба, — влез в разговор Степан Сергач. — Час на часу не стоит.
— Поймаем! — пообещал Хованский. — Я своих людей уже послал…
Вечером того же дня на последнее свое заседание в Ярославле собрался заметно поредевший Совет всей земли. Все ждали, что оно начнется с суда над Степаном Сергачем и другими покусителями на князя Пожарского. Но сам Пожарский, будто забыв о том, что днем на торговой площади случилось, возрек:
— Приспело нам, господа и други, к Москве на завтра идти! Вот и отдадим сперва честь Ярославлю и тем нашим сподвижникам, что вместе с его сынами надежной стражей здесь остаются! Возблагодарим их за то, что братски нас приветили, немалые силы помогли собрать, в больших и малых делах прямили и дальше прямить будут. Всяк знает: одной рукой врагу голову не скрутишь, а Ярославль у нас — вторая рука. Но и враг не один. Нынче он так силен, что государства, как горы, качает. Однако и мы не плоше. Нашего единства ему не пересилить. Встанем же, други, и до земли людям ярославской руки поклонимся!
Вслед за ним поднялись со своих мест и низко склонили головы Кузьма Минин, Иван Хованский, стольники Василий Туренин, Иван Троекуров, Алексей Собакин, стряпчие Исак и Дмитрий Погожие, воеводы Мирон Вельяминов, Лукьян Мясной, а с ними еще несколько третьестепенных дворян и земцов. И сразу стало видно, что именитых членов Совета в Ярославле на треть больше остается.
От настороженных взглядов Василия Морозова и Семена Головина это не укрылось. Они недовольно брови насупили. Зато Владимир Долгорукий, Андрей Куракин и другие бояре напротив отчим благожелательством исполнились. По душе им похвала и почестие князя Пожарского пришлись.
— Поклонимся и мы земской рати! — предложил Куракин. — На сильного Бог да государь! Богом мы сильны, а государя вместе заслужим!
Пришлось ярославским верховникам поклоном на поклон ответить.
— А теперь к делам неотложным перейдем, — буднично предложил Пожарский. — Ныне у нас в полках около семи тысяч земских и даточных людей добровольного строя да с тысячу стрельцов, да казаков с полторы тысячи. Сила изрядная. Вот я и предлагаю шестьсот из них под началом Григория Образцова на Белоозеро спешно отрядить. Там крепость худая, людей мало, того и гляди шведы или литва бродячая ее к рукам приберут, от северных и поморских городов нас отрежут.
— Это с какого рожна войско делить? — захлебнулся возмущением Семен Головин. — Ведь мы только что с Новгородским государством договором о мире и согласии скрепились, принца Карла-Филиппа в государи ждем. Или ты их против нас настроить хочешь? Еще и литву не к месту приплел. Она-то откуда там возьмется?
— Не кипи, Семен Васильевич. На договор с Новгородом никто не покушается. Я же не против шведов или принца Карла-Филиппа дело веду, а к тому, чтобы в Белозерск подкрепление послать — на случай враждебного движения с их стороны. Заметь: на случай, а не против. Береженого Бог бережет. Уж тебе-то не хуже моего ведомо, как себя шведы на русских землях ведут, какие раззорения и бесчинства творят. Нешто мы себя и своих людей оборонить не вправе? А про литву я точные сведения имею. Четыре хоругви к Белозерску прямо сейчас движутся. Я ж говорю: бродячая.
— Но это же опасное распыление сил! — тут же переменил доводы Головин. — В поход идучи, разумно ли шестьсот ратников ради какого-то несбыточного случая от ополчения отрывать? Именно этих шестисот в решающий час под Москвой может не хватить. Что тогда?
— А ежели их в Белозерске не хватит? — усмехнулся Пожарский. — Не вижу толку вести пустые споры. Мое предложение не из воздуха взято, а из прямой надобности. Свое мнение Семен Васильевич явил. Вот и решайте, советники, как тут быть, не то мы надолго на одном месте застрянем…
Большинство членов Совета поддержало Пожарского.
Назначение князя Ивана Буйносова-Ростовского в товарищах с Наумом Плещеевым переменными воеводами в Тобольск возражений и вовсе ни у кого не вызвало. Пусть едут! Большого убытка ополчению от этого не будет, зато весу явно прибавится. Ведь такие дела прежде на Государевом дворе решались, а теперь вот он — загосударев двор.
Затем Кузьма Минин сообщил, что запасы серебра на Денежном дворе на исходе, но со дня на день из Тобольска в Ярославль с доброхотными серебряными слитками сибирская дружина под началом воеводы Василея Тыркова прибудет.
— Чтобы затыка с ними не было, — заключил он свою краткую речь, — не лишне было бы утвердить доверенных людей, которые ту дружину встретят, за выпуском копейной деньги проследят и вдогонку ополчению отправят.
— Кого предлагаешь? — спеша проскочить казенные дела, досадливо спросил князь Иван Троекуров.
— Приказных дьяков Савву Романчукова и Кирилу Федорова.
— Тебе видней, — с ходу согласился Собакин, но Семен Головин снова возмущением захлебнулся:
— Это что же получается? Филимону Дощаникову доверия нет, так что ли? Зачем же мы его головой Денежного двора выбирали? Для видимости? А через Дощаникова всему Совету недоверие будет и всем купцам, которых он тут представляет. Нет, так дело не пойдет. Забирайте-ка лучше Денежный двор с собой, ставьте на колеса. Как-нибудь приспособитесь в кузнях да проезжих амбарах литье и чеканку делать. А тоболесских обозников мы следом наладим.
— Уймись, Семен Васильевич! — тяжело вздохнул ярославский воевода Морозов. — Ну чего ты к каждому слову цепляешься? Я, к примеру, не прочь доверие Романчукову и Федорову дать — в помощь Дощаникову. Выше его и нас с тобой оно все равно не будет. Так я понимаю, Кузьма?
— И крута гора, да миновать нельзя, — уклонился от прямого ответа Минин. — А за поддержку благодарствую, Василий Петрович. От доверия доверие не ищут.
— Другие мнения есть? — осведомился Пожарский. — Принято! Теперь пастырские дела обсудим. Владыка Кирилл сам идти под Москву по летам не в силах. Вместо себя он игумена Сторожевского монастыря Исайю указал. Судя по отзывам разных людей и по тем строкам, что я от него самого получил, это духовник отчизного и решительного склада. Такой рати и нужен. Осталось дела с его митрополитством решить. Коли доверите мне этому поспособствовать, я все силы и возможности приложу.
— Прикладывай, князь! Кому, как не тебе, с ним единство делить?..
Пожарский старался решать накопившиеся дела по сути и как можно быстрей, но их оказалось так много, что заседание явно затянулось.
— Ночь на дворе! — не выдержал Мирон Вельяминов. — А мы еще до заговорщиков не дошли, — лицо его, иссеченное рубцами, вздулось, пятнами пошло. — Когда с ними-то разбираться будем?
— А зачем? — подал голос предводитель татарской сотни Лукьян Мясной, возглавивший казанский отряд после ухода Биркина. — Исказнить их к лешему, чтоб другим неповадно было, и вся недолга! Иначе и впрямь до утра застрянем.
— Всех не исказнишь, — возразил ему Исак Погожий. — Главный-то лиходей на воле погуливает. Доберись-ка ты до него, попробуй.
— Про какого главного ты речешь?
— Про Ивана Заруцкого, про кого же еще? Его умыслом покушение сделалось, его бы и судить в первую голову.
— И до Заруцкого скоро доберемся! — заверил Погожего Иван Хованский. — А пока давайте решим, господа, что с его подручниками делать. Они доставлены, вашего приговора дожидаются.
— Я же говорю: исказнить, не глядя! — уперся Лукьян Мясной. — Время ратное. Недосуг нам из пустого в порожнее переливать. Тут с лиходеями разговор короткий: или ты их, или они тебя.
— Исказнить, да еще не глядя, — дело нехитрое, — вмешался в разговор Пожарский. — Но вина-то у каждого своя. По мере ли будет?
— Какая у лиходея мера? Нож да отрава, да гнилая душа!
— Не скажи, Лукьян Муханович. Безмерно лишь то, во что вникать не хочешь. А вникать надо. Князь Хованский на первый раз покусителей допросил. И что? Лишь Степан Сергач, на его взгляд, душегуб, врожденный. Остальные жертвой своего недомыслия стали либо алчности и прямого обмана. Так я говорю, Иван Андреевич?
— Так! — подтвердил Хованский. — Крови на них нет. Признания сразу, не запираясь, дали. И к покаянию склонны. Особо дворянин Иван Доводчиков. Если коротко сказать, он в трех соснах заблудился.
— Не он один, стремянной Пожарского — тоже, — не удержался от крючкотворства Семен Головин. — Так до сих пор не пойман и бегает.
— Говори да не заговаривайся, Семен Васильевич, — посоветовал ему Андрей Куракин. — Ну что ты нас с настроения сбиваешь?
— Пусть его! — исполнился терпения Пожарский. — За Семку Хвалова вина и впрямь на мне. Не досмотрел. Издоверился. Одно знаю: он человек непропащий.
— Ну и что мы после таких твоих слов должны делать? — озадачился Лукьян Мясной. — Отпустить всех, кроме Сергача, и на этом дело закрыть?
— Вовсе нет. Скорый суд по-моему лишь к Сергачу подходит. Остальных я с собой под Москву бы взял. Пусть они Ивана Заруцкого перед земскими ратниками обличат, а заодно прилюдно покаются. Как знать, может, и заслужат прощение…
— Это другое дело, — согласился Лукьян Мясной. — А Сергача все равно исказнить!
— Правильно! — поддержало его несколько голосов. — Лихое лихим избывается!
— Давайте хоть глянем на супостата, — запротестовали другие. — Негоже решать с чужих слов.
Хованский велел привести Сергача. На этот раз Степан старался не дерзить, вину свою признал, но при этом заявил, что покушение к Ивану Заруцкому никакого отношения не имеет, это-де личная неприязнь казаков к Пожарскому и стечение непредвиденных обстоятельств. Однако такое объяснение прозвучало неубедительно.
Большинством в один голос Совет решил сослать Сергача в Соловецкий монастырь под крепкий замок на хлеб и воду, а остальных передать Пожарскому для обличения Ивана Заруцкого.
Пока принималось это решение, Пожарский невольно к мысли о своем беглом стремянном вернулся.
«Эх, Семка, Семка! — думал он. — Разве серебряные ефимки того стоят, чтобы об них душу ломать? Опомнись! От Бога не спрячешься. Перед ним, перед людьми, а больше перед Романом Балахной ответ все равно держать придется. Ведь он твой товарищ. Грязью играть — руки марать…».
Утром следующего дня, отслужив молебен в Спасо-Преображенском монастыре у гроба ярославских чудотворцев Федора Ростиславовича Черного, его сыновей Давида и Константина и получив благословение митрополита Кирилла, Пожарский вывел головную часть ополчения из Ярославля. Здесь к нему стали присоединяться отряды со станов на Которосли и Пахне.
На глазах войско росло, ширилось, пока наконец не заполнило дорогу на несколько верст. Это было необычное зрелище: будто людская река, то выходя из берегов, то возвращаясь в них, хлынула меж колосящихся полей, цветущих лугов и зеленых дубрав, захватывая и увлекая за собой малые потоки. Гул неостановимого движения волнами расходился вокруг. Это был гул нетерпения: ну наконец-то ожидание кончилось, настало время испытания и порыва! Назад пути нет, только вперед…
На седьмой версте от Ярославля Пожарский вдруг велел Ивану Хованскому и Кузьме Минину:
— Принимайте рать, сподвижники. Был мне голос помолиться у родных могил, удачи в нашем великом деле у Господа испросить. Дней за пять-шесть чаю обернуться. К тому времени вы без спеха к Ростову доберетесь. Там меня и ждите. Сынов при вас оставляю. Постарайтесь так сделать, чтобы мое отсутствие в глаза не бросалось.
Его решение было столь неожиданным, что Кузьма Минин охнул:
— Сдюжишь ли, князь, неделю на верхах? Кабы худа не сделалось.
— Сдюжу, Кузьма, — заверил его Пожарский. — Мне теперь иначе нельзя. Что было, то прошло. Сам видишь: здоров я. Клин клином вышибают.
— Тогда из Суздаля напрямки в Троице-Сергиев монастырь отправляйся. Зачем понапрасну лишний крюк делать? Там нас и встретишь. Все легче тебе будет, да и нам спокойней.
— Кузьма дело говорит, — поддержал Минина Хованский. — Из Суздаля прямо в Радонеж езжай, к Троице. Когда мы туда подойдем, ты знать будешь, что под Москвой делается, как дальше дело повернуть. Пользы от этого больше станется.
— Негоже мне от войска отрываться, — отрубил Пожарский. — Встретимся в Ростове!
С небольшим отрядом, спрямляя путь, он поскакал в Суздаль. Там в родовой усыпальнице Спасо-Евфимиева монастыря покоились прах его отца, Михаила Федоровича Глухого, брата Василия, в иноках Вассиана, и свояка Никиты Хованского.
На Шенуцком стане, в двадцати девяти верстах от Ярославля, он задержался, чтобы написать и отправить с гонцом письмо казанскому митрополиту Ефрему, оставшемуся после мученической кончины патриарха Гермогена старшим среди русских святителей. Писано оно было по обычаю того времени старобытным церковным слогом, наиболее подходящим для такого случая:
«За преумножение грехов всех нас, православных христиан, вседержитель Бог совершил ярость гнева своего в народе нашем, угасил два великие светила в мире: отнял у нас главу Московского государства и вождя людям, государя царя и великого князя всея Руси [61], отнял и пастыря, и учителя словесных овец стада его, Святейшего патриарха Московского и всея Руси [62]; да и по городам многие пастыри и учители, митрополиты, архиепископы и епископы, как пресветлые звезды, погасли, и теперь оставил нас, сиротствующих, и были мы в поношение и посмех, на поругание языков; но еще не до конца нас оставил сирыми, даровал нам единое утешение, тебя, великого господина, как некое великое светило положи на свешнице в Российском государстве сияющее. И теперь, великий господин, немалая у нас скорбь, что под Москвою вся земля в собранье, а пастыря и учителя у нас нет; одна соборная церковь Пречистой Богородицы осталась на Крутицах, и та вдовствует. И мы, по совету всей земли, приговорили: в дому Пречистой богородицы на Крутицах быть митрополитом игумену Сторожевского монастыря Исайи: этот Исайя от многих свидетельствован, что имеет житие по Боге. И мы игумена Исайю послали к тебе, великому господину, не оставить нас в последней скорби и отпустить его под Москву к нам в полки поскорее, да и разницу бы ему дать полную, потому что церковь Крутицкая в крайнем оскудении и разорении».
Писал эти строки Пожарский не рукой дьяка, как обычно, а своей собственной, стараясь не торопиться, несмотря на спешность. А в душе его звучали слова Гермогена: «Мужайтесь и вооружайтесь!».
Ночной разбой
Ярославское сидение кончилось.
Тридцатого июля, на день святого угодника Иоанна Воина, защитника от всех напастей и обидчиков, к Волге с восточной стороны стала подходить сибирская дружина. Здесь ее уже дожидались две плоскодонные купеческие расшивы на двадцать с лишним тысяч пудов груза каждая и крытая палубой кошма из четырех плотов с общей отгородкой — для перевоза коней и прочей домашней живности. Распоряжался ими приказной дьяк Кирила Федоров.
Еще издали завидев над Костромским трактом растянувшееся чуть не на версту облако пыли, он двинулся навстречу ратному обозу. Его жгло радостное нетерпение. Это для других Василей Тырков — всего лишь походный воевода, спешащий на соединение с нижегородским ополчением, а для Кирилы — томский опекун, зигзаги его судьбы в переломные годы юности заметно спрямивший, а теперь еще и посланец отца. Пришел-то Кирила в Сибирь опальным московским недорослем, а покинул ее ни мало ни много воеводским дьяком. Кабы не Тырков, разве б такое сталось? Это он Кирилу уму-разуму терпеливо учил, от сумасбродств и зазнайства по-отечески оберегая. Для этого отец Кирилы, Нечай Федоров, тогда ему свое родительское слово передал. Тем словом Тырков за Кирилу дочь эуштинского князя Тояна Эрмашетова Айбат, покрещенную Анной, сосватал, а затем крестным отцом их дочери Русии стал. Такое не забывается. А ныне Тырков рука об руку с отцом тобольскую службу правит, стало быть, вместе с ним и сибирскую дружину собирал. Уж он-то об отце поболе любого урочного посланника знает.
Предполуденное солнце слепило глаза, мешало рассмотреть возглавлявшего обоз всадника. Да Кирила особо и не разглядывал. Кому, как не Тыркову, впереди сибирской дружины быть?
— С прибытием тебя, Василей Фомич! — отвесил он поклон всаднику. — Здравия и благополучия на многие лета!
— Какой я тебе Василей Фомич? — послышалось в ответ. — Аль глаза отсидел? Гляди, с кем добрыдничаешь. Годунов я — Федор Алексеевич. Ратный воевода. А ты сам кто таков будешь?
— А я встречник от Совета всей земли, дьяк сибирского стола Кирила Федоров! — уперся в него дерзким взглядом Кирила. — Или ты самого Дмитрия Михайловича на моем месте ожидал увидеть? Так он к Москве выступил. Велел передать: челом да здорово. А ты лаешься.
— Постой, постой, — поубавил спеси Годунов. — Твое обличье мне вроде знакомо. Ведь мы никак прежде встречались?
— И не раз, — усмехнулся Кирила. — В подмосковных таборах.
— Ах вон где… Ну тогда конечно. Извиняй на шершавом слове, дьяк.
— И ты извиняй, воевода. Каков привет, таков и ответ… Ты, чай, у Тыркова в товарищах ходишь?
— Это как сказать, — самолюбиво приосанился Годунов. — Сам видишь: я — воевода переднего строя, а он — заднего.
— Эка беда. Строй поворотлив. Переднему не хитро и задним стать, — не удержался от едкого замечания Кирила и тут же поспешил эту едкость сгладить: — Ну вот мы встречно и перемолвились. Пойду теперь Василею Фомичу поклонюсь. А ты покуда людей на дощаники грузи. Хлеб-соль вас на том берегу ждет — в Ярославле.
Стеха Устюжанин и его казаки, ставшие свидетелями этой перепалки, молча позлорадствовали: «Что, воевода, не на того нарвался?» — однако вид сделали, будто их здесь и не было.
Следом Кириле встретился томский казак Тренька Вершинин. Вообще-то, имя у него веское — Еремей. Тренькой его за излишнюю разговорчивость прозвали — дескать, тренькает много. В остальном послужилец он хоть куда — хваткий, рассудительный, двужильный. Кто знает, как его теперь кличут — по имени или по прозвищу? Для Кирилы привычней прозвище.
— И ты здесь, Тренька?! — обрадовался он. — Молодцом глядишься! Время тебя ну совсем не берет!
— Тебя тоже, державец. Разве что заматерел из себя, погуще стал… А я-то думаю: он не он? Куда торопишься?
— На Василея Фомича поскорей глянуть. Где он, не скажешь?
— Концы подтягивает. Где же еще? То тут, то там. Чем ловить его, лучше на месте дождись. Не ошибешься.
— Наших много?
Вершинин сразу сообразил, о каких это наших спросил Кирила. Ну, конечно, о казаках томской службы.
— Ежели твое время взять, так нас тут двое всего: я да Иевлейка Карбышев. Ну а ежели всех, кому годовалить в Томске пришлось, сразу и не скажешь. В каждом десятке такие есть, а в моем так и вовсе.
— Значит, ты в десятники выбился? Похвально! — хлопнул Вершинина по плечу Кирила. — Ладно, Тренька, догоняй своих, а я все же Тыркова поищу, — однако напоследок придержал его за рукав: — Или тебя лучше Еремеем называть?
— Как привычней, так и называй, — усмехнулся Вершинин. — Ежели, конечно, еще встретимся.
— На счет этого можешь не сомневаться. Встретимся, Тренька, непременно встретимся. Мне вас с Иевлейкой о многом расспросить надо. По старой памяти, как по божьей грамоте. Дальше-то мы вместе пойдем: ты — в десятниках, я — в дьяках. Еще наговоримся.
— Это совсем другое дело, — согласился Вершинин, но взгляд его уже был нацелен мимо. — А вот и Тырков! Я же-ть говорил: сам найдется.
Кирила проследил за его взглядом. С другой стороны тракта в череде конных ополченцев увиделось ему знакомое лицо.
Рассекая строй, Кирила бросился наперерез.
Конь Тыркова вскинул голову, осаживаясь перед неожиданно возникшим препятствием. Чтобы не упасть, Кирила обхватил его шею руками, почувствовал, как под гладью жестких темно-бурых волос перекатываются напряженные мускулы, но не отстранился, а напротив еще плотнее припал к коню щекой. От волнения у него нежданные слезы пробрызнули. Они мешали рассмотреть Тыркова.
Зато Тырков сразу признал Кирилу. С необычной для своего грузного тела легкостью он вымахнул из седла. Весело укорил:
— Что ж это ты моего жеребца, как медведь, лапаешь? Лучше меня обними, шатун ты эдакий. Небось не рассыплюсь, — и тут же расцеловал Кирилу, приговаривая: — Наперво за отца. Жив и здоров он, чего и тебе желает… Теперь за себя… Ну а третижды за то, чтоб и дальше нас Бог крепил.
Увидев такое, один из повозчиков придержал коня. Кому не охота узнать, с кем так родственно Тырков встретился?
— Кабыть, это его сынок, — предположил ополченец из числа зюздинских мужиков, примкнувших к обозу на камско-вятском переходе. — Ишь, как ластятся.
Но Федька Глотов, случившийся рядом, его снисходительно поправил:
— Ошибаешься, дядя. У Тыркова один сын, да и тот ноне в Мангазее служит. Этот, поди-ка, человек Пожарского.
Задние дружинники стали спрашивать передних: пошто стоим? Те им: да сын какой-то объявился: то ли Тырковский, то ли от Пожарского… И начались толки — один другого замысловатей.
Тем временем, отгородившись от любопытных взглядов крупом своего могучего жеребца, Тырков внимательно разглядывал Кирилу.
— Сказать по правде, не чаял я тебя тут увидеть, — наконец вымолвил он. — А ты вон он — будто с неба свалился. Каким случаем?
— Да тем же, что и ты, Василей Фомич. Кому-то идти, а кому-то — встречать. Затем я тут и оставлен.
— Как это «оставлен»? Нешто Пожарский из Ярославля уже ушел?
— Второго дня… Да ты не журись, Василей Фомич. Все продумано! Сдашь серебро, отдохнешь малость, а после как сам решишь — вперед ли, назад ли… Не мне тебя учить. Давай-ка сперва твое войско на суда посадим.
— Давай! — передав повод своего жеребца Сергушке Шемелину, Тырков ходко двинулся к причалу. — И давно ты у Пожарского дьячишь?
— Да уж три месяца, — поспешил за ним Кирила. — День в день.
— Вот и мы в пути столько же. И тоже день в день. Не зря такое совпадение, как думаешь?
— Очень даже не зря, Василей Фомич. Знаешь, какой мне нынче сон был? Будто мы с тобой на Денежном дворе серебряные копейки бьем. Ты — чеканщик, а я у тебя — подметчик. Каково?
— Выше всяких похвал! — заверил его Тырков. — Узнаю выдумщика. Знать, с большого гороха тебе такое привиделось, голубь. Нешто у меня своих дел нет, что я в чужие ни с того, ни с сего полезу?
— Ну а коли припрет, тогда как?
Тырков изучающе глянул на Кирилу. Неожиданный всплеск в его голосе говорил о том, что Кирилу что-то гнетет.
— Тогда по обстоятельствам — смотря по делу. Твое, похоже, как бочка без клепок?
— Хуже, — махнул рукой Кирила. — Мое дело — вынь да положь, роди да подай. Без твоей помощи, Василей Фомич, его и не расхлебать. Но это разговор особый. Не хотел я вперед с ним забегать, само вышло. Лучше отложим его покуда. Сейчас не досуг…
В гуще походного строя они дошагали до причала. Здесь начальствовал Федор Годунов. С коня он так и не сошел. Поезживал по мосткам да по сходням, покрикивал грозно, явно красуясь своей властью. Но обозная рать и без его указаний действовала слаженно, без суеты и спешки. Одна за другой въезжали на расшивы очередные подводы и выстраивались рядами от борта до борта. Возчики тут же выпрягали коней и уводили их на кошму. Туда же ставили своих скакунов конные ополченцы. А пешие играючи сдвигали осиротевшие телеги, чтобы даже самого малого зазора меж ними не оставалось, и стоймя поднимали оглобли. Издали посмотреть, будто плавучие гуляй-городки копьями да пищалями вдруг ощетинились. Оставшееся от подвод пространство досталось земским ратникам. Они заполнили его дружно, без толкотни и споров. И оказалось, что места на судах для всех походников более чем достаточно.
Первой отвалила от берега расшива, которую приглядел для себя Федор Годунов, следом за ней кошма с табуном верховых и обозных коней, и лишь затем велел отчаливать своему корабельщику Василей Тырков. Вместе с Кирилой он занял лавку, прилепившуюся к носовой избушке — мурье. Отсюда обзор на три стороны. Гляди на здоровье…
Величава, неоглядна Волга. Много чувств она рождает. Чтобы выразить их, особые слова нужны — песенные, за душу не только напевом берущие, но и красотой голоса, и настроением, и полетной силой. Именно такие слова нашлись у прирожденного запевалы Михалки Смывалова.
Уж ты Волга-свет, Река-матушка, —раздумчиво, словно беседуя сам с собой, начал он, и вдруг его голос зазвенел, расправил крылья и серебряной птицей взмыл над волжскими просторами:
Ой далеко ты, Волженька, протянулася. Широко ты, Волженька, да пораскинулась. Разошлось твое имя на весь белый свет, На весь белый свет без остаточка.Боже, как хорошо под песню плывется, думается, отдыхается! Воздух влагой напитан. Небо чистое, лишь местами перышками белоснежных облаков припорошено. Зеленые берега. Голубые дали. Бесконечность.
А Михалка Смывалов знай себе соловьем заливается: Ой да в Селигерско-им краю посередь дремучих лесов Из-под камешка ты, Волга, народилася. Синь-водою по пути наточилася. Да в гости к Каспий-морю направилася.Микеша Вестимов слов этой песни не знает, а потому подпевает Михалке бессловесно. И звенит в его голосе колокольная медь:
Уж ты, Волга-свет, река-матушка. Уж кормилица ты нам и поилица. Уж заботница ты нам да и заступница. По Московско-ией Русии путеводница. А в надсадливых делах ой да утешительница…Заслушались своих сотоварищей ополченцы. Заслушались Тырков и Кирила. Даже кони на кошме морды в сторону последней расшивы повернули, замерли отрешенно.
Дождавшись, когда песня смолкнет, растворится в череде хлюпающих о борта солнечных волн, Кирила сунул в широкую ладонь Тыркова серебряную монету. Не проронив ни слова, тот принялся ее разглядывать. Мысленно положил рядом с ней копейку, что три месяца назад прислал тобольскому воеводе Ивану Катыреву князь Дмитрий Пожарский. Судя по всему, эта серебрушка тоже на Ярославском Денежном дворе отчеканена. Но почему тогда на ней нет указательного знака с/ЯР? Почему голова всадника с копьем и ноги коня не умещаются на монетном поле? Почему сама копейка меньше весом?
Тырков перевернул серебрушку лицевой стороной и глазам своим не поверил. На ней было выбито: «Царь и великий князь всея Руси Владислав Жигимонтович». Стало быть, кто-то за спиной Пожарского Речи Посполитой предался и уже начал к ее пользе монеты в Ярославле чеканить. Вот уж истинно крысиное отродье!
Сопнув в сердцах рваной ноздрей, Тырков подхватился с лавки и унырнул в тесную носовую избушку. Дождавшись, когда Кирила пристроится рядом, притворил щелястую дверь и потребовал:
— Излагай!
— Значит, так, — послушно заговорил Кирила. — Копейка эта из того серебра бита, что один из московских купцов в откупную чеканку голове Денежного двора, Филимону Дощаникову, дал. Едва Пожарский с войском за ворота выступил, староста первой станицы [63] чеканы по его приказу тотчас поменял. А тут я не к месту случился. Смотрю, что такое? — воровские копейки! Я к старосте: чей заказ? Чье распоряжение? Куда смотришь? А он мне эдак спокойненько в глаза ухмыляется. «Спела бы, говорит, рыбка песенку, кабы у нее голос был». Перед Кузьмой Мининым пластался, юлил, а тут из него наглость полезла. «Я, говорит, за то в ответе, чтобы денежные мастера без дела не сидели, чтобы запись всякой копейке велась, остальное меня не касаемо». Я его в сердцах за грудки, а он стражников кликнул. Велел меня без дозволения Дощаникова в мастерские не пускать. Но я все же вызнал, от кого заказ на изготовление жигимонтовых копеек был. От Оникея Порывкина. Да! О нем и прежде слухи ходили, что он поляков с литвой держится, вот оно и подтвердилось. Дощаников, заметь, тоже из московских купцов. Потому они, родимые, и спелись. Опять же Порывкин каждый талер в переплавку по тридцать четыре копейки Дощаникову запродал, а не по тридцать шесть, как было при Кузьме Минине. Выгода с предательством у них так перемешалась, что концов не найдешь. А когда я к Дощаникову разбираться пришел, он мне так и заявил: «Коли бы ты мне талеры по тридцати четырех копеек принес, я бы и на твои прихоти глаза закрыл. Мое дело, говорит, торговое, я в дворцовые и прочие дрязги не лезу, мне своих хватает. После Бога, говорит, деньги первые. На этот товар всегда запрос». Но тут же от своих слов открестился. Еще и в удивление впал. «Докажи, говорит, что копейка с именем Владислава в Ярославле, а не в Москве выбита?» Тогда я к воеводе Василию Морозову кинулся, но его подручники мне говорят: «Завтра приходи. Сейчас-де у Василия Петровича спешные дела. Занят!» Ночь я кое-как перемаялся, а нынче с утра сразу на Денежный двор. Сердце-то болит. Кабы пакости какой к твоему приходу не сталось. Гляжу: двор заперт. Кроме караульщиков, на нем ни одной живой души нет. Похоже, Дощаников со старостой сговорились мастеров на Денежный двор пока не пускать. Следы заметают. А без мастеров как же выпуск копеек из твоего серебра наладить?
— Как, как? — терпеливо выслушав Кирилу, передразнил его Тырков. — Сам говоришь, чудной сон тебе был: я чеканю, а ты мне заготовки подметываешь. Чем плохо?
— Я серьезно, Василей Фомич. Сперва с Дощаниковым и Порывкиным разобраться надо, а уж потом дальше решать.
— Ошибаешься, Кирила. Ни с кем разбираться как раз не надо. Чем, скажи, польский Владислав от самозванца Гришки Отрепьева или от Тушинского вора, или от псковского Сидорки отличается? Они ведь тоже, как взаправдашние государи, свои монеты именем «царя и великого князя Дмитрия Ивановича» чеканили. Да вот незадача: их самих время смыло, а копейки-то по-прежнему в ходу. Эти тоже большой беды не наделают. Не будем на них время терять. У нас с тобой другие дела, совсем другие… Лучше скажи, с какими полномочиями ты тут оставлен?
— Перво-наперво принять от тебя под охрану складочное серебро, копеечную деньгу из него поделать, ну а после из рук в руки Кузьме Минину в полки доставить. На то нам с дьяком Денежного двора Саввой Романчуковым грамотка от Совета всей земли писана.
— Вот этим и надо, не мешкав, заняться, — сказал Тырков и спросил: — А с ночлегами для моих людей как?
— Ты с частью дружины на Торговой стороне остановишься — у купцов Лыткина и Никитникова, со мною рядом, остальные в Коровниках — на Амбарном дворе Михайлы Гурьева. Там прежде заготовщики ополчения стояли. Место просторное и, заметь, рядом с Денежным двором.
— У купцов, что ты назвал, Федор Годунов остановится, — поправил его Тырков. — А мы с тобой отправимся в Коровники. Это хорошо, что на Денежном дворе, кроме караульщиков, нынче никого нет. Проще будет с ними дело иметь. Ведь в грамоте от Совета всей земли не зря про охрану писано. Не могу же я подводы с серебряными слитками на Амбарном дворе держать? Смекаешь, к чему я клоню?
— Смекаю, Василей Фомич! Кто первее, тот и правее. Пусть Дощаников с Морозовым потом локти себе кусают. Да?
— Да, — подтвердил Тырков. — Но после того как ты мне старосту и целовальника [64] Денежного двора доставишь. Я тебе для этого своих людей дам. Добром не пойдут, силой приведешь. У них должны быть ключи от мастерских и хранилища. Но главное — мастеров на Денежный двор вернуть. Особо чеканщиков. Без них мы, как без рук. В лепешку расшибись, но хотя бы одну станицу нынче же собери. Завтра поздно будет. Посули им вполовину больше, чем они у Дощаникова получали. На имя Пожарского обопрись. К отчизному долгу воззови. Чай, не все из них корыстники. Ну а дальше моя забота. Где одна станица будет, там и вторая по ее примеру устроится, рядом третья… Люди у меня в дружине бывалые, многоопытные. Не подведут.
— Ох, и скор ты в делах, Василей Фомич! — восхитился Кирила. — Ну совсем, как князь Димитрий. И как это у тебя получается?
— Поживешь с мое, и у тебя получится, — заверил его Тырков.
Они умолкли, думая каждый о своем.
— Что-то душно тут стало, — первым нарушил молчание Кирила. — Пойду свежего воздуха хлебну, с мыслями соберусь.
— Ступай! — кивнул Тырков. — Мыслям и впрямь простор нужен.
Выбравшись из носовой избушки, Кирила уставился в набегающие волны. Теплый ветерок остудил его лицо. Солнечные блики слепили и завораживали.
Кто-то из сибирских дружинников, расположившихся на палубе возле подвод, истово шептал:
— О великий и всемилостивый страдальче Иоанне, заступник и угодник Христов, небесного царя воин! Прими моление от раба твоего и от настоящия беды, от лукавого человека, от злого хищения и будущего мучения избави мя верно вопиюща Ти аллилуиа.
«Так сегодня же день Иоанна Воина, — вспомнил Кирила и перекрестился. — В такой день любое правое дело успешно будет».
Так оно и вышло. Отправив Федора Годунова с частью дружины на постой к купцам Лыткину и Никитникову, Тырков двинулся в Коровники с остальной ратью. На Амбарном дворе Михайлы Гурьева их ждала трапеза и временное жилье.
Уже на закате дня Сенютка Оплеухин доставил туда старосту и целовальника. Староста плевался и грозил обидчикам всеми мыслимыми и немыслимыми карами, зато целовальник вел себя смирно, покладисто, то и дело повторяя:
— Чья воля старше, та и правее.
Часом позже Кирила и Савва Романчуков привели станицу денежных мастеров во главе с чеканщиками Протасием Карпычевым и Долматом Гусихиным. Эти пришли по своей охоте, вопреки запрету старосты и Дощаникова. Все дюжие, не старше сорока лет от роду, с порченными раскаленным железом лицами.
— Теперь можно и право на Денежный двор заявить! — огладил бороду Тырков и велел запрягать те подводы, в днищах которых были упрятаны серебряные слитки. — Поревнуем нашему делу, ребятушки!
Денежный двор издалека виден. Стены его высились рядами заостренных кверху бревен. По углам расставлены караульные избы с дозорными вышками на крышах. С передней стороны устроены проездные ворота, с задней — глухая сторожевая башня. Острог да и только.
Обогнув его, Тырков выпустил вперед Савву Романчикова.
— Эй, Кондрат! — крикнул тот стражнику на воротах. — Узнаешь меня? Ну так и покличь караульного старшака. Скажи: серебро в работу прибыло. Аж из самой Сибири.
— Откудова?
— Из Сибири, говорю. Из города Тоболескова. Слыхал про такой?
— Слыхал вроде. Сказывают, гиблое место.
— Страшна Сибирь слухом, а люди там лучше нашего живут. Да ты сам погляди: все как на подбор.
— А хоть бы и так, — отрубил Кондрат. — Припозднились вы больно. Хранилище еще со вчера заперто. Мастера отпущены.
— А это по-твоему кто? — указал на чеканщиков и их станицу Романчуков. — Староста и целовальник тоже здесь. А вот грамотка от Совета всей земли. Глянь-ка! За рукой самого князя Пожарского. С красной печатью. А сопровождает серебро воевода сибирского строя Василей Тырков.
И тотчас в воротах появился караульный голова. Повертев в руках грамотку, он скользнул цепким взглядом по Карпычеву и Гусихину, задержался на постном лице целовальника, затем не спеша принялся разглядывать обозников и Тыркова.
— А серебро-то где? — наконец вымолвил он.
Вместо ответа Тырков приподнял днище ближней подводы.
Но тут заверещал, задергался в руках здоровущего возчика Феденея Немого зловредный староста Ярославского Денежного двора.
Караульный голова вздрогнул и попятился к воротам.
— Ничего не знаю, — сбился с голоса он. — Наведайтесь завтра. Сейчас не велено.
Но Кирила успел заступить ему дорогу:
— Я тебе дам: не велено! Отпирай, говорят тебе, ворота! Разбаловались тут на легких харчах, пуза отъели. Совет всей земли им уже не указ, князь Пожарский — пустое место. Заруби себе на носу, Собака: коли ты по-хорошему не откроешь, мы тебя отсюда со всем твоим нарядом вмиг вышибем, а воевода Морозов еще и от себя пинка добавит.
— Не собачь человека, дьяк, — напустил на себя строгость Тырков.
— Разве ж я собачу? — растерялся Кирила. — Это его так зовут: Онтип Собака.
Не ожидавшие такого поворота обозники заухмылялись, а Сергушка Шемелин и вовсе расхохотался:
— Маманя мне говорила: грешно собаку кликать человеческим имячком. А человека собачьим, выходит, можно. Еще она мне говорила: не бойся собаки, хозяин на привязи. Ха-ха-ха!
— Ну ты, малец, не очень-то резвись, — насупился чеканщик Долмат Гусихин и поворотился к караульному голове: — А ты, Онтип, зря не упрямься. Не видишь, что ли, люди с похода? Дело у них спешное, государское. Князь Пожарский казну ждет, а ты заладил: ничего не знаю…
— Ладно, — махнул рукой Онтип. — Разбойничайте, полуночники! Но моего согласия на то не было. Вы меня силой принудили.
— Так-то лучше, — похвалил его Тырков и первым вошел в послушно распахнувшиеся ворота.
Стемнело. Но двор еще хорошо проглядывался. Середина его была пуста. Под сторожевой башней в дальнем конце виднелась жилая изба — тройня — для стражи и мастеров, заступавших на службу. По бокам у острожных стен поставлены палаты для изготовления монет, приемочные столы и безоконное хранилище. Лишь возле него одиноко горел на палке пеньковый витень, пропитанный смолою.
Целовальник открыл хранилище и жалобно попросил Тыркова:
— Пускай возы на двор по одному въезжают и по одному выезжают. Иначе я принимать серебро не стану.
— Как скажешь, так и будет, — заверил его Тырков. — Тут вы со старостой главные распорядители. А Романчуков с Оплеухиным вам помогут. Принимайте серебро, взвешивайте, в учетные книги, как положено, записывайте. Чтоб комар носа не подточил. А я пока с мастерами по их владениям пройдусь. Чего зря время терять? Вот хоть с твоей палаты начнем, Протасий! Веди, сделай милость.
Ни слова не говоря, Карпычев с горящим витенем в руках направился к ближайшему строению. Тырков и Кирила двинулись за ним. Следом Гусихин и остальные умельцы.
Изнутри помещение, в которое они вошли, напоминало вместительную торговую баню. Одну его половину занимала печь для выплавки серебра и выжигания из него вредных примесей, другую — череда рабочих лавок и наковален. Возле них грудились молоты разных видов и назначений, крюки, кузнечные щипцы, на стенах висели ножницы и инструменты поменьше.
Осмотревшись, Тырков нетерпеливо спросил:
— И когда б вы могли приступить к работе, станичники?
— А хоть сейчас, — степенно ответил Карпычев. — Серебро ты нам уже в гнездах [65] явил, воевода, а это дело упрощает. Выжигать и разливать его не надо. Однако гнезда получились широковаты. Ну да ничего. Если на части их порубить, то в первую скважину, пожалуй, что и пролезут.
— В какую еще скважину?
— А вот поглянь, — повел Тыркова на другую половину мастерской Карпычев. — Видишь, доска? — он сунул в нее палец. — Про эту скважину я и говорю. А в следующей доске такая же проделана, но поменьше. В третьей — еще меньше. И так до десятой. Через них каждое гнездо и пропускаем. Для этого тут ворот есть. Волочильщиком у нас Карпушка Шевяков поставлен. Да вот он сам. Вишь, какой рукастый?
— И впрямь молодец! — похвалил Тырков коренастого горбатого парня, руки которого свешивались до колен. — У меня в дружине тоже Карпушка есть. Сын кузнеца Тивы Куроеда. Это он с братом Игнашкой серебро в Тобольске выжег и гнездами отлил. Хорошо, если бы твой Карпушка и моих близнят своему делу научил. Они у меня головастые, все с лету хватают.
— Отчего нет? Присылай! Было бы желание. И эту, и другие работы мы твоим людям тут же покажем, — пообещал Карпычев и двинулся дальше. — А теперь сюда смотри, воевода. Тут у нас гладкие чеканы вделаны. Бойцы на них ту проволоку плющат, что Карпушкой понаделана. Ну а тут резальщики их на заготовки пластают. Если по полной стопе брать, то из одной триста сорок копеек выходило. Ныне же мы, как и на Московском Денежном дворе, и в Великом Новгороде, на четырехрублевую стопу перешли. И заготовок уже четыреста из стопы выходит. Выгода заказчикам тут прямая, а нам — только лишняя работа. Цена-то за нее больше не становится.
— А мы жалованья вам добавим, — пообещал Тырков.
— Для ополчения мы готовы и за так потрудиться.
— Знаю, Протасий. Но избытков у вас, как я вижу, нет. Лишняя копейка в дому не помешает. А за так моих людей монетному делу будете учить. Вот и сладимся.
Станичники оживленно запереглядывались. Обещание Тыркова им явно по сердцу пришлось.
— Доставай чеканы, Протасий! — раззадорился Долмат Гусихин. — Раз такое дело, сделаем почин.
Карпычев послушно отомкнул склепанную из крушеца коробку в углу мастерской, достал из нее кожаный мешочек и, сорвав печать, извлек на свет два блестящих стержня из железа особой закалки. Четырехугольное основание одного из них он закрепил в тисках на короткой широкой лавке. Торец его был иссечен паутинными линиями. Лишь присмотревшись, можно было понять, что это изображение всадника с копьем. На торце другого стержня была оттиснута надпись с повернутыми в другую сторону крошечными буковками.
Серебряной заготовки у чеканщиков не оказалось, зато нашлась отлитая из свинца и олова. Долмат Гусихин уложил ее на стержень-исподник. Карпычев приставил к ней стержень-вершник и коротко пристукнул по нему небольшим кузнечным молотом.
Получилась довольно четкая копейка. От серебряной ее не сразу и отличишь.
Кирила принялся ее рассматривать, а Тырков спросил у мастеров, много ли чеканов с именем царя Федора Ивановича у них в запасе. Те наперебой стали объяснять, что есть, но большинство из них поистерлись. Приходится зачищать их по краям и оттискивать с маточника более четкие изображения. Но и сам маточник уже крепко поизносился. Ведь его еще весной с Московского Денежного двора в Ярославль тайным делом люди Пожарского переправили. Хоть здесь и много своих серебреников, но матошного дела резчика днем с огнем не сыщешь. Очень уж это тонкое и капризное дело — маточник. Меньше чем за месяц его не изготовить. Вот староста и дрожит над ним, как Кощей Бессмертный над иглой, в которую его жизнь упрятана. Коли заполучить его, чеканов хватит.
— А маточник с именем Владислава Жигимонтовича откуда взялся?
— Его Оникей Порывакин своим умышлением добыл. Видать, тоже с Московского двора. Кабы ярославский резчик его делал, мы б знали.
— Теперь ясно, как с чеканами из положения выйти, — подвел черту Тырков. — Тряхнуть старосту, да покрепче!
— Тряхни! Только он верткий, зараза. Как бы не выскользнул.
— Кириле Федорову ныне приснилось, будто мы с ним на Денежном дворе копейки чеканим, — вдруг вспомнил Тырков. — Почему бы сон этот явью не сделать? — лицо его вмиг стало озорным. — А ну-ка, умельцы, дайте и нам попробовать!
Ни слова не говоря, Гусихин вручил Кириле невесть откуда взявшуюся серебряную заготовку. Тырков накрыл ее стержнем-вершником и ударил по нему молотом. Но то ли Кирила неудачно заготовку на торец нижнего стержня положил, то ли Тырков слишком сильно ударил, серебрушка расплющилась, просеклась насквозь.
— Это знак, что пора расходиться, — сокрушенно вздохнул Тырков. — Убирай чеканы, Протасий. Кирила Федоров ночевать с вами останется, а я подводы на Амбарный двор отправлю и караулами займусь. Пока все копейки не поделаем, отсюда ни шагу…
На следующий день пополудни на Денежный двор заявился его голова, Филимон Дощаников. Он был невысок, дороден, борода стрижена коротко, щеки подбелены, брови подчернены, опашень подбит мехом и расцвечен золотым шитьем. Как себя вести с Тырковым, Дощаников явно не знал, а потому сопел, пучил глаза, хмурил брови, всем своим видом показывая, что до глубины души возмущен его самовольством. Лишь когда они уединились в дьяческой избе, писклявым голосом укорил:
— И как это тебе впало в голову, воевода, ночной разбой тут учинить? Нешто не мог по добру-по здорову со мной договориться? Или у вас так на Сибири принято — через головы шагать?
— А тебе как впало жигимонтовы копейки тут чеканить? — вопросом на вопрос ответил Тырков. — Ведь ты всего-навсего московский гость. Тебя Совет всей земли на Денежный двор лишь до той поры поставил, пока ополчение Пожарского в Ярославле стоять будет. А оно ушло. Значит, и ты больше никто, Филимон. Это раз. Воевода Морозов и другие бояре вовсе не Владислава польского, а Карлуса шведского, как я знаю, держатся. Покажи я им ту копейку, что ты в откуп у Порывкина чеканить взялся, большой шум будет, ох большой. Это два. Мало того, ты сибирского дьяка Кирилу Федорова сильно обидел, а перед моим прибытием мастеровых и началие со двора для того распустил, чтобы я не солоно хлебавши дальше со своим серебром отправился. Так, да?
— Побойся Бога, Василей Фомич! И в мыслях такого не было! Да я к тебе со всей душой. Это Федоров на меня напраслины наговорил.
— Ну да, ну да… Я тебе: «Дай молочка». А ты мне: «Подожди, еще бычка не подоил». Нет уж, Филимон, так у нас дело не пойдет. Вели своим старосте и целовальнику во всем меня слушаться, а маточник с именем Владислава на моих глазах уничтожь. Вот тогда я тебе поверю и лишнего в Ярославле постараюсь не засиживаться.
Посопел Дощаников, поерзал, рожи страшные покорчил да и согласился. А что ему делать? Перемирие без братства все же лучше, чем затяжная брань.
Вскоре во всех палатах Денежного двора кипела работа. Долго ли тележников, кузнецов, солеваров и прочих мастеровых людей монетному делу обучить? У каждого свой опыт, своя сила, свой навык. Перемена занятий — тоже отдых. Устали походники о дорогу ноги бить, в седлах или на возах трястись, один другому в затылок глядеть. А тут новое живое дело, душевный порыв, приподнятое настроение. Где бы еще тем же ермачатам или казакам Треньки Вершинина бойцами, резальщиками, чеканщиками Денежного двора довелось потрудиться? Такое не каждому в жизни выпадает. Будет о чем на старости лет детям и внукам рассказать.
За вечерней трапезой Кирила подсел к Треньке Вершинину:
— Ну, как там моя Анна в Томске поживает? Как дочка? На кого похожа?
— Про Анну много сказать не могу. Что от татар, что от русских она отдельно живет, но в Троицкой церкви часто бывает. Тебе верна. Купец тут один к ней сватался, так она ему отказала. Еще слух был про князьца из телеутов. Его она тоже прогнала. Гордая. Волосы в одну косу с лентой заплетает. Сразу видно: тебя ждет. Ты уж не обижайся на честном слове, но жаль на нее смотреть, державец. В самой силе баба, в самой красе… А дочка что же? Вся в тебя. Сперва-то темненькая была, глазенки навкось, не так чтобы сильно, но все же. А теперь выправилась. Волос русый, лицо правильное, а засмеется — ну ровно солнышко! Лет ей, однако, около семи, а на коне сидит, как влитая. Вот что значит порода! Верховая езда у ней в крови. Перед отбытием из Томского города я ее у Юрточной горы видел. Куда скакала, не знаю. Сама маленькая. Волосы летят. На шее нитка с сосновыми шишками. Ну прямо дух захватывает…
И так это Тренька зримо описал, что Кириле в ту ночь не Денежный двор приснился, а дочь Русия, скачущая к нему из далекого Томска, и верная, несмотря ни на что, жена Анна.
Не дальше дороги
Август-густарь начинается Медовым Спасом. Это день первого сева и первого меда, а по церковному календарю — праздник Честных Древ Креста Господня. После крестного хода, которым он знаменуется, принято погружаться всем миром в освященные воды реки или озера, чтобы очиститься от грехов, а затем и коней в эти воды погружать, дабы оберечь их от болезней и напастей. Однако, отправляясь в Суздаль к родным могилам, Дмитрий Пожарский не календарем руководствовался. Его вели долг, время и обстоятельства. И лишь в стенах Спасо-Евфимиева монастыря, склонившись над могильной плитой, под которой покоился прах его отца, он вспомнил, какой нынче день. Ну, конечно, Медовый Спас. Вон как густо разлит вокруг запах спелого меда! Он проникал даже в самые дальние уголки обители.
На плите было высечено: «Лета 7095 августа в 23 день [66] на память святого мученика Лупа преставился раб Божий князь Михаил Федорович Пожарский».
Снова и снова перечитывал князь Дмитрий эти скупые надгробные строки, но думалось ему не о бренности жизни, а напротив, о ее неизбывной силе и ликующей красоте. Ну разве можно забыть то утро Происхожденьева дня, когда отец взял его, шестилетнего Митюшу, с собою на пасеку, чтобы показать, как пчельник, посельский мужик-простота по прозвищу Журчало [67], будет выламывать из лучшего улья соты и, уложив их на широкие деревянные блюда, угощать хозяев новой новиной? Одно блюдо Журчало отдал стряпухам, и они испекли из него громадный хлеб-пряник, другое — вместе с этим хлебом — дворовые люди понесли в церковь. Дмитрий с отцом присоединились к ним.
На паперть вышел поп Никодим. Восславив вешние и летние труды божией работницы пчелы, он освятил принесенные соты и медовый каравай. Потом все, кто присутствовал при этом, получили в заранее приготовленные посудинки свою долю.
Получил ее и Митюша. С медом на устах он вошел в залитую светом Спасскую церковь и замер перед ликом Спаса Нерукотворного. Взгляд Исуса Христа был величав, строг и взыскующ. Прежде Митюша робел перед ним, но в тот миг ему вдруг почудилось, что Спас как-то ласково, по-отечески улыбается. Да, да, улыбается. Это открытие до глубины души взволновало Митюшу. Ведь он наяву увидел Медового Спаса, заступника и страдальца за души человеческие, кроткого, но и грозного, сурового, но и лучезарного. Потрясенный своим открытием, Митюша зашептал отцу:
— Батюшка, я ЕГО вижу… ОН как живой.
В ответ отец сжал его руку, давая понять, что и он видит.
Вернувшись из церкви, они уединились в Митюшиной светелке. Там отец и поведал сыну древнее церковное предание. В нем повествовалось о том, как появился чудесный образ Христа Спасителя, сотворенный не руками иконника, а ИМ самим. Случилось это еще при земной жизни Исуса. Слава о его умении исцелять все живое докатилась до некоего города Эдесса, где правил Авгарь, властодержец, пораженный страшной болезнью — проказой. Чтобы излечиться от нее, Авгарь отправил в палестинские земли придворного живописца и велел ему запечатлеть образ целителя, да не как-нибудь, а во всей его подлинности, иначе он не будет обладать целительной силой. Все свое умение приложил живописец, но живого образа у него не получилось. И тогда он подменил свое малевание холстом, которым Исус отер лицо. Глянул на этот холст Авгарь, и произошло чудо: он увидел перед собой Спасителя. И тут же исцелился. Восхищенный случившимся, правитель принял святое крещение, а чудотворный холст распорядился натянуть на кипарисовую дощечку и поместить в нишу над городскими воротами. Так вот и появился образ Спаса Нерукотворного. Не раз он спасал Эдессу от неприятеля, а горожан от мора и труса [68].
— А дальше? — воскликнул захваченный рассказом Митюша. — Дальше-то что с ним сталось, батюшка?
— Дальше его перенесли в царь-град Константинополь. Но там он сохранялся лишь до тех пор, пока римские псы-рыцари не разорили Византию. Вместе с золотом они погрузили на один из своих кораблей и образ Спасителя. Но в море разыгралась буря. Перегруженный корабль захлестнуло волнами, и он безвозвратно исчез в пучинах. Однако православная вера не потопляема, сынок. Она жила, живет и жить будет. Ведь все великие свершения на Руси неотделимы от Спаса Вседержителя. Он ее знамя и защитный меч…
И вот теперь, много лет спустя, в тишине родительской усыпальницы Пожарский вспомнил тот рассказ и то удивительное превращение Спаса Нерукотворного в Медового Спаса. Другие пчельники, а с ними другие отцы и дети незадолго до прибытия в Суздаль князя освящали в монастыре новую новину, а богомольцы, как когда-то в его детские годы, молитвенно пели:
Дай, Господи, страднику многие лета, Многие лета — долгие годы! А и долго ему жить — Спаса не гневить. Спаса не гневить, Божьих пчел водить. Божьих пчел водить, ярый воск топить — Богу на свечку, ему на прибыль, Дому на приращение. Дай, Господи, страднику отца-мать кормить, Отца-мать кормить, малых детушек растить, Уму-разуму учить! Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой Сладко есть, сладко пить. А и того слаще на белом свете жить! Дай, Господи, им многия лета!Оттого, видно, и стал воздух в усыпальнице поистине медовым.
От отца, сколько себя помнит Дмитрий, тоже пахло медом. Очень уж он любил бывать на пасеке. А все потому, что другого применения себе чаще всего не находил. По силе духа, уму и верности государю он был намного выше большинства уездных дворян, но — увы! — за их круг так и не выбился. А все потому, что в годы опричнины Иоанн Грозный сослал в Казанский край пять семей из княжеского рода Пожарских-Стародубских, в том числе Федора Немого, пользовавшегося немалым влиянием при царском дворе, а когда снял опалу и вернул им вотчины, от неприязни и опасений на их счет так и не отрешился. Из-за этого и прозяб на уездных должностях отец Дмитрия, Михаил Федорович, превратился в худородного поместника, которому выше городничего или губного старосты не подняться. Однако духом он всегда был тверд, светел, совестлив, на все имел свое мнение и не боялся высказывать его вслух. «Главное, — учил он детей, — чтобы подушка под головой от смущений совести не вертелась, чтобы за родимую землю и ее честь — хоть голову снесть!». Вот она — правда жизни! Ей Пожарский и стремился следовать.
Уже клонясь к старости, отец велел отписать Спасо-Евфимиевой обители часть своих земель в Стародубском уезде. Этот монастырь он выделял среди прочих, хотел, чтобы именно в нем была испомещена родовая усыпальница Пожарских. Его восхищало златоглавие Суздаля, но и Стародуб, прозванный Кляземским Городком, он самозабвенно любил, и старинную усадьбу в Волосынино-Мугреево, и Спасскую церковь в нем. Сокрушался только, что очень уж далеко они от Спасо-Евфимиева монастыря находятся: по его смерти далече туда родным на поминание ездить придется. Матушка Ефросиния Федоровна, трудолюбивая, как пчела, возражала ему:
— Не дальше дороги, Михаил Федорович. На тот свет ты, однако, не спеши: мы еще на этом свое не пожили.
Права, ох права матушка. Нынче Пожарский чуть не сто тридцать верст прямым ходом от Ярославля до Суздаля отмахал, не раз чувствовал тошноту в груди, мельтешенье в глазах, призрак подступающей черной немочи, но стоило ему в пронизанную медовыми запахами обитель ступить, лик Спаса Вседержителя увидеть, перед прахом отца, брата и свояка, погибшего в боях с тушинцами, колени приклонить, — все в нем ожило, помолодело, сокровенным смыслом наполнилось. Ведь любой путь к родным могилам и впрямь не дальше дороги лежит.
Но не только медовые запахи растревожили память Пожарского. Гулкое прохладное пространство усыпальницы напомнило ему батюшкин колодец. Колодец этот и поныне украшает усадьбу Пожарских в Волосынино-Мугреево. Отец распорядился поставить над ним резной терем с колокольцами. Как только начнет разматываться цепь с ведром, опуская его в родниковые воды, так и наполнится двор веселыми перезвонами. Не колодец, а сказка. Однако самое удивительное заключалось в том, что в этом колодце жили ласточки. Не в тереме, где самое для них подходящее место, а вот именно в глубине деревянного сруба, на дне которого дышал и полнился целебной водой гремячий ключ. Откуда взялись там ласточки, Митюша не знал, а время, когда ему захочется это узнать, еще не наступило. Раз живут, значит, так и надо.
Не было дня, чтобы не прибегал он к батюшкиному колодцу. Нравилось ему наблюдать, как молниями выпархивают из него острокрылые птицы. Фью-ю-ю-ить! Фью-ю-ть! Будто кто-то снизу камнями пуляет — успевай только увертываться…
Незаметно подкатил тот памятный Медовый Спас. Получив свою долю освященных попом Никодимом лакомств, Митюша, как обычно, завернул к колодцу. Долго ждал хлопотливого фью-ю-ю-ить возле уха, но так и не дождался. Проходившая мимо ключница озаботилась:
— Шел бы ты в тень, касатик, а то солнце голову напечет. Или ты потерял что?
— Ласточек потерял, — объяснил он. — Вчера были, а сегодня — нет. Ума не приложу, куда они за ночь подевались?
И так он это по-взрослому сказал, что ключница улыбнулась:
— На дно колодца зимовать легли, вот куда.
— Зачем ты меня обманываешь, Пелагея? Я же немаленький. Изволь дело говорить.
— Я и говорю… Поверье такое есть, будто на Медовый Спас ласточки в колодцы зимовать ложатся. А ежели ты немаленький, сам и сообрази, так ли это?
Повернулась и ушла.
Слова ключницы озадачили Митюшу. Не зная, как к ним отнестись, он отправился к отцу:
— А правда ли, батюшка, что ласточки в колодце зимуют?
— Что за выдумки? — удивился тот. — Вовсе нет. Они от зимы в теплые страны улетают. Но потом назад возвращаются, — и пошутил: — Им в гостях хорошо, а дома — лучше.
Тут Митюша его на слове и поймал:
— Разве в теплых странах у ласточек дома нет?
— Истинно так, — положил тяжелую ладонь ему на плечо отец. — Зачем он им там, где каждый кустик ночевать пустит? Настоящая жизнь у ласточек здесь проходит. Здесь они гнезда вьют, птенцов выводят, на крыло их ставят. На родной сторонушке и колодец — дворец! О людях и говорить нечего. Где они живут, там и зимуют, чем дорожат, за то и держатся. Зачем им чужое заморье? Им и своей земли хватает. Взять хотя бы наше Волосынино. Его не то что из Москвы или из Суздаля, его из Стародуба не видно. А смотри какое оно богатое и просторное — душа радуется. Это и есть наш дом — от края до края, что на Замосковской половине, что на Зарецкой. Его наши дедичи и отчичи по бревнышку собирали, по пашенке, по стану да по городу, добро для нас наживали, от ворогов обороняли. Так Русь и построилась. Многие на нее ножи точат, сети плетут — и снаружи, и внутри. Но у нас одно правило: умри, а с родимой земли не сходи. Сойдешь — умрешь, не телом, так душою. А душой, поверь, умереть еще хуже, Митя. Особо дворянину. Где ему ни жить — одному государю служить, одному отечеству. Подрастешь и сам это поймешь. Ведь ты — дворянской породы…
Митюша слушал отца с горящими глазами. Каждое слово врезалось в память, волновало до слез. В ту пору он еще не замечал, что любой разговор отец поворачивает к дворянской службе, к совести и долгу, но при этом опирается на старое время, на доблестные деяния тех, кто служил много лет назад, обходя текущие события. Лишь повзрослев, Пожарский понял, почему он это делал. На прямодушии своем и неумении подлаживаться под обстоятельства отец растерял влиятельных друзей и покровителей, а попасть в новую опалу ему не хотелось. Однако он не уставал повторять:
— Служба отечеству превыше всего. Знай, Митя, и готовься!
Наставления свои отец обычно подкреплял притчами из Святого Писания. Однажды зачел такую:
«Бысть егда бяше Исусу у Ерихона и возрев очими своими, виде человека стояща перед ним и меч его обнажен в руце его, и приступив к нему и рече: наш ли еси или от сопостат наших? Он же рече ему: аз архистратиг силы Господни, ныне приидох семо. И паде Исус, поклонися лицом своим на землю и рече ему: владыко! что ми повелеваши твоему рабу? И рече архистратиг Господень ко Исусу: изуй сапог твой с ногу твоею, место бо на нем же стоишь ты, свято есть. И сотвори Исус тако».
Дав сыну как следует прочувствовать услышанное, отец пояснил:
— Вот кого вижу я на знамени войска отеческого: вождя воинства небесного с мечом в руке. А цвет над ним должен быть непременно багряно-красным.
— Почему красным, батюшка? Ведь благоверный Александр Невский бился под черным.
— В то время Москва в подчинении у Орды была. Тогда и печати княжеские чернились. Но это цвет смерти, печали и темной силы, сынок. Им степняки да немцы привыкли народы пугать. А мы солнечный свет любим, жизнь, красоту. У Византии вот тоже красный цвет излюбленным был. От нее он и нашему православию передался. Погляди, в какие одежды святой Дмитрий Солунский, небесный покровитель Дмитрия Донского, облачен. В алые. У Георгия Победоносца на плечах тоже алый плащ полощется. И копье, коим он дьявольского змия поражает, алым стяжцем украшено. А разве воины Александра Невского не за красными щитами бились? Разве яловцы [69] на их шлемах не пламенем огненным горели? Кто знает, может, и знамена у них были чермными [70], а не черными? Ведь мы о них токмо по летописям читали, а своими глазами не видели…
Уроки отца не прошли даром. Немало Пожарский почерпнул от него. Что-то принял, а что-то — нет. Заметный след в его возмужании оставило чтение книг, доставшихся от деда, Федора Немого, упражнения в ратном деле, заведенные в княжеских семьях, общение с матерью, священниками, поместными крестьянами, дворовыми и служилыми людьми, а потом и с кремлевскими сидельцами, на которых он, юный стряпчий с платьем, поначалу снизу вверх глядел, и лишь став царским стольником, обрел себя истинного. Но отец так и остался его первым учителем. Вот почему, возглавив нижегородское ополчение, Пожарский велел вынести на его густо красный стяг строки Писания о человеке с мечом в руке и его образ. Вот почему, не считаясь со временем и самочувствием, он поспешил в Спасо-Евфимиев монастырь. Знал, верил, что обретет здесь новые силы, душой укрепится. И ведь обрел. И укрепился. Права матушка: путь сюда не дальше дороги.
На прощанье Пожарский к могильной плите, будто к родительской груди, припал, поцеловал ее трижды, перекрестился и тотчас поскакал в сторону Ростова.
И случилось чудо. Мир вокруг преобразился. Жарынь сменилась ровным сухим теплом. Медовое солнце погнало прозрачные облака против ветра. К дороге, чередуясь, подступали то поля с колосьями пшеницы, туго набитыми золотым зерном, то покосы, испятнанные копнами сена, то заросшие бурьяном пустоши с заводями голубого цикория и желтой пижмы.
Поспешая из Ярославля в Спасо-Евфимиев монастырь, Пожарский воспринимал окружающее как что-то перепутанное, стертое, постороннее. А тут вспомнил, что у крестьян август — самое хлопотливое время: коси, паши, сей, жни, горох защипывай, лен на лугах расстилай, запасы на год вперед делай. Не зря говорится: у зимы рот велик. А еще говорится: яровой се́ю — по сторонам гляжу; ржаной се́ю, шапка с головы свалится — не подниму.
Не успел Пожарский про сев подумать, как впереди показалась пашня. С берестяными лукошками на груди шагали по ней босые мужики, мерными взмахами перед собой семена разбрасывая. На отрядец князя они и внимания не обратили. Сразу видно: рожь сеют.
А у Пожарского впереди свой сев, своя пашня, свое красное солнце. Как бы хотел он сейчас с этими мужиками местами поменяться, да не всем выпало кормильцами и поильцами народа русского быть. Без ратаев, которые бы с мечом в руке его землю, веру и мирную жизнь защищали, тоже не обойтись. У каждого в этой жизни своя доля, свое место, свой долг. Ну а коли так, Бог в помощь вам, люди добрые, трудитесь и будьте надежны: нижегородское ополчение все сделает, чтобы от иноземных полчищ и своих изменников Московское государство очистить, Смуту избыть…
В Ростов Великий Пожарский прибыл заметно осунувшийся, серый от дорожной пыли, до крайности утомленный, но, прочитав в глазах Минина и Хованского тревогу напополам с радостью, буднично осведомился:
— Не опоздал?
— Да нет вроде, — сбитый с толку, откликнулся Иван Хованский. — Шесть дней с твоего отъезда еще не прошло, — и вдруг засмеялся: — Ну и горазд ты ребячиться, Дмитрий Михайлович! Лучше о себе скажи.
— А что говорить? Цел, как видишь, на своих ногах покуда и с головой дружу. Вы-то с Кузьмой чем порадуете?
— Да и у нас вроде худых известий для тебя нет, — подобрался, как для доклада, Хованский. — Бродячая литва с воровскими казаками Белоозеро было захватила, но Григорий Образцов их сходу оттуда выбил и воеводой твоим в крепости сел. Вовремя ты его туда послал. Как в воду глядел.
— Дальше?!
— В Ярославль из Сибири дружина Василея Тыркова подошла, на Денежный двор встала, копеечную деньгу в четыре станицы бьет. Похоже, этот Тырков дельный человек. Да и Романчуков с Федоровым расторопность свою показали. С ними Кузьма Миныч связь держит. Скажи, Кузьма!
— Так и есть, — подтвердил Минин и добавил: — Опять же Роман Балахна одыбался. Следом за нами рвется.
— Хорошие вести хорошо и слушать, — потеплел лицом Пожарский. — А как дела под Москвой?
— Ивашка Заруцкий к своей панье Маринке и ее лжецаренку в Коломну сбежал! — с подъемом сообщил Хованский. — С собой он больше двух тысяч войска увел, обоз, пушечные наряды. Причем, заметь, в тот самый день, как мы из Ярославля к Москве выступили. На Пармена и Прохора [71].
— Ну и чему тут особо радоваться? — остудил его Пожарский. — Среди этих двух тысяч не все же за Ивана Заруцкого держатся. Или забыл присловие, что на Прохора да на Пармена не затевай никакой мены?
— А тут не мена, Дмитрий Михайлович, тут размежевание. После того как ротмистр Хмелевский Заруцкого в сговоре с гетманом Ходкевичем перед князем Трубецким обличил, мудрено спутать, на чьей стороне Ивашка. Значит, казаки и атаманы, что с ним ушли, такие же воры, как и он сам. Я так понимаю. Ведь могли же они к отряду Михайлы Дмитриева и Федора Левашова пристать, так не пристали!
— Да я с тобой не спорю, Иван Андреевич. Я слепоте казаков печалюсь, тому, что слишком многие голову в междоусобицах потеряли, сами себя в пропасть толкают. Ну, а как отнесся к бегству Заруцкого князь Трубецкой?
— Атамана Кручину Внукова с товарищами к нам подослал. Вызнать хочет, как ты к нему и его ополчению настроен, не получится ли на бегстве Заруцкого с тобой подружиться. Я бы его посланникам не очень-то верил. У них одна забота — надуть нам в уши да поймать на проговорках.
— А ты что об этом думаешь, Кузьма?
— Касаемо Трубецкого спорить не буду: Кручину Внукова он точно с умыслом к нам прислал. С другой стороны, и самому Кручине узнать охота, чем наше ополчение от их таборов отличается. Иван-то Бегичев с Иваном Кондыревым, воротясь от нас, под гнев Заруцкого попали. Пришлось им в стане Трубецкого укрытие искать. Вот и рассказали они казакам про нашу жизнь и порядки, сукна, пожалованные тобой, показали. Те и захотели доподлинно все узнать. Так что Кручина не только по воле Трубецкого здесь, но и по воле казацкого круга. А ты, Иван Андреевич, на него в полглаза глядишь, в полгубы беседуешь. Эдак и отворотить казаков от нас недолго.
— Небось не отворочу.
— Да уж давай вместе постараемся, — попросил Хованского Пожарский. — Кузьма Миныч прав: за вершками и корешки проглядеть можно… Об остальном после договорим, други. Во все с дороги сразу не вникнешь. И сынов мне повидать не терпится. Как они без меня?
— Молодец к молодцу. Сам увидишь…
У Ростова нижегородское ополчение задержалось до Второго Спаса [72]. Пожарский не ожидал, что сюда съедется так много уездных дворян, готовых принять участие в походе. С каждым из них следовало поговорить, определить ему место в лагере, растянувшемся вдоль берега синеглазого озера Неро, а при необходимости дать в помощь опытных десятников, знающих ратное дело. Пространство, занятое ополченцами, даже с самой высокой ростовской колокольни взглядом не окинешь. Зато можно обойти и объехать. Так Пожарский и сделал. Его появление то там, то здесь соединяло разрозненные, поделенные на станы части войска в единое целое…
Второй Спас принято называть Спас-Преображением, или Яблочным Спасом. К этому времени на теплой половине Московского государства поспевают сладкие румяные яблоки и прихожане дружно несут их в церкви на освящение или зовут святых отцов помолиться в их саду. А на северную сторону предприимчивые торговцы спешат доставить завозные яблоки. Здесь доброхоты, желающие отличиться перед Спасом, раздают их щедрой рукой. Так что и здесь в ходу веселая поговорка: на Второй Спас и нищий яблочком разговеется…
Еще в Ярославле Пожарский зарок дал вместе с Кузьмой Мининым в Борисо-Глебском монастыре у святого старца Иринарха побывать, благословение и напутствие у него получить. Вот это время и настало.
Раздобыв корзину тугих краснобоких яблок, сподвижники отправились в святую обитель.
Иринарх, увешанный железными веригами, их появлению не удивился. Положив жесткие, как подошва, ладони на их склоненные головы, он обратился к Пожарскому:
— В земле деды-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат. Радуйся, князь: ты услышан ими. Теперь иди и одолевай!
Потом молвил Кузьме Минину:
— Мирская шея туга: ее мудрено прошибить. А ты прошиб, староста. Теперь литву вместе с князем прошибай. Решающий час близок. Что миру положено, тому так и быть.
Затем Иринарх рассыпал яблоки по полу дорожкой и, присвистывая дырявым ртом, пропел:
— Ты — за себя. Мы — за тебя. А Христов Спас — за всех нас!
Напоследок торжественно заключил:
— А это вам от Него яблочная дорожка. Идите по ней от светлого рая на трудную землю, пока нового русского государя в очи не узрите. Пусть эти крыжи вас хранят, поборники, — и надел им на грудь медные кресты, изготовленные из тех самых пластин, которые по весне оставил Иринарху Кирила Федоров.
Вот Бог, а вот порог
Уже в Переяславле-Залесском Пожарского догнала спешная грамота от двинского воеводы Ивана Долгорукого. В ней говорилось, что в Архангельск из Амбаха [73] прибыли два торговых корабля: один — с сахаром, сладкими винами, изюмом, миндалем, лимонами свежими и лимонами в патоке, сарачинским пшеном, пряностями, цветом мускатным, камфорой, ладаном, мылом греческим, маслом деревянным, бобковым, спиконардовым; другой — с отменными шелками, сукнами, зеркалами, золотом и серебром пряденым, камешками льячными в кистках, жемчугом, яхонтами в редкостной оправе и прочими заморскими диковинами. На этих же кораблях припожаловало большое посольство во главе с капитаном Яковом Шавом, немчином из шкоцких земель. По словам Шава, он везет в нынешнее настоящее время того многочисленного войска у ратных и у земских дел стольнику и воеводе князю Дмитрию Пожарскому с товарищи важное послание от вольных господ Ондреяна Фрейгера, Артора Ястона и Якова Гиля, подданных австрийской короны. А предлагают те господа военную помощь против польских и литовских людей, терзающих Московское государство, доброе радение прямым сердцем и верную службу. По такому случаю двинский воевода превеликий почет и гостеприимство посольству оказал, Якова Шава и девяносто его людей коньми обеспечил и без задержек отправил в Ярославль, о чем и спешит уведомить князя.
Прочитал эту грамоту Пожарский и горестно вздохнул:
— Эх, Иван, Иван. Видать, голова у тебя не для ума, а для шапки: два гумна в ней да баня без верху. Прост, как дрозд. В воеводы попал, а из дураков не вышел. Разве не таким же путем шведы в Новгородскую землю поналезли и тянут из нее, что под руку подвернется? Мог бы сообразить, что австриякам того же надо. А он раскукарекался: почет… гостеприимство… Еще и на коней чуть не сотню рейтар [74] посадил, хотя коньми двинский край и без того бедствует. Пас бы телят, коли посольство от искателей легкой поживы отличить не может. Тьфу да и только!
Собравшиеся в воеводской избе соначальники переглянулись: обычно Пожарский умеет свои чувства сдерживать, а тут — на тебе! — в ругательства впал.
— Молодой еще, доверчивый, — вступился за двинского воеводу Кузьма Минин. — Услыхал, что иноземцы к нашей пользе послужить хотят, и уши развесил.
— Пора бы и повзрослеть, чай, немаленький. Сразу видно: не в родителя пошел. Того за хитрость и быстроумие Чертом-Долгоруким пишут, а этого как считать? Разве что Губошлепом. Если дальше так дело пойдет, мимо него кто хошь из заморья нам в спину двинет, — не согласился с Мининым Пожарский. — А дьяк у Долгорукого каков? Пус-тель-га! Мы от него дело ждем, а он товары на кораблях взялся расписывать. Не зря говорится: два дурака съедутся, инно лошади одуреют. Сам посуди: про всех этих Шавов и Фрейгеров мы прежде слыхом не слыхивали. Одно слово: вольные господа. Ратными услугами промышляют, цены за них до небес заламывают. Но сдается мне, не сами они в помощь к нам набиваться смыслили. Кто-то их надоумил, причем из тех охотников, что на русских землях уже промышляли. Вот бы и вызнать двинским недотепам: кто именно? Не исключаю и такое, что у Шава на уме двойной ход: коли с нами дело не получится, он к панье Маринке в Коломну отбежит, там рыбку в мутной воде половит — возле ее сынчишки-лжецаренка. Тем паче и Заруцкий теперь там.
— Тебе, конечное дело, видней, Дмитрий Михайлович, — подал голос Иван Хованский. — Но что сталось, то сталось. Ругай теперь Ваньку Губошлепа, как ты его называешь, не ругай, дело этим не изменишь. Коли воевода Морозов гонца архангельского за нами вдогон спешно отправил, то и Шава через Ярославль он пулей пропустит. Судя по времени, австрияки уже где-то рядом. Вот и давай мыслью раскинем, как нам-то с ними быть?
— А как ты сам предлагаешь?
— Да очень просто. Перехватить их по дороге сюда и, не мешкая, восвояси отправить. Не захотят морем-океаном, пусть возвращаются через ливонские земли. Они ж господа вольные, не от Австрийского дома к нам посланы, а по своим корыстным делам наехали. Значит, для нас они не послы, а заезжие люди, и встречать мы их можем по своему усмотрению. Время смутное, не до поклонов. Чуть чего: вот Бог, а вот порог.
— Дельно мыслишь, Иван Андреевич, — потеплел лицом Пожарский. — Но позволь тебя немного подправить.
— Подправляй, — кивнул Хованский.
— Перехватывать мы их по дороге не будем — лишние хлопоты. Пусть они сами к нам в Переяславль заявятся. Тут их Иван Наумов и встретит. Он в таких делах толк знает. Так я говорю, Иван Федорович?
Взгляды собравшихся скрестились на переяславском воеводе Иване Наумове, ладно скроенном служаке с ежиком рыжеватых волос на круглой голове и бородой, похожей на колючую метелку.
Немногословный Наумов в ответ деловито кивнул.
— Перво-наперво Шава от его рейтар отдели, — посоветовал ему Пожарский. — Без них он сговорчивей станет. И коней непременно забери, чтоб из Переяславля австрияки — ни ногой. Догляд за ними сделай. Но все без обид, по-хорошему, чтобы комар носа не подточил. Дальше сам решай, как тебе лучше поступить: то ли Шава с посланием за нами вдогонку отправить, то ли послание без Шава. А мы на Совете обсудим, какой на него ответ дать. Но думаю, что Хованский прав. Придется залетных гостюшек ни с чем в Архангельск спровадить.
— Из Переяславля? — уточнил Наумов.
— Из него… А ты почему спрашиваешь?
— Девяносто сабель — сила немалая. Получив от ворот поворот, австрияки наверняка озлятся, начнут на обратном пути разбои чинить. А у меня столько людей нет, чтобы к ним для порядка приставить. Коли ты не поможешь, Дмитрий Михайлович, не знаю, как тут и быть.
— Правильно вопрос ставишь, — ухватился за просьбу Наумова Пожарский. — Приставов мы тебе дать обязаны. И немало. Но в нашем положении большой отряд для сопровождения австрияков в Архангельск посылать расточительно. Другое дело, если он там для укрепления Двинского края останется — для пущего дозора за морским и речным путем. Заодно Ивана Долгорукого с места отзовем. Насколько я знаю, он на воеводстве два положенных года уже отсидел. Пора бы его сменить, но не абы кем, а нашим человеком. К примеру, Андреем Татевым. Как думаете, други?
— Заслужил! — разом откликнулись Хованский и Наумов, а Минин добавил: — И на коне бывал, и под конем бывал. Такой не подведет.
— Стало быть, решено, — подытожил Пожарский. — В одной упряжке с Наумовым мы Татева и три служилых сотни в Переяславле оставим. Но действовать их прошу сообща, торопиться без спешки.
— Вези, лошадка, задние колеса, а передние и сами пойдут, — ввернул Минин, да так ловко, что все разулыбались…
Чтобы не создавать дорожной толкотни, дальше сподвижники решили идти двумя потоками. Пехота и обозы под началом Минина и Хованского прямиком к Троице-Сергиеву монастырю двинулись, а конные отряды туда же, но через Александрову Слободу Пожарский с сыновьями повел. По сообщениям из разных мест там немало казаков и крестьян, бывших прежде в подмосковных таборах, скопилось. Одни от Заруцкого отпали, но и к Трубецкому не пристали, другие возмечтали свою вольную мужицкую власть, наподобие той, что была при мятежном атамане Иване Болотникове, возродить, третьи и вовсе от ратных дел отбились, ждут, когда отношения между первым и вторым ополчением прояснятся. Вот и надумал Пожарский с этой неприкаянной силой встретиться, увлечь своим убеждением тех, кто долг перед отечеством и совесть человеческую еще не прогулял. А для пущей убедительности взял с собой казака Обреску и смоленского дворянина Ивана Доводчикова, готовых в покушении на князя покаяться и доводы в пользу нижегородского ополчения привести.
Сказано — сделано. Что для конных воинов сорок верст? За полдня они их промахнули, чтобы из Залесья в долгожданное Ополье попасть.
Небо с утра обложили грозовые тучи, но дождя все не было. Впереди, на тускло-зеленом холме, показалась утратившая былое значение, но все еще величавая издали Александрова слобода. Сорок восемь лет назад сюда из мятежной Москвы сбежал первый русский царь Иоанн Грозный. Здесь и основал он гнездо опричнины, превратив место для прохлады [75] переяславских князей в неприступную крепость. Ее окружали рвы, наполненные водой, и земляные валы. Рубленые стены с круглыми башнями по углам выложены белым кирпичом. Внутри кремля возведен не один, а сразу три каменных дворца. К церкви Покрова Богородицы, каждый камень которой расписан черной либо желтой, либо золотой краской и украшен святым крестом, добавилось еще два величавых храма — Троицкий и Успенский, а на восьмигранный столп обновленной шатровой звонницы с тремя ярусами дуговых кокошников поднят пятисотпудовый колокол, доставленный из Великого Новгорода опричным разбоем.
Впервые Пожарский побывал здесь еще Митюшей. Ведь Александрова слобода — это узел дорог, связывающих Москву с Поморьем, Новгородскими и владимиро-суздальскими землями, а значит, со Стародубом и родовым имением Пожарских в Волосынино-Мугреево. Белый Александровский кремль показался ему тогда похожим на жемчужное ожерелье, вынутое неземными силами из московского ларца и умело уложенное на бескрайних русских просторах, среди лесов и полей, голубых вод и солнечных небес. Царь-град да и только. Но на постоялом дворе, где Пожарские в тот раз заночевали, Митюша услышал через открытое окно, как, утайливо перешептываясь, приказчики из Юрьева-Польского назвали Александрову слободу кровопийственным градом. С их слов выходило, что незадолго до смерти жестокосердного государя Ивана Грозного один из его здешних дворцов был разрушен молнией, и случилось это не раньше и не позже, а вот именно на день Рождества Христова. Иначе как наказанием Господним за темные дела царя Ивана и его кромешников такое не назовешь.
— Да-а-а, — скорбно вымолвил один из шептунов. — Его хоть в сад посади, и сад от его злонравия привянет. Лихо лихом и кончается. Гневайся, грозным будь, но не кровавым! Одно слово — душегуб.
— Видать, его сам сатана пестовал, — поддакнул ему другой. — В которой посудине деготь побывает, и огнем его оттудова не выжгешь.
От таких слов у Митюши дыхание перехватило. Он рос в убеждении, что народ — тело, а царь — голова, и никто не вправе осуждать его, тем более после смерти. Как без Бога свет не стоит, так и без государя земля не правится. И вдруг находятся люди, готовые его имя грязью мазать.
«Не смейте!» — хотел крикнуть Митюша, но его опередил отец, тоже невольно услышавший пересуды приказчиков.
— Неладные речи неладно и слушать, — нагрянул он из сеней в житье к приказчикам. — Но коли на то дело пошло, хочу и от себя слово сказать. Не всяк злодей, кто часом лих. Иван Васильевич царство строил, а супротивные ему бояре со своими прихвостнями что? — Дьяволу престол, а себе рядом — сиятельные престольцы. Вот он на них и опалился. И поделом! Они ведь почище его кровопийствовали. За червя держали. Двоедушничали. Измены строили. Не сменив их, нельзя было вперед двигаться. Он и сменил, пусть и с душегубством немалым. Я с опричниной не дружил, но могу сказать, что она не с неба взялась. Александрова слобода — тоже. Плохо ли, хорошо ли, а Русь при Грозном в силу вошла, землями многими и городами уширилась, государством стала, Земские соборы и свой Судебник учинила. Этого не забудьте, когда в другой раз по углам в шепоты пуститесь.
— Возлюбивший злобу чтит ю паче благостыни, — опомнившись, постными голосами стали возражать ему приказчики. — Худом добра не весят. Лучше в обиде быть, чем в обидчиках. Забудь, что мы тут говорили, князь. Господь учит: замахнись да не ударь!
— Праведники нашлись… — подавил в себе раздражение отец. — Ладно, забуду… Правдой жить, точно огород городить: что днем отчизники нагородят, то скрытники и злобесники ночью норовят разметать. Да пока у них руки коротки… Ну а насчет дворца в слободе, что на Рождество Христово молния попортила, я так скажу: отстроен он еще лучше прежнего. С памятью о государе Иване Васильевиче то же будет: как разрушится, так и отстроится…
Через год отца не стало, но эти слова навсегда запали Пожарскому в душу. Они стерли ореол непогрешимости с обликов Иоанна Грозного и его преемника, блаженного Федора Иоанновича, а затем Бориса Годунова и Василия Шуйского, но помогли понять, что царь со всеми его человеческими достоинствами и недостатками — это прежде всего скрепа государства, хранитель веры и самостояния, а значит, верность ему — это верность отечеству. Шатаний тут быть никаких не может. Как Солнцу всех не угреть, так и царю на всех не угодить. Главное, чтобы это был радетель, а не самозванец, готовый бросить под ноги алчности наемников и своему честолюбию судьбу народа…
А потом разразилась Смута, и земля под Александровой слободой, как и повсюду, закачалась. Кто ее только ни топтал! Дольше всех гайдуки и пехота литовского гетмана Яна Сапеги. Дважды их выбивал из крепости князь Михайло Скопин-Шуйский. Ему помогал шведский барон Якоб Делагарди. Однако при седьмочисленных боярах слобода снова пала. Полторы тысячи посадников затворились тогда в перестроенной шатровой звоннице, но сапегинцы подожгли ее, обложив со всех сторон бревнами и хворостом. Не желая даться им в руки, бросилась вниз с колокольни дочь мельника со Сноповской плотины, Катюня Самоквасова. После этого случая ее отчим Поликарп Рябой собрал посадников и крестьян из окрестных сел Бельково, Каринское, Годуново, Отяево, Темкино, Шуйское, Недюревка да и стал побивать обидчиков стремительными налетами, а после влил свой отряд в нижегородское ополчение. Ныне Поликарп Рябой послан в Александрову слободу — готовить ночлеги для земской рати. Никто лучше него с этим не справится…
Былое так крепко переплелось с настоящим, что Пожарский забыл обо всем вокруг, расслабил вожжи, дал коню самому выбирать дорогу. Чем ближе становился кремль на холме, тем явственнее виделись потеки и проломы на его некогда белых стенах, тем больше резали глаза груды развалин и пожарищ на посаде у реки Серой и возле острожка, поставленного поодаль еще людьми Скопина-Шуйского.
«Это не тучи над Слободой повисли, — неожиданно подумалось Пожарскому. — Это тени прошлого здесь витают — тени замученных при царе Иоанне и тени павших в боях за родимую землю, тени изменников и завоевателей, нашедших здесь бесславный конец, и тени мирных жителей, ни в чем не повинных стариков и детей. Сколько слез в небесах накопилось — и представить трудно. Помоги им, Господи, дождем на землю пролиться, неприкаянные души облегчить, а прикаянные умиротворить».
Словно услышав его, где-то далеко, будто ворочая небесные валуны, предупреждающе прокатились громовые раскаты. Защелкали первые дождевые капли. Они становились все гуще и гуще, потом вдруг иссякли, чтобы вскоре вновь просыпаться косохлестом.
Ополченцы прибавили шагу, поспешая в близкое уже укрытие. Стали поторапливать лошадей возчики, устремились вперед конные послужильцы. Тут-то и догнал Пожарского отрядец Андрея Татева. Рядом с воеводой на белом с черными пятнами ногайском жеребце восседал плотный, будто из жести скроенный всадник в коротком плаще, четырехугольной шляпе с бахромой по волнистому краю и в красных сапогах со стоячими голенищами выше колен. Сорвав шляпу с головы, он помахал ею перед собой и с подчеркнутым достоинством возгласил:
— Поклоняюсь тебе на здоровье, князь! Учини свою милость.
Это был капитан Яков Шав. Не беда, что он поклон с поклонением перепутал. Понять его речь можно, а это главное.
— И я тебе кланяюсь, капитан, — откликнулся Пожарский. — На добром слове кому не спасибо? Со встречей! Мир тебе и ответное здравие.
Волосы у Шава белесые и плотные, как мочало, небольшие глаза упрятаны в пухлые мешочки, круглые навесные усы оканчиваются клоком желтоватых волос под нижней губой, вид — более чем воинственный.
— Как тебя Бог милует? — спросил Пожарский.
— Мокро, — водрузил шляпу на голову Шав и в свою очередь спросил: — Что скажешь?
— А то и скажу, что мокрому море по колено, — не удержался на серьезе Пожарский, но тут же, ругнув себя за ребячество, поспешил свою выходку загладить: — Правая рука, левое сердце! Помогай Бог и вашим, и нашим. Удачно ли ехалось?
— Ехалось! Ехалось! — закивал Шав. — Я есть прибыл до твоего иминейства. Хочу говорить важное дело.
— Здесь не получится, капитан. Сам сказал: мокро. Давай отложим переговоры на вечер. Татев тебя дальше проводит, а у меня, извиняй, сейчас запарка, — с этими словами Пожарский развернул коня и поскакал навстречу Поликарпу Рябому.
Встретились они с Шавом после вечерней трапезы в приказной избе деревянного острожка. Пожарский с собой сыновей взял: пусть не только в ратные, но и в переговорные дела вникают, опыта набираются.
Усадив напротив себя Шава, Пожарский предложил:
— Итак, капитан, излагай дело, с которым прибыл, а мы послушаем, хорошо ли оно нам или плохо. Мы люди ратные. Сам видишь, засиживаться ни тебе, ни мне не досуг. Так что лучше не петлять, а говорить прямо.
— О, да! То правильно, князь. Пустые слова говорить не пригоже. Одна беда: мой язык скоро по вашему излагать не исправен. Дай мне сразу вручить тебе в руки письмовную речь великих рыцарей, кои готовы быть с тобой в соединении против московских и польских неприятелей. Сия грамота наше дело лучше меня скажет.
— Изволь!
Они разом поднялись. Шав торжественно извлек из расписной укладки свиток и с поклоном вручил Пожарскому. Тот развернул грамоту и, убедившись, что писана она русским слогом, передал Татеву:
— Зачти-ка, Андрей Иванович, а мы послушаем, что нам великие рыцари из Австрийского государства пишут, — потом посоветовал Шаву: — Да ты садись, капитан. В ногах правды нет, — и первым опустился на лавку.
Пришлось Шаву последовать его примеру.
За окном лил дождь. Изредка серую мглу прожигала молния. Погрохатывал гром, и тогда язычки свечей чуть заметно подрагивали. Сыновья Пожарского примостились у двери, стараясь, чтобы их присутствие не лезло в глаза.
Моложавый, но уже грузный Татев читал многословное и витиеватое послание долго, выразительно. Из него следовало, что в некоторых королевствах Средней Европы уже в сборе немалое войско, готовое выступить против польских и литовских людей на стороне нижегородского ополчения. Шесть месяцев назад в русские города писал об этом английский капитан Петр Гамильтон, затем французский полковник Жак Маржерет, а теперь австрийские начальники над войском Фрейгер, Ястон и Гиль ответ через Якова Шава ждут «по нынешней летней дороге, чтоб мочно притти корабельным ходом», поскольку на прежние обращения ответа не было.
Услышав имя Жака Маржерета, Пожарский поморщился, как от зубной боли. Предчувствие его не обмануло. Теперь понятно, кто за спинами австрияков стоит, чьими стараниями наемное войско к новому походу на Москву собирается. Еще при Борисе Годунове этот ловкий французец, успевший повоевать под протестантским знаменем Генриха Бурбона, будущего короля Франции, а затем на Балканах, заверстался ротмистром в русскую службу, немалые поместья, вотчины и денежное жалованье от государя получил, во многих походах участвовал, в том числе против Лжедмитрия Гришки Отрепьева. Но стоило самозванцу на трон сесть, к нему переметнулся, стал начальником его дворцовой стражи. А когда на место растерзанного в Кремле Гришки Василий Шуйский царем избрался, Маржерет бил ему челом, чтобы тот «по своему милосердному обычаю пожаловал его своим царским жалованием и отпустил по родству во Францовскую землю». Что окрыленный своим возвышением Шуйский и сделал, дабы широту своей души и мягкосердечие другим странам показать.
Совпадение это или нет, но в Париж капитан Маржерет через Архангельский город возвращался тем самым путем, которым Яков Шав в Московское государство въехал. В ту пору двинским воеводой был Иван Милюков-Гусь, а дьяком — Илья Уваров. Они отличились тем, что перед иноземными людьми без зазрения совести холуйствовали, такие лихоимства в свою и их пользу творили, что терпение двинских жителей лопнуло. Свободные от всякого государского влияния, они всколыбались, Милюкова в тюрьму вкинули, а Уварова и вовсе в воду посадили. Случилось это сразу после отплытия Маржерета на одном из тех двадцати девяти заморских кораблей, которые наладились приходить в Архангельск. Вот молва и связала имя Милюкова-Гуся с именем Маржерета. Ведь дыма без огня не бывает. Ныне не только Голландия, но и Англия да и Турция свой интерес на Русском Севере имеют — торговый прежде всего. Но тайные планы их намного дальше простираются. Через таких, как французец, наемников они хотели бы к рукам все Поморье заодно с Поволжьем прибрать.
Однако архангельским делом похождения Маржерета в России не кончились. Растоптав милосердие и щедрость Василия Шуйского, через время он вернулся на Русскую землю, чтобы предложить себя и свою саблю его злейшему врагу, прозванному Тушинским вором. От него Маржерет перебежал на службу к коронному польскому гетману Станиславу Жолкевскому, тому самому, что склонил седьмочисленных бояр к договору на избрание русским царем королевича Владислава, а затем стал поручиком Немецкой роты, которая по приказу Александра Гонсевского сожгла и разорила восставшую против ляхов Москву. Он из тех, кто не знает жалости ни к врагам, ни к друзьям, оказавшимся после его измены в стане неприятеля. Странным образом соединялись в нем ум и вероломство, храбрость и хитрость. Вот и на этот раз он сумел выбраться за рубеж целым и невредимым. Еще и большой обоз награбленного умудрился с собой прихватить. Судя по всему, ныне он в Англии побывал, тамошних вояк рассказами о богатой добыче, которая их ждет, раззадорил, а теперь, сидя в Голландии или Австрии, готовится к нижегородскому ополчению примкнуть…
Дослушав Татева, Пожарский спросил у Шава:
— А скажи-ка мне, капитан, с каких это пор поручик Маржерет в полковники вышел? Уж не поляки ли его так возвысили? Или он сам себе этот чин присвоил?
— Твой намек мне невдомек, — нахмурился Шав. — Маржерет везде большую славу имеет. От него тебе большая польза может быть. У поляков сердце упадет, как они его имя услышат.
— У нас уже упало, — усмехнулся Пожарский. — А ты сам-то откуда русский язык знаешь? Или служить у нас, как этому выползню, довелось?
— Не совсем по-твоему вышло, князь. На Москве я только в детях был, когда мой фатер в Немецкой слободе при речке Кукуй себе торговое место получил. А когда мне стало девять лет, он в Турпал вернулся. Пусть это сожалению подобно, но с тех пор я в эту страну не ходил. Тогда на Венгерской земле война с турками была. Я туда поступил. Потом против крымского хана службу делал. Теперь благодаря предложению доблестного залдата Маржерета я снова здесь. Зачем ты называешь его плохо?
— А как его прикажешь называть? — удивился Пожарский. — Сам посуди: мы его хлебом кормили, а он против нашего хлеба меч поднял. И снова за хлебом тянется, для начала — вашими руками. Не хочу тебя на одну доску с ним ставить, капитан, но оно само так получается.
— Старое прощенья просит, а ты от нового отвернулся.
— Что тебе еще в моих словах не нравится?
— Мне все не нравится! — вдруг взорвался Шав. — Что я тут один, не нравится. Что ты шутки со мной шутишь, не нравится. Что ты хлебом Маржерета попрекаешь, тоже не нравится. Я есть посол! Прошу любить и жаловать!
Ни один мускул на лице Пожарского не дрогнул. Он будто такого поворота и ждал. Благожелательно улыбнувшись Шаву, князь предложил:
— Велик почет не живет без хлопот. Давай разберемся?
— Давай! — самолюбиво согласился австрияк.
— Сначала — кто ты есть… Вольные господа из Амбаха прислали с тобой грамоту, какими обычно города меж собою сносятся. Для таких посланий послы не нужны, хватит и посыльного. Вот я тебя так и принимаю. Что касаемо истинных послов, то они оружием не гремят, как твои девяносто рейтаров. Их оружие — выдержка и словесная находчивость. Одно с другим путать не надо. Поэтому ты здесь, а рейтары в Переяславле тебя дожидаются. Про Маржерета я уже сказал. А на шутки не серчай. Если неудачно сшутил, прости, ради бога.
— Но воевода Архангельского города меня послом почитал! — воскликнул Шав. — Он мне уверение дал, что ты рад будешь от нас помощь взять. Очень, очень рад. Как твои слова понимать, мне не известно.
— А тут и понимать нечего. За щедрое предложение низкий поклон и сердечные пожелания. Однако у нас и своего войска хватает. Ты, должно быть, это заметил, когда сюда спешил. Мы на свои силы привыкли опираться. Да еще под Москвой казачьи полки нашего подхода ждут. Коли бы и двинский воевода это увидел, то не стал бы напрасных уверений тебе давать. Ну а чтобы ты не обижался, капитан, тебя с твоими людьми в Архангельск, как дорогого посла, новый Двинский воевода проводит. Надеюсь, ты с ним уже подружился. А нет, так подружись. Вот он перед тобой — Андрей Иванович Татев, — с этими словами Пожарский поднялся, давая понять, что переговоры окончены.
— И это все?! — растерялся Шав. — Постой, князь. На пол-слово уходить не надо. На послание положено ответ дать. Я без него не могу ехать.
— Коли положено, значит, будет. А пока возвращайся с Татевым в Переяславль к своим рейтарам. Отписку мы туда пришлем. Да не волнуйся понапрасну. Долго ждать тебе не придется. У Бога скоро, а у нас тотчас. Прощай, капитан. Счастливый путь!..
Два дня спустя на стане у Троице-Сергиева монастыря Пожарский и Минин собрали Совет ополчения. К этому времени земская рать увеличилась на две с половиной тысячи человек. В пути к ней присоединилось немало крестьян и гулящих людей, но больше того казаков, перебежавших от Заруцкого и Трубецкого. Часть из них привел из-под Александровой слободы Пожарский. Вот Совет и постановил задержаться у Троицы на четыре дня, чтобы перестроить войско и обучить бою новичков.
Заслушав донесения из южных земель, Совет решил, что пора с Ногайской ордой о совместных действиях против польского нашествия договориться. Главой посольского отряда к ордынцам тут же был назначен сын боярский Степан Ушаков, человек смелый, опытный и речистый. Ему вменялось убедить ногайцев набеги на русские поселения не делать, а прислать две тысячи татар — за немалое вознаграждение — ополчению в помощь, но с условием: как только Москва очистится, они выйдут вон.
Еще Совет приговорил: с австрийскими и английскими наемниками не знаться, отписку им составить так прямо и щекотно, чтобы отбить у них желание впредь в чужие дела соваться. Двинским воеводой утвердить Андрея Татева. Его же с Шавом и отпиской австриякам в Архангельский город послать. Пусть своими глазами увидит, как Шав от русских берегов отчалит.
Отписку доверено было подготовить приказным дьякам Тимофею Витовтову и Патрикею Насонову. Они хоть и не краснописцы, зато с Маржеретом не раз встречались, всю его подноготную знают, за словом в карман не полезут. Так и родился ответ в Амбах. В нем, в частности, говорилось:
«…И мы государям вашим королям за их жалованье, что они о Московском государстве радеют и людям велят собираться нам на помощь против польских и литовских людей, челом бьем и их жалованье рады выславлять; вас, начальных людей, за ваше доброхотство похваляем и нашею любовью, где будет возможно, воздавати хотим; потому удивляемся, что вы в совете с француженином Яковом Маржеретом пребываете <…> И тот Яков Маржерет вместе с польскими и литовскими людьми кровь крестьянскую проливал злее польских людей, и в осаде с польскими и литовскими людьми в Москве от нас сидел, и награбивая государские казны, дорогих узорочей несчетно, из Москвы пошел в Польшу в нынешнем 7120 году, в сентябре месяце, с изменниками Московского государства. И нам подлинно известно, что польский король Жигимонт тому Маржерету велел у себя быть в Раде: и мы удивляемся, каким это образом Маржерет хочет быть в Московском государстве по умышлению польского короля, чтоб зло какое-нибудь учинить; о том мы стали в опасеньи и потому к Архангельскому городу на береженье ратных многих людей отпускаем. Да и наемные люди иных государств нам теперь не надобны; до сих пор мы с польскими людьми не могли сладить потому, что государство Московское было в розни, а ныне все Российское государство, видев польских и литовских людей неправду и узнав воровских людей завод, избрало за разум, и за правду, и за дородство, и за храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводу князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского. Да и те люди, которые были в воровстве с польскими и литовскими людьми, стали теперь с нами единомышленно, и мы польских и литовских людей побиваем и города очищаем: что где соберется доходов, отдаем нашим ратным людям, стрельцам и казакам, а сами мы, бояре и воеводы, дворяне и дети боярские, служим и бьемся за святые Божии церкви, за православную веру и свое отечество без жалованья. А до польских и литовских людей самих за их неправды гнев Божий доходит: турские и крымские люди Волынь и Подолию до конца запустошили и вперед, по нашей ссылке, Польскую и Литовскую землю крымские люди пустошить хотят. Так, уповая на милость Божию, оборонимся и сами, без наемных людей. А если по какому-нибудь случаю врагов наших не одолеем, то пошлем к вам своих людей, наказавши им подлинно, сколько их нанимать и почет им давать. А вы бы любовь свою нам показали, о Якове Маржерете отписали, каким образом он из Польской земли у вас объявился, и как он теперь у вас, в какой чести? А мы думали, что ему, за его неправду, опричь Польши, ни в какой земле места не будет. Писано на стану у Троицы в Сергиеве монастыре лета 7120 августа месяца» [76].
Имя Маржерета в ту пору для большинства русских людей было ругательным, зато во Франции оно успело обрести широкую известность. Там он, после первого возвращения на родину, написал и издал весьма познавательную, не лишенную авантюрности книгу «Состояние Российской империи и великого княжества Московского». Свое повествование он начал с царствования Федора Иоанновича и закончил воцарением Василия Шуйского, живо описав положение страны, двор, нравы, борьбу Гришки Отрепьева с Борисом Годуновым, смерть самозванца. Вернулся в Россию с намерением не только обогатиться, но и продолжить свою книгу, но дар сочинительства покинул его. Так бывает, когда душа окончательно искривится. После второго бегства из России Маржерет все еще продолжал надеяться, что со временем желание и умение писать о русской жизни к нему вернется. Но ответ из стана Пожарского у Троицы, который через полтора месяца доставит ему в Амбах Яков Шав, окончательно убьет эту его надежду.
Догони-ветер
Журавли улетают вслед за ласточками. Происходит это обычно на переломе августа, когда кончается Успенский пост и наступает конец жатвы — Спожинки-дожинки [77]. Крестьяне в этот день заламывают бороду оставленным в поле колосьям и, пригнув к земле, просят Николу Чудотворца, чтобы на следующий год он не оставил их без урожая. Солнце еще вовсю греет, но вода в реках становится все холодней. Это верный признак того, что лето навстречу осени вприпрыжку побежало.
А церковь в этот день перенесение Нерукотворного Образа Господа Исуса Христа из Эдессы в царь-град Византийской империи Константинополь празднует. Вот и стал сей день зваться Третьим, или Хлебным, Спасом. Со Спожинками его соединило присловие: «Хорошо, когда Спас на полотне, а хлебушко на гумне».
В третьеспасов день и нагнала нижегородское ополчение сибирская дружина. Высланные вперед для связи с ним посыльные вернулись с сообщением: земская рать вот уже как два дня стан вокруг Троице-Сергиева монастыря раскинула, окончательные силы собирает. Между Углической, Переяславской, Александрово-Слободской, Московской и Дмитровской дорогами свободного места нет, но гуще всего заставлены Климентьевское и Княжеское поля. Пожарский и его окружение на Красной горе посреди Климентьевского поля расположились, а Василею Тыркову с его людьми место от плотины Красного пруда до горы Волкуши у Московской дороги расписано. Пусть-де сразу туда отправляется, но, проезжая через Троицкий монастырь, копеечное серебро, отчеканенное в Ярославле, казначейским людям из ополчения сдаст. Они при Пятницкой церкви вместе с приказными дьяками обретаются. Стало быть, и Савве Романчукову с Кирилой Федоровым там надлежит остаться. А Тырков, как только с устройством дружины управится, прошен пожаловать к Пожарскому.
Такого внимания к себе Тырков не ожидал. Ну разве не приятно узнать, что в походном столпотворении ты не забыт, что в любой час своего прибытия можешь к князю Пожарскому явиться и будешь им незамедлительно принят? Такие уж это красноречивые слова: прошен пожаловать. Они еще и то означают, что Федор Годунов, поспешивший часть сибирской дружины раньше Тыркова к Пожарскому увести, немногого этим добился. Ведь князь не пустого мельтешения перед глазами ждет, а весомой лепты на общее дело. У Тыркова такая лепта есть. Вон она — вместо муки в хлебные бочонки под рогожами упрятана. Это тебе не баран чихнул.
Троице-Сергиев монастырь далеко видать — так он могуч и высоко над окрестными полями, холмами и оврагами поставлен. Еще выше и тверже вера его обитателей в Святую Троицу и великих чудотворцев — Сергия Радонежского и Никона. Именно она помогла им шестнадцать месяцев незыблемо стоять против литовского магната Яна Сапеги и наемников шестнадцати наиболее известных на Руси стран и в конце концов принудить их пойти прочь не солоно хлебавши. Следы того стояния и до сих пор видны — ямы, надолбы, корзины с землей, осадные укрепления, больничные и приютные избы, заставы в полусожженных и вырубленных рощах. Но зелень и старания монастырской братии заметно скрасили нанесенные земле раны. Теперь повсюду, куда ни глянь, видны походные шатры и холщевые наметы на жердевых остовах, ряды повозок, кони в загонах, пушки, складские балаганы, а между ними костры, костры, костры…
Не меньше пострадали и зубчатые стены каменной крепости, замкнутые в двенадцать разновеликих башен, но служилые и работные люди монастыря уже заделали вмятины от пушечных ядер, пробелили Красную стену и Святые ворота, через которые вступают в обитель Переяславская и Александрово-слободская дороги, чтобы выйти через ворота под Луковой башней и разойтись дорогами на Москву и Дмитров.
Первое, что бросилось в глаза Тыркову у Святых ворот — алая хоругвь с изображением Христа Спасителя, пшеничный сноп, перевитый цветами, а под ними хлеб-соль на столе, покрытом белым рушником. Без слов понятно: это приветствие каждому сюда входящему и одновременно поздравление с Хлебным Спасом.
Спешившись, Тырков поклонился его образу, перекрестясь, отщипнул кусочек духмяного хлебного каравая и, обмакнув в соль, положил в рот. Его примеру последовали Савва Романчуков и Кирила Федоров. Затем стали подходить сотники и десятники, каждый от лица своих подчиненных.
Услышав голоса, поспешил из ворот к ним навстречу седобородый монах с горящей свечой в руке. Остановившись возле Тыркова, он проникновенно запел:
Ты пошли нам, Господь, житье мирное, любовное. Отжени Ты от нас врагов пагубных. Ты посей на нашу Русь счастье многое.Микеша Вестимов и Михалка Смывалов стали без слов подпевать ему. Не успели разохотиться, монах умолк. И тогда они нашли свои слова, созвучные настроению:
Награди государем корня русского — Корня русского, православного. Уж поклонимся Тебе мы, уж помолимся. Лишь бы Ты светил, как ясно солнышко. Времечко лети, лети. Хлебушко расти, расти. Бьем тебе челом мы нынче в третий раз, Батюшка ты наш, заботник Спас.Пока они пели, из Водяных ворот вышел и присоединился к начальным людям дьяк Большого прихода Патрикей Насонов. Приложив руку к груди, он молча поприветствовал Тыркова, затем, перешепнувшись с Романчуковым и Федоровым, указал, куда править возы с копеечным серебром. Все ходко, деловито, немногословно. Возчики указанных Тырковым подвод последовали за Насоновым, остальные изготовились отправиться дальше, но тут стремянной Тыркова Сергушка Шемелин истошно завопил:
— Тятя! Чтоб мои глаза повылазили — тятя! Не узнаешь? Это же я, твой старшак Сергушка! Эвон куда тебя занесло — в самую Троицу!
Буйным ветром налетел он на скособоченного служня, наблюдавшего за происходящим с придорожья, легко подхватил его на руки и закружил, взахлеб повторяя:
— Тятя! Тятечка! Черт ты старый! Пропал незнамо куда, а мы с мамкой жди! Разве ж так можно?.. Ну, чего молчишь, точно ежа проглотил? Коли узнал меня, так хоть словечко кинь! Чай, немаленький…
Служень отчаянно закивал, разъяв темный провал рта. Зубов в нем не было, языка тоже. Лишь в горле что-то булькало, да из серых широко открытых глаз катились крупные слезы. Нижняя часть лица, оплавленная огнем, а потому безбородая, казалась меньше верхней. Ее будто с другого лица приставили. Зато верхняя сохранила природную красоту: прямой нос, разлетные брови, высокий лоб, поредевшие и поседевшие, но все еще буйные кудри, выбивающиеся из-под черного монашеского колпака.
Приглядевшись повнимательней, Тырков понял: это и впрямь отец Сергушки — казак старой ермаковской сотни Семен Шемелин. Пять лет назад запропал он на посылках к Москве. С тех пор несчетное число раз оплакали его неутешная Овдока и дети, похоронили в душе соседи и сослужильцы, а он, оказывается, жив, хотя и не скажешь, что здоров. Сразу видно: увечья свои он не в бою получил, а на пытке. Только на ней языки строптивцам режут, ну а Шемелин — строптивец известный — голову ни перед кем не склонял, от дел не отлынивал, заворуев в лицо обличал, какого бы они чина и звания ни были. Вот и стал кому-то поперек дороги.
— Да ты никак немой, тятя?! — запоздало сообразил Сергушка. — А я тебя тормошу почем зря. Извиняй, родимый, — и, притиснув невеликого телом отца к широкой груди, заплакал: — Вишь, как оно на свете бывает? Хоть подымай руки на небо. А?
Слушая его, Семен Шемелин согласно кивал и, беспомощно улыбаясь, ласково перебирал густые непослушные волосы сына. Потом вдруг стал вырываться, сердито сучить ногами. Успокоился лишь, когда Сергушка опустил его на землю. Тут Шемелин вновь скособочился, да так, что левая рука его чуть не до земли повисла, а голова к правому плечу загнулась.
Их окружили Стеха Устюжанин, Юряй Нос, Федька Глотов и другие тоболяки, прежде хорошо знавшие Шемелина. Каждый торопился сказать ему доброе слово, по плечу похлопать или обменяться понимающим взглядом. Но тут подоспели ермачата во главе с Афанасием Черкасовым и стали оттирать их, показывая, что Шемелин им, как отец родной, ведь родители их еще при Ермаке побратались, а Сергушка и вовсе им братаник, хоть и не в их десятке служит. Больше других старался весельчак Томилка Ерофеев:
— Ну, чего скучились, скоробранцы? Али не видите: живучи, до всего доживешь — и потеряешься, и найдешься… Дайте воеводе пройти!
Дружинники послушно расступились, пропуская на круг Тыркова.
— Дай Бог — хорошо, а слава богу — лучше! — зацепившись за призыв Ерофеева, первым поздоровался с Шемелиным Тырков. — Вот и свиделись, Семен. Куда отца судьба несет, туда сына конь везет. Привет тебе от Овдоки, от всей нашей сибирской службы. Мы тебя помним, а она с детушками и подавно. Умному жена, как нищему сума, все сбережет. Гляди, какого молодца она тебе прислала: отца, как былинку, поднимает. То ли еще будет, когда мы до Москвы доберемся! Да он всех ляхов и их позадицу одной рукой разметет! Так я говорю?
Шемелин глядел на него снизу вверх, по-птичьи повернув голову. Во рту его булькала и пузырилась слюна, брови к переносице болезненно сошлись, но в глазах затеплился веселый огонек. Значит, шутку Тыркова он понял и принял, ждет, что еще хорошего воевода скажет.
А что ему сказать, если в ответ он только мычит?
— Время потолковать у нас еще будет, — нашелся Тырков. — А пока не покажешь ли, Семен, как ближе к плотине Красного пруда добраться? Там нам место отведено. Заодно и с сыном побудешь… Если, конечно, у тебя других спешных дел нет.
Шемелин радостно закивал, забулькал, стал показывать рукой то в одну, то в другую сторону. Пойми его попробуй! Спасибо седобородому монаху, что встретил дружину славицей в честь Хлебного Спаса. Он-то и растолковал Тыркову, как надо понимать Семушку Немого. А вот как. Нынче Семушка в Служной слободе портища и обувишку для иноков шьет. Это и есть та самая слобода, мимо которой дружина Тыркова к Троицкому монастырю недавно проследовала. А Красный пруд дальше за речкой Кончурой у Терентьевской рощи лежит. Дорогу к нему Семушка за милую душу покажет.
— В ногах правды нет, тятя! — выслушав монаха, Сергушка Шемелин вновь подхватил отца и, легко усадив на своего коня, счастливо разулыбался: — Показывай! А я рядом пойду. Ты у нас нынче все равно как Георгий Победоносец, тятька. Любо-дорого поглядеть!
Оживленно задвигались, стали расходиться по своим десяткам дружинники. На месте остались лишь Тырков с монахом.
— Благодарствую, отче, — сказал Тырков. — Может, и о прежней жизни Семушки поведаешь?
Монах отрицательно покачал головой.
— Жаль. Очень жаль. Нет у меня таких людей, чтобы знаки немых перетолмачивали, а от самого Шемелина немного добьешься, — Тырков огорченно вздохнул, но решил не отступать. — Тогда посоветуй хотя бы, кто нам в этом деле может пособить? Ты ведь всех тут знаешь, отче.
— Старец Ананий, — после некоторого колебания ответил монах. — В келейном ряду Служной слободы три Анания. Так ты Анания-могильщика спроси. Бог тебе в помощь!
Тырков тотчас послал в Служную слободу Федьку Глотова. Сказал:
— Найдешь нас у Красного пруда. Его тут тебе любой покажет.
Не задерживаясь на широком златоглавом подворье Троице-Сергиева монастыря, обоз покинул его через Луковые ворота и мимо убранного уже Лукового огорода устремился к Московской дороге.
В соседях у дружины Тыркова оказались отряды Исака Погожего и Лукьяна Мясного. Им достались луга у Келарева пруда и полусожженной Климентьевской слободы. Свои таборы они огородили рядами повозок и старыми плетнями.
Первым на стан к Тыркову наведался Исак Погожий.
— Так вот ты каков, сибирских краев воевода Василей сын Фомин! — несколько напыщенно воскликнул он. — Наслышан. Наслышан. Жить тебе да молодеть, добреть да богатеть, служить-не переслужить… А где Кирила Нечаич? Он вроде при тебе должон быть.
— В Пятницкой церкви с приказными остался, — ответил Тырков. — А ты кто таков будешь? Назовись.
— Воеводой Погожим Исаком Семеновичем зови, не обманешься. Мы с Кирилой старые знакомцы. Он из дьяков в полки рвется, сибирских людей тебе в подмогу решил собрать. Уже и росписи начал делать, да Кузьма Минин его в Ярославле для денежной казны оставил. А у меня человек с пятнадцать, которые на Сибири по службе или по другому делу бывали. Могу их на добровольников, что ты проездом в ближних уездах собрал, поменять. Да у Лукьяна Мясного сибирских татаровей не меньше моих будет, да у других… И вот тебе мой совет по дружбе: Кирилу Нечаича в товарищи к себе забери. Не прошибешься.
— Заберу, — пообещал Тырков. — Думаю, князь Пожарский против не будет. Я как раз к нему собирался — о своем прибытии доложить.
— И я собирался. Вишь, как все удачно выходит? Вместе и отправимся.
Но тут на верхах подтрусили Федька Глотов и одноглазый чернец, судя по всему, Ананий-скудельник. Выглядел он не лучше Семена Шемелина: лицо и шея иссечены рубцами; мало того, что на месте правого глаза зияла рваная пустота, монашеский куколь едва прикрывал обрубки ушей, а нос был не только перебит, но и свернут набок. Однако когда Ананий вышагнул из седла, оказалось, что он довольно высок и крепок, а руки у него, как лопаты.
— Это что за убогий? — одними губами вышептнул Исак Погожий, но чернец его услышал.
— Двенадцать апостолов были убогими, а на том свете на двенадцати престолах будут сидеть и судить царей вселенских, — дерзко изрек он, но тут же сменил едкость в голосе на евангельское братолюбие: — Напусти Бог здоровья и благополучия всем витязям, вставшим противу вражьей прелести, злых изменников и потаковщиков, сохрани на сто лет с прилетками, дай счастливо день дневать и ночь ночевать.
— Так-то лучше, — усмехнулся Погожий. — Говори да не заговаривайся, старче. Ну какой ты, к лешему, апостол? Лучше скажи, кто это тебя так изукрасил? Ляхи?
— Они самые, родимец. Ляхи в боярских шубах. Я тут вашему посыльщику уже говорил, — Ананий выразительно глянул на Федьку Голотова. — И опять повторю: великое смущение, рознь и непостоянство в народе от их непомерных притязаний сделались!
— Час от часу не легче. То апостолом себя возомнил, то на бояр замахиваешься… Ну и какое отношение, на твой кривой взгляд, боярские шубы к ляхам имеют?
— На мой кривой взгляд, благодетель, ляхи извне к нам нагрянули. Их и прогнать можно, совокупишися воедино. А тех, кто вражду своим лихоимством изнутри множит, как образумить, скажи? Разве не они ляхов в Кремль запустили, дабы упрочить себя, соединясь с короной польской? Разве не лжехристи тушинские по согласованию с московскими боярами царя Василия от власти отрешили? Тут такой клубок наворочен, что с налету его и не распутать! Тем паче на простую голову, — не испугался грозного вида Исака Погожего прямодушный Ананий. — Это они, злыдари, всю землю в ропоты ввели, в скорбь и отмщение. Тут кто хошь о государе-справедливце возмечтает. Его имя, как острый меч, на все стороны сечет. Вот он и посек — и тех, и других, и третьих. Самого Шубника тоже не пожалел. Свои же бояре его с царской лавки скинули, в монашью рясу запихнули и Жигимонту на посмешище выдали. Нет, что ли?
Поначалу спокойная речь Анания сделалась запальчивой. Услышав слова государь-справедливец, ополченцы, оказавшиеся неподалеку, уши навострили. Глядя на них, Тырков подумал: «Вера в справедливость, как вера в Бога, неугасима. Сколько раз самозванцы, укрывшиеся за именем царевича Дмитрия Иоанновича, ее вконец растоптали, а она живет несмотря ни на что и будет жить до скончания веков. Вот как у этого калечного старца. Теперь ясно, где он правый глаз и уши потерял. В застенке того самого Шубника, о котором ныне с явной жалостью говорит. Очень уж отходчив русский человек. Истязателю своему готов посочувствовать».
Шубник — это прозвище царя Василия Шуйского, поставленного на царство, а затем низвергнутого родовитыми боярами, и намекало оно поначалу на то, что в родовом его Шуйском уезде главный промысел — шубный. Однако после того как Иван Болотников, ставленник очередного лжецаревича Дмитрия, малыми силами пятитысячное царское войско под Кромами разгромил, а потом чуть Москву приступом не взял, оно и вовсе презрительным сделалось: в царских делах-де малорослый и неказистый Шуйский подобен скорняку, который шубы шить не горазд, зато по семи штук их на себя в серебре-золоте напяливает, чтобы внушительней и приглядней казаться. Дорого обошлись те поражения Шуйскому. Под знамена Болотникова стеклись тогда не только беглые люди из польских и северских городов, тяглые крестьяне, лишенные выхода от своих хозяев в Юрьев день, и казаки с Дона, но и служилые холопы, поволжские инородцы, стрельцы, ремесленники и прочие горожане вплоть до уездных дворян, недовольных всевластием боярства. Иначе чем войной низов с верхами такое не назовешь. А кончилась эта война тем, что Шуйский повстанцев сначала осадой в Туле измучил, а затем велел соорудить на реке Упе плотину и, спустив воду, защитников крепости стал топить. Спасая мужицкую рать, Болотников сдался. Его сослали в Каргополь и там, ослепив, утопили.
Все это, промелькнув в сознании Тыркова, родило догадку: «Ананию и Семену Шемелину повезло больше. Они в живых остались. Хотя кто его знает, что лучше — смерть или такая жизнь…»
Тем временем Исак Погожий на Анания взбеленился:
— Про острый меч ты верно сказал. Он тебя посек, да жаль, не до конца. Снова крамолу сеешь? Мужицкого царя захотелось? Вот тебе шиш, холоп в рясе!
— А чем плох мужицкий царь? — как у дитяти малого, спросил Ананий. — Все мы пошли на свет от христианских родителей, знаменались святым крестом, обещались веровать в Святую Троицу. Ну а коли так, возьми себе мое, а свое мне отдай. Вот и будет по-божески… Да не сверкай ты на меня глазами, державец. Страхов я вдоволь натерпелся. Новых не боюсь. Горше скудельни, где я бездомников и самоубийц земле предаю, места не сыскать. Мне одного жаждется: чтоб мы не только ляхов и их приспешников из Русской земли изгнали, но и алчность ненасытную, междоусобицы, кривды и прочую скверну из душ наших. На этом позволь тебе откланяться, понеже сюда я затем зван, чтоб безъязыкого отца в разговоре с любимым сыном объязычить, а не с тобой споры вести. Но коли на то твоя воля будет, можем снова встретиться и продолжить сию беседу.
— Очень надо! — фыркнул Погожий. — Или у меня важней дела нет, чем языки попусту чесать? Ступай себе мимо, праведник. Нынче твой день. Спас тебя бережет и святой муравейник здешней Троицы.
И так он про святой муравейник небрежно сказал, что Пожарскому поневоле вспомнилось, что осаждавшие монастырь жолнеры Яна Сапеги его презрительно курятником называли. Каждому свое…
— Пойдем, отче, — воспользовавшись случаем, увлек за собой Анания Федька Глотов. — Вон и Сергушка Шемелин рукой нам машет.
— Ну и дела, — проводил их мерклым взглядом Погожий. — Бунташная чернь берется меня поучать! Меня, государева стряпчего, походного воеводу! Дожили, а? Эдак скоро и вовсе на голову сядут… Да ты-то что молчишь, Василей Фомич? Скажи!
— А что тут скажешь? Всякому бы ворону каркать на свою голову, — уклонился от прямого ответа Тырков. — Слова словами, дела делами, — а про себя подумал: «Мы с тобой хоть и воеводы, Исак Семенович, а мыслим в разные стороны. Где уж мне, неродословному сыну боярскому, с человеком боярского списка тягаться? Но и ссориться нам не с руки. Ведь одному делу служим. Не стоит с первого знакомства в претыкания впадать».
— Вот и я так думаю: докаркаются! — одобрительно заключил Погожий. — Однако будем поспешать, Василей Фомич. Что зря время переводить?
Стремянной подвел ему коня. Тырков взметнулся на своего. И, петляя между отрядными становищами, они отправились на Красную гору.
За время осады Троице-Сергиева монастыря жолнеры Яна Сапеги окружили его валом, соорудили на нем полосу укреплений, а внутри поставили острожек и хоромцы для гетмана и его приближенных. В них-то и устроил свою ставку князь Дмитрий Пожарский.
Первым, кого увидел Тырков, переступив порог этих хоромцев, был Федор Годунов. Его длинное лицо с метелкой бороды, освещенное с одного бока, напоминало накладной слепок с вырезами для глаз. Он что-то говорил, обращаясь к человеку, стоящему спиной к двери, но, увидев Тыркова, сбился и умолк. Почувствовав движение у себя за спиной, его собеседник обернулся, скользнул взглядом по Исаку Погожему и, остановив его на Тыркове, исполнился особого внимания.
Тырков понял: это Пожарский. Но и Пожарский догадался, кто перед ним.
— А вот и сибирская наша подспора! — широко улыбнувшись, объявил он. — Коли не ошибаюсь, Василей Фомич, — и, прочитав подтверждение в глазах Тыркова, уверенно продолжил: — Он нам из доброхотного серебра, что в Сибири собрано, в Ярославле копеек наделал и сюда спешным ходом доставил. Что и говорить, добрый взнос. Прошу любить и жаловать!
Показывая, как это следует делать, Пожарский шагнул к Тыркову и крепко обнял его:
— Со встречей, друже. Проходи, располагайся. А мы как раз с твоим попутчиком беседуем. Может, и ты что скажешь.
«Неспроста князь Федора Годунова попутчиком назвал, — следуя за Пожарским к столу, за которым собрались его первые воеводы, мысленно отметил Тырков, — Похоже, между ними кошка пробежала».
Воеводы с готовностью сдвинулись, давая ему и Погожему место.
— По разумению Федора Годунова, нам первыми в ноги князю Дмитрию Трубецкому следует бухнуться, поскольку его казацкие таборы вкупе с полками его бывших соначальников первее нашего собрались, а Троицкие старцы первее нас их возлюбили и до сих пор помощью и благорасположением окрыляют, — вернулся к прерванному разговору Пожарский. — Коли бы мы сразу заодно с ними на ляхов двинулись, а не петляли вкруговую через Ярославль, Москва-де давно за нами была… Старые разговоры да на новый лад. К чему бы это, Федор Алексеевич?
— Не перевирай меня, князь, — вспыхнул Годунов. — Про бухнуться в ноги и речи не было. Я о том пекусь, чтобы ты Трубецкого и его казаков не чурался, а рядом с собой в решающий час по праву их перводанства поставил. Больно глядеть на враждующих братьев, которые не могут своих распрей отложить, пока Московское государство не устроится.
— Послушать тебя, так вина за эти распри прежде всего на нас лежит.
— И на вас! Давай вспомним, Дмитрий Михайлович, как все было. Земская рать в Нижнем Новгороде в помощь ополчению князя Трубецкого со товарищи создалась, но вместо того, чтобы под общий Совет всей земли стать, она свой избрала. Свой!.. Тогда дорога из Нижнего к Москве от польских и литовских людей чиста была, но вы по ней на соединение с подмосковными полками идти на захотели. Разве не так? А к чему было вину враждотворцев и подговорщиков, повинных в смерти Прокопия Ляпунова и прочих бесчинствах, на всех казаков без разбору перекладывать? Зачем их с бунташным войском Ивашки Болотникова равнять? Ведь никто другой, а в первую голову казаки поляков в Кремле и Китай-городе заперли, в страхе и голоде уже который месяц держат. И с троицкими старцами у них с самого начала мир да согласие. Монахи им порох, свинец, корма и одежду шлют, у себя привечают, поскольку не видят в казаках богоотступников и грабителей, зато рвение к защите отечества высоко ставят.
— Вспоминать, так вспоминать, — терпеливо выслушав Годунова, дал ему отповедь Пожарский. — Заслуг у подмосковных казаков никто не отнимал и не отнимает. Со многими из них у нас добрые отношения наладились. Но и беспорядки, разбои, бесчинства, которые они вокруг чинят, нам ни к чему. Однако не это главное. Главное, что вдохновителем того ополчения Прокопий Ляпунов был, а не Трубецкой. После гибели Ляпунова от рук воровских казаков не стало силы, которая бы смогла изгнание ляхов и избрание русского родословного государя по совести устроить. Как себя Трубецкой с Заруцким тогда повели? Один по уступчивости своей, другой по корысти челом лжегосударыне Марине Юрьевне ударили, проча ее малолетнего сына Ивана в царята, и тут же псковскому самозванцу Матюшке присягнули. Как такое возможно, ума не приложу! Вот и пошли мы своим путем, чтобы правое дело в безладице подмосковного войска не утопить. Нелегко нам было праведный дух, заданный в Нижнем Новгороде Кузьмой Минычем, сохранить и с троицкими старцами в полное понимание войти. Ныне, когда Заруцкий со своими людьми в Коломну к панье Маринке и ее мальчонке сбежал, подмосковное поле для ратного дела освободилось. А как у нас отношения с Трубецким сложатся, время покажет. Казацким атаманом, не в чин боярствуя, он в лагере у Тушинского вора стал, хотя прежде на дворян, холопов и посадников из Брянска, Мещевска, Козельска, Медыни и других городов опирался. Ныне их в подмосковных таборах немного осталось. Вот и гадай, справится ли государь-боярин с казацкой вольницей, опорой нам будет или снова в шатания впадет…
Лишь теперь, вникая в доводы то Пожарского, то Годунова, Тырков вдруг понял, что одну победу предводитель нижегородского ополчения уже одержал. Собрав вместе с Мининым земскую рать, он не бросился очертя голову дерзать на кровь вместе с Заруцким и Трубецким, а напротив, решил с ними размежеваться. Этого требовали обстоятельства. Как прирожденный полководец Пожарский понял, что только единоначалие, только ясно поставленная цель, только порядок и хорошая обеспеченность в полках — залог успеха. Вот и увел он свое войско в Ярославль, чтобы создать там оплот новой государской власти, обеспечить себе тылы и поддержку Троице-Сергиевой обители. И это ему как нельзя лучше удалось.
— Превратное мнение у тебя о Трубецком сложилось, Дмитрий Михайлович, — возбудился Годунов. — Я его с другой стороны знаю…
Однако дальнейшие препирания Пожарский решительно пресек:
— Что мы ходим вокруг да около? Говори прямо, Федор Алексеевич, что предлагаешь? Воеводы, чай, не нас с тобой слушать собрались. У них и без того дел хватает.
— Могу и прямо, — смешался Годунов. — Не обессудь, если мое предложение не к месту придется. Очень уж ты ко мне нынче придирчив. А я в посредники хотел себя предложить. И заметь: не в урон тебе или князю Трубецкому, а к общей пользе. У меня к нему подходы есть. Со мной готовы старцы Пимен и Малахей Ржевитин отправиться да племянник троицкого келаря, доблестный дворянин Андрей Палицын. Ну и ты своих доверенных людей дашь. Пойми и доверься, Дмитрий Михайлович. Видит Бог, не пожалеешь.
— Не я один такие дела решаю, — отрубил Пожарский. — Давай сподвижников моих спросим. Как они скажут, так и будет, — и обвел вопрошающим взглядом собравшихся: — Высказывайтесь, други! Либо мы это предложение, не мешкая, принимаем, либо откладываем его до подходящего случая, а Федора Годунова за желание поспособствовать нам в столь ответственном и многотрудном деле сердечно благодарим.
— Откладываем! — послышались дружные возгласы. — Благодарим!
— Вот тебе и ответ, — заключил Пожарский. — Не удивляйся, Федор Алексеевич. Схожее предложение мы уже у себя на Совете обсуждали и не раз, но решили пока с переговорами погодить. Очень уж казаки народ ненадежный. Да и князь Трубецкой тоже. Воеводы опасаются ему и его людям на слово верить. Береженого Бог бережет. А теперь ступай.
«Куда голова клонилась, туда и заломилась, — проводив Годунова взглядом, не без злорадства подумал Тырков. — Быстро тебя князь Пожарский раскусил. Хорошо бы и дальше нам с тобой врозь идти…».
Едва за Годуновым закрылась дверь, сосед Тыркова, крепко сбитый, немолодых уже лет воевода Иван Туренин засомневался:
— Круто ты с ним обошелся, Дмитрий Михайлович. Может, помягче надо было?
— Как это? — удивился Пожарский.
— С Трубецким все одно договариваться придется. Вон и соборные старцы на то напирают.
— Твоя правда, Василий Иванович: договариваться придется, — подтвердил Пожарский. — Но на наших условиях! Трубецкой со своими таборами где стоит? У Яузских ворот и на Воронцовском поле. А Ходкевича с которой стороны ждать? С Арбатской. Какой же он нам в таком разе пособник? Самим это направление надо заступать — и как можно скорее. Дмитриев с Левашовым и князь Лопата от Петровских до Никитских ворот окаянных ляхов и немцев облегли. Пора третью дружину к Москве отрядить. Завтра же! Чтобы она в Чертолье крепкой заставой встала. И не только у Чертольских ворот, но и у ручья Черторыя.
— Тамошние овраги будто черт нарыл, — пошутил кто-то.
— А нам черт не страшен. Так я говорю, Василий Иванович?
— Вроде так, — пожал плечами сосед Тыркова.
— Ну а раз так, то в Чертолье мы князя Туренина и пошлем, — подвел черту Пожарский. — Собирайся, Василий Иванович. Будет звать к себе в таборы Трубецкой, не поддавайся. Пусть видит, что мы сами с усами.
Тырков внимательно приглядывался к членам Совета, запоминая, кто есть кто, впитывая новые для себя сведения, радуясь, что сходу вошел в круг близких к Пожарскому людей.
В довершение ко всему князь его у себя на вечернюю трапезу оставил, чтобы расспросить о большом сибирском воеводе Иване Катыреве, его дьяке Нечае Федорове и о многом другом, с Сибирью и дорогой к Троице связанном. Такой уж день нынче выдался — день Успенского перелома, мирской складчины, когда на пир собираются родные и соседи в честь торжества Хлебного Спаса. Просьбу Тыркова о переводе Кирилы Федорова под его начало Пожарский тут же охотно выполнил. Одно огорчило: так и не удалось Тыркову увидеть в этот день ближайшего сподвижника Пожарского, Кузьму Минина — он в это время с настоятелем Троице-Сергиевой обители Дионисием молебны к победе русского оружия пел.
К себе на стан Тырков вернулся, когда на небе зажглись первые звезды. Будто отражения этих звезд, полыхали повсюду бесчисленные костры. Возле них текли неспешные разговоры, звучали песни, а в котлах весело побулькивало запашистое варево.
«Ох и широко же Климентьевское поле! — радовался Тырков. — Но Троицкое куда шире. Оно всю Русскую землю охватывает, путеводным созвездием тьму страстей людских прожигает, верой и братством души полнит. Вот оно, православное братство, — со всех концов Московского государства собралось. Такую веру и такое братство никакой силе не пересилить».
Спешившись, Тырков с конем в поводу двинулся мимо костров своего стана к воеводскому шатру. Завидев его, дружинники радушно улыбались, приглашали посумерничать вместе, но, перекинувшись с ними веселым словом, Тырков шел дальше. Так и дошагал до костра, возле которого что-то баял одноглазый старец Ананий-скудельник. Рядом с ним примостились Сергушка Шемелин с отцом, Федька Глотов, Микеша Вестимов, Михалка Смывалов и чуть не все ермачата. Они так увлеклись, что на появление Тыркова и внимания не обратили. Либо вид сделали, что не обращают.
Прислушавшись, Тырков понял, что Ананий сказывает о чуде-чудном, которое в деревнях, стоящих у перекольских могилок возле рек Вожи и Быстрицы, происходит. Не раньше и не позже, а именно на одиннадцатый день августа, как раз между Яблочным и Хлебным Спасом, там на ближних болотинах вдруг раздается богатырский свист. Потом звучит ратная песня. Следом на вожские и быстрицкие улицы выносится белый красавец конь, оземь копытом бьет, туда-сюда носится. Тут-то и начинают из-под Матери-сырой-земли покойники в могилках плакать. У коня в ответ тоже слезы льются. Чей это конь, о чем плачет, зачем бегает, никто не знает. Так до темной ночи и носится. А когда небо звездами расцветится, над перикольскими могилками появляются блуждающие огоньки. И сразу видно становится, кто на дне болота или в могилках лежит. По виду — люди обычные, рязанские, а по оружию и ранам — народные ратники. Нашлись смельчаки-бывальцы, решили того коня поймать. Но не тут-то было. Не дается он в руки. Его даже самый буйный ветер не догонит — до того он скор. Вот и прозвали его Догони-Ветер…
Тыркову от этого сказа вдруг зябко стало. Он вспомнил свое видение Троицкого поля и ратного братства русских людей. В нем тоже небесные огни с земными соединились, но это было окрыляющее видение. А тут могилки, на дне которых лежат народные ратники, неуловимый конь, безутешный плач… Неужели это предзнаменование того, чем кончится схватка с ляхами за Москву?
«Ну, конечно, она бескровной не будет, — успокоил себя Тырков. — Многие за веру и отечество в землю лягут. Но гибель одних спасет и укрепит жизнь других. За Русь и голову сложить не жалко».
А захваченный повествованием Анания Сергушка Шемелин спросил:
— Неужели, отче, никто и досе не знает, что за ратники под теми болотами лежат?
Его отец на это слюной забулькал, руками замахал, показывая: знают! Потом сделал знак Ананию: расскажи!
— На это другая быль-побывальщина есть, — с готовностью откликнулся тот. — Люди, сведущие в старине, сказывают, что в задавние времена на месте тех перекольских могилок и болотища за трое суток до Успения Пресвятой Богородицы да за четверо суток спустя после Спаса-Преображения русские христианские князья со злыми татарскими бусурманами бились. Сколько это побоище длилось, бог весть. Кровь с обеих сторон ручьями лилась. И вот начали ломить-одолевать бусурмане силу русскую. Но тут, откуда ни возьмись, взялся на белом коне богатырь облика нездешнего, вида незнаемого, а за ним — сотня молодецкая. Начал бить-колоть богатырь злое татаровье — направо и налево рубал, пока их чуть всех не добил. И добил бы всех, да тут подоспел окаянный Батый. Это он богатыря до смерти свалил, а коня его загнал в болотину. С той поры белый конь своего наездника ищет, а его удалая сотня поет и свищет — авось откликнется их предводитель, снова в бой своих молодцев поведет.
— Плохой конец у твоей побывальщины, отче, — горестно вздохнул Сергушка Шемелин, — Надо было богатырю найтись.
— А он и нашелся, дитятко. Только в другом облике.
— В каком?
Семен Шемелин опять забулькал, горделиво выпятил грудь, по-казацки заломил монашеский колпак и ощерил рот в молодецкой улыбке.
— Твой родитель говорит, что в облике Ивана Болотникова, — пояснил Ананий. — Только Болотников не против татаровей бился, а против бояр, огражденных ныне в Москве польскими саблями. За то бился, чтоб боярское время быстрей кончилось и для всех справедливая жизнь настала.
— А кто такой Болотников?
— А вот послушай…
Тырков хотел было оборвать Анания, но остановил себя.
«Пусть рассказывает, — решил он, отступая с конем в темноту. — У каждого в душе свой богатырь, — и вздохнул: — Эх, кабы соединить Пожарского с Болотниковым… Но это вряд ли возможно. Разные они люди».
Великое дело — случай
На день святых мучеников Флора и Лавра [78], чтимых в народе как покровители коней, солнце пробудилось с явным запозданием, вот и пришлось сурначам [79] и барабанщикам бить зарю еще до того, как оно обозначилось на восточном краешке небосклона. И сразу поля и холмы вокруг Троице-Сергиева монастыря ожили, наполнились голосами, движением, веселым переплясом костров, звяканьем посуды, хлопаньем тяжелых холстин. Это ополченцы, подхарчившись на дорогу, принялись сворачивать шатры и наметы, укладывать их на возы, готовясь к предстоящему походу.
Пока Сергушка Шемелин помогал товарищам собирать пожитки, Шемелин-старший искупал его коня в речке Кончуре, протекающей по дну Сазонова оврага, и, вернувшись на стан, заплел ему в гриву десятка полтора разноцветных лент.
— Это еще что за такое? — увидев их, запоздало возроптал Сергушка. — У меня, чай, жеребец, а не какой-нибудь пырин [80]. Я на такое чучело не сяду! — и хотел выдернуть из гривы коня красную ленту, но отец не дал. Перехватив руку Сергушки, он строго сдвинул брови и покачал головой, всем своим видом показывая: остынь, сынок!
— Да ты что, тятя, не с того ума встал? — обиделся Сергушка. — В срам меня ввести хочешь? А ну отпусти!
В ответ Шемелин-старший, изловчившись, кривобоко подпрыгнул и, ухватив строптивое чадо за ухо, потянул к земле. Во рту у него пузырился родительский гнев. И Сергушка тотчас присмирел, виновато согнулся, позволяя калечному отцу строжиться над собой.
— Ананий! — жалобно позвал он, осторожно высвобождая из цепких пальцев отца заполыхавшее огнем ухо. — Хоть бы ты объяснил, чего это тятька на меня взъелся!
Но Анания-скудельника рядом не оказалось. Вместо него на просьбу Сергушки откликнулся один из зюздинских мужиков-пермичей.
— Зря это ты, паробок, на отца споришься, — приблизился он к Шемелиным. — Ленты жеребцу вплел, ну и што? Ноне у нас какой праздник? — Лошадиный! На день Флора и Лавра сыздавна принято лошадушкам отдых давать, холить их, молебствия и водосвятия творить, защиты от падежа у святых угодников прошать. А какой у них ноне отдых? Опять в дорогу. Вези, тужься, копыта бей. Вот и решил родитель твой хоть в малом от прежних обычаев не отступать. Искупал он твоего бахмата, почистил да и нарядил на прощанье. А ты говоришь: пырин. Сразу видно: молодо-зелено. Ну да ничего: поживешь — созреешь. Небось не по меды, а по ляхи идем. Ежели подумать, тоже на праздник.
Слушая зюздинца, Семен Шемелин согласно кивал, а Сергушка глазами растерянно хлопал. Потом от полноты чувств носом зашмыгал:
— Извиняй, тятька. Не знавши я… Не подумавши… А за ленты спасибую. Я с ними и назад за тобой вернусь. Дай только ляхам хвосты накрутить. Уже недолго осталось. Праздничать, так праздничать. А?
Но тут в Троице-Сергиевом монастыре зазвонили колокола и взоры ополченцев оборотились к золотым куполам, парящим над белой зубчатой стеной. Волнами покатились возгласы:
— Расступись, миряне! Сам Дионисий к нам с честным крестом и святой водой идет!
— Слава Дионисию! Благословясь, не грех на великое дело посягнуть!
— С нами Бог и все святые его!
— С Бога начинай, а Господом кончай!
И тотчас земское воинство расступилось, давая дорогу настоятелю Троице-Сергиевой обители Дионисию, соборным старцам и сопровождающей их монастырской братии. По широкому мосту они перешли через речку Кончуру и между рыбных прудов торжественно поднялись на склон горы Волкуши, возле которой и начинается Московский тракт. Таинственными красками заполыхали иконописные лики Живоначальной Троицы Рублевского списка, Пресвятой Богородицы, почитаемой еще и как Госпожа полевых злаков, святых чудотворцев Сергия Радонежского и Никона, заступника ото всех бед и несчастий Николы Чудотворца, ну и конечно, святых мучеников Флора и Лавра, изображенных, по старому обычаю, с коньми в отдалении.
Разбивая стан возле Волкуши, ратники Василея Тыркова и помыслить не могли, что, придя к Дому Святой Троицы последними, всего через два дня они во челе уходящего войска окажутся и рядом с собой не только архимандрита Дионисия с соборными старцами сподобятся лицезреть, но и прямых своих начальников во главе с князем Пожарским и зачинателем нижегородского ополчения Кузьмой Мининым.
Роста владыка Дионисий среднего, лицом прост, летами не стар, но уже густо украшен сединами. Не довелось ему с троицкими старцами тяготы и потери осадного времени разделить — в то время он был настоятелем Богородицкого монастыря в Старице, зато после ухода войска Яна Сапеги свое имя он многими спасительными делами возвеличил. Это его стараниями в короткое время вокруг обители были построены десятки домов и лечебниц для раненых, искалеченных, обожженных и истерзанных, избы на странноприимство всякого чина людям, приюты для сирот, убогих и бездомных, для женщин и сбившихся с круга мужчин. Женщины обшивали и обстирывали все это многострадальное множество, а мужчины собирали по дорогам и селам умирающих, хоронили мертвых. Благодаря их горьким стараниям Радонежье заново стало обустраиваться, залечивать раны. А сколько Дионисий сделал для того, чтобы призыв покойного патриарха Гермогена «мужайтесь и вооружайтесь!» стал слышен в самых отдаленных уголках Руси, чтобы сначала под Москвой, а затем в Нижнем Новгороде начали собираться народные ополчения! Теперь владыка все свои недюжинные силы полагает на то, чтобы в решающий час перед лицом общего врага эти ополчения соединить. А соединителей народ любит. Вон как замерли ратники в ожидании пастырского слова.
Разом охватив острым взором разлившееся у его ног людское море, Дионисий громогласно возрек:
— Отпевши молебен у святых чудотворцев Сергия и Никона, пришед я сюда, православные христиане, благословить вас на дело великое. Приспела пора положить конец междоусобной брани, кою навлекли на Российское государство лжехристи-самозванцы и алчные управители. Пора погнать с Русской земли хищников нашего спасения — польских и литовских людей, который год чинящих ей разорение и богохульство. Возложите упование на силу креста Господня и покажите подвиг свой! Знайте: нет теперь силы сильнее могучести вашей, понеже она изо всех городов и весей по капле в единый кулак собралась, и не будет ей удержу в справедливом гневе. Помните: нет чести превыше, чем сохранить веру и отечество свое, жить по собственному уставу, на подражательство от иноземцев не прельщаясь, окаянству супостатов не потворствуя. Смилуйтесь: дайте поскорее долгожданным государем овдовевшую землю укрепить и украсить и тем злую Смуту всем миром избыть. Благословляю вас, христолюбцы, мужи-исполины, сыны отечества, долг свой до конца исполнить! А ежели и случится в жестоком бою убиту быть, то верьте: не умрете, но живы будете вовеки! С Богом, родимые!
После таких душеподъемных слов разлилась вокруг единящая тишина. Сопровождаемый этой тишиной, Дионисий сошел с горы Волкуши и окропил святой водой сперва старосту земского ополчения Кузьму Минина, затем первого ратного воеводу — князя Дмитрия Пожарского с товарищами и сыновьями. Следом неостановимой чередой потекли к нему жаждущие святого напутствия ополченцы. Каждому хотелось на путь ратного стяжания под его осеняющей рукой ступить.
Обняв на прощание отца и Анания-скудельника, встроился в этот поток и Сергушка Шемелин. Ленты, вплетенные в гриву его коня, напоминали венок, пущенный по воде. На него и не захочешь, а внимание обратишь.
— Люби тебя Бог! — обласкав его взглядом, пожелал Сергушке Дионисий.
Ну как после этого не возгордиться? Ведь сам владыка на него внимание обратил. Все это видели и слышали!
Однако отойдя от Волкуши на треть версты, Сергушка сообразил, что далеко не все. Хуже того, не его содружинники. На радостях он к другому отряду прибился. Василей Тырков, при котором Сергушке положено быть, успел где-то впереди затеряться. Хоть и прощает он своему стремянному подобные вольности, а все же лучше его терпение не испытывать.
Свернув на обочину, Сергушка легко взметнулся на коня и по заросшему бурьяном придорожью пустился догонять свою дружину.
Давно замечено: коли на закате небо обоймут заревые облака, на другой день быть сильному ветру. Так оно и случилось. Но не сразу. Сперва ветер игриво крутился на Климентьевом поле, по-щенячьи подпрыгивая и повизгивая, теребя подолы кафтанов, прячась в Глиняном, Мишутином и Сазоновом оврагах, чтобы затем, выбравшись из них, вспушить золу под стволами опаленных огнем деревьев в Благовещенской и Терентьевской рощах, просквозить мимо монастыря в северном направлении, а потом, крадучись, вернуться с противоположной стороны. Однако с каждым часом ветер становился все сильней и сильней, и дул он не в спину, а навстречу земской рати. В народе такой ветер лобачом или противнем называют.
— Ишь, как разгулялся паламошный, — отворачиваясь от него, чертыхались ополченцы. — Будто леший из преисподней вылез. Не к добру это. На таком хорошо только блох ловить.
— Не каркай, ворона, а то и вправду беду накличешь.
— Каркай-не каркай, а к Москве против такого ветра лучше не ходить. Плохая примета.
— Не по приметам живи, по заветам. Их тебе владыка Дионисий только что изъяснил. Видать, у тебя сердце глухое, ежели такого пустяка пугаешься.
— Не глуше твоего. Шагай, наставник…
Вот Сергушке и вспомнилось, что такой же лобач со стороны Москвы в лицо сибирской дружине задул, когда она из Тобольска в Ярославль выступила. Но Михалка Смывалов и Микеша Вестимов задорной песней его вспять повернули. А пелось в той песне о сапогах-скороходах, которые из конца в конец света ходят-похаживают, до́бра молодца к красной де́вице носят-понашивают. Мо́лодец-то гол как сокол, а у де́вицы отец разбогат-купец. Затребовал он выкуп за дочь, да не сладкими пирогами, а скороходными сапогами. Что делать? Как быть? Неповадно к любоньке на босу ногу ходить. Думал-подумал мо́лодец, да и говорит купцу: «Где двое целуются, третий не лезь! Любовь не пожар, а загорится — не потушишь!». Потом он де́вицу хвать-похвать — и поминай, как звали.
Но больше всего запомнился Сергушке припев той песни: «Как девице пасть, так и ветру пропасть». Не понятно, зато красиво. Песенный за́говор да и только. Вот и начал он его сначала про себя повторять, а потом и в голос.
Заоглядывались на него ополченцы: чего-де это парень чудит? Вон какой разбойный ветрила поднялся. И без песен рот тесен, а запоешь — весь раздерешь. Но тут далеко впереди затеплилась другая песня. Ветер глушил ее, рвал в клочья, но по отдельным словам можно было понять, что говорится в ней о дороге, которая за красным солнышком катится, под тучами прячется, дождями умывается, ветром буйным утирается, и нет ей ни конца ни края. Не разобрать, кто поет. Если Михалка и Микеша, то к ним и торопиться надо.
Под песню, даже такую зыбкую, легче шагается. Вот пешцы и взбодрились, перестали чертыхаться, а иные и сами подпевать начали. Еще издали Сергушка заметил среди них одинокого всадника. Казалось, он не сидит, а торчит в седле, ничего вокруг не видя и не слыша. Поводья опустил. От ветра не уклоняется. Безрукавый плащ-накидыш у него за плечами, как рванье на огородном пугале полощется.
«Да это же Кирила Федоров, — поравнявшись с ним, понял Сергушка. — Веселенькое дело: еще вчера он приказным дьяком был, а нынче младшим воеводой к Тыркову назначен. Другие из его братии всю жизнь в чернилах готовы купаться, лишь бы служба ни шатко ни валко, зато прибыльно шла, а он в ратные послужильцы напросился. Подходящий человек».
Не обнаружив рядом ни одного знакомого, Сергушка вопросительно глянул на Федорова. Ведь если он здесь, то и сибирская дружина здесь должна быть. В ответ Федоров скользнул по нему невидящим взглядом и снова погрузился в свои мысли.
«Странный он нынче какой-то, — удивился Сергушка. — Будто меня тут и вовсе нет».
Откуда ему было знать, что на Кирилу в тотчас слагательное вдохновение нашло? Обо всем на свете забыв, он подбирал слова, которые складывались в такие вот строки:
«Не клонись под ветром, головушка. Пусть он сам тебе в ноги поклонится. Пусть он, оземь грудью ударясь, обернется твоим конем.
И помчится Русь, и покатится против ляхов грозной лавиною, чтобы землю очистить Русскую от налезшей в Кремль орды…».
Сообразив, что Кириле Федорову сейчас не до него, Сергушка вновь выехал на обочину. Только теперь он заметил, что дышать стало легче. Это ветер понемногу начал менять направление. Теперь он налетал сбоку, а то и в спину подталкивал.
— Эй, удалец, заворачивай к нам! — вдруг послышалось с дороги.
Глянул Сергушка, а это Нефед Минин с княжатами Пожарскими на верхах посреди сопровождающего их отрядца трусят.
Великое дело — случай. Лишь сегодня утром из перешептываний ополченцев Сергушка узнал, кто они такие. Нефед у него интереса не вызвал, зато о княжатах он подумал: «Моих лет парнишки. Могли бы приятелями стать. Но это вряд ли. Не ровня я им, чтоб дружиться».
И вот на тебе, пути их пересеклись.
Подстроив своего жеребца к коню Нефеда, молодецки сложенный Сергушка как можно небрежней уронил:
— Ну завернул. Что дальше?
Нефед на голову ниже его, но телом тоже крепок — эдакий мужичок-боровичок. Хитровато улыбаясь, он ответил:
— Хотим на твоего конька полюбоваться, детинушка. С чего это ты его так разневестил?
— Разве непонятно?
— Мне-то понятно. Ты вот им объясни, — мотнул головой в сторону Петра и Федора Пожарских Нефед и, отгородив рот от порывов ветра ладонью, объяснил: — У них в Мугреево на Флора и Лавра лошадей украшать не принято. Там в этот день не сеют, не обозничают, а только сладкие хлебы пекут. А на них для утехи конские копыта выдавливают. Вот и весь праздник.
— И правильно делают! — одобрил мугреевцев Сергушка. — Украшать — дело второе, а первое — роздых лошадям дать. Поселянам тоже хорошо — со сладким-то печеньем.
Такой ответ княжатам понравился.
— Но ведь ты один изо всего войска коню ленты заплел, — перекрикивая ветер, включился в разговор Петр Пожарский, — Другие годами тебя постарее, а ведь не догадались. Может, объяснишь почему?
— Врать не буду, — признался Сергушка. — Это тятькиных рук дело. Откуда мне старину в таких подробностях знать? А он помнит.
— И кто же у тебя отец?
— Казак старой ермаковской сотни. Ныне-то он при Троицком монастыре обретается, а раньше ого-го-го…
— Ермаковской? — напрягая голос, переспросил Федор. — Уж не тот ли это атаман Ермак, что Сибирь при царе Иоанне взял?
— Он самый! — не без гордости подтвердил Сергушка. — Не ты один удивляешься, княжич, другие тоже. Думают, поспешников Ермака давно и в живых нет. Как бы не так! Целая сотня! Но все они за Камнем остались. Годы не те, чтоб за тыщи верст на ляхов бегать. А нам что? Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь. Такая порода.
— Порода и впрямь молодецкая, — согласился Нефед, однако тут же срезал Сергушку: — Но очень уж хвастовитая, — потом, как ни в чем не бывало, полюбопытствовал: — И много вас тут таких породистых?
— Под началом у Афони Черкасова десяток, да он сам, да я, — сделал вид, что не заметил его подковырки Сергушка. — Двенадцать получается.
— Любопытно бы на остальных глянуть.
— В чем же дело? Айда, покажу. У нас и хоругвь ермаковская с собой. На ней Дмитрий Солунский и архангел Михаил писаны. Не хуже, чем хоругвь нижегородского ополчения со Спасом. Вот увидите!
— Айда! — загорелся Федор. — Зачем зря время терять?
Петр заколебался.
Заметив это, Нефед на правах старшего принял решение:
— Успеется. Вот будет привал, там и поглядим, — и перевел разговор на другое: — А скажи, удалец, почему ты себя отдельно от других ермаковских внучат ставишь?
— Так я ж у воеводы Василея Тыркова в стремянных хожу, — удивился его непонятливости тот. — Он — голова сибирской дружины. Слыхали про такую?
— Слыхали, — оживился Нефед. — Это та, что копеек из сибирского серебра в Ярославле наделала?
— Точно.
— Батюшка о ней похвально отзывался. Стало быть, и впрямь посмотреть стоит.
— Когда?
— Нынче и жди! — поспешил с ответом Федор Пожарский. — Не позже вечера.
— Тогда бывайте, — заметив, что их обгоняет пробудившийся от сторонних мыслей Кирила Федоров, заторопился Сергушка. — До скорой встречи!
Он сразу сообразил, что лучше ему на глаза Тыркову со вторым воеводой явиться, чем одному. Вроде как и не терялся, а по делам службы при нем был. Судя по всему, Федоров тоже в пути ворон ловил, потому и отстал от дружины.
— Эй! — остановил Сергушку Федор Пожарский. — А как звать-то тебя?
— Ежели сполна, то Семенова сына Шемелина Серьгой, — оборотился к нему тот. — Но я больше к Сергушке привык. Так вроде задушевней.
— А меня Федей… А это мой брат Петр. Ну и Нефед Козьмин Минин с нами. Не смотри, что он такой каверзный. Это на словах только. На самом-то деле душа-человек. Так я говорю, Нефед?
— Тебе видней, княжич. Знают про то большие, у кого бороды пошире. А нас, простых, и Бог простит, — напустил на себя скромности Минин-младший. — Ты тоже бывай, стремянной, да нас не забывай, наведывайся на досуге…
На этот раз, увидев возле себя Сергушку, Кирила Федоров полюбопытствовал:
— Это с кем ты лясы точил, Шемелин?
— Как с кем? С княжичами Пожарскими да с сынчишкой Минина! — так, будто это для него обычное дело, ответил Сергушка. — Пригласил их у нас в дружине побывать, с хлопцами Афони Черкасова познакомиться. Молодых к молодым тянет. Так ведь?
— А они что? — недоверчиво глянул на него Кирила.
— Обещались быть. Как я им про хоругвь нашу и про другое разное сказал, у них аж глаза загорелись. У-у-у-еее! Любопытные страсть как. Жди, говорят, не позжее вечера будем. Ей-богу не вру!
— Везучий ты, Сергушка. Куда ни явишься, всюду свой, — засмеялся Кирила и пустил своего коня рысью.
Он и сам не знал, что его развеселило: то ли простодушные завирания Сергушки Шемелина, то ли шалости ветра, а, может, пересуды ополченцев, верящих в приметы. Послушать их, так земская рать на гибель шла, когда ветер ей навстречу дул, а теперь, по их разумению, впереди победа замаячила. И все потому, что ветер переменился, упряжным стал. Теперь он подгонял ополченцев к Москве, и на него можно было опереться, силы для решающего сражения поберечь.
«Но перемену ветра и так можно истолковать, что под Москвой нас ждет сначала грозная битва с ляхами, а уж потом только они вспять обратятся, — вдруг пришло в голову Кириле. — Каждому хочется в те приметы верить, которые удачу сулят, силу духа поднимают».
В это время его снова догнал Сергушка Шемелин. Посчитав, что их разговор не окочен, он обидчиво выпалил:
— Коли я везучий, как ты говоришь, Кирила Нечаевич, так и не смейся! Нешто я забавное что-то сказал?
— Да нет, Сергушка. Просто я байку не к месту вспомнил. Речь в ней о некоем мужаке идет. Видел он во сне кисель, да ложки не было. Лег спать с ложкой, не видел киселя… До вечера недолго осталось. Подождем. Но сдается мне: что с ветра пришло, то на ветер и уйдет.
— А ежели и ложка будет, и кисель, тогда как?
Договорить им не дал Федька Глотов.
— Где тебя черти носят, нетудыка? — налетел он на Сергушку. — Живо скачи к тому вон леску! Тырков туда только что отъехал, — и уже помягче сообщил Кириле: — А тебя, воевода, монах спрашивал. Тот, который троицкого келаря сопровождает. Да вон и он, легок на помине.
Кирила глянул в указанном направлении. Так и есть: это брат Иванец ему рукой машет. Наконец-то они снова рядом — Кирила под началом Минина и Пожарского, Иванец под началом Авраамия Палицына, а вместе они под началом Христа Спасителя и вновь окрепшего русского братства.
Однако в тот вечер братья Пожарские и Нефед Минин на стане сибирской дружины так и не появились. Кирила Федоров этого не заметил, потому как Иванец его к Авраамию Палицыну повидаться увел, а Сергушка очень даже расстроился. Ну кому охота в глазах товарищей болтуном оказаться? Ведь о встрече с сыновьями предводителей ополчения он не только Кириле Федорову, но и Федьке Глотову, ермачатам и многим другим сослужильцам успел поведать.
«Вот и верь людям после этого, — долго не мог уснуть Сергушка. — А еще княжичи… Обещания давали, как на гуслях играли, а до дела дошло, так и балалайки не слыхать. Эх-ма! Кабы знать, что слова у них на воде писаны, мимо проехал бы».
Весь следующий день он старался ни с кем не разговаривать, а если приходилось, делал вид, что куда-то спешит. Но в душе его продолжала теплиться надежда на случай, который вновь сведет его с Пожарскими или с Нефедом. Если нет, придется самому к ним пути искать. Ведь Нефед ясно сказал: «не забывай, наведывайся на досуге…»
К тому времени, когда впереди показались зыбкие очертания Москвы, солнце стало опускаться за окаем. Половину неба оно окрасило алыми сполохами, другая так и осталась затянутой прозрачными облаками с золотистой опушкой. До царь-града оставалось не более пяти верст.
Сергушка видел, как в очередной раз к князю Пожарскому явились посланцы Дмитрия Трубецкого — звать ополчение к себе в Замоскворечье. Вот и велел Пожарский поставить ночлеги на берегу Яузы, но как можно дальше от Яузских ворот, где начинались укрепления подмосковных таборов. Не для того он сюда через Ярославль земскую рать вел, чтобы с ними ее за здорово живешь смешивать.
Уже затемно возле костров сибирской дружины раздался оклик:
— Эй, Сергушка, отзовись!
Сергушка сразу понял, что кричит Федор Пожарский.
— Здесь я! — шумнул он в ответ и поспешил на зов. — Иду!
Рядом с дозорным Егоркой Сиротой его дожидались княжичи, Нефед Минин и еще несколько человек. Лица их смазывала темнота.
— А это кто такие? — для порядка спросил Сергушка.
— Чудо-юдо, мосальская губа, — послышалось в ответ.
Да это же голос князя Пожарского!
Сергушка на миг растерялся, однако, быстро справившись с собой, отшутился:
— Чуде-юде добро пожаловать, а мосальской губе от ворот поворот.
— Что так?
— Сами губасты.
Находчивость Сергушки Пожарскому понравилась.
— А ты молодец, за словом в карман не лезешь, — похвалил он Шемелина. — То-то Федор второй день мне про внучат Ермака и его хоругвь твердит. Разохотил встретиться, да вчера не получилось. Как думаешь, еще не поздно?
— Да вроде нет. Мы все тут, как на ладони, князь. Твое внимание нам в честь. Позволь только воеводу упредить.
— Уже упредил, — дал о себе знать подоспевший Тырков.
— Где стремянной появится, там и воеводу жди, — весело глянул на него Пожарский, но тут же сделался серьезным: — Да ты не заботься, Василей Фомич. Мы ведь не об одной службе сыты бываем. Вот и завернули к тебе на огонек. Попросту. Без затей. Где у вас тут ермаковский десяток? Веди…
С той же легкостью Пожарский разговорился с казаками Афанасия Черкасова. Об отцах расспросил, о дальней дороге, о настроении. К слову вспомнил, как в детстве они с младшим братом Васюшей затеяли игру в сибирское взятие. Ермаком выпало быть Васюше, ханом Кучумом — Дмитрию, а речушку Лух они вообразили могучим Иртышом. Заспорили, каким оружием биться. Решили, что лучше всего молодой крапивой. Сказано — сделано. Набрали каждый себе войско из деревенских ребятишек, запаслись жгучими вениками, разделись, чтобы крапива лучше прилипала, и устроили иртышское побоище. Вот потеха была! Неделю потом тело с ног до головы горело.
— А у меня пес Кучумка был, — едва дождавшись, когда Пожарский умолкнет, возбудился Хватка Васильев. — Чужих кур давил, а своих — ни-ни. Хитрый, зараза! А все равно в медвежий капкан попался.
— Это что, — фыркнул Томилка Ерофеев. — Вот у моего батяни случай вышел…
И потекли истории, одна зажигательней другой. У костра так тесно стало, что передним пришлось чуть ли не к полыхающим углям сдвинуться.
А желающие послушать Пожарского все прибывали и прибывали. Подоспел и Кирила Федоров. Сначала он жадно ловил все, о чем говорилось у костра, но мало-помалу ушел в себя. В его душе стали рождаться словесные образы. Он подбирал для них нужные не только по смыслу, но и по звучанию слова, переставлял их, отсекал или находил более точные, укладывал мысленно в мерные протяжки, а потом повторял, чтобы лучше запомнить.
Первая строка сложилась сама собой. Она подсказала вторую, вторая — третью. Так и пошло:
В ночи полыхает костер, но пламя его не шелохнется. Это ветры давних времен огонь подпирают. Искры летят, но по пути гаснут. Тысячи звезд горят, но ни одна не светит. А тишина вокруг как при Сотворении мира. И слышится в ней эхо былых сражений.
Грозились псы-рыцари пленить Новгородскую землю, но разбил на Неве и у Пскова их князь Александр, лед под ратью железной на озере Чудском обрушил, чтоб запомнили недруги: «Бог не в силе, но в правде».
А с Куликова поля дует донской ветер. Рубится там с ханом Мамаем князь Дмитрий. Вместе с ним в облике инока Пересвета бьется насмерть святой чудотворец Сергий. Льется кровь, как вода, но из нее вырастают травы, люди, любовь к своей земле ненаглядной. Не оскудела она и не оскудеет, поколе сильна еще русская воля и верность.
Много ветров на свете. Три ханства они привели под высокую царскую руку — Казанское, Астраханское и Сибирское. Третье само стало за спину Москвы, но бухарец Кучум захватил его вероломно. И тогда атаман Ермак через Земной пояс и дождь стрел, через лишения и смерть дружину свою провел, чтобы восстановить попранное, расширить и укрепить Русь. Память о нем не меркнет. Дело его живет. Готовы дерзать на смерть против незваных иноземцев сыны его товарищей.
Сошлись в чистом поле ветры. Сошлись времена и судьбы. Горит костер, вздымая высокое пламя. И кажется, Смуты уже нет. И кажется, мир полон красоты и дружбы. Но завтра нам предстоит жестокая битва…
Неожиданно лица беседчиков сделались серьезными. Это герой дня Сергушка Шемелин спросил у Пожарского:
— А скоро ли с гетманом Ходкевичем схлестнемся? Пора показать им кузькину мать.
— Ходкевича лихим наскоком не возьмешь, — остудил его пыл Пожарский. — За плечами у него много громких побед, а главное — опыт, смекалка, храбрость. Одолеть его будет непросто, но я верю: одолеем. Нынче он, как и мы, на подходе к Москве. Наша забота: дорогу ему заступить, чтобы он с кремлевскими ляхами не соединился. Для этого мы завтра же у Арбатских ворот острожек срубим и рвом окопаемся. Ко всему будьте готовы: и строить, и воевать… А теперь на отдых пора. Рад был с вами посумерничать. Время позднее, а вставать ни свет ни заря…
Так и случилось. Пожарский велел поднять ополчение раньше обычного. И потянулось к Москве разноликое воинство, на ходу досматривая неспокойные сны.
Неподалеку от Сретенского монастыря навстречу предводителям земской рати выехал князь Дмитрий Трубецкой. Его сопровождал отряд парадно одетых дворян из подмосковного ополчения. Уязвленный нежеланием нижегородцев занять брошенные казаками Ивана Заруцкого избы, землянки и шалаши в Яузском остроге и таким образом влиться в его войско, Трубецкой сам решил перебеседовать с Пожарским. Причем с глазу на глаз. Но Пожарский его сразу предупредил:
— У меня от Кузьмы Миныча секретов нет. Говори при нем или разъедемся.
Оскорбленный таким началом переговоров, Трубецкой пробормотал:
— Уже мужик нашу честь хочет взять на себя, а наша служба и радение ни во что будет.
— Повтори, что сказал! — потребовал Пожарский.
— Что сказал, то улетело, — вильнул глазами Трубецкой. — Давай лучше о деле поговорим, Дмитрий Михайлович. Пошто ты от меня нос воротишь? Или вестовые врут, будто ты говоришь: «Отнюдь нам вместе с казаками не ста́ивать»?
— Нет, не врут. Тебе я то же самое скажу, Дмитрий Тимофеевич. Сам посуди! Ходкевич к нам со стороны Дорогомиловской ямской слободы по Смоленской дороге идет, а твой Яузский острог где окопался? На другой стороне Москвы. Оттуда мы нападения не ждем. Зачем же нам туда становиться?
— Чем кулак тяжелей, тем крепче бьет, вот зачем. И потом: Ходкевич с прямой дороги на окольную может свернуть. Ему в голову не заглянешь.
— Не спорю. Но в первую очередь опасность нам не из Замоскворечья грозит. Вот и послал я своих воевод линию Белого города от Петровских ворот до Чертолья укрепить. Осталось закрыть Арбатскую брешь. Туда я и спешу. Какие тут могут обиды бать? Давай лучше о совместных действиях договоримся.
— Давай, — кисло улыбнулся в ответ Трубецкой. — Я готов свои дозоры к Донскому монастырю выдвинуть и у Крымского двора заслоном стать, но с условием, что ты мне в помощь сотен с пять дворянской конницы дашь да разъезды свои у Нового Девичьего монастыря поставишь.
— Быть по-твоему! — сходу согласился Пожарский. — Нынче же отправлю к тебе воевод Андрея Совина и Ивана Чепчугова. Но и у меня условие есть: что бы ни сталось, заодно стоять, в стороне не отсиживаться.
Трубецкой насупился, всем своим видом показывая, что это само собой разумеется и не стоит сомнениями его обижать.
Будто не заметив этого, Пожарский перевел взгляд на величавые строения замкнутого в крепостные стены старинного Сретенского монастыря и с чувством вымолвил:
— А хорошее место ты для нашей встречи выбрал, Дмитрий Тимофеевич! Истинно сретенское! Гляжу на него и думаю: чем гетман Ходкевич лучше Аксака Тимура?
— Тимура? — не столько губами, сколько бровями переспросил Кузьма Минин, но Трубецкой этот его вопрос услышал.
— Я ж говорю, мужик, — презрительно бормотнул он себе под нос. — Не знает, кто из монгол при великом князе Василии на Москву зявился!
— Ежели при сыне князя Донского, то знаю, — невозмутимо заметил Минин. — Но того Тамерланом звали.
— О нем и речь, — уточнил Пожарский. — Одни его Тимуром именуют, другие Тамерланом. Так и так правильно… А тебе, Дмитрий Тимофеевич, я так скажу: на мужике вся Земля держится. Вот хоть на наше ополчение взгляни. Чем не море мужицкое? Я и сам такой… Давай лучше помолчим напоследок, сретение, бывшее тут при князе Василии, вспомним, себе урок и поддержку в нем углядим.
Мимо них шли и шли отряды земского ополчения. Вот так же, должно быть, двести семнадцать лет назад здесь, на пороге Москвы, сын Дмитрия Донского, князь Василий, и отцы церкви встречали крестный ход из Владимира, несший чудотворную икону Владимирской Божией Матери. Случилось это в тот самый день, когда войско эмира Средней Азии свирепого хромца Тамерлана, пройдя огнем и мечом многие города и земли, докатилось до Ельца. Тут-то и произошло чудо. Словно упершись в невидимую стену, Тамерлан повернул назад. В память об этом событии и был основан Сретенский монастырь.
— Ты прав, Дмитрий Михайлович, — первым нарушил молчание Трубецкой. — Гетман Ходкевич и впрямь ничем Тимура не лучше. Коли сам от Москвы не отступится, мы ему поможем! А теперь позволь откланяться. Жаль, что мимо идешь.
— И мне жаль. До скорого боя!..
От Сретенских ворот до усадьбы Пожарских рукой подать. Вот Петр с Федором и заволновались:
— А разве мы домой не заглянем, батюшка? Коли сам не можешь, нас отпусти. Мы — мигом!
— Не время! — повернув вслед за ратью к спуску, ведущему на берег Москвы-реки, сурово бросил Пожарский, но тут же исправил свою резкость: — Да и смотреть там особо нечего. Часть усадьбы ляхи пожгли, остальная в запустении. Надо все заново обустраивать. Так что потерпите, орлы.
— Ну, конечно, батюшка, — поспешил успокоить его Федор. — Ты о нас не думай! Это мы к слову спросили. У тебя своих забот хватает.
«Да как же не думать, если завтра в сражение вас вести?! — дрогнул душой Пожарский. — Ведь не сто рук у меня, не сто глаз, чтобы всюду поспеть. Дело-то предстоит жаркое. Взять вас с собой не хитро было, а как уберечь, до сих пор не знаю. Минин советует вестовыми к воеводам полков правой и левой руки приставить, а то вместе очень уж заметны будете. Но это значит, свою ответственность на плечи других переложить»…
К полудню, обогнув холм, на котором стоят Китай-город и Кремль, мимо череды ремесленных, монастырских, владычных, черных слобод, подгородных сел и пустошей, ополчение добралось до Арбатских ворот и, проворно разбив восьмитысячный стан перед стеной Белого города и на подворье Нового Девичьего монастыря в излучине недалекой Москвы-реки, изготовилось к обеду.
Тем же часом разведчики, ходившие под Можайск, донесли Пожарскому, что конные шляхетские роты Млоцкого, Корецкого и самого Ходкевича подошли к Поклонной горе и уже начали ставить там шатры. Следом подтягивается пехота Немяровского, Граевского и других региментаров [81]. Впереди идут польские жолнеры [82], затем немецкие и венгерские наемники, дальше реестровые казаки [83] пана Зборовского, а замыкает строй запорожская вольница Наливайки и других атаманов. Общее число неприятельского войска тысяч с пятнадцать будет.
— А не много ли вы насчитали, остроглазы? — засомневался Пожарский. — По сведениям из Вязьмы через нее прошло тысячи на четыре поменьше. Откуда ж такое количество взялось?
— Так после Вязьмы к гетману атаман Ширай со своими черкасами примкнул, — отвечали разведчики, — вот войско и выросло.
«Стало быть теперь перевес у Ходкевича чуть не вполовину, — мысленно прикинул Пожарский. — Об этом ему нынче же лазутчики донесут. А он с таким перевесом наверняка дерзнет в Кремль к голодающим отрядам Струся прорваться. И не далее, чем завтра утром! Самый короткий путь — через Крымский брод у Нового Девичьего монастыря. Значит, до ночи надо заступить Арбат боевым острогом, а на земляном валу и на стенах монастыря пушки поставить и котлы со смолою».
На языке крымских татар, с давних пор приходивших сюда грабить и торговать, арбад — не что иное, как предместье большого поселения или крепости. Вот и приклеилось оно к местности, расположенной на пути от Кремля к Крымскому двору за Москвой-рекой. Там прежде находилось посольство крымского хана. Именно здесь, на Арбате, в 6949 [84] году дал праведный бой войску казанского хана Улу-Мухаммеда отряд иноков Крестовоздвиженского монастыря под началом схимника Владимира, в миру Ховрина. Собрав и вооружив братию, он обрушился на бусурман, как меч Господень, и вместе с подоспевшими ратниками князя Юрия Патрикеева погнал их прочь, освобождая по пути плененных граждан московских, их жен, дочерей и детей, отбивая обозы с награбленным добром. Об этом подвиге былых лет напомнил воеводам и ополченцам князя Пожарского Троицкий келарь Авраамий Палицын. А еще о том, что последний раз москвичи били здесь улан и мурз крымского хана Казы-Гирея двадцать один год назад при блаженном царе Федоре Иоанновиче. И крепко били. Тогда их осеняла икона Донской Богоматери, подаренная царь-граду донскими казаками. В память о ее заступничестве и возведен на месте былых боев Донской монастырь.
— И ныне сила русского оружия с Божией помощью себя покажет! — шагая от стана к стану, возглашал Авраамий Палицын. — С нами святейший кир Гермоген! Возгоримся же сердцами!
— Поляки не крепче ордынцев, — вторил ему брат Кирилы Федорова. Иванец, в иночестве Феодорит. — Познаем же славу свою, братья! Не устрашимся врагов, но крепко ударим по ним и прочь погоним!..
После обеда и короткого отдыха Пожарский отрядил к Трубецкому обещанное подкрепление, а всех свободных от дозоров и прочих служб ополченцев поднял на строительство защитного городка. Бревна для него успели заготовить и доставить на двор Плотницкой слободы люди князя Лопаты-Пожарского и воевод Дмитриева и Левашова. Осталось их заострить либо на плахи распластать, чтобы было чем заплоты крепить, помосты делать и крыши крыть.
Это малым числом работников острожек долго ставится, а когда за дело тысячи возьмутся, — и глазом не успеешь моргнуть, как частокол уже стоит, избы и башни к нему, как по волшебству, лепятся, а вдоль передней стены проложен широкий ров с земляным валом.
Любо-дорого на такую работу посмотреть, а участвовать в ней еще зажигательней. Особенно молодым. Вот и отпросился Сергушка Шемелин к друзьям-товарищам, как он сказал Тыркову, поразмяться. А друзья у него понятно кто — казаки из десятка Афанасия Черкасова.
Не остались в стороне и сыновья Минина и Пожарского. Нефеда к волгарям потянуло, Петра — к пушкарям, поскольку он охотник до пушечной стрельбы, а Федора, как и Сергушку Шемелина, к ермачатам. Раззадорились они, разохотились, обо всем другом на свете позабыли.
Тут Пожарского и осенило: «Не надо их вестовыми к полковым воеводам отряжать. Пусть они остаются там, куда их душа потянула. Все остальное — в руках Божьих».
Боевое крещение
Пожарский не ошибся: на рассвете следующего дня замоскворецкое поле у Крымского брода будто тучами перелетной саранчи покрылось. Это коронный литовский гетман Ходкевич свое войско к переправе через Москву-реку спозаранку привел.
В лучах восходящего солнца передовые полки Речи Посполитой зыбились, нетерпеливо перетекали с места на место, пока наконец не замерли у береговой черты, ожидая дальнейших распоряжений гетмана. То там, то здесь вздымались стяги с конскими хвостами и серебряными кистями-бунчуками.
В прежние времена такими хвостами крымцы и турки во время набегов окрестные народы пугали, а потом и поляки впереди каждого отряда хорунжего с бунчуком начали ставить. Крылатую кавалерию они тоже для устрашения неприятеля ввели, но уже по своему почину. От легкоконных гусар и кольчужных рейтаров эта кавалерия отличается тем, что всадники облачены в рыцарские доспехи, а за спинами у них вздымаются два загнутых вперед прута, унизанных перьями. На скаку пруты раскачиваются, издавая пронзительный свист. Ну точь-в-точь, как крылья ястреба, падающего из поднебесья на обмершую от страха добычу.
Вот Ходкевич и решил острием наступления сделать крылатую кавалерию. Вместе с отрядами хорошо обученных рейтар, гайдуков, драгун и запорожских казаков, выросших в седле, это могучая, сминающая все на своем пути сила. По сведениям, полученным им из стана Пожарского, конница нижегородского ополчения и числом, и опытом, и вооружением значительно уступает этой силе. Значит, надо навязать противнику бой на заливных лугах у Нового Девичьего монастыря, обратить его вспять и на плечах отступающих всем войском в Москву вломиться.
«Конечно, Пожарский не настолько глуп, чтобы отдать мне на растерзание свою конницу, — рассудил Ходкевич. — Он понимает, что в его положении правильней всего навстречу мне из укреплений не выходить, конное сражение в чистом поле не принимать, а разить из-за стен и земляных валов. Но это означает вместо наступления занять глухую оборону. Вряд ли на это его соратники согласятся. Ведь они пришли, чтоб на смерть дерзать. Как у русских говорится: “или пан, или пропал!” Совсем страх потеряли. Да и сам Пожарский, по донесениям из его лагеря, на немедленную битву настроен. Езус Христус, не отговаривай его от этого шага!».
Еще раз окинув взглядом свое грозное войско, горделиво подпирающее небо копьями, бунчуками, алебардами и длинноствольными мушкетами, Ходкевич перевел его на противоположный берег. Здесь, в излучине Москвы-реки, в задавние времена местные девки пасли коров, вот поле и стало зваться Девичьим. Так это или не так, поди проверь. Знаменательно другое: доблестью праправнука Дмитрия Донского, Василия Третьего, вслед за Псковом и Рязанью к Москве был присоединен Смоленск, более ста лет находившийся под владычеством Великого княжества Литовского. В честь этого события и возведен здесь Смоленский собор. Рядом с ним за общей оградой следом поднялись другие храмы. Так вот, устраиваясь, и вырос со временем монастырь, поименованный в народе Новым Девичьим. Кому-кому, а коронному литовскому гетману он, как заноза в глазу. Пока ее не вынешь, глаз не прозрится.
Ныне в Девичье поле вместе с монастырем вклинилось несколько поселений, отделенных одно от другого пустырями. Вокруг тихо, зелено, сиротливо. К реке подступают заросли ивняка. На пустырях поблескивают озерки, похожие на лужи. Возле них сгрудились островки плакучих берез. Все покрыто легкой пеленой утреннего тумана. Зато дальше, на холмах за стеной Белого города, светло и просторно раскинулась начавшая восставать из пепла Москва. Она тоже подперла небо, но не оружием, а крестами своих многочисленных православных храмов. Кресты эти напоминали стаи птиц, позолоченных мирно восходящим солнцем.
Это противостояние зловещих копий и крестов, воинственности и миролюбия на миг смутило душу Ходкевича.
«Зачем я здесь? — подумалось ему. — Не пристало Литве за польского короля в пекло так рьяно лезть».
Но, отсекая невольные мысли, он тут же вскинул над головой гетманскую булаву и во весь голос крикнул:
— Слава зброе панствовой! [85]
— Нех жие Польска! — грянули в ответ тысячи глоток.
— Гайда! Гайда! — Ходкевич рубанул воздух булавой в сторону Москвы, и, вспенив неспешные воды Москвы-реки, устремилась вперед тяжелая, а за ней и легкая кавалерия.
Крики польского войска разнеслись далеко по округе.
— Вот и загавкали телячьи головы! — оживились ополченцы. — По смерти соскучились. Сейчас поглядим, кому тереть, а кому терту быть!
— Да тут и глядеть нечего. Хороши ляхи складом, да не крепки задом. Сперва хвалятся, да скоро валятся.
— Смотри сам раньше времени не свались. Языком легко бойцевать, а ты сперва сулицей [86] помаши…
Пожарский и Минин следили за передвижениями противника с башни у Арбатских ворот Белого города. Ночью, под покровом темноты, князь отправил на Девичье поле две казачьи сотни и мужицкий отряд Михея Скосыря. Казакам он задал как можно больше надолб, рогаток и растяжек на пути польско-литовской кавалерии поставить, а между ними ямы-ловушки нарыть.
Обычная рогатка — это заградительный брус, уложенный на крестообразные стойки. Где их только ни встретишь — у застав и огородов, у городских ворот и на улицах, у малых и больших поселений. Так что обилию их за Крымским бродом поляки вряд ли удивятся, тем более торопясь взять Москву приступом. Скорее посмеются напрасным стараниям москалей. Ведь перемахнуть через столь пустячное препятствие на борзом коне для шляхтича — мимолетная забава.
На это и сделал расчет Пожарский. Повыше каждого бруса он велел струной натянуть тонкую пожилину. Подожмет конь в прыжке передние ноги, чтобы таким курбетом через рогатину перепрыгнуть, а растяжка его на землю и уронит. Между надолбами казаки тоже немало струн натянули.
Пока казаки растяжки ставили, мужики из отряда Михея Скосыря выкопали укромные одиночные ямы и залегли в них до нужного часа. Сидеть в таких придорожных засадах для них — привычное дело. Ведь все они — беглые холопы или разоренные голодом и непосильными поборами управителей крестьяне. Вот и объединились они в разбойную ватагу. В отместку за свою неприкаянную жизнь ватага эта поначалу купцов, поместных дворян и приказных дьяков грабила, но потом всю свою боль и ненависть на поляков и их наемников, наводнивших Русскую землю, переключила. Обида за отечество для них на время затмила все прочие обиды. Потому и влились бывшие шиши в народное ополчение. Доверие Минина и Пожарского — для них великая честь. Не случайно Скосырь признался:
— Идем, князь, чтобы хоть на том свете человеками стать и побожее место себе заслужить.
— На тот свет не спеши, друже, — посоветовал ему Пожарский. — У нас и на этом дел хватит…
И вот теперь, еще раз оглядев Девичье поле, князь мысленно похвалил скосыревцев: хорошо схоронились. Трава на лугах и возле дороги не примята, весело переглядываются цветы, мирно вспархивают птицы. Ничего такого, что могло бы насторожить неприятеля, не видно.
От Крымского брода, огибая Новый Девичий монастырь, текла к земляному валу накатанная веками дорога. Где-то на полпути она распадалась. Одна ветвь ее по кривой ломаной линии продолжала двигаться к Арбатским воротам, другая поворачивала в изрезанное оврагами и водомоинами Чертолье. К этому раздорожью и выдвинул Пожарский отряды стрельцов и дворянской конницы под началом князя Ивана Хованского.
Крымский брод не широк. Вот и пришлось польской кавалерии пересекать его сомкнутым строем. Зато на левом берегу Москвы-реки она стала расходиться в стороны, стремительно занимая все новые и новые пространства, на глазах превращаясь в грозную неостановимую лавину.
На первых порах эта лавина катилась медленно, потом стала набирать ход. И вдруг словно о невидимое препятствие споткнулась. Сначала, лихо подняв своего жеребца над заступившей дорогу рогаткой, рухнул вместе с ним в пыль хорунжий головной роты крылатой кавалерии. Бунчук из его рук выпал и, словно копье, вонзился в придорожную земляную насыпь. Потом в разных концах Девичьего поля начали падать и другие гусары. Одни, подобно хорунжему, напоролись на растяжки, другие угодили в ямы-ловушки, третьи наскочили на удальцов Михея Скосыря. Как черти из капусты, повыскакивали те из своих нор. У каждого в руках длинный крюк. Ловко зацепив им оказавшегося поблизости шляхтича, скосыревцы выдергивали его из седла и спешили унырнуть за ближайшую растяжку.
Ну какой гусар, увидев такое поругание польскому воинству и своему поверженному брату-шляхтичу, не бросится за наглецом, чтобы раскроить ему голову острой карабелей? Тут-то и споткнется его конь о растяжку, сам свалится и седока, словно трухлявый мешок, с себя сбросит. Что? Как? — «А так, — ухмыльнется подоспевший к нему с топоришком бородатый обидчик, — Не серчай, вашмость [87], приехали!» Это у него шутка такая. Ну, разве не гунцвот [88]?! Да все эти русские сплошь гунцвоты!..
Как только скосыревцы всполошили рассыпавшихся по полю кавалеристов, со стен Нового Девичьего монастыря затрещали ружейные выстрелы, одна за другой ухнули полуторные пушки. Два снаряда угодили в гущу черкас неподалеку от переправы. Еще один внес смятение в ряды драгун. Воздух будто гудением растревоженных пчел наполнился.
У ополченцев такой поворот дела вызвал ликование.
— Так их, нахрапников! — пронесся по рядам переплеск радостных возгласов. — Чем «гайда» орать, лучше бы «Господи, помилуй» кричали.
— Вишь, как земля у ляхов под ногами зашевелилась. Кто бы это мог быть?
— Михейка Скосырь с братией балует, — тут же нашлись сведущие люди. — Что другому по уши, ему по колено. Хват человек!
— Это, чай, князь его надоумил…
— А то как же! Выше лба уши не растут!
Для огромного войска спотычка нескольких десятков кавалеристов, как укусы невесть откуда взявшихся комаров. Однако комары эти с боевого настроя поляков сбили, заставили озираться, рогатки объезжать. А именно это Пожарскому и требовалось.
Но радостные возгласы тут же сменились тревожными:
— Чего ждем? Пора и нам на ляхов ударить, не то они людей Скосыря, как зайцев, перебьют!
И правда, обозленные шляхтичи сворой накинулись на одного, затем на второго, третьего засадника… Блеснули на солнце сабли, и рухнули в высокие травы иссеченные тела удальцов.
Болью отозвалась их гибель в душе Пожарского. Но он продолжал ждать, когда передовые отряды польской кавалерии, поминая в сердцах сто крот дяблов [89] и прочую нечисть, одолеют полосу скрытых и явных препятствий и выйдут к росстани. Место для сражения здесь самое подходящее. Есть где развернуться. Есть где укрыться. И обзор с башни неплохой. Вся арбатская, чертольская и немалая часть Замоскворечья до Воробьевых гор отсюда хорошо просматриваются, а Кремлевский холм и Неглинный верх так и вовсе видны, как на ладони.
У Ходкевича такого обзора нет. Но стоит ему захватить Новый Девичий монастырь, и он появится. Там достаточно звонниц и сторожевых башен, чтобы одну из них сделать наблюдательной. Конечно, гетман рассчитывает на стремительный прорыв у Арбата, но он достаточно дальновиден, чтобы и к осадному противостоянию быть готовым. К тому же, согласно военным правилам, принятым в европейских государствах, командующий армией должен руководить наступлением издали и лишь при острой необходимости принимать личное участие в баталии. Стало быть, Ходкевич в любом случае мимо обители без боя не пройдет.
Держа это в уме, Пожарский еще с вечера усилил монастырскую заставу. В подкрепление засевшему там окольничему Никите Васильевичу Годунову он послал отряд стрельцов и лучников молодого князя Федора Куракина. Такая предосторожность вызвана еще и тем, что другой Годунов, Федор Алексеевич, покинув сибирскую дружину Василея Тыркова, в стан Трубецкого переметнулся. Теперь надо быть ко всему готовым. А Куракин, хоть и молод, но смел, сообразителен, взглядами тверд. В случае чего он сумеет защиту монастырской крепости в свои руки взять. Да, похоже, уже и взял. Вовремя его люди польскую кавалерию со стен обители обстреляли. С одной стороны — удальцам Михея Скосыря помогли, с другой — зубы Ходкевичу показали: не лезь-де на нас войною, гетман, за здорово живешь нас не возьмешь.
Сейчас Пожарского больше всего заботило, откуда Ходкевич будет управлять боем. Если он сам кавалерию возглавит, то и Пожарский не медля навстречу ему выедет, а нет — так и князь повременит. В сражение никогда не поздно вступить. Куда сложнее держать в поле зрения все происходящее вокруг, принимать быстрые и точные решения, жертвовать одним, чтобы сохранить и усилить другое, гореть, но не сгорать до победного часа. Безоглядная храбрость и лихой наскок впечатляюще со стороны смотрятся, да вот беда — не всегда они оправданными бывают. От иных урона гораздо больше, чем пользы.
До боли в глазах вглядывался Пожарский в конное полчище Речи Посполитой. После короткой заминки оно вновь двинулось к стенам Белого города, однако на этот раз настороженно, неторопко.
По описаниям лазутчиков Пожарский довольно зримо представлял, как выглядят польские военачальники и прежде всего Ян-Кароль Ходкевич. Но с Арбатской башни высматривать гетмана по этим описаниям — дело безнадежное. Легче иголку в стоге сена найти. Искать надо скопление региментаров, которое ему сопутствует. В отличие от рядовых рыцарей они и их телохранители поверх доспехов пышные одежды надевают. Чаще всего это кунтуши с откидными прорезными рукавами, позолоченной шнуровкой и прочими украшениями, а на голове шапки с лисьими хвостами. Чем больше скопление начальных людей, тем выше чин, который ими распоряжается.
Зеркально вспыхивали на солнце щиты и панцири грозного панства, чешуей переливались их кольчуги, волнами щетинился лес копий. В этом море кованого железа яркие пятна цветных одежд особенно заметны, но ничто не указывало на присутствие гетмана. Очень уж все далеко и зыбко.
Среди крылатых кавалеристов, возглавлявших войско, Ходкевича тоже не видно. Там главенствовал рыцарь на длинноногом аргамаке, упрятанном в блескучую попону с коваными бляхами. Грудь рыцаря украшал огромный восьмиконечный крест, а голову — шлем с клювастым налобником и снопом белых перьев на шишаке. Судя по кресту и шлему, это кавалер Мальтийского ордена пан Новодворский, боец опытный и неустрашимый.
«Ну что же, — подумал Пожарский, — у Хованского опыта и мужества не меньше. Справится. Жаль, не мне с Ходкевичем, а ему с Новодворским выпало дело начинать».
Словно прочитав его мысли, Минин оживился:
— Пора, князь. Гетман от тебя никуда не денется. Не промешкать бы.
Пожарский и сам видел, что пора: передние ряды польской кавалерии вот-вот на раздорожье вымахнут.
— Кабы гетман был маленький, а карман у меня большой, я бы его в карман посадил, — пошутил он, но тут же посерьезнев лицом и голосом, велел бить наступление.
Трубачи и барабанщики, расположившиеся на стене Белого города, только этого и ждали. Разом громыхнули три больших медных барабана, затрубили трубы, зазвенели литавры.
Откликаясь на их зов, пронырнули через строй дворянской конницы и разом пальнули по неприятелю из ручниц пешие самопальщики. Затем ударили пушки с земляного вала. Этот почти одновременный залп смешал передние ряды неприятеля. Но урон от него получился небольшой. Слишком уж крепки оказались панцири крылатых кавалеристов.
Вот и пану Новодворскому самопальщики лишь нагрудник с крестом на позолоченной ткани продырявили да перья с шишака сбили. Показывая, что дух его по-прежнему крепок, мальтиец рубанул мечом воздух и устремился навстречу Хованскому. Первый удар его был так силен, что князь едва в седле удержался. Разъехавшись, противники схлестнулись вновь, а вслед за ними схлестнулись крылатые рыцари и дворянская конница. И началась долгая кровопролитная сеча.
С Арбатской башни было хорошо видно, как сшибаются и перемешиваются в пылу сражения два противоборствующих войска. Польское одето и вооружено так, что пахолика [90] или рядового жолнера от пана кавалериста не всегда отличишь. А в русском сразу видно, где дворянин, а где боевые холопы, которых он привел со своих земель и которых должен был обеспечить всем необходимым. Латы из кованых пластин, иначе говоря, куяки, длиннополые кольчуги-байданы, пистоли и сабли есть только у дворян. Простолюдины этого и многого другого лишены. Правда, за время ярославского стояния Минину и Пожарскому удалось немалую часть земской рати одеть в стеганые кафтаны со стоячим воротом и короткими рукавами — тегиляи, вооружить недлинными копьями немецкого пешего строя, саблями, чеканами, самопалами или короткоствольными ружьями с разъемным крючком вместо заводного колечка. Но по пути к Москве в ополчение влились новые отряды, не обученные, одетые и вооруженные как придется, и это вновь сделало общий вид русского войска довольно пестрым, а поведение не всегда управляемым.
Зато скакуны в отрядах дворянской конницы почти сплошь белые с черными пятнами на боках и на шее. Пятна эти невелики и рассыпаны редко, а потому не очень заметны. В отличие от породистых рысаков польского войска эти кони — помесь вологодских жеребцов и ногайских кобылиц. Нравом они диковаты, овса почти не едят, роста самого что ни на есть среднего, зато быстры, выносливы и неприхотливы. Полдня могут скакать и не запалиться, а это в боевом деле, считай, самое главное.
Однако ныне и окрас скакунов вологодско-ногайской породы Пожарский по достоинству оценил. На широком зелено-сером поле белые сгустки дворянской конницы сразу заметны. По ним легко проследить, куда она движется, какими силами, с каким напором.
Ожесточенной схватке Хованского с Новодворским не суждено было завершиться. Между ними вклинились рубаки с той и с другой стороны. Они сцепились, как разъяренные псы. Храп. Кровь. Крики. Дымки от пистольных выстрелов. Падение коней и людей.
Вырвавшись из этого бешеного водоворота, пан Новодворский не стал искать Хованского. Разметав преградивших ему путь конников, он устремился к построенному накануне острожному городку.
Хованский меж тем вышиб из седла сначала одного крылатого кавалериста, затем обрушился на другого. Спину ему прикрывал столь же искушенный в ратном деле стремянной, а с боков стерегли холопы дворянской конницы.
Кучно держались отряды и других воевод. Не зря в Ярославле Пожарский изнурял их военными занятиями. Вчерашние крестьяне, ремесленники, черные и гулящие люди оказались способными учениками. Они быстро освоили приемы слаженного боя, не хуже смолян, дрогобужан, вязмичей, закаленных в приграничных сражениях, научились отыскивать в доспехах противника уязвимые места и точно вгонять в них копье или рогатину. Но главное, что отличало их сейчас от поляков, — яростный напор, та душевная окрыленность, которой не чувствовалось в рядах противника. Тот бился умело, но как-то заученно, по обязанности.
А через Крымский брод все шло и шло войско Ходкевича. Казалось, ему конца-края не будет. В черед с кавалерией и конными черкасами двигалась голубая и красная пехота. Литва. Немцы. Венгры. Поляки. И снова запорожские казаки — из тех черкас, что запродались короне польской.
Перебравшись через Москву-реку, это зловещее полчище распадалось на несколько потоков. Один продолжал двигаться к Арбатско-Чертольскому раздорожью, по пути растворяясь в толчее сражения, на глазах ширя его, тесня к острожным городкам и земляному валу. Другой поджег караульную избу у проездных ворот Нового Девичьего монастыря и принялся вышибать сами ворота. Еще два растеклись по берегу Москвы-реки в разные стороны, чтобы охватить разом весь Арбат. Все эти потоки были похожи на головы огромного чешуйчатого змея, пыхающего огнем, разящего мечом.
В помощь этому чудищу со стен Кремля ударили пушки осажденных там поляков под началом Николая Струся и мозырского хорунжего — Иосифа Будзилы. Не долетая до Арбатских и Никитских ворот, чугунные и свинцовые ядра падали на обезлюдевшие улицы и без того разрушенного Белого города. Зато у Алексеевского монастыря и Чертольских ворот они угодили прямо в расположение отрядов князя Василия Туренина и окольничего Артемия Измайлова. Это подтвердил прискакавший вскоре вестовой левого крыла ополчения. По его словам, потери у воевод ощутимые. Хуже того, вслед за пушечным обстрелом ляхи вывели из Кремля до пяти сот наемников и ударили Туренину в тыл. А кавалеристы Ходкевича вот-вот заставы извне проломят. Без немедленного подкрепления воеводам не сдюжить.
— Возвращайся назад! — велел вестовому Пожарский. — Подмогу поведешь. Постарайся с умом и короче. Бог в помощь!
Наготове у князя стоял засадный полк, в который вошла и сибирская дружина Василея Тыркова. Ее с казачьей станицей атамана Олешки Кухтина он и решил отправить на помощь чертольцам.
Сибиряки — народ негромкий, но, судя по всему, стойкий и находчивый. Их с поля не собьешь. Не зря сын Пожарского, Федор, именно к сибирякам вчера прибился, а не к сборным пушкарям, как Петр. Очень уж он нравом горяч, влюбчив, безогляден. После задушевного разговора с ермачатами у костра на берегу Яузы втемяшил себе в голову, что сильнее и надежнее товарищей ему не сыскать, а поскольку они и отцу поглянулись, то он их одними из первых против кавалеристов атамана Ходкевича выпустит. И Федора заодно с ними.
Не подозревая об этом, Пожарский дружину Василея Тыркова во внутреннем кольце Белого города поставил. Военный опыт его научил все силы сразу в бой не вводить, действовать осмотрительно, с расчетом. А о том не подумал, что любимый сын может истолковать это как желание родителя под любым предлогом его вместе с сибиряками от кровавой сечи спрятать. Лишь когда княжич и первый, и второй раз на Арбатскую башню поднялся и, отчужденно помолчав, тут же исчез, Пожарский догадался, в чем дело. Однако не до объяснений с сыном ему было. Да и зачем они, если и для засадных отрядов вот-вот горячее время настанет?
Увы, долго ждать не пришлось.
«Храни тебя Бог, сынок, — проводив взглядом конницу Василея Тыркова, мысленно пожелал Федору Пожарский. — Вот и настал твой час. Верю, не дрогнешь».
Шум сражения на Девичьем поле и в Хамовной слободе заглушал звуки, которые рождал Белый город. То стихая, то усиливаясь, они дробились о его давно уже не белые стены. Их гасили беспорядочно поставленные дворы с залатанными свежим лесом оградами и крышами, свалки на заброшенных гарях, огороды и пустыри с крапивой по пояс. Среди этих звуков ухо Пожарского уловило хлопки мушкетных выстрелов. Они доносились с той стороны, где в Москву-реку впадает речка Неглинная. Значит, поляки сделали вылазку через Боровицкие ворота Кремля. Хорошо бы им сейчас в затылок ударить… Но это решать теперь не ему, а Тыркову с Кухтиным. На месте виднее.
Пожарский был уверен, что после того, как Струсь и Будзила приступ Ходкевича из Кремля поддержали, и князь Трубецкой дольше выжидать не станет. Ему с казаками всего-то и надо мелководную Сетунь перейти и, завладев Крымским бродом, сбоку на гетмана ударить. Ведь слово дал в стороне не отсиживаться, заодно с Пожарским стоять, а сам вид делает, что ничего вокруг не видит и не слышит. Вот и объединяйся с таким! Предаст без зазрения совести, а после пустячные отговорки найдет. Одна надежда на то, что воеводы Совин и Чепчугов, посланные вчера к Трубецкому, не станут ему в рот заглядывать, а своим умом дело раскинут. Скорее бы…
И снова мысли Пожарского с размышлениями Минина пересеклись.
— Чем ждать да надеяться, давай туда порученца пошлем, — предложил Минин. — Лучше всего инока Феодорита. Ныне в ночь явилось мне око, с превышних небес на нас зрящее. Под ним инок с чашей и кропилом через злое сражение идет. Мечи сами перед ним расступаются. А там, где они сомкнуты остаются, он кротко «Се́ргиев! Се́ргиев!» возглашает. Имя великого старца Се́ргия Радонежского для всего сущего, как крест святой. От него не отворотишься. Это я к тому говорю, что среди людей сего грешного и воинственного мира инок Божий затем явлен, чтобы не милости у воевод просить, а к долгу и вере склонять. Так и с Феодоритом. Не будет он Трубецкому ни в чем кланяться, но долг государский исполнить потребует. И не от него только, но и от всех прочих.
Ну как после таких слов Минину не довериться? Ведь каждый свой шаг он с Божьими заповедями соизмеряет. Набожность у него от склада души идет, а не потому, что принято верующим быть.
Пока сподвижники решения, необходимые в данный часец, принимали, сражение вплотную к острожному городку подступило. Численное преимущество польского войска стало настолько очевидным, что кавалер Мальтийского ордена неутомимый пан Новодворский осмелился от одних ворот острожного городка до других по дну защитного рва проскакать, рубя засевших там ополченцев, потом кинул через частокол коробку с порохом — петарду и рыцарским топором принялся рубить верейный столб с заметно покосившимся притвором.
Но Пожарский видел и другое. Кавалерия Ходкевича начала ослабевать, вязнуть в тесноте боя, задыхаться от собственного бессилия. От крылатой кавалерии, венгерских драгун и польских гусар, вступивших в бой первыми, остались островки разбросанных по обозримому пространству рубак. Их место заняли гайдуки, черкасы и рейтары в обтяжных штанах с кожаной обшивкой и широкими красными полосами от пояса до сапог — лампасами. Они вздыбливали коней, пытаясь крутануться волчком, но даже для этого им не хватало места, поэтому они не столько рубились, сколько отмахивались от пеших ополченцев.
Тут-то Пожарский и понял, что русской коннице надо сейчас сделать. Сойти с коней, биться врукопашную — вот что! В ближнем бою вчерашним холопам, деревенским мужикам и посадской голытьбе действовать куда привычней, чем на верхах. Здесь они в своей стихии: сила на силу, воля на волю, ухватка на ухватку.
— Трубить наступление! — загорелся Пожарский и обнял Минина: — Остаешься за главного, друже. Хлебал бы Ходкевич молоко, да рыло коротко!
Минин сразу понял, что задумал Пожарский.
— Удачи тебе, князь, Сергиева покровительства, — сказал он дрогнувшим голосом.
Заглушая шум боя, с новой силой зарокотали большие медные барабаны, запели трубы, зазвенели литавры. Под их призывный грохот ворота острожного городка отворились, и по боковым переходам к дороге хлынули две последние сотни засадного полка.
— С коней, братцы! — кричали они товарищам. — Даешь рукопашную! Пожарский с нами!
За первой волной призывов покатилась вторая:
— Долой телячьи головы! Под дых их! В рожу! В пузо! В жилу!..
Вдохновленный общим порывом, закричал и Пожарский:
— Вперед, други! Еще наша рука высока! Се́ргиев! Се́ргиев!
И тотчас по Девичьему полю покатилось:
— Даешь рукопашную!.. Пожарский!.. Се́ргиев!..
Услышав имя предводителя русского войска, польские кавалеристы бросились выискивать князя в круговерти сражения, ведь убить или пленить его — наивысшая доблесть. За нее щедрая награда обещана. Но тут стало происходить что-то невообразимое. Русская конница вдруг спешилась и, побросав своих скакунов, стала нападать на шляхтичей снизу. То копьем подденут, то рогатиной собьют, то сулицей сокрушат, ну совсем как утром разбойные мужики Михея Скосыря.
Валились наземь с распоротыми животами, бились в предсмертных судорогах чистокровные рысаки польских рыцарей, а рядом падали они сами. Те, которым удалось подняться, не в силах были применить колющее или режущее оружие, и поэтому отбивались от ополченцев руками, ногами, головой, а то и зубами вцеплялись. Тут выбор один — жизнь или смерть.
Чувствуя необыкновенный прилив сил, Пожарский прорубался к мальтийскому рыцарю пану Новодворскому, а тот остервенело рвался к нему. Однако напором немецкой пехоты, нахлынувшей от Крымского брода, их, будто морским приливом, затащило в пролом острожного городка.
Аргамак Новодворского опалил Пожарского горячим дыханием, притиснул к створе распахнутых ворот. Шляхтич успел вскинуть меч, но нанести удар ему мешали те же ворота. В бессильной ярости он попытался размозжить голову князя стальным наколенником, однако Пожарский успел щитом от его лихорадочных взбрыкиваний защититься. Он ждал, когда людское течение расцепит их и появится возможность честно сразиться с Новодворским. Но тот вдруг выронил меч и безжизненно завалился назад. Ноги, словно в тиски зажатые стременами, не давали ему упасть, а рвущийся на волю аргамак вскидывал своего хозяина, как огромную, закованную в доспехи куклу, и она издавала слабый скрежещущий звук.
Неподалеку мелькнули знакомое лицо и рука с пистолем, из которого вился едва заметный дымок выстрела. Да это же окольничий Никита Годунов, начальник заставы Нового Девичьего монастыря! Так вот кто сразил Новодворского! Как он здесь оказался?!
Не успел Пожарский об этом подумать, затор у ворот прорвало, и вместе с отрядцем сопровождения его вновь вынесло к дороге. Телохранители обступили его, но так, чтобы окно для княжеского меча оставалось свободным. А он хладнокровно и уверенно продвигался вперед, не давая этому окну захлопнуться.
Над их головами раскинулось безоблачно-синее полуденное небо. Оно было напитано ласковыми солнечными красками, но казалось грязным, скомканным. Повсюду валялись мертвые тела. Трава и цветы, выбитые из земли копытами коней, кроваво бугрились, а сами кони метались с безумно расширенными зрачками или умирали рядом с седоками, роняя алые клочья слюны и тоскливо всхрапывая напоследок. А бой с одного места перетекал на другое, то затухая, то разгораясь вновь.
Поначалу длинный обоюдоострый меч казался Пожарскому легким, а собственное тело гибким и стремительным, но потом они начали предательски тяжелеть. Рука уже не так крепко сжимала влажную рукоять. Хромота сделалась заметней. Грудь стеснило, как перед приступом черной немочи. В глазах начали двоиться темные круги. В довершение ко всему Пожарский почувствовал жгучую опасность за спиной.
Оглянулся. Так и есть. Венгерские пехотинцы частью порубили, частью оттеснили сопровождавших князя ратников, а совсем рядом вздыбил коня перед решающим броском одетый в позолоченные одежды польский рыцарь. Пожарский едва успел подставить под его шестопер свой меч. Удар оказался настолько сильным, что вышиб из руки князя меч, а пана кавалериста и вовсе из седла выбросил. Затем, как подсеченный, рухнул аргамак пана. Падая, он чуть не подмял под себя князя.
В следующий миг противники стояли лицом к лицу. Поляк успел подобрать меч Пожарского, а князю достался шестопер противника. Это был увесистый железный шар с разящими насмерть остриями на длинной, украшенной тремя бронзовыми поясками и шестью перьями рукояти. Собрав все свои силы, Пожарский сделал молниеносный выпад.
Шестопер проломил шлем кавалериста, и тот, не успев ответить ударом на удар, свалился ему под ноги.
— Хорош был, да не сильно поклонистый! — раздался одобрительный смешок за спиной. — Так его, воропая!
Этот смешок и помог князю, с мысли на мысль переключившись, приступ черной немочи превозмочь. С прежней стойкостью он продолжал отражать удары, а на ответные сил почти не осталось. За него их теперь наносил казак в шапке с зеленым куском холста, пришитого сзади. Лицо его, синеглазое, выдубленное солнцем и ветром, с выцветшей бородой и озорным оскалом, было не знакомо Пожарскому, зато одежда и прочие приметы говорили о том, что это один из ратников сибирской дружины Василея Тыркова. Но самое удивительное, что в руках у него была не сабля или сулица, а меч Пожарского, и орудовал он им довольно ловко и уверенно.
Второй приступ черной немочи помог князю превозмочь грянувший с новой силой клич:
— Даешь!.. Се́ргиев!.. Пожарский!.. Наши!!!
Пожарский догадался: наши — это пять сотен дворянской конницы, отправленной вчера в подмогу Дмитрию Трубецкому, а может быть, и добровольники из его таборов. Ну, наконец-то! У Ходкевича свежих сил не осталось. Самое время его вспять обратить.
— Коня! — велел Пожарский.
Казак с зеленым накухтарником на шапке тотчас изловил рысака, волочившего за собой по земле мертвого рейтара, и, освободив его от обузы, поспешил к Пожарскому.
Накал боя переместился к Крымскому броду. Теперь поляки и их наемники напролом не лезли. Тревожно вскидывая головы, они спешили сомкнуть ряды, чтобы сдерживать напор ополченцев.
— Как звать тебя, ратай? — принимая коня, спросил у казака Пожарский.
— Тренька Вершинин я, — откликнулся тот. — От воеводы Тыркова с вестью. А ты тута, в поле. Ну и я сюда.
— Весть-то какая?
— А что вылазку ляхов навозле Кремля мы, не мешкав, отбили. И княжич Федор жив-здоров, чего и тебе желает. Вот поди-ка и все.
— Добрая весть. У меня для Тыркова не хуже. Сейчас Ходкевича погоним. Да ты это и сам видишь, Тренька. Скачи к своим. Вместе веселей биться. А за меч благодарствую. Вот тебе за него шестопер. Владей!
Они обменялись оружием.
Вершинин бросился ловить коня, на этот раз для себя самого, а Пожарский вскинулся на рысака — и замер. Через Москву-реку переправлялись не только дворянские сотни Андрея Совина и Ивана Чепчугова, но и сотни казаков из подмосковных таборов. Как выяснилось позже, Трубецкой приказал им стоять на месте: у Пожарского-де и у самого сил от гетмана отбиться хватит, однако атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов на его приказ плюнули:
— От твоей распри с Пожарским пагуба Московскому государству и его ратным людям становится. Уймись, пока не поздно, Дмитрий Тимофеевич, или сам на себя пеняй!
Далеко за полдень войско Ходкевича, напоминающее теперь одноголового, изрядно потрепанного, но все еще опасного змея, тяжело развернулось и, оставляя широкий кровавый след, стало уползать за Крымский брод и дальше — к Поклонной горе. Но Пожарский знал: это лишь первая часть одоления. Главное испытание впереди. Враг не разбит, а лишь отброшен и поколеблен. Но и то хорошо, что боевое крещение он сам, его ополчение и его сыновья прошли с честью.
Господень День — воскресенье
В ту ночь Пожарский спал урывками, вполглаза, то и дело подхватывался, чтобы проверить караулы. Боль в руках и ногах, натруженных сечей, заметно поутихла, но душа все еще блуждала по Девичьему полю. Она то рождалась и умирала, то ликовала и плакала, то гордилась или устыжалась.
Зато Минин спал крепко и умиротворенно, как спят праведники. Пробудившись, доверительно прошептал:
— А я, княже, ныне Агафона Огуменника видел. Вот как тебя.
— Где? — спросонья полюбопытствовал Пожарский.
— За Крымским бродом. Он туда с кочергой ходил. Очень уж она на твой меч похожа.
— Скажешь тоже, — растерялся князь.
По природе своей Минин человек строгих правил, к выдумкам не склонен, а тут вдруг раззадорился. И ведь ловко сообразил. Вчерашнее сражение с войском Ходкевича на день памяти святого мученика Агафоника [91] пришлось. А у простого люда на него свое поверие есть. Будто именно в этот день выходит из лесу леший и раскидывает на гумнах сложенный в снопы хлеб. Ничего-то он, злыдень, о ту пору не боится, только кочерги да тулупа, вывернутого наизнанку, да Божьего круга, мелом очерченного. Вот и стали поселяне на день Агафона Огуменника против лешего в дозоры, вооружась железной клюкой, ходить. Чем плохо? Снопы целы, домашние сыты, вокруг мир и спокойствие.
Выходит, Минин Ходкевича с лешим сравнил, а Пожарского с поселянином в вывороченном тулупе и с боевой кочергой в руке. Ай да Кузьма! Умеет к месту иносказательное словцо ввернуть.
— Что еще веселенького скажешь? — сел на лавке Пожарский.
— А то и скажу, — посерьезнел Минин. — Вчера у нас была суббота-потягота, делу почин, а ныне воскресенье — Господень день. Для всех христиан оно — свято. Для Ходкевича тоже. Да и не полезет он к нам после вчерашнего. Ему сперва одыбаться надо. На это день, не меньше уйдет. А мы тем временем о павших позаботимся. Они тоже, как Спаситель наш, смертью смерть попрали. Не дадим расклевать их черным воронам.
— Твоя правда, Миныч, — с благодарностью глянул на него Пожарский. — Это наш святой долг. Ты первым о нем вспомнил, первым и плечи свои подставь. Я тебе людей, сколько надо, дам и во всем помогать буду. А сам неотложными делами займусь. Нутром чую: передышка долго не продлится. Не таков Ходкевич, чтобы после неудачи на Арбате и в Чертолье в неможение впасть. Теперь он в Кремль через Замоскворечье полезет — мимо Трубецкого. Вот увидишь. Тот себя вчера злонамеренным бездельем сполна показал. И еще покажет.
— Типун тебе на язык, Дмитрий Михайлович. Быстрых-то выводов не делай. В промедлении не один Трубецкой виноват. Феодорит его действия оправдывает. Кому верить? Давай сперва разберемся.
— А я говорю: покажет! — уперся Пожарский. — И не спорь! Феодорит твой по доброте души и прошибиться мог. Что до Трубецкого, то повадка у него такая: ждать и выгадывать — не словится ли в мутной воде рыбка? От него поддержки и дальше не жди. Вот я и хочу ополчение к берегу Москвы-реки сдвинуть. Полки перестроить, а самим на Остоженку перебраться. Самое подходящее место для ставки — у церкви Ильи Обыденного.
— Тебе видней. Полки и впрямь перестроить следует. Вчерашний день взять. У Тверских и Петровских ворот густо, а у нас на Арбате и в Чертолье нехватка сделалась. Из больших воевод только ты да Хованский с Турениным. А брат твой, князь Лопата, где? А Михайла Дмитриев? А другие? Не в укор им будь сказано, могли бы они половину своих людей сюда привести. Ну хотя бы на свой страх и удачу.
— А если бы вторую вылазку из Кремля Струсь не у Водяных ворот, а с их стороны сделал? — не согласился с ним Пожарский. — Нет, Миныч, любой порядок на точном исполнении обязанностей держится. В военном деле так особенно. Я приказа тверские и петровские заставы покидать не давал. Одно дело, когда на удачу свою голову несешь, другое — когда людские…
Не успел он договорить, дверь в воеводский угол распахнулась и на пороге появился Дмитрий Лопата-Пожарский. Лицо серое, под глазами круги, на висках капельки пота подрагивают.
— А вот и Лопата, легок на помине, — положил ему руки на плечи Пожарский. — С чем припожаловал, брат?
— Измена! — глухо уронил тот. — Гайдуки Невяровского ночью в Кремль мимо застав Трубецкого гуляючи простряли. Сотен пять-шесть. Сколько кормов сумели провезти, сказать затрудняюсь, но, похоже, немного. По пути острожек у церкви Егория-страстотерпца в Яндове опановали и свое знамя над ним вскинули. А провел ляхов в Кремль твой старый злопыхатель и наветник Гришка Орлов, чтоб его кондрашка хватила!
— Точно знаешь?
— Точней некуда. И вот еще что. Давеча Гришку в таборах у Трубецкого видели. Без сговора с ним тут дело явно не обошлось. Я же говорю: измена.
— А мне думается, Орлов решил седьмочисленным боярам, что заперлись с поляками в Кремле, подсобить, — засомневался Пожарский. — Ладно, садись. Вместе думать будем, что да как. Может, оно и к лучшему, что так вышло. Чем больше мышей в мышеловке, тем легче их извести. Спасибо Орлову надо сказать, а ты кондрашки ему желаешь. Лучше обрисуй, как настроение у твоих людей после вчерашнего? Не застоялись ли? Как кремлевские ляхи с твоей стороны себя ведут?
Озадаченный столь непонятным спокойствием Пожарского, Лопата смешался:
— Что мы, кони, чтобы застаиваться? Сказано было держать ляхов, мы и держим, — и встречно поддел брата: — Но очень уж обидные слова шляхта со стен орет. Дескать, лучше бы ты, Пожарский, своих людей к сохе отпустил, чем с нами спориться…
— Пусть поорут, — благодушно улыбнулся Пожарский. — Кто с вечера плачет, с утра засмеется. А мы покуда давай рассудим, был ли у Ходкевича прямой сговор с Трубецким? Думаю, нет. Скорее Трубецкой своим бездействием гетману поспособствовать решил. Ему надо, чтобы мы помощи у него попросили, его старшинство в ополчениях признали, дорогу к одолению польского нашествия своей кровью проложили. Ходкевич не дурак, он уже смекнул, что отношения у нас с Трубецким не лучше, чем у собаки с кошкой.
— У Ходкевича со Струсем такие же, — заметил Минин.
— Стало быть, снова в Кремль он наверняка через таборы Трубецкого сунется, — кивнул Пожарский. — Вот мы с Минычем и решили всех больших воевод на Остоженке собрать, чтобы к новому наступлению Ходкевича сообща подготовиться, а на Девичьем поле скорбные дела тем временем управить. Оставь за себя на Тверском и Никитском валу три сотни под началом Нелюбы Огарева, а с остальными тотчас к церкви Ильи-пророка перебирайся. Да не скопом, а вроссыпь, чтобы дозорные ляхи Струсю не донесли. А то станут орать, будто Пожарский сохи ладить Трубецкому подрядился, лишь бы с ними не воевать.
— Пусть поорут! — заметно взбодрился князь Лопата и тоже пошутил: — У людей баюны — соскучишься, а у нас баюны — заслушаешься. Вот как ты, к примеру, Дмитрий Михайлович.
— В роду Пожарских все такие, — мягко отвел его похвалу князь. — Деды наши и впрямь знатно баяли. А мы с тобой, Митрий, только поддакивать умеем… Ну ступай по здорову, а я князя Хованского проведаю. Рана у него легкая, но крови он много потерял. Вот и подменишь его, где надо будет. Денек-то нам хлопотный предстоит. Ой хлопотный! Я бы даже сказал, душенадрывный. Однако никуда от него не деться. Как нынче дела скроим, так завтра и сошьем…
День и впрямь выдался душенадрывный. Вывел Кузьма Минин на Девичье поле ополченцев, чтобы тела павших товарищей собрать, а там уже казацкая голытьба из таборов Трубецкого рыщет. Заодно с убитыми поляками, немцами, венграми принялась она и останки освободителей Москвы наготить. При виде такого святотатства у Минина сердце болью захлебнулось.
— Не смейте, сукины дети! — гневно возопил он. — Кого шарпать [92] вздумали? Своих братьев? Сынов ратного мужества? Витязей веры и отечества? Они свои головы за Русию положили! А вы… вы… вы… Нелюди! Креста на вас нет! Образумьтесь, пока не поздно!
Казаки замерли, как свора голодных псов, вторгшихся в чужие владения и не решивших пока, ввязаться им в драку или благоразумно отступить.
— Ты, дядя, не очень-то горло дери, — примирительно посоветовал Минину казак в рваном зипуне, примерявший на грязную ногу гусарский сапог со шпорой. — Сперва на нас поглянь. Голы, босы, прозябли от нужды и печали. Где нам еще приобуться и приодеться, как не тут? Мы ведь на войну, а не в Божий храм пришли. Биться, а не молиться.
— Онисько Беда верно говорит, — поддержал его молодой ушастый хлопец с бельмом на глазу. — Вы — баре, да и мы не татаре. Нешто с дохлых чуженинов одежку не могем снять?
Ни слова не говоря, Минин ухватил его за лопушистое ухо и стал таскать из стороны в сторону.
— За что?! — взвыл от боли хлопец.
— За дохлого чуженина! — терпеливо объяснил ему Минин. — Но не только. Заруби себе на носу, парень: с мертвыми не воюют. Хоть со своими, хоть с чужими. Супостатам сама смерть — наказание. Не след ее поруганием безответного тела усугублять. Что до отчизников, то их смерть славой овеяна. Ее и вовсе не тронь. Уразумел?
— Уразумел…
— Тогда ответь: откуда на тебе такой справный тегиляй взялся? С убитого земца?
— Литвяк… взаймы… поносить дал, — извиваясь ужом, скривился в блудливой улыбке хлопец. Но Минин его попытку острить тут же пресек.
— Не лыбься, паскуда, — терпеливо посоветовал ему он. — Хуже будет. Тысяча таких тегиляев по моему слову в Ярославле пошита. Тысяча! Вот метка. Признавайся, с кого ты его снял. Ну?! С русского ратника?
— Виноват, пане-державец! Бес попутал.
В следующую минуту, подчиняясь железным пальцам Минина, хлопец медленно опустился на колени.
— Тогда повторяй за мной, — потребовал Минин: — Не достоин я именоваться прямым своим имянем, поколе вину свою перед павшими братьями не искуплю.
— Не достоин… вину… искуплю… — послушно запричитал хлопец.
Ухо его почернело. По грязным щекам скатились две мутные слезинки. Слизнув их, он торопливо вскочил и вопросительно поворотился к казакам-шарпальщикам, ожидая от них если не поддержки, то хотя бы сочувствия. Но те, сомкнув растерянные взгляды на Минине, заперешептывались:
— Что за указчик? Откуда взялся?
— Навроде ихний старшак. Уж больно грозен.
— На его грозу наша есть.
— А ежели его самого за ухи взять?
— И возьмем!
Сопровождавшие Минина ополченцы от таких угроз за сулицы схватились.
— Чей там язык как хочет, так и соскочит? — осердились они. — Нишкните, окаянные! Или не видите, кто перед вами?
— Кто? — в голос вопросили казаки.
Услышав имя Кузьмы Минина, Онысько Беда аж руками всплеснул:
— Это же совсем другое дело, — и почтительно обратился к Минину: — Извиняй, заботник! Не признали. По словам Бегичева и Кондырева, что давеча от нас в Ярославе были, ты поширше в плечах и телом погуще. Но и так тоже веско смотришься. Много они об тебе похвального рассказывали. Про жизнь, какую вы с князем Пожарским своим людям устроили, про общий настрой, про порядки. Нам бы такие! А то ведь у нас что делается? Иные атаманы с прибыльными казаками торги, корчмы, блядни в таборах держат, пошлины с городов и уездов на себя силой берут, шальной деньгой и поместьишками разжились. А мы? Ох-хо-хо! Второй год в крепкой осаде ляхов держим. Тоже, считай, за веру и отечество. А у самих дыра на дыре и брюхи до самых костей запали. Это как? Одним — все, другим — ничего. Да при такой жизни сроду чистым не будешь.
— Твоя правда, Онысько, житье на житье не приходится, — внимательно выслушав казака, посочувствовал ему Минин. — Светла только жизнь не краденая. Но разговорами тут дело не исправишь. Мой тебе совет: сам в грязи руки не марай и станичникам своим закажи. От себя одно могу обещать: всех, кто по совести с нами останется, одену и накормлю. Остальным — скатертью дорога. И пусть знают: шарпанья мы у себя не потерпим. Все слышали?
— Все, — нестройным хором откликнулись казаки. — Что делать-то нам, пане, укажи?
— На буйвище [93] подле церкви Успенья могилы для усопших рыть. Старшим Оныську Беду назначаю. Там главный воевода — Лукьян Мясной. Придете, скажетесь ему, от кого посланы. Остальные распоряжения он даст.
Провожая взглядом бродяжную толпу, двинувшуюся по буграм и рытвинам в сторону Остоженки, воевода Максим Радилов, ответственный за перевоз тел на могильный холм, высказал сомнение:
— Ой, не дойдут до буйвища твои шеромыги, Кузьма Миныч, разбегутся.
— Это мы еще поглядим, — возразил ему Минин. — Людям верить надо, Максим Иванович. Если и разбегутся, то сущие единицы.
Так и вышло. Всего семеро в пути отсеялось, остальные пятьдесят с лишним, вину свою усердной работой искупив, в ополчении Пожарского решили остаться. От добра добра не ищут…
Тем временем войско Ходкевича перешло Сетунь и, не вступая в бой с казаками Трубецкого у Москвы-реки, заняло Донской монастырь. Сам Трубецкой отошел к Троицкой церкви, что в Кожевниках, и стал вдали от дорог, идущих от монастыря через Большие Лужники к развалинам Земляного города — Скородома. Словно показать гетману решил: я-де тебе тут препятствовать не буду. Значит, и на этот раз Пожарский в своих предположениях не ошибся.
В полдень он собрал воеводский совет и сразу перешел к делу:
— Придется нам, други, самим Замоскворечье оборонять. На Трубецкого надежда плохая. Судя по всему, Ходкевич по Ордынке решил в Кремль прорваться, от Серпуховских ворот Скородома. А посему ныне же князю Дмитрию Лопате и князю Василию Туренину надлежит на другой берег с усиленными полками перебраться и засесть во рву Земляного города. Стена там выгорела, но вал крепкий. С собой возьмете пушечный наряд. Людей расположите по всей линии, да так, чтобы муха не пролетела. Князь Иван Хованский пока на Остоженке останется, а при нем засадный полк под началом Михайлы Дмитриева и Василея Тыркова. Какие вопросы будут? Соображения?
— Предлагаю, — заворочался на лавке обойденный вниманием Пожарского Мирон Вельяминов. — В подкрепление казакам Трубецкого, что острожный городок у церкви святого Климента на Ордынке стерегут, своих людей послать. Для надежности! Сам сказал, что на бузотеров князюшки у тебя надежи нет. У нас и вовсе. Того и гляди профукают городок, как нынешним утром острожек в Яндове профукали. Это надо же так суметь! Казачье хохлатое! Черкасишки бездельные! Им лишь бы нажраться и погулять — курице по холке, свинье по хвост!
— Не бранись, Мирон Андреевич. В предложении твоем дельное зерно есть. Но казаки могут это как вмешательство в свои дела воспринять. Стоит ли с ними сейчас отношения усугублять? По-моему, не стоит. Трубецкой — одно, они — другое.
— А по-моему всем нам не мешало бы у Козьмы Миныча поучиться, — заупрямился Вельяминов. — Он ведь как по утру совесть из шарпача казацкого вынул? — За ухо! Быстро и без затей. Потому что за ним сила и напор.
— Есть кое-что и поважней силы и напора, — не согласился с ним Пожарский. — Паруса, примерясь к ветру, положено ставить, а слово, примерясь к человеку. Вот наше первое оружие. Им Минин казаков и усовестил. Нет такого дерева, чтобы на него птица не садилась. Нет такой души, чтобы на верное слово не откликнулась. Ведь и кривы дрова, да прямо горят. А к слову и ухо лишним не будет. Оно слух обостряет.
— И ляхам? — созорничал Исак Погожий.
— Само собой. Они русского языка не понимают, — нашелся Пожарский. — Им все отдельно растолковывать надо.
— Растолкуем, — поневоле заулыбались воеводы. — Нам не впервой…
Лишь вечером Пожарский выбрал время, чтобы с сыновьями побыть, павших у Крымского брода помянуть, свечи в память об отце, других родных и близких людях в Успенской церкви поставить. Михаила Федоровича не стало ровно четверть века назад. День в день. И выпал этот день ныне на воскресную передышку между сражениями за Москву.
Полные впечатлений от вчерашнего боя княжичи наперебой вспоминали самые яркие его повороты. У Петра не сходили с языка имена пушкарей Ждана Колесника и Фальки Денюхина, а у Федора — вездесущих ермачат, отважного волгаря Силы Еремкина и воеводы Тыркова с его стремянным Сергушкой Шемелиным. Они бились, как былинные богатыри. Тех же пушкарей взять. Когда шляхтичи на вал у Арбатских ворот полезли, они свинцовыми ядрами вооружились и давай им головы вместе со шлемами будто куриные яйца проламывать, а Еремкин ляхов вместе с коньми, играючи, с Каменного моста в речку Неглинную опрокидывал. Не хуже действовали Тырков с Сергушкой Шемелиным. Спешившись у Боровицких ворот, они первыми в свору вышедших из Кремля поляков врубились…
Пожарский слушал сыновей молча, подмечая, как изменились их лица и речь, как гордятся они своими ссадинами и боевыми царапинами, как много в их рассказах преувеличений. Но преувеличения были ему понятны. Это их первый бой. Первый! Хорошо, что он вдохновил сыновей, а не вверг в уныние своей грубой бытийностью, не посеял в душе страх кровью и ожесточением. Значит, есть в них военная жилка, силен ратный княжеский дух, растут продолжатели его дела. Разве не радость для отца — почувствовать это, да еще в решающий для Московского государства час?
Обняв сыновей напоследок, Пожарский сказал:
— Дорог почин, а похвален конец. Завтра наше дело решится. А сейчас разойдемся по своим местам, родимые. Впереди у нас много дел. Отвага тоже отдых любит.
Непривычный народ
Едва занялось утро, правый берег Москвы-реки, уходящий вместе с ней под Воробьевы горы, ожил, наполнился сиянием доспехов и оружия, всплесками далеких голосов, боем полковых барабанов и голошением труб. Однако на этот раз Ходкевич решил все свои силы обрушить на русские укрепления одновременно. От Донского монастыря к валам порушенного в Смутное время Земляного города широким потоком хлынули принявшие прежний устрашающий вид шляхетские роты, венгерская и литовская кавалерия, польские гайдуки, запорожские и донские казаки. Следом поторапливалась не менее грозная, набранная в ближних европейских странах пехота. Все это многоликое множество двигалось с таким расчетом, чтобы охватить не только дугу земляного вала, но и приречье от Крымского двора до Коломенской слободы, занятой казаками Трубецкого.
Подпустив кавалерию неприятеля поближе к валу, из-за набитых землей корзин ударил по ней пушечный наряд земской рати. В нескольких местах вздыбилась земля, развороченная чугунными ядрами. Защелкали самопалы и ручницы. Повисли пороховые дымки. Вспыхнула одежда на убитых. Но ряды наступавших тут же восстановились.
И тогда навстречу новой волне наступления вынеслись конники князей Лопаты-Пожарского и Туренина. Их было заметно меньше, чем в войске Ходкевича. Но разве в численности дело? Теперь ополченцы знали, что наемники лишь с виду неуязвимы, а копни их поглубже да половчей, кровью умоются, как и все смертные. Но даже не это главное. Их вело сознание того, что они защищают родную землю. Отчую. Любимую, несмотря ни на что.
И вновь разыгралась отчаянная сеча. Сила нашла на силу, ярость на ярость. Померкло ясное спозаранку солнце. Попряталось в округе все живое. Утренний заморозок сменился влажной духотой.
Главный удар Ходкевич направил на Серпуховские ворота Земляного города. Именно здесь входила в Москву старая Калужская дорога. По ней гетман и задумал провести в Кремль обоз с кормами и оружием для осажденных поляков.
От самих ворот, как и от деревянных стен, окружавших прежде Земляной город с внутренними крепостями, именуемыми Белым городом, Китай-городом и Кремлем, ныне мало что осталось. Зато утесом стоял неподалеку Данилов монастырь. Тому, что возле него расположился один из станов Трубецкого, Ходкевич поначалу особого значения не придал. Он был уверен, что, завидев польские хоругви, подмосковные гультяи тотчас отойдут, а нет, так придется их, как псов-пустобрехов, на цепь посадить. Но казаки, к его досаде, прочь не отбежали. Вместе с ополченцами Пожарского они на пути прусских, жемоцких и мазовецких гусар Млоцкого и черкас Зборовского стали.
Александр Зборовский — один из самых опытных и заслуженных полковников короны польской, а Млоцкий — ничтожество. Казаки его еще по службе у Тушинского вора запомнили. Видом орел, а душою — лис, склонный к мотовству, безрассудству, издевательствам. Подчиненные от него плакали, так он им досаждал. Вот и настала пора рассчитаться.
Вскоре к защитникам Серпуховских ворот из Остожья и из Коломенской слободы изрядное подкрепление подоспело. С утроенной силой оно схватилось с поляками и их наемниками, стало с дороги теснить. Но и Ходкевич не промешкал. Узнав, отчего наступление на правом крыле стало захлебываться, увязать в кровавой толчее у земляного вала, он перебросил туда остатки полка Невяровского, венгерскую пехоту Граевского и часть черкас атамана Ширая, а сам в раззолоченных гетманских одеждах на золотистом жеребце появился среди драгун и гусар князя Корецкого, осадивших укрепления у Крымского двора: пусть-де Пожарский и его воеводы думают, что центр наступления здесь находится.
Взяв из засадного полка три сотни конных копейщиков, Пожарский поспешил на правый берег Москвы-реки.
— Сдается мне, Дмитрий Михайлович, гетман в сторону тебя увести хочет, — пробовал остановить его Минин.
— Знаю! — ответил, садясь на коня, Пожарский. — А только негоже мне, Миныч, от острия его меча уклоняться. Товар лицом продают. Об остальном душа у меня спокойна. Вы тут с Хованским не хуже моего управитесь.
Но сразиться с Ходкевичем грудь в грудь Пожарскому так и не пришлось. Уже на другом берегу Москвы-реки он был ранен в руку. Весть об этом разнеслась далеко по полкам. Шляхтичей она взбодрила, казаков Трубецкого привела в замешательство. И лишь ополченцы, засевшие в приречье, продолжали удерживать линию обороны. С часу на час она становилась все у́же и у́же, пока не порвалась сразу в нескольких местах. Не устояв перед натиском поляков, казаки стали уныривать в воду, перебредать реку по мелководью или переходить по наплавному мосту ниже по течению. Вдогонку им летели пули и стрелы, а мимо в наплывах крови, покачиваясь, проплывали похожие на кресты безжизненные тела…
Не лучше сложилось дело и у Серпуховских ворот. И здесь первыми натиска неприятеля не выдержали казаки Трубецкого. Отчаявшись защитить дорогу, они кинулись ловить оставшихся без наездников коней. По пути прихватывали сабли, пистоли, алебарды, щиты убитых и, сбившись в отрядцы, торопились исчезнуть.
Воспользовавшись несогласованностью защитников земляного вала, полки Граевского и Зборовского прорвались наконец за Серпуховские ворота и, не останавливаясь, устремились к острожному городку возле церкви Святого Климента, перегородившего Большую Ордынку. Успех окрылил их.
— Гей, кубраки [94] и лаборы [95]! — столпились они возле проездной воротной башни. — По цо вам москали? Москаль казаку найлепший враг. Вкладай рух высокости до наших рук [96]!
— Хотя бы нам черт, только бы нам не тот! — отвечали им из-за острожных стен казаки. — Не долго вам осталось свои космы и телячьи головы таскать, курвины дети. Будете на том свете в котлах кипеть. Выгальный [97] вы народ, ляхи. Шипите, как змеи, а укус-то комариный!
Рассвирепев от такой наглости, жолнеры Граевского кинулись рубить ворота Климентьевского городка, проламывать его тын всем, что под руку попадет, закидывать двор петардами. В ответ с башен городка начали палить полуторные пушки, полетели пули и стрелы. А когда ворота рухнули, казаки схватились с неприятелем врукопашную. Они бились так ожесточенно и бесстрашно, что венгры и поляки дрогнули, а черкасы ослабили напор, лицом к лицу столкнувшись с такими же, как они сами, казаками, вскормленными православной Русью.
Но тут в спину им ударили гайдуки Невяровского, захватившие накануне острожек у церкви Святого Егория в Яндове. Ворвавшись в Климентьевский городок с двух сторон, поляки и их наемники с трудом, но все-таки сломили сопротивление его защитников. Сломили, но не уничтожили. Многим казакам удалось вырваться наружу и укрыться за печищами сгоревших домов, в зарослях крапивы, бурьяна, в придорожных ямах и канавах. Затаившись там, они мысленно бормотали столь непотребные ругательства, что, казалось, произнеси их вслух — язык отсохнет. И соображали: как быть дальше? По их расчетам, выходило, что теперь-то Ходкевич именно через Климентьевский городок свой обоз к Кремлю направит. Обносившиеся и крепко оголодавшие за время осады казаки упустить такой случай ну никак не могли. Голод — не тетка, грызет, пока не доймет. Но и то хорошо, что с него пухнут, а не лопаются, как от обжорства.
Ждать казакам пришлось недолго. Получив известие, что русские в Замоскворечье опрокинуты и рассеяны, а Климентьевский городок взят, Ходкевич велел не медля ввести обоз на Большую Ордынку. А это более четырех сот доверху нагруженных всякими припасами возов.
Тут-то и начались у поляков неприятности. Большая Ордынка на самом деле не так уж и велика. В два ряда обозу по ней не пройти, только гусем. Вот и растянулся он от церкви Святой великомученицы Екатерины до церкви Святого Климента. Дождавшись, когда передние и задние проездные ворота острожного городка откроются, чтобы пропустить через его двор обозную вереницу в сторону Кремля, схоронившиеся в ямах и бурьяне казаки с дикими воплями повыскакивали из своих укрытий. Те, у кого были самопалы и пистоли, в упор стреляли по жолнерам, лошадям, возчикам и кавалеристам. Их товарищи крушили неприятеля саблями, чеканами, сулицами, а то и за жерди, попавшиеся на глаза, хватались.
На волне переполоха казаки вломились в потерянный ими недавно городок, накрепко закрыли те и другие ворота и, вырубив за каких-то полчаса венгерскую пехоту заодно с черкасами, вместо польских стягов подняли на церковной звоннице станичные хоругви.
Не менее яростный бой разгорелся и в других местах Замоскворечья. Под звон колоколов, вдруг покатившийся по округе, под треск ружей и победные крики казаки начали расщипывать ту часть обоза, которая осталась на Большой Ордынке. Сбившись в ватажки из нескольких человек, они отбивали у поляков то один, то другой воз и спешили угнать его подальше, чтобы там разделить или, как принято у них говорить, раздуванить добычу. Невесть откуда на улицах и пустырях появились грязные худые бабы и ребятишки. Стараясь помочь казакам, они приносили солому и хворост, поджигали их на пути обозников, а то и сами набрасывались на ошалевших от происходящего жолнеров. А возле наплавного Замоскворецкого моста в Яндове казаки на волне общего подъема вернули себе Егорьевский острожек.
Чтобы сохранить хотя бы половину обоза, Граевский и Зборовский поспешили отгородить его от казаков стеной королевской пехоты и черкас — и под ее прикрытием отвели к Серпуховским воротам.
Каково было Ходкевичу узнать об этом? Ведь в душе он уже праздновал победу. Неужели и сегодня Фортуна от него отвернется?
Гетман вдруг почувствовал бессилие перед ее грозным ликом. Но вида не подал. За годы походов и придворной жизни он научился владеть собой. Ему ли не знать, что победы без временных поражений не бывает? Однако и такие вот нелепые поражения — дурной знак. Он привык сражаться по правилам наступательной науки — науки сильнейшего. А она опирается на точность действий, холодный расчет и великий, идущий от самого Александра Македонского дух завоевательства. У русских такого духа нет. Они привыкли стоять за щитом — обороняться, а не нападать. В своей православной вере они неистовы, в дружбе крепки, в ссоре непримиримы. Сначала сами себе Смуту, застилающую глаза, создадут, а потом борются с ней до потери жизни. Странный народ. Противоречивый. Непривычный…
С русских Ходкевич переключил свое негодование на поляков, засевших в Кремле. Струсь — выскочка, гордец, завистник. Ян Потоцкий, ставший-таки губернатором злополучного Смоленска, для того его и прислал, чтобы слава покорителя Москвы досталась не коронному литовскому гетману, а племяннику его сестры — хмельницкому старосте Николаю Струсю. Вот Струсь и хочет чужими руками Пожарского одолеть. Ну кто ему мешал вместе с гайдуками, которых ночью пшегубец [98] Орлов в Кремль провел, Климентьев городок и острожек в Яндове хотя бы из последних сил отстоять?! Так нет же, вид сделал, что это не его забота. Руки умыл. Сам под собой сук рубит, а думает, под Ходкевичем. Слепец. Себя не жалко, союзников бы пожалел…
А у Минина и Пожарского успех на Ордынке надежду на то вызвал, что они и без Трубецкого общий язык с его казаками найдут. Уже четыре атамана со своими хоругвями на сторону ополчения перешли, да полусотня шарпачей Оныськи Беды, да станицы Бегичева и Кондырева, которые тот же Оныська сумел на сторону Пожарского перетянуть. А разве не показали себя истинными радетелями отечества защитники Климентьевского и Егорьевского острожков, других казацких отрядов, отчаянно бившихся у Серпуховских ворот и Крымского двора? Большинство из них недовольны тем, что сам Трубецкой и его дворянские сотни удобно расположились в государевых садах на высоком правобережье Москвы-реки напротив Кремля и участия в сражении не принимают. По свидетельствам многих уважением у казаков Трубецкой не пользуется. В отличие от недавнего своего сподвижника Ивана Заруцкого атаман он никудышный: ни удали в нем, ни военной смекалки, ни твердости. Одним словом, вода на киселе. Зато ходит павлином. Одно только возле него казаков и держит — щедрые посулы и вседозволенность, которую он не пресекает даже в самых вопиющих случаях.
Вот Минин и предложил Пожарскому келаря Авраамия Палицына в казацкие таборы послать. Уж он-то сумеет очерствевшие за лихолетье души призывным словом пронять, возбудить в них пошатнувшееся братство, на подвиг освобождения Москвы от люторов и внутренних враждотворцев увлечь.
— Хорошо придумал, — одобрительно глянул на него Пожарский и добавил: — А вместе с Авраамием дворян и детей боярских для представительства отправим. Земской и духовной власти рука об руку следует идти. Так по-моему доходчивей будет. Как думаешь?
— Тела без души не бывает, — подтвердил Минин и заботливо глянул на подвязанную руку князя: — Мозжит?
— Терпимо, — отмахнулся тот, а у самого лицо больное, под глазами черные круги, губы потрескались; сразу видно, рана его болью налита. — Похоже, гетману сейчас не до нас, — продолжал он деловито. — Переведем дух и мы, Миныч. Соберемся с силами. Они нам скоро понадобятся…
Старец Авраамий с готовностью возложил на себя миссию воссоединения двух ополчений. Он и раньше делал для этого все, что было в его силах, а теперь, в разгар сражения, вдруг почувствовал: пробил его апостольский час. Шаткое равновесие в Замоскворечье долго продолжаться не может. Его святой долг — вдохновить казаков на мужание, завещанное Гермогеном и его великим предшественником Сергием Радонежским.
Вооружившись дорожным посохом и крестной силой, в сопровождении приданных ему дворян, Авраамий ходко запылил в Климентьевский городок. Еще на подходе к нему он увидел множество убитых. Судя по одеяниям, в большинстве своем это были венгры, черкасы и другие наемники. Но попадались и казаки из подмосковных таборов. А возле самих ворот Авраамий заметил в траве испачканное сажей и кровью полуголое тело беловолосого мальчонки.
Бережно подняв его, старец вошел с ним в острожный городок и, положив на порожнюю телегу, перекрестил. Затем обратился к казакам:
— Братие! От вас началось дело доброе. Вы первыми крепко стали за веру православную и отечество наше, чем прославились во многих ближних и дальних государствах. Суровы на восхищение дела ваши. Второй год держите в осаде врагов и изменников. Ныне к ним протянулась извне рука помощи. Отсечь ее — общий долг. Частью уже и отсекли: вы — здесь, земцы князя Дмитрия Пожарского — там. Но этого недостаточно. Рука вражеская живуча. Мало отнять у нее острожек или дорогу, надо всю Русскую землю с Москвою вместе отнять. Если успокоитесь сейчас, довольствуясь крохами, горько пожалеете потом, лишившись всего. Зову вас, пока не поздно: соединимся с земцами сердцем и оружием! Освободим от черных люторских сил отцов и детей наших, растерзанных, как это дитя неповинное, как свет жизни грядущей. Наша правда крепка, братие! Не посрамим же ее! Восплачем к Богу и с Ним победим храбрествующе!
Пламенная речь Авраамия и впрямь слезы из казаков вышибла. Они подходили к телеге с телом мальчонки, истово крестились, обещали нынче же отсечь Хоткееву руку насовсем, — но только после того, как и другие замоскворецкие станы в помощь нижегородцам поднимутся.
— Аще кто забудет слово свое, того Бог забудет! — сурово насупил брови келарь и поспешил в казацкие таборы за Москву-реку.
По пути он прослезил казаков, стабунившихся на переправе у церкви Святого великомученика Никиты. Здесь собрались те, кто уцелел на разных участках утреннего сражения и шарпачи, рыскающие в поисках легкой поживы. Многие из них гомонящей толпой двинулись следом за Авраамием, чтобы еще раз послушать вещего старца на главном казацком стане.
Здесь глазам Авраамия и его спутников предстала удручающая картина. На солнечном припеке пьянствовала, играла в зернь или, забывшись в пополуденном сне, валялась орава плохо одетых, груболицых, никому не подчиняющихся станичников. Князя Трубецкого на стане не было. Его замещал атаман Кручина Внуков, бородатый, осанистый пожилец в просторном, с серебряными галунами казакине и шапке с кисточкой. Узнав, зачем пожаловал келарь с послами, Внуков распорядился соорудить из бочек и плах возвышение, закрыть его холстиной, а спящих казаков не медля растолкать.
В груди Авраамия клокотал гнев.
«Как смерд не моется, а все смердит, — думалось ему, — Совсем страх казаки потеряли. Коли их в узде не держать, они сами кого хочешь зауздают». Однако лицо его оставалось спокойным и бесстрастным. И лишь поднявшись на скородельный помост, он возвысил голос:
— Что празднуем, братие?! Или устали против обидчиков отечества нашего войною стоять? Или не видите, как земцы князя Пожарского рядом с вами кровь проливают? Или умом с зелена вина перепутались? Опомнитесь! Поставьте против храбрости нижегородцев свою храбрость, против их стойкости свою стойкость. Не посрамите войско казацкое!
— Поставить можно, а что толку? — выкрикнул кто-то и заюродствовал: — В воде черти, в земле черви, в небе птахи, в Кремле — ляхи; лезь к казаку в пузо — оконце вставишь, боярином станешь.
— Богатые с Пожарским пришли, пусть они и воюют, — поддержали его жидкие голоса. — Сытый голодному не товарищ!
— Цыть-те, пустомели! — зашикали на них со всех сторон, — Дайте божьему человеку слово сказать! И впрямь против Господа согрешаем…
— Не беда, что грехов много, — не унимался глумец. — Лишь бы денег вволю.
— Коли все дело в них да в голодное брюхо уперлось, — укоризненно посмотрел в его сторону Авраамий. — Обещаю казну Сергиевой Троицы ради насыщения вашего не пожалеть, как мы ее и прежде не жалели! На правду слов много не надо. Зову вас, братие, пострадать за Имя Божие, за православную истинную христианскую веру и государство Московское, как в оные годы наши великие предшественники страдали! — и вдруг бросил до сердца пронимающий клич — Се́ргиев!
— Се́ргиев! Се́ргиев! — пришел в движение казацкий стан. — Веди нас, Кручина! Зададим гетману страху!
Атаман Кручина Внуков не заставил себя ждать. Во главе растянувшихся до переправы и дальше конных и пеших сотен он двинулся на соединение с казаками Никитского и Климентьевского станов. У Серпуховских ворот путь им заступила пехота Граевского и черкасы Ширая. Завязался вялый выжидательный бой.
Как только звуки его докатились до Остоженки, Пожарский решил все свои силы туда бросить.
— А я бы еще и с Крымского двора зашел, — высказал ему свои соображения Минин. — Там гетман меньше всего нападения ждет. Он сейчас, как глухарь, в Замоскворечье увяз и ничего больше не видит и не слышит. Самое время его сбоку ударить. Чтобы тебя не отрывать, мне это дело поручи. Я справлюсь, княже. Не сомневайся.
— Я и не сомневаюсь, Миныч. Бери себе, кого хочешь. На твой опыт полагаюсь, на твою удачу…
Минин взял три сотни пехоты, оставшиеся от засадного полка, и полторы сотни рубак под началом польского ротмистра Павла Хмелевского. Вместо Михаила Дмитриева, раненного в утреннем бою, запасной полк возглавил Василей Тырков.
— А конницу почему не берем? — удивился он. — Пешцам в таком деле без нее не справиться. Быстроты не будет, натиска, разворота.
— Зато легче на тот берег тишком перейти и к стану пана Величинского вроссыпь подобраться, — объяснил Минин. — При нем гусарская рота да рота пешая. Кони гусарские у реки поставлены. Вот и сообрази. Коли тех коней под себя взять, из пешцев враз конница получится.
— Как это я сам не сообразил? — дернул рваной ноздрей Тырков. — Ну тогда слава богу! Я с собой ермачат возьму. Они сколько надо коней отгонят… — и запнулся. — А с княжичем Федором как быть? Он ведь теперь с ними неотлучно.
— Сам знаешь: или всех брать, или никого… Слыхал я, Федор хорошо воюет…
— Что есть, то есть. Старательный хлопец. Да у нас почитай нерадивых и нет. Не затем в этакую даль шли, чтобы бездельничать.
— И то верно. Сибиряки народ двужильный. С дороги — и в бой! Истинно молодцы. Потери-то большие?
— Да уж и немалые, Козьма Миныч. Считай, и половины не осталось… Как у всех.
— Ладно, Василей Фомич. Действуй! После поговорим…
День клонился к вечеру. Налились пахучим зноем прибрежные травы. В голубизне высокого неба светлыми островками повисли пенистые облака. Вода в Москве-реке до дна прогрелась. Мазки закатного солнца испятнали ее от берега до берега. Головы плывущих ополченцев среди них издали не сразу и различишь. Да поляки в этотчас на реку у Крымского двора и не смотрели. Внимание их было приковано к тому, что происходило ниже по течению.
Первыми выбрались на берег молодцы Павла Хмелевского и ермачата. Кони польских гусар мирно пощипывали траву у наскоро поставленных коновязей. Тут же полдничали ротные караульщики. Завидев ополченцев в мокрой одежде, они всполошились, но Хмелевский заговорил с ними по-польски, и они немного успокоились. Ротмистр продолжал идти к ним, шутливо объясняя свое появление, а его поспешники беспечно смеялись.
Остальное произошло стремительно. Перебив караульщиков, удальцы махом разобрали коней. С саблями и грозными сулицами в руках они вихрем понеслись по вражескому стану, рубя и круша все вокруг. На помощь им подоспели пешцы засадного полка.
Трудно назвать сечей то, что произошло затем. Скорее это было посечение ошалевших от неожиданности, не успевших схватиться за оружие, подавленных прежними неудачами польских и литовских вояк. Летописцы опишут его так: «Кузьма же с теми сотнями набросился на них, и побежали они Богом гонимы. Отступая к таборам Хоткеевым, рота роту смяла. Пехота же, увидев это, из ям и крапив поднялась и взяла в тиски таборы. Конные же напустились на них всей своей силою…».
Наравне с ополченцами сражались Кузьма Минин, его сын Нефед, Федор Пожарский и воевода Тырков. Их пути то расходились, то пересекались, и тогда вместо приветствия они взмахивали саблей и кричали друг другу «Се́ргиев!» — «Се́ргиев!».
С того и началось отступление, а затем всеобщее бегство польского войска.
Казаки Трубецкого захватили и разграбили ту половину обоза Ходкевича, которая укрылась у Серпуховских ворот и Данилова монастыря. Земцы Пожарского вновь заняли Замоскворечье. Воодушевленные столь явной победой, они готовы были преследовать поляков, пока сил хватит. Но, как свидетельствуют летописцы: «Начальники же их за ров не пустили, говоря, что две радости на один день не бывает, ибо все сделалось помощью Божиею. И повелели они стрелять казакам и стрельцам, и два часа стояла такая стрельба, что не было слышно, кто о чем говорит. Огня же и дыма было, как от пожара великого. Гетман же, охваченный ужасом, отошел к Пречистой Донской (к Донскому монастырю) и стоял там всю ночь на конях. Утром же он побежал от Москвы срама ради прямо в Литву».
Кремлевский узел
Уже за́ полночь, ошалев от победного ликования, ополченцы как-то враз почувствовали валящую с ног усталость. Притупившаяся на время боль от ран и боевых ушибов вдруг вспыхнула с новой силой. Но сонная одурь была неодолимей. Она мешала отыскать свой отряд, устроить ночлеги, обиходить раненых. Приткнувшись где придется, ратники засыпали, чтобы увидеть во сне продолжение того, что довелось им пережить наяву. Не зря говорится: какова постель, таков и сон.
Но Сергушку Шемелина и Федьку Глотова просто так не повалишь. На одном из подворий Большой Ордынки они заняли для остатков засадного полка сарай, где прежде хранилась мякина и другой мелкий корм для скота. Невесть где попрятавшиеся хозяева усадьбы держали в нем домашний скарб, перенесенный из полусгоревшей избы, в том числе несколько лавок. Будто нарочно мякинник под спальные места ополченцам приспособили.
Обойдя темную клеть с огнищем в руке, Тырков велел уложить на лавки раненых, а под лавки и возле них — сколько вместится ратников. Остальных разместил во дворе под стенами сарая. Наказал далеко не разбредаться. Мало ли что может случиться? Еще и караульщиков, как обычно, на походе выставил.
— Нынче бы они нам и вовсе ни к чему, — укладываясь кто где, переговаривались дружинники. — Мы же-ть такого страху ляхам задали, что они теперь не скоро сунутся. Пощипали воронам перья — приятно вспомнить.
— Василею Фомичу видней, — тотчас нашелся у Тыркова заступник. — Порядок дела не портит. На свете всяко бывает, — тут он помолчал, покашлял, а затем со смешком добавил: — И то бывает, что ничего не бывает…
Сын князя Пожарского Федор остался с засадниками на Ордынке. Сибирскую дружину в боях у Неглинной изрядно повыбило, а ермачат вместе с княжичем Бог хранил. Если и ранены иные из них, то легко, терпимо. А Федор так и вовсе ссадинами отделался.
Спать в сарае он отказался: где ермачата, там и ему быть пристало. Всего за несколько дней они такими вместниками стали, будто с малых лет в товарищах росли. К тому же мякинник закисшей лузгой, отвейками зерна и еще какой-то вонькостью до основания пропах, а под высокими звездами уходящего августа дышалось легко и спокойно. От земли холодом тянет, кафтан еще от купания в Москве-реке не просох, зато на душе тепло.
Засыпая, Федор думал: «Верно земцы пошучивают: хорош-де Ходкевич складом, да не крепок задом; много хвалился, да быстро отступился. Так теперь и со Струсем будет. Недолго ему в Москве с седьмочисленными боярами сидеть осталось. Скоро и с кремлевских ляхов вороньи перья полетят. С батюшкой моим шутки плохи. Будут знать, кто такие Пожарские…».
А у Тыркова другое на уме. Он мысленно стал живых и мертвых пересчитывать. Ведь ему прежде всего за них перед родными придется ответ держать. Считал, считал, пока о зятя своего Микешу Вестимова не запнулся. Мертвые с поля боя не ходят, а Микеша встал и пошел. Откуда в нем только силы взялись? Весь кровью истек. Хорошо, раны неглубокими оказались. Лекарь из Егожихи Еська Талаев, взятый в дружину у Завозни на Каме, обещал его вскоре на ноги поставить. Без запевалы и песня не поется.
Представив, как они с Микешей и другими тоболяками да томичами под победную песню домой возвращаются, Тырков задремал на подстилке из соломы, которую раздобыл для него Сергушка Шемелин. Неподалеку своим десятком расположились ермачата. А Кирилу Федорова Тырков отпустил с братом Иванцем-Феодоритом в стане келаря Авраамия ночь провести.
Уже под утро приятные поначалу сновидения сменились тревожными. Откуда-то издали вдруг нахлынули звуки рукопашной схватки. Они становились все явственней, все громче, пока не приблизились вплотную.
Тырков открыл глаза. И во́время! Рядом с собой в утреннем свете он увидел лицо польского жолнера и занесенную для удара карабелю. В следующий миг он отбросил его сомкнутыми ногами и, вскочив с необычайной для своего громоздкого тела резвостью, полоснул обидчика саблей.
Оглядевшись, Тырков сходу оценил обстановку. По двору рассыпалось десятка два польских копейщиков и гайдуков. Стараясь не шуметь, они рубили и кололи уснувших мертвецким сном дружинников. Скорее всего это один из недобитых отрядов Ходкевича. С вечера он укрылся где-то на замоскворецких задворках, чтобы поутру мимо утомленных ожесточенными боями ополченцев ускользнуть за земляной вал Скородома. Караульщиков ляхи сняли бесшумно. Могли бы мимо спокойно пройти, так нет же, решили напоследок свою удаль показать, уходя, погромче дверью хлопнуть.
— Отсечь ворота! — заметив неподалеку Афанасия Черкасова, распорядился Тырков. — Живыми ляхов не выпускать!
А ермачата уже и сами сообразили, что делать. Вместе с ними бросился к воротам и Федор Пожарский.
— Се́ргиев! — подражая отцу, срывающимся голосом закричал он.
— Се́ргиев! Се́ргиев! — с готовностью подхватили ермачата.
В это время конный рейтар, свесившись до земли, выхватил из костерка дозорщиков самую большую головешку и ловко зашвырнул в открытые настежь ворота мякинника. Внутри полыхнуло. Из сарая начали выскакивать ополченцы, иные из них в горящей одежде.
Чертыхаясь, Тырков кинулся наперерез рейтару и саблей вышиб его из седла. Затем вбежал в заполыхавший местами сарай.
Лавка, доставшаяся Микеше Вестимову, находилась в дальнем углу. Именно там пламя вскинулось выше и гуще всего. Разыскав Микешу, Тырков подхватил его на руки. Но тут на спину ему обрушился огненный ком. Кольчужку Тырков на ночь снял, чтобы дать отдохнуть утиснутому в длиннополый байдан телу, а мокрый кафтан сменил на сухой охабень. Вот и стал легкой добычей набирающего силу огня.
Превозмогая боль, задыхаясь от дыма, Тырков поспешил к выходу. По пути к нему присоединился Сергушка Шемелин. Голыми руками он стал срывать с воеводы клочья горящего охабня, но Тырков ругнул его:
— Дурак! Сперва раненых выноси!
Сергушка послушно унырнул в клубы красного дыма, а Тырков вместе с Микешей повалился на дворе в мокрую от росы траву. Первым делом он сбил огонь с Микеши, потом опрокинулся на спину и стал растирать о землю язычки вылетающего из-под него пламени.
Тут-то и ожил рейтар, кинувший в мякинник пылающую головешку. Из последних сил он поднялся на колени и, увидев рядом с собой сразившего его воеводу, злорадно вонзил ему в грудь острие кончара. Затем с горделивой улыбкой рухнул замертво. Улыбка эта словно говорила: так умирает истинный шляхтич.
Тырков, слишком поздно заметивший опасность, успел на пядь отодвинуться от удара. Кинжал угодил ему меж ребер справа, а мог бы в сердце. Тело пронзила острая боль. Но ее тотчас затмило обморочное удушье. Будто кто-то изнутри дыхание перекрыл.
Сам не сознавая, что делает, Тырков притиснул ладонь к ране, и почувствовал живительное облегчение. Дыхание, пусть и не полностью, вернулось к нему. Оно клокотало, пузырилось, булькало на его покрытых розовой пеной губах.
С трудом поворотив голову, Тырков глянул на мертвого рейтара, на его торжествующую улыбку и усмехнулся:
«Это не я, это ты себя утихомирил… Тебя сюда не звали. Прежде чем хоронить других, себя похорони. У нас не Польша, есть и больше…».
Расправившись с наскочившими на дружину поляками, ополченцы спохватились: а воевода Тырков где?! Стали искать. А он вон где — раненый и обгоревший под ногами у засадников лежит. С открытыми глазами. Рану на груди зажимает. Как мел белый, с хриплым дыханием, но живой.
Кликнули лекаря.
Первым делом Еська Талаев с помощью ермачат бережно приподнял Тыркова и дал выпить двойного вина [99] с травами. Затем, пропитав тем же вином сложенный в несколько слоев тканец-рединку, объяснил Тыркову:
— Лях тебе плючю [100] продырявил, Василей Фомич. Это грудные черева, что дыхание делают. А с дыркой какое дыхание? Вот ты и захлебнулся. Хорошо, рукой закрыть догадался, не то бы сразу по́мер. Теперича надо надежней ее запечатать. Сделаем так: ты руку сымешь, а как я на рану покрышку положу, опять прижмешь. Договорились? Тогда с богом…
Тырков послушно отвалил ладонь, захлебнулся, напрягся, но Еська успел наложить на рану широкую ленту-рединку и, вернув руку воеводы на место, успокоил его:
— Вот и ладно. Вот и хорошо. Час терпеть, а век жить. Придерживай затычку, покамест я с ожженьями не разберусь.
Осмотрев спину Тыркова, Еська достал из своего лекарского кошеля шильную иглу, накалил ее над не угасшим во дворе костерком и давай прокалывать волдыри. Заодно сор, набившийся в ранки, выковыривал. А сам знахарскую примолвку принялся нашептывать:
— Стань, раб Божий Василей, благословясь и перекрестясь, пойди в чисто поле за воротами. В чистом поле стоит святой камень, на том камени сидит красна девица с шелковой ниткой, рану зашивает, щипь унимает, кровь заговаривает рабу Божиему Василею. А чтобы не было ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли, тем моим добрым словом ключ и замок отныне довеку будет. Заговариваю я раба Божия Василея от порезу и ожжения. Булат, прочь отстань, а ты, кровь, жечь перестань. Аминь.
Продолжая шептать еще что-то, Еська обожженные места пахучим снадобьем смазал, а сверху жеваные из черного хлеба лепешки прилепил. Такими же лепешками, но жеваными с солью, он обложил рану на груди Тыркова и лишь тогда одной длинной тесьмой грудь и спину ему перевязал.
— Вот наперво и все, Василей Фомич, — деловито сообщил он. — Ты в памяти. Так и дальше будь. Тот здоровья не знает, кто болен не бывает.
— Буду! — едва ворочая языком, пообещал Тырков. — Рука у тебя легкая, Еська. Хоть вторую плючю дырявь… — и провалился в душное, стреляющее тупой болью забытье…
Очнулся он в келье Крестовоздвиженского мужского монастыря, что возле лесного островка у речки Неглинной расположен. Долго не мог понять, где находится, почему лежит на животе с неудобно повернутой набок головой, а тело его наполнено отдающей в грудь и спину болью.
Услышав чьи-то приглушенные голоса, Тырков позвал:
— Эй! Кто тут? Отзовись!
И тотчас у его изголовья возник большой лохматый Сергушка Шемелин.
— Наконец-то ожил, Василей Фомич! — радостно зачастил он. — А то все спишь да спишь. Как убитый. Я уж в беспокойство впал. Сколько можно? Попугал и будя.
Тырков поневоле улыбнулся. Его растрогало по-детски откровенное изъявление чувств Сергушки.
— Шею ломит, — пожаловался он. — И ноги затекли.
Сергушка заботливо приподнял его и, повернув на бок, стал подтыкать, где надо, набитые соломой подушки.
— Еська не велел тебя ворошить, — попутно рассуждал он. — Но коли ломит, так и можно. Верно я говорю, Василей Фомич? Ты отдыхай себе, а я возле посижу. Глядишь, здоровьечко и прояснится.
Тырков узнавал и не узнавал Сергушку. С виду здоровущий парень. За три месяца белесый пушок на его лице заметно отрос, в бородку и усы превратился, кожа загорела, обветрилась, веснушки исчезли, меж бровей строгая складка легла, а говорит и воспринимает все с доверчивой наивностью деревенского мальчишонки. Сразу видно — чистая душа. Век бы ей такой оставаться.
— Посиди, заботник, — благодарно накрыл его руку своей Тырков и, передохнув, продолжал едва слышным голосом: — Я что-то плохо соображаю. Где мы? Где остальные?
Сергушка и рад стараться. Присев рядышком, он заговорщически спросил:
— Как тебя подранили, помнишь? Ну вот. Дальше Еська тебя на скорую руку подлатал. Тут как раз младший воевода Кирила Федоров вернулся. А ты без памяти лежишь. Он пулей вестового к Пожарскому отправил. Так-де и так. Жду-де распоряжений. Князь его на твое место тут же и поставил, а тебя велел сюда с великим бережением перенести. После де́ла у Крымского брода Кузьма Минин к тебе дюже ласковый. Сам проведать пришел, но ты сильно плох был, даже глаза не открыл… А тут хорошо. Тишина. Покой.
— Тут — это где?
— В Воздвиженском монастыре, где же еще? — удивился его непонятливости Сергушка. — Отсюда до Кремля рукой подать. Вот какой тебе почет, Василей Фомич. Будто боярину. Теперь я у тебя навроде келейника. У-у-у-еее! Монахи-то воздвиженские сами тебя взялись целить. А Еське Талаеву обидно: чем он хуже? Так прямо им и заявил: болезнь-де сама скажет, чего она хочет и кого слушаться будет. Ясное дело, Еську. У него одно правило: кроме смерти, ото всего лечить. Монахи здешние Еське никакой не указ. Он тебя на свой лад целить и перевязывать прибегает. Такой человек, хоть и попал к нам из разбойных воропаев…
Тырков слушал Сергушку не перебивая. Пусть выговорится. Что надо, он и сам из его речи выберет. Да и не до разговоров ему пока. Голова кружится, а в теле такая слабость, что даже на улыбку сил нет.
— Опять же сказать, не с одним Еськой такое превращение вышло, — ободренный молчаливым вниманием Тыркова, возбудился Сергушка. — И-и-и-и! Сплошь и рядом! Но ежели подумать, от ляхов тоже польза есть. Через них народ объединяться стал, силу свою почувствовал, согласие. Кто кем раньше был, на лбу не написано. Зато видно, каков каждый из себя сейчас. Нашу дружину взять. У-у-у-еее! В дорогу из Тобольского города все разные пошли, а ныне поглядеть — совсем другие люди. Оно, конечно, твоими заботами, но не только. Долг-то у нас на всех един: уберечь, что отцы дали. Без корня и полынь не растет. Оттого на пошибаниях с Ходкеевым войском никто из наших не сплоховал. И не сплохуем! Вот те крест!
Тут Сергушка размашисто перекрестился и доверительно вспомнил:
— Когда я еще мальцом был, тятька мне иной раз ухи долонями зажмет, вздымет за голову повыше и спрашивает: Москву видишь? Да как ее не увидеть, если я на шее, как куренок, болтаюсь? Вижу, говорю. С тех пор я к Москве двояко настроен. С одной стороны знаю, что это царь-град. Тут все, кроме птичьего молока, есть. Как в сказке. Кто в Москве не бывал, красоты не видал. Но зачем же за ухи-то вздымать? Ныне вот она, эта Москва. На себя не похожа. Осталось в Кремле побывать, на государское место да на Китай-город своими глазами глянуть… Одного в толк не могу взять, откуда тут китаи взялись? Слыхал я, что они где-то за Сибирью гнездятся. А?
— Мне сперва тоже в удивление было, — борясь с накатившей слабостью, признался Тырков. — Знающие люди это название от степняков ведут. Китай у тех вроде как внутренняя крепость.
— Чудно́, — вздохнул Сергушка. — Названия вокруг все какие-то нерусские: Арбат, Ордынка, Китай. Моя б воля, я бы их все враз поменял. Китай-город, к примеру, Купецким посадом нарек. Чем плохо? Нынче Москва, слава богу, не под степняками стоит. Что было, то сплыло. Этак и ляхи захотят своих названий вперед напшекать. Им только волю дай… Недолго уже косматым гостевать осталось. Одни говорят, мы-де их к новому году [101] из Кремля повыкинем, другие — когда зима ляжет. А ты как себе думаешь?
В ответ Тырков только носом засопел.
Глянул на него Сергушка, а глаза у воеводы закрыты, на обожженную щеку прядь начавших седеть волос свесилась.
— Умаялся, родимый, — заботливо поправил их Сергушка. — Почивай на здоровье. Сон лучше всякого целебного снадобья. А про ляхов я к слову спросил. На мой глаз, с ними еще много мороки будет. Вот встанешь на ноги, тогда и поглядим, сколько они еще продержатся. Болезнь спеху не любит…
Тырков встал на ноги лишь ко дню Покрова Пресвятой Богородицы [102]. Поначалу его раны затягивались быстро, но потом воспалились, язвами пошли. Еська Талаев несколько мазей переменил, прежде чем Тырков вновь пошел на поправку.
За это время не было дня, чтобы кто-нибудь из сибирской дружины к нему не наведался. Чаще других Кирила Федоров, Харлам Грищаков, Тренька Вершинин, Федька Глотов, близнецы Игнашка и Карпушка Куроеды ну и, конечно, ермачата, такие разные обличием и повадками, но такие единодушные, а с ними Федор Пожарский. Каждый непременно гостинец несет. Один — корзину ягод или яблок, другой — сотовый мед или пастилу из овощей, третий — лососину, завезенную торговым путем из Карелы, а Игнашка с Карпушкой — непременно курятину, испеченную на вертеле или вареную в рассоле. Зря, что ли, всю их родову Куроедами кличут?
На Москве голодно, а у Тыркова в келье всего вдосталь. Вот он и старается своих доброхотов ответно угостить — чем Бог послал. А сам о том, о другом их расспрашивает. Он — воевода. Ему знать положено, что в низах происходит. А о том, что в верхах делается, ему Кузьма Минин, Павел Хмелевский, Исак Погожий и другие начальные люди, навестившие его, рассказали. Так что Тырков за время излечения от текущей жизни не только не отстал, но еще глубже в нее окунулся, стал замечать то, чего раньше в спешке не замечал. У него появилось время для раздумий, сопоставлений и более широкого видения постоянно меняющихся событий.
Узнав, что его дружинники вместе с другими ополченцами Замоскворецкий полуостров в излуке Москвы-реки глубоким рвом перегораживают, а на валу защитные плетенки ставят, Тырков удивился: зачем? После разгрома войска Ходкевича земской рати вроде бы некого бояться: гетман остатки своего войска далеко от Москвы увел, Струсю и Будзиле без крепкой подмоги через Замоскворечье своими силами не пробиться. Стало быть, незачем и огород городить.
— Пожарский ничего зря не делает, — мягко возразил ему Кирила Федоров. — Значит, на то причина была.
— Какая?
— Ходкевич письмейце в Кремль успел переправить: потерпите-де, пано́ве, не далее чем через три недели с новыми силами к вам вернусь, тогда мы кремлевский узел и развяжем. А гетман слов на ветер не бросает. Его письмейце во всех польских отрядах для взбодрения духа читано. Об этом перебежчики в один голос говорят.
— И много перебежчиков?
— Да и немало, Василей Фомич. Казаки Трубецкого их нещадно побивают, а земцам Пожарский с Мининым настрого запретили. Вот они к нам и бегут. Вчера один из тех гайдуков явился, которых изменник Гришка Орлов в Кремль через Ордынку тайным делом провел. Они без кормов прошмыгнули, налегке, надеясь на обоз, что казаки следующим днем на Ордынке распушили. А в Кремле и без них скудно. Тамошние сидельцы кошек, собак, мышей, птиц давно переловили, лебеду, крапиву, кору с деревьев ободрали. Всяк выживает, как может. Воловья шкура за полтора — два рубля продается, лепешка с лебедой или дохлая ворона — за рупь. А тут — на тебе! — нахлебники пожаловали. Вроде бы еще и не голодовали, как следует, дольше других должны продержаться, ан нет. Уже несколько гайдуков померло. И на немцев тоже мор напал. Долго они так не продержатся. Не знаю даже, верить этому или нет, но перебежчик на том клянется, что польские старосты велели сколько-то пленных насмерть забить, чтобы гайдуков накормить. Такие вот у них там нынче дела. Этак скоро друг друга начнут есть. С них станется.
— Про Орлова-то что слышно? Земля под ним еще не провалилась?
— Да вроде нет.
— Жаль. Вот с кого Божью казнь следовало бы начать — с пресмыкателей, потатчиков и прямых изменников. Но их покуда бесы прикрывают.
— Коли ты бояр, дворян и купцов с семьями, что вместе с ляхами в осаде сидят, в виду имеешь, то им тоже несладко приходится, — справедливости ради заметил Кирила Федоров. — Это поначалу они вольготно жили, а теперь поляки их ни в грош не ставят. Особо нижние сословия. В заложников превратили. Голодный и пан хлеба украдет, а что говорить о простых жолнерах? Раньше они украдкой чужое брали, по ночам, а нынче днем рыщут, не таясь. Еще и кремлевских сидельцев запугивают: вот вломятся-де в Кремль и Китай-город казаки и дворянские холопы, начнут мстить, все дочиста отнимут, жен и детей по рукам разберут, а вас самих на цепи посадят или в глухие места отошлют. Как тут не бояться? Страх и голод любого в могилу сведут. Вот и пошли они по кремлевским дворам сторонников польского выбора косить. С одной стороны, поделом им за содеянное, с другой — жалко. Погибают-то не они сами, а их родичи либо дворовая челядь. Эх, скорей бы Кремль от ляхов очистить! — тут Кирила мечтательно вздохнул и с сожалением добавил: — Раньше времени, видать, не получится. Трубецкой со своими таборами опять ни туда, ни сюда. Помогает вроде, а будто палки в колеса ставит.
— Да, — согласился Тырков. — Не решив дело с ним, кремлевский узел и впрямь не развязать…
Казалось бы, после разобщенной, неравной, но все-таки совместной победы казакам из подмосковных таборов с земцами нижегородского ополчения нечего делить: вместе кровь проливали и еще прольют, вышибая из Кремля Струся и Будзилу. Но в начале сентября в стане князя Трубецкого заговор против Дмитрия Пожарского открылся. И возглавил его не кто-нибудь, а член Совета всей земли, созданного в Ярославле, костромской воевода Иван Шереметьев. Самое горячее время под надуманными предлогами он у себя за Волгой пересидел, а теперь с братом Василием под Москву сеять ветры раздора явился. К Пожарскому даже для вида не заглянул, сразу в острожный городок Трубецкого на Яузе подался. Они с ним старые приятели. Вместе второму Лжедмитрию служили. Под крылом самозванца Трубецкой главой Тушинской боярской думы стал, а Шереметьев многочисленные земли и поместья за верность получил. Сто́ит ли удивляться, что вокруг Ивана Шереметьева тотчас князья Григорий Шаховской, Иван Засекин, известный перевертень Иван Плещеев и другие тушинцы собрались?
Минин их заводчиками всякого зла называет. И впрямь заводчики. Перво-наперво они на то казаков и атаманов подбивать стали, чтобы те под Москвой наги и босы не сидели, а поспешали бы в Ярославль, Вологду и другие зажиточные города за кормами, добротной одеждой и прочими надобностями. Не беда, ежели попутно у заготовщиков, которых Кузьма Минин в глубинки посылает, они обоз, другой, третий себе переймут. Господь велел с ближними по-братски делиться. Вот и выходит, что на словах они за объединение двух ополчений ратуют, а на деле всеми силами стараются ему помешать. Зачем им это надо? — А затем, чтобы натиск на засевших в Кремле поляков ослабив, Смуту на Руси подольше сохранить. Им удобный царь нужен, из их круга. Вот и хотят сначала власть в Москве и на местах к рукам прибрать, довести народ до изнеможения, а потом в суматохе выборных дел имя своего ставленника выкликнуть.
Дмитрий Трубецкой для этого вполне может подойти: в его жилах течет кровь великих литовских князей Гедиминовичей. Он богат, знатен, собой не дурен, в трудный для Московского государства час стал витязем народного ополчения. И старцы Троице-Сергиева монастыря его всеми мерами поддерживают. А коли Трубецкой честнóму люду не поглянется, можно предложить в государи родословного князя Дмитрия Черкасского или Михаила Романова. Не беда, что Романову шестнадцать лет всего — ни хватки, ни опыта, ни особой знатности он не имеет. Зато он сын самого владыки Филарета, сестра которого, Анастасия Романова, любимой женой царя Иоанна Грозного была. Ныне Филарет, схваченный Сигизмундом на посольстве в Смоленске, вместе с князем Василием Голицыным в Гостинском замке в Варшаве пленником у поляков томится. Его осеняет ореол мученика и отчизнолюбца. Мало кто теперь помнит, что именно на подворье Романовых и Черкасских Лжедмитрий Отрепьев свой путь к самозванству начинал. Дыма без огня не бывает. Узнав, кто трон из-под него выбивает, царь Борис Годунов братьев Романовых, их родных и близких гонениям по доносу об отравительстве подверг. Кого к Белому морю сослал, кого в Пермскую глубинку, кого в Пелым и другие далекие места, а главного из них — Федора Никитича — в Антониев Сийский монастырь под именем Филарета постриг. Оттуда его все тот же Гришка Отрепьев, дорвавшись до власти, вызволил и в сан митрополита Ростовского и Ярославского возвел. Ну а патриархом всея Русии его второлживый Тушинский вор Богдашка Шкловский при себе поставил. Однако все это нынче превратностями судьбы воспринимается. Народ страдальцев любит. Он помнит, каким красивым, светлодушным, близким к блаженному царю Федору Филарет Романов в миру был. Многие ждут, когда он из польского плена вернется, сыну на трон государиться поможет, а после вместе с ним царствовать будет.
Однако земцы и казаки из северных уездов ныне Дмитрием Пожарским восхищены. Именно его, а не Трубецкого они первым витязем народного ополчения видят. Рода он старинного, княжеского. В перелетах из одного стана в другой не замечен. Опыта государского управления в Ярославле набрался. Храбр. Отчизнолюбив. Чего доброго, именно его после окончательного изгнания из Москвы поляков народ на царском престоле захочет увидеть. Вот и замыслили тушинцы на него казаков и атаманов из подмосковных таборов Трубецкого натравить. Год назад, поверив подложному письму злопыхателей, вольница Ивана Заруцкого прямо на кругу Прокопия Ляпунова бессудно зарубила. Так же и с Пожарским заговорщики задумали поступить. Да не вышло. Нашлись честные люди, которые вовремя о готовящемся покушении князя предупредили.
А тут как раз настоятель Троице-Сергиева монастыря Дионисий своих посланцев во главе с Авраамием Палицыным к казакам подмосковных таборов прислал: денежная-де казна обители вконец истощилась, а потому, христолюбцы, примите, как обещано было нашим келарем Авраамием, ризы, стихари, епитрахили, Евангелия в окладах и прочие церковные сокровища; как только монастырь оброки со своих крестьян соберет, все они за тысячу рублей будут назад выкуплены; лишь бы вы от Москвы, не отомстивши врагам крови христианской, не расходились и с земскими отрядами до полного одоления польских и литовских людей стояли.
К Трубецкому и Пожарскому Дионисий с отдельным посланием обратился.
«О благочестивые князи Дмитрий Тимофеевич и Дмитрий Михайлович! — заклинал он их. — Сотворите любови над всею Российскою землею, призовите в любовь к себе всех любовию своею».
У одних казаков дары Троице-Сергиева монастыря слезы благодарности вызвали, у других недоумение.
— Что толку от заклада даже и в тысячу рублей? — ворчали они. — От голода и холода он нас не спасет, зато особую охрану для сбережения потребует.
Те и другие сошлись на том, что церковные ценности монастырю правильнее всего со словами сердечной благодарности следует не медля вернуть, а с земской ратью Пожарского — вопреки всяким слухам и шепотам — побожеские отношения наладить.
Подействовали увещевания Дионисия и на Трубецкого. Он было губу закусил: я-де боярин, а Пожарский — стольник, вот пусть он мне первый и челом бьет. Однако после того, как Совет всей земли воровской заговор Шереметьева и тушинцев раскрыл и оповестил о нем грамотами многие замосковские города, а Троицкий архимандрит Дионисий двух князей Дмитриев к любви и согласию призвал, пришлось Трубецкому пути согласия со своим соперником искать. А это при его заносчивости и злопамятстве дело непростое. Без посредников здесь не обойтись. И первый из них — келарь Авраамий.
Но даже самый искусный посредник не добьется желаемого успеха, если его подопечный ему в этом деле не поможет. Пожарский свою отвагу и воинское умение в деле с гетманом Ходкевичем показал, настала очередь Трубецкому отличиться. Понимая это, он принялся калеными ядрами Кремль и Китай-город обстреливать, а в Корнильев день [103] приступом решил их взять. Да не вышло. Царский детинец без мощных осадных орудий да еще малыми силами не прошибить. Крепкий орешек.
В отличие от Трубецкого Пожарский попытался миром дело решить, без ненужной крови. Получив известия от своих разведчиков, он увещевательную грамоту осажденным послал. Обращена она была не только к польским полковникам, но и ко всему рыцарству, немцам, черкасам, гайдукам. На польский язык ее перетолмачил ротмистр Павел Хмелевский. От него Тырков и узнал дословное содержание этой грамоты.
«Ведомо нам, — говорилось в ней, — что вы, сидя в осаде, терпите страшный голод и великую нужду, что вы со дня на день ожидаете своей погибели. Вас укрепляют в этом и упрашивают Николай Струсь и Московского государства изменники Федька Андронов и Ивашко, Олешко с товарищами, которые с вами сидят в осаде. Они это говорят вам ради своего живота. Хотя Струсь ободряет вас прибытием гетмана, но вы видите, что он не может выручить вас. Сдайтесь нам пленными, объявляю вам, — не ожидайте гетмана. Бывшие с ним черкасы на пути к Можайску бросили его и пошли разными дорогами в Литву. Дворяне и боярские дети в Белеве, Ржевичане, Старичане перебили и других ваших военных людей, вышедших из ближайших крепостей, а пятьсот человек взяли живыми. Гетман со своим конным полком, с пехотой и челядью 3 сентября пошел к Смоленску, но в Смоленске нет ни одного новоприбывшего воина, потому что польские люди ушли назад с Потоцким на помощь к гетману Жолкевскому, которого турки побили в Валахии… Войско Сапеги и Зборовского — все в Польше и Литве. Не надейтесь, что вас освободят из осады. Сами знаете, что ваше нашествие на Москву случилось неправдой короля Сигизмунда и польских и литовских людей и вопреки присяге. Вам бы в этой неправде не погубить своих душ и не терпеть за нее такой нужды и такого голода. Берегите себя и присылайте к нам ответ без замедления. Ваши головы и жизни будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу всех ратных людей. Которые из вас пожелают вернуться на свою землю, тех пустят без всякой зацепки, а которые пожелают служить Московскому государю, тех мы пожалуем по достоинству… А что вам говорят Струсь и московские изменники, будто у нас в полках рознь с казаками и многие от нас уходят, то им за обычай петь такую песню и научать языки говорить это, а вам стыдно, что вы вместе с ними сидели. Вам самим хорошо известно, что к нам идет много людей и еще большее их число обещает вскоре прибыть. А если бы даже у нас и была рознь с казаками, и то против них у нас есть силы, и они достаточны, чтобы нам стать против них»…
Ответ из Кремля, писаный от имени хорунжего Иосифа Будзилы, Трокского конюшего Эразма Стравинского и других региментаров польского войска, был скор, напыщен, язвителен и излишне многословен:
«…Письму твоему, Пожарский, которое не достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились, так как ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминания людские не показывают, чтобы какой-либо народ был таким тираном для своих государей, как ваш, о чем если бы писать, то много нужно было бы употребить времени на бумаги… Впредь не обсылайте нас бесчестными письмами и не говорите нам о таких вещах, потому что за славу и честь нашего государя мы готовы умереть и надеемся на милость Божию и уверены, что если вы не будете просить у его величества короля и у его сына помилования, то под ваши сабли, которые вы острите на нас, будут подставлены ваши шеи. Впредь не пишите к нам ваших московских сумасбродств, — мы их уже хорошо знаем. Ложью вы ничего у нас не возьмете и не выманите. Мы не закрываем от вас стен; добивайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите; лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть хлоп по-прежнему возделывает землю, поп знает церковь, Кузьма пусть занимается своей торговлей, — царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем управлении, которое ты направляешь к последней гибели царства…».
Список с этого бранчливого послания шляхтичей добыл для Тыркова Кирила Федоров, вхожий не только к воеводам, но и к дьякам ополчения. Дождавшись, когда Тырков ее прочитает, он возмущенно засопел:
— Каково, Василей Фомич, а? Выходит, это русский народ московских государей тиранит? Выходит, это он царскую землю шпынями и блинниками пустошит? Ловко! Еще и облаяли князя Пожарского на его милосердии. Да я бы их за такие слова в чернилах, коими они свои враки писали, утопил!
— Постой, Кирила свет Нечаевич, не кипятись, — невольно улыбнулся его молодой горячности Тырков. — Сам знаешь, за враки пошлин не берут. Чем они больше и нелепей, тем зацепистей. Но здесь враки не на голом месте построены. В них свой смысл есть. Вчитайся в них и поймешь, что речь тут о притязаниях королевича Владислава идет.
— Да ну… — поморщился Кирила. — Скажешь тоже…
— Ничего «не да ну». Владислав себя уже государем Московским возомнил, а народ ему вместе с папашей Жигимонтом от ворот поворот дал. Ну чем не тиран? Сперва на верность королевичу присягнул, а теперь его доверенных, как мышей в мышеловке, держит. Что для нас освобождение, то для поляков ложь и сумасбродство. Оттого паны и бранятся, что свое бессилие чувствуют.
Кирила торопливо перечитал ответ из Кремля и вдруг по-мальчишески рассмеялся:
— Выходит, и мы с тобой тираны этому Владиславу? Ну это же совсем другое дело! Как я сразу-то не сообразил?
Но Тырков его веселости не поддержал:
— Три недели, которые Ходкевич назначил, нынче истекли. А поляки — народ памятливый. Вот я и думаю, как бы они на заложниках, о которых ты как-то говорил, не отыгрались. Лишние рты им теперь в обузу…
В своем предчувствии Тырков не обманулся. Несколько дней спустя Струсь и Будзила решили изгнать из Кремля и Китай-города всех, кого посчитают лишними. Вот и устроили облаву на женщин, стариков и детей. Не разрешая ничего брать с собой, польские жолнеры стали сгонять их на Торговую площадь, а правящим боярам во главе с Федором Мстиславским велели договориться с предводителями ополчения, чтобы они их приняли. Если же кто-нибудь вздумает во время передачи заложников в Кремль ворваться, те не медля будут перебиты, а ослушники под взрывы пороховых бочек попадут.
Не надеясь на Трубецкого, Мстиславский к Пожарскому со слезной просьбой обратился: встреть-де наших жен и детей, князь, от обидчиков всякого рода охрани, о дальнейшем их мирном проживании позаботься; это милосердное деяние тебе зачтется.
Пожарский их просьбу исполнил. Поставив на пути в свой стан крепкие караулы, он сам навстречу изгнанницам и изгнанникам выехал и сделал все для того, чтобы они вопреки ору таборных казаков и московской черни к дворянам и посадским людям по родству и свойству попали.
Не успел Пожарский с этим делом управиться, прискакал гонец из Вологды с позорной вестью: воеводы Иван Одоевский Меньшой и князь Григорий Долгорукий город пропили. У них все делалось хмелем — что в отъезжих караулах, что на сторожевых башнях, что в наряде у пушкарей и затинщиков. Вот и проспали польских и литовских людей с черкасами, которые от Ходкевича отделились и за час до восхождения солнца на день пророка Ионы и Петра-мытаря [104] изгоном на Вологду пришли, посады сходу выграбили и выжгли, младшего воеводу и дьяка Истому Карташова убили, а архиепископа Сильвестра в заклеп посадили. Из Белоозера на помощь Вологде воевода Григорий Образцов со своим полком подошел, но его пока никто не слушается. Все друг друга грабят. И главный вред от тех казаков идет, что из подмосковных таборов Трубецкого за кормами нагрянули.
Для водворения порядка Пожарский на Вологодчину князя Федора Елецкого с отрядом дворянской конницы послал, а сам попросил посредников встречу ему с Трубецким ускорить.
Для решающего разговора предводители ополчений сошлись у реки Неглинной. Разговор у них получился трудным, затяжным, нелицеприятным, но закончился он примирительным соглашением — сначала на словах, потом на бумаге. В числе других его вынуждены были подписать Иван Шереметьев, окольничий Федор Плещеев, дворянин Данила Микулин и другие тушинцы. А чтобы этому соглашению огласку дать, Пожарский велел разослать по городам грамоту такого содержания:
«Были у нас до сих пор разряды разные, а теперь, по милости Божией, мы, Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский, по челобитию и приговору всех чинов людей, стали заодно и укрепились, что нам да выборному человеку Кузьме Минину Москвы доступать и Российскому государству во всем добра хотеть без всякой хитрости, а разряд и всякие приказы поставили мы на Неглинной, на Трубе, снесли в одно место и всякие дела делаем заодно и над московскими сидельцами промышляем: у Пушечного двора и в Егорьевском монастыре, да у Всех святых на Кулишках поставили туры и из-за них по городу бьем из пушек беспрестанно и всякими промыслами промышляем. Выходят из города к нам выходцы, русские, литовские, немецкие люди, и сказывают, что в городе из наших пушек побивается много людей, да много помирает от тесноты и голоду, едят литовские люди человечину, а хлеба и никаких других запасов ничего у них не осталось, и мы надеемся овладеть Москвою скоро. И вам бы, господа, во всяких делах слушать наших грамот — Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского и писать об всяких делах к нам обоим, а которые грамоты станут приходить к вам от кого-нибудь одного из нас, то вы бы этим грамотам не верили».
«Ну, наконец-то, — возвращаясь из монастыря к своей дружине и к своим обязанностям, думал Тырков. — Теперь-то уж мы точно кремлевский узел развяжем!».
Ерофеевы смотрины
Октябрь переменчив. У него семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет. Недаром его то листопадом, или паздерником [105], называют, то грязником, или порошником, то назимником, или перепутником.
Вот и нынче первый снег ранним утром на день Покрова Пресвятой Богородицы лег, обметанные ледком лужи, затверделую землю и желтую листву с редких деревьев ослепительной белизной припушил. Но уже к полудню выкатилось на мглистое небо веселое солнце и превратило его в темные влажные потеки. Однако старых казаков не проведешь. Один из них, томский послужилец Иевлейка Карбышев, нежданной веселости полудневного светила не обрадовался.
— К вечеру морозец крякнет, — глянув на небо, определил он. — И похоже, что немалый.
— А ты почем знаешь, дядя? — засомневались молодые ополченцы.
— А по том, что сверху над солнцем сияньице появилось. С боков еще два. Это пасолнце с ушами, проще сказать, побочное солнце. Оно на морозы и указывает.
Покровское солнце и впрямь недолго улыбалось. Часа с два. Потом оно вдруг насупилось, стало меркнуть, пока его порывистый ветер паздерник совсем с неба не сдул.
Хорошо, сибирская дружина под началом второго воеводы Кирилы Федорова к холодам успела подготовиться: полусожженную усадьбу приказной боярыни, ведавшей государевым Хамовным двором в Кадашах, починила, новые клети для жилья к ним пристроила, дровами худо-бедно запаслась. Раньше на Хамовном дворе браные скатерти, полотенца и прочее убранство из льняных полотен-хамов для царской семьи ткались, а теперь лишь грубые изделия для посадников и крестьян делаются. За последние годы все здесь в упадок пришло — стены, строения, ткацкие станы. Повсюду разбойная голытьба и казаки Трубецкого в поисках поживы рыщут. Лен из Новгорода и других северных городов приходит с большими перебоями. Ткачи-хамовники и бондари-кадаши разбегаются. Вот и послал Пожарский часть земской рати юго-запад Москвы от возможного нападения королевского войска заступить, а заодно ремесленникам от бродячего люда помочь защититься. Сибирской дружине Кадашевская ткацко-бондарная слобода и досталась.
Возвратившись к своим обязанностям с больничного ложа Крестовоздвиженского монастыря, Тырков первым делом жилые помещения обошел. Дотошно осмотрев каждое, похвалил Кирилу:
— Молодец, Нечаич! На совесть расстарался. Кто знает, сколько нам еще сидеть здесь придется. Крыша над головой да теплые стены — великое дело, — и спросил: — А приказная боярыня где устроилась?
— Известно где. В Кремле вместе с ляхами осаду пережидает. За себя распорядителя оставила, какого-то купчика, двух жильцов и дворовую бабу-приспешницу. Вольготно им тут жилось: каждый в своем углу. Пришлось их по необходимости в крайний прирубок утеснить.
— Силой?
— Да ты что, Василей Фомич. Как можно? Убеждением. Только им.
— И что же это за убеждение такое, любопытно знать?
— Обыкновенное. Наш мудрец Иевлейка Карбышев поучительную притчу им про то рассказал, как в стародавние времена Матерь Божия по Земле странствовала и к таким людям зашла, которые, забыв Господни заповеди, на ночлег ее не пустили. Дальше ты это покровское предание, поди, и сам знаешь.
— Может, и знаю, а коли взялся, досказывай, — подзадорил его Тырков. — Покровское предание, да еще в Покров, на полуслове обрывать не положено.
— Как скажешь, Василей Фомич, — с готовностью подчинился Кирила и, невольно подражая Иевлейке Карбышеву, продолжил: — Говорят эти люди Пресвятой Богородице: ступай себе дальше, убогая, мы-де странников к себе не пускаем. А в это самое время Илья-пророк по небесной стезе на своей колеснице мимо проезжал. Услыхал он, какие безобразия на Земле творятся, осердился гневом великим и обрушил на мирян-бездушников свои громы-молнии, дожди-ливни с градинами размером в человечью голову, огненные и каменные стрелы-копейцы. Увидев воочию гибель свою, те горько всплакали: не губи-де нас, громовержец! Бес попутал! А он им: у Богородицы, не у меня, заступничества просите. Тут только они и уразумели, кому в приюте отказали. Бросились в ноги Святой Деве: заступись! Она их и пожалела. Развернула над ними белый покров, как прежде над сирыми и бесприютными разворачивала, и сохранила от побиения огненного. Ну как после такой притчи ключнику и его пожильцам не понять, что теснота — не лихота, ежели речь о московском спасении идет?
— Узнаю Иевлейку, — улыбнулся Тырков. — Молчит, молчит да и скажет к месту. Ты с ним чаще советуйся, заместник.
— Я и советуюсь. Кабы он еще и грамоту знал, прямая ему дорога в подьячие была или в церковные служители. Иной раз зайду в кут Треньки Вершинина, а Иевлейка казакам житейские истины не хуже попа изъясняет. Вчера, к примеру, рассуждения о жизни и смерти затеял, о победе и поражении, о былом и грядущем. И не как-нибудь, а через времена года. Месяцеслов-де не только для текущей пользы надобен, но и для создания образа Божьего мира. А в нем жизнь как год, а год как день — из рождения, подъема, спуска и смерти состоит.
— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Тырков, — Расскажи подробней.
— Если подробней, то с начала надо начинать. Перед сном время разговорчивое. Кто случай из жизни вспомнит, кто про баб вздохнет, кто на судьбу-злодейку пожалуется. Тут Иевлейка со своим сказом и встрял. Сидят-де на небесной горе вокруг Солнца двенадцать братьев-месяцев. У каждого из трех — один старший. И вот эти старшие управительный жезл по очереди берут и начинают своим временем править. А чтобы доходчивей было, стал Иевлейка четвероправных братьев в лицах изображать. В перекор церковникам не с осеннего пожильца, а с весеннего юнца начал. Приосанился, грудь богатырски выпятил, глазами, как девица, захлопал. У-у-у-еее! Ну точь-в-точь, как твой жених Сергушка Шемелин. Все со смеху так и покатились.
— Почему жених?
— Это дело отдельное. О нем лучше после поговорим. Сперва про второго старшака послушай. Про летнего. Он тут как тут. Усы и бороду знай себе поглаживает, шестопером поигрывает, будто только что его в награду от князя Пожарского получил. Ну вылитый Тренька Вершинин. Он с этим шестопером теперь не расстается. Надо-не надо, с собой таскает. А с третьим братом и того веселей. Он медведем смотрится, ноздрею грозно сопит, глазами молнии мечет, а сам добряга: этого по-родительски нашлепает, этого пристыдит, а того по головке погладит. Кто бы это мог быть?
— Ума не приложу.
— А казаки вмиг приложили. Уж извини на прямом слове, Василей Фомич, но это твои повадки.
— Неужели? — растерялся Тырков. — Мне-то казалось, что я еще в летней поре и не стар собою… Хотя осень — тоже неплохо. Самое урожайное время жизни… Ладно, Нечаич, коли и я в розыгрыш к Иевлейке попал, попробую угадать, на кого четвертый старшак у него смахивал. Сдается мне, на Микифора Корнача. Подделаться под него — пара пустяков.
— Как в воду глядел, — не удивился его прозорливости Кирила. — Под него именно…
Микифор Корнач пристал к дружине на переходе от Ростова к Преяславлю-Залесскому. Он сиротливо брел по дороге — белоголовый, босой, в рваной одежонке, с суковатой палкой в руке. Угадав в Тыркове и Федорове начальных людей, низко им поклонился и попросил:
— Возьмите меня с собой, сыночки. Деток и жену мою ляхи сгубили, избу сожгли. Один я, как перст, на белом свете остался. Одно мне теперь в жизни и надо: гнев на пришлых нелюдей положить. Не смотрите, что я такой сивый. Волосы у меня от роду бело-русы были. А сил еще на много дел хватит. Не откажите в милости, родимые.
Тырков тут же велел ему кафтан, казацкую шапку с зеленым накухтарником и новые сапоги выдать. Но Микифор все это в дорожную суму сложил: придем-де на Москву, там и надену; обутки и кафтан на походе от лишнего сноса беречь надо. Только шапку и надел. С тех пор казаки его меж собой Босотой кличут, а Тырков Микифором Ивановичем величает…
— Такой вот набор у Иевлейки получился, — задумчиво помолчав, поделился своими наблюдениями Кирила. — Весна у него — стремянной, лето — десятник, осень — воевода, а зима — мужик-простец. Не знаю, случайно это вышло или намеренно, но отвлеченные мысли с круговоротом жизни он не хуже иных проповедников увязал. Заодно другую цепочку выстроил: утро-де весне соответствует, полдень — лету, вечер — осени, ночь — зиме. Нынче мы в осень вступили — в последние времена, значит. А дальше ночь — воцарение антихриста. Но за ней рождение или возрождение следует. Месяцеслов по Солнцу пишется, а Солнце — это душа наша. Она тоже всходит и заходит, светом или тьмой наполняется, к обретению или потере облика человеческого ведет. Но коли солнце вечно, то и душа неумираема. Она из любой тьмы к свету восстанет, ей только надежду дай.
— Умно сказано! — похвалил Иевлейку Тырков. — Но не до конца. Я бы добавил, что для нас душа — это земля Русская, православная. За нее мы тут жизни кладем.
— Он и добавил, — замялся Кирила. — Но другими словами.
— Это какими же?
— Нелицеприятными… Московское государство, говорит, на самозванстве, междоусобицах и ненасытности верхов совсем душу потеряло. Теперь, говорит, все ее искать бросились. Душу то есть. Что верхи, что низы в ополчения подались. Ныне у всех меж собой какое-никакое согласие наметилось. Не завтра, так скоро одно на всех и одоление будет. А дальше что? Не дай бог, если государство общими стараниями срастется, а душа как была, так и после в раздвойстве останется. Одному, говорит, без другого никак нельзя.
— И ведь правильно говорит! — уперся в Кирилу посуровевшим взглядом Тырков. — Корень познания горек. В особенности такой. От него нелицеприятные слова и рождаются. Тебя-то что в них смущает?
— Порядки не мы придумали, Василей Фомич, — подобрался Кирила, — Не нам их и менять.
— Это смотря с какой стороны посмотреть, Нечаич. Мысли городьбой не огородишь. Я вот тоже, когда мы сюда из Сибири добирались, об одном думал: прогоним ляхов — все остальное само собой приложится. Теперь вижу: не все… Кто есть царь? — Царь есть душа народа, ко всем справедливая и равно близкая. Но по крови родословной она — увы! — не передается. Ее делами заслужить надо, любовью и заботой истинной. Есть среди нас такая душа. У всех она на виду, да не все ее хотят видеть. Вот и получается, что мало над ляхами верх взять, надо еще и меж себя душой, как Солнцем, скрепиться. А у нас, видишь, какой разброд: князюшка Трубецкой в одну сторону глядит, его казаки — в другую, кремлевские бояре — в третью, Заруцкий — в четвертую. Прочих сторон тоже немало. Как бы тут с царем опять не промахнуться. Не мы с тобой нынешние порядки придумали, это правда, но ведь хочется по-новому пожить. Задушевно. Без розни.
— Еще как хочется, Василей Фомич! Но это вряд ли… Только на свадьбе все князи.
— На свадьбе, говоришь?.. Ладно, — решил переменить больную тему Тырков. — Тогда разъясни, с чего это вдруг Сергушка Шемелин у тебя в женихи вышел?
— Не вдруг и не у меня, — поправил его Кирила. — Женихом его казаки окрестили — за то, что он к шапке ромашку или белую яснотку цепляет, кудри на новый лад расчесывать стал, в походке переменился. Да ты, поди, и сам это заметил.
— Что из того? Молодые любят покрасоваться. Возраст у них такой. Кровь в жилах кипит, мысли играют. Завел бы Сергушка зазнобу, да где ее взять? А тут я со своими болячками слег.
— Ты-то при чем?
— А при том. Принес как-то Сергушка со двора пучок летучек [106], чтоб мне веселей было. В келье темно, стыло, а они такие желтые, солнечные — во тьме горят. Гляжу на них, наглядеться не могу. И сразу мне моя Павла вспомнилась, а еще дом, молодость, силы нерастраченные. Вот Сергушка и стал мне цветы запоздалые с поля носить. Куда я его с поручением ни пошлю, отовсюду с ними возвращается.
— Из Кадашей так особенно, — многозначительно разулыбался Кирила. — Их тут море разливанное. А дорога в слободу как раз мимо избы бондаря Ольши Худяка лежит. Сама-то изба того и гляди развалится, зато трубу далеко видать. Труба синяя, а на ней со всех сторон белые цветы намалеваны. Сдается мне, Сергушка их с полевыми и перепутал.
— С цветами намек ясен, — прикинулся простачком Тырков. — С Сергушкой тоже. А чего ради Ольша Худяк трубу разукрасил?
— Не Ольша, — подосадовал на его непонятливость Кирила. — У Худяка детишек орава. Старшенькой лет пятнадцать, а то и побольше. Расторопная такая, смышленая. Не то что по дому, бондарить отцу помогает. Долго ли ей трубу размалевать?
— Так бы сразу и сказал: Сергушка-де по цветной трубе узнал, где Марья-краса золотая коса живет-поживает, добра молодца поджидает.
Кирила поморщился. Опять Тырков его вокруг пальца обвел. Сначала дурацким вопросом с тонкого намека сбил, затем сам в острословие пустился. Однако на этот раз Кирила решил ему не уступать.
— Насчет золотой косы врать не буду, — напустил на себя озабоченность он. — Худякова дочь белобрыса. О красе ее судить не берусь. На красу у каждого свой глаз. По мне так обычная деваха. И звать Мотрей. Остальное, как в сказке: увидал ее ясный сокол на голубом небе, она ему навстречу белой лебедью и встрепенулась… Да ты сам на Мотрю при случае погляди. Тут тебе цветочек, тут и ягодка.
— Погляжу, Нечаич. Непременно погляжу, — заверил его Тырков. — Сергушка Шемелин, чай, мне не чужой…
Следующие несколько дней он на Хамовном дворе и посещая ткачих-надомниц, живущих в стороне от бондарей, провел. Ведь Пожарский и Минин его дружину сюда с таким расчетом направили, чтобы она здесь не только обжилась и покормилась, но и порядок в слободе навела. С первой половиной задачи Кирила Федоров справился, а за другую еще и не принимался. Пришлось Тыркову свою сметку и настойчивость проявить.
Вникнув в организацию ткацкого дела, он понял, что староста заворуй и растратчик, от него многие беды идут. А еще от целовальника. Вот и поставил Тырков на их место старых мастеров-хамовников. Затем в ограде, в ткальнях и на складах велел тайные проходы заделать, чтобы лен и готовые полотна через них не выносились. В караулы поставил своих дружинников. И только после этого к бондарям на другую половину Кадашевской слободы завернул. Само собой в сопровождении Сергушки Шемелина.
Ольша Худяк оказался мастером по изготовлению вязаной и деревянной посуды. Избенка у него тесная, подслеповатая. Чуть не всю ее занимали печь и стол, вокруг которого едва уместились он сам, замотанная в тряпки старуха, круглолицая молодайка, подросток с заячьей губой, две девочки и малец лет пяти. Каждый из них был занят своим делом. Ставя гнутые клепки в упоры на исподнем дне, Ольша лагунок для хранения крупы собирал. Старуха и молодайка прутья вязника надвое расщепляли, чтобы обручень на посуду из них сделать. Подросток с заячьей губой бочонок из липовой заготовки выдалбливал. Девочки кубышки плели, а малец раздвижной покрышкой уже готового кадушка́ игрался.
— Что скажешь, воевода? — глянул на Тыркова Худяк.
— Бог в помощь скажу, — не замешкался с ответом тот. — А дальше, что спросишь.
— И тебе здравствовать, коли пришел. Не ждали тебя, вот и думаю, как быть. С чем припожаловал?
— Захотелось посмотреть, кто под трубой с белыми цветами обитает. Должно быть, особые люди.
— Это ты правильно заметил, воевода, — особые. Не без доли живем: хлеба нету, так дети есть. А что до трубы, так ее мой Чудинко разукрасил, — тут Худяк мотнул головой в сторону подростка. — Он у меня на все руки горазд. Вокруг говорят, что дурак, а того понять не могут, что дурак и в бочке сидючи, волка за хвост поймает. Он ко всем с открытой душой, а его гонят.
— Я не гоню! — вдруг решительно заявил Сергушка, и все Худяки, до того старательно отводившие в сторону глаза, разом на него воззрились.
По этим взглядам Тырков понял, что Шемелина здесь знают. А еще он понял, что Кирила Федоров в своих догадках от того оттолкнулся, что печную трубу цветами могла только рука мечтательной девицы разрисовать. О руке убогого Чудинки он и не подумал.
Почувствовав, что молчание затянулось, Тырков похвалил Шемелина:
— Правильно делаешь, Сергушка. Так и впредь будь. Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
— Сергушка меня любит, — отложив долбленку, закивал Чудинко. — Он мне нож и доспех подарил… И Мотрю любит. Он с ней челомкался [107], я сам видел. Они теперь обручники [108], да?
— Ой! — закрыла лицо руками Мотря.
Это ее Тырков поначалу принял за молодайку. Очень уж она крупна для своих лет, телесна. А взгляд детский, застенчивый. Коса светло-русая на заметную уже грудь переброшена. Лоб высокий, на щеках ямочки. Если ее рядом с Шемелиным поставить, она ему под стать придется.
В избе повисла ожидающая тишина.
— Тебе, Сергушка, я красный кушак под венец сплету, — пообещал Чудинко. — А Мотре гребешок и ларец сделаю. Будете жить, как чудотворцы завещали. Я на вас от души полюбуюсь. И батюшка с братиком, и сестрица, и бабуня наша. Да ведь?
— Я гляжу, дело у нас серьезно поворачивается, — так и не дождавшись приглашения от хозяина дома, присел на край лавки Тырков. — Шел на обычное знакомство, а попал на Ерофеевы смотрины [109]. Ох, Ольша, и озадачил же нас твой Чудинко… Святая простота. Надо теперь Сергушку послушать. Он-то что скажет?
— Мне Мотря люба, — осел от волнения голосом Шемелин. — Смилуйтесь, ради бога, отцы. Ни в жизнь не подведу!
— А ты, Мотря, что скажешь?
— Смилуйтесь, — только и смогла выговорить она.
— Ежели по честному, я согласный, — смахнул слезу Ольша.
Глядя на него, Тырков вдруг вспомнил, как в задавние годы в глухомани сибирской он у беглого немтыря Мамлея Опалихина красавицу Павлу себе в жены просил. Звероватый Мамлей тогда от избытка чувств глаза бородой утирал, места себе не мог найти. Вот и Ольша Худяк не может. Хочется ему верить в чудо, да жизнь у него эту веру отбила. Зато вон как глаза у его Мотри заблестели. Любовь и забота чудеса с людьми творят. Павла рядом с Тырковым расцвела. Авось и Мотря рядом с Сергушкой Шемелиным засчастливится. Да и всем Худякам от этого лучше станет, когда они немалую денежную помощь от Тыркова получат.
— Ну вот, все и разъяснилось, — нарушил затянувшееся молчание он. — Думаю, Семен Шемелин, отец Сергушки, против не будет. А мать его, Овдока Онтиповна, так и вовсе мне власть над сыном передала. Для кого октябрь грязник да назимник, а для кого самый что ни на есть свадебник. Зря, что ли, Сергушка в такую даль добирался? Негоже ему назад в Сибирь с пустыми руками возвращаться. За такие труды награда положена — каждому своя…
Одоление
Четвертый снег выпал на день обретения Казанской иконы Божией матери [110]. К этому времени листва с деревьев полностью облетела, ряска, зеленевшая по краям излук и затонов, на дно опустилась, сырость черной грязи морозцы подобрали, а дни все заметней на убыль пошли. Правильно бывалые люди говорят: «До Казанской — не зима, с Казанской — не осень». Еще и пошучивают: «Сказывали бабы, что на Казанскую в старые годы мужик на печи замерз».
Полякам и их пособникам, засевшим в Кремле и Китай-городе, не до шуток. От голода и холода они не то что человечину есть стали, но и с ума сходить. До того дело дошло, что князь Иван Голицын посмел крамольную для поляков мысль о сдаче Кремля вслух высказать. За это его Николай Струсь тут же велел под стражу взять. Но уже через несколько дней на совете королевских региментаров соначальник Струся Иосиф Будзило заявил, что не имеет смысла и дальше возвращения гетмана Ходкевича ждать, пора к переговорам с Пожарским и Трубецким приступать. Ведь переговоры — это еще не сдача крепости, а возможность прощупать противника, поторговаться, свои условия перемирия ему навязать. Более того, Будзило вызвался сам послом-заложником в расположение неприятеля отправиться. Трокский конюший Эразм Стравинский, другие полковники и ротмистры его горячо поддержали. Пришлось Струсю их решение принять.
Весть о том, что поляки сами на переговоры с предводителями ополчения напросились и послом не какого-нибудь третьестепенного писарчука, а равного им по главенству полковника Будзилу прислали, всколыхнула земских ратников и таборных казаков.
— Ну наконец-то лед стронулся, — обнадежились одни. — Сиденьем тоже города берут, не только натиском! Не поймали карася, так поймаем щуку.
— Держи карман шире, — засомневались другие. — Ляхи — блудливое племя. Жарко желают, да губы поджимают. Пока их смерть не накажет, рядиться будут.
Третьи и вовсе распетушились:
— Да что с этим Будзилой воду в ступе толочь? Свернуть ему шею — и вся недолга. Без пастуха и овцы — не стадо.
А Иевлейка Карбышев вздохнул задумчиво:
— Журавли за море клином летят, гуси — вереницей, скворушки — скопом, а ляхам вверх тормашками придется лететь, — и засмеялся.
Однако переговоры с Будзилой ни к чему определенному не привели. Кабы не сопровождение, которое к нему князь Пожарский приставил, казаки Трубецкого на обратном пути его непременно прикончили. Но не сразу. Сначала они грозились любого шляхтича, который к ним в руки попадет, по улицам растерзанной Москвы на старой кляче провезти, да не как-нибудь, а задом наперед, в вывернутой наизнанку шубе, с рожей, измазанной дерьмом. Пусть полюбуется, что после нашествия Короны Польской на Руси сталось. Не все же ляхам с кремлевских стен русский народ быдлом обзывать, сурками, прячущимися в норы, трусливыми ослами, песьей кровью и еще невесть кем. Не все же им в дела чужого государства лезть. Недалек день, когда им за все злодеяния в аду гореть придется.
Заодно и на Пожарского гнев казаков пал. Очень уж он с ляхами и их прихвостнями носится. Как с писаной торбой. Давеча боярынь и дворянских жен с чадами и домочадцами, самою же шляхтой из Кремля и Китай-города изгнанных, пальцем не дал тронуть, нынче — Будзилу. Это куда годится? Стали гадать, кого князь своим послом-заложником на ответные переговоры к Струсю пошлет.
Утром на Казанскую это и выяснилось. Мимо караулов, составленных из земцов Пожарского и казаков Трубецкого, к воротам Кремля проследовал посольский отрядец стольника Василия Бутурлина, того самого, что еще при жизни Прокопия Ляпунова и по его поручению о судьбе Великого Новгорода со шведским наместником Якобом Делагарди переговоры вел, да так двоедушно, что вскоре Новгород под шведами оказался.
Весть о столь неудачном выборе посланника к полудню облетела все казацкие таборы и вызвала новый всплеск негодования.
— Не верим Бутурлину! — закричали самые поперечные. — Он хоть со шведами, хоть с ляхами за глаза сговорится, а мы расхлебывай. Не желаем!
— А и верно, — полетели голоса им в поддержку. — Доколе нас ляхи будут за нос водить? Позимье на дворе, а они все телятся. Молчан-собака и та, терпя, гавкнет, а у нас что, мо́чи нет? Или мы без спросу теперь гавкнуть не можем? Без Бутурлина с Пожарским…
— Выходит, не можем, — стали подзуживать крикуны, — От поры до поры все топоры, а пришла пора, нет топора.
— Не слушайте баламутов, братцы! — пробовали урезонить товарищей сторонники переговоров, — Не сегодня так завтра ляхи сами ворота откроют. Зачем зря силы тратить, лишнюю кровушку лить? Князю Пожарскому сверху видней…
Но искра уже дала язычки пламени. Они стремительно побежали по Замоскворечью, захватывая все новые и новые станицы. Кто-то в сполошный колокол ударил. Ему тут же ответили колокола окрестных звонниц. Недолго думая, пушкари замоскворецкого наряда, что стоял на Ивановском лужку возле церкви Всех Святых в Кулижках, по Китай-городу чугунными ядрами принялись палить.
— Коли вздыбится народ, и черт его не уймет! — стекаясь под воинские хоругви, радовались казаки. — А ну-ка поможем Бутурлину ляхов уломать!
— Как бы они его самого в сердцах не уломали.
— Велика беда. Он, чай, не праведник, чтоб его жалеть. А коли праведник, смерть ему в честь и похвалу будет. Знал ведь, на что идет. Ради такого дела все простится…
В казаков и впрямь черт вселился. С приставными лестницами, оставшимися от прежних приступов, с осадными щитами и подкатными срубами-турами, возбуждая себя и других яростными криками, они хлынули к стенам Китай-города. Их поддержали московские низы и ополченцы из станов Пожарского. Будто рой диких пчел вдруг облепил стены Большого посада. Натиск получился таким дружным и устрашающим, а наемники так измотаны голодом и безнадежностью своего положения, что серьезного сопротивления разъяренному множеству оказать не смогли. Лишь первую волну казаков и земцов им удалось обрушить с лестницами вместе на головы наступающих. Вторая смяла и подавила их. Третья обратила в паническое бегство. В поисках спасения жолнеры и черкасы метались по Ильинке, Варварке и прилегающим к ним проулкам Китай-города. Но всюду их настигали копья, сабли, сулицы упоенной долгожданным прорывом казачьей вольницы и ополченцев Пожарского. Только немногие из поляков и служилых иноземцев успели перебежать к Кремлю и укрыться за его могучими стенами.
В пылу сражения удальцы не заметили, как наступил вечер, погасло небо, змейками заструилась под ногами поземка, задувая редкий крупитчатый снежок в глаза, зализывая кровавые следы побоища. Кабы не темнота, они бы и Кремль на одном дыхании кинулись брать, так у них все внутри кипело и торжествовало. Но, видно, и впрямь две радости на один день не бывает.
Уже в сумерках поляки выпустили из Кремля воеводу Василия Бутурлина. Вопреки предсказаниям иных казаков — живого и невредимого. Хотя, как он потом поведал Минину и Пожарскому, польские старшины, взбешенные нападением ополченцев на Китай-город, поначалу за сабли схватились.
— Пся крев [111]! — бранились они. — Возможно ли во время переговоров баталию делать? Это есть нарушение правил, позорное для легата [112]! О свента матка, дай ему смерть от наших карабелей!
Но Бутурлин не растерялся.
— Не советую трогать меня, панове, — остудил их он. — Сами виноваты. Это вам последнее предупреждение от наших первых воевод. А теперь образумьтесь, любезные, сабельки свои острые спрячьте, иначе разговора у нас не получится. Учтите: я — ваше единственное спасение.
— Как то можно? — растерялись они. — Поведж [113]!
— Ежели меня порубите, то через кого с князем Пожарским и князем Трубецким о сдаче Кремля договариваться будете? Другого выхода у вас нет, как гнев свой унять и хорошенько подумать…
Пошумели старшины еще, пошумели, да делать нечего. Решили подождать, чем вытечка казаков закончится, а до тех пор посадили Бутурлина в промозглую темничку.
На его счастье, приступ взятием Китай-города увенчался. И сразу все переменилось. Выпустили поляки Бутурлина из заклепа, криво улыбаются и даже шутят: не змез ли? с тем ся светом не пожегнал ли [114]? А то паны полковники его к себе на разговор здоровым хотят видеть и весьма отдохнувшим.
Пришлось Бутурлину по пути в царские палаты отшучиваться:
— Слава богу, от меня еще ладаном не пахнет. А от ваших панов полковников я и впрямь успел отдохнуть. Пора и за дело приниматься.
По поведению стражников он сразу понял, что ляхам в Китай-городе крепко досталось, иначе бы они себя по-иному вели.
В царских палатах его ждали заметно присмиревшие старшины. Делая вид, что ничего не случилось, Иосиф Будзило сообщил Бутурлину:
— Для окончательного решения спорных вопросов наша сторона предлагает пану Пожарскому и пану Трубецкому съехаться завтра с паном Струсем и паном Мстиславским в нейтральном месте. Однолично. Что пан воевода об этом думает?
Помолчав для весомости своего ответа, Бутурлин согласился:
— Однолично, так однолично. Думаю, ваше предложение будет принято.
— Тогда не назовет ли пан воевода час и место встречи?
У Бутурлина и на это ответ готов:
— Ровно в полдень в застенке меж Кремлем и собором Покрова на рву. Говорить, не сходя с коней. Так короче и прямей будет. Подходы туда мы от Москвы-реки до Неглинной накрепко перекроем. Но и вы из Кремля чтобы не высовывались.
— То и так разумеется, — поморщился от его последних слов Будзило и прощально трепыхнул унизанными перстнями пальцами: — Пан может себе ехать.
Бутурлин давно понял, откуда у Будзилы перстни с драгоценными камнями. Ну конечно же, из царской сокровищницы. И мысленно позлорадствовал: «Не в коня корм. Нынче ты, наглая рожа, в ворованном серебре-золоте гуляешь, а завтра с голым задом останешься».
В ставку Пожарского Бутурлин возвращался в приподнятом настроении.
«Надо же, как удачно я место завтрашней встречи назначил, — покачиваясь в седле, думал он. — Нынче у нас Казанская. А собор Покрова Пресвятой Богородицы царь Иван Грозный в память о взятии Казани поставил. Тогда Богородица русское войско от татарского оружия своим покрывалом укрыла. Вот и сего дня взятие Китай-города без ее покрова не обошлось. Зря таких совпадений не бывает. Выходит, мы сызнова икону Казанской Божией Матери обрели…».
Много в душе Василия Бутурлина темного и постыдного за годы Смуты скопилось — алчность, жестокость, двоедушие, непостоянство, но нет-нет да и вспыхнет в ней свет неизъяснимый, любовь к людям, к земле родимой, гордость за русскую силу и веру, широту и братство в тяжкую пору, и возрадуется тогда его душа и заплачет, и затоскует, и умилится — вот как сейчас, на склоне переменчивого октября, под голубыми звездами, которые над Москвой и освобожденным от поляков Китай-городом зажглись, а скоро, даст Бог, и над Кремлем зажгутся…
Выслушав Бутурлина, Пожарский его действия одобрил и тут же новое поручение дал:
— А теперь, Василий Иванович, поезжай на Яузу к князю Трубецкому. Он нынче в радости, что его казаки у поляков Китай-город отобрали. Боюсь, как бы не вздумалось ему твои договоренности переиначить. Уж если ты со Струсем и Будзилой сумел общий язык найти, то с Трубецким и вовсе найдешь. По прежним-то временам вы близко знались. Вот и постарайся, чтобы завтра он у Покровского собора точно был. Жду тебя назад с его согласием.
Оставшись наедине с Мининым, Пожарский спросил:
— Что-то ты приумолк, сподвижник. О чем думаешь?
Минин ответил ему отрешенным взглядом. Казалось, он не услышал Пожарского. Но нет, вопреки этому взгляду последовал вразумительный ответ:
— Нынешний день в уме перебираю, Дмитрий Михайлович. Казаков Трубецкого за непослушание браню. Но и хвалю вместе с тем. Видишь, как все вдруг сошлось — позимняя Казанская, нечаянный приступ, место завтрашней встречи, которое Бутурлину пришло в голову именно у собора Покрова назначить. А мне видение было, что мы там с тобой в какой-то другой жизни повстречались… К чему бы это, понять не могу.
— Не можешь, так и не надо, Миныч. Спасибо, что в этой встретились. Нам бы ее с честью дожить. Как отцы завещали.
— Святые слова, — лицо Минина посветлело. — Сколько живу, столько многоцветию жизни и удивляюсь. Все в ней есть — свет и темень, счастье и горе, слабость и сила, смерть и рождение… Минувший день взять. Начался он вздорами казаков, а чем закончился? Всем миром поляков и литву из Китай-города низложили [115]. Даже самые низкие сердца на правом деле себя высокими показали. Даже самые далекие по роду и положению люди сблизились. Дело в завязку пошло. Вот я и думаю: наступит же такое благословенное время, когда ни в государствах, ни меж государствами розни не будет. Когда вражда по общему хотению отпадет, а ее место займут уважение и справедливость. Человеку немного надо. С одной стороны, излишества его губят, с другой — нищета неизбывная. Они ведь не меньшую вражду меж людей рождают, чем распри языков и вер. Разумную середину найти ой как трудно, но не безнадежно. Затем нам жизнь и дана, чтоб искать, а обретя — из рук не выпустить.
— Вот за это я тебя и люблю, друже, — поддавшись внезапному порыву, обнял Минина Пожарский. — За то, что не о себе в первую голову думаешь, а о жизни праведной.
— И ты мне тем же люб, — признался Минин. — Не тот живет больше, кто живет дольше, а тот, кто для людей…
Они не ложились спать до тех пор, пока не вернулся от Трубецкого Бутурлин.
— Сговорились! — не без гордости сообщил он. — Хотя и потрудиться пришлось. На радостях князь привередлив стал. Велел передать, что он сразу из своего городка на встречу отправится, а ты чтоб из своего ехал. На Красной площади и свяжетесь.
— Спасибо за труды, Василий Иванович, — успокоился Пожарский. — Теперь с чистой душой можешь отдыхать. Что хорошо, то хорошо, а будет лучше, так и увидим…
За Казанской следует ничем не примечательный Иаков день. Он выдался хмурым, ветреным. В такую погоду все тускнеет, становится серым и неприютным. Потускнела и Красная площадь. Река Неглинная, от которой подъем к площади ведет, подернулась зыбью, разбившей тонкий прибрежный ледок.
Оставив сопровождение на заставе у Неглинной, Пожарский отправился дальше один, как и было условлено. На этот раз площадь, зажатая между стенами Кремля и Китай-города, показалась ему широкой клочковатой улицей, уходящей вверх по склону до крутого обрыва над Москвой-рекой. Столетие назад здесь ничего не было. А Красной площадью называли лужок у Красного крыльца великокняжеского дворца. Со временем дворец разросся до размеров царского. Вместе с ним разрослась и площадь. Она выступила за стены сначала деревянного, затем белокаменного Кремля, заполнилась торговыми рядами. Не только в праздничные, но и в будние дни площадь кипела народом, радовала глаз яркостью красок и простором. Однако за годы иноземных нашествий и внутренних бед эти ряды, как и бóльшая часть Москвы, до основания выгорели. Тогда-то и появилось у Красной площади второе название — Пожар.
«Не гоже, когда Красная площадь Пожаром становится, — думалось князю. — Кабы не собор Покрова, ее нынче за Красную и не признать».
Впереди, в сером просвете крепостных стен, появились дорогие каждому русскому сердцу очертания — затейливо украшенные, многоцветные купола девяти храмов, расположенных вокруг первого, Покровского. Один из них по повелению царя Ивана Грозного построен над могилой любимого им ясновидца Василия Блаженного, а потому и весь собор Покрова нередко называют его именем: храм Василия Блаженного. И то, и другое название друг с другом не спорят.
«Вот и Минин ясновидец, — подумал вдруг Пожарский. — Видением святого Сéргия Радонежского он Нижний Новгород против польско-литовского нашествия поднял, настоял во челе ополчения меня поставить, много раз исход тех или других дел верно предсказывал, а нынче о том, что мы с ним в какой-то другой жизни у собора Василия Блаженного встретимся, удивил. Значит, так оно и будет. Но в отличие от Василия Блаженного ум у Миныча деловой, по-житейски мудрый, расторопный. Вот кому всем нам до земли надо поклониться, вот о ком память сберечь…».
Размышления Пожарского прервал выехавший из Никольских ворот Кремля глава седьмочисленных бояр кравчий Федор Мстиславский. И без того дородный, он опялил себя в несколько шуб, чтобы подчеркнуть свою знатность и главенство, украсил голову высокой горлатной шапкой. В таком одеянии Мстиславский был похож на стог почерневшего от дождей и морозов сена, взваленный на рыжего впрожелть коня. Сверху из стога торчало нечто похожее на голову в перевернутом колпаке. Шут гороховый да и только, но шут хитрый, многоопытный, обладающий огромной властью.
Еще с моста, перекинутого через ров у кремлевской стены, Мстиславский осведомился о здравии Пожарского, пожелал ему благополучия на многие лета, да так, будто они с ним давно уже на короткой ноге. Дождавшись ответных пожеланий, боярин придержал коня, чтобы пожаловаться:
— А я, князь, болезную. Сперва казаки Трубецкого мой двор калеными ядрами обстреляли, хоромец семейный пожгли. Он как раз на царские сады в Заречье выходит. Потом поляки и литовские люди на меня напустились. Откровенно сказать, я у них теперь вроде как в неволе. Не по пути нам стало. Вот они голову мне и проломили. До сих пор одыбаться не могу.
— Сочувствую, Федор Иванович, — терпеливо выслушал его Пожарский. — Но обидчики твои, как я знаю, не счеты сводить к тебе явились, а с голодухи. Ты гневаться на них стал, ногами затопал, вот какой-то из двух тебя кирпичом по голове и ударил. Верно я говорю? А полковник Струсь велел тех обидчиков за это судить. Одному голову ссекли, другого повесили. Какое уж тут напущение? Обычный грабеж и скорая расправа… Кстати, где Струсь? Почему ты не с ним?
В это время растворились Фроловские [116] ворота Кремля, и через ров на площадь выехал молодцеватый всадник в крытой шубе с золочеными узорами на плечах и груди.
— Я же говорю, что не по пути мне со Струсем и другими полковниками стало, — увидев его, подпустил в голос неприязни к поляку Мстиславский. — Верь мне, Дмитрий Михайлович. Я к тебе со всей душою.
«Душа-то у тебя уж больно изворотливая, Федор Иванович, — мысленно усмехнулся Пожарский. — Кто-кто, а ты на уловки горазд. Сдается мне, и тут без хитрости не обошлось. Долго ли со Струсем для вида по разным воротам разойтись? Сейчас для тебя и для стоящей за твоей спиной разнобоярщины важнее всего страдальцами себя выставить, поневоле у поляков оказавшимися. Только вряд ли это у вас получится».
Опередив Пожарского и Мстиславского, Струсь повернул к собору Василия Блаженного. Там их уже дожидался Трубецкой, подъехавший со стороны Москвы-реки. Расположившись друг против друга подвижным кругом, они начали переговоры.
На этот раз Николай Струсь никаких уступок в ответ на сдачу Кремля не требовал. Он просил сохранить жизнь рыцарству своего гарнизона. И только. Было видно, как трудно далась ему эта просьба.
— Давно бы так, — не удержал торжества Трубецкой. — Кабы не ваше шляхетское упрямство, не пришлось бы моим казакам и дворянам столько жизней на осаду Кремля и Китай-города положить. Ну да ладно. Повинную голову меч не сечет. Думаю, Дмитрий Михайлович меня поддержит?
— Поддержу, Дмитрий Тимофеевич. Как не поддержать? — сделав вид, что не заметил ловко вставленного «моим казакам и дворянам», ответил Пожарский. — Мы тут ради освобождения Москвы собрались, а не ради мести.
Сейчас его больше другое волновало: с чем прибыл на переговоры Федор Мстиславский? Земскому ополчению без родовитых бояр царя не избрать, а большинство из них вместе с поляками в Кремле находятся. Как с ними-то быть? Казаки да и многие земцы к расправе над изменниками призывают к тому, чтобы их власти и родовых поместий навовсе лишить. Со справедливым царем, но без бояр себя видят. Иное дело — Совет всей земли, созданный после объединения ополчений Пожарского и Трубецкого. В нем подавляющий вес представители боярства, дворянства, купечества и других состоятельных сословий имеют. Они от старых порядков вряд ли отступят. «Лучше с боярами государичу служить, — считают они, — нежели от холопей побитыми быть и в вечной работе у них мучиться». Ясно, что согласия меж теми и другими не будет. Вот и ломай голову, что делать.
Тут-то Федор Мстиславский и показал свое хитромудрие. Повинившись в том, что возглавляемое им боярское правительство оказалось втянутым в межгосударские распри, вину за это он на польскую сторону умело переложил. Москва-де и другие города по доброй воле на царство королевичу Владиславу присягнули, его прибытия и покрещения в православную веру до последнего часа ждали, но королевич их надежд не оправдал, а король Сигизмунд своего войска из Московского государства вопреки договоренностям не вывел. Из-за этого многие трения с их московскими представителями не только у земского ополчения случились, но и у Боярской думы, запертой в Кремле. Чтобы снять эти трения, бояре готовы присягу Владиславу отменить, а с польским королем Сигизмундом никаких сношений больше не иметь.
— Благоразумное намерение, — вновь поспешил высказаться Трубецкой. — Коли бояре от Владислава отстанут, то и сдача Кремля будет полной. Изголодались люди по тишине и порядку, за своего природного государя бьются. Ни самозванцы им не нужны, ни чужестранцы. А посему договор о сдаче надо безо всякого мешканья заключать. Только что сказанных оснований для этого по-моему вполне хватит. Остальное после приложится.
— А по-моему — нет, Дмитрий Тимофеевич, — возразил ему Пожарский. — То, что бояре готовы от присяги Владиславу отложиться, верный шаг. Он им зачтется. Однако вина всех, кто заодно с поляками был, куда больше, чем со слов Федора Ивановича выходит. От нее словами не откупишься. Народ все видит. А потому давай спешно Совет всей земли соберем и договор сдачи Кремля со всех сторон обсудим. Два месяца ждали, а уж два дня как-нибудь подождем.
Николай Струсь слушал их отчужденно. Он свое слово сказал, будто кость голодным псам бросил. Теперь пусть князья меж собой за нее грызутся. Мстиславский для него перестал существовать. И лишь на Пожарского и Трубецкого он иногда украдкой поглядывал, думая при этом о своих непростых отношениях с Будзилой, которого привел в Москву литовский магнат Ян Сапега. Это помогало ему от горечи поражения отвлечься.
А Мстиславский голову в нору из шуб втянул, да так, что нижний конец бороды наружу вылез. Его широкое стариковатое лицо вдруг стало по-крысиному злым, но при этом сохраняло напускную улыбку. За нею Мстиславский прятал страх и надежду. Страх, что земцы припомнят ему и другим седьмочисленным боярам их неблаговидную роль в воцарении литвы и поляков на Москве, в потворстве их самоуправству, а надежду на снисходительность Совета всей земли, где у него должно быть немало тайных доброжелателей.
В своей надежде Мстиславский не ошибся. Большинством голосов объединенный Совет постановил отобрать у запертых в Кремле бояр, дворян, дьяков, торговых и прочих пособников Речи Посполитой все, что им пожаловали Владислав и Сигизмунд, вернуть ценности из государевой казны и присвоенные ими поступления из земщины, лишить придворных чинов и удалить из Москвы самых отъявленных сторонников Речи Посполитой, но при этом не трогать родовые владения природной знати, не ставить бояр и дворян на одну доску с воинственными пришельцами. Это все же соотечественники, знатные и заслуженные в прошлом люди. Они-де поневоле в двойственное положение попали, а потому польским полковникам надлежит выпустиь их из Кремля раньше, чем они сами со своим рыцарством сдаваться выйдут.
Договор о сдаче Кремля и впрямь за два дня согласовать и скрепить присягой удалось На третий день Федор Мстиславский вывел своих людей через Троицкие ворота в расположение нижегородского ополчения. Он был уверен, что ему удастся сделать это, не привлекая особого внимания горожан. Ведь наступил день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского [117], покровителя славян. По почину преподобного Сергия Радонежского князь Дмитрий Донской сделал его днем поминовения воинов, павших на Куликовом поле, но со временем в этот день стало совершаться поминовение о всех усопших. Вот Мстиславский и выбрал час, когда ополченцы и жители Москвы растекутся по церквям и кладбищам, а у Каменного моста на Неглинной останутся лишь заставы земских ратников, поставленных для их охраны и сопровождения.
Однако слухи, разлетевшиеся по Москве, собрали у Троицких ворот изрядную толпу самочинных казаков и городской черни. Завидев Мстиславского, Ивана Воротынского и других ненавистных ей бояр, она засвистела, заулюлюкала, стала крыть перевертней распоследними словами. Приумолкла, лишь когда на Каменный мост ступил заметно прихрамывающий, с повисшей безжизненно рукой младший брат владыки Филарета, Иван Никитич Романов. Рядом с ним, ни на кого не глядя, сбивчиво вышагивал не по возрасту полный шестнадцатилетний сын владыки, Михаил. За ними следовала грузная, поблекшая от невзгод инокиня Марфа, в миру жена Филарета — Аксинья Романова.
— Горемыки, — сочувственно встретила их толпа. — В воронью стаю судьба-злодейка их занесла. Нешто бы они по своему желанию с филаретовыми мучителями ужились? Да ни за что на свете!
— Не скажи, приятель, — послышался протестующий голос, — Иван Никитич и прикинуться горазд. А на деле он такой же похлебец у поляков, как Мстиславский и его свора.
Но никто к этому голосу не прислушался.
— И впрямь горемыки, — потекли пересуды. — Жалко смотреть. Особо на Михаила Романова. Лица на нем нет. Ишь какой затурканный… Глаза прячет. А что их прятать? Вины на нем никоторой нет. Из отроков едва вышел, а до взростков еще и не поднялся.
— Вины-то нет, а все равно с четырех лет в опале, — последовал чей-то тяжелый вздох. — Родителей его царь Борис, убоясь соперника, постричь велел да по монастырям попрятать, а детишек на Белоозеро запихал. Младший сынчишка Филарета, Иван, там и помер, царствие ему небесное. Хорошо, хоть Михаил-наследник остался. Как-никак, а корень у Романовых старинный. Годков бы Михаилу подбавить да силы и умения родительского, глядишь — вот тебе и царь. Умные люди на него указывают, к нему народ склоняют.
— Умных нынче много, да зрячих нехватка. Сам говорил: «Коли не боярский царь будет, а наш, делом проверенный, то и жизнь к лучшему поменяется». А теперь на боярича молиться готов. Чем тебе князь Пожарский плох?
— И не плох вовсе. Только не мы царей выбираем, а за нас. Вот и нынче так будет. Ляхов избыли, а ярмо свое никуда не деть…
В это время кто-то в Мстиславского камень кинул. Пример заразителен. Полетели камни и в других бояр. Но тут князь Пожарский вперед выехал.
— Побойтесь Бога, отчизники! Вместе с Советом всей земли и я слово дал, что обид никому по выходе из Кремля не будет. Разве можно слово Земли нарушать? Исполнитесь терпения и великодушия, прошу вас и заклинаю. Близок час нашего торжества. Так будем же его достойны!
Слова Пожарского заметно остудили горячие головы. Толпа понемногу рассеялась, чтобы наутро вновь сойтись под стенами Кремля. Предстояло вывести из него тысячи с полторы пленных иноземцев, а с ними не ждавших себе пощады русских изменников, таких как Федор Андронов, в прошлом купец-кожевник, пожалованный Тушинском вором в думные дворяне, а королем Сигизмундом в кремлевские казначеи, ловчий Иван Безобразов, дьяк Иван Грамотин и другие злотворцы, запачкавшие себя темными делами.
Остатки полка Николая Струся решено было обезоружить в Китай-городе, занятом казаками Трубецкого, остатки полка Иосифа Будзилы — у Троицких ворот. И если ратники Пожарского не допустили при этом насилия, то казаки Трубецкого, вопреки обещаниям князя, начали беззастенчиво грабить шляхту и рыцарей, а тех, кто посмел им сопротивляться, с криками «возьми черт дьявола: оба не надобны!» саблями изрубили. Узнав об этом, Николай Струсь не рискнул покинуть Кремль. Он остался ждать своей участи во дворце Бориса Годунова, который занимал во время осады.
Тем временем казаки Трубецкого собрались у церкви Казанской Богоматери за Покровскими воротами, а земская рать Пожарского — у церкви Иоанна Милостивого на Арбате. С чудотворными иконами и хоругвями вместо ставшего для них привычным оружия двинулись они на Красную площадь. Там их ожидал настоятель Троице-Сергиева монастыря Дионисий. Взойдя на круглое каменное возвышение, называемое Лобным местом, он начал служить благодарственный молебен Пресвятой Богородице:
— О Всенепорочная мати владыки Христа Бога нашего! Аще не ты бы умолила за ны грешныя, кто бы град сей освободил от держания люторска и латинска! И твоим, госпоже, ходатайством вси работы свободихомся и сподобимохся видети честнаго и пречистаго твоего зрака чудотворную икону, и царствующий град пакы восприяхом молитвами твоима…
Словно откликаясь на его молитвенное пение, на тусклом до этого небе проблеснуло солнце. И тотчас строго-торжест-венные лица ополченцев осветились радостными улыбками. Будто Спаситель их приласкал по-отечески. А Лобное место стало похоже на церковный амвон, вынесенный на Красную площадь. Плачь, радуйся, торжествуй, слушай святого старца!
После молебна, в ожидании, пока владыка спустится по круговым каменным ступеням, народ расступился, открывая проход к Фроловским воротам Кремля. Первой по этому проходу поплыла икона Казанской Божией Матери. За ней двинулись Дионисий, Пожарский, Трубецкой и ратные воеводы. А во сретенье им уже плыла икона Владимирской Божией Матери. Это кремлевское духовенство во главе с галасунским [118] архиепископом Арсением встречало освободителей.
Чтобы не случилось давки у Фроловских ворот, одновременно с ними были открыты Никольские, но большинство ратников и примешавшихся к ним горожан устремились за владыкой и предводителями ополчения. Каждому в этотчас хотелось оказаться поближе к ним, чтобы своими глазами увидеть торжество возвращения Русии Московского Кремля. Так что давки у Фроловских ворот избежать не удалось. Самые нетерпеливые вылезали за огородку моста и ухитрялись передвигаться по нему сбоку. Иные, не удержавшись, срывались в жидкий, подернутый ледком одонок рва и взывали снизу о помощи к тем, кто теснился наверху.
Видя такое столпотворение, Тырков велел знаменщику Надею Юрлову, который в тот день нес Ермакову хоругвь, повернуть к Никольским воротам, а сам деловито шумнул:
— Сибирь, становись под Солунского!
Его густой зычный голос полетел над площадью. Ополченцы заоглядывались, желая увидеть того, кто бросил в толпу этот диковинный призыв. Стремянной Тыркова Сергушка Шемелин поспешил повторить его громче, но на свой лад:
— Сибирь, становись под Ермака!
Тут окружающие и вовсе заволновались:
— Где Ермак? Откуда?
— Да вон он… Архангела Михаила зришь? А на другой стороне у него Дмитрий Солунский писан. Сказывают, это хоругвь Ермака и есть. Под нею Сибирь к Москве пришла. И не когда-нибудь, а на день великомученика Солунского, который мы вчера отмечали.
— Гляди ты, как бывает. Зря такие совпадения не случаются…
Дружина Тыркова, распавшаяся было у Лобного места, стала срастаться и менять направление. Левая рука у Надея Юрлова так же крепка и ухватиста, как и правая. Из одной в другую Ермакова хоругвь сама перепархивает. Перед ней все невольно расступаются, пропуская дружину к Никольским воротам и дальше…
А вот и Ивановская площадь. Но, боже, как все вокруг порушено, изгажено, осквернено! Особенно храмы. Престолы Божьи разбиты и ободраны, иконы превращены в щепы, глаза святым выколоты, всюду смрад разложения и поругания.
При виде этого у Сергушки Шемелина сердце гневом зашлось:
— Это как же так можно?! Куда ни глянь, везде изуверство!
— Привыкай, парень, — посочувствовал ему Иевлейка Карбышев. — Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. Вот и ляхи, уходя, на порог плюнули, чтобы дороги нам к крыльцу больше не было. Ничего, перетерпим и это. Не помутясь, море не установится.
— И все же одоление за нами! — напомнил им Федька Глотов. — Наткнулись ляхи рылом на кулак. Впредь знать будут, каков он у Москвы!
Слушая их, Тырков думал: «Одоление — это черта, за которой новая жизнь начинается — для всех вместе и для каждого из нас. Поляков пересилили, осталось меж собой неустройства побороть. Всякая душа празднику рада. Вот и пусть отдохнет. Ведь дел впереди больше прежнего осталось…».
Соловьиный день
Тобольские воеводы сменились в начале ноября 7121 года [119]. На место князя Ивана Катырева-Ростовского и выборного дворянина Бориса Нащокина Ярославский Совет всей земли прислал князя Ивана Буйносова-Ростовского и выборного дворянина Наума Плещеева. Встретившись с ними впервые, большой сибирский дьяк Нечай Федоров не сумел скрыть своей горечи.
— А мне что же, замены подходящей не нашлось? — подосадовал он. — Выходит, так на Сибири и помру. Везет мне на одноглазое счастье. Оно не видит, кому дается.
— Всякому свое счастье, Нечай Федорович. В чужое не залезешь, — посочувствовал ему Буйносов и поспешил успокоить: — Но ты особо-то не кручинься. Насколько я сведом, князь Пожарский и о тебе помнит. Собирался человека разумного вместо тебя следом прислать. Не знаю, кого имянно, но чтобы тебе близок во всем был. Может, и сынка твоего Кирилу. Как я заметил, он у началия в чести. Кому, как не ему, дела у тебя в Тобольске принять?
«Хорошо бы, — плеснулась надежда в душе Нечая. — Мне радости больше и не надо. Только бы знать, что Кирила на ум стал, со мной делами сравнялся. Только бы победной вести об освобождении Москвы дождаться. Видит Бог, уже не долго осталось…».
И правда, в конце ноября гонец из Москвы долгожданную грамоту за приписью казанского дьяка Афанасия Евдокимова примчал. В ней говорилось, что Кремль от поляков с Божьей помощью очищен; пленные в Нижний Новгород, Ярославль, Галич, Вологду и на Белоозеро разосланы; их главарь Николай Струсь в один из кремлевских монастырей заточен; приспешник короля Сигизмунда Федька Андронов на пытке тайники, где поляки царские короны и другие ценности прятали, указал; из Боярской думы изгнаны окольничие князья Звенигородские, князь Федор Мещерский, Тимофей Грязной, братья Ржевские, постельничий Безобразов и другие изменники; часть дворян со своими отрядами стала покидать полки, ссылаясь на осенины, так что нынче объединенное ополчение Пожарского, Минина и Трубецкого наполовину из таборных казаков состоит; дабы упорядочить их службу, старых казаков решено отделить от беспорядочных и выдавать им жалованье согласно реестру; а вчерашние холопы долгожданную волю получили, освобождение от уплаты долгов и царских податей сроком на два года; одним словом, жизнь в Москве заботами Совета всей земли понемногу налаживается; есть в этом заслуга и земской дружины из Тобольского города, которую Сибирь в помощь нижегородскому ополчению прислала; за это ей сердечная похвала и великая благодарность.
А на словах гонец добавил, что сын Нечая Федорова, Кирила, теперь в товарищах у воеводы Василея Тыркова служит. Жив-здоров, чего и отцу желает.
— И только? — насупился Нечай. — А дальше где быть думает? В Москве? Или в Сибирь собирается?
— Об этом у нас разговора не было, — ответил гонец. — Но я так понял, что скоро вы должны свидеться. А где, не знаю.
Короткое слово «скоро», а сколько чувств оно в душе Нечая пробудило! Радость. Надежду. Сомнение. Нетерпение. Ну и, конечно, мысленный упрек сыну: «Эх, Кирила, Кирила. Мог бы и сам о себе написать.
Рука не отвалилась бы. А то через третью голову приходится о тебе выспрашивать. Пора бы понять, что родители не вечны. Сегодня они есть, а завтра хоть локти кусай — назад из земли не выймешь, пропущенное слово не вставишь. Вот, сынок, и не пропускай его…»
Следующий гонец доставил в Тобольск нежданные вести. Задним числом на победной Москве узнали, что еще в августе, когда Пожарский с ляхами на Девичьем поле и в Замоскворечье бился, польский король Сигизмунд новый поход на русский царь-град без решения сейма затеял. Не мытьем, так катаньем жаждется ему сына своего Владислава на трон московский усадить. Набрал он в Вильне три тысячи немецких наемников и двинулся с ними через Смоленск к Вязьме. Соединившись там с остатками войска разбитого под Москвой гетмана Ходкевича, король на Погорелое Городище в Ржевском углу напал. Но крепость эта оказалась ему не по зубам. Тогда Сигизмунд послов на переговоры в Москву отправил — с призывом к прежним договоренностям вернуться. Да кто же с ним теперь договариваться будет? У бояр, которые прежде сторону поляков держали, руки коротки, а народ цену королевским обещаниям знает. Вновь земцы с казаками польские отряды от Москвы отбили. Тогда Сигизмунд попытался взять Волоколамск. Три раза ходили его жолнеры на приступ и три раза откатывались. Несподручно им на чужой стороне без кормов в осеннюю непогоду биться. Вот и повернули назад не солоно хлебавши. Ивашке Заруцкому тоже не посчастливилось. Пользуясь новым нашествием поляков, выскочил он со своими черкасами из Коломны, чтобы для Марины Мнишек и ее малолетнего сына, «коломенского царевича Ивана Дмитриевича», Рязань златоглавую добыть, да о кулак тамошнего воеводы расшибся. Пришлось ему к Астрахани отбежать. В скором времени должен состояться в Москве великий Соборный совет по избранию государя, но уже сейчас всех объединяет неколебимое желание — никого из немецкой веры и никаких иноземных государств не выбирать. А чтобы поползновений таких не было, Федор Мстиславский со своей «седьмочисленной боярской братией» на богомолье по дальним городам разосланы. Близится час государского возрождения и торжества правды русской. Послужим же ей всяк на своем месте чистыми помыслами и помощью посильной…
Но и с этим гонцом Кирила отцу лишь словесный привет передал, будто так и положено. Как тут не расстроиться? Не железный ведь. За Москву волнение сердце давит, на Сибири своих бед хоть отбавляй, а тут сынок родимый не изволит отцу письмейце с верным человеком передать. Вроде мелкая обида, но такая иной раз острее крупной ранит.
Здоровье Нечая давно расшаталось. Сперва ломота в костях мучила, потом к ней грудные боли добавились, а теперь и голова болеть стала да так, что утром ее от подушки трудно оторвать. Встанет, а перед глазами круги плывут, сердце заходится, колени болью сводит. Добрел он как-то до крыльца да и шагнул сослепу мимо верхней ступеньки. Остальное у него из памяти вышибло. Очнулся на постельной лавке. Рядом батюшка из Воскресенской церкви Вестим Устьянин молитву творит. Свечи мерцают. Иконные лики сверху взыскующе глядят.
«Рано мне под образами лежать, — мысленно запротестовал Нечай. — Еще Кирилу и Василея Тыркова в глаза не увидел, еще имя нового государя не услышал».
А сам слова сказать не может. Язык отнялся.
Тут Вестим ему ладонь на руку положил, будто показывая, что не только языком, но и глазами, и прикосновениями, и понимающими улыбками разговаривать можно. Оказалось, он вовсе не заупокойную Нечаю пел, а молитву о скором исцелении и исполнении всех желаний.
Спозаранку на Крещение Господне [120] Вестим собрал за крепостными стенами верховой снег и приложил его к голове и онемевшим ногам Нечая, а вечером отвез на крытых санях к иорданской проруби на Иртыше. Там он его на руки, как дитя малое, взял и трижды окунулся с ним в ледяную воду. Тут-то и вспыхнули у Нечая угаснувшие было телесные силы. Увиделось ему, как отверзаются над иорданью небеса, и сходит с них в воду Истинный Христос Спаситель! Возликовала тут душа Нечая, бренное тело само собой распрямилось, и вышли они с Вестимом из проруби, поддерживая один другого.
Эта купель и помогла Нечаю до соловьиного дня [121] дожить…
Пробудился он от колокольного перезвона. В радостном предчувствии на ложе своем заворочался. Вопросительно на Вестима Устьянина глянул: что там такое приключилось?
Вестим вышел узнать. Вернулся просветленный.
— С радостью тебя, Нечай Федорович! — сообщил он. — Добровольники из Москвы вернулись. Приготовься Кирилу своего увидеть. Они с Васильем Тырковым уже на дворе. Сюда идут. Дай-ка я тебе лицо утру. Залежалось совсем… И бороду поправлю. Вот так хорошо будет. Да не волнуйся ты. День нынче вон какой ясный. На загляденье…
А Кирила уже на пороге стоит. На мгновение замер, потом бросился к постели отца, пал на колени, прижался губами к его сухонькой, истлевшей от болезни руке. За спиной Кирилы возвышался заметно похудевший, но по-прежнему глыбистый Василей Тырков. По-братски обняв Вестима Устьянина, он готов был и Нечая обнять, да несподручно было.
Глаза Нечая наполнились слезами. Он прижал к себе голову сына одной рукой, а другую протянул Тыркову.
— Вот и свиделись, — бережно принял ее в свои лапищи походный воевода. — Год, как день, пролетел. А для Кирилы и поболее. Приятно все же, когда тебя колокольным звоном встречают, — тут его голос предательски дрогнул, смазался, глаза увлажнились. — Да ты плачь, плачь, Нечай Федорович, — захлебнулся он. — И я вместе с тобой слезами умоюсь. Нынче не зазорно.
Воевода Буйносов успел предупредить Тыркова, что Нечай дар речи потерял, быстро устает, утомлять его долгими разговорами не следует, а на сложности жизни и вовсе нельзя сбиваться. Вот Тырков и поспешил невольные слезы шуткой перешибить.
— Ты пока в затылке почеши, — вспомнил он любимое присловие Нечая Федорова. — А мы с Кирилой все как есть тебе доложим. Не знаю только, с чего и начать.
— С государя, — подсказал Вестим. — Мы с Нечаем Федоровичем вести о наречении Дмитрия Пожарского ждем. А кому выпало?
— Сыну владыки Филарета, Михаилу Романову.
— Что так?
— Земскому собору видней. И народ на него указал.
Вестим согласно кивнул, перекрестился и запел:
— Слава Богу на небе, слава. Государю природному на всей земле, слава! Чтобы ему не стариться, слава! Его делам почестным умножаться, слава! Его суду справедливым быть, слава! Его верным слугам не измениваться, слава! Чтобы правда была на Руси, слава! Краше солнца светла, слава! Чтобы Бог нас миловал, а царь жаловал, слава!..
Нечай Федоров слушал Вестима завороженно, беззвучно шевелил губами, подпевая ему, улыбался счастливо, а Тырков о сложностях жизни думал.
Народ и впрямь на Михаила Романова указал. Но случилось это после того, как на заседние Земского собора, длящегося уже третью неделю, каким-то непонятным образом были отозваны с богомолья Федор Мстиславский и его приспешники, а Пожарский, Трубецкой, выборщики из числа крестьян, горожан, священников на него не попали. В их отсутствие Мстиславский вновь разговор о приглашении иноземного королевича на московское царство завел. По его мнению сын владыки Филарета, Михаил, за избрание которого ратовали многочисленные Романовы, а также казаки и старцы Троице-Сергиева монастыря во главе с Авраамием Палицыным, слишком молод и не знатен. Он с такой ответственностью не справится. Выступление Мстиславского даже Ивана Никитича Романова с толку сбило. Он предложил отложить дело об избрании племянника до прибытия его из Ипатьевского монастыря в Костроме, куда Михаил удалился с матерью-инокиней Марфой. Тут-то московский люд, узнав о новых происках Мстиславского и его прихлебателей, в Кремль ворвался. А впереди — казаки Трубецкого.
— Не для того мы Москву освободили, чтобы нужду и погибель понапрасну терпеть! — набросились они на бояр. — Снова хотите отдать нас под власть чужеземцев? Не выйдет! Желаем немедленно присягнуть царю, чтобы знать, кому служим и кто должен вознаграждать нас за службу!
И вновь, как в Казанскую, их натиск решил дело. Собор обязался верно служить Михаилу Романову, а трон ни литовским, ни шведским королям либо королевичам, ни боярам, ни Маринке и ее сыну не передавать.
— … Чтобы цветному платью государя не изнашиваться, слава! — пел Вестим Устьянин. — Его добрым коням не изъезживаться, слава! Чтобы царева золотая казна, слава! Была век полным-полна, слава!..
«Молодому государю не позавидуешь, — думал между тем Тырков. — Не по собственной воле он избран. Отец его, Филарет Романов, с лучшим русским боярином Василием Голицыным по-прежнему в Польше томится. Страна в полном разорении пребывает. А при дворе не пойми что делается. С одной стороны — Пожарский с Мининым и другие отчизники, с другой — Трубецкой, Мстиславский и прочее воронье… Москва на кипящий котел похожа…».
Мог Тырков в этом котле остаться — Пожарский место ему возле себя предлагал, но ведь должен же кто-то и на окраинах Московского государства службу нести. Такая уж у Тыркова натура — в толчее столичной он, как рыба, выброшенная на песок, задыхается. Ему таежные просторы подавай, простую, суровую, но захватывающую жизнь, верных и надежных друзей, таких, как Вестим Устьянин и казаки старой ерамковской сотни. У каждого на Земле свое место и дело. Без них человеку счастья не будет…
А Кирила, слушая славу, что пел Вестим новому государю, сжимал руку отца и шептал:
— Прости, батюшка. Не серчай на блудного сына. Мое сердце от тебя не отпадало…
Чтобы не мешать им, Тыров бесшумно выскользнул за порог, спустился во двор и вдруг услышал знакомый перестук. Глянул на воеводский терем, а там большой пестрый дятел шпиль деловито обстукивает. Будто и не улетал.
— Ну здравствуй, краснопузик! — обрадовался ему Тырков и вздохнул раздумчиво: — Жизнь другая, а шашели те же. Ну долби, долби. Не буду тебе мешать…
Потом вскинулся на коня и, спрямляя путь по Верхнему посаду, поспешил к родному дому. Поворачивая к себе на Устюжскую, заметил издали многолюдие на дворе Шемелиных. Там нынче двойная радость: Сергушка вернулся, да не один, а со вновь обретенным в Троице-Сергиевой обители отцом и молодой женой Мотрей.
У ворот Тыркова ждала Павла. Бросилась она мужу на шею, плачет, целует, кулачками в грудь бьет:
— Ни одному твоему слову не верю, злыдень. Это называется — с обозом в Ярославль сходил? Да ты на войну сходил… Еще и улыбается… Все, друг милый. Больше я тебя одного никуда не отпущу, так себе и запомни. Или со мной, или никак…
Пришлось Тыркову на место новой службы в Томской город Павлу взять.
На Томь они добрались в середине июля, в те самые дни, когда Нечай Федоров на руках у Кирилы в Тобольске умер, а в Москве венчался на царство юный Михаил Романов. Дмитрий Пожарский за свои труды чин боярина из его рук получил, Кузьма Минин стал думным дворянином с годовым окладом в двести рублей и немалым земельным наделом. Их ждало еще немало испытаний, но и вечная слава.
1
Имеется в виду 7103 год от Сотворения мира, или 1594 год от Рождества Христова.
(обратно)2
Контролер.
(обратно)3
Служилый дворянин на жалованье с пожизненным поместьем; чиновник для особых поручений.
(обратно)4
1602 год.
(обратно)5
Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметьев, Андрей Трубецкой, Борис Лыков — вошли в историю под именем седьмочисленные бояре, или просто Семибоярщина.
(обратно)6
23 февраля 1612 года.
(обратно)7
Форма, вырезанная из особо закаленной стали.
(обратно)8
Металлический штемпель.
(обратно)9
1606 год.
(обратно)10
Всяк свое несет.
(обратно)11
Ас-ях — обской человек, остяк. К ним относятся кеты, ханты, селькупы.
(обратно)12
Крестьяне, обрабатывающие чужую землю за половину доходов и сборов.
(обратно)13
Помесь жеребца и ослицы; мул.
(обратно)14
1606.
(обратно)15
1598.
(обратно)16
Поход.
(обратно)17
Племена западных монголов и казак-киргизов Средней орды.
(обратно)18
Сажень — 2,336 метра.
(обратно)19
Хвост и грива.
(обратно)20
30 мая.
(обратно)21
Укрепленный войсковой обоз.
(обратно)22
Передвижная стена на санях или телегах, из-за которой ведется бой.
(обратно)23
Пеньковый факел, пропитанный салом или смолой.
(обратно)24
Чума.
(обратно)25
Перекресток.
(обратно)26
Свита.
(обратно)27
Эрц-герцог.
(обратно)28
Заразы — отвесные кручи, обрывистый берег; отсюда название крепости, основанной в 1224 году на реке Остер; позже и доныне — город Зарайск.
(обратно)29
19 марта 1611 года.
(обратно)30
Кладбище.
(обратно)31
Эпилепсия.
(обратно)32
Хвала, слава; спасибо; ай да молодцы!
(обратно)33
Подпись.
(обратно)34
Стоячий ворот.
(обратно)35
Кожа быка или коровы, выделанная по русскому способу на чистом дегте.
(обратно)36
1610.
(обратно)37
Индюк.
(обратно)38
Советники.
(обратно)39
1611.
(обратно)40
1609.
(обратно)41
Несколько деревень с церковным приходом под общим управлением.
(обратно)42
Тюмень построена в 1586-м, Тобольск — в 1587 году.
(обратно)43
Березов, Пелым (1593), Сургут, Тара (1594), Обдорск (Салехард) (1595), Нарым (1597), Верхотурье (1598), Туринск (1600), Мангазея (1601), Кетск (1602), Томск (1604).
(обратно)44
Движимое имущество, богатство.
(обратно)45
Оборотнями.
(обратно)46
Грамота татарского хана; в данном тексте употреблено в переносном значении, с издевкой.
(обратно)47
Неверный, нехристианин.
(обратно)48
1582.
(обратно)49
27 июня.
(обратно)50
1588.
(обратно)51
15 июля.
(обратно)52
Видения, духи, призраки.
(обратно)53
Зонтик.
(обратно)54
Уральские горы.
(обратно)55
Изначальное название Вятки.
(обратно)56
Одна из слобод, из которых возник город Пермь.
(обратно)57
Понос.
(обратно)58
9 часов по сегодняшнему исчислению времени.
(обратно)59
Голодранцы.
(обратно)60
Воины, вооруженные бердышем — широким топором на длинном ратовище.
(обратно)61
Имеется в виду Василий Шуйский.
(обратно)62
Гермоген.
(обратно)63
Артель.
(обратно)64
Сборщик или хранитель казенного имущества.
(обратно)65
Слитки.
(обратно)66
23 августа 1587 года.
(обратно)67
Шмель.
(обратно)68
Эпидемии и землетрясения.
(обратно)69
Лоскут материи на шлеме.
(обратно)70
Красный.
(обратно)71
28 июля.
(обратно)72
6 августа.
(обратно)73
Гамбург.
(обратно)74
Вооруженный всадник.
(обратно)75
Имение для загородного отдыха.
(обратно)76
Август 1612 года.
(обратно)77
16 августа.
(обратно)78
18 августа.
(обратно)79
Сурна — духовой инструмент, род гобоя.
(обратно)80
Индейский петух.
(обратно)81
Польские военачальники разного уровня.
(обратно)82
Солдаты.
(обратно)83
Привилегированные польским правительством украинские казаки.
(обратно)84
1440 год.
(обратно)85
Слава нашему оружию!
(обратно)86
Дубина, копье или бердыш.
(обратно)87
Ваша милость.
(обратно)88
Негодяй.
(обратно)89
Сто чертей.
(обратно)90
Оруженосец, телохранитель.
(обратно)91
22 августа.
(обратно)92
Шарить, обирать, мародерствовать.
(обратно)93
Кладбище на открытом возвышенном месте.
(обратно)94
Белокурые — белорусы.
(обратно)95
Темноволосые — малороссы, украинцы.
(обратно)96
Вложите дух вольности в наши руки!
(обратно)97
Смешной, забавный.
(обратно)98
Перебежчик.
(обратно)99
Крепкая водка.
(обратно)100
Легкое.
(обратно)101
К сентябрю.
(обратно)102
1 октября.
(обратно)103
13 сентября.
(обратно)104
22 сентября.
(обратно)105
Холодный северный ветер, оголяющий деревья.
(обратно)106
Одуванчики.
(обратно)107
Целоваться, обниматься.
(обратно)108
Жених и невеста.
(обратно)109
4 октября; намек на присловие: «На Ерофеев день один ерофеич (зелено вино) кровь греет».
(обратно)110
22 октября.
(обратно)111
Песья кровь.
(обратно)112
Для посла.
(обратно)113
Скажи.
(обратно)114
Не замерз ли? Не умер ли?
(обратно)115
С 2005 года этот день отмечается как День народного единства.
(обратно)116
В 1658 году они будут переименованы в Спасские.
(обратно)117
26 октября.
(обратно)118
Архангельский.
(обратно)119
1613.
(обратно)120
6 января 1613 года.
(обратно)121
2 мая; день, когда на Руси начинают петь соловьи.
(обратно)
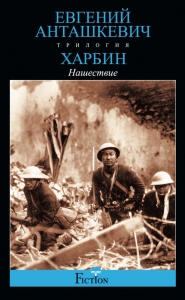




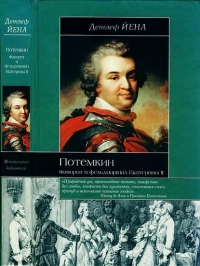

Комментарии к книге «Мужайтесь и вооружайтесь!», Сергей Алексеевич Заплавный
Всего 0 комментариев