I
На берегу сильно бурлившей реки, вздутой весенним разливом, царило необычайное оживление. Почти все население деревни, с подростками и стариками, толпилось вокруг дорожной кареты, запряженной пятериком измученных коней, и, размахивая руками, перебивая друг друга, толковало о переправе через эту реку со слугами проезжего господина — с его камердинером, молодым парнем в дорожной ливрейной шинели со множеством воротников и в шляпе с кокардой, с поваром, вылезшим из кибиточки, приделанной к задней стенке экипажа, и с бородатым осанистым кучером, уныло поглядывавшим на неожиданную преграду. В совещании принимал участие и форейтор, мальчик лет четырнадцати. Мало-помалу сдержанный говор перешел в такой гвалт, что одна из шелковых занавесок на окнах поспешно поднялась, и над спущенным нетерпеливой рукой стеклом появилось красивое молодое лицо мужчины с темными глазами и с густой шапкой вьющихся белокурых волос. Во взгляде, которым он обвел толпу, выражалось недоумение человека, не вполне еще очнувшегося от крепкого сна и неясно сознающего, во сне или наяву видит он и слышит то, что происходит вокруг него.
— Что случилось? Почему мы стоим? Что это за народ? — спросил он у подбежавшего к нему камердинера.
— Да вот не знаем, как реку переехать. Нет тут у них ни моста, ни плотины, ни парома. Говорят — вброд, а ее, вишь, как вздуло.
— Какая река?
— Малявка-с.
— Малявка? — с живостью переспросил барин. — Отворяй скорее, я выйду, — добавил он.
Дверца распахнулась, и не успел Федька развернуть подножку, как барин спрыгнул на землю и, не обращая внимания на толпу, почтительно расступившуюся перед ним, начал внимательно всматриваться в пейзаж, залитый лучами солнца.
Было чем залюбоваться! Речка капризно извивалась у подножия гор, покрытых лесом; роскошная весенняя зелень переливалась изумрудным блеском в солнечных лучах, лаская взор всевозможными оттенками. Но глаза проезжего на ней не останавливались и с напряженным вниманием поднимались все выше и выше, отыскивали что-то в пространстве, досадуя на волны зелени, скрывавшие перед ним горизонт.
— Господские-то хоромы таперя тополями засажены, а прежде их, бывало, издалече было видать, — произнес старческий голос в толпе, точно угадывая причину недоумения незнакомца.
Последний обернулся к старику, произнесшему эти слова, и отрывисто спросил:
— Где же тополя?
— Вон там! Верхушка башни из-за них чуть-чуть виднеется, — ответил старик, протягивая руку к группе высоких тополей, над которыми белелась остроконечная верхушка башни.
— В доме живут? — осведомился проезжий.
— Живут. Молодой барин Дмитрий Степанович все больше в разъездах, а супругу свою к бабушке привез. Детки у них. Тополями-то засадить дом старая барыня приказала, чтобы с большой дороги не было видно.
— Когда? — с живостью спросил проезжий.
— Да уж таперь, поди, годов двадцать будет. У меня в те поры внучка родилась, скоро пять лет как замуж ее отдали.
«Двадцать лет! В тот самый год, когда меня пятилетним ребенком привезли сюда из Москвы», — подумал Владимир Михайлович Грабинин.
Он зажмурился, чтобы лучше представить себе местность такой, какой она была в то время, но видение из прошлого, мелькнувшее было перед ним при имени реки, безвозвратно кануло в вечность и не являлось на его зов; как в калейдоскопе, кружились в его мозгу обрывки давно забытых впечатлений: большой белый дом на горе с затейливыми башнями и с высоким каменным крыльцом в итальянском вкусе; роскошный сад с тенистыми аллеями, спускавшимися к реке — той самой, перед которой он теперь стоял. Смутно, как во сне, припоминалось, что когда-то он бегал и резвился в этом саду с другими детьми, в такую же, как теперь, весеннюю пору, но эти картины исчезали одна за другой, не давая ему всмотреться в них. Между прочим промелькнула перед его духовными очами длинная вереница комнат, где почему-то не только бегать и резвиться было строго запрещено, но даже и говорить нельзя было иначе как шепотом. Тут толпились люди с испуганными лицами, и ему было жутко. В одном из покоев, глубже и мрачнее прочих, на широкой кровати лежала старуха с пронзительными глазами, худая и страшная. Над кроватью спускался балдахин из темного бархата, поддерживаемый когтями огромной золотой птицы с остроконечным клювом и распростертыми крыльями. Эта птица, точно парившая под самым потолком, так запечатлелась в памяти Грабинина, что заслонила собою все прочие представления, и ему невозможно было вспомнить лицо лежавшей под нею старухи: оно воскресало перед ним в образе птичьего клюва.
А может быть, на самом деле ничего этого не было: он, может быть, все это видел во сне, на картине или вычитал в книге?
Владимиру Михайловичу так захотелось удостовериться в этом, что он обернулся к окружавшей его толпе с готовым вопросом на устах. Но ему не удалось произнести его: Федька бежал к нему с предложением пройти несколько шагов по берегу к тому месту, где, по уверению здешних старожилов, было так мелко, что смело можно было ехать вброд.
— Выше подножки вода не достанет. Вчера вечером мельник тут переехал с кладью, а воды было больше сегодняшнего, — объяснял он, указывая на изгиб реки, уходившей за гору. — Вот тут один вызывается проводить.
Барин принял предложение и минут через двадцать, сидя в карете, медленно ехал по воде к противоположному берегу, где посланный на разведку парень, весело размахивая руками, кричал, чтобы «смело ехали, без сумления».
Он был прав; вода покрывала только колеса экипажа, медленно покачивавшегося на высоких круглых рессорах и, успокоенный относительно переправы, Грабинин снова задумался об обитателях дома, где, ему казалось, он был в детстве, когда его привозили сюда из Москвы прощаться с умирающим дедом, оставившим ему то самое имение, которое он ехал теперь осматривать.
— Вы — чьи? — спросил он старика, помогавшего ему найти старый дом за тополями.
Этот старик во время переправы шел в воде ближе всех к экипажу, с любопытством поглядывая на высовывавшегося из окна барина.
— Аратовские. Барин наш все в разъездах по другим своим имениям, а здесь старая барыня хозяйничает.
— Так у вас и старая барыня есть?
— Завсегда у нас была старая барыня. В деревне таких стариков и в живых не осталось, которые бы то время помнили, когда ее здесь не было.
— Сколько же ей лет?
— Да поп сказывал, что по церковным книгам ей уже давно за сто перевалило.
«Неужто это та самая старуха, которую я видел под балдахином двадцать лет тому назад? — подумал Грабинин. — Но в таком случае можно рассчитывать, что и балдахин с птицей цел и что я их увижу?»
— И ваша барыня до сих пор в своем уме? — спросил он.
— Ума-то у нее, пожалуй, на десяток молодых хватит, — ответил старик с самодовольной усмешкой. — Дай Бог каждому так управляться с хозяйством, как наша старая барыня Серафима Даниловна. До нее у аратовских господ только и имения было, что это самое Малявино с хуторами, а теперь всего у нас приумножилось — и земли, и лесов. И все это — ее ума дело. Рассказывают старики, что и покойный супруг, и сыновья из ее воли не выходили. Да и правнук-то, теперешний наш барин Дмитрий Степанович, уж на что до всего дошлый, а и тот почти ни во что здесь не вмешивается и, можно сказать, гостем у нас живет, все хозяйство, значит, старой барыне предоставил. И в других-то своих имениях без ее совета ничего не начнет. Она все знает. Да и как ей не знать, когда столько лет прожила на свете и все настоящей самовластной хозяйкой? Было из чего ума набраться. «Я, — грит, — все знаю, и то, что есть, и что было, и что будет; меня, — грит, — не проведешь и ничем не удивишь».
— Ты из дворовых? — прервал его Грабинин, от которого не ускользнули изысканные для мужика обороты речи и чистота русского произношения собеседника.
— Точно так-с, из Россеи с родителями вывезен, из-под Тулы, и сызмальства при господах: в казачках, при буфете, потом в камардинах при барчуках. В Питер они меня с собой взяли. Там несчастье со мной случилось, и сослали меня в дальнюю деревню, да на простой девке женили, чтобы, значит, отбить охоту на красавиц в девичьей заглядываться, — прибавил он с усмешкой, немного помолчав. — И вот теперь скоро сорок лет, что я опять на родине очутился. Барыня наша гневна и неотходчива, старую мою провинность отпустить мне не изволила, в барские хоромы обратно меня не приняла, а приказала отпустить леса на избу, чтобы строился на указанном месте и мужиком, значит, доживал век. Построился я, хозяйством обзавелся, женился, жену схоронил, дочку замуж отдал, двух сыновей женил и живу теперь с внучками-сиротами. Две у меня их было, да старшенькую Настю к молодой барыне в услужение взяли, а вторую хочу замуж выдать.
Не подозревая, какое значение будут иметь сообщаемые факты на его судьбу, Грабинин все рассеяннее слушал старика по мере того как они приближались к берегу. Наступал конец путешествию; поощряемые громкими криками мужиков, кони, мокрые и взволнованные неожиданной ванной, шумно фыркая, втащили карету на крутой песчаный обрыв реки. Мужиков, помогавших при переправе, одарили медными пятаками из кожаной мошны, хранившейся под сиденьем, кучер весело крикнул: «Трогай!» — и экипаж помчался по длинной деревенской улице, мимо глазевших из всех окон и со всех крылечек баб и ребятишек.
Деревня Малявино скрылась из вида. Оставив в стороне дремучий лес, около часа ехали по зеленеющим ранними всходами аратовским полям, миновали новый кирпичный завод, а там, перед тем как повернуть за рощицу, карабкавшуюся по пригоркам, кучер приостановил лошадей, чтобы дать Федьке соскочить с козел, подпрыгнуть к окну, из которого выглядывал барин, и скороговоркой возвестить:
— Вот и Воробьевка, сударь! Извольте взглянуть налево, барские хоромы видать.
Грабинин метнулся к другому окну и увидал промеж спутанных ветвей заглохшего парка почерневшую от времени крышу над длинным, осевшим на сторону старым домом.
Зрелище было не из привлекательных. Сад совершенно одичал и порос бурьяном, пруд затянулся илом, аллеи поросли высоким непролазным кустарником, а постройки разваливались.
Зато в стороне от барских хором, за полверсты от них, на юру и одиноко, торчал среди лужайки странной архитектуры небольшой дом, вокруг которого было и людно, и оживленно, и шумно. Весь залитый лучами солнца, он резко выделялся на темном фоне парка, давно превратившегося в дремучий бор. У заново срубленного крыльца хлопотали куры, и теснилась пестрая толпа поселян в живописной местной одежде, вызванная сюда бубенчиками приближавшегося экипажа. И, должно быть, такое событие, как приезд господ, было здесь в редкость, если судить по недоумению и жгучему любопытству, не без примеси страха, выражавшемуся на всех лицах.
Миновав строения барской усадьбы и оставив их далеко за собой, карета повернула прямо к этому дому. Толпа раздвинулась, куры разлетелись в разные стороны, а через огород, кратчайшим путем, перепрыгивая через ямы и кусты, бежал без шапки человек лет тридцати пяти в опрятном черном кафтане и в высоких сапогах, — управитель Андрей, заведовавший Воробьевкой со смерти старика Вишнякова, который тут хозяйничал бесконтрольно еще при жизни деда теперешнего владельца. Шла деятельная возня и в доме, где несколько парней и девок, под наблюдением красавицы Маланьи, жены Андрея, женщины молодой, строгой и проворной, вытаскивали в огород сундуки и узлы со всякой всячиной.
Бросив беглый, но зоркий взгляд на эту возню, Андрей обогнул дом и, подбежав к барину, низко поклонился ему.
— Управитель? — спросил последний с улыбкой.
— Точно так-с. Добро пожаловать, сударь! Заждались мы вашей милости, — весело проговорил Андрей, молодцеватым движением головы отряхивая назад густые кудри русых волос, спадавших ему на лоб при поклоне, которым он приветствовал своего господина. — Мы вас, сударь, не ждали сегодня, не взыщите за беспорядок. Уведомили бы раньше о своем приезде, все нашли бы готовым для вашего пребывания, — продолжал он, энергичным взмахом руки отгоняя прочь глазевшую кругом толпу любопытных, чтобы остаться с барином наедине.
— А ты меня здесь хочешь поместить? Почему же не в доме?
— Там уже давно невозможно жить. Покойный Абрам Никитич все собирался от сырости да от крыс к внучкам в деревню перебраться, да так и умер, а после его смерти дом в еще большую ветхость пришел. Крыша протекает, печи разваливаются, полы давно прогнили. Все это поправлять стало бы в копеечку вашей милости; ведь здесь глушь, мастеровых пришлось бы из Киева выписывать, а там все ляхи, — такую заломили бы цену, что весь годовой доход с Воробьевки им пришлось бы отвалить. Вот я и надумал заместо таких трат использовать амурный домик, что без употребления стоял в парке.
— Амурный домик? — переспросил Грабинин. — Вот это? — прибавил он, указывая на строение, пестревшее заплатами из нового дерева и с неуклюжими пристройками, нисколько не отвечавшее данному ему названию.
Красивое лицо управителя, его смеющиеся лукаво глаза, бодрый вид и жизнерадостное красноречие производили такое приятное впечатление, что в беседе с ним время летело незаметно, а этого только и нужно было Андрею: задержать подольше барина на крыльце, чтобы дать время убрать все лишнее из дома.
— Точно так-с, домик этот спокон века звали амурным. Кличка эта ему дана покойным старым барином, вашим дедушкой.
— Ты говоришь, что он стоял в парке? Как же вы его сюда перенесли?
— Мы его не переносили-с, мы этот самый парк вокруг него вырубили и, таким образом, к жилью его приспособили. Если теперь убрать его теми коврами, что у нас в кладовой хранятся, да кое-какую мебель из старого дома сюда перенести, вашей милости можно будет совсем спокойно целый год тут прожить, пока нового дома не выстроим.
— Я приехал сюда всего на неделю, — заявил барин.
— Что же это вашей милости не угодно нас подольше вашим присутствием порадовать? — спросил Андрей, ловко скрывая радость, наполнившую его сердце от приятного известия.
— Мне надо только познакомиться с имением, посмотреть, как идет хозяйство, да узнать, нельзя ли побольше извлекать из него дохода.
— Хозяйство здесь ваша милость найдет в порядке, на том стоим. Ночь не доспим, куска не доедим, чтобы барское добро в целости сохранить, чтобы все было исправно, а что до денег, то в настоящее время у нас самая малость осталась, по той причине, что вплоть до зимы в хозяйстве одни только траты, а доходов ждать нельзя. Вот если б ваша милость дозволили хоть самую малость леса продать, тогда мы бы и с деньгами были, и облегчение в хозяйстве получили. Народ кругом — вор и разбойник отчаянный, от одних беглых с Дона да из Москвы отбоя нет.
Барин давно перестал слушать его; он углубился в мысли, не имевшие ничего общего с рассуждениями о непроизводительности лесного хозяйства. При упоминании об амурном домике в его уме завертелись рассказы старых московских тетушек и бабушек о проказах его покойного деда с красавицей-полькой, которую он тайком вывез из Варшавы, где состоял при царицыном после. Эту польку, к величайшему огорчению своей законной супруги и ко всеобщему негодованию и соблазну, дед поселил в своем родовом имении Воробьевке. На беду красавица была замужем за паном Джулковским из мелкой шляхты, но с большими связями и протекциями. Сутяга и законник из Киевского воеводства, это Джулковский немедленно отправился в Петербург жаловаться на бесчестье, причиненное ему русским офицером, и как ни старались доброжелатели Грабинина, в том числе и его свояк, Александр Андреевич Безбородко, придать его поступку вид невинной шалости, и как ни расположена была сама царица Елизавета Петровна снисходительно относиться к такого рода любовным проделкам, пан Джулковский до тех пор зудил и кляузничал, пока не добился приказа вернуть ему, на счет похитителя, супругу, с уплатой крупного куша за бесчестье.
На имение Грабинина было наложено запрещение, тем более тягостное, что Воробьевка находилась на границе Киевского воеводства, где в то время хозяйничали соплеменники его соперника, и частые наезды судей да разных комиссаров, все друзей и собутыльников пана Джулковского, не могли не быть убыточны и мучительны для несчастного похитителя его жены.
Одним словом, дело несомненно кончилось бы полнейшим разорением последнего, если б, на его счастье, поляки не прогневали русскую императрицу какой-то крайне дерзкой выходкой, и если б друзья Грабинина не воспользовались удобным случаем убедить ее, что не стоит так жестоко карать дворянина, проливавшего кровь за отечество, из-за беспутной полячки, которая сама соблазнила его на увоз от постылого мужа. Следствие приказано было прекратить, а пану Джулковскому — довольствоваться возвращением ему супруги и вознаграждением, уже сорванным всякими правдами и неправдами.
Однако пятилетняя судебная волокита так измучила и разорила Грабинина, что вернуться к прежней жизни он был не в силах. И он повел в своей Воробьевке жизнь озлобленного анахорета, удрученного мрачными воспоминаниями (а может быть, и угрызениями совести), относясь равнодушно не только к хозяйству, но и к родному единственному сыну. Последнего мать увезла с собою в Москву, когда убедилась в своем бессилии кротостью, покорностью и любовью изгнать из сердца мужа привязанность к иноземке. Так как прибегать к другим мерам, пользоваться своими законными правами и заступничеством влиятельных родственников против неверного мужа ей было не по нраву, то она и предпочла удалиться в монастырь, где вскоре и скончалась от тоски, оставив сына на попечение своих родных.
Когда польку вывезли из Воробьевки и когда кончилось мучительное дело взысканий и начетов с имущества Грабинина, все ждали, что он пожелает взять к себе сына, чтобы самому заняться его воспитанием. Однако этого не случилось, и только перед смертью он выразил желание благословить внука, названного его именем. Кроме того, дед был его восприемником от купели заочно, точно так же, как заочно дал свое согласие на брак сына с неизвестной ему девицей. При последнем свидании он несомненно открыл сыну свою истерзанную душу и объяснил ему причины, заставившие его обречь себя на затворничество в молодых еще годах; долго говорил он с ним наедине, перед тем как навсегда смолкнуть. Михаил Владимирович вышел из спальни отца растроганный, в слезах, но сын был еще слишком мал, чтобы посвящать его в семейные тайны, а когда он достиг возраста, когда можно было все открыть ему, сделать это было некому: его отца уже не было в живых. Таким образом, он знал про деда лишь то, что все знали, о внутренней же его жизни ему ровно ничего не было известно.
Много раз пытался Владимир Михайлович восстановить воображением подробности любовного романа, от которого так много выстрадал его дед, но это оказалось так же трудно, как восстановить сложнейшей архитектуры здание по куче мусора и камней, оставшихся от него.
И вот судьба столкнула его с людьми, которые могли отчасти удовлетворить его любопытство.
— Ты дедушку помнишь? — спросил он у Андрея.
— Как не помнить! Я при них в казачках состоял, трубку им подавал и за их стулом стоял, когда они изволили кушать. Ведь мне, сударь, тридцать шестой год идет. Когда вашу милость сюда привозили прощаться с дедушкой, я вас на руках к ним поднес. Вам, конечно, этого не помнить, а я уже тогда жениться метил и невесту себе присмотрел — ту самую Маланью Трофимовну, теперешнюю мою супругу! — с веселой откровенностью продолжал распространяться Андрей, не забывая при этом поглядывать на окна дома, мимо которых то и дело шныряла его полногрудая красавица-жена.
Он не ошибся, предполагая, что барин не помнил ничего из того, что он старался ему напомнить; как часто бывает в подобных случаях, важнейшее событие из его поездки сюда, а именно смерть деда, совершенно испарилось из его памяти, тогда как такое ничтожное событие, как посещение дома на реке Малявке, и старуха на кровати под балдахином с золотой птицей, как живое, воскресло в его воображении.
Между тем Андрей, встретившись взглядом с глазами жены, на мгновение остановившейся перед окном, чтобы сообщить ему, что все готово, предложил барину войти в дом и подкрепиться, чем Бог послал.
— Завтра наши мужички и дичинки из леса притащат, и рыбки в реке наловят, да и повар вашей милости с дороги уберется и изготовит обед по вашему вкусу, а уж сегодня извольте нашей стряпни отобедать, не побрезгуйте. Чем богаты, тем и рады, — говорил он, следуя за барином в горницу с большим диваном, обитым кожей, стульями такой же грубой работы и овальным столом, уставленным яствами на белой домотканой скатерти.
Пока барин кушал, в соседней комнате Федька готовил барину постель из пышных пуховиков и уставлял стол принадлежностями для туалета: флаконами духов, банками французской помады, пудрой, красивым бритвенным прибором, овальным зеркалом в серебряной оправе и тому подобными вещами, считавшимися необходимостью для франта тогдашнего времени.
Угощением молодой барин воспользовался на славу. Никогда не едал он такой вкусной сметаны, таких сырников и вареников, сочных галушек и рассыпчатого пшенника, желтого, как янтарь. Когда же Маланья поставила на стол глубокое блюда с черешнями, барин с изумлением спросил:
— Откуда у вас такие ранние вишни?
— Грунтовой сарайчик мы тут выстроили за огородом, — скромно ответил Андрей. — Она у меня охотница до садоводства, — кивнул он на зардевшуюся от радостного волнения жену. — Ее хозяйство. И все с одними бабами, мужиков на пустые затеи мы не даем! — и, чтобы загладить минутную забывчивость, заставившую его занимать барина такими пустяками, как его семейные дела, Андрей поспешил предложить осмотреть барские хоромы, пока еще не стемнело. — Сами увидите, что от них осталось.
Увы, осталось очень мало — одни только развалины под грозившей обвалиться крышей. По мнению Андрея, проникнуть в дом было опасно, да и затруднительно, — в такую колючую чащу разросся тут сад, некогда наполненный душистыми цветами, с дорожками, усыпанными песком, с фонтаном и тому подобными затеями.
Полюбовавшись издали руинами, тщетно пытаясь восстановить в памяти то, что он здесь видел двадцать лет тому назад, Грабинин присел на исковерканный грозою ствол старого дуба и снова начал расспрашивать своего спутника про старину.
— Расскажи мне про деда. Он говорил с тобою когда-нибудь?
— Ни с кем не изволили они разговаривать, кроме Абрама Никитича.
— Кто это — Абрам Никитич? Здесь живет? Можно его видеть? — с живостью спросил барин.
— Уж восемь лет, как мы Абрама Никитича похоронили, сударь, — ответил не без удивления Андрей. — Сами же вы изволили меня назначить управляющим после его смерти.
Грабинину стало совестно за свою рассеянность. Теперь он вспомнил, как ему сообщили про смерть старого управителя и как он по чьему-то совету назначил ему преемником Андрея как ближайшего человека к покойнику и хорошо знакомого с хозяйством в Воробьевке.
— Один только Абрам Никитич мог во всякое время входить к старому барину и говорить с ними, а мне можно было только из щелки двери на них глядеть, как они, бывало, по целым часам книжки читают или подойдут к окну да долго-долго вдаль смотрят, точно кого-то ждут. Других слов, кроме: «Трубку!» либо: «Послать Абрама!» — никогда я от них не слыхивал.
— А каков он был собою?
— Роста высокого и наружности худощавой. Глаза — темные, всегда задумчивые, и так смотрели, точно ничего не видят. Брови и волосы — черные, а бородка — длинная и совсем белая. Волос не стригли, по плечам кудрями рассыпались. Никогда барин не улыбался. Да и не с кем им было шутить да смеяться, всегда один. Чистый двор перед парадным крыльцом травой еще при них порос, топтать ее было некому, ворота всегда от гостей на запоре. Абрам Никитич в горенке рядом с их спальней жил, и, кому была до него надобность, через заднее крыльцо к нему проходили.
— А слышал ты про ту полячку, которую дед привез сюда из Варшавы?
— Как не слышать, когда моя родная тетка, сестра старшая матушки, была для услужения к ней приставлена и денно, и нощно при ней находилась! Тетенька-то моя умела по-польски говорить и за то в большой милости была и у ней, и у барина.
— И долго эта полячка здесь прожила?
— Да больше трех лет. Барыня при ней три раза на богомолье ездила: два раза — поклониться мощам преподобного Митрофания, в Воронеж, а в третий раз — в Москву, да там и осталась с сыночком, с вашим покойным батюшкой, Михаилом Владимировичем. Родные не пустили ее назад к супругу. Там вскорости и скончалась, как еще полячка-то здесь была.
— А красивая была та полячка?
— Никакой красоты в ней не было, — с презрительной усмешкой ответил Андрей. — Врать не хочу, меня и на свете не было, когда ее привезли в Воробьевку, а только и матушка, и тетенька, все, кто ее знал, диву давались, за что только барин так к ней пристрастился. Маленькая, худая, как щепка, глазищи огромные, а лицо, как у ребенка, маленькое. Всегда в белом ходила, и других уборов, кроме белых, у нее не было. Рассказывали, будто мать ее, как рожала ее, такой обет Богородице дала — всегда в белом дочку водить. А косы у нее были длинные да, как смоль, черные, и словно змеи вокруг нее вились, неподобранные. Воткнет бывало в них цветок, да так распустехой весь день и ходит. Зимой кататься любила в санях, и тоже в белой бархатной шубе на белом пушистом меху. Не иначе как приворожила она к себе барина каким-нибудь зельем или наговором. Они, полячки-то, ведьмоваты, это вам всякий скажет, кто с ними дело имел.
— А с кем она отсюда уехала? С дедушкой?
— Нет, ляхи какие-то с ее стороны за нею приехали. Все время, что они здесь прожили, барин из своих покоев не выходил и даже ставни в доме не приказывал отворять, чтобы, значит, даже ненароком которого-нибудь из усатых чертей не увидать. Не утерпел бы он тогда и, чего доброго, саблей зарубил бы, — в таком он был расстройстве и гневе, что приходилось с нею расставаться. Рассказывал Абрам Никитич своим близким, что сам приводил ее ночью из амурного домика, где она жила, перед тем как ей совсем уехать, и что барин на коленях, обливаясь слезами, упрашивал ее остаться. «Так, — грит, — мы тебя схороним, в такое надежное место упрячем, что никто тебя не найдет, а пока искать будут, увезу тебя в Турцию». У него все было для этого готово — кони припасены за мельницей в овраге, и мешок с червонцами лежал в дупле.
— И что ж?
— Не захотела. Побоялась, верно, в такой опасный и дальний путь пускаться, а может быть, по родине своей соскучилась и надоело ей жить на чужбине, кто ее знает! Говорили тут некоторые, что муж ее не иначе как с ее согласия против нашего барина дело поднял, и будто они в стачке были обобрать его. Может, и вправду так было. А, между прочим, как пришли ей сказать, что карета у крыльца, в отчаяние впала, истошным голосом завопила, кидаясь всех обнимать и, как помешанная, металась. «С дороги, — грит, — убегу и к вам вернусь! Скажите Владимиру, чтобы меня ждал, непременно вернусь!» — и, как мертвая, на пол упала. Так ее, не давши очнуться, и увезли. Тот усатый поляк, что всем распоряжался, шутить не любил. Ну как с такими дьяволами толковать? Как она потом жила — Бог ее знает, только уж, конечно, не так хорошо, как у нас. Ничего для нее барин не жалел и чего-чего для нее не выписывал, чем ее не ублажал! Вещами драгоценными, нарядами, сластями. Нарочно для нее дом выстроил и разубрал на диво, можно сказать. Одна обивка стен чего стоила — из французского шелка на заказ была сделана. Из-за нее, проклятой, он с родным сыночком разлучился и законную супругу в гроб вогнал. На двадцать четвертом году ваша бабушка скончалась.
— И ничего здесь с тех пор про эту женщину не было слышно?
— Ничего. Да и не до нее у нас тогда было! понаехал суд, и всякие печали да досады посыпались. Наложили на все печати, нарочно у нас здесь поселились судейские — за барином следить, чтобы не отлучился куда да из своего добра чего-либо не скрыл. Вроде как бы в тюрьме они целых три года в своем родовом имении прожили. В каждой мелочи должны были отчет отдавать. Ну, и не вытерпели они, с верными своими холопами бунт подняли, накинулись ночью на мучителей, избили их да выгнали вон из села. А они, проклитики, прямо к своему воеводе явились с жалобами, а воевода их назад прислал, да уж не одних, а с солдатами. Насилу барин от нового плена откупился. Да, под большую напасть нас эта полячка подвела! От самого Абрама Никитича я про то слышал, что тут было раньше! Десятой доли не осталось, вот что. А барин совсем одичал. По целым месяцам он из комнат своих не выходил. Совсем молодым был, когда большеглазую ведьму в Воробьевку привез, а после ее отъезда в старика обратился: борода побелела, сгорбился, хозяйство забросил, все один с книжками. Подадут кушать да попросят к столу — придет, а не позовут, и так просидит, не евши. Всем домом Абрам Никитич заведовал, с ним только барин и виделся. Да вот меня, мальчишкой лет шести, взяли в дом из людской от мамки, чтобы им прислуживать. Даже и в церковь перестали ходить. Поп горюет бывало: «Как я его хоронить буду, когда он у причастия восьмой год не был?» Однако, когда пришло известие о барыниной смерти, велел барин панихиду служить, и тут только народ его в церкви увидел.
Андрей смолк. Солнце уходило все ниже за пригорок, покрытый лесом, и начинало свежеть. Грабинин не без сожаления поднялся с места, чтобы вернуться в домик управителя. Романическая история принимала особенно поэтический колорит на том самом месте, где она происходила много лет тому назад, и он мысленно давал себе слово воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы разузнать ее дальнейшие подробности. Без сомнения, все это было хорошо известно старым товарищам и друзьям его деда, а также и другим из оставшихся в живых сотрудников покойной императрицы Елизаветы Петровны, которые и до сих пор не оставляли его внука своей лаской. Благодаря им он вращается в лучшем столичном обществе, служит в гвардии, не обойден чинами, получает приглашения во дворец на балы и рауты, удостоился знакомства с такими личностями, как Орловы, Шуваловы, князь Репнин, тонкий дипломат, быстро шагавший к высшим государственным должностям.
Последнему Грабинин немного завидовал — его тонкому воспитанию, знанию иностранных языков и придворных обычаев. Репнин так был начитан и красноречив, что важнейшие государственные люди не скучали с ним подолгу беседовать и принимали в соображение его мнения. А какие интересные поручения давали ему! Как доверяли его уму и такту!
Перед отъездом сюда Грабинин встретил князя Репнина у канцлера графа Воронцова, к которому князь приехал с каким-то секретным докладом для императрицы от польского короля. Обратившись к Грабинину, которого граф отрекомендовал ему, как сына своего хорошего приятеля, Репнин сказал:
— Что бы вам, сударь, поступить к нам на службу в Варшаву, чем баклуши бить в Петербурге? Не покаялись бы: полячки — такие очаровательные!
По-видимому, эта шутка не понравилась хозяину: он сдвинул сердито брови и, сказав: «И охота тебе, Николай Васильевич, искушать молодого человека! От этих зловредных полячек, кроме бед, русским дворянам ничего нельзя ждать!» — круто свернул разговор на другой предмет.
Теперь только Грабинин догадался, что не что иное, как воспоминание о несчастной любовной авантюре с его дедом заставило графа Воронцова отнестись так строго к шутке князя.
К этому воспоминанию начали прицепляться другие в том же направлении, между прочим, разговор у старой придворной дамы, к которому он рассеянно прислушивался и который теперь с изумительной ясностью всплыл ему на ум. Речь шла об этом самом князе Репнине и его увлечении полячкой, княгиней Чарторыской. При этом одна из дам, взглянув на Грабинина и, вероятно, сообразив, что при внуке Владимира Васильевича не следует упоминать об опасной прелести полячек, поспешила дать разговору другое направление. Вот как хорошо был известен несчастный роман его деда в большом петербургском свете!
А вечер между тем, как всегда на юге, быстро надвигался. Когда Грабинин и Андрей вышли из парка, превратившегося в густой лес, сумерки начинали окутывать местность. Тем не менее Грабинин заметил у крыльца амурного домика человека в старинном ливрейном камзоле с светлыми пуговицами, в коротких штанах из крайне выцветшего бархата и в башмаках с серебряными пряжками. Он разговаривал с хозяйкой Андрея и, завидев барина, поспешно снял с головы шляпу, обшитую галуном.
Если б в эту минуту Грабинин взглянул на своего спутника, его поразила бы злобная досада, выразившаяся на умном и красивом лице Андрея. Но это длилось одно только мгновение, и, быстро оправившись от неприятной неожиданности, Андрей спокойным и почтительным тоном объяснял, что это — Ипатыч, дворецкий старой малявинской барыни.
— А также и ключник, две должности справляет и в полном доверии у господ, — нашел он нужным прибавить.
Между тем этот посланец г-жи Аратовой с треуголкой в руке отвесил низкий поклон подходившему к нему барину, а затем, выпрямившись настолько, насколько позволили ему старые кости, произнес громким и твердым голосом:
— С приездом честь имеем поздравить вашу милость! Наша барыни Серафима Даниловна изволила меня прислать, чтобы напомнить вашей милости, что они ждут вашей визиты.
Как ни смешно было такое требование, Грабинину показалось интересным познакомиться с личностью, считавшей себя вправе относиться к приезжим, как к подчиненным; к тому же он вспомнил рассказы старика на перевозе, и все это вместе с желанием проверить впечатление, произведенное на него местностью, по которой протекала река Малявка, заставило его ответить, что он не преминет засвидетельствовать свое почтение Серафиме Даниловне.
— Поедем завтра в Малявино, — сказал он Федьке, когда после сытного ужина, во время которого Андрей занимал его разговорами о хозяйстве, с целью окончательно успокоить его относительно правильного ведения дела и убедить его в необходимости продать часть леса, кроме убытка, по его мнению, ничего не приносившего, с наслаждением вытянулся на мягких пуховиках, покрытых свежим бельем.
Потушив свечу у кровати и оправив лампадку перед образами, Федька вышел из спальни, плотно притворив дверь, и направился в сени, где ждал его управитель.
— Ну что? Не раздумал он ехать в Малявино? — спросил Андрей взволнованным шепотом, едва только фигура Федьки вырезалась на фоне весенней ночи, освещенной луной.
— Какое там! Так приспичило, что завтра утром хочет ехать.
— Завтра?! И какой дьявол успел донести старой карге о его приезде? — с досадой заметил Андрей.
— Должно быть, через тех мужиков, что переезжать нам через реку помогали, до господских хором о нас дошло.
— Не иначе как через них, — согласился Андрей, с досадой почесывая в затылке, и, мельком глянув на своего собеседника, точно желая узнать, можно ли довериться ему, прибавил, — нам бы денька на два здесь барина задержать. Хотел тут нужный человек из города приехать, выгодное дельце с ним можно бы устроить… дорогую бы цену за лес дал и денежки наличными, польскими червонцами, выложил бы. Неужто нельзя как-нибудь оттянуть? А? Остался бы ты нами доволен, паренек! Вот твой тятька все на Василия жалуется, что реку от него запрудил, не дает рыбке к его огороду подплыть, всю себе перехватывает, — мы это дело по-божески рассудили бы.
— Знаю я, Андрей Иванович, что вы моего старика не оставляете, и всей душой рад бы вам услужить, да ничего не поделаешь. Упрямый у нас барин и, когда раз заберет себе что в голову, непременно на своем поставит. А советов он и от равных себе не любит слушать, не то что от хамов.
— Так неужели нельзя какую-нибудь помеху придумать, чтобы он завтра раздумал в Малявино ехать? На карету сослаться либо на лошадей? Не захочет он с визитой ехать в простой тележке и на наших лошадях.
— А Степана-то, кучера, куда мы денем? Это — такой гусь, что скорее даст себя на куски распластать, чем на лошадок своих напраслину взведет.
— Черт! — выругался вполголоса Андрей и, подавив порыв досады, прибавил: — Ну, и пусть едет! Воля его. Если потом будет каяться, не наша вина.
Он большими шагами направился к старой бане на заднем дворе, куда перебрался с семьей, уступив свое помещение барину.
Дети его, напуганные запрещением попадаться на глаза приезжим и угрозой быть в кровь высеченными в случае ослушания, уже давно спали, забившись в конурку, но жена Андрея с замирающим сердцем поджидала его, моля Бога оградить их от беды.
— И что это ему вздумалось ехать? Уж не донес ли кто-либо на тебя письмом? — с тяжелым вздохом проговорила она, выслушав повествование мужа о неудачной попытке отклонить поездку барина в Maлявино. — Попытал бы ты про это Федюху? Ему бы, кажись, как не знать? Всегда при барине.
— Скажет такой хитрый, как же! На Степана сваливает, будто тот так барину предан, что ничем его и не подкупишь, и не умолишь, а сам, поди, лукавее Степана окажется. Ты с ними осторожнее себя держи с обоими, а также с поваром и с форейтором. Языка не распускай даже и в таком случае, если б начали тебе барина ругать, чтобы глаза отвести. Знаем мы этих питерских! Им ничего не стоит родного отца под плети подвести из-за своей выгоды. А насчет письменного доноса я не боюсь: из-за письменного доноса он сюда не пожаловал бы. Да и по всему видать, что до сих пор никто ему худа про меня не говорил, а вот что завтра будет, когда он у малявинской ведьмы побывает!
— Что же она ему может о нас сказать? Кажись, у нас все в порядке, — нерешительно вымолвила Маланья.
— А вот мы это завтра узнаем, — мрачно заметил ее муж, поворачиваясь к стене, чтобы заснуть. Но сон не шел ему на глаза, и, полежав несколько минут неподвижно, он снова вернулся к прерванному разговору. — Я надумал к монаху съездить на всякий случай. Надо посоветоваться. Ты завтра за народом поглядывай, чтобы не единая душа из усадьбы не отлучалась, и всякого, кто придет из чужих, вели к себе приводить, чтобы знать, к кому явился и зачем. Я, как провожу барина, так махну в лес. Если что, придется спасаться подальше отсюда. Тогда ведь все, как собаки, накинутся. Недругов-то у нас здесь много. Намеднись Иван из Жуковки сказывал, будто Лукашку в Бровинском лесу видели, из медвежьей берлоги вылезал. А этот, сама знаешь, в ложке воды нас готов утопить. Хорошо бы также и Махмудку повидать, нам от него помощь великая может быть.
— Неужто нам придется в степь к киргизам переезжать? — вскрикнула в ужасе Маланья.
— Тише ты, оглашенная! Детей разбудишь, — сердито зашипел на нее муж. — Это бы еще слава Богу, если бы удалось до степи добраться! Не вышло бы чего хуже. Ну, чего загодя реветь! — запальчиво возвысил Андрей голос, услышав всхлипывание жены. — Обвязался я тут с вами, нет моей волюшки по-своему поступать! Эх! Набил бы себе пояс червонцами, котомку за плечи, нож за пояс, только бы меня здесь и видели. Божий мир велик, человеку, когда он один, везде можно от лиходеев скрыться. И даже забираться далеко не надо: сама знаешь, каких делов понаделал тот, что в лесу у нас отшельником живет.
— Это в скиту-то?
— В скиту! — с усмешкой повторил Андрей. — Пусть будет скит по-твоему, по-бабьему, пусть человек этот будет святым отшельником. Такой святости всегда можно набраться, когда ничего больше не остается делать, а мы до этого еще не дошли, мы еще за себя постоим. Да что с тобою толковать! Сказано, собирайся и на все будь готова, вот и все тут. Куда повезу, туда и поедешь.
— А детки? — чуть слышно спросила она.
— Все в свое время узнаешь. Пустыми расспросами не докучай: такое приспело время, что надо с умом собраться. Ты, знай, помалкивай да помни мужнин приказ: пуще всего приезжих опасаться и ни к каким разговорам их не допускать!
II
Подъезжая на другой день к селу Малявину, Грабинин все больше и больше убеждался, что память не изменила ему и что он уже раньше видел барскую усадьбу, которую накануне за тополями не мог разглядеть.
Все ему было здесь знакомо — и барский дом с неуклюжими пристройками и надстройками, увенчанный четырехугольной башней, с галерейкой на верхушке, и высокое крыльцо с мраморными растрескавшимися ступенями, и лужайка перед ним с каменной фигурой без головы и без рук. Наверное, узнает он и сад, где резвился с другими детьми.
Увидит ли он этих детей? А страшная старуха с птичьим клювом? Неужели это — та самая Серафима Даниловна, которая так властно вытребовала его к себе?
Забывая о времени, истекавшем между сегодняшним днем и тем, когда он был здесь раньше, Грабинин невольно искал знакомые лица между дворовыми, высыпавшими к нему навстречу и растворившими перед ним двери со стремительной поспешностью, чтобы ввести его в обширные сени с окнами, уставленными хозяйственными заготовками в бутылях, в банках, в бочонках, а оттуда — в длинную вонючую лакейскую. Сбросив здесь плащ на руки Федьке, который казался настоящим принцем в сравнении с окружавшей их обтрепанной челядью, он проследовал за дворецким — стариком, приезжавшим накануне приглашать его, — в круглый зал, скудно освещенный светом, падавшим с потолка через окно с выбитыми и заткнутыми грязными тряпками стеклами. Со средней перекладины этого окна спускалась люстра — страшилище в чехле, засиженное мухами, и густо обвитое паутиной. Вдоль стен чернелись длинные впадины хор, а в нишах печально выставляли свои атрибуты мраморные музы, точно жалуясь на жестокую судьбу, покинувшую их в этой пустыне, где они никому не нужны и ничей не могут услаждать взор.
Из этого зала Грабинина провели по другим покоям, тоже запущенным; всюду голые стены носили следы сырости, а расставленная симметрично мебель, окутанная, как саванами, побуревшими чехлами, напоминала усыпальницу с надгробными памятниками; везде царил полумрак от грязи и тряпок, которые препятствовали дневному свету пробиваться сквозь разбитые стекла.
При ближайшем осмотре дом оказывался много вместительнее, чем можно было предполагать, глядя на него снаружи. Благодаря постепенно приделанным пристройкам он расползся вширь, вглубь и вверх вопреки элементарнейшим правилам архитектуры и эстетики, с целью вместить многочисленную семью; теперь же, судя по их ветхости, постройки эта оказывались лишними.
«Зачем водит он меня по этим руинам? Наверное, существует более краткий и удобный путь к жилой половине дома?» — спросил себя Грабинин, следуя за проводником.
Наконец они вошли в длинный и широкий коридор с окнами по обеим сторонам, вероятно, служивший некогда портретной галереей, если судить по гвоздям и обрывкам веревок, неприятно пестрившей стены. Тут, по внезапно изменившейся походке дворецкого, по тому, как он почтительно весь подобрался, приближаясь к плотно притворенной двери, Грабинин догадался, что настал конец его странствованию и что он скоро увидит владелицу этого своеобразного жилища. Он не ошибся: дверь бесшумно приотворилась раньше, чем до нее успели притронуться, и степенный женский голос спросил:
— Это вы, Захар Ипатыч?
— Доложите барыне, Дарья Трофимовна, что воробьевский молодой барин изволили к ним пожаловать, — ответил дворецкий.
Дверь немедленно широко распахнулась, и на пороге появилась женщина лет шестидесяти, с серьезным лицом, в белом чепчике и в платье из домотканой холстинки.
— Пожалуйте, сударь, — обратилась она с поклоном к посетителю, приглашая его движением руки войти в комнату, показавшуюся этому последнему светлой, опрятной и уютной после мрачных покоев, через которые его привели сюда. — Извольте здесь маленько пообождать. Барыня еще не удосужилась второй свой туалет справить. Кандьяровские мужики их задержали, выгоном хотят от нас попользоваться. Как уйдут, я той же минутой вашей милости доложу.
Проговорив это, не спуская взоров, полных любопытства, с гостя, она юркнула в маленькую дверь, прятавшуюся за высокой, выложенной пестрыми изразцами печкой.
Грабинин остался один. Озираясь по сторонам, он увидел перед дверью, растворенной на балкон, большие пяльцы. По положению наскоро отодвинутого стула и по тому, как небрежно была наброшена белая скатерть на работу, нельзя было не догадаться, что ее покинули с большой поспешностью. Комната была большая и глубокая, но в ней было тесно от множества шкафов, шкафчиков и поставцов разных форм и величин, а также от столов, покрытых тщательно завернутыми в бумагу предметами. В углах теснились туго набитые, крепко перевязанные и припечатанные бурым сургучом мешки и мешочки, вороха талек и холстов, а стены были увешены пучками засыхающих трав и кореньев, от которых распространялся острый запах. На одной из стен, между пучками трав и мешочками — вероятно, с семенами, — красовалось великолепное зеркало в фарфоровой раме, тонкой венецианской работы, Грабинин остановился перед ним, чтобы полюбоваться своей красивой и нарядной фигурой, отразившейся в нем.
И было чем залюбоваться. Утром, отдохнув с дороги, он проснулся в веселом настроении, и, когда Федька спросил, какое ему приготовить платье для визита в Малявино, ему вздумалось поразить старуху-соседку наимоднейшим столичным нарядом, в котором он щеголял проездом через Москву, и он приказал подать французский кафтан из гранатового бархата с светло-зеленым («вер пом») камзолом. Федька, в восторге, что барин появится в полном блеске перед обитателями здешнего мурья, поспешил исполнить приказание, не забыв и черных шелковых чулок с белыми крапинками, башмаков с золотыми пряжками и пышного кружевного жабо с такими же манжетами. Но особенно старательно развернул он свой талант камердинера и ученика лучшего столичного волосочеса при уборке головы своего барина: он так усердно напудрил его и искусно взбил ему кок, что хоть на придворный бал.
Но любоваться собою даже самому красивому щеголю, когда у него есть ум, минут через пять прискучит, и Грабинин отошел от зеркала, чтобы выйти на балкон и взглянуть на сад с яблонями, грушами и сливами, покрытыми белыми и розовыми цветами.
«Где теперь те веселые ребята, с которыми я здесь резвился двадцать лет тому назад?» — думал он, блуждая скучающим взглядом по пустым дорожкам и тропинкам, разбегавшимся в разные стороны под тенью деревьев.
Царившая здесь тишина нарушалась только изредка отдаленным гулом, доносившимся сюда из села, да стуком колес изредка проезжавшей по дороге телеги, в саду же было так же пусто и молчаливо, как и в заброшенных парадных комнатах, через которые его сюда провели.
И вдруг в ту самую минуту, когда он уже отчаивался увидеть тут живую душу и с досадой спрашивал себя: долго ли его заставят ждать, и не уехать ли ему, не повидавшись с малявинской старой барыней, в боковой аллее зашуршали листья под чьими-то шагами, и на открытое пространство перед балконом выбежала молодая женщина с ребенком на руках.
Она так страстно прижимала к груди малютку, склонившись над ним лицом, что, кроме густого шиньона золотистых волос, рассыпавшихся из-под гребенки кудрями по ее плечам, в первое мгновение Грабинин ничего не увидел. Однако, поравнявшись с балконом, с которого он с любопытством смотрел на нее, она, как вкопанная, остановилась, откинула назад голову и остановила на нем испуганный взгляд больших темных глаз. Это длилось всего несколько мгновений: быстро опомнившись, женщина побежала дальше и почти тотчас же скрылась из вида. Но Грабинин успел разглядеть черты прелестного лица, нежные бледные щечки, зардевшиеся густым румянцем под его очарованным взглядом, пурпуровые губки, на которых трепетал подавленный крик изумления, а в особенности, глаза, темные и глубокие, с выражением страха и мольбы. Таких глаз ему никогда еще не случалось видеть ни у одной из красавиц, которыми хвастались обе русские столицы, и Бог знает, что отдал бы он, чтобы еще раз встретиться с ними взглядом!
Впрочем, все в молодой женщине было очаровательно: тонкая, гибкая фигура в складках прозрачной белой кисеи, развевавшиеся по ветру золотые кудри, маленькие стройные ножки в зеленых сафьяновых башмачках, руки, прижимавшие к груди ребенка так судорожно-страстно, точно она с ним спасалась бегством от смертельной опасности; все ее существо дышало такою неземной, таинственной прелестью, что казалось видением из другого мира.
Кто она? От кого бежит? Какая ей грозит опасность? Как ей помочь? Увы! На эти вопросы ответа не находилось.
А между тем в мечтах о прелестном явлении Владимир Михайлович не только перестал замечать, как летит время, но и забыл, где он и чего ждет. Постояв довольно долго на том же месте, глядя вслед исчезнувшему видению, он вернулся в комнату, с твердым намерением найти красавицу, хотя бы для этого пришлось весь день и всю ночь блуждать по лабиринту мрачных покоев, пока он не встретит если не ее — на такое счастье он не смел рассчитывать, — то по крайней мере кого-нибудь, кто сказал бы ему, кто эта женщина и как сделать, чтобы снова ее увидеть.
О неудобстве похождений такого рода в чужом доме Грабинин и не помышлял; в том возбужденном состоянии, в котором он находился, все казалось ему возможным и позволительным для достижения цели. Теперь вся окружающая его обстановка дышала только что увиденной им красавицей и говорила ему о ней. Это она, без сомнения, торопливо оторвавшись от работы при его приближении, отодвинула стул перед пяльцами и накинула на шитье скатерть.
Зачем она поторопилась бежать отсюда? Зачем не дала ему войти, чтобы поближе познакомиться с нею, услышать ее голос? Он сумел бы заинтересовать ее собою, сумел бы без слов, одним взглядом выразить ей, какое неизгладимое впечатление произвела она на него!
Размышляя таким образом, Владимир Михайлович осторожно приподнял скатерть и залюбовался изящным вкусом, с каким были подобраны тени и сделана вышивка. Да иначе и не могло быть: все, до чего бы ни дотронулись прелестные ручки обаятельного существа, метеором пролетевшего мимо него, чтобы навсегда смутить ему душу страстным желанием снова увидеть его, не могло не носить отпечатка присущей ему грации и красоты.
Отойдя от пялец, Грабинин заметил на полу под ними несколько живых цветов — бутон розы, фиалки, без сомнения, служившие образцом для вышивки. Стремительно бросился он поднимать их, и едва успел сделать это, как у двери послышался шорох, и явилась введшая его сюда старушка, с приглашением пожаловать к старой барыне.
Торопливо спрятав похищенное сокровище в боковой карман, он последовал за Дарьей Трофимовной в соседний покой, еще больше и глубже первого, с широкой кроватью под штофным пологом посреди, на которой, опираясь сгорбленной спиной о подушки, полулежала старуха в атласной стеганой душегрейке, подбитой и отороченной дорогим мехом. Она была больше похожа на мумию, чем на живого человека. Пожелтевшая и жесткая, как пергамент, кожа была мертвенна, как у покойника; рот, втянутый внутрь, представлял собою сиъневатую полоску, когда она молчала, а когда он раскрылся — отвратительную черную впадину; заострившийся нос резко выступал на осунувшемся и съежившемся лице. Живого на этом лице были только глаза, горевшие любопытством и злой иронией. На голове этого живого мертвеца был высокий чепец из пожелтевших кружев, а ее длинные темные пальцы, крючковатые и в узлах, были украшены перстнями с крупными драгоценными каменьями.
— Здравствуй, щеголек, — зашамкала она беззубым ртом, протягивая Грабинину руку, которую он почтительно поднес к губам. — Спасибо, что так скоро откликнулся на мой зов. Не совсем, значит, дураки тебя воспитали, когда научили почитать старых людей. Ты мне любопытен. Спокон века Аратовы с Грабиниными дружбу водили. У деда твоего, озорника Владимира Васильевича, я посаженой была при венчании, а когда отец твой родился, звали меня к нему крестной, да в те поры я уже третий год без ног лежала.
«При рождении моего отца она уже была без ног, — стал соображать Грабинин, — значит, это ее я видел двадцать лет тому назад!»
Невольно поднял он взор к потолку: птица была на своем месте. Позолота сошла с нее почти совсем, но по-прежнему победоносно были распущены ее крылья, зловеще изгибался клюв, и цепко впивалась она острыми когтями в тяжелые складки выцветшего штофа изумительной работы.
Но Грабинин, все еще находясь под впечатлением прелестного видения в саду, ничему не мог удивляться. Все казалось ему в порядке вещей в этом странном, таинственном доме, скорее похожем на жилище злой колдуньи, державшей в плену чернооких красавиц, чем на жилище русской помещицы. Скорее бы только представилась возможность увидать еще раз очаровательную пленницу и высказать ей, какое она произвела на него впечатление!
— Подойди ко мне ближе, дай на себя посмотреть, — продолжала между тем старуха, с любопытством, не стесняясь его смущением, осматривая его с ног до головы. — Красавец, в деда. Он такой же был, как ты теперь, перед тем как блажь на себя напустил. И для чего ты так вырядился? Здесь прельщать некого, живем просто; как до нас люди жили, так и мы… Понапрасну только бархатный кафтан треплешь, приберег бы его лучше на смотрины невесты. И богатей же ты, должно быть, чтобы так роскошничать! В башмаках с золотыми пряжками по нашим трущобам разъезжать! Да у нас здесь такие водятся раклы, что из-за алтына готовы человека укокошить. Прознать им только, какими ты дорогими штучками пообвешан, издалека сбегутся тебя, простофилю, ограбить.
Говоря это, Аратова прикасалась крючковатыми пальцами к пуговицам гостя, щупала бархат его кафтана, перебирала брелоки, украшавшие его часовую цепочку, и вскидывала на него острый взгляд своих пронзительный глаз. Ему становилось жутко под этим взглядом, но, вспомнив рассказы старика на переправе, он сообразил, что золотокудрая красавица — не кто иная, как жена молодого барина, правнука этой старухи. Поэтому он подавил отвращение, внушаемое ему старой ведьмой, и, с вниманием прислушиваясь к ее речи, мысленно молил Бога, чтобы она не догадалась о причине его терпения.
Удалось ли ему провести старуху, или просто потому, что она обрадовалась случаю поболтать с чужим человеком, но она дала полную волю языку и любопытству, пересыпая рассказы о старине расспросами о том, что происходит в петербургском свете, из которого она удалилась более полстолетия тому назад.
— Мода у вас теперь, верно, драгоценностями себя увешивать. В наше время все это в ларцах под спудом хранилось и только при особых случаях вынималось, потому и цело было. Много изрядных штучек найдется здесь и после моей смерти. Да-да, дождаться бы им только, чтобы Серафима Даниловна дышать перестала, много им добра останется, — распространялась она, видимо, напав на любимую тему. — Статуй у меня есть тальянского мастера, такого знаменитого, что цены тому статую нет. Мне эту штуку привез в подарок из тальянской земли за услугу князь Василий Репнин. Теперь сынок его в важные люди вылез. Слыхал, верно? Царским послом в Варшаве?
— Имею счастье быть лично знакомым с князем Николаем Васильевичем Репниным и незадолго до выезда из столицы видел его у графа Воронцова, — ответил Грабинин.
— Это у Романа, что ли? Дочь его Катеринка, что за Дашковым, немало набедокурила после кончины императрицы Елизаветы Петровны, моей благодетельницы, царствие ей небесное! Ну, да это — не твоего ума дело: молод ты, чтобы о поступках высоких особ судить, — поспешила Аратова оговориться, и, не давая гостю объяснить, что он упомянул не про графа Романа, а про графа Михаила Воронцова, канцлера, она продолжала: — Расскажи ты мне про Репнина: зачем его в Питер вызвали, когда он должен в Варшаве сидеть да за кознями поляков следить?
— С донесениями к государыне приезжал.
— То-то с донесениями! Не донесли бы на него про его шашни с красавицами. Чарторыского Адама женка, Изабелка, говорят, веревки из него вьет. Довольно это обидно про русского вельможу слышать! И с коих пор дьявол нас этими полячками в соблазн вводит! Еще при Святополке Окаянном преподобный Моисей Угрин через полячку в заточении мученичество принял. Красавец был такой же, как и твой дед, а полячки на мужскую красоту так же падки, как и на деньги, и на наряды. Распалилась та полька до исступления и целых пять лет искушала его в темнице свободой, сокровищами, почестями, чтобы только он в любовную с нею связь вступил. Воздержался, однако, праведный муж, и за такой подвиг после смерти к лику святых причтен. Молятся ему теперь от польского соблазна, и, говорят, помогает. В былое время советовала я и деду твоему сходить пешком в Киев, мощам преподобного Моисея Угрина поклониться, не послушался — и вот половины состояния да рассудка лишился: совсем помешанным скончался. Твержу я и моему Митяйке: «Не вожжайся ты с этими иезуитками, вспомни про святого Моисея Угрина да про соседа нашего Грабинина!» И Репнин попался. Я Репниных давно знаю, как еще в девках была! Тогда царь Петр Алексеевич Россией правил, а Никита Репнин при нем верным помощником был. Умен был. Ну, да царь Петр при себе дурака не стал бы держать. Вместе шведов колотили. Внук-то, по всему видать, попроще вышел, да по нонешним временам и такой за умницу сойдет. Однако и он больше пользы принес бы отечеству, кабы не немецкое воспитание. В басурманских землях учился против русских врагов воевать! — прибавила она с презрением. — А деда его мне грех поминать лихом — каждый день во дворце встречались и друг другу супризы делали. Что там еще? — прервала Аратова свою речь, чтобы обернуться к пологу, слегка заколыхавшемуся в ногах кровати, где, по-видимому, была беззвучно растворившаяся дверь.
Полог чуть-чуть раздвинулся, и в образовавшемся между складками отверстии появилось бледное женское лицо с прямым носом и впалыми, беспокойно бегающими глазами.
— Молодая барыня барчука из флигель к себе унесла! — задыхающимся от волнения шепотом проговорила она. — Заперлась.
— Пошли Дарью! — отрывисто приказала старуха и, когда лицо скрылось, снова обратилась к своему посетителю. — Я с государыней Анной Ивановной в дружбе была. Другие ее любимца, Бирона-проклятика, боялись, а я — ни крошечки, за то он меня и уважал. Все от человека зависит, как себя поставить. Другие дрожма дрожали перед царем Петрим, а мне он вовсе не был страшен. За смелость он меня и любил. Я бедовая была: самому царю перечила, не пошла за того носатого, которого он мне сватал, а сама выбрала себе мужа. Из всех моих детей и внуков один только правнук Митяй в меня уродился, хитроумный и отчаянный. Чай, про стычки его с Орловыми слышал? Из-за своего озорства должен он был царскую службу оставить. Невозможно ему стало с Орловыми в столице оставаться. До драки уже между ними доходило, и порядком-таки они ему ребра помяли: ведь их пятеро, и все друг за дружку стоят, а наш-то — один. Все из-за баб. Охочь до баб, разбойник, особливо, до чужих. Махался с одной красоткой Григорий Орлов, и совсем на лад у него с нею шло, а наш тут и подвернись, да так к ней подбился, что она от Орлова к нему и перебежала. Ну, и враждуют теперь Орловы с Аратовым не на живот, а на смерть, всякие подвохи друг под дружку подводят. Между прочим, прознал наш ловкач, что приспешники Орловых хлопочут у государыни приказ, чтобы его из столицы выслать. Тут уж он решил совсем царскую службу бросить. «Сам себе буду царем, — говорит, — и, чем мне разным там, что в случай попали, кланяться, добьюсь того, что мне поклонятся». И ведь добился, разбойник. Приехал сюда и начал в здешнем крае орудовать. С поляками снюхался — подружился с озорником Браницким, сумел и Чарторыским и Потоцким угодить. И нашим, и вашим, значит. «Что мне за дело до их ссор? — говорит. — Мое дело — сторона». Шагу теперь не ступят, чтобы с ним не посоветоваться. Есть здесь один магнат поумнее других, Сабезием Потоцким звать. Не по себе умен, а главным образом через жену. На редкость умная баба, Анной звать. Мужем вертит, как следует. С русскими они не враждуют, к пустым затеям не пристают и даже хозяйство свое ведут с толком. Киевским воеводой он теперь, и у Митяйки нашего большие с ним дела затеяны. На самой, можно сказать, границе с Польшей мы живем, и спокон века у нас с полячьем хлопоты да докука. А наш Митяйка в дружбу с ними вступил и так сумел их околпачить, что пани Анна надоумила мужа их королю его представить. Оно, положим, большой чести в том нет — каким был слюнтяем этот наш ставленник [1], таким и остался, а все же в здешнем крае это полезно; иной жид на все, что угодно, пойдет от восторга, что с ним ведет дело такой боярин, который в королевский дворец вхож. Да и поляки попроще думают невесть какую протекцию через нашего Митяйку у короля себе раздобыть и всякое уважение ему из-за этого оказывают. А важные магнаты, те тоже из-за своих выгод стараются друг перед дружкой на свою сторону его перетянуть, потому что он и с русским послом в дружбе. И вот катается здесь наш Митяйка, как сыр в масле, начал даже и самого короля в руки забирать. По бабьей части, верно, сумел ему угодить. Тоже бабник. Еще раньше вместе блудили, как Понятовский в Питере польским послом был. В то время у него, конечно, такой важности не было, как теперь, а нутром он все тот же остался, и Митяйка сказывал, что, кроме толстого брюха да обвислых щек, никакой перемены он в нем не нашел. Не больно хорошо ему королем-то живется: магнаты в ежовых рукавицах его держат, жениться не дозволяют, во всем усчитывают и стращают выгнать, если вздумает им перечить. Сам он Митяйке жаловался, что только для вида ему почет оказывают, а на самом деле, куда вольнее и счастливее ему раньше жилось. «Ты, — говорит, — несравненно счастливее меня, и я с радостью с тобою местом поменялся бы. Ты, — говорит, — господин твоего положения, а я — раб его». Митяйка наш смеется на это. «Кабы, — говорит, — я на его месте был, всем сумел бы показать, что такое заправский король значит, и все у меня по струнке ходили бы, а он на моем месте дальше прихожей с паюками никуда в королевском дворце не дошел бы». Все от человека зависит, — повторила Аратова свое любимое изречение: — Один умеет уступать, а другой — брать. Кабы каждому было дано на своем месте твердо стоять, никому вперед и не пробиться бы; на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Митяйка эту механику отлично себе усвоил и прет вперед да вперед, а прочие все перед ним только расступаются, — с самодовольствием распространялась она, видимо, восхищаясь ловкостью, умом и беззастенчивостью любимого правнука. — До него в здешнем крае никто из русских дворян такой силы не набирал. И ему пророчили, что католики его съедят. Ан не съели, а он их помаленьку грызет да обгладывает. Такие ловкие дела на контрактах обделывает, что надо только дивиться. Вот только женитьбой опростоволосился.
При этих последних словах Грабинин, слушавший старуху довольно рассеянно, встрепенулся и насторожился. По-видимому, его терпение обещало увенчаться успехом: старуха сама заговорила о той, образ которой неотступно стоял перед ним, затмевая все прочие чувства, мысли и представления.
— Взял Митяйка девку, хоть и знатного рода, да опального и разоренного отца, в одной сорочке, можно сказать. Давно ли женат, а уж приходится на женины наряды тратиться. С махоньким сундучишком ее сюда привез. Я спрашиваю: «Когда же подводы с приданым приедут?», — а те на это: «Ничего больше нет, все тут». Вот-те и здравствуй! Такого срама в роду нашем еще не бывало. Поверишь, от стыда перед холопьями я глаз не смела поднять. Вот она меня как оконфузила! У нас любую девку, если хороших родителей, честнее выдают замуж, а эти — князья высокородные! И к тому же порченая: после первого же ребенка зачало ее трясти да подбрасывать… — Аратова опять оборвала речь, к которой с замирающим сердцем прислушивался Грабинин, и обернулась к заколыхавшимся занавескам: — Ты, Дашка?
На этот раз складки не раздвинулись, но знакомый голос ответил:
— Я-с. Изволили за мною посылать?
— Сколько мне тебе повторять, чтобы басурманки этой с докладами ко мне не пускать! — гневно заметила барыня. — Не могла разве сама прийти?
— Меня, сударыня, не было: по приказанию Анфисы Петровны на деревню бегала. Коробейники с товаром приехали.
— Румяна, верно, у нее все вышли. Да уж ладно. Наша порченая опять накуролесила: Алешеньку скрала и заперлась с ним. Скажи там, чтобы ее не трогали: не до нее мне теперь, гость у меня. Вечером распоряжусь. Ступай!
Складки полога перестали шевелиться.
Старуха опять повернулась к Грабинину, но к величайшей его досаде, вместо того чтобы вернуться к прежнему разговору о жене правнука, спросила: в каком положении он нашел свое хозяйство, и, не дожидаясь ответа, заявила, что если он оставит имение на руках вора Андрюшки, у него от дедушкина наследства через малое время ничего не останется.
— Ни куриного пера, так и знай! Будешь плакаться, что старухи Серафимы Даниловны не послушал, да уж поздно будет, так-то. Видел дом, где твой дед свою грешную душу Богу отдал? Давно ли в нем всякого добра полно было. А теперь, что осталось? Одни стены, да и те разваливаются. Видел павильон, который наш проказник Владимир Васильевич для своей полячки выстроил и разубрал? Одного французского штофа сколько пошло на стены! Андрейка твой, поганец, тот павильон в избу себе превратил и все, что в нем было, расхитил, даже полы штучные, двери магогонового дерева с бронзовыми вычурами, зеркала. Дрыхнет он теперь там и жрет со своим хамским отродьем. Парк кругом вырубил да шумиловскому родичу, разбойнику Гнездышеву, продал за тысячу червонцев, и на эти деньги тысячу десятин на имя женина брата, что рыбой в Астрахани торгует, купил. Этот Маланьин брат — вольный, сын казака, и женился на Абрамкиной племяннице, когда еще полячка жила в Воробьевке. Она им, полячка-то, и позволение у деда твоего выпросила обвенчаться. Все, что хотела, могла она у него выпросить. Совсем ослаб добрый молодец, околдовала она его, всю свою волю растерял, и сам бы к ней в крепостные пошел, чтобы только при ней состоять. И это русским дворянином называется, воином, царским слугою! Жаль мне тебя, Владимир Михайлович! Из-за дедовской глупости раньше времени родителей лишился, у чужих сиротой вырос, и разоренное имение в наследство получил. Андрюшка-вор, поди, уже успел тебе турусы на колесах наплести, чтобы себя выгородить, а ты уж, верно, и уши развесил. Чего смеешься? — возвысила она с раздражением голос, подметив улыбку на его губах. — Разве я не правду говорю?
— Я, сударыня, не для чего иного и поспешил воспользоваться вашим милостивым приглашением, как для того, чтобы посоветоваться с вами о своем здешнем хозяйстве, которое я, действительно, нашел в большом запустении, — поспешил заявить Грабинин и, подметив самодовольную усмешку, вызванную его словами, прибавил, поднявшись с места и низко кланяясь: — Покорнейше прошу вашу милость, в память дружества с моим дедом и бабкой, не оставить меня вашими советами и наставлениями.
Аратовой это понравилось, и, хотя она все еще сердито приказала ему сесть, тем не менее он понял, что ему удалось попасть на путь к желанной цели, и убеждение это вместе с надеждой возбудило в нем осторожность. Упустить такой благоприятный случай сблизиться с личностью, во власти которой находилась его красавица, он счел бы величайшим для себя несчастьем.
— Приехал я только вчера и не успел еще осмотреться с дороги, — продолжал он деловитым тоном, — но разорение свое уже вижу, и одного только боюсь, чтобы, неумело взявшись за следствие, не испортить дела. Поэтому, не сказав никому ни слова, и явился к вам за советом. Большой дом совсем в разрушении, да и в малом, который вы изволили вспомнить, кроме хамского скарба, ничего нет. А куда все делось — опасаюсь до поры до времени и спрашивать.
— Куда все делось, ты от меня узнаешь. Мне все известно. А вот как тебе твое добро назад получить, об этом тебе придется с моим Митяйкой перетолковать. Он — на такие дела дока, с ним все здешние советуются, кому плохо от людишек приходится. Народ здесь, из-за близости к Польше и к воровской казацкой орде, — нахал и мошенник изрядный. Да ты надолго ли сюда приехал?
— Будет зависеть от обстоятельств. Отпуск мне дали малый, но можно отписать доброжелателям в Питер, чтобы выпросили оттяжку.
— Проси скорее, нужно. Твое дело такое, что им можно и самого киевского воеводу настращать. Твой Андрюшка с первыми разбойниками в Польше давно в стачке. Он у меня всех людишек перепортил: не дождавшись мрей смерти, они дерзить стали. А про твое добро я тебе скажу, что в России от него уже мало и осталось; все, что было получше, давно в чужие края перевезено. Митяйка наш сказывал, что своими глазами видел у какого-то важного графа, в Цесарской земле, в городе Вене, серебряную утварь с грабининским гербом. Вот оно куда залетело! Сам он тебе все расскажет, как приедет, вместе и обмозгуем.
— А скоро вы ждете Дмитрия Степановича?
— Ну, этого тебе здесь никто не скажет. Наш сокол — что буран в степи: откуда налетел и куда отлетит, никто, кроме него самого, не знает… Да и сам-то он частенько попадает не туда, куда задумал. Дела у него здесь затеяны великие! Как-то удастся свершить! — и, круто оборвав речь о правнуке, старуха повторила свой совет просить о продлении отпуска. — Да не вздумай письмо из Воробьевки посылать с которым-нибудь из твоих людишек! Все они, собачьи дети, одну сметанку лижут, ни один не задумается тебя головой Андрюшке выдать. Можешь письмо здесь написать, а я с нарочным пошлю. Постой, — прервала она излияния благодарности, готовые сорваться с губ Владимира Михайловича, — даром такого дела не оборудуешь, надо человека от работы оторвать недель на пять, да корм ему с лошадью на пути, и там на постоялом дворе. Положим на все пятьдесят рублей, — прибавила она, немного подумав.
— Я с радостью и сто дам! — ответил обрадованный Грабинин.
Но Аратова тотчас же заставила его раскаяться в неосторожном порыве.
— Ишь, какой щедрый! Да за такого мотарыгу и хлопотать не стоит, пусть Андрюшка на добре твоем наживется, — прервала она его с лукавой усмешкой, забавляясь досадой, выразившейся на его лице.
— Я, сударыня, чтобы сохранить свое добро, ни перед чем не остановлюсь, ни перед какими издержками, — произнес Грабинин, оправившись от смущения.
— Всегда надо перед издержками останавливаться, — строго оборвала она его попытку оправдаться. — Припаси пятьдесят рублев на посланца, больше не надо. Своим я для тебя не поступлюсь и твоего не возьму. Письмо после обеда можешь у меня в библиотеке написать, а тем временем я прикажу моему холопишке в дальний путь сбираться… Эй, кто там? — крикнула она, хлопая в ладоши, и, не поднимая взора на мальчика, появившегося в дверях на ее зов, приказала скорее подавать кушать.
Все устраивалось так прекрасно и удобно, как Грабинин и надеяться не смел. За обедом он, без сомнения, увидит «ее»! Это ожидание так волновало его, что он уже не мог вслушиваться в рассказы старухи о былом, о вельможах, которых она знала прежде богатыми, а потом разорившимися вследствие мотовства, наклонность к которому она подметила в своем госте. Той же печальной участи подверглась бы и она, если б вовремя не сумела забрать в руки мужа и удержать его страсть к пустым тратам.
Но Владимиру Михайловичу было не до того, чтобы интересоваться событиями давно минувшего; настоящее представлялось ему в таком упоительном свете с той минуты как пробежавшая мимо него молодая женщина унесла его сердце, что он, не задумываясь, отдал бы прошлое всех веков, чтобы узнать, что ждет его в ближайшем будущем.
Время тянулось бесконечно долго, и Грабинину начинало казаться, что никогда не дождаться ему обеда, как вдруг явился старик Ипатыч с докладом, что кушанье на столе.
Больших усилий стоило Владимиру Михайловичу воздержаться от искушения немедленно сорваться с места, чтобы бежать туда, где он мнил ее увидеть. Но он превозмог себя и, терпеливо дослушав до конца рассказ старухи, дождался, чтобы она сама отпустила его.
— Ну, ступай!.. Проголодался верно: с коих пор сидишь тут да россказни мои слушаешь! С домашними моими познакомишься. Тоже и у нас есть резиденты и резидентен [2], как у польских магнатов. Всякого звания людишки у меня ютятся. Есть и из разоренных дворян, и из проторговавшихся купцов, а также сироты из поповских. Поди, ждут — не дождутся поближе на тебя посмотреть. Во всю жизнь такого петербургского щегольца не видывали. А ты, Ипатыч, шепни Анфисе, чтобы глупыми разговорами гостю не докучала! — крикнула она им вслед, когда гость вышел из комнаты в сопровождении дворецкого.
— Слушаю-с, — почтительно ответил последний.
«Что это за Анфиса?» — спросил себя Грабинин, проходя за своим провожатым по длинному коридору, отделявшему половину старой барыни от помещения ее домашних.
III
Когда Грабинин вошел в столовую, вокруг длинного стола, накрытого для обеда, собралось довольно большое общество приживалок и приживальщиков. Увидав эту толпу, он подумал, что если та, для которой он здесь остался, и будет сидеть за одним с ним столом, но не рядом с ним, то ему трудно будет познакомиться с нею поближе. Но молодой женщины тут не было. Грабинин в этом убедился при первом взгляде на глазевшую на него со жгучим любопытством смешную и жалкую толпу старых и молодых, но одинаково безобразных мужчин и женщин, чуть не в отрепьях, с заискивающими взглядами и робкими движениями. Исключение представляла собою личность, занимавшая место хозяйки, к которой и подвел его Ипатыч.
— Анфиса Егоровна, старой барыни крестница, — проговорил он гостю на ухо, подставляя стул перед прибором по правую сторону от высокой дородной женщины лет тридцати.
Густо набеленная и нарумяненная, она с наглым любопытством разглядывала его с ног до головы большими навыкате светло-карими глазами и, нарядная и самодовольная, представляла интересный контраст с забитыми существами, окружавшими стол, выжидая позволения сесть за него.
Грабинин, который, переступив порог комнаты, только и делал, что отвешивал поклоны в ответ на молчаливые приветствия этих несчастных, поспешил поклониться отдельно Анфисе, прежде чем опуститься на предложенное место.
В эту минуту торопливо вошел человек средних лет с умным лицом, в опрятном французском кафтане, в белом жабо и в напудренном парике. Усаживаясь на оставленное для него место против Грабинина, он тотчас же заговорил с ним по-французски, отрекомендовавшись:
— Артюр Соссье, из Парижа.
Из дальнейшего разговора Грабинин узнал, что Соссье приехал в Польшу, чтобы устроить суконную фабрику в имении князей Чарторыских, но, не поладив с «фамилией», принял предложение Аратова заняться хозяйством в одном из его имений в России. Точно обрадовавшись новому слушателю, он стал распространяться о том, как здесь веселятся и широко живут, о разнузданности общества, о том, как богатые помещики иногда до смерти спаивают своих гостей, а жены их до бесчувствия заставляют плясать несчастных юношей, которых они, как новые Цирцеи, завлекают иногда силой в свои замки. Далее он добавил, что проказы этих веселых дам часто кончаются трагически, и их жертвы, равно как и жертвы их супругов, часто платятся жизнью за оказанное им своеобразное гостеприимство.
— О даже и представить себе нельзя, сколько вина может выпить поляк! Здесь трезвому человеку, с умом и с ловкостью, можно всего добиться: богатства, почестей, власти. Можно богатую невесту себе выкрасть, чужую жену увезти, кого угодно убить или запрятать в такое место, где никому не найти, — рассказывал Соссье. — Но для этого, кроме денег, надо иметь протекцию либо у польского магната, либо у посла одной из держав, взявших под опеку эту несчастную страну.
По мнению Соссье, влиятельнее всех был русский посол, а меньше всех был способен защитить своих подданных польский король Станислав Понятовский. Каждый из здешних магнатов, если он ею не разорен, влиятельнее его в крае, и несчастный король зависит от каждого из них.
Занятый своими мыслями Грабинин слушал его рассеянно, думая только о том, как приступить к расспросам о супруге Аратова. По временам ему казалось, что и Соссье не прочь посплетничать относительно обитателей дома; раза два намекал он ему, что здесь можно говорить о чем угодно без стеснения, потому что никто из присутствующих французского языка не понимает, и Грабинин решился наконец спросить у него, какое положение занимает в доме двусмысленная личность, сидевшая за столом вместо хозяйки. Ей первой подавали кушанье, а затем, обнесши блюдом гостя и француза, уносили его из комнаты. Остальному обществу подавали другое кушанье и, должно быть, попроще, если судить по тому, что только на одном конце стола было вино в бутылках, прочие же должны были довольствоваться квасом и брагой.
— Эта дама изображает собою в настоящее время заходящее солнце, но было время, когда она играла здесь более интересную роль, — с игривой усмешкой ответил француз.
— Но ведь у господина Аратова есть супруга?
Улыбка внезапно слетела с губ собеседника Грабинина, и его лицо сделалось серьезно.
— Мадам Аратова — очень болезненная особа и нуждается в полнейшем покое. Ее супруг озабочен намерением увезти ее за границу, чтобы подвергнуть серьезному лечению, но при разнообразных занятиях и разъездах исполнить ему это намерение затруднительно. Впрочем, ему, кажется, удалось придумать комбинацию, благодаря которой это затруднение устранится; вероятно, на днях наше общество увеличится еще одним членом, доктором из Варшавы. Он — специалист по болезни, которой страдает мадам Аратова, и, осмотрев больную, решит, есть ли надежда на выздоровление и какому лечению надо подвергнуть ее.
Проговорив эту тираду, Соссье круто повернул разговор на другой предмет, давая этим понять, что распространяться подробнее о супруге Аратова не намерен.
Между тем обед подошел к концу, подали ликеры и сласти домашнего приготовления; домашние встали из-за стола и, помолившись перед образами, поклонившись Анфисе и гостю, вышли из столовой, где остались только импровизированная хозяйка дома и Грабинин с французом. Анфиса, молча прихлебывая ликер, лакомилась пастилой; Соссье рассказывал о бурных сценах, разыгравшихся на сеймиках и сеймах, об интригах, волнующих население ввиду выбора послов на предстоящую конфедерацию, а Грабинин, рассеянно слушая его, скучал и раздражался мыслью о потерянном времени. Он обрадовался, когда дворецкий явился доложить ему, что посланец в Петербург готовится к отъезду и ждет письма, и, поспешно поднявшись с места, последовал за Ипатычем к крутой винтообразной лестнице, по которой надо было подняться в библиотеку — большую комнату со шкафами вдоль стен и письменным столом у окна.
— Извольте позвонить, когда кончите писать, сударь, я той же минутой явлюсь, — сказал дворецкий, оставляя его одного.
Грабинин начал писать одному из ближайших своих покровителей, красноречиво излагая ему причины, избранные им предлогом для продления отпуска: расстройство имения, необходимость сменить управителя и тому подобные обстоятельства, не имевшие ничего общего с истинной причиной его желания дольше оставаться в здешнем крае.
Быть может, он не предался бы так усердно этому занятию, если б знал, по какой причине нашли нужным провести его прямо сюда, а не к старой барыне: между Серафимой Даниловной и ее правнуком Дмитрием Степановичем Аратовым речь шла о нем.
Как всегда, Аратов вернулся домой невзначай. Все были еще за столом, когда его экипаж, обогнув дом, бесшумно подкатил к заднему крыльцу. Тут, узнав от выбежавших к нему навстречу людей, что у них в гостях воробьевский барин, Дмитрий Степанович запретил говорить о своем приезде и прямо прошел на половину прабабки, где тотчас же после первых приветствий речь между ним и старухой зашла о госте.
— Это вы хорошо сделали, что на вора Андрюшку его натравили, — заметил Аратов, выслушав повествование о ее беседе с молодым соседом, окончившейся предложением послать человека из их дворни с письмом о продлении отпуска. — Мы его в конце концов так запутаем, что он за счастье почтет совсем от имения отделаться. Это была всегдашняя моя мечта — за бесценок купить грабининское имение. Нам без Воробьевки чистый зарез, никуда хода нет.
— Куда тебе еще ход понадобился? — брюзгливо спросила старуха. — Какие еще новые затеи у тебя на уме?
— Дайте делу образоваться, тогда все узнаете.
— Смотри, как бы тебе в прах на аферах не продуться. Ты — не Щенсный-Потоцкий и не Радзивилл, чтобы последнюю копейку ребром ставить. Этим можно мотать: сколько ни трать, им не разориться, ты — дело другое. Женой обзавелся, детей народил. Это бы еще ничего, каждый человек должен в законе жить, а что у тебя во всяком месте, где ни поживешь, метрессы с ребятишками объявляются, это уж непременно тебя до разорения доведет, — брюзжала она, не спуская глаз со своего любимца и любуясь им.
Это был среднего роста, прекрасного сложенный молодой человек с замечательно моложавым лицом. Оно — с тонкими, правильными чертами — было нежно, как у молодой девушки, но в темных серых глазах под резко очерченными и капризно изогнутыми бровями сверкали ум и энергия, а узкие красные, как кровь, губы могли произвольно складываться и в злую, насмешливую усмешку, и в обаятельную улыбку. Жесткость и резкость слов Аратова представляли интересный контраст с изысканностью его манер, изяществом его гибкой и грациозной фигуры и мягким, звучным голосом. На нем был французский кафтан, камзол и кюлот облачкового цвета, голубые шелковые чулки с серебряными пряжками и кружевные манжеты, а его нежный, без признака растительности подбородок утопал в бесчисленных складках белой косынки из прозрачной индийской кисеи. Последняя только что начинала входить в моду и стоила очень дорого; но Аратов никогда не останавливался перед издержками, когда дело шло об украшении, удобстве и приятности своей особы. Чтобы убедиться, как зорко следил он за модой, стоило только взглянуть на его выхоленные руки, унизанные перстнями, с золотым футляром в виде наперстка на среднем пальце левой руки, долженствовавшим предохранять от неприятных случайностей отращенный на целый вершок ноготь.
— Дурак должно быть этот Грабинин, — заметил он, не обращая внимания на воркотню старухи. — До сих пор не приезжал взглянуть на имение, допустил все разграбить и растаскать! Впрочем, это нам на руку. А собою каков?
— Красавец, в деда, и щеголек изрядный. Тонкого воспитания, учтив отменно.
— Все петербургские тонкого обращения. Увидим, увидим, что за птица.
— Связи у него есть. У Воронцовых принят, у Безбородки. Упоминал про Орловых.
— Мы с Потемкиным знакомы, да и то не хвастаемся!
— Он не хвастался, к слову пришлось. Говорил также про Репнина.
— С этим он где же успел познакомиться. В Варшаве разве был?
— Перед отъездом из Петербурга у Воронцова его встретил, и Репнин его к себе на службу звал, да он отказался.
— Напрасно. Нам бы это на руку, чтобы побольше русских в здешнем крае селилось, особенно, если богатые да со связями. Чарторыские теперь извиваются перед нашим князем ужами и жабами по той причине, что перед выборами он им до зареза нужен, а как на своем поставят на конфедерации, мы им опять будем не нужны. Надо свою партию ставить. Это князь Репнин отлично понимает, да вот беда — от своей Изабеллы отстать не может, а она, как истая полячка, во все дела вплетается. И разоряется мотарыга на свою рябую красавицу в лоск. Давно ли императрица долги его уплатила, а он уже вдвое понаделал. Пока Потоцкие будут жить в Польше, нашему князеньке из когтей ростовщиков не выпутаться. Разве что Изабелла найдет выгодным его на другого променять.
— А муж-то ее чего же смотрит? — спросила старуха.
— Он — философ. Сердце у него чувствительное, и всех амантов [3] своей супруги он нежно любит. Намеднись охотились мы с ним большой компанией, и Ржевусский был тут. Под конец ужина, когда все перепились и целоваться полезли друг с другом, наш Адам Чарторыский к Ржевусскому обратился с речью: «Ты, пане, постоянен, бардзо постоянен! Выпьем, панове, за венец постоянства пана Ржевусского!»
— Это он, что же, в насмешку, что ли? Чтобы показать, что ему все известно, или сдуру?
— А черт его знает! Такие нравы, что ничего не поймешь: от человека всякой другой нации можно было бы такие слова за угрозу принять, но у поляков все шиворот-навыворот. Все схватились за кубки и с криком: «За постоянство пана Ржевусского!», — осушили их.
— Ничего, значит, не поняли?
— Как будто не поняли. А, впрочем, черт их знает!
— И резидентка графини Анны там была? — спросила, помолчав, старуха. — Та, с которой ты любовное лазуканье затеял, вдова?
— С какой стати она там будет? Пани Розальская так еще молода, что без своей благодетельницы не выезжает, и в пьяных компаниях ее встретить нельзя, — ответил Аратов с раздражением.
— И долго это твое с нею лазуканье будет продолжаться? — продолжала допрашивать его старуха, забавляясь его досадой. — Она тебя всяческими соблазнами поманивает, а, поди, с любым юнцом из палестры издевки над тобою, москалем, строит! Про мецената Фьялковского слышал? Он по всему околотку хвастается знакомством с твоей красавицей и жениться на ней собирается.
— На ней многие жениться собираются, невеста не из плохих, — заметил Аратов с самонадеянной улыбкой человека, убежденного в своем неотразимом влиянии на женщин. — А с кем вы посадили за стол Грабинина? Анфису и прочий хлам убрали, надеюсь?
— Никого не убирали, он со всеми моими домашними обедал, — сердито возразила Серафима Даниловна. — Твои магнаты небось своих резиденток не выгоняют в людскую при гостях.
Дмитрий Степанович вспомнил про блестящих дворских юношей и девиц у Чарторыских, прислуживавших ему несколько дней тому назад в Пулавах, и усмехнулся.
— У моих магнатов дворская молодежь так расфранчена и воспитана, что нашим помещиками и помещицам не мешало бы с нее пример брать, как в свете жить, — сказал он.
— Так, значит, если я из Парижа выпишу наряды для моих хамок, ты с ними за стол сядешь?
— Там не хамы, все дворянские дети.
— А за хамов у стола прислуживают? Да какая же им цена после этого? Если с юных лет честь свою соблюдать не умеют, чего же от них в старости ждать? У меня тоже по бедности дворяне живут; есть и девицы-сироты, которым голову преклонить некуда, и старухи, которые уже работать не могут, так я за грехи считала таким бы наряды нашивать, как на смех. Всяк сверчок знай свой шесток, так-то. А гнушаться я ими тоже за грех считаю и, когда ноги меня носили, всегда сажала их с собою за один стол; значит, и гостям моим не след ими гнушаться, даром, что одежда на них, по их бедности, неважная. Да-с! Так вот и Грабинин со всеми моими домашними обедал, и с французом твоим, и с Анфисой.
— И с Анфисой? Одолжили, нечего сказать, подвели под срам! — с досадой воскликнул Дмитрий Степанович.
— С чего это ты так вдруг Анфисы застыдился? Она расфуфырилась изрядно, не хуже твоей пани Розальской щеголихой себя при госте выказала. С первого взгляда видать, на каком она здесь положении при молодом барине, — прибавила она язвительно.
— А мне, может быть, не надо, чтобы это знали. Я, может быть, желаю, чтобы меня за примерного супруга считали?
— Надо было нас заранее о такой перемене в мыслях предупредить. А ты бы лучше спросил про твою супругу, что она тут сегодня накуролесила.
— Что еще? — отрывисто и, сдвигая брови, спросил Аратов.
— Как узнала, что приехал гость и что нам не до нее, побежала во флигель, Алешеньку скрала, да через сад с ним в дом и убежала. Потом она заперлась в своей спальне, никого не пускает, кричит: «Зарежусь, если дверь выломаете!». Вот она какая начинает проявляться, тихоня! Недосуг мне было с нею ватажиться, приказала до отъезда гостя не трогать ее. Тебя мы раньше будущей недели не ждали.
— Справился раньше, чем думал.
— Всегда бы тебе надо было так справляться, чтобы больше дома жить. Знаю, что радости тебе мало с такой супругой, но знаю и то, что ты с нею через край пересыпаешь и до отчаяния ее довел. Нельзя у матери детей отнимать. Даже и курица остервеняется, когда у нее из-под крыльев цыплят уносят. Значит, от Бога так положено, чтобы младенцы при матери были. А ты наперекор всем законам идешь. Зарвался злобой и хуже зверя стал. Нечего плечами-то пожимать да губы кусать! Хоть в кровь искусай, а я все-таки всю правду-матку без остатка тебе выложу. Она грозит зарезаться. В первый еще раз такое слово вымолвила, значит, недоброе у нее на уме, и от человека с такими мыслями всякой беды можно ждать. Вот ты о чем поразмысли, прежде чем срывать на ней гнев за ослушание. Пожурить — пожури, даже побей, если придет охота, а потом смилуйся, приласкай и обещай к ней каждый день, хотя на часочек, детей посылать.
— Алешка до сих пор у нее? — спросил он.
— У нее. Я приказала не трогать, пока гость не уедет. Люди при нем — кучер, камердинер, форейтор; неладно при них шум поднимать. И без того по всему околотку невесть что толкуют про наше над нею тиранство.
— Мне на то, что здесь плетут, наплевать, а вот если через этого питерского франта до столицы гнилые слухи дойдут, тогда подлинно неприятности могут выйти. Да что тут толковать? Дело сделано — надо поправлять. А чтобы дети при ней оставались, на это я ни в коем случае согласиться не могу, уж это, как вам будет угодно.
— Да ты слышал, что я сказала? — прервала его старуха.
— Обращаться вы с нею не умеете, вот что.
— Я не умею, так вези ее туда, где умеют.
— Увезу, не беспокойтесь. Дождаться нужно только одного человека из Варшавы. Туда доктор приехал из Праги, порченых лечит. Пригласил я его сюда осмотреть Елену. А вы еще говорите, что я ее не жалею! Знаете, сколько запросил с меня этот доктор? Двадцать червонцев! Это только чтобы сюда приехать, а за лечение само собою. Я и торговаться не стал, все двадцать червонцев ему отвалю, сказал бы только, как нам ее лечить. Что вы на это скажете? — прибавил Аратов, смущаясь под зорким взглядом старухи.
— Скажу, что тебе уж очень приспичило скорее от нее избавиться, вот что я скажу, — заявила она.
Правнук не возражал и начал молча прохаживаться по комнате, не раздвигая бровей и улыбаясь странной, вызывающей усмешкой, в то время как Серафима Даниловна продолжала смотреть на него, пытаясь разгадать его мысли. Он знал, что ему ничего от нее не утаить. Слишком хорошо знали они друг друга, и слишком сильна была в Аратовой воля, чтобы бороться против ее проницательности. Да и не для чего! Разве в конце концов, как бы ни повернулась его опасная затея, она не пожертвует всем на свете, чтобы помочь ему? Ближе и дороже его у нее никого нет на земле. Чтобы оставить ему все свое состояние, она со всеми родственниками разошлась; только привязанность к этому правнуку и поддерживает в ней жизнь.
— Пригласили вы Грабинина ночевать? — спросил он с успокоенным лицом и с обычным выражением в глазах.
— Зачем? Дорога недальняя, и ночь лунная, пусть едет с Богом.
— Нет, он мне на подольше нужен. Когда еще удастся залучить его! Послезавтра надо ехать в Тульчин, там пир горой по случаю выборов послов на сеймик. Я обещал воеводе кое в чем помочь ему. Грабинина надо так ублажить, чтобы совсем в нас уверовал. Приятельские отношения надо с ним завести. Это легко: он, наверное, в отца, такой же кисляй с чувствительным сердцем. А все же на это время нужно, и я им займусь. Может быть, повезу его с собою в Тульчин. Пусть увидит, как в Речи Посполитой люди живут, с красавицами нашими пусть познакомится…
— Смотри, не отбил бы он у тебя Розальской, — усмехнулась старуха.
— Пусть попробует! Узнает, как полячки русским дуракам носы натягивают. Ну, да в грабининском роду это известно. Ловко отработала полячка его деда! А, кстати, я и забыл вам рассказать: мне с этой самой погубительницей вашего любимца удалось встретиться.
— С Джулковской? — с живостью спросила старуха. — Где же? И неужто она еще жива?
— Жива и здорова. Про здешние края помнит, и, когда ей меня назвали, заинтересовалась, стала про Воробьевку расспрашивать, живет ли там кто, жив ли прежний управитель, все ли там по-прежнему.
— Да не может быть! Ты меня морочишь! Вот бесстыдница!
— Истинную правду вам говорю. Встретился я с нею у Изабеллы; Джулковская раньше при тетке ее мадам де Кракови в резидентках на респекте состояла, а теперь при ней.
— И сама про Воробьевку заговорила? Ей, значит, известно, что ты обо всем знаешь?
— Да кто же этого не знает? Мне на нее Репнин указал. Гуляли мы с ним в саду, а она идет нам навстречу с двумя дворскими девицами. Любезная и нарядная дама, в летах, а видать, что была очень красива в молодости, глаза до сих пор с огоньком, и очень представительная…
— А здесь была худа, как щепка.
— Пополнела с тех пор, и больше пятидесяти лет ей нельзя дать. Давно уже овдовела и полным уважением всей «фамилии» пользуется.
— Вот что значит полячка! Наша, русская, после таких передряг давно скисла бы и от тоски да стыда гриб грибом сделалась бы, а эта козырем выступает, говоришь?
— Именно козырем. И чего ей стыдиться? Что было, то прошло и быльем поросло. Состояние у нее хорошее; муж был, должно быть, парень дельный, если благодетели его и патроны после его смерти продолжают оказывать ласку и внимание его вдове; чего же ей больше надо? И для чего ей о старом грехе думать да киснуть, когда этот грех давно ксендзы замолили?
— Совесть-то, значит, по-твоему, в карман?
— Понятно! Репнин говорил мне, что она — замечательно умная женщина, и ему, кажется, очень приятно, что Изабелла сошлась с нею: она все же по старой памяти сторону русских тянет, — прибавил он со смехом и, вернувшись к прерванному разговору, спросил: — А куда посадили Грабинина письмо писать?
— В библиотеку. Приказала отвести его туда, когда ты приехал, чтобы он разговору нашему не мешал.
— А сколько вы с него за посылку взяли?
— Пятьдесят рублей назначила. Так он моему предложению обрадовался, что сто хотел дать.
— Напрасно отказались. Его к крупным издержкам приучить надо, чтобы не жался, когда придется с денежками по нашим сутягам разъезжать. Теплые ребята! Они протрут глаза его червончиком, припасай только побольше. Однако надо распорядиться насчет ужина и всего прочего; надо показать петербургскому щегольку, как у нас люди со вкусом и с понятием живут. О делах мы с ним до завтрашнего утра ни словечка не пророним, утро вчера мудренее. А про Джулковскую я вам на просторе еще расскажу.
С этими словами Дмитрий Степанович поспешно вышел.
IV
В большой комнате с широкой кроватью под голубым штофным пологом Елена Васильевна Аратова играла на ковре со своим ребенком.
Которому из двух — восемнадцатилетней матери или двухлетнему сыну — было веселее кататься по ковру, прятаться, с громким раскатистым смехом кружиться или прыгать, взявшись за руки, — решить было трудно. Оба предавались счастью быть вместе, беспрепятственно целоваться и обниматься, болтая все, что взбредет в голову, с увлечением юных существ, которым такое удовольствие редко выпадает на долю. Недавний страх и отчаяние были забыты. О том, что ждало ее впереди, Аратова перестала думать с той минуты, как Настя прибежала сказать ей, что приказано оставить их в покое до отъезда гостя, когда же Настя принесла им обед и начала рассказывать о молодом воробьевском барине, молодая женщина с досадой прервала ее:
— Я знаю, — отрывисто заметила Елена Васильевна, отвертываясь, чтобы скрыть румянец, вспыхнувший на ее щеках.
— Где же вы изволили их видеть? — удивилась Настя.
— Иди себе, оставь нас! — с раздражением сказала барыня, которой почему-то было неприятно слушать похвалы красоте и наряду гостя.
Напоминание о нем раздражало ее, а между тем он не выходил у нее из головы с того мгновения, когда их глаза встретились. С этой минуты в душу Елены проникло странное, давно не испытанное убеждение, что она не одна на свете, что есть человек, которому ее горе и слезы могут быть близки сердцу. Это сознание будило в ней предчувствие чего-то нового и прекрасного, и, может быть, это было причиной радостного возбуждения, с которым она предавалась удовольствию быть с ребенком.
До сих пор жизнь Елены Васильевны была крайне печальна. С того дня, как ее привезли сюда, весь мир превратился для нее в тюрьму с двумя тюремщиками: прабабушкой Серафимой Даниловной и мужем; он так угнетал ее своим умом и могуществом, такой беспомощной чувствовала она себя в зависимости от этих двух существ, что других помыслов у нее не было, кроме заботы не навлечь на себя их гнева. Она старалась всеми силами души достигнуть этого, но ей это плохо удавалось, и она часто впадала в отчаяние.
Когда правнук и наследник Серафимы Даниловны женился на девице без состояния, старуха, верная своему правилу из всего извлекать пользу, решила сделать из бесприданницы хорошую хозяйку, строгую надсмотрщицу и доносчицу на дворовых. Но Елена оказалась не на высоте возлагаемых на нее упований. Да и могла ли нагонять страх на кого бы то ни было юная Елена с детским личиком и с детскими понятиями о жизни, когда ее самое можно было довести до слез жалким словом, смутить косым взглядом, напугать грубостью.
— Не знаю, право, к чему мне твою красавицу приспособить? — жаловалась Серафима Даниловна правнуку, перечисляя свои неудачные попытки извлечь пользу из его жены.
— А видели вы, как она рисует? — спросил он с улыбкой.
— Смеяться, что ли, надо мною вздумал? — раздраженно крикнула старуха. — Ты бы еще спросил, слышала ли я, как она романсы поет, на арфе играет да по-французски талялякает! Очень нужны эти глупости в хозяйстве, нечего сказать!
— Я вам про рисование говорю, — стоял на своем Аратов, вынимая из кармана вышитое по бархату саше и подавая его прабабке. — Может которая-нибудь из ваших золотошвеек такую работу сделает? — продолжал он, забавляясь изумлением, выразившимся на лице старухи.
Она была знаток в рукоделии и не могла не оценить тонкости вышивки и красоты узора и отрывисто сказала:
— Неужто сама и узор сочинила?
— Сама.
— Так пусть сочинит узор для Аришки. Хочется получше справить заказ игуменьи из Вознесенского монастыря. Пелену она на алтарь просила вышить по бархату, который княгиня Вяземская пожертвовала; а я обещала постараться, а новых узоров у нас нет. Хотела тебе приказать раздобыть из Варшавы или из Москвы.
— Я вам привез мастерицу, которая вам сколько угодно узоров насочинит, — отвечал правнук с довольной усмешкой.
Это было вскоре после того как он привез свою молодую жену в Малявино, три года тому назад, и когда он еще не терял надежды быть счастливым с нею, хотя менее самонадеянный человек на его месте уже и тогда перестал бы рассчитывать на это. Послушная родительской воле Елена безропотно вложила свою дрожавшую от страха руку в руку представленного ей жениха, не поднимая на него взора, выслушала его признание в любви и обещание посвятить жизнь на ее счастье, и еле слышным голосом ответила «да» на его вопрос, согласна ли она сделаться его женой.
Невестой она была недолго. Все торопились свадьбой — и мать Елены, спешившая в Сибирь к умирающему в ссылке мужу, и сам жених, страстно влюбленный и враг таких праздных и убыточных занятий, как ухаживание за девушкой, которая должна была принадлежать ему по законному праву. Изучать ее вкусы и характер казалось ему еще бесцельнее: разве не от него зависело переделать ее по-своему, если б он нашел это нужным?
Но Аратов ошибся в расчете, не приняв в соображение физиологических и психических феноменов, проявляющихся иногда в человеческой природе, а именно: непреодолимого и безотчетного отвращения женщины к какому-либо мужчине, без всяких видимых причин и наперекор всем общепринятым понятиям о неотразимости мужской красоты, ловкости и ума на не совсем еще вышедшую из детства, невинную и чистую помыслами девушку. Между тем именно такой феномен и проявился, когда наступила их брачная ночь — от ужаса и отвращения с Еленой сделался первый припадок с корчами, окончившийся глубоким обмороком.
Но тогда Аратов еще мог приписать это испугу оскорбленной невинности, замкнутой жизни Елены в доме, похожем на терем, и утешал себя мыслью, что от него зависит, чтобы Елена влюбилась в него до безумия и с восторгом отвечала на его ласки. Не было еще примера, чтобы понравившаяся ему женщина не поддалась его обаянию. Но у этой было к нему что-то враждебное, невольно заставлявшее подозревать, что в данном случае не тело влияло на душу, а душа — на тело. Точно каким-то для нее самой непонятным чутьем прозревала Елена жестокость сердца и развращенность ума, скрывавшиеся под очаровательной внешностью ее мужа, и вздрагивала с ног до головы от его поцелуев, как от прикосновения ядовитого жала гнусного чудовища, невзирая на все ее старания победить это обидное для него отвращение. В борьбе с женою — слабым, беспомощным ребенком — он доходил до такой ярости, что, как сумасшедший, выбегал из комнаты, чтобы не поддаться искушению убить ее.
Между тем Елена забеременела, и угасшая было надежда увидеть в ней такую женщину, как те, которых он до нее знал, снова воскресла в сердце Аратова. Люди науки, с которыми он советовался, поощряли в нем эту надежду, но советовали беречь жену.
Для этого представлялся один только способ — разлука. Аратов оставил жену у прабабки, а сам уехал за границу.
Без мужа Елена ожила. Свою беременность она переносила с легкостью вполне здоровой натуры, до последнего дня бегала и резвилась с приставленными к ней компаньонками из сонма приживалок, ютившихся в усадьбе с раннего детства, дочерей доверенных лиц, всю жизнь проживших при Серафиме Даниловне и потому преданных ей.
Эти наперсницы донесли своей благодетельнице, как Елена Васильевна весела без супруга, как она звонко смеется, распевает песни, радуется солнышку, цветам, забавляется птичками, котятами, всем, что попадается ей на глаза. Опытная старуха, видевшая на своем веку множество неудачных супружеств, поняла причину этого превращения. Когда окружающие ее старухи с умилением говорили: «Эка юность-то в ней играет!» — она думала про себя: «Не помнит себя от радости, что муж далеко!»
И горькая обида за любимого правнука невольно заползла ей в сердце, наполняя его досадой на невинную причину семейного разлада.
Месяцев через восемь после отъезда из Малявина, проживая в Париже, Дмитрий Степанович получил от прабабки письмо с извещением о рождении сына, нареченного по его желанию Алексеем.
«Дитя крупное и здоровое, голос звонкий и нос аратовский. Кормилицу взяли из Ефремовского хутора — жену Степана Кудрявого», — надписала Серафима Даниловна.
В то время Дмитрий Степанович был еще так влюблен в жену, что вне себя от радости немедленно собрался на родину. Однако, как он ни торопился, а прибыл в Малявино только через месяц, в тот самый день, когда приглашенные на крестины гости разъехались по домам.
И в ту же ночь, от испуга ли (как всегда, Аратов явился невзначай, никого не предупредивши письмом), или от нового пробуждения инстинктивного отвращения, но с его женой опять приключился припадок таинственного недуга, от которого ее уже считали излечившейся. На следующий день, чуть свет и ни с кем не простившись, молодой барин уехал в город, а недели через две вернувшиеся с экипажем и лошадьми повар и кучер возвестили об его отъезде за границу.
С год не было известий о Дмитрии Степановиче. Знали только, что он жив и здоров, иначе сопровождавший его камердинер Езебуш уведомил бы о болезни или смерти своего господина. Западали в Малявино и такие слухи: будто Дмитрия Степановича видели в Варшаве и в замках некоторых польских магнатов, с которыми он находился в приятельских отношениях, но так как проверить эти слухи было трудно, да и бесцельно, то их без внимания пропускали мимо ушей.
У Елены родилась дочь, но известие об этом, посланное опять в Париж, где у Аратова была постоянная квартира, не заставило его торопиться домой, и новорожденной было уже пять месяцев, когда он приехал в Малявино. Он встретился с женой ласково, даже с радостью, но уже на следующее утро стал суров и придирчив к ней. Он нашел, что жена не сделала никаких успехов ни в пении, ни в игре на арфе, разучилась говорить по-французски и одеваться со вкусом, вообще одичала так, что ее нельзя узнать.
— В деревне светскому обращению не научишься. Хочешь иметь жену-модницу, вози ее по большим городам да по заграницам, — с ехидной усмешкой возразила на это старуха-прабабка. — И глуп же ты, Митяйка! Женился, а с женой не знаешь, что делать. Чем бы радоваться, что и она, и детки здоровы, да Бога благодарить за то, что ей, кроме деток, ничего не надо, ты ворчишь да злобствуешь.
Но, по-видимому, Дмитрию Степановичу этого было мало. Слушая прабабку, он хмурился и с раздражением ходил по комнате, что всегда у него было признаком сдержанного волнения.
О главной причине своего неудовольствия он молчал: отношение жены к нему не изменилось; при свидетелях она была в его присутствии покойна, но стоило им только остаться вдвоем, как тотчас у нее являлись предвестники страшного припадка: тревога в глазах, общее беспокойство, судорожное подергивание губ, слезы. Сомневаться в том, что ему никогда не победить ее отвращения к нему, как к мужу, было невозможно, и этой горькой, оскорбительной истины Аратов больше от себя не скрывал.
О, если б он мог сделаться равнодушным к Елене! Увы! Невзирая на разлуку, на развлечения с другими женщинами, он не в силах был заглушить в себе бешеную страсть к законной супруге и готов был на все, чтобы только заставить ее разделить эту страсть.
В нем проснулась ревность ко всему, что окружало ее, что ей нравилось, что ее забавляло и утешало. Прежде всего — дети. Дикая мысль, что в Елене никогда не проснется чувственность, пока дети будут удовлетворять ее потребность в нежности и ласках, завладела им так, что он разлучил ее с детьми.
Может быть, он смутно рассчитывал на взрыв отчаяния со стороны жены, на бурную сцену с упреками, объяснениями и примирением, но ничего подобного не произошло: Елена безропотно покорилась его решению, как всему, что он приказывал, но замкнулась в самой себе еще больше прежнего. Все свободное после работы у бабушки время, которое она раньше проводила с детьми, она посвящала теперь чтению, игре на арфе, пению, в надежде умилостивить своего повелителя. Но ее покорность только усиливала его озлобление. Он не мог не чувствовать ненависти и отвращения, скрывавшихся под этой покорностью, и сознание своего бессилия в борьбе со слабым, беззащитным, одиноким существом, бессознательно оказывавшим непреклонное сопротивление его страсти, приводило его в неистовство.
Аратов опять начал покидать дом на неопределенное время, подтверждая приказание не дозволять молодой барыне видеться с детьми иначе как при старой барыне, к которой их каждое утро приносили на несколько минут. Он знал, что это приказание будет исполнено. Серафима Даниловна могла осуждать его с глаза на глаз, находить его действия жестокими и нелепыми, но слишком строго стояла за принцип самодержавия в семье, чтобы преступить приказание правнука, даже в таком случае, когда не одобряла этого приказания. От нее поблажки Елене не было, даже если бы она и любила ее, а такого чувства старуха к ней не питала, и Дмитрий Степанович чувствовал это как нельзя лучше. Кроме того он знал, что не будет поблажки и от личности, которую он приставил к детям. У него было много причин не сомневаться в преданности к нему Анельки.
Назначение этой таинственной личности старшей надзирательницей над барчатами привело в негодование весь дом. От барина ждали скорее дурного, чем хорошего, но, чтобы он дошел до такого бесстыдства, никто не поверил бы, если бы это воочию не случилось.
Осуждала его за это и прабабка.
— Вот они, нонешние-то каковы: метрессок своих поганых в няньки к детям от законной супруги приставляют! — заметила она с язвительной усмешкой, когда ей доложили о новом распоряжении барина.
Однако поднять свой властный голос против такого бесчинства старуха не пожелала, и приказание Аратова было исполнено: детей поселим во флигель в саду и поручили Анельке, а Елена Васильевна могла видеть их только по утрам у бабушки. Остальное время она должна была проводить в занятиях, которые, по мнению ее мужа, должны были пополнить ее воспитание, прерванное вследствие домашних обстоятельств и раннего замужества. Она рисовала узоры для бабушкиных вышивальщиц и трудилась над заказанным ей мужем халатом, искусно выводи узоры разноцветными шелками по шелковой ткани, привезенной им из Франции, где он видел такой халат на известном щеголе, герцоге Лозене.
О сплетнях, ходивших в усадьбе про женщину, которой были переданы на попечение ее дети, Елена ничего не знала. Она принадлежала к разряду чистых существ, перед которыми дерзкое злоязычие смолкает и бесстыдные мысли не выговариваются, не из боязни предательства (никого не подвела она в беду, с тех пор как приехала сюда), а потому, что заставить ее понять грязную истину было бы слишком трудно. Да и бесполезно такое открытие: ничего, кроме душевного смятения, не возбудило бы оно в ее душе — ни жажды мщения, ни даже оскорбления; оскорбляться можно только тем, что сознаешь не только сердцем, но и умом.
А был ли у Елены ум? Этого даже и муж ее, невзирая на свою проницательность, не мог бы сказать.
Елена была какая-то особенная. Ни к одной из женщин в аратовской семье нельзя было приравнять ее. Непохожа она была ни на дочерей Серафимы Даниловны, ни на сестер Дмитрия Степановича, ни на его мать, так же, как и Елена, взятую издалека и скончавшуюся в молодых летах, по слухам, от притеснений бабушки Серафимы Даниловны. Как приехала сюда Елена всем чужая, такою и оставалась, с замкнутою душою, никому не открывая ни своих чувств, ни мыслей, ни желаний, ни надежд. Никогда не вспоминала она вслух о своем прошлом, и о ней знали только то, что она из знатной, но разорившейся семьи, бесприданница.
Визит молодого соседа имел роковые последствия для судьбы Елены. Узнав о приезде гостя, она стремительно сорвалась с места перед пяльцами и, чтобы не попасться на глаза незнакомцу, побежала к себе. Для этого надо было пройти через весь дом, и она не могла не заметить переполоха, поднявшегося в доме по случаю посещения соседа. Мальчишки и девчонки мчались с приказаниями в людские и в кухни; дворецкий в сопровождении лакея с фонарем спускался в подвал за винами, экономка торопилась в кладовую за добавочной провизией. Эта суматоха и приготовления навели Елену на мысль воспользоваться случаем повидать детей в неурочный час.
Судьба благоприятствовала ей. Елене удалось выйти в сад никем не замеченной и найти сынишку одного во флигеле. Весь штат приставленной к детям прислуги принимал участие в чествовании слуг приезжего господина, и Анелька побежала разыскивать кормилицу с маленькой барышней, в страхе, чтобы та, соблазнившись редким случаем повидаться со своим ребенком, не завернула в деревню и не внесла барское дитя в свою грязную избу.
Увидав Елену, мальчик обезумел от радости и начал умолять мать взять его с собою в дом.
Как большая часть сдержанных и скрытных натур, Елена сама не подозревала, на какие отчаянные поступки она способна в такие минуты, когда в ней вспыхнет страсть, тлеющая в ее душе под гнетом привычки к покорности, привитой ей воспитанием с ранних лет. Мольбы и слезы сына заставили ее совсем потерять голову. Будь, что будет, пусть его отнимут у нее силой, а добровольно она с ним не расстанется! Весь дом занят гостем, бабушка при чужом шума не поднимет, Дмитрия Степановича раньше будущей недели ждать нельзя… добраться бы только до спальни и запереться там.
Эти мысли вихрем проносились в голове Елены в то время, как схватив ребенка на руки, она, боязливо озираясь по сторонам, пробиралась с ним по боковым аллеям к выходу из сада. Но за нею пустились в погоню раньше, чем она успела дойти до калитки, и, заслышав за собою шаги, Елена поспешно свернула к цветнику перед балконом, где на мгновение остановилась, задержанная пристальным взглядом незнакомца, перегнувшегося через перила, чтобы лучше ее разглядеть. Впрочем, ее замешательство было недолгим, почти тотчас же очнувшись, она пустилась бежать дальше, обогнула дом и беспрепятственно достигла двери своей спальни; вбежав туда, она заперлась на ключ в ту самую минуту, когда с противоположного оконца галереи уже появилась запыхавшаяся от волнения Анелька.
Начались переговоры через запертую дверь. Анелька умоляла отдать ей барчонка, клялась, что все останется между ними. Но на Елену нашел дух сопротивления, и расстаться с сыном ей казалось невозможным. У нее мутилось в уме от неожиданных чувств, поднимавшихся со дна ее души и побуждавших ее к таким решениям, о которых она раньше понятия не имела. Ей точно кто-то подсказывал необходимость восстать наконец против тиранства, которому ее так долго и так безнаказанно подвергали, пользуясь ее одиночеством и беззащитностью. Это тиранство теперь так возмущало ее, что она искренне заявила, что скорее зарежется, чем добровольно уступит своим мучителям. Анелька испугалась угрозы и побежала за помощью к Дарье Трофимовне. Но и последней ничего не удалось поделать с молодой женщиной, внезапно и точно под чьим-то наитием извне понявшей свои права и обязанности защищать их.
Благодаря присутствию гостя ее оставили в покое, но другое предположение Елены — относительно возвращения мужа — не сбылось: он вернулся много раньше, чем его ждали, и, услышав знакомые шаги по коридору, она вздрогнула от испуга. Бледная и трепещущая сорвалась она с ковра и уперлась испуганным взглядом в дверь, прислушиваясь к шагам, быстро приближавшимся к ней.
Сынишка ее, не понимая, в чем дело, и принимая, может быть, движение матери за новую игру, со смехом ухватился ручонками за ее юбку, напрягая силенки, чтобы заставить ее опуститься на ковер рядок с ним.
— Пусти, пусти, моя радость! — шептала Елена дрожащими губами, пытаясь освободиться от вцепившихся в нее ручонок. — Слышишь, стучат!
— Не отвояяй, не отвояяй! — вскрикнул малютка, без сомнения вспомнив, как несколько часов тому назад им удалось благополучно отразить нападение.
— Нельзя… — это папенька!
Эти слова произвели магическое действие: мальчик внезапно смолк, выпустил из рук платье матери и боязливо попятился назад в темный угол, не спуская широко раскрытых от испуга глаз с двери, которую его мать торопливо отворяла.
— От кого это вы изволили забаррикадироваться? — спросил Аратов, проникая в комнату и озираясь по сторонам.
— Я взяла к себе Алешу, Дмитрий Степанович. Мне было скучно… сегодня детей к бабушке не приносили… вас не было… бабушка была занята с гостем, спросить позволения было не у кого, — проговорила Елена прерывающимся от страха голосом, все больше смущаясь под его пристальным, насмешливым взглядом и не предвидя ничего доброго от его молчания.
— Прекрасно! — произнес он наконец. — Но вы провели с вашим ребенком все утро, можете теперь уделить и мне несколько минут. Слышали? — прибавил он, немного помолчав, не возвышая голоса и продолжая магнетизировать ее взглядом.
От этого взгляда вспышка проснувшейся было в Елене воли внезапно потухла, а ребенок, ежась от страха, все дальше и дальше забивался в угол.
— Надо отправить его во флигель, — сказал Аратов, неторопливо подходя к круглому отверстию у камина и пригибаясь к нему губами, чтобы позвать прислугу.
Этот аппарат для сообщения со слугами, жившими в подвальном этаже, был им придуман и сооружен под его руководством домашними мастерами. Это приспособление дозволяло ему обходиться ограниченным числом прислуги, и он ввел его на своей половине, когда по достижении совершеннолетия бабушка предоставила в его распоряжение пристройку с башней.
Туда Аратов перенес все книги, сложенные на чердаке после смерти деда, а также и те, которые он сам покупал во Франции, Италии и Германии. Рядом с библиотекой он устроил обсерваторию для занятий астрономией с помощью телескопа. Впрочем, этим инструментом он пользовался для наблюдений не столько над звездами, сколько за тем, что происходило на земле. Так по крайней мере думали о нем во всем околотке, дивясь прозорливости, с которою он узнавал, видел и слышал все, что происходило не только на его землях, но и у соседей.
Отдав приказание через трубку, Аратов повернулся к жене и, увидав ее страстно обнимавшей сына, который не сводил с отца взгляда, полного ужаса, побледнел от злобы.
— Вот вы как меня встречаете! Вот как вы ждете моих ласк! Вот как я вам дорог! — зашипел он. — Вы и сына приучили ненавидеть меня и бояться! Как перед лютым зверем, дрожит он перед отцом. И вы еще хотите, чтобы я оставил при вас детей? Чтобы они выросли злейшими моими врагами? Ну нет, я еще не обезумел настолько, чтобы допустить такой позор для себя и для имени, которое они носят! Пусть лучше растут у чужих, как круглые сироты, чем под вашим глупым влиянием, пусть забудут, что у них есть мать. А вас надо лечить, вы не в своем уме: так ненавидеть мужа, который взял вас нищую от опальных родителей, может только безумная. На днях приедет доктор, за которым я нарочно ездил в Варшаву, у него в Праге больница для таких сумасшедших, как вы, мы отвезем вас туда и навсегда, чтобы ваши дети забыли про безумную мать и считали вас мертвой. Возьми барчонка и отнеси его во флигель! — грозно обратился он к появившейся в дверях Насте. — И скажи Анельке, что я с нею еще поговорю. Узнает, как мои приказания не исполнять! Пусть готовится к расправе, после отъезда гостя за всех примусь, — продолжал он, в то время как Настя брала на руки дрожавшего от страха ребенка, которого Елена покорно передала ей. — Вы меня еще не знаете, сударыня, — обратился он к жене, когда они остались вдвоем. — Отвергли мою любовь, узнаете мою ненависть! Порченая! Кликуша! — произнес он со злобным презрением, выходя из комнаты и оставляя Елену в оцепенении от ужаса.
V
Остаток дня и весь вечер Аратов посвятил своему гостю.
Не будь Грабинин так всецело поглощен мыслями о несчастной «порченой», он, может быть, поддался бы обаянию ума и любезности своего нового знакомого, но, слушая его рассказы о здешнем крае, преимущества которого над Россией в культурном отношении тот усердно подчеркивал, Владимир Михайлович не переставал вспоминать умоляющий взгляд несчастной молодой женщины и ломать себе голову над вопросом, как бы повидать ее и поближе познакомиться с нею.
Между тем, гуляя с ним по парку, Аратов очень ловко свернул разговор со своего хозяйства на хозяйство в Воробьевке и предложил свои услуги соседу.
— Вы хорошо сделали, что последовали совету бабушки и просили о продлении отпуска, — сказал он, возвращаясь домой при наступлении темноты и проходя мимо строений с освещенными окнами. — Чтобы распутать ваши дела и попытаться вернуть хотя бы часть расхищенного имущества, нужна большая осторожность. Я всегда готов служить вам своей опытностью и связями в здешнем крае, но предупреждаю вас, что для полнейшего восстановления хозяйства ваше присутствие здесь необходимо. Бабушка говорила мне, что князь Репнин предлагает вам у себя службу?
— О это была одна только светская любезность! Князь меня так мало знает, что не может серьезно желать, чтобы я служил при нем, — поспешил заявить Грабинин и, чутьем влюбленного угадывая, что надо уверить соперника в его нежелании оставаться в здешнем крае, прибавил, что во всяком случае у него так много сердечных и служебных интересов в Петербурге, что ему очень не хотелось бы покинуть его. — У меня там много родных, приятелей, я к тамошней жизни привык, жизнь в другом месте была бы для меня тяжелой ссылкой.
Откуда брались у него такая находчивость и красноречие в отстаивании ложных заверений и почему уже называл он про себя Аратова своим соперником — он затруднился бы ответить; одно только сознавал он вполне ясно, это то, что он, ненавидит этого человека, что им вдвоем на белом свете тесно и что он тогда только вздохнет свободно, когда будет знать, что никогда не встретит его на жизненном пути.
Они вернулись в ярко освещенную столовую с сервированным ужином и сели за стол только втроем: Грабинин, хозяин дома и француз.
Повар отличился на славу; даже во дворце императрицы не еды Владимир Михайлович таких тонких кушаний и не пивал таких вкусных вин, как те, которыми угощал его Аратов так усердно, что вскоре он почувствовал легкое головокружение. Но поддаваться последнему ему вовсе не хотелось, а потому он стал отказываться от угощения. Хозяин настаивал, и спор между ними перешел бы, может быть, в настоящую ссору, если бы не вошел со взволнованным лицом камердинер и, с таинственным видом пригнувшись к своему господину, не доложил ему о чем-то весьма важном, судя по тому, как поспешно встал Дмитрий Степанович из-за стола и, ответив, что сам сейчас выйдет, обратился к месье Соссье, с любопытством следившему за этой сценой:
— Да, это оттуда. Просят немедленно приехать. Дело назначено на воскресенье, — отрывисто проговорил он, отвечая на вопрошающий взгляд француза, а затем, повернувшись к Грабинину, извинился, что должен немедленно покинуть его. — Надо ехать по важному делу к приятелю, верст за двести отсюда. Оттуда я уже прямо проеду к киевскому воеводе. У меня с ним затеяны важные дела — собираем голоса на предстоящую конфедерацию. В России об этом не имеют понятия, а вот поживете с нами и поймете, что такое свободная страна с избирательными правами. Здесь любому магнату, обладающему умом и ловкостью, можно надеяться сделаться королем, и каждый шляхтич чувствует себя равным самому важному вельможе. Перед выборами происходит такое смятение в умах, что золотом и обещаниями, как щепками, швыряют, — знай, только подбирай, не зевай. Разумеется, надо при этом поступать умеючи и осторожно, чтобы и выгоду получить, и гонор сохранить. В подлости и хамстве никогда никто не упрекал Аратовых, но так как дураком я никогда не был и не буду, то и блюду свои интересы всюду и скоро сделаюсь одним кз богатейших и влиятельнейших помещиков в крае. Советую и вам последовать моему примеру, сосед, — прибавил он с усмешкой и, к величайшему удовольствию Грабинина, протянул ему руку на прощание.
— Мы, значит, нескоро увидимся? — спросил Владимир Михайлович.
— Не раньше как недели через две. У воеводы придется прожить дня три, раньше не отпустят. Вы о здешнем гостеприимстве понятия не имеете. У нас думают, что лучше русских никто не угощает гостей, но это могут говорить только те, которым польские обычаи неизвестны. Что у них за женщины! Последняя шляхтянка, имевшая счастье получить образование в замке магната, любезнее и обаятельнее жен и дочерей наших вельмож. Из-за полячки можно сделаться не только пьяницей и бретером, но героем и разбойником! О, здесь можно жить несравненно веселее, чем в России! Но для этого надо сойтись с поляками, а еще лучше — породниться с ними. Для меня это невозможно: я женат, но вы — человек свободный, и жизнь перед вами открыта, от вас зависит устроить ее самым блестящим образом. По возвращении я познакомлю вас кое с кем, и, кто знает, захотите ли вы вернуться в скучный, чопорный Петербург или в затхлую Москву, когда побываете со мною в Варшаве и в замках здешних магнатов! Здесь такой блеск, роскошь и тонкий вкус, образование, вечная радость и веселье, как нигде в Европе! — распространялся Аратов, в своем увлечении не замечая, как трудно было его слушателю скрывать негодование и отвращение, овладевшие им от слов, казавшихся ему кощунственными и преступными.
Точно камень свалился у Грабинина с души, когда они расстались. При одной мысли, что они целых две недели не увидятся, хмель точно выдуло у него из головы, и он чувствовал себя бодрым, сильным и на все готовым. Никогда не подозревал он, чтобы можно было так ненавидеть человека и вместе с тем сознавать себя таким беспомощным в его присутствии. Он не только терялся, но даже как будто робел под холодным, пронзительным взглядом Аратова, и не за себя, конечно, а за ту несчастную, которая находилась во власти жестокого мужа и которую ему страстно хотелось спасти.
Но каким образом? На этом вопросе Грабинин избегал останавливаться и гнал его прочь, — так жутко было не находить на него ответа, между тем как он всем существом своим сознавал, что ему легче отказаться от жизни, чем от этого намерения.
Пока он думал обо всем этом, француз, занимая его произнес:
— У мсье Аратова вечно спешные дела, мешающие ему располагать временем так, как бы ему хотелось. То хлопоты по выборам, то улаживание недоразумений между приятелями, то ухаживание за хорошенькими женщинами, среди которых он очень популярен. Все это сопровождается пышными пиршествами, кавалькадами, театральными представлениями, концертами, балетами. Он прав, уверяя, что в Польше умеют веселиться и отгонять от себя мрачные мысли и тяжелые предчувствия.
Однако Грабинин был слишком поглощен соображениями, не имевшими ничего общего с рассказами француза, чтобы внимательно слушать его, и, отказавшись от вина, которым Соссье, взяв на себя роль хозяина, усиленно потчевал его, поднялся из-за стола и заявил, что хочет пораньше лечь спать, чтобы завтра рано утром уехать домой.
Продолжая разговор, начатый в столовой, Соссье проводил гостя до приготовленной для него комнаты, где на пороге встретил их Федька. Владимир Михайлович остался со своим слугою в удобно убранной спальне.
— Барин, что тут за ужасы творятся! — воскликнул Федька, не будучи в состоянии больше сдерживать свое волнение.
«С нею?» — чуть было не сорвалось у Грабинина с языка, но, вовремя спохватившись, он указал на окно, растворенное в сад, откуда легко было подслушать их разговор.
Федька бросился к этому окну и, перегнувшись через подоконник, с минуту всматривался в тени, сгущавшиеся в этом месте особенно черно от высоких деревьев.
— Никого не видать, — сообщил он шепотом, подходя к кровати, на которую, не раздеваясь, присел его барин. — Да и не до того им теперь, чтобы подсматривать за нами, своих забот полон рот. Сейчас, когда вы еще изволили за столом сидеть, прискакал тут один в куртке с золотыми шнурами, в алой шапке с длинным пером.
— Кто такой? Откуда? — прервал его барин.
— Издалека. Сказывали, да я запамятовал. Посланец тот письмо привез здешнему барину и говорит: «Не иначе, как в собственные руки отдам». Езебуш пошел докладывать и, вернувшись, побежал сбирать охотников. А тут вскорости и сам барин вышел. Пока он с посланцем в кабинете разговаривал, на конюшне лошадей седлали, а молодцы, которые у них тут под видом охотников проживают, один за другим на заднем дворе собирались. Эти люди все из дальних, и охотятся они с барином своим не на тетеревей и не на волков и медведей, а на людей! Что только про них здесь рассказывают — страсть! Собралось этих «охотников» человек десять, если не больше, в темных плащах, у каждого за поясом нож острый, а уж рожи! Мороз продирает вспомнить! Одно слово — разбойники. Для того только их здесь и держат, чтобы с барином на промысел ездить.
— На какой промысел? Что ты за вздор городишь?
— Не вздор-с, а они — заправдашние разбойники-с, как есть-с, настоящие, наездами пробавляются. Это весьма здесь известно. Послушали бы вы, что о них здешний народ толкует, волосы дыбом становятся слушать! Прошлою осенью один тут барин напал на соседа с целой ватагой хлопов, с ножами, саблями, ружьями. Четыре дня дрались, и на пятый от барской усадьбы одни обгорелые стены остались. Люди, которых не успели убить или изувечить, разбежались, самого барина зарубили насмерть, супругу его с дочками в плен взяли; кабы добрые люди не отбили дорогой, загубили бы и их. В лесу теперь скрываются, ждут перемены судьбы.
— При чем же тут Аратов? То происходит в Польше, а не на Русской земле, — прервал рассказчика Грабинин.
— Да далеко ли тут до Польши-то? Вот он, Днепр-то! — возразил Федька, протягивая руку к окну. — Здесь, можно сказать, все перепутано: русские делаются поляками, а поляки — русскими. С первого раза и говора-то их не поймешь, — пши да пши, бардзо да пенкно только и слышишь. По-настоящему даже и барина назвать не умеют.
— Но при чем же тут Аратов? — с раздражением прервал его рассуждения Владимир Михайлович.
— Да он был заодно с тем господином, что наезд-то на соседа сделал, и вместе со своими малявинскими охотниками рубил, жег да грабил. Две подводы награбленного добра сюда привезли темной ночью и в подвалы свалили: ящики с серебром, тюки с коврами, узлы со всякой всячиной. Одних червонцев, говорят, больше трех тысяч на долю господина Аратова при дележе досталось. Тот пан, которого они закололи, перед тем целую уйму денег в карты выиграл; было, значит, чем поживиться. Деньги-то господин Аратов при себе оставил и уехал с ними за границу, а все остальное добро торговцам спустили, чтобы и следа не оставалось.
— Ты врешь! — вскрикнул Грабинин, срываясь с места и схватывая рассказчика за плечо. — Докажи, что это — правда! Сейчас докажи!
Негодование, ужас и нечто странное, похожее на торжество, на радостное удовлетворение, заволновали все существо Грабинина. Сам себя не помня, он так сильно впился пальцами в плечо Федьки, что тот вскрикнул от боли:
— Барин, барин! Да какого вам еще доказательства, когда я с теми самыми людьми говорил, у которых самых близких родных при этом наезде убили и изуродовали! Да вот вернемся в Воробьевку, вам то же самое и Андрей Иванович скажет. Здесь это всем известно, здесь такое разбойничье место, ни суда, ни расправы; у кого сила да деньги, тот и прав. Извольте только присмотреться к здешнему народу, — продолжал он уже более спокойно, не чувствуя больше на себе руки барина, — у каждого нож за поясом, всяк готов бежать, куда глаза глядят: убил одного или двух, ограбил, выручку припрятал, набил себе пояс червонцами, наточил нож поострее, да и драл либо в Туретчину, либо за море, либо к казакам в степь. А то так и ближе: поляки бегут в Россию, а русские — в Польшу. Ведь только реку переплыть. Даже и господам это нипочем, а хлопам и подавно, им терять нечего. Леса кругом, сами изволили видеть, какие дремучие! Сколько в них разного люда хоронится! Здесь, в Малявине, только слава одна, что русского барина поместье; мы со Степаном всего только восемнадцать человек православных во всей усадьбе насчитали, остальные все — полячье. При старой барыне — русские, а при молодом барине — ляхи, в нашу церковь не ходят, а у ксендза в Киеве говеют либо в монастырях, что под самым Киевом. А сколько здесь ведьм, колдунов и колдуний, знахарей да знахарок и таких, которые давно свою душу черту продали и которых земля не берет. Нам одну такую показывали, на мельнице живет, и кого угодно может заворожить. Такая старая, что в землю уже стала врастать, один горб видать. Выведут ее утром на двор, положат на траву, пригнется она к земле ртом, да так и дышит весь день, пока ее назад в хату не уведут. Вот, значит, как ее к могиле тянет, а за грехи Бог ей смерти не посылает. И все она провидит: как увидала человека, так уж и знает, чего ему от судьбы ждать. Вам бы с нею повидаться, сударь. Намедни она молодой барыне сказала…
— Какой молодой барыне? Супруге Аратова? — с живостью прервал его барин.
— Точно так-с, одна здесь молодая барыня.
— Ты про нее слышал? Что здесь о ней говорят?
— Да все их жалеют; говорят, на нее супруг напраслину взводит будто она — порченая; никакой в них нет порчи, просто она запугана и большое утеснение от супруга и от старой барыни терпит. Деточек у нее отняли и бывшей любовнице барина, басурманке Анельке, отдали на попечение; держат ее взаперти, как преступницу, до отчаянности доводят, чтобы и в самом деле она с ума сошла. Сегодня, как мы приехали, она унесла к себе сыночка. Так что тут было! Даже жутко вспомнить! Как приехал сам-то, да про все узнал, осатанел от гнева! Анельку приказал в подвал запереть, чтобы на досуге, вернувшись домой, пытать да наказывать, и пошел к супруге. Так уж тут, в девичьей, от страха начали креститься да вслух молиться, чтобы в ярости чем ни попало ие хватил барыню! От такого зверя, с позволения сказать, всего можно ждать. Не раз уже он супругу бил.
У Грабинина от ужаса в глазах помутилось. Ему хотелось крикнуть рассказчику, чтобы тот замолчал, перестал терзать ему сердце — и чтобы скорее высказал все, что знает про страшную драму, разыгравшуюся в нескольких шагах от него.
— Откуда ты все это знаешь? — с трудом шевеля губами, спросил он.
— Да как же не знать, сударь, когда мы здесь целый день пробыли, а здешние люди о том и толкуют? Барин за каким-то шарлатаном в Варшаву ездил, которому христианскую душу ничего не стоит загубить, и этот черт сговорился с ним молодую барыню совсем сумасшедшей сделать, чтобы, значит, госпожу Аратову в дальнюю деревню запереть можно было, да на другой жениться. Волочится он за какой-то вдовой. Она в девицах при важной пани вроде как в воспитанницах жила, а теперь на собственной мызе проживает; говорят, красавица, а только далеко ей до барыни Елены Васильевны.
— Ты разве видел ее?
— Точно так-с. Та девушка, что при ней, мне ее показывала. Как супруг-то ейный ускакал, она на крылечко вышла, села на ступеньки и сидит там до сих пор пригорбившись, все плачет.
Грабинин в волнении молча прошелся по комнате. Мысли в таком хаосе кружились в его голове, что он ни на чем не мог остановиться. Одно только сознавал он ясно: во что бы то ни стало и что бы от этого ни произошло, хотя бы смерть им обоим, а надо видеться с Еленой. Хуже того, что есть, быть не может. Надо действовать, ни минуты не медля, сейчас.
— Так он уехал? — отрывисто спросил он.
— Уехали-с. Когда вы еще с французом за столом сидели, люди его собрались на заднем дворе и сели на коней. Господин Аратов вышел и сделал им как бы смотр, всякого оглядел и допросил. Что он им говорил, я не мог расслышать: из окошка в коридоре я на них смотрел, а на двор не то что чужих, а даже и своих-то не всех пускали. Поговоривши с ними, барин сам вскочил на коня и со всеми ускакал. Раньше как через две недели, самого-то не ждут, ну а из охотников, которые уцелеют, раньше вернутся.
— Пойдем, — сказал Грабинин, повертываясь к двери, — мне надо видеть Елену Васильевну, проведи меня к ней.
Это было сказано таким решительным тоном, что Федьке даже и в голову не пришло противоречить, и они вышли в коридор, казавшийся бесконечно длинным от наполнявшей его тьмы. Вскоре Федька, свернув в сторону, ощупью отыскал дверь и растворил ее в чулан, уставленный старым хламом; тут при слабом свете, пробивавшемся через щель, можно было увидеть другую дверь, низенькую, обитую железом; от толчка Федьки она распахнулась на маленький дворик, со всех сторон стиснутый высокими стенами и поросший густой травой. Здесь было еще пустыннее и молчаливее, чем в доме, а стены с заколоченными ставнями кругом придавали этому месту вид колодца.
— У них тут кладовые с разным добром, а в подвалах вина да пустые бочонки от награбленного золота и серебра, — начал было шепотом объяснять Федька, но барин его, заметив при лунном свете женскую фигуру, закутанную во что-то белое, на крылечке, в противоположном конце двора, не дал ему договорить.
— Ступай, оставь нас! — чуть слышно сказал он.
Федька скрылся в темноте, из которой они вышли, а Владимир Михайлович, движимый непреодолимой силой, не ощущая ни страха, ни волнения, ни даже изумления, прямо направился к молодой женщине. Все в нем замерло и застыло, кроме желания сказать ей, чтобы она успокоилась, что он ее спасет. И, чем ближе подходил он к ней, чем определеннее вырисовывался перед ним ее прелестный облик, тем яснее становилось чувство, отвечавшее всем потребностям его души, — спасти ее от мужа. А как это сделать — известно было только Тому, кто привел его сюда так чудно и неожиданно.
Елена чувствовала то же самое и ждала его, чтобы сказать ему это. На ее бледном лице с глубокими темными глазами, в ее доверчиво протянутой ему руке, во всем ее существе Грабинин читал беспредельное доверие к нему и радостную надежду.
Молодая женщина знала, что он придет. Она долго молилась с тоскою и слезами, и Господь услышал ее, послал ей избавителя. Они встретились как старые знакомые, как родные и близкие по душе, исстрадавшиеся в мучительном томлении разлуки и жаждущие поделиться мыслями и чувствами, духовно сливаясь в одинаковых желаниях и упованиях. Елена откровенно высказала все. Ее хотят увезти отсюда, выдать за сумасшедшую, но она — не сумасшедшая, она только очень несчастна и давно страдает, с тех пор как Дмитрий Степанович взял ее. Но только сегодня постигла она вполне глубину своего горя.
— И как Господь милостив! — продолжала она, с восторгом поднимая взор к небу. — Именно в эту минуту прислал Он вас ко мне! Когда я увидала вас, точно какая-то живительная искра запала мне в сердце и затеплилась в нем, как лампадочка, разливая кругом свет и радость.
По временам эта искра бледнела и переставала утешать и оживлять ее, но совсем она не потухала и снова вспыхивала, когда отчаяние начинало заползать в душу. Если б то, что случилось сегодня, произошло вчера, она, наверное, помешалась бы от страха и отчаяния, но сегодня она уже знала, что она не одна на свете, она уже прочитала в глазах Грабинина жалость к ней и теплое участие. Вследствие этого, когда ее мучитель вошел к ней, и стал грозить ей и стращать, что все, что она уже вынесла, — ничто в сравнении с предстоящем ей и что он ждет только приезда доктора, чтобы навсегда отстранить ее от света, похоронить живую, — она думала о незнакомце, смотревшим на нее с горячим участием, и внутренний голос шептал: «Не бойся, он спасет тебя!» Она всем сердцем верила этому голосу: она теперь уже знает, что у нее есть на свете защитник и покровитель, который увезет ее отсюда и найдет ей верное убежище в каком-нибудь монастыре, далеко от этого дома, где она пролила столько слез и была так несчастна!
— Где хотите, лишь бы он не мог найти меня. Я готова постричься в монахини и навсегда отказаться от света. В миру мне жалеть нечего. Детей муж все равно не отдаст мне; я его знаю, жалость ему недоступна, и, когда он возненавидит человека, для него нет больше удовольствия, как его мучить. Детей он заставит забыть меня и представит меня им в таком страшном виде, что они без содрогания не будут вспоминать про меня. Вы только подумайте, они — совсем крошки: Алешеньке два года и пять месяцев, он не все еще слова выговаривает, а Фимочке и года нет; разве такие малютки могут помнить мать? В монастыре я к ним буду ближе, и у меня будет гораздо больше надежды найти их и заставить узнать и полюбить меня, когда они вырастут и выйдут из воли отца. Я много думала об этом в долгие часы одиночества и об одном молила Бога: если Ему неугодно смягчить сердце Дмитрия Степановича, внушить ему сострадание ко мне, то пусть Он пошлет мне избавителя, который нашел бы мне верное убежище, где я могла бы совсем посвятить жизнь молитве за детей; ничего больше не могу я для них сделать.
Елена говорила медленно, с долгими остановками между фразами, точно стараясь припомнить то, что, по ее мнению, избавитель должен был знать о ней. Грабинин, слушая ее, смотрел на нее с восторженным благоговением, как на неземное создание, которое каждую минуту может отлететь от него. Упиваясь звуками ее голоса и ощущением близости к ней, он не удивился бы, если бы у нее вдруг выросли крылья, на которых она улетела бы от него навсегда. Но одному только небу уступил бы он ее без борьбы, на земле же никому не дал бы коснуться до нее. Она не обманется в своем уповании на него, одна только смерть может заставить его отказаться от ее спасения.
Он слушал Елену молча: все выражения человеческой речи казались ему бледными в сравнении с тем, что он чувствовал, но бедняжка понимала его без слов и улыбалась ему, как испытанному другу, которому можно все сказать, потому что он все поймет и всему будет сочувствовать. Наконец она промолвила:
— У меня ничего нет, а в монастырях надо платить за келью и за содержание. Но я умею работать и рисовать. Даже бабушка была довольна моей работой, а она — такая строгая! Не правда ли, меня возьмут без денег? Вы это устроите? Да?
Грабинин взял ее руку и молча прильнул к ней губами, давая волю слезам, которые не в силах был удержать.
— О чем вы плачете? — спросила она, не отнимая руки.
— От счастья, что вы доверились мне, не зная меня, — прошептал он.
— Я тоже счастлива… Чем? Неужели только надеждой на избавление? Нет, нет, — с живостью ответила самой себе Елена. — Я счастлива тем, что мое спасение придет от вас. Что я чувствую к вам? — продолжала она, всматриваясь в его лицо. — Не знаю! Но это — блаженство: точно я умерла и в раю. Мне хотелось бы, чтобы вы все узнали обо мне: всю мою жизнь до встречи с вами… не ту жизнь, что я вела здесь, а как я жила дома, с маменькой, с маленькими сестрами и с братом.
Она была старшая и помнила прежнюю роскошную жизнь ее семьи в Москве. Она понимала страдания матери с детьми в маленьком хуторе, оставшемся единственным их достоянием после погрома. Беда обрушилась на них неожиданно. Тогда еще царствовала императрица Елизавета Петровна. Ее отец пострадал за преданность благодетелю и покровителю, канцлеру Бестужеву. Его состояние конфисковали все без остатка — дом в Москве, имения, драгоценности, не только всё ему лично принадлежавшее, но также и то, что он взял в приданое за женой. Его увезли в Сибирь, а семья приютилась в хуторке близ монастыря, где игуменьей была их близкая родственница, сестра их бабки. Мать была одна из тех святых женщин, которыми всегда изобиловала Русская земля в тяжелые времена. Избалованная роскошью и богатством с рождения, она сумела терпеливо и с достоинством примириться со всеми невзгодами, и среди забот и лишений с помощью нескольких верных слуг воспитывала детей во страхе Божием, покорности судьбе и в правилах чести, в которых сама выросла. Старшая дочь помогала ей. Елене с младенчества было не до детских игр и не до девических мечтаний, она готовилась к тяжелой жизни, но то, что предназначала ей судьба, предвидеть не могла, как не могла себе представить, чтобы могли существовать на свете такие люди, как Дмитрий Степанович Аратов.
Он явился к ним в очень тяжелое время, когда получено было письмо о тяжкой болезни отца и о его желании увидеться перед смертью с женою. Можно себе представить, как рвалась княгиня к супругу! Но как подняться с места в такую даль при их нужде, и с кем оставить детей? Написали дяде в Казань. Он прислал денег на дорогу и предложил взять к себе младших детей. Одну только Елену девать было некуда. А ей только что минуло пятнадцать лет. И вдруг приехали сваты с предложением жениха! Молодой, красивый, богатый, знатного рода, увидал Елену в их приходской церкви, влюбился в нее и, узнав, чья она дочь, заслал сватов. Те так много наболтали и насулили, что весь дом с ума свели от радости. Вскоре и сам жених приехал к ним и всем понравился — всем, кроме Елены, которая не могла смотреть на него без ужаса. Но разве смела она сознаться в этом? Ее мать была, как в чаду, от счастья и пришла бы в отчаяние, если бы узнала, что ее дочь в каждом движении, в каждом взгляде и слове жениха чувствует змеиное жало, ехидство и жестокость. Никто, кроме самой Елены, не прозревал этого, все были в восторге и наперерыв поздравляли ее с блестящей судьбой, да и сама она была слишком неопытна, чтобы разобраться в мучивших ее чувствах, и утешала себя надеждой привыкнуть к этому человеку, когда он сделается ее мужем. Но эта надежда не осуществилась; чем дальше, тем сильнее росло и ее отвращение к нему; свет выкатывался у нее из глаз при одной мысли остаться с ним наедине. А тогда она еще не понимала, какого рода права он будет иметь над нею, сделавшись ее мужем.
Когда в своем рассказе Елена дошла до этого места, ее голос вздрогнул и оборвался, а рука, которую Грабинин продолжал держать в своих, задрожала и похолодела.
— Не вспоминайте! Забудьте! Клянусь Богом, что я заставлю вас забыть ужасное прошлое! — воскликнул он, опускаясь перед нею на колени и прижимаясь лицом к ее рукам.
Елена не отталкивала его; она была счастлива и предавалась этому счастью с беззаботностью невинного ребенка. Грабинин тоже в эти блаженные минуты не думал о будущем, не спрашивал себя: как будет он поступать, чтобы оправдать ее доверие, дать ей то, чего она от него ждет, — избавление от мужа, имевшего над нею неограниченные права! Он решил обо всем этом поразмыслить после, когда Елены не будет с ним и когда ему ничего больше не останется делать, как действовать за нее; теперь же ему было не под силу отравлять земными помыслами ниспосланное свыше блаженство.
Сколько времени длилось их свидание, они не могли бы сказать. Луна давно скрылась за горизонт, звезды меркли, а небесный свод начинал проясняться и золотиться занимавшейся зарей, когда позади их раздались поспешные шаги, и взволнованный шепот Насти заставил их очнуться от забытья, чтобы вернуться к действительности.
— Милая барыня, светает! Скоро весь дом поднимется.
Грабинин машинально взглянул на дверь в противоположном конце двора и увидал Федьку, делавшего ему руками какие-то знаки с порога. Надо было расстаться.
Через несколько минут Федька вошел в кучерскую, где на свежем сене громко храпел Степан, и растолкал его.
— Вставайте, Степан Андреевич, барин приказал закладывать лошадей. Домой собрался ехать. Заторопился почему-то… даже и от завтрака отказался, натощак хочет ехать. Приказал торопиться.
Степан разбудил форейтора и отправился с ним выводить лошадей из конюшни.
Пользуясь отсутствием хозяина дома, большая часть малявинской дворни еще покоилась мирным сном, когда гость вышел на крыльцо, перед которым уже ожидала запряженная карета. От завтрака, настойчиво предлагаемого ему старшими слугами, повторявшими, что Серафима Даниловна будет гневаться на них за то, что отпустили дорогого гостя, не кушавши, Грабинин отказался и, приказав передать старой барыне его почтение, благодарность за ласку и обещание в самом непродолжительном времени навестить ее, взглянул на окна, в надежде увидеть ту, под обаянием которой он возрождался к новой жизни. Но за стеклами никого не было видно, зато меж кустов, разросшихся у подъезда, два зорких глаза поджидали его взгляд, чтобы сказать ему, что последнее его молчаливое приветствие будет свято передано по адресу. Грабинин узнал Настю и успокоился: она сейчас побежит к своей барыне и скажет ей, что последний его взгляд, последняя улыбка были обращены к ней через посредство верной слуги.
Еще раз ласково кивнув ей, Владимир Михайлович вскочил в коляску. Федька прыгнул на козлы рядом с кучером, который, подобрав вожжи, с трудом сдерживал застоявшихся коней.
Барин закричал: «Пошел!» Лошади помчались по широкой аллее из старых лип и птицами понеслись по деревне, а за околицей, сдерживаемые опытной рукой Степана, умеренной рысцой побежали по полям и лесам.
Если бы мысли и чувства оставляли след на былинках и цветочки, мимо которых они неудержимо стремятся в таинственную даль, никто не поверил бы, что в то весеннее утро по дороге из Малявина в Воробьевку проезжал один только воробьевский барин, а не целая толпа жизнерадостных и без памяти влюбленных юношей: такое великое множество восторженных чувств и безумных мечтаний было посеяно им на протяжении тридцати верст!
VI
Памятны были истекший день и последовавшая за ним ночь также и недавним обитателям амурного дома.
Проводив барина, Андрей тотчас же сел в тележку, запряженную сильной татарской лошаденкой, не сказав, куда едет и когда вернется, поехал к лесу, в противоположную сторону от той дороги, что вела в Малявино, куда поехал его барин.
Грустно взволнованная недобрыми предчувствиями, смотрела Maланья вслед своему удалявшемуся хозяину. Собиралась над ним гроза лютая. Если Господь мимо не пронесет, бежать им, куда глаза глядят, к нехристям в степь либо еще дальше. С детками-то малыми, с тяжелой поклажей, насиженное покидать куда как было жутко и тоскливо! Сколько всяческой тяготы и муки придется вынести даже и в том случае, если удастся благополучно добраться до надежного убежища, а уж о том, что им грозит в случае неудачи, и помыслить страшно! Ведь они — крепостные, за обман да за расхищение господского добра барин может с ними сделать все, что захочет: в тюрьме сгноит, отца в солдаты сдаст, семью по лицу земли разметает так, что целой жизни потом не хватит на то, чтобы разыскать друг друга.
— О Господи, помилуй! Царица Небесная, выручи! — с тяжелыми вздохами шептала она, направляясь к сараю в глубине двора, где ей предстояло так много дела, что трудно было решить, за что раньше приниматься.
Уезжая, хозяин приказал ей в дальний путь собираться на всякий случай, чтобы, если что, из-за пустяков ни на единый миг не задерживаться.
Прежде всего под заранее придуманным предлогом Маланья разослала в разные стороны всех баб, девок и девчонок, составлявших штат ее прислуги, и с помощью старушки-родственницы, не расстававшейся с нею со дня ее рождения, принялась укладывать в сундуки и короба вещи, наскоро снесенные сюда, когда приехал барин.
Некому было мешать им — народ разошелся, а дети спозаранку, когда барин еще не уезжал, по приказанию Маланьи, ушли к пчельнику в лес под наблюдением старшей сестренки, десятилетней кудрявой Маши, набившей мешочек лепешками, крутыми яйцами да остатками барского ужина.
Маланья со старой родственницей так усердно трудились, что к полудню все ценное: серебро, образа в золоченых ризах и прочее было уложено в сундук, который они сдвинули в угол сарая и прикрыли рогожами и разным тряпьем. Покончив с этим делом, они принялись за меха, ковры, одежду. Всего этого было много. Недаром малявинская старая барыня сравнивала усадьбу господ Грабининых с полной чашей. От этой чаши расхитители отпивали не вдруг и не зря, а незаметно и последовательно, но так усердно, что, когда дед теперешнего владельца стал помирать, от добра, скопленного веками в барском доме, не осталось и половины.
Старый управитель, холостяк и мизантроп, придавал значение только таким предметам, которые можно было немедленно спустить за звонкую монету, но преемник его, Андрей, был малодушнее, и глаза у него разгорались на такие пустяки, как роскошная одежда и богатая домашняя обстановка, заграничный фарфор, мебель, хрусталь и разные драгоценные штучки, употребление которых ему было неизвестно. На замечания жены, на что им такие вещи, которыми в их звании нельзя и пользоваться, он упрекал ее в недальновидности.
«С чем же начнем мы новую жизнь, когда судьба наша изменится?» — возражал он так уверенно, точно имел все данные рассчитывать на блестящее будущее.
У него было много амбиции, и в своих мечтаниях он заносился так высоко, что порою ему самому становилось страшновато, но вместе с тем и сладко. Ах, как сладко воображать себя богатым купцом в большом городе, в Рязани, например, откуда его мать была родом и где он провел свое раннее детство, пока вместе с родителями не отдали его в приданое барышне, вышедшей замуж на Владимира Васильевича Грабинина! Хорошо было бы и в Москве прожить до смерти, в своем доме с большим садом, поближе к церкви, чтобы звон колоколов будил к церковным службам, на которые он отправлялся бы пешком, раздавая милостыню нищим; кафтан на нем был бы из тонкого сукна, на пальце перстень, пожалованный царицей за пожертвования на богоугодные заведения, и народ с почтением расступался бы перед ним, как перед благодетелем и богачом. А позади его супруга Маланья Трофимовна, в шелковом платье, накрытая шелковым французским платком, с детками, тоже прилично званию и состоянию родителя разряженными. Торговля у него была бы обширная и разнообразная. На выдумки он хитер и рисковать любит в меру, а потому все такими делами занимался бы, которые ему и барыши, и хорошую славу приносили бы. Все краденое добро роздал бы он по церквам, и не одно то, что сам натаскал из барского дома, а также и то, что по наследству от крестного отца жены им досталось.
Если принять в соображение, в какой среде вращался Андрей с тех пор как попал в Воробьевку, и какие примеры проходили у него перед глазами, дерзость таких мечтаний будет понятна.
При жизни своего благодетеля, покойного Вишнякова, воробьевского управителя, он много наслышался о превращении хамов в панов, нищих — в богачей и богачей — в нищих, каторжников — в вельмож и вельмож — в каторжников. Все это он слышал от разных паюков, посессоров, диспозиторов и живущих у богатых вельмож резидентов (по-русски — тунеядствующих дармоедов), посещавших доверенного управителя Грабинина, с которым у них были постоянные делишки, часто таинственного свойства. То был век авантюр и авантюристов всюду, а в таком разлагающемся государстве, как Польша, в особенности. Здесь все торопились пользоваться жизнью и предавались бешеному удальству в преследовании самых отчаянных и преступных целей, не заботясь ни о законе, ни о совести, ни об ответственности перед Богом, часто ради минутного наслаждения. Бывал Андрей и в Варшаве, видал там, как богачи живут. Однако не льстился он на польские выдумки и внешний лоск, претило ему польское чванство, и смешно ему было смотреть, как они разъезжали по главным улицам города в раззолоченных каретах и колясках и верхами на конях с раскрашенными во всевозможные неестественные цвета хвостами и гривами, увешенными драгоценными каменьями. При этом сами всадники были в бархатных кунтушах с алмазными поясами, с развевающимися перьями на шапках, в красных сафьяновых сапогах, и сопровождались блестящей свитой шляхты, расфранченной на счет патрона, готовой по первому знаку благодетеля зарубить каждого, на кого косо взглянет их повелитель. Но всем, что он видел и слышал о странной судьбе многих их этих франтов, Андрей все больше и больше укреплялся в убеждении, что человеку с мозгами в этой стране все возможно.
В городах, местечках, во дворцах весело разоряющихся вельмож и в домах шляхты царила бесшабашная вакханалия; с утра до вечера и с вечера до утра раздавались веселая музыка, громкие тосты и дикие вопли допившихся до чертиков хозяев и их гостей; из ворот выезжали и въезжали блестящие охоты и кавалькады; по дворам и садам шныряли толпы разряженной прислуги и резидентов с резидентками в красивых костюмах, украшенных гербами патрона; в кухнях стряпались бесчисленные кушанья из провизии, выписанной издалека вместе с ящиками дорогих вин и редких фруктов; кладовые и подвалы наполнялись приносимой из лесов дичью, из рек — рыбой, из оранжерей поставлялись цветы и фрукты, для разведения которых держали садовников-иностранцев. И тут же, в нескольких шагах от этих эльдорадо, простой народ изнемогал от голода и холода, под кнутами дозорцев и диспозиторов, выколачивавших из него последний грош.
В лесах же, окружающих оазисы роскоши и довольства, которыми была усеяна тогдашняя «свободная и независимая» Польша, ютились неудачники, те, которым не повезло в погоне за счастьем и которым ничего больше не оставалось делать, как схорониться от преследования полиции и мщения оскорбленных ими врагов. Тут выжидали они счастливого поворота колеса фортуны, в виде перемены правительства или другого какого-нибудь переворота в судьбе своих недругов вследствие частных или общественных событий, влекущих за собою неурядицу междоусобия в стране, на которую соседние державы уже наложили свою тяжелую руку. При каждом таком явлении, сопровождавшемся вмешательством иноземцев во внутреннее устройство Польши, судьбы частных лиц и государственных деятелей менялись и положения перетасовывались; состоявшие у власти низвергались, увлекая за собою в бездну приверженцев, и низверженные возносились, таща за собою к свету и власти клиентов, оставшихся им верными в несчастье, или друзей, приобретенных уже в дни злополучия. Нельзя было, значит, ни отчаиваться во время беды, ни полагаться на прочность благополучия во время удачи.
Такого рода положение вещей не могло не отражаться на душевном настроении самых спокойных и благоразумных людей; пылких же и одаренных живым воображением оно доводило до неистовства в погоне за деньгами, властью, женщинами, за всем, что равняет с любимцами фортуны, пользующимися ее дарами по праву рождения.
Стремился к такому счастью и Андрей. Много разных предприятий было у него затеяно, и вот неожиданно приехал барин! Что бы Владимиру Михайловичу отложить свой приезд, хотя бы до того времени, когда старую малявинскую каргу снесут в склеп под малявинскую церковь! Некому было бы тогда открыть ему глаза на проделки его управителя.
Ее правнука, для многих страшного Дмитрия Степановича, Андрей не так опасался, как самой старухи, Аратов приезжал сюда всегда на короткое время, причем был так поглощен собственными делами, что вмешивался в чужие тогда только, когда находил это для себя выгодным. Андрей много знал о нем от своих лесных приятелей и доброжелателей. Недавно еще один из дозорцев из Тульчина, встретившись с ним в корчме, спьяна разболтал ему великую тайну: будто малявинский барин метит променять свои имения в России на имение в Польше, чтобы латинскую веру принять и на службу к польскому королю поступить, и будто сманивает его на такое грешное дело бывшая резидентка графини Потоцкой, пани Розальская, к которой он повадился ездить. При таких затеях, где уж о чужих убытках заботиться!
Не опасался бы Андрей и своего барина, если бы некому было настроить последнего против него. Барин простой, души добрейший, нет в нем ни хитрости, ни лукавства, что на уме, то на языке, своей выгоды вовсе не понимает. Все это Андрей постиг с первых же слов с ним. Да и слуги, что с ним приехали, то же самое говорят: ни скупости, ни корысти в нем нет, деньги для него — солома, — на одно мотовство с приятелями да на продажных женщин нужны. А доходов немало он и со своих московских имений получает; значит, больше для порядка приехал на дедушкино наследство взглянуть, чтобы в беспечности не упрекнули. Но ведь и его можно на подозрение натравить и, если он вздумает, по совету старой малявинской карги, кое-кого из окрестных людей допросить, многое может открыться. Врагов у Андрея много, и они рады погубить его; надо, значит, на всякий случай приготовиться, чтобы новую жизнь начать далеко отсюда. Здесь он не останется в случае беды; слишком долго важничал он, настоящего барина из себя представлял и народ прижимал, чтобы примириться с положением подневольного человека. Однако под начальством нового управителя окончательно решить: скрыться ли ему с семьей, не дождавшись следствия и не пытаясь оправдываться, или дождаться, чтобы разразилась гроза, он не хотел, не посоветовавшись с человеком, к жилищу которого и направил путь.
Доехав до водяной мельницы, шумевшей на дне глубокого оврага, он вылез из тележки и, ведя лошадь под уздцы, спустился по тропинке к потоку, вертевшему мельничное колесо. Поблизости на завалинке хатки сидел старик и плел лапоть, а из оконца выглядывали головки его двух внучек. Завидев посетителя, мельник отложил свой лапоть и поплелся навстречу гостю.
— Постереги здесь мою лошадь, дедка, вечерком приду за нею, — сказал Андрей, поздоровавшись со стариком.
— К монаху ладишь дойти?
— Да. Жена задумала меда бочонок сварить, так вот не уступит ли от пудика два медка сотового, — ответил Андрей, немного смущенный любопытством мельника.
— У монаха меда много, — заметил последний. — Ступай себе с Богом, паренек, коняшку мы твою побережем.
— Спасибо. А вот, девчурки, вам на пряники, — прибавил Андрей, подходя к окошку и протягивая девочкам по грошу.
Выкарабкавшись из оврага, Андрей продолжал путь пешком по лесу. Часа два продирался он сквозь тесно переплетавшиеся ветви, завязая в густом кустарнике и старательно обходя глубокие ямы, вырытые лесными зверями, а иные и людьми, которым приходилось хорониться в недра земли. Солнце уже близилось к западу, когда он наконец достиг врытой глубоко в землю пещеры с входом, густо обросшим травой, так что трудно было заподозрить ее существование. Но Андрей не в первый раз проникал в убежище таинственной личности, скрывавшейся от света под кличкой монаха, и, не задумываясь, проник в чащу кустов, меж которых была дверь в виде ставня, всегда запертая изнутри, когда хозяин был дома, и снаружи, когда он выходил.
Теперь он был дома; Андрей явственно услышал говор за дверью, пригнувшись к которой несколько минут прислушивался, прежде чем постучаться. Голоса ему были знакомы: в одном он тотчас же узнал голос монаха, но, кто был другой, он не мог припомнить, хотя ему казалось, что он слышал этот голос очень недавно. Во всяком случае эта встреча была ему неприятна: удастся ли по душе перетолковать с приятелем? Оставаться здесь долго ему нельзя — надо непременно той же ночью вернуться домой, а если этот гость пришел ночевать, то, пожалуй, нельзя будет остаться наедине с хозяином пещеры.
Но долго раздумывать ему не дали. Вероятно, заслышав над головой шорох, монах снял тяжелый крюк с петли и раздвинул ставень настолько, насколько это было нужно, чтобы разглядеть посетителя, а затем, узнав Андрея, немедленно вышел к нему другим ходом, с противоположной стороны.
Это был высокий и чрезвычайно худой человек неопределенных лет, бодрый и живой, как юноша, с белой, как у старца, бородой, от которой его лицо с резкими чертами и блестящими глазами, казалось моложавым. На нем была монашеская ряса из порыжевшего от времени сукна, подпоясанная веревкой, с засунутыми за нее деревянными четками и киижалом в серебряной оправе. На его всклоченных белых кудрях была надета скуфейка из потертого бархата.
— Андрей Иванович! Здорово! Я тебя поджидал, — проговорил он с довольно сильным малороссийским акцентом, протягивая посетителю руку с длинными бледными пальцами, по которой, даже не взглянув в его лицо с породистыми красивыми чертами, можно было узнать в нем барина.
— Да, батька, кое о чем надо посоветоваться с тобою, — ответил Андрей, подозрительно косясь на дверь и понижая голос. — Думал застать тебя одного.
— Подожди маленько, этот сейчас уйдет. Ему путь до места не ближний, а до ночи надо поручение исполнить. Это — пана Мальчевского паюк, Стаська.
— По голосу его, паршивца, узнал, — с досадой прошептал Андрей. — Не догадался бы, что я к тебе пришел. Дело мое — потаенное, батька. Так меня теперь прижало, что собственной тени опасаюсь.
— Ничего он не узнает. Схоронись тут в кустах, а я его подальше выведу, до коня у медвежьей берлоги, и скоро к тебе вернусь.
С этими словами монах спустился назад в пещеру, а Андрей отошел на несколько шагов и опустился на землю за кустами. Ждать ему пришлось недолго: вскоре он услышал, как монах с посетителем вышли из подземелья в лес, а затем минут через десять монах подошел к нему один и, усевшись рядом с ним на траву, спросил, что у него за дело. Андрей рассказал про неожиданный приезд барина и про свои опасения, чтобы малявинская старая барыня не внушила ему подозрений на управителя.
— Уж это непременно, что она нажалуется ему на тебя, — внимательно выслушав его, сказал тот, которого называли монахом. — Сколько раз говорил я тебе — не только ей, но и всем угождать, чтобы тебя не выдали!
— Не умею я так, — мрачно проворчал Андрей. — Пробовал, ничего не выходит. Чтобы всем угодить, лисий хвост нужен, а его у меня нет.
— Зачем же тогда на мошенничества пустился, когда лисьего хвоста у тебя нет? В твоем положении с одними волчьими зубами ничего не поделаешь. С волчьими-то зубами только разбойничать можно, а на мошенничество хитрость, притворство да двоедушие нужны; надо уметь лебезить, врать да святошой притворяться, при случае слезы лить и никогда в сердце жалости не допускать, надо быть предателем, как Иуда, с лобзанием предавший нашего Спасителя.
— Никогда я Иудой не был и не буду! — вскрикнул Андрей, удивленный сравнением приятеля.
— Так иди в разбойники, — заметил с улыбкой монах.
— Ив разбойники не пойду. Ты меня, кажется, совсем нехристем считаешь, — угрюмо возразил Андрей.
— Да христианского-то в тебе мало, это я тебе и раньше говорил. Ну, да благодать-то не всякому дается, и во всяком случае вымолить ее надо, кровавыми слезами вымолить. И сдается мне, что твое время приспело от греховного сна очнуться. Господь по своей благодати вспомнил про тебя, если испытание тебе посылает, надо тебе, значит, перед Ним оправдаться.
Монах смолк. Молчал и Андрей, низко опустив голову и тяжело вздыхая. В его сердце заползало чувство раскаяния и умиления; хотелось плакать и каяться. А монах молился; тишина, царившая вокруг них, нарушалась его вздохами и шепотом скорбного воззвания: «Господи, помилуй нас, грешных», — вырвавшегося из глубины его души так искренне, что его настроение не могло не передаваться его собеседнику.
— Ну, помолились, а теперь давай совет держать, братец, — сказал монах, с добродушной усмешкой взглядывая на взволнованного посетителя. — С чего это твой барин так скоро надумал к старухе ехать? От кого он про нее слышал?
— Сама за ним прислала. Донесли ей, что утром он через Малявку вброд переправлялся, ну и прислала Ипатыча звать его к себе. А не дальше как в прошлом месяце, один тут паренек из Малявина сказывал, что их старая барыня на меня рвет и мечет за их Акимку, будто тот от меня озорства и своевольства набрался. На одной из наших девок задумал он жениться и приходил просить, чтобы в промен его к нам вместо Кондратия бобыля взять, и я обещал ему похлопотать об этом. Вот и вся моя тут вина. Вором старая карга меня обозвала, грозилась барину про меня отписать.
— А ведь отписать-то есть о чем, Иваныч?
Андрей промолчал.
— Понимаешь ты теперь, что я правду тебе говорил зимой, когда ты хвастался, что две тысячи десятин земли у татар купил на те деньги, что с амурного домика выручил? Вот оно и отзывается. Лиходеев у тебя много. Зачем расплодил?
— У кого их нет, батька? Иной и рад бы так действовать, как я, да ума не хватает, вот и злобствует.
— А теперь, когда тебе казнь подходит, Бога будут благодарить, что ума им на злые дела недодал, — подхватил монах. — Ну, да рассказывай дальше!
— Чего тут рассказывать? — махнул рукой Андрей. — Все сказано: сам должен понимать, для чего старая карга за нашим барином послала. Весь день он с ней одной проведет, и чего только она ему не наскажет!
— Она в доме не одна, Аратов тоже в Малявине.
— Когда же он успел приехать? Вчера Ипатыч сказывал, что раньше как на будущей неделе, его не ждут.
— Приехал, говорят тебе. Последнюю неделю он все в Киеве с поляками путался. У Лосунского выиграл в одну ночь десять тысяч червонцев и сейчас у еврея Фогеля бриллиантов да жемчугов на три тысячи накупил, чтобы, значит, вдвое дороже перепродать за границей. Камни-то у известного лица выкрадены, надо было скорее сбыть. Такого случая Аратов никогда не пропустит. Ловкач!
— Этому все с рук сходит, — со вздохом заметил Андрей, — потому что барин.
— И вовсе не от этого, а потому, что Господь от него уже давно отступился, — строго поправил его монах. — Ему сам черт помогает. Всякого Аратов может провести и обворожить; даже жиды к нему льнут, его ловкостью в обманах восхищаясь. А все же ему в конце концов несдобровать! Затеял он теперь с Зарудным да с Квашнинским недоброе дело — у Сокальского дочку для Мальчевского выкрасть. Этот давно в нее влюблен, а еще больше — в карбованцы Сокальского. Засылал сватов и получил гарбуз; не захотел Сокальский за мотарыгу единственную дочь выдать. Обозлился отвергнутый жених и задумал невесту наездом достать. Сейчас их Стаська рассказывал, что они со вчерашнего дня Аратова по всему околотку ищут, чтобы передать ему письмо от их пана, и наконец кто-то надоумил их узнать про него на мызе Розальской. Там им сказали, что он домой в Малявино уехал. Стаська туда поскакал, а мимоездом ко мне свернул отдохнуть и кое о чем со мною посоветоваться. Затеял их пан дело преопасное. На днях пан Сокальский так опился и объелся у Гродзинского, что домой его замертво привезли, и он лежит теперь в постели, ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Вот и надумал Мальчевский этим воспользоваться, чтобы наезд сделать. Подкупили сокальского паюка Иозефа да прислужницу молодой панны. Мальчевский обещал раздать сто червонцев челяди своих приспешников, а Стаське посулил двадцать пять золотых за то только, чтобы непременно нашел Аратова и отдал ему письмо вовремя.
— Разбойники! Всех бы я их повесил за такую пакость! — проворчал Андрей. Ему всегда, при его пристрастии к наживе, претили азартные выходки разгульной молодежи из-за женщин, а при том душевном настроении, в которое привели его упреки монаха, особенно противно казалось такое наглое издевательство над всеми законами Божьими и человеческими. — Так много бросить денег из-за затеи, от которой ничего, кроме разорения, нельзя ждать! Чтобы владеть девкой, которая потом с первым встречным от него убежит, стоит, нечего сказать! Чем бы эти деньги на хозяйство употребить, дом поправить, который у него совсем разваливается! А пана Сокальского мы знаем: над деньгами трясется — убить его надо, чтобы добром его поживиться!
— За это перед Богом они и ответят, а я тебе это к тому говорю, чтобы ты знал, какие дела теперь у Аратова затеяны. Кроме проказы Мальчевского, он еще и другими делами озабочен; непременно на Ро-зальской хочет жениться.
— Как же ему жениться, когда у него жена есть?
— Жена у него, говорят, порченая.
— Враки все! Никакой в ней нет порчи, кроме того, что противен он ей и что она скрывать свою ненависть к нему не умеет; вот и вся порча. Нам нельзя этого не знать: всегда малявинские с воробьевскими по-соседски жили, кумились и роднились. Никакой порчи в молодой барыне малявинской нет, — с убеждением повторил Андрей.
— Эх, братец ты мой, захочет Аратов супругу свою безумной сделать, кто ему может помешать? Здесь страна бесправная и беззаконная; у кого деньги, у того власть и сила. Я знаю двух таких, которых весь город хоронил; на глазах у всех их в гроб клали, в могилу опускали, землей засыпали и памятники над ними из итальянского мрамора поставили, а они себе живехоньки: один в монастыре грехи замаливает, а другой… — и, точно испугавшись, что сказал много лишнего, монах поспешно свернул речь на жену Аратова. — Ты думаешь в домах дм сумасшедших одних только безумных держат? Нет, брат, там и здоровые томятся.
Андрей ничего не возражал. Догадавшись, что в данную минуту ему не до чужих бед, монах спросил, как же он намерен поступить ввиду надвигавшейся на него беды.
— Да вот я об этом-то и пришел с тобою посоветоваться. Не будь семьи, бежал бы, куда глаза глядят, не дожидаясь ни допросов, m пыток.
— Бежать тебе никоим образом нельзя. Первым делом надо ко всему приготовиться, и, если оправдаться не удастся…
— Как же тут оправдаться, когда живы те самые люди, которые помогали мне таскать барское добро из кладовых да из подвалов! — с отчаянием воскликнул Андрей. — Нет уж, батька, оправдаться мне нельзя. Повиниться разве…
— Всего лучше было бы.
— Знаю я, но ведь мне тогда в управителях не остаться: либо сдадут в рекруты, либо в дальнюю деревню сошлют да на землю, как простого мужика, посадят. Не снести мне такого креста, батька, — мрачно прибавил он.
— Чего же ты от меня хочешь? Чем могу я тебе помочь? — спросил монах. — Ворованному добру — я не укрыватель.
— Хотел просить тебя жену с детками у себя приютить, пока у нас там передряга-то будет. Ведь вольную я ее за себя взял, за что же она со мною рабью неволю в опале будет претерпевать? У нее брат богатый в Астрахани живет, можно ему отписать с верным человеком, чтобн приехал за ними. Все же им у него будет лучше хоть сиротами на чужой стороне жить, чем со мной, опозоренным, наказанным, может, теми самыми, которых сам розгами драл…
Голос Андрея оборвался от душевной муки, и он смолк, закрыв лицо руками. Сдержанные рыдания прорвались наружу, и он несколько мину! рыдал, как ребенок.
— Привози сюда семью, схороним ее от всех глаз, с Божьей помощью, — начал монах после довольно продолжительного молчания, во время которого с жалостью и любовью смотрел на изливавшего перед ним свою печаль грешника.
О чем думал он в эти минуты? О своих ли собственных прегрешениях, которые ему приходилось искупать, тяжелыми страданиями и лишениями, о других ли грешниках, приходивших к нему за нравственной поддержкой, когда наступало время искупления, или об этом самом Андрее, которого он знал до сих пор самонадеянным, беззаботным и мнящим себя счастливым удачами в преступных предприятиях, а теперь видит несчастным, растерянными и удрученным под тяжестью креста, еще только готовящегося опуститься на него? Андрей всегда возбуждал в нем участие, и той минуты, что наступила теперь, он не только ждал с вожделением, но даже не раз молил Бога, чтобы она скорее наступила для его любимца; жаль ему было погибающую в грехах душу, душу сильную, терпеливую, способную столько же на добро, сколько на зло. Он знал, до какого нравственного величия способны возрасти такие души под очистительным огнем искупления, и не мог не желать такого духовного обновления для этого русского человека, сумевшего сохранить все основные черты россиянина и православного среди чуждых и враждебных этому духу элементов.
— О семье своей не заботься, — повторил он, — веди ее сюда хоть завтра. А как тебе самому быть, много не загадывай, а положись на волю Божию, что пошлет Он тебе, то и принимай с благодарностью и смирением. Увидишь, как тебе полегчает, когда ты от всего сердца возопишь к Спасителю: «Да будет воля Твоя!» И дай себе зарок, если бы так случилось, что на этот раз гроза пронесется мимо, вперед так жить, чтобы никого на земле, кроме Господа Бога, тебе не страшиться.
— Как пред Богом, обещаюсь тебе, батька, по закону жить, а если опять на скверность меня потянет, ни за что на глаза тебе не покажусь! — воскликнул Андрей.
— Вот это хорошо. Главное — не робей! Все от Бога. Всегда это помни, слышишь?
— Буду помнить, батька. Спасибо, что меня поддержал в беде! Каждое твое слово у меня на сердце огнем горит. Не жду я, чтобы, как ты говоришь, Господь пронес беду мою мимо, недостоин я такого чуда!
— Вот это хорошо, что ты сам так стал понимать; милость-то Божия уже начала над тобою проявляться! Давно ли ты себя всех умнее да ловчее мнил? Ну а если бы так случилось, что пришлось бы тебе из здешних мест удирать, то в этом я тебе помогу. Есть у меня друзья и у казаков, и у немцев. Да нечего теперь загадывать, надо все в свое время делать и заранее носа не вешать, — прибавил монах, поднимаясь с места. — Помни вот еще что: никогда ни беда, ни счастье не приходят оттуда, откуда человек их ждет. Большое спокойствие доставляет душе знание этого! Да не переночуешь ли ты у меня сегодня? Ведь уже ночь на дворе!
Но от этого предложения Андрей отказался. Ему не хотелось, чтобы по возвращении домой барин не застал его в Воробьевке.
— Как знаешь. И то сказать, место наше тебе знакомо, не заплутаешься. Прощай, буду ждать тебя с добрыми вестями. Храни тебя Спаситель!
VII
Андрей пустился в обратный путь в совершенно другом душевном настроении, чем тогда, когда сюда шел. Особенно пришелся ему по душе совет лесного приятеля не вешать прежде времени носа. Успокоила его также мысль, что есть, где приютить семью, чтобы она не страдала вместе с ним от беды, в которой повинен он один. Предложение монаха развязывало ему во многом руки. Награбленное добро, с которым он еще не находил в себе достаточно мужества расстаться, он найдет, где спрятать, а одному-то можно всюду пробраться, все высмотреть и на просторе раскинуть умом, как и где пристроиться, чтобы удобнее к выгодному делу пристать. Слыхал он и про рыбные промыслы на Каспийском море, и про золотые прииски в Сибири, и про торговлю контрабандными товарами на границе Цесарской земли и в Туретчине. Есть где человеку с мозгами развернуться; земля не клином сошлась даже для беглого крепостного. Разумеется, вольному легче. Да что уж мечтать о том, чему невозможно сбыться! Милости теперь от барина не жди, дай Бог, чтобы не очень лют был во гневе и не изувечил на всю жизнь. Ну, да Бог милостив! Вот и монах советует не отчаиваться.
В таких размышлениях Андрей добрался до мельницы. Было совсем темно, и мельник с внучками спали, когда он спустился в овраг и постучался в слюдяное окошечко, сквозь которое тускло пробивался огонек лампадки.
— А мы тебя уж и ждать перестали, — сказал старик, опуская оконце и высовывая из него седую голову. — Куда ты ночью потащишься? Переночуй у нас, а завтра поедешь.
Но Андрей и от этого предложения отказался. Заплатив за услугу несколько грошей, он прошел за хату, отвязал лошадь, запряг ее в тележку, вывел из оврага и, не мешкая, пустился в путь.
Ночь стояла теплая, тихая и душистая, но чем ближе подъезжал он к дому, тем мрачнее становились его предчувствия. Непременно маля-винская старая барыня все рассказала барину, и тот, несомненно, ждет его для расправы, с грозным требованием отчета. Очень может быть, что он уже давно послал за злейшими врагами Андрея — Мишкой Сопуновым и Акимкой Ледащим, чтобы допросить их о проделках управителя. А эти двое многое знают и только ждут случая напакостить ему. От этих мыслей холодный пот выступал на лбу Андрея, и нападала подлая трусость.
Вдруг при выезде из леса, за которым начинались Воробьевские земли, начал долетать издалека топот лошадиных копыт. Остановив лошадь, Андрей стал прислушиваться. Топот приближался, и вскоре начам вырисовываться темная движущаяся масса; наконец, можно было без особого труда различить в мягком лунном блеске всадников в темных плащах и слышать звон оружия, по временам примешивавшийся к конскому топоту.
«Что за люди? Куда и зачем едут с такими предосторожностями? — подумал Андрей. — Во всяком случае попадаться им на глаза опасно: их много, они вооружены, а я один».
Андрей поспешно слез с тележки и отвел ее с лошадью в чащу леса, а сам, вскарабкавшись на дерево у самой опушки, стал вглядываться в приближавшийся конный отряд и в окружавшую его местность, соображая, откуда могли ехать эти люди.
«Как будто из Малявина», — подумал он.
Тотчас вспомнился ему разговор с монахом, и все сделалось ясно: это Аратов со своими хлопами едет на помощь к пану Мальчевскому. Стаське, значит, удалось довезти вовремя письмо, наезд на мызу Сокальского состоится.
«Экие разбойники и безбожники! Сколько горя, слез и несчастий готовят мерзавцы! И не стыдно Аратову, настоящему природному русскому дворянину, в такие гнусные дела ввязываться! И впрямь, верно, порешил от родной веры отказаться и на службу к ляхам поступить, недаром, значит, такая гнилая молва про него идет в народе!»
Всадники между тем приближались, уже можно было различить их лица и слышать их голоса. В одном из них, по красивой, статной осанке да по коню с богатым седлом и уздечке, усыпанной драгоценными каменьями, Андрей узнал самого Аратова. Рядом с ним ехал Езебуш. Они о чем-то разговаривали, поглядывая по сторонам, прочие же люди, человек пятнадцать, следовали за ними поодаль, молча, и печально понурив головы.
«Раздумывают, верно, о кровавой бойне да о смертушке лютой, что ждет их из-за барской затеи, — мелькало в голове Андрея. — Эх ты, неволя злая, на что ты только разумную тварь, человека, погнать можешь!»
Переждавши, пока всадники скрылись, Андрей слез с дерева, отвязал лошадь и поехал дальше.
Неожиданная встреча усилила его тоску. Мысль о готовившемся беззаконии и сознание невозможности помешать ему возбуждали в его уме сопоставления самого безотрадного свойства. Вот так и он, пользуясь свободой действовать воровски, накоплял в своей душе грех за грехом, с тех пор как молодой барин поручил ему управление имением! Как эти злодеи накинутся завтра ночью на беззащитных и неподготовленных к обороне обитателей усадьбы Сокальского, так и он, пользуясь молодостью барина, его доверчивостью и сиротством, разорял его.
В мрачном унынии подъехал Андрей к дому, где на крыльце ожидала его возвращения жена, и прошел с ней в баню.
— Барин еще не вернулся, — начала было объяснять Маланья, но, заметив угрюмый вид мужа, смолкла на полуслове.
— Никто не был? — спросил он, сбрасывая с себя одежду и сапоги, чтобы лечь в приготовленную постель.
— Никто. Мы, как ты приказал, все уложили: серебро и образа — в сундук, ковры увязали, — ответила жена и опять оборвала речь на полуслове, испуганная страданием, выразившимся на его лице при первых ее словах.
Андрею вспомнились слова монаха: «Ворованному — я не укрыватель», — сказанные именно в ту минуту, когда он думал об этом серебре и образах, которые жена, по его приказанию, хоронила от всех глаз. На хорошее дело наставлял он ее, нечего сказать!
— Ладно, завтра обо всем переговорим, а теперь спать надо: измучился я, как собака, — отрывисто проговорил он, повертываясь к стене и закрывая глаза, но сон не шел, а слова монаха продолжали жестоким укором звенеть в его ушах.
Кажется, ничего нового не произошло в этот день, а между тем Андрей чувствовал себя совсем иным человеком, и вся кровь кидалась ему в голову от новых мыслей и никогда не испытанных чувств. Все то, чего там, в лесу, он совсем еще не понимал, что слушал одними ушами, а не сердцем, теперь все глубже проникало в его духовное существо, заставляя совершенно иначе смотреть на все и краснеть от стыда при напоминании о вещах, на которые он еще несколько часов тому назад возлагал много упований и обладать которыми считал за счастье. На вырученные от их продажи деньги он рассчитывал устроить судьбу детей и жены. Даже и тогда, когда, тронутый до слез словами монаха, он решил предаться на волю Божию и, устроив семью в надежном месте, терпеливо ожидать заслуженной кары, его не покидала мысль воспользоваться плодами содеянного преступления. Почему же теперь это кажется ему так чудовищно? И на чем же остановится такое превращение его душевного состояния? Что же это будет, если в таком духе пойдет дальше, когда уже и теперь то, что он раньше считал величайшим на земле благом, кажется ему мерзостью и злом? Видно, и в самом деле надо совсем переменить жизнь и сделаться совсем другим человеком. Но каким? Монах сказал: «Чтобы никого на свете не страшиться, кроме Господа Бога». Но как этого достигнуть? Этот вопрос так занял Андрея, что он всю ночь не смыкал глаз, ища на него ответ, и только на рассвете решил, что так как все от Бога, то от Бога надо ждать разрешения мучившего его недоумения. Захочет Господь — и просветит, все в Его святой воле.
Когда утром жена взглянула на Андрея при дневном свете, то ужаснулась перемене, происшедшей в нем: глаза ввалились, губы от внутреннего жара потрескались, и он весь осунулся, точно после долгой и мучительной болезни, а в глазах таилось новое выражение сосредоточенной задумчивости. Ей было теперь боязно не только заговаривать с ним, но даже и смотреть на него. Налив ему чашку горячего сбитня и положив перед ним нарезанный хлеб, она вышла к детям, а когда вернулась, его уже на кухне не было — он ушел по хозяйству, не дотронувшись до завтрака.
В то утро Андрей хлопотал ретивее обыкновенного. Его одновременно видели в стольких местах, что только диву давались, как это ему удавалось везде поспевать. Он успел до полудня побывать и в поле, и в лесу на рубке леса, подогнать плотников, строивших новый сарай, и на реку сбегать версты за три. Возвращаясь назад, он увидал мчавшуюся по дороге дорожную карету, и у него дух захватило от волнения и; страха.
«Вот оно! Дошло наконец!» — подумал он, направляясь к перекрестку, мимо которого должен был проехать экипаж.
С козел его увидал Федька и толкнул в бок Степана, указывая на управителя, остановившегося при дороге с обнаженной головой, выжидая удобного случая поклониться барину. Но Владимир Михайлович, хотя и глядел в окно, не заметил Андрея; его блуждающий взгляд рассеянно скользил по мелькавшим перед ним предметам, ни на чем не останавливаясь.
Когда карета, проехав мимо него, покатилась дальше, Андрей вздохнул свободнее и, не торопясь, последовал за нею к дому.
«Кучер с камердинером видели меня, и если, приехав домой, барин спросит обо мне, они скажут, что я выходил на дорогу приветствовать его. Не бежал, значит, от суда-расправы. Ну а там, что Господу угодно, то и будет!» — думал он.
Лошадей уже отпрягли, и кучер проваживал их за околицей, когда управитель степенной походкой вошел на задний двор и направился к стоявшей особняком кухне. Заглянув туда, он увидал жену, хлопотавшую у жарко топившейся печки, и умилился, глядя на нее: такая она показалась ему красивая в затрапезном сарафане, с засученными рукавами: грудь и руки белые и полные, губы алые, щеки от жара раскраснелись, а глаза, что звезды, ласково светились под озабоченно сдвинутыми темными бровями. Неожиданная струя нежности затопила Андрею сердце и вызвала на глаза слезы умиления.
«Добрая ты моя, умница, как собака, мне преданная! В какой омут бедствий тащу я тебя за собою с малыми детушками! — подумал он. — Эх, как счастливо можно было бы нам с тобою век прожить, кабы лукавый не попутал!»
Он с тяжелым вздохом облокотился на подоконник. В нем проснулись и отеческие чувства, захотелось видеть всех своих милых вокруг себя в эту роковую минуту — быть может, чтобы почерпнуть в их любви сил на предстоящую пытку.
Увидав мужа, Маланья подбежала к окну.
— Барин приехал. Не пивши, не евши со вчерашнего дня, — поспешила она сообщить. — Натощак из Малявина выехал. У меня пирожок был замешан с утра, посадила скорехонько в печку, сейчас подадим, — продолжала она, по-видимому, спокойно, но в глазах ее читался тревожный вопрос: что случилось?
— Это хорошо, что ты догадалась барину пирог испечь. А куда ты детей упрятала? — спросил Андрей, любовно глядя на нее.
— Опять, как вчера, к пчельнику услала. Чего им тут околачиваться? От их крика и у нас с тобою голова иногда трещит, а барину и подавно беспокойно. Не привык он к детям, еще своих ведь нет, — ответила она с улыбкой на прояснившемся лице. «Если про детей вспомнил, значит, ничего особенно страшного не произошло», — подумала она и поспешила объявить, что барин, как приехал, так умыться спросил, а теперь переодевается. — А у меня тем временем пирог-то отлежится, — прибавила она.
В кухне, опрятной, чисто выбеленной, она была не одна. Несколько баб мыли тут столы и лавки, щипали дичь, настрелянную в лесу, и потрошили рыбу.
— Порядок делаем, чтобы питерский повар нас свиньями не обозвал, — сказала Маланья мужу, обратившему на это внимание. — Сейчас придет сюда стряпать, надо ему все приготовить.
Говоря это, Маланья исподлобья взглядывала на мужа, мысленно спрашивая себя: «Чего он тут стоит, на наше бабье дело смотрит, точно хочет что-то сказать, да не смеет».
Никогда не видывала она мужа таким смирным да смущенным. Точно виноватый, словно прощение в чем-то хочет у нее просить.
В этот момент прибежал в кухню Федька с приказом скорее подавать кушать барину.
— За стол уже сел. О вас спрашивал, Андрей Иванович, — обратился он к управителю, заметив его перед окном. — Приказал вас послать к ним, когда с поля вернетесь. Давайте скорее пирог-то, Маланья Трофимовна, барин ждать не любит! — и, выхватив из рук Маланьи блюдо с пирогом, он побежал с ним в дом.
Андрей, постояв немного в нерешительности, отправился в амурный домик. Он застал барина за столом и, не будь так расстроен, перемена, происшедшая со вчерашнего дня в Грабинине, несомненно привела бы его в изумление, и вместе с тем он убедился бы, что не гнев, а совершенно другая причина озабочивает его господина, лишает аппетита и заставляет подолгу задумываться над тарелкой с нетронутым пирогом.
И Федька был не тот, что вчера. Тревожно следя за каждым движением барина в ожидании приказаний, он по временам взглядывал на Андрея, точно приглашая его подивиться тому, что делается с барином. Но Андрей ничего не замечал и только встрепенулся, когда Грабинин спросил, точно очнувшись от забытья:
— Вернулся Андрей?
— Давно тут дожидается, — ответил Федька, указывая на дверь, у которой неподвижно стоял Андрей.
— А! Ну хорошо, оставь нас! — отрывисто обратился барин к Федьке, а затем, когда тот вышел, он, помолчав немного, объявил Андрею, что ему надо переговорить с ним.
Но, должно быть, приступить к беседе было нелегко. Не глядя на управителя, который, перешагнув порог комнаты, остановился в ожидании приговора, барин подошел к окну, мимо которого то и дело мелькали белые рукава и пестрые сарафаны Маланьиных прислужниц, и решил, что надо найти более уединенное место для разговора. Приказав Андрею следовать за собою, он торопливо вышел из дома и по парку направился к старому дому.
Шел он большими шагами, не оглядываясь на своего спутника, нервно помахивая шляпой, которую снял с головы, и, завернув в липовую аллею с черневшими в конце развалинами барского дома, дошел до заросшего илом пруда, с обломками мраморной колонны посреди. Тут он остановился и, порывисто повернувшись к своему спутнику, устремил на него взгляд, полный отчаянной решимости.
— Можешь ты сказать мне, братец, как у вас здесь делаются… наезды? — спросил он с запинкой.
— Наезды-с? — нерешительно повторил Андрей, которому показалось, что он ослышался.
— Ну, да, наезды… из мщения, с целью грабежа или чтобы увезти женщину… Мне надо это знать, понимаешь? — продолжал
Грабинин, недоумевая перед растерянностью своего спутника, в котором нельзя было узнать бойкого и словоохотливого собеседника, рассказывавшего ему на этом самом месте третьего дня про роман его деда с полячкой.
Но замешательство Андрея было недолгим; вспомнив совет монаха раньше времени не отчаиваться, он бойко ответил на предложенный вопрос:
— По-разбойничьи, сударь. Наедут с вооруженными людьми невзначай на чужую усадьбу, рубят, жгут и в суматохе похищают то, за чем явились. Вот так и прошлой осенью пан Несмелковский выкрал себе невесту, дочь бочага Матары, а пан Грабчевский вывез из усадьбы мызника Джаншевского его жену. Слышал я также про наезд на Волыни пана Трипольского на свое собственное имение, которым воровски завладел его опекун. Великое множество людей погибло при этом наезде, и сам молодой Трипольский был убит. Много лет тянулось дело и кончилось тем, что опекун вышел из суда оправданным. Слыхал я также про наезд князя Сангушки на пана Кордыша из-за документов. Но ведь это в Польше делается, там люди ни совести, ни закона не знают, у них с деньгами все можно, богатый да знатный всегда прав оказывается. Обиженный плачься, кому хочешь на несправедливость, нигде заступы себе не найдет.
— Вот что, братец, — прервал его барин, — нам надо непременно учинить наезд на малявинскую усадьбу. Денег я не пожалею, лишь бы удалось. Хотя бы мне голову сложить на плахе, хотя бы всего состояния лишиться, а мне надо выкрасть Елену Васильевну, жену Аратова.
По мере того как эти слова срывались у Грабинина с губ, у его слушателя лицо прояснилось. Он начинал понимать, в чем дело.
— Для этого и наезд не надо делать, сударь! Извольте только приказать, и, если малявинская молодая барыня будет на то согласна, я вам все это оборудую, как нельзя лучше, — заявил он, молодецки тряхнув кудрями.
— Она согласна.
— Значит, нечего и сомневаться.
— Как же ты это сделаешь?
— Очень просто. Надо только выбрать ночку потемнее, да чтобы господина Аратова дома не было. Они, кстати, и теперь в отлучке — поскакали за Днепр помогать приятелю девицу из родительского дома выкрасть… тоже, значит, наездом… Я так полагаю, что нам надо за это дело приниматься, не медля, чтобы оно у нас без заминки выгорело. Сейчас съезжу в Малявино и все там разузнаю. Надо с одним там стариком посоветоваться, дочка его при молодой барыне в прислужницах.
— Не попадись, братец! — заметил Владимир Михайлович, немного испуганный быстротой соображения и решительностью своего сообщника. — Надо действовать наверняка, чтобы понапрасну всех нас в беду не вовлечь.
— Вестимо, что наверняка. Нрав Дмитрия Степановича Аратова нам достаточно хорошо известен; с ним шутки плохи; ему и зарубить до смерти человека ничего не стоит. Но вы мне только дозвольте все это обмозговать, я уж знаю, как сделать, чтобы всем нам, а особливо вашей милости, не попасть впросак. Мы в здешних местах выросли, всех господ и хамов знаем и все их обычаи нам известны.
Андрей говорил с такою смелостью, что его уверенность в успехе невольно сообщилась его слушателю. Не ждал Владимир Михайлович такого быстрого исполнения своих желаний, и его сердце переполнилось такою благодарностью к верному союзнику, что ему стоило большого труда не броситься к нему на шею и не расцеловать его.
— Спасибо, братец! — шепнул он, протягивая руку, которую нежданный благодетель схватил и страстно прижал к губам.
— Барин! Да я для вас… да все, что только хотите… В ад кромешный пойду… с самим Вельзевулом на кулачках готов драться! — бессвязно лепетал Андрей, устремляя на Грабинина взгляд, полный беззаветной преданности и благодарности.
— Спасибо, спасибо, братец, — повторил растроганный барин. — Если только дело выгорит, проси, чего хочешь, ничего не пожалею! Вольную, денег на обзаведение, все, что пожелаешь!
Мера счастья и благодарности переполнилась, и Андрей, как подкошенный, с громким рыданием повалился барину в ноги.
— Служить вам хочу до гробовой доски! Не надо мне вольной… Деток моих да Малаши моей не забудьте, если бы так случилось, что я раньше вас помру. А мне, многогрешному, ничего, кроме вашего прощения, не надо. Простите меня, недостойного!
Грабинин вспомнил вчерашний разговор со старухой и понял, в чем дело.
— Все забыл, все прощаю, помоги мне только спасти несчастную от злой доли, — проговорил он, поднимая Андрея.
— Сейчас поеду и завтра же привезу молодую барыню сюда, к нам в Воробьевку.
— Да где же мы поместим ее, чтобы ее никто не увидел?
— А старый-то дом на что? — ответил Андрей, с радостно сверкающими глазами указывая на развалины, перед которыми они стояли. — Да тут такие найдутся тайники, что целый год ищи — не найдешь. При старом еще барине понаделаны, когда он целился свою полячку от мужа скрыть. Да вы не извольте беспокоиться, сказал, что выкраду и спрячу супругу малявинского барина, так и будет, не извольте сомневаться.
— Здешних людей для этого возьмешь?
— Что вы, барин! Да нешто такие дела со своими людьми можно вершать? Как же после с ними жить-то? Да они над нами такую заберут силу, что не они нам, а мы им должны будем служить. Нет уж, сударь, здешние и знать про это ничего не должны. Да и ваших-то питерских следует остерегаться. Если даже что и прослышат они или сами догадаются, так надо их напугать, чтобы и про себя не осмеливались о том подумать. Вот как мы это дело поставим!
— Ну, поезжай себе с Богом!
Андрей поспешно удалился.
«Господи, Господи! — подумал он, шагая через рвы и кусты, чтобы скорее дойти до дома. — Да что ж это такое? Неужели не сон? Неужели и в самом деле мне вместо плетей да ссылки либо красной шапки — прощение и вольная? Да еще, говорит, денег на обзаведение сколько хочешь. Вот она, простота-то святая! Господи! Уж и послужу же я тебе, Владимир Михайлович! Жизни не пожалею для тебя. Закажу и детям, и внукам служить твоим детям и внукам верой и правдой!»
Как угорелый, вбежал Андрей в старую баню, схватил со стены нож и заткнул его за пояс, сунул за пазуху кожаный кошель с деньгами, свернул дорожный плащ и побежал в конюшню седлать коня. Никто ему не мешал и никто не видел его приготовлений к отъезду. Все так прекрасно устраивалось, точно ангел-хранитель покровительствовал.
Однако, прежде чем пуститься в путь, надо было проститься с женой и успокоить ее. Андрей направился к кухне, где она помогала повару готовить обед, и вызвал ее.
— Что тебе, Иваныч? — спросила она, поспешно выходя на крыльцо и вытирая о передник руки в тесте.
— Все слава Богу, голубка! Молись Богу. Пронес Многомилостивый беду. Пудовую свечку Николаю Чудотворцу поставим. Нищим муки раздадим и дров на зиму.
— Повинился ты барину? — нерешительно спросила она.
— Повинился, повинился! Нешто я бы так радовался, если бы не повинился? Все скребло бы на сердце, а теперь так легко, точно вновь не свет народился! Он нам все простил!
Маланья не выдержала радости и истерично зарыдала.
— Полно, полно, родная! Перестань! Услышат, Боже сохрани! — произнес Андрей взволнованным голосом, ласково трепля ее по плечу. — Мне тут по одному делу надо съездить. Ночевать меня не жди, но так устрой, чтобы никто не догадался, что меня дома нет.
— Скажу, что занедужилось, и спать лег. А если барин тебя спросит?
— Не спросит, не беспокойся.
— Ну, если ты барину не нужен, так кто же может тебе помешать спать хоть до завтрашнего утра?
— Вот-вот! Ты у меня разумница, настоящая помощница мужу и в горе, и в радости.
VIII
Как ни медленно тянулось время для Владимира Михайловича, однако этот томительный день стал подходить к концу.
С наступлением вечера уже нельзя было прохаживаться по заглохшим аллеям парка, предаваясь фантастическим представлениям о том, что произойдет в эту ночь в Малявине. Федька уже два раза являлся к барину с предложением пожаловать ужинать и с замечаниями относительно сырости, змей, будто бы выползавших из нор после солнечного заката, ям, в которые легко в темноте оступиться, и тому подобных пустяках. Запретить ему являться было невозможно, и Грабинин решил продолжать дома размышления, от которых не мог оторваться.
Чтобы скорее остаться одному, он беспрекословно сел за стол и даже заставил себя поужинать, затем прошел в спальню, разделся, лег и, приказав Федьке тоже ложиться, погасил свечу. Но сон не смыкал ему глаз, и вскоре он осторожно слез с постели, ощупью кое-как оделся и, принимая всевозможные предосторожности, чтобы не быть услышанным, вышел на крыльцо. Тут, присев на ступеньки, он стал ждать, вглядываясь в темноту, за которой воображение рисовало ему то очаровательные картины, от которых его сердце наполнялось восхищением, то леденящие кровь ужасы.
Ночь была сумрачная, накрапывал дождь, и луна только изредка выглядывала на несколько мгновений, как бы для того, чтобы еще живее воскрешать в памяти влюбленного блаженные минуты минувшей ночи, когда под мягким блеском ночной царицы он клялся в вечной преданности той, которую про себя уже называл возлюбленной.
Все, что произошло, было так внезапно и неожиданно, что казалось Грабинину сновидением. Неужели Андрей привезет ее сюда в эту ночь? Неужели Елена решится следовать за ним и довериться ему? Вчера она была на все согласна, но, может быть, с тех пор раздумала доверить свою судьбу незнакомцу, которого видела впервые в жизни, и не захочет кинуться, очертя голову, в бездну неизвестности? Ведь она его совершенно не знает. Правда, вчера она говорила, что на все готова, лишь бы избегнуть злой судьбы, которую ей готовил муж, но ведь это было сказано в минуты отчаяния, под свежим впечатлением угроз ее тирана.
Однако тут же вспомнились милые глаза Елены, полные беспредельного доверия к нему, ее трепет при одном воспоминании о том, что ее ждет у мужа, о его коварстве, ненависти и жестокости, и снова надежда начинала улыбаться Грабинину, и он упрекал себя в том, что позволил себе усомниться в ее искренности и непоколебимости ее намерений.
«Нет, нет, она не раздумает, она не обманет моих ожиданий, моей любви!» — повторял он себе в упоении, но в следующую затем минуту снова терзался сомнениями.
Светало. По расчету времени, решения его судьбы ждать было уже недолго: Андрей, наверное, не будет дожидаться дня, чтобы привести свое намерение в исполнение.
Грабинин подошел к плетню, огораживавшему усадьбу, и, облокотившись на него, начал смотреть на дорогу, по которой он сам вернулся из Малявина и по которой, по его убеждению, должен был вернуться и Андрей. Но время шло, рассветало, а дорога все оставалась пуста, и ничто не нарушало глубокой и таинственной тишины. Дождь давно прошел, и начинавшийся день обещал быть теплым и ясным. Что-то принесет ему этот день?
Долго простоял бы Грабинин у плетня в своих мечтаниях, не замечая наступления утра, если б скрип двери у сарая, где-то поблизости, и мычание коров не заставили его вспомнить предостережения Андрея. Выгоняя скотину в поле, пастух мог увидеть его у околицы, и это могло иметь пагубные последствия для их предприятия. Владимир Михайлович поспешил вернуться в дом, пока никого нельзя было встретить, и в изнеможении кинулся на кровать.
Его тревога с каждой минутой усиливалась. Наверное, случилось несчастье? Что задерживает до сих пор Андрея в Малявине? Если похищение не удалось, он должен был уже давно вернуться один, чтобы возобновить попытку в другое время. Аратов явится к нему за объяснениями. Он, разумеется, постарается, чтобы дело кончилось дуэлью. Это было бы лучше всего. Убить Аратова или самому быть убитым — самое простое разрешение вопроса. Все равно он без Елены жить не может. Умереть с убеждением, что она будет знать, что он за нее пожертвовал жизнью! Да после счастья жить для нее — это самое лучшее, что он может желать для себя! Но рассчитывать на такую развязку трудно; вернее всего так случится, что испуганный неудачной попыткой похитить у него жену, Аратов поспешит увезти ее в такое место, где будет очень трудно ее найти. Такое место, наверное, уже припасено у него на всякий случай. Тогда и смерть ее единственного защитника только усугубит ее бедствие.
По временам Грабинин порывался допросить Маланью. Ей, может быть, известны намерения мужа; он, может быть, сказал ей, что делать в случае его невозвращения к утру? Но тут вспомнилась убедительная просьба Андрея никого не посвящать в их тайну, и Владимир Михайлович отказывался от этого намерения.
Наконец истерзанные нервы не выдержали напряжения, и он зарыдал, как ребенок. От слез немного полегчало, а может быть, сердце утомилось страдать, и способность чувствовать притупилась от продолжительного напряжения. Напала апатия; казалось, что ждать не стоит, все равно не дождаться развязки. Глаза смыкались, Грабинин впадал в забытье, от которого пробуждался для того, чтобы нестерпимее прежнего мучиться.
Между тем наступил день, кругом начиналась шумная, каждодневная жизнь. Двери со скрипом растворялись, и по всем направлениям раздавались торопливые шаги.
— Тише, окаянные, барина разбудите!
Кто произнес эти слова у самой его двери? Голос Андрея!
Как ужаленный, сорвался Владимир Михайлович с постели, бросился к двери, приотворил ее и увидел Федьку, шепотом разговаривавшего с управителем у стола с приготовленным завтраком. Тут же стояла и Маланья с блюдом горячих кренделей в руках.
Грабинин протер себе глаза, но видение не исчезало; Андрей стоял все на том же месте, не подозревая, что барин смотрит на него, и что-то объяснял Федьке, понижая голос до шепота. Лицо у него было, как и всегда, спокойное, с насмешливой улыбкой, отражавшейся в умных глазах.
Грабинин снова улегся на кровать и громко позвал:
— Эй, кто там?
Дверь немедленно растворилась, и на пороге появилось ухмылявшееся лицо Федьки.
— Изволили проснуться? А мы-то как старались, чтобы вас не разбудить!
— Подай мне одеться! А кто это у вас там? — спросил барин, указывая на дверь в соседнюю комнату, из которой ворвался блестящий сноп солнечных лучей. — Я слышал голоса.
— Это Андрей Иванович рыбу принес. Спрашивал, когда ее сварить для вашей милости: сейчас или к обеду? Он с поля прошел на реку, а там ребята рыбы наловили, да такой крупной, что все дивятся, — продолжал распространяться Федька, не замечая, с каким волнением слушает его барин.
Наконец ждать дольше разъяснения мучивших его сомнений Владимиру Михайловичу стало не под силу; ему казалось, что сердце его разорвется на части, и он приказал:
— Пошли сюда Андрея!
Федька вышел. Прошло несколько минут томительного ожидания; наконец, явился Андрей. Грабинин был уж не в силах произнести ни слова и только напряженно смотрел на него, точно пытаясь угадать по выражению его лица, какие он ему принес вести.
— Все справлено, сударь, не извольте беспокоиться, — начал Андрей, притворив за собою дверь и выглянув из окна, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. — И, слава Богу, так вышло, что никто здесь не подозревает, что меня всю ночь не было дома. Да и там все так хорошо обставилось, как по заказу. Старика я застал одного в хате и не успел с ним разговориться, как и внучка его из господских хором прибежала, точно ей кто подсказал, что именно ее-то мне и нужно. Обо всем я у нее узнал, и, как стемнело совсем и все в доме улеглись спать, она меня к молодой барыне провела…
— Ты ее привез?
— Что обещал вашей милости, то и исполнил. Сказал, что живота своего для вашей милости не пожалею, так, значит, и есть! Завернули мы их в свитку Настина деда и шапку одного парнишки надвинули им на головку, посадил я их перед собой на седло, и так мы, слава Богу, благополучно доехали, что надо только дивиться. Ни единой души живой по дороге не встретили и еще до рассвета до места доехали.
— Какой же вы дорогой ехали, что я вас не видел? Всю ночь простоял я у плетня и на дорогу смотрел.
— Эх, барин, барин! Да нетто можно нам было по большой проездной дороге ехать? Низами я их провез, лесочками, что вдоль реки растут. Оно верст на шесть дальше будет, да зато вернее и безопаснее. У амбара мы слезли, лошадь я в амбаре привязал, да пешком до старого дома добрались. Как раз вовремя: туда на рассвете бабы с ребятишками за земляникой в парк ходят, и, опоздай мы хоть на один часочек, не уйти бы нам от любопытных глаз. И домой я счастливо вернулся; успел даже лошадь из амбара вывести и в конюшню поставить, раньше чем народ проснулся.
— Ты ее, значит, в старом доме одну оставил?
— Одну. Да там ничего, безопасно-с. Маланья сейчас оттуда, говорит, что барыня започивала. Часика через два, когда народ за обед сядет и подсматривать некому будет, жена им отнесет кушать, а вечерком я и вашу милость туда проведу.
— Вечером? Ты с ума сЪшел! Весь день ждать! — вскрикнул барин так громко, что Андрей бросился запирать окно.
К счастью, двор был пуст; только на самом конце работник копошился у поломанного плетня.
— Барин, да как же вы не понимаете, что всех погубите — и себя, и барыню Елену Васильевну, и нас всех, если терпением не запасетесь до поры до времени! — сказал Андрей, умоляюще протягивая к нему руки. — Поостерегитесь ради Создателя! Ведь у нас дело только что начато, много нам еще мытарств и страха предстоит, прежде чем мы его до благополучного конца доведем! Уж если вам так не терпится их скорее видеть… Послезавтра поедем в лесную пустошь, сами и решите, продавать ее или нет тем купцам, что на нее зарятся, — продолжал он, не возвышая голоса и так естественно, что, если бы Грабинин не увидал Федьки, входившего с его платьем, такой внезапный поворот разговора заставил бы его усомниться в здравом уме собеседника.
Ему стало совестно выказанной слабости, и, сдерживая усилием воли душевное возбуждение, он оделся, вышел в соседнюю комнату и сел завтракать. Шепнув что-то Федьке на ухо, Андрей вышел из горницы.
— Что он тебе сказал? — спросил барин, стараясь произносить слова как можно спокойнее и равнодушнее.
— Приказал вынуть седло, чтобы вашей милости ехать с ним осматривать пустошь.
Андрей сжалился над барином и ускорил час свидания.
Грабинин уже настолько успел проникнуться опасениями своего сообщника, что не мог не оценить этой уступки его малодушному нетерпению и мысленно давал себе слово не злоупотреблять этим. Было бы не только глупо, но и преступно погубить начатое дело спасения Елены неосторожностью и нетерпением. Как она слепо доверилась ему! И какую великую ответственность брал он на себя! Андрей прав: опасность далеко не миновала, и самое страшное еще впереди. Вздохнуть свободнее можно будет, только перебравшись благополучно за границу. Да и тогда они не будут в безопасности: Аратов очень ловок и хитер, и везде у него найдутся пособники, тогда как у них, кроме Андрея, никого нет. Даже и денег на путешествие в чужие края не хватит, надо достать в долг и опять-таки через посредство Андрея.
Как близок сделался Грабинину этот человек, о котором он несколько дней тому назад не имел ни малейшего понятия! Теперь вышло так, что, кроме него да похищенной чужой жены, у него никого не осталось на свете. Давно ли у него было множество друзей, родных, знакомых? Всех с сегодняшней бурей точно смело с лица земли. Свиданием с Еленой, торжественным обещанием спасти ее от мужа он отрезал себе все пути к отступлению и бесповоротно вступил на таинственное тернистое поприще, полное неожиданных опасностей и приключений. Ему, может быть, предстоит и родиной пожертвовать; ни одного безопасного места не осталось для них в России, и, если не удастся устроится в Польше, пользуясь царившими в этой стране беспорядками и неурядицей, придется скрываться в немецких землях или еще дальше.
Так или иначе, но он должен всем пожертвовать Елене, посвятить ей всю свою жизнь. Силою обстоятельств они очутились в совершенно исключительном положении и только в самих себе, в силе своей любви могут искать сил на борьбу с остальным миром. Ни помощи, ни пощады им ждать неоткуда. Все будет против них; одиночество их будет полное, и любовь должна будет им заменить все жизненные утехи. Как преступники, нарушившие закон, они обречены на вечное изгнание. Союз их (если б она согласилась когда-нибудь ответить на его любовь, в чем он далеко не был уверен), может быть, и возбудит в некоторых чувствительных сердцах жалость, но тем не менее в глазах большинства останется позорным и преступным. Чтобы сохранить покой, хотя бы призрачный, им придется лгать и обманывать, выдавать себя не тем, что они есть, найти себе убежище в какой-нибудь трущобе. Найдут ли они такое убежище и где — решить было так же трудно, как и то, удастся ли им обойти все преграды на пути к бегству. Сколько понадобиться хитрости, удачи и счастья, чтобы обмануть прозорливость Ара-това! Он, может быть, уже и теперь догадывается, что молодой сосед влюбился в его супругу. Грабинин, может быть, уже выдал себя смущением, невольно выразившимся на его лице при разговоре о Елене с французом, а также взглядами, полными жгучего любопытства, украдкой бросаемыми на окна строений, мимо которых водил его хозяин усадьбы, показывая ему свои владения. Но не искать взглядом за этими окнами несчастной «порченой» было сверх сил Владимира Михайловича. Да и вообще, чем больше вспоминал он подробности своего пребывания в Малявине, тем больше всплывало ему на ум подробностей, из которых обманутому мужу легко было вывести опасные предположения на его счет.
Но это только усиливало решимость Грабинина все претерпеть до конца, чтобы доказать Елене, что она не ошиблась, предавши свою судьбу в его руки. Препятствия разжигали его любовь и, так сказать, узаконили ее в его глазах. Кто решится сказать, что она ему не принадлежит, когда он для нее всем пожертвует и спасет ее от страшной участи мнимосумасшедшей, на которую обрек ее жестокий тиран, пользуясь ее беззащитностью и одиночеством?
IX
А тем временем вот что происходило в Малявине…
Серафима Даниловна узнала об исчезновении жены своего правнука рано утром, когда ее старая наперсница вошла на ее звонок в спальню.
— У нас, сударыня, беда случилась, — сообщила та, в волнении забыв пожелать барыне доброго утра.
— Какая беда?
— Молодая барыня пропала.
— Как это пропала? С коих пор?
— С самого раннего утра. Настя им принесла, как всегда, ключевой воды умываться, а их в спальне нет. Побежала она искать в сад, все места там обегала.
— У детей наверное. Узнала, что муженек уехал, и побежала к ним.
— Там их нет-с. И никто их не видел. Искали и в парке, и на кладбище, нигде нет. В пруде да в реке без вашего позволения искать не осмелились, чтобы по деревне огласка не пошла.
— И хорошо сделали. Если Елена сдуру в воду бросилась да камень себе на шею навязала, не скоро всплывет, — бесстрастно заметила старуха. — На чердаках смотрели?
— В доме везде смотрели, да и в саду-то на всех деревах, нигде не видать.
— А в горницах у нее все цело?
— Цело. Настя все перебрала. Как будто двух сорочек не хватает, но, может, в грязном белье найдутся. Ждали вашего пробуждения, чтобы спросить, не прикажите ли верхового к барину послать? Не разгневался бы, что тотчас не уведомили.
— А вы разве знаете, куда он поскакал?
— Здесь двое знают-с, — ответила Дарья, понижая голос. — Третьего дня, вечером, когда барин с французом да с воробьевским молодым барином сидели за ужином, прискакал посланец и шепнул Езебушу, что он привез нашему барину письмо от пана Мальчевского из Польши — просит помощи девицу у соседа с мызы выкрасть.
— Наезд, значит, собираются учинить?
— Точно так-с. Десять человек из охотников барин с собою прихватил. Не хотели мы беспокоить вашу милость, да и от барина был наказ не докладывать, куда они уехали!
— Пошли Ипатыча!
Дворецкий ждал зова и тотчас явился.
— Что у вас тут за новая пакость учинилась? Елена Васильевна, говорят, пропала? Как же это вы, ослы этакие, ее не устерегли? Иль вам своей головы не жаль? Ведь Дмитрий Степанович шутить не любит! Всех вас в тюрьмах сгноит из-за супруги, и тебя первого! Кому поручено за людишками присматривать? Кто за Настьку, как за родную дочь, ручался? Кто меня заверял, что она спит перед дверью в барынину спальню и что никому оттуда не выйти иначе, как через нее переступив? Как же она не слышала, когда барыня выходила из покоя? К любовнику, верно, негодница бегала? Ты мне, старик, за все ответишь!
— Знаю, сударыня, но такой грех случился, что если бы и не Настька, а сам я спал у дверей барыниной спальни, все равно беды не отвратить бы. Молодая барыня не иначе как из окна в палисадник выпрыгнула, а в дверь им невозможно было выйти, не разбудивши Насти. Девка честная и с разумом; нешто смела бы она завести любовника на службе у молодой барыни.
— Из чего же ты выводишь, что барыня в окно вылезла? Трава, что ли, под окном помята?
— Точно так-с, — опуская глаза, ответил старик.
— Виляешь! — грозно возвысила голос барыня. — Забыл, верно, что лгать мне нельзя! Все ваши шашни я знаю, даром что молчу! Известно мне и про твои проделки, как ты из сундука в кладовой беличьих шкурок себе на зимний камзол натаскал. Думаешь, верно, сшить, когда меня в склеп отнесут? — продолжала она, точно забавляясь испугом старика, который, побледнел и дрожа всем телом, упал на колени с поникшей головой. — Ладно, встань и говори все, что знаешь! — прибавила она, довольная действием своих слов. — Ну, выкладывай, что у тебя на уме насчет нашей беглянки? Увидим потом, казнить тебя или миловать.
— Все так думают, что молодая барыня, испугавшись угроз супруга сумасшедшей ее сделать и с доктором в чужие края отправить, задумала бежать и где-нибудь по соседству скрывается. К ней тут монашка из Почаева приходила.
— Знаю я про ту монашку. Это еще прошлой осенью было. Разве ее здесь опять видели? Почему мне не доложили? Я запретила ее пускать к молодой барыне.
— Никто ее здесь не видел, но она могла раньше с молодой барыней сговориться и, может, в лесу ее поджидала или в овраге.
— Все-то ты, старик, юлишь да путаешь! — с злой усмешкой прервала его барыня. — Все-то ты чужие слова повторяешь, а мне надо знать, что у тебя у самого на уме.
Ипатыч с отчаянной решимостью вымолвил:
— А если хочешь знать, сударыня, так я тебе вот что скажу: тут без кавалера дело не обошлось, вот что. Это все — молодого воробьевского барина штуки.
Серафима Даниловна ничего не возражала. На ее пергаментном лице не выразилось ни изумления, ни испуга, ни негодования, она только сосредоточенно сдвинула брови, как бы для того, чтобы лучше сообразить положение и, помолчав немного, спросила: послал ли Ипатыч в Воробьевку узнать, что там делается?
— Посылал-с расторопного парня, Агашкина внука. Из Воробьевки мужик на нашу мельницу за мукой приехал, наш Ефимка и вызвался с ним доехать, чтобы пустые мешки назад привезти.
— И что же, известно там про то, что у нас случилось?
— Тогда ничего еще не знали. Барин их еще почивал, а управитель уже давно поднялся, с женой горячий сбитень пил да при Ефимке в поле ушел. Наш парень его потом на пашне видел.
— И ночь дома провел?
— Дома-с. Все его видели, и вчера вечером, и сегодня утром. Ночь спал с женой в старой бане. Они, как барин приехал, туда перебрались. И сам барин никуда не отлучался.
— Из чего же ты выводишь, что воробьевский барин нашу Елену Васильевну выкрал? Совсем на то не похоже. Он ее не видел и не говорил с нею, с какой стати пустился он на такую опасную проказу — чужую жену похищать? Да еще у такого мужа, как наш Дмитрий Степанович.
На это Ипатыч ничего не возразил, но по его стиснутым губам да по глубокой морщине между седыми бровями нетрудно было понять, что он не отказывается от своего убеждения и что у него есть на то причины, которые нелегко будет заставить его высказать.
Впрочем, Серафима Даниловна настолько знала своего старого слугу, чтобы понимать, что если он молчит, то это еще не значит, что он не будет действовать, и, переждав немного, спросила: не послать ли уведомить Дмитрия Степановича о случившемся?
— Уж послано-с… на мызу Розальской. Там они теперь должны быть.
— Затеял, говорят, с каким-то головорезом наезд, чью-то девку выкрадывать?
— Это у них на воскресенье намечено, а перед тем к Розальской хотели заехать. Я туда внука послал. Приказал торопиться, на переменной лошади скакать. Если у Розальской не застанет, в Тульчин поедет, к воеводе.
— Настю допрашивал?
— Без ума от страха девка. Ревет, головой о стену бьется. Приказал ее стеречь, чтобы рук на себя не наложила.
— Ну, ступай себе! Будет что новенькое, приди доложить. Да мальчишку на вышку поставь, чтобы прибежал сказать, если кого издали увидит.
Но ни в тот день, ни в последующие не произошло ничего такого, о чем стоило бы старой барыне докладывать. Она непрестанно посылала то за Ипатычем, то за Дарьей, чтобы узнать про Настю: не надумала ли та что-нибудь открыть, но ей каждый раз отвечали, что Настя продолжает упорно повторять, что ничего не знает и не может понять, каким образом могла Елена Васильевна совершить свой побег.
«Дай срок, приедет барин, он ей язык-то развяжет», — ворчала старуха, проявляя все большее раздражение.
Из Воробьевки доходили прежние вести: барин с управителем имение объезжает, толкуют с мужиками о их нуждишках, купцов поджидают из Киева, чтобы с ними о продаже лесного участка перетолковать.
— И не слыхать, чтобы Владимир Михайлович на мерзавца Андрюшку гневался? Не ругал его? Не слышно там ни крика, ни бабьего рева?
— Ничего такого не слышно.
— Ну, ступай! Да не забудь сказать мальчишке: как увидит с вышки издали барина, пусть бежит доложить. Мне надо Дмитрия Степановича раньше всех повидать. Слышишь?
— Слушаю-с, — неизменно отвечал Ипатыч и уходил.
Как и барыня его, со дня на день он становился все мрачнее и молчаливее, а глядя на него, и весь дом замирал в трепетном ожидании страшной грозы.
X
В Тульчине, имении киевского воеводы Салезия Потоцкого, третий день шел пир горой по случаю съезда дворян с супругами, чадами к домочадцами, ввиду готовящегося сеймика для выбора послов на велим сейм в Варшаву, который, по всеобщему мнению (ввиду многих обстоятельств как внешних, так и внутренних), должен был иметь важные последствия для Речи Посполитой.
Дамы и девицы помоложе приехали повеселиться, потанцевать под звуки прекрасного оркестра, похвастать нарядами, привезенными из Варшавы и из Парижа, встретиться с воздыхателями и погулять с ними по аллеям старого парка, где было множество укромным уголков, располагающих к любовным признаниям. Более солидные пани спешили сюда, чтобы поделиться интересными новостями и местными сплетнями, которыми кишела окружающая среда мелкой шляхты, вращавшаяся вокруг магнатов, как планеты вокруг своих солнц, извлекая из них и свет, и теплоту.
И всюду как среди пышных дамских роб всевозможных цветов, расшитых золотом и серебром с драгоценными камнями, так и между парижскими кафтанами и национальными кунтушами из бархата и парчи, выступали черными пятнами сутаны представителей всемогущего духовенства, которое принимало деятельнейшее участие как в частной, так и в общественной жизни страны и никогда, ни при каких обстоятельствах, не покидало своей паствы, зорко наблюдая за нею, чтобы направлять ее мысли и действия к известной цели.
В этот день в числе гостей воеводы можно было встретить и двух епископов, покинувших свои комфортабельные дворцы, чтобы попировать у ясновельможного пана Салезия. Вот как всех интересовали приготовления к сеймику.
Епископы, разумеется, всюду занимали подобающие их высокому сану почетнейшие места: за столом — по обеим сторонам хозяйки, ясновельможной пани Анны, а в гостиной — на диване. Помещение им и их свите было отведено в парадных покоях замка, в так называемых королевских апартаментах, где проживали в бытность свою в Тульчине коронованные особы, удостаивавшие магнатов Щенсных-Потоцких своим посещением не один раз. f
Общество, собравшееся у воеводы, отличалось большим разнообразием и пестротою как по общественному положению и состоянию, так и по политическим взглядам и убеждениям.
В то время все в Польше занимались политикой. Ничтожнейший полуграмотный шляхтич, не умевший подписать свое имя, обладатель одной какой-нибудь крестьянской семьи, являвшийся в посольскую избу в изъеденном молью прадедовском кунтуше, мог сорвать сейм, то есть сделать его решения недействительными одним словом, часто пьяным и почти всегда подкупленным голосом, Понятно после этого, что магнатам, вершившим судьбы отечества, необходимо было задабривать в свою пользу клиентов перед сеймом, а отобедать или отужинать за одним столом, хотя бы в самом его конце, с ясновельможным паном воеводой считалось за большую честь.
Но так как тут собрались представители партий, готовые живьем пожрать друг друга, то можно себе представить, как быстро переходили в ссоры самым мирным образом начатые разговоры и как зорко надо было следить за тем, чтобы диспуты не перешли в драку, особенно после сытного обеда с многочисленными тостами и щедрыми возлияниями крепких напитков.
Для этого у хозяина были деятельные помощники в лице молодых дворских резидентов, проживавших здесь, не на респекте, как более почтенные личности из «загоновой» шляхты; они считали за счастье из-за вкусного стола и более или менее приличного помещения забавлять магната разговорами, составлять ему партию в карты или на бильярде, терпеливо выслушивать его рассуждения о политике и о грядущих судьбах отечества, которое каждый из них не стеснялся ощипывать и продавать врагам, насколько хватало ловкости и умения. Юнцы на дворской службе у магнатов несли весьма трудную, а подчас и неприятную службу, если взять в соображение необходимость подделываться ко вкусам и капризам бесчисленного их начальства: дворских маршалов, посессоров, диспозиторов, кастелянов, гувернеров, постоянно гостивших в замке монахов из соседних монастырей и тому подобного люда, не говоря уже о членах семьи магната, его детях, родственниках его и супруги с многочисленным штатом кастелянш, комнатных резиденток на респекте, воспитанниц, экономок, старших горничных, гувернанток, знатных иностранок и проч., и проч. Всем надо было угодить, ко всем ловко и почтительно подделаться, всякому и всякой сделаться нужным и приятным, не поступаясь при этом собственным гонором и соблюдая строжайший этикет в отношениях не только с высшими, но и с равными, и с низшими, с товарищами по службе, сообразно общественному положению каждого из них, состоянию их родителей и степени расположения и доверия к ним патрона.
Чтобы успешно подвигаться на службе в качестве комнатных дворских юношей, нельзя было быть ни дураком, ни зевакой, ни уродом, ни увальнем. Да и с умом, и красотой, без гибкости характера и без смекалки дворскому юноше трудно было сделать карьеру: для этого надо было обладать остротой соображения, искусством скрывать свои мысли и чувства, умением все сказать и сделать кстати, вовремя и с тактом.
На комнатных дворянах лежала, между прочим, обязанность заботиться о том, чтобы приезжавшие в замок гости приятно проводили время и угощались на славу, чтобы стаканы перед ними не стояли порожними, чтобы трубки их были всегда набиты, а мысли направлены на приятное и веселое.
Дворские юноши происходили из дворянских семейств (так называемой шляхты), первоначальное воспитание получали под розгами отцов иезуитов, бенедиктинцев, доминиканцев и прочих монашеских орденов, монастырями которых была усеяна Польша XVIII века. От патеров их помещали для «полуры» к магнатам, где они выучивались всему, что считалось в то время необходимым для светского человека, а именно: танцам, фехтованию, верховой езде, искусству играть во все игры, нравиться женщинам, одеваться со вкусом и держать себя с гонором. При таких талантах да с покровительством магната можно было без гроша всего достигнуть, и понятно, что все наперебой стремились приобрести эти таланты.
На больших пиршествах, как в описываемый нами день, у киевского воеводы, когда после обеда гости с отуманенными головами и заплетавшимися языками рассаживались на террасах, окружающих замок, чтобы подышать свежим воздухом, продолжая начатые за столом разговоры, дворские юноши в живописных средневековых костюмах незаметно шныряли между группами, зорко присматриваясь, не нужно ли чего кому, и прислушиваясь к разговорам; когда же беседы начинали переходить в ссоры, они производили диверсию любезным предложением прохладиться стаканом венгерского или шампанского, которое тут же, кстати, и появлялось на подносе в руках дюжего усатого паюка.
Но иногда это не помогало; налитые кровью глаза спорящих не хотели обращаться к бутылкам, дрожащие от волнения руки хватались за карабели и с языка срывались неудобозабываемые слова. Тогда дворский юноша подмигивал товарищу или сам бежал за дворским маршалом, и этот, всегда важный пан из родовых дворян, немедленно являлся на зов и, принимая на себя роль миротворца, либо обращал в шутку предмет спора, либо, предварительно напомнив деликатно о неприличии предаваться шумным излияниям во дворце такого магната, как ясновельможный Салезий Потоцкий, ловкой лестью направлял умы на более мирное течение мыслей.
А дворский юноша, довольный благополучной развязкой неприятного конфликта, легкой, грациозной походкой направлялся дальше, к дамам, оживленно беседовавшим между собою и жеманно опахивавшим набеленные и нарумяненные лица веерами. Выбрав удобную минуту, дворский юноша одной красавице шепнет комплимент, за который получит в награду улыбку подкрашенных губ, другой поднесет цветок, третьей напомнит обещанную на вечер мазурку, а четвертой ловко вложит в ручку крошечную надушенную записку с мадригалом, которую плутовка, поправляя на груди розу, как бы нечаянно уронит в отверстие корсажа, между лентами и кружевами, трепещущими на белой груди.
Хорошо были выдрессированы комнатные дворяне на службе киевского воеводы, и сердце его радовалось, когда, проходя по залам, он видел, как ловко действовали его воспитанники. Какие со временем должны были из них выйти отличные слуги отечества в звании судей, адвокатов, меценатов при палестре, и как шумно будут отстаивать мнения своего патрона в посольской избе те из них, которым удастся хорошо пристроиться к земле либо пленив какую-нибудь перезрелую деву с богатым приданым, либо легкомысленную девушку с солидным состоянием, благодаря чему счастливчик весь свой век проживет припеваючи в деревне, забавляясь псовой охотой, разъездами по соседям и шумными демонстрациями на сеймиках и на сеймах в качестве влиятельного избирателя или посла.
В искусстве занимать гостей, развлекать ясновельможную пани и на всех производить приятное впечатление ради хорошей партии и вообще выгодного пристройства комнатные резидентки не уступали резидентам. Хорошенькие, нарядные и грациозные, порхали они между гостями, вызывая улыбку удовольствия на самых угрюмых лицах. Все они были прекрасно воспитаны гувернантками и учителями, которых магнаты выписывали из Варшавы и из Парижа, чтобы обучать резиденток танцам, иностранным языкам, музыке и светскому обращению. Пение, игра на арфе и на клавесине не смолкали в высоких покоях замка. А как искусно умели эти феи занимать гостей! Когда которая-нибудь из них подносила заскорузлому усатому помещику (по целым месяцам не покидавшему своего фольварка, где зимой он не снимал с себя овчинного жупана, а летом весь день проводил с хлопами в поле) хрустальную вазу с фруктами и с низким реверансом, лукаво прищуривая темные глазки, произносила нежным голосом: «Проше пана!» — самое жестокое сердце смягчалось, и невольная улыбка выдавливалась под щетинистыми усами. Часто кончалось тем, что, разговорившись с очаровательницей, пан со смущенной улыбкой следовал за маленькой волшебницей в сад, в оранжерею или в огород, полюбоваться каким-нибудь редким растением. Но цветы, фрукты и овощи служили увальню только предлогом подольше наслаждаться близостью прелестного существа, улыбавшегося ему так ласково, точно и в самом деле оно находит величайшее удовольствие в его обществе. И вот уязвленный в сердце зверь по возвращении в свою берлогу находил свою обычную обстановку неудобной и безобразной, крепостных своих — грубыми и неаппетитными, обед — невкусным, кофе — скверно сваренным, начинал мечтать о женитьбе, и будущая жена являлась в его воображении в виде прелестной комнатной резидентки, смутившей его покой веселым щебетанием, наивным кокетничанием и вниманием, с которым она выслушивала его рассказы о выкормке свиней и телят и тому подобных предметах, которые обыкновенно принято считать неинтересными для молоденьких девушек. Кто знает, из этой куколки, может быть, выйдет толковая хозяйка и заботливая жена? Не жениться ли, пока время не ушло? Эта мысль постоянно вертелась в голове и до тех пор раздражала пана, пока он не поддавался искушению и, приказав запрячь самых резвых из своих коней в самую новую бричку с праздничной сбруей, отправлялся просить у ясновельможной пани руку ее воспитанницы. Дело кончилось свадьбой, и таким образом цель воспитания блестящим образом достигалась.
Не всем, разумеется, выпадала такая удача, но в тот день у киевского воеводы было так весело и оживленно, что, казалось, о неудачах никто здесь и не думал. Веселый смех и любовное воркованье раздавались во всех аллеях парка, на берегах проточного пруда, по которому весело было кататься в красивых лодочках, управляемых ловкими дворскими юношами, на зеленых лужайках, манящих к отдыху и любовным признаниям, в оранжереях с лимонными и апельсинными деревьями, вечнс покрытыми цветами и плодами; всюду можно было встретить счастливые, оживленные парочки, всласть наслаждавшиеся жизнью. Тульчинсш оранжереи славились по всей окрестности; из них всегда можно былс достать цветов на подвенечный наряд невесте, хозяева не отказывали в этом даже незнакомым людям.
Впрочем, у киевского воеводы не было незнакомых людей даже во всей Речи Посполитой: всюду был он известен как любезнейший и добродушнейший из польских магнатов.
Супруга его, пани Анна, слыла надменной, строгой и даже жестокой, но так как свою надменность она проявляла только перед равными себе (выше себя она никого не признавала на родине), то этим свойством ее многочисленные клиентки скорее гордились, чем оскорблялись, находя его вполне законным и справедливым. Разве фамилия Потоцких не принадлежала к древнейшим, богатейшим и знатнейшим в Речи Посполитой? Она была много древнее и знатнее каких-нибудь Понятовских, игравших роль благодаря интригам и чужеземному влиянию.
Что же касается до строгости Анны Потоцкой к дворской молодежи обоего пола (в замке за малейшую провинность секли на ковре не только комнатных дворян, но и дворянок), то осуждать ее за это могли только ветрогоны, нахватавшиеся вольнодумства у французов, а отнюдь не здравомыслящие люди, понимавшие, что, если не держать молодежь в строгости, то из нее ничего путного не выйдет. Зато ясновельможная, не щадя ни денег, ни хлопот, заботилась о судьбе тех из доверенных ей юношей и юниц, которым удавалось благополучно окончить воспитание под ее попечением, и не лишала даже их детей своего могущественного покровительства.
Осуждали ее также за суровое обращение с родными детьми: своего единственного сына и наследника огромного состояния Щенсных-Потоцких, Станислава, она продолжала держать, как ребенка, невзирая на то, что ему уже минуло пятнадцать лет и что его сверстники уже кутили и ухаживали за женщинами. Рассказывали, что как он, так и сестры его, боятся матери, как огня, бледнеют, предчувствуя беду, когда она присылает за ними. Но мало ли что говорят про таких личностей, как пани Анна, которая по своему положению у всех на виду и возбуждает всеобщую зависть! Эти россказни никому не мешали с нетерпением ждать приглашения в замок воеводы и проводить в нем время наиприятнейшим образом.
Здесь еще потому было приятно, что хозяева никого не стесняли. Представив дворской молодежи занимать гостей, сам воевода, приземистый среднего роста человек, с добрыми темными глазами и приятной улыбкой, сидел со своими близкими приятелями на своей половине, а его супруга — со своими приятельницами в противоположном конце замка, рядом с зимним садом, особенно красивым вечером, когда он освещался разноцветными фонариками. Здесь, в полукруглом будуаре, обитом французским голубым штофом, расположились на мягких софах и кушетках в элегантных дезабилье те дамы, которых хозяйка удостаивала своей дружбою.
Таких было немного. Чтобы удостоиться этой чести, надо было не только обладать громким именем и крупным состоянием, но и состоять при каком-нибудь дворе и числиться кавалерственной дамой царствующей императрицы или по крайней мере королевы.
Те три дамы, что полулежали в глубине будуара, лакомясь фруктами и вдыхая в себя нежный аромат срезанных цветов в хрустальных и фарфоровых вазах, вполне отвечали этим условиям: одна была женой графа Поцея, влиятельного вождя оппозиционной королю партии, другая — супруга стражника Оссолинского, близкая родственница знаменитого Карла Радзивилла, в то время проживавшего, как бы в ссылке, в Дрездене, и, наконец, пани Мнишек, как и обе первые, старинного рода, игравшая деятельную роль в интригах, раздиравших ее отечество, и бывшая в молодости близкой приятельницей пани Анны.
Вертелся также здесь один из черных людей, без которых ни один польский дом не мог обойтись, но этот был такой миниатюрный, хорошенький и забавный, что относиться серьезно к его духовному сану было трудно, а стесняться его присутствием никому и в голову не приходило.
Когда несколько лет тому назад его привезли сюда из Италии, к дяде его, тульчинскому капеллану, в черненькой поношенной семинарской сутане, кто-то в шутку прозвал его аббатиком, и эта кличка осталась за ним. Его поместили к иезуитам, где он блестяще окончил курс наук и удостоился тонзуры, которую в виде беленького круглого пятнышка можно было с трудом усмотреть на маковке промеж его густых кудрей; он носил теперь прекрасно сшитые и ловко охватывающие стан сутаны из тончайшего черного атласистого сукна, белоснежные rabat [4] и широкие шелковые пояса, но его продолжали называть аббатиком; так мало изменился он с тех пор как ему была дана эта кличка. Он только немножко подрос, но лицо его оставалось таким же детским, розовым и нежным, как и раньше, так же прижимался он ласковым котенком к женским юбкам, так же умильно всем смотрел в глаза, в ожидании ласки нежных надушенных ручек, от прикосновения которых он блаженно щурился, как кот на солнце.
Все в замке любили его, — и молодые, и старые, всем он был нужен, и все по мере сил и возможности баловали его и заботились о его благополучии, начиная от пани кастелянши, не забывавшей припрятать ему лакомый кусочек, и кончая влиятельными приятельницами пани Анны, деятельно хлопотавшими о доставлении ему хорошего места при какой-нибудь частной капелле, с которого ему легко было бы подняться по иерархическим ступеням до епископства и — кто знает? — может быть, выше.
А пока им забавлялись, как интересной игрушкой, не подозревая в нем ни лукавства, ни хитрости, а еще менее критических способностей и проницательности. Его ясновельможные покровительницы расхохотались бы, если бы им сказали, что аббатик себе на уме, знает жизнь не хуже их, если не лучше, всех их презирает, втихомолку подсмеивается над их слабостями и вполне сочувствует своему соотечественнику, папскому нунцию, который в своем докладе его святейшеству называл польскую нацию «la traviata ed imbécile nazione» [5].
Аббатик никого не любил и не уважал в приютившей и облагодетельствовавшей его семье, чувствовал себя здесь чужим, как и в первый день своего приезда, не мог простить родителям, что они прислали его учиться сюда, а не в Болонью или в Лион, и об одном только мечтал: пристроиться куда-нибудь подальше от клонившейся к упадку страны с разлагающимся обществом, для которого возрождение невозможно.
Ну а пока почему не пользоваться тем приятным, что и здесь есть: ласками женщин, между которыми были и молодые, и красивые, деликатным изысканным столом и тому подобными утехами, которыми во всяком случае пренебрегать не следует. Для этого надо было только как можно дольше притворяться невинным и наивным ребенком, без ума влюбленным в каждую из богатых знатных пани, помешанных на танцах, нарядах, любовных и политических интригах, а в этом аббат Джорджио, по прозванию «аббатик», не находил ничего ни мудреного, ни неприятного.
Приятельницы пани Анны находились в своем обществе и без стеснения разговаривали между собою о придворных интригах, о новой любовнице короля, о шансах того или другого претендента на престол, при деятельно готовящейся конфедерации и государственном перевороте, в организации которых принимали участие важнейшие фамилии Речи Посполитой — Чарторыских, Ржевусских, Браницких, и всеобщий любимец нации Карл Радзивилл, а также, разумеется, и духовенство в лице референдариев, епископов и всей черной армии орденов, действующей по указаниям, получаемым непосредственно из Рима.
Сама пани Анна, всегда сдержанная, в тот день была молчаливее обыкновенного и не принимала участия в разговоре своих приятельниц. Она сидела от них поодаль, у двери, растворенной на балкон, и разматывала со своей любимицей Юльянией Розальской моток красного шелк для пелены, которую она вышивала в свою часовню, и лишь по временам загадочно улыбалась россказням своих гостей.
Что касается Розальской, то стоило только взглянуть на нее, чтобы догадаться, как далеко витают ее мысли от того места, где находилось ее тело. Миловидное личико с большими голубыми глазами, казавшимися темнее от черных густых ресниц, побледнело от душевного волнения и напряженного усилия скрыть душевную муку под наружным спокойствием, и только изредка легкое дрожание в руках с натянутым на них мотком выдавало ее внутреннее смятение.
— Хотят соединить в одну все конфедерации [6] Речи Посполитой и Литвы, — объявила графиня Поцей, взяв из близстоявшей вазы апельсин и подавая его аббатику, поспешившему оставить альбом, который он рассматривал у столика, чтобы взять фрукт и приняться деликатно снимать с него золотистую оболочку.
— На это никогда не согласятся епископы! — воскликнула Мнишек.
— Да они уже соглашаются, ждут только инструкций из Рима. Епископ Солтык в наилучших отношениях с князем Репниным, — заметила графиня Поцей.
— Не может быть! — воскликнула ее приятельница. — Чтобы Солтык сошелся с Репниным, злейшим врагом нашей церкви.
— Епископ Солтык два раза был у русского посла, — позволил себе вмешаться в спор ясновельможных аббат Джорджио.
— Откуда у тебя такие вести, аббатик? — с ласковой усмешкой спросила Мнишек.
— Я видел письмо его святейшества епископа Солтыка, который извещал нашего референдария о своем примирении с послом русской императрицы, — все так же скромно ответил аббатик, поднеся на золоченом блюдце апельсин пани Оссолинской и опускаясь на скамеечку у ее ног.
— Он, может быть, также пишет и о том, кем рассчитывают заменить Понятовского? — спросила Мнишек.
— Нет, про это нет ни слова в письме его святейшества. А о том, что маршалом хорошо было бы выбрать «пана Коханку», упоминается.
Беседующие не без удивления переглянулись, а затем все три, точно сговорившись, взглянули на пани Анну. Но она по-прежнему безучастно относилась к их болтовне и продолжала, озабоченно сдвинув брови, разматывать свой шелк.
— Радзивиллу приехать на родину в настоящее время немыслимо, но, если бы он даже и приехал, «фамилия» не допустит его избрания в маршалы: у нее свои планы, — объявила Мнишек.
— О, кто же не знает, что Изабелле хотелось бы сделаться королевой! — воскликнула Оссолинская.
— После того как она была близка к Понятовскому и теперь амурится с русским послом? Никогда мы этого не допустим! — подхватила с раздувавшимися от гнева ноздрями Мнишек. — Никогда! Какая-нибудь Флеминг! Тогда уж лучше предложим корону саксонцу: он по крайней мере все-таки хоть по отцу королевской крови.
— И у него в родстве нет жидовствующих, как у пана Мартина Любомирского, — вполголоса подсказал аббатик, который, взяв веер пани Оссолинской, внимательно рассматривал его, любуясь рисунком знаменитого художника Ватто.
— Большинство стоит за избрание короля из наших. Ближе всех к престолу ваш дядя, — обратилась Мнишек к Оссолинской, — но против него будет русская императрица.
— Зато его поддержат Австрия и Пруссия.
— Я слышал от епископа, что Речи Посполитой в настоящее время опасно раздражать Россию, — опять позволил себе вмешаться в разговор аббатик. — Впрочем, он, может быть, и ошибается, — поспешил он прибавить и, взглянув на пани Анну, невозмутимо продолжавшую свое занятие, смолк и углубился в рассматривание веера.
— Разумеется, епископ ошибается, — подхватила его замечание Мнишек. — Какое нам дело до иностранных держав? Будет с нас этой опеки, надо сделать Польшу самостоятельной и настолько сильной, чтобы она ни в ком не нуждалась. И мы этого достигнем!
— Но, разумеется, не с таким королем, как Понятовский.
— Для того и конфедерацию собирают, чтобы его выгнать.
— И вот почему желательно было бы иметь маршалом Радзивилла.
— А кого же желали бы вы иметь королем, мои пани? — скромно осведомился аббатик.
— Только не Чарторыского! — вскричала Поцей.
— И не Радзивилла! — подхватила Мнишек.
— «Фамилия» не допустит ни Ржевусского, ни Браницкого, ни Малаховского. Кого же выбрать? — спросила Оссолинская.
— Ржевусский говорил моему мужу, что он предложит уничтожение liberum veto [7], - объявила Мнишек, не отвечая на вопрос Оссолинской.
— Невзирая на одобрение Жан-Жака Руссо и Вольтера? Быть этого не может! — воскликнул с таким наивным изумлением аббатик, что все засмеялись.
Улыбнулась и пани Анна, а пани Оссолинская протянула свою выхоленную беленькую ручку, чтобы подрать за вихор дерзкого юношу, примостившегося у ее ног, да так и забыла ее в его мягких кудрях, продолжая разговор о претендентах на престол.
— Однако и король, наверное, не дремлет, пока мы тут собираемся изгнать его, — заметила Мнишек, взглядывая на жену воеводы, — и есть люди, которым планы его известны, но, к сожалению, эти люди мнят себя настолько выше других, что не считают нужным облегчить им их задачу — способствовать возрождению отчизны…
— Это вы на наш счет? — спокойно ответила пани Анна на брошенный ей вызов.
— А хотя бы и так? Как добрая полька, вы должны были бы примкнуть к нашей партии, мы желаем нашей родине величия и счастья.
— А кто вам сказал, что мы не желаем ей того же?
— С помощью России? — иронически подхватила Мнишек.
— С помощью тех, кто действительно нам может быть полезен. Я дивлюсь вам, пани! Вы требуете от нас сочувствия, а сами не можете сказать, кому и чему мы должны сочувствовать? Сойдитесь сначала на чем-нибудь, а уж потом ищите себе союзников.
— А вы на чем-нибудь сошлись с князем Репниным?
— Князь Репнин очень умен и неуклонно исполняет волю своей императрицы, а она знает, чего хочет, и бороться против нее трудно! — ответила Потоцкая и, помолчав, прибавила: — Салезий очень уважает князя.
— А также его святейшество епископ Солтык, — вставил аббатик, сладко нежась под щекотавшими его пальчиками.
— И епископ Солтык — умный человек, — согласилась пани Анна. — Он прекрасно сделал, что помирился с послом России, когда нам нужно содействие императрицы Екатерины.
— Ту же песню поет и Изабелла, чтобы оправдать свою связь с Репниным. Я это слышала от самой мадам де Кракови, — заметила Мнишек.
— Говорят, что ее влияние на князя начинает ослабевать, — сказала Поцей.
— Не верьте! Она крепче чем когда-либо держит русского медведя в руках.
— И охота ей пачкать свои хорошенькие ручки о гадкую шерсть русского медведя! — заметила со смехом Оссолинская.
— Русские медведи начинают входить в моду. На прошлой неделе у Браницких имел большой успех тоже русский зверь, здешний помещик Аратов.
— Этого можно было бы скорее назвать лисицей! — сказала Поцей и хотела еще что-то прибавить, но легкий удар веером по руке и красноречивый взгляд, которым ей указывали на группу у окна, заставили ее остановиться.
— А разве это все еще продолжается? — шепотом спросила Мнишек, пригнувшись к аббатику и кивая на Розальскую, которая вспыхнула до ушей при имени Аратова.
Аббатик утвердительно кивнул, в то время как пани Анна, взглянув на свою ассистентку, укоризненно покачала головой. От этого немого упрека Розальская покраснела еще больше, и на глазах ее навернулись слезы.
Из всех обитательниц замка одна только Юльяния Розальская допускалась в интимное общество супруги воеводы. Пани Анна призывала на свою половину резиденток замка тогда только, когда была одна, что случалось очень редко. Вообще же она держалась на почтительной дистанции даже и от тех, которые были знатного происхождения и отданы в замок воеводы обедневшими родителями исключительно для полуры. Но Розальская всегда была ее любимицей, и она никогда не стеснялась отличать ее от других. Ее родные дочери и сын жили в отдельном флигеле, с иностранными гувернантками и гувернерами, под наблюдением доверенного аббата, и виделись с матерью тогда только, когда она посылала за ними, Юльянию же она поместила в комнату рядом со своей спальней и не расставалась с нею даже и тогда, когда ездила в Варшаву или за грницу. Ее доверие к Юльянии было так велико, что она позволяла ей играть с наследником Потоцких, Станиславом, воспитанием которого она занималась так ревниво, что даже родному отцу не позволяла в него вмешиваться. За всем, что касалось мальчика, а также и его сестер, привезенный ею из Рима аббат должен был обращаться к самой ясновельможной или к Юльянии, которая таким образом служила посредницей между госпожой и всем ее многочисленным штатом.
Юльяния была круглая сирота, и говорили, что ее мать оказала какую-то важную услугу пани Анне, когда последняя была еще в девицах. Этому обстоятельству приписывали участие, принимаемое ясновельможной в судьбе взятой на воспитание девушки. Когда Юльянии минуло семнадцать лет, ее отдали замуж за Розальского, зажиточного помещика, обладателя прекрасной мызы близ Тульчина и одного из усерднейших клиентов воеводы. Щенсные-Потоцкие могли вполне полагаться на него, он много раз доказал им на деле свою преданность.
Но Юльяния недолго прожила с мужем; не прошло и года после свадьбы, как в одну темную осеннюю ночь его принесли домой с простреленной грудью. Он был очень слаб и очень страдал, но это не помешало ему послать в замок за аббатом и составить с его помощью духовное завещание в пользу жены. Едва успел он подписать холодеющей рукой бумагу, как скончался.
Юльяния очутилась вдовою, и очень богатой, много богаче, чем ожидали и сама она, и все знавшие ее мужа. У него оказался крупный капитал в одном из варшавских банков, бочонок червонцев в тайнике под домом и документы на большое имение в одной их русских областей на юге.
Почему покойный скрыл от всех и даже от жены существование этих капиталов и документов? — На этот вопрос никто не мог бы ответить, кроме разве воеводы. Но спрашивать его об этом, разумеется, никто не решался, тем более что даже разговоры о неожиданной находке так раздражали пани Анну, что она запретила говорить об этом в замке.
Как бы там ни было, но Юльяния была теперь богата, могла жить вполне самостоятельно в собственном доме либо в Варшаве близ дворца Потоцких, либо на мызе по соседству с замком воеводы и, таким образом, не расставаться со своей благодетельницей.
Ее положение после смерти мужа во всех отношениях изменилось к лучшему. Горевать о нем она не могла: вышла она за него по приказанию пани Анны, которая даже и не спросила у нее, нравится ли ей жених. Он был лет на тридцать старше ее и не обладал качествами, способными пленить девушку семнадцати лет; ее сношения с замком после смерти мужа не только не порвались, но сделались еще теснее, и все относились теперь к ней с подобострастным уважением как к личности, вполне независимой и с могущественными связями. Толпа, как всегда, падкая на преувеличения, когда дело касается неожиданно разбогатевших людей, преувеличивала состояние Розальской в стократ, и она слыла выгодной партией не только для зажиточного и занимающего влиятельное положение шляхтича, но и для настоящего магната. Вот почему внимание, оказываемое ею Аратову, возбуждало так много разноречивых толков и казалось тем более непонятным, что, будучи женат, этот москаль не мог претендовать на ее руку.
— Почему графиня думает, что нельзя говорить про Аратова при нас с Юльянией? — спросила пани Анна, внезапно прерывая тишину, воцарившуюся в комнате после замечания о сходстве Аратова с лисицей.
— Потому что пристрастие Щенсных-Потоцких к москалям всем хорошо известно, — вызывающе возразила Мнишек,
— Не пристрастие, а справедливость, моя пани, — строго поправила ее Потоцкая, с нервной поспешностью торопясь домотать шелк, от которого на руках Юльянии оставалась тоненькая пасма. — А тебе, графиня, менее других пристало бы нападать на русских, и в особенности на князя Репнина. Если твой дядя узнает про это, он не поблагодарит тебя, — продолжала пани Анна, не поднимая взора от работы: шелк запутывался, и она старалась осторожно его распутать, не порывая нитки.
— Не знаю, почему дяде гневаться на меня за это. Кроме зла, русский посол ничего ему не сделал.
— А давно у тебя от него известия? — все тем же сдержанным тоном продолжала свой допрос пани Анна.
— Он две недели тому назад поздравлял мою Касю с днем рождения и прислал ей подарков.
— Две недели — много времени, моя дорогая.
— Вы узнали что-нибудь новое? — спросила Мнишек.
— Я знаю, что если «пане Коханку» писал своим родным две недели тому назад, что от князя Репнина ему ничего нельзя ждать хорошего, то теперь он ничего подобного не напишет.
Клубок был домотан. Потоцкая бросила его в корзину с шелками на столике рядом с пяльцами и поднялась с места.
— Пора одеваться к обеду, мои пани. Темнеет, и начинают освещать залы. Сейчас музыканты соберутся, — объявила она, указывая на окна выступавшего крыла замка, в которых загорались огни. — Посмотри, моя Юльяния, все ли готово в уборной гостей и ждут ли их горничные и волосочесы.
Розальская вышла исполнить поручение и увидала в конце длинного светлого коридора аббатика, оживленно беседовавшего с каким-то прелатом по-итальянски. Не будь Юльяния так озабочена собственными мыслями, она узнала бы, что аббатик передает своему слушателю подробности только что слышанного в будуаре ясновельможной. Итальянский язык она знала так же хорошо, как и французский, но ей было не до чужих тайн — у нее была своя, которая в этот день мучила ее нестерпимее, чем когда-либо.
Когда дверь за Розальской затворилась, пани Анна вернулась к прерванному разговору.
— Мы с Салезием думаем, что у нас достаточно много врагов в Европе, чтобы враждовать с теми, которые менее других желают нам зла, и я опять повторяю, что князю Радзивиллу будет неприятно узнать, что его близкие родственники нападают на москалей именно в такое время, когда он ведет переговоры с русским послом о своем возвращении на родину. Ну что, моя дорогая, все ли готово для наших гостей? — прервала она свою речь, чтобы обратиться к вернувшейся Юльянии.
Это значило, что ничего больше от нее не узнают, и, как ни интересно было бы ее слушательницам узнать подробности сообщенной им новости, ни одной из них и в голову не пришло предлагать вопросы, рвавшиеся у них с языка. Они вышли из будуара, не узнав, откуда у нее такие интересные вести и скоро ли можно ждать их осуществления.
Розальская намеревалась вместе с ними покинуть будуар, но не успела она дойти до середины уже освещенного лампами коридора, где уже ни аббатика, ни прелата не было, как громкое: «Юльяния!», — раздавшееся из будуара, заставило ее поспешно вернуться.
— Пойдем в уборную, ты мне поможешь переодеться, а тем временем мы кое о чем переговорим, — сказала пани Анна, направляясь к маленькой двери в просторную комнату, где у туалета с зажженными свечами дожидались камеристки.
К одеванию ясновельможной все уже было готово: пышное атласное палевое платье, украшенное дорогими кружевами, красивый тюрбан из блон с белыми перьями, бальная обувь, длинные белые перчатки и все прочие принадлежности были в должном порядке разложены на столах. От воды в хрустальном умывальнике на мраморном столе, в глубине комнаты, разливался запах свежих роз, а туалетный стол посреди комнаты был уставлен всем необходимым для интимного туалета знатной дамы средних лет, желающей казаться по крайней мере лет на десять моложе, чем она была на самом деле.
— Ступайте, когда надо будет, я вас позову, — обратилась она к камеристкам. — А ты, Юльяния, вспомни старину, когда ты причесывала меня в Версале на маленькие вечера королевы, — сказала она Розальской, опускаясь на стул перед туалетом.
Юльяния принялась расчесывать ей волосы.
— Почему явилась ты сегодня так поздно? Я жду тебя с утра, а ты изволила приехать, когда у меня уже вся гостиная была полна народом, — продолжала пани Анна уже не с ласковой нежностью, а раздраженно и сурово, причем ее лицо сделалось сердитым.
— Я не могла раньше приехать, моя пани, — начала было оправдываться молодая женщина, ловко подхватывая тяжелые волны чуть-чуть седеющих волос Потоцкой и расчесывая их черепаховым гребнем, прежде чем осыпать пудрой.
— Не могла оправиться от вчерашнего посещения? — прервала ее ясновельможная со злой усмешкой, следя в зеркале за смущением Юльянии. — Никогда не думала я, чтобы ты была так глупа! Дай мне румяна. У тебя москаль провел вчера весь вечер. А разве я не запретила тебе принимать его? — с возрастающим гневом продолжала пани Анна, взяв из дрожащих рук Юльянии фарфоровую баночку с румянами и осторожно кончиком пальца втирая их в кожу лица: на щеках гуще, чуть-чуть на подбородке и крошечку на кончиках ушей, в то время как Розальская мастерила на ее голове высокую прическу с пышно взбитыми локонами. — Москаль просидел у тебя до полуночи…
— Только до десяти часов, — робко пролепетала Юльяния.
— До полуночи! А сегодня весь замок знает об этом. От прислуги и до господ дошло. Приятно мне было слышать намеки Поцей, когда она подмигнула на тебя Мнишек при имени Аратова? Ты покраснела, как воровка, пойманная с рукой в чужом кармане… Противно было смотреть на тебя. Стыдно не уметь скрывать свои чувства и выставлять их на посмешище всего света! Можно подумать, что я не заботилась о твоем воспитании, что ты выросла, как дикая трава в поле, без полуры, без хороших примеров, не в замке графини Потоцкой, а на какой-нибудь мызе. И чем же думаешь ты все это кончить? А? Москаль, женатый, двое детей! Бабка, столетняя ведьма, еще жива и может прожить долго, состояние почти все — ее! Ты глупа, дочь моя, вот что я тебе скажу!
— Он разведется с женой…
— Каким это образом? У москалей не дают развода.
— Я надеюсь повлиять на него. Он примет нашу веру. Пани Анна пожала плечами.
— Если останется жив, — глотая слезы, прибавила Юльяния.
— Почему ему не быть живым? Драться, что ли, с кем-нибудь намерен из-за пани Розальской? Этого еще недоставало! С кем? Какие у тебя еще обожатели завелись?
— Пани обижает меня, никаких обожателей у меня нет. Аратов меня любит… он на мне женится, когда будет свободен… Жена его — сумасшедшая и припадочная… доктор обещал дать свидетельство, и он будет свободен. Он примет нашу веру и польское подданство… король обещал ему свое покровительство, обещал ходатайствовать за него перед русской императрицей. Он купит имение под Варшавой, чтобы участвовать в сеймах и поддерживать короля и ясновельможного моего благодетеля, киевского воеводу. Умоляю мою дорогую пани, мою покровительницу, мою вторую мать благословить на этот брак.
Прическа ясновельможной была окончена, оставалось только надеть тюрбан, и Юльяния, опустившись на колени, обливала руки Потоцкой слезами.
— Встань! Перестань дурить! Рано просить благословения, когда развода еще нет и он — не католик и не польский подданный. Ты много наболтала, и ни слова путного не сказала. Вижу только, что у вас зашло дальше, чем следует, и что ты пренебрегла всеми моими советами и запрещениями. Но об этом после, сегодня мне не до тебя. Скажи мне только, что он затеял, чтобы за драгоценную жизнь его опасаться? Выдумка, верно, чтобы тебя, дуру, напугать? Видит, что ты с ума по нем сходишь, и смеется над тобой!
— Он обещал пану Мальчевскому помочь ему выкрасть невесту.
— Эльжунку Сокальскую? Ну, разве я не была права, утверждая, что этот бес Аратов — такой же сумасброд, как и все русские! Какая ему надобность вмешиваться в эту глупую историю, да еще перед сеймом, когда такие люди, как Сокальский, нам нужны? Он — один из надежнейших клиентов Салезия, человек почтенный, богатый и с весом. Он обещал нам голосов тридцать по крайней мере, и теперь, разумеется, ему будет не до сейма, когда у него увезут дочь. Хорошо еще, если в свалке его самого не зарежут! Зачем ты мне этого раньше не сказала? Салезий принял бы меры: Мальчевского с приятелями можно было бы заарестовать, а Сокальского предупредить о том, что против него умышляют головорезы.
— Я ничего не знала, он только вчера перед отъездом сказал мне… было слишком поздно, чтобы ехать в замок.
— А раньше о чем у вас была речь? Целовались, верно? Ах ты, беспутная! Глупая! — воскликнула ясновельможная.
— Он оттуда прямо сюда приедет.
— Это с наезда-то? К воеводе? Да он с ума сошел!
— Его сам пан Салезий пригласил.
Розальская могла бы прибавить, что воеводе известны все подробности затеянного наезда, но она слишком любила воеводу, всегда милостивого к ней, чтобы подводить его под головомойку. А последней ему не избегнуть бы, если бы его супруга узнала, что он поощряет такие мальчишеские выходки, как та, что затеял проказник Мальчевский.
— Но ведь Салезий ничего не знает, иначе он давно прекратил бы эту опасную затею! — воскликнула пани Анна. — Сокальский — не трус, он умеет драться и на саблях, и на пистолетах. Он без боя не сдастся и будет защищать дочь до последнего издыхания. У него большая дворня, и вся деревня предана ему, хлопы любят его… Ну, перестань реветь! Это еще что за новости? — строго возвысила она голос на слушательницу, которая пришла в такое отчаяние от ее слов, что не в силах была сдерживать рыдания. — Какое имеешь ты право беспокоиться об этом москале? Он тебе — не муж и даже не жених! Сейчас утри слезы, умойся холодной водой, нарумянься, будь весела, любезна, чтобы никто не догадался о вздоре, который у тебя на уме! Живо! Чтоб через десять минут я тебя видела в приличном виде!.. — Тут она прервала свою речь, чтобы прислушаться к легкому стуку, раздавшемуся у двери. — Кто это? Посмотри!
Это был аббатик.
— Пусть войдет, — ответила на доклад Юльянии ясновельможная.
— Важные новости, моя пани! — стремительно заявил аббатик, проникая в комнату, не забывая притворять за собою дверь. — «Пане Коханку» прощен и возвращается на родину! Князь Радзивилл сам прислал к пану воеводе с доброю вестью любимого своего резидента, пана Длусского.
— Длусского? Он здесь? — с живостью осведомилась пани Анна, с усмешкой взглядывая на потупившуюся Розальскую.
— Здесь, в кабинете у пана воеводы, а я поспешил к ясновельможной.
— С большой свитой приехал Длусский?
— С ним человек пять дворских, два паюка, камердинер, шесть верховых гайдуков да люди при экипаже.
— Поместить пана Длусского в западной башне, и чтоб все было в наилучшем порядке, — обратилась Потоцкая к Розальской. — Займись этим, Юльяния! Ты знаешь, как мы чествуем почетных гостей. Пан Длусский явился к нам представителем ясновельможного князя Радзивилла: мы докажем ему, что ценим внимание его благодетеля. Когда я гостила у князя десять лет тому назад, мне отвели апартаменты короля. Позаботься, чтобы нашему гостю было удобно в покоях, в которых и у Потоцких гостили не раз коронованные особы, — прибавила она, с важностью выпрямляясь.
Юльяния вышла, а ясновельможная, продолжая разговаривать с аббатиком, хлопнула в ладоши и велела явившимся на зов камеристкам надеть на нее тюрбан. Когда это трудное дело было сделано, она вынула из ящика с драгоценностями две булавки, осыпанные бриллиантами, и приказала аббатику приколоть их к убору.
Он справился с этим довольно мудреным делом так искусно, что ясновельможная улыбнулась.
— Ты, Джорджио, отлично мог бы заменить мне Юльянию, — заметила она по-итальянски.
— О, никогда пани Розальская не уступит мне счастья служить ясновельможной! — воскликнул он, поспешив поцеловать ее руку.
— Ты думаешь? Но я в этом далеко не уверена, — возразила Потоцкая и прибавила: — Такой красавицы долго у нас не оставят. Вот и этот Длусский тоже влюблен в нее.
— О, если бы только Длусский мог понравиться пани Розальской! — вырвалось у аббатика точно помимо воли.
— Разумеется, лучшей партии ей и желать нельзя: знатен, богат…
— Поляк и католик, — докончил ее мысль собеседник.
Потоцкая поняла намек и нахмурилась. В другое время аббату Джорджио досталось бы за неуместную догадливость, но на его счастье супруге воеводы надо было торопиться в бальный зал, и она вышла из своих апартаментов в парадные ярко освещенные покои, где в ожидании ее появления расхаживали гости. Отвечая величественными кивками на низкие реверансы и почтительные поклоны, она направилась в сопровождении все увеличивавшейся свиты к большой гостиной, где ее уже ждали приятельницы и несколько других дам и девиц со своими воздыхателями.
Была тут и Розальская. Живая и свеженькая, как розы, приколотые к ее волосам, она разговаривала с высоким худощавым молодым человеком с подбритым лбом, бесконечно длинными усами на мужественном лице, в старинном литовском костюме, с саблей и лосиными перчатками за поясом из литого золота, усыпанным драгоценными камнями, в желтых сафьяновых сапогах с серебряными шпорами.
Эта личность, по-видимому, всех интересовала. Пани и панны забывали отвечать на комплименты увивавшихся вокруг них кавалеров, а с любопытством взглядывали на нового гостя, и по тому, как они осторожно понижали голос, разговаривая между собою, можно было догадаться, что речь идет о нем.
— Давно ли в наших краях, пане? — любезно спросила хозяйка, протягивая руку, которую он поспешил поднести к губам с низким поклоном. — И откуда занес вас к нам добрый ветер?
— Ветер, занесший меня сюда, действительно добрый: я прямо из Дрездена, моя пани. Скакал день и ночь, чтобы привезти хорошую весть.
Присутствующие насторожились, и воцарилась такая тишина, что из танцевального зала явственно долетели звуки оркестра. Танцевать еще не начинали, бал должна была открыть хозяйка, но торжественные аккорды интродукции к полонезу уже приглашали танцоров и танцорок занимать места.
— Очень любезно с вашей стороны. Салезия видели?
— Счел своим долгом прямо из дорожного экипажа явиться к пану воеводе, чтобы передать ему письмо нашего князя. Граф, ознакомившись с доверенным мне посланием, послал меня к ясновельможной сообщить новость, которую я имел счастье доложить ему. Ясновельможный князь Карл Радзивилл, по любезному предложению всероссийской императрицы, возвращается на родину и вскоре будет иметь удовольствие лично засвидетельствовать свое почтение пану воеводе и его супруге, — торжественно произнес он. — По поручению моего князя, я проеду отсюда прямо в Вильну, чтобы заняться приготовлениями к его приезду.
— Передайте вашему князю, что мы от всего сердца поздравляем его и желаем ему во всем успеха. Дайте мне вашу руку, я с вами открою бал, который должен служить предзнаменованием успеха всех наших предприятий. Прошу, мои пани, следовать за нами, — обратилась Потоцкая к окружающим. — Кавалеры давно ждут и теряют терпение.
С этими словами она положила свою руку на ладонь, которую поспешил подставить ей посланец князя Радзивилла, и величавою поступью направилась через анфиладу покоев, освещенных тысячами свеч в люстрах и канделябрах. За нею последовало остальное общество.
При появлении блестящего шествия публика, наполнявшая прочие покои, присоединялась к нему и шла дальше, перекидываясь оживленными замечаниями относительно услышанной новости, а вскоре весь замок узнал, что «пане Коханку» помирился с русской императрицей и возвращается на родину. Это известие радовало всех и располагало к веселью. Даже старики повылезли из-за карточных столов и пустились в пляс.
XI
Однако, полюбовавшись некоторое время молодежью, отличавшейся в французских и национальных танцах, воевода с друзьями вернулся в кабинет, чтоб снова начать толковать о предстоящем сейме, обещавшем быть еще интереснее ввиду неожиданного возвращения из ссылки знаменитого вождя противостоящей России партии, князя Карла Радзивилла.
Правда, это возвращение было обставлено весьма стеснительными условиями. От Радзивилла требовали полного подчинения требованиям русского посла, а также того, чтобы он в звании маршала общей конфедерации не только защищал свободу совести всех подданных короля, но и сократил буйность своего собственного нрава и не дозволял себе взбалмошных выходок, которыми прославил себя по всей стране, к ужасу и отчаянию жертв, замученных им, часто насмерть, как, например, несчастный Пац, умерший вследствие его злой шутки.
Граф Пац, старинного знатного рода магнат, будучи в гостях у князя Карла Радзивилла, по прозванию «пан Коханку», то есть «любимчик», отказался пить через меру за обедом. За это хозяин приказал заковать его в цепи и запереть в подвал, служивший тюрьмой в замке. Ночью к графу явились люди со священником и прочитали ему смертный приговор, а утром его вывели на парадный двор, посреди которого была воздвигнута виселица. Несчастного возвели на эшафот и накинули емупетлю на шею. Он попросил позволения сказать еще несколько слов ксендзу, присутствовавшему при этой церемонии, и тогдр ясновельможный хозяин, громко расхохотавшись, объяснил, что все это была только шутка с его стороны. Приговоренного к смерти свели с возвышения, повели в замок и начали угощать. Но Пац не вынес душевного потрясения и через несколько часов скончался от жестокой шутки приятеля. Если польские магнаты позволяли себе такие выходки с равными себе, можно себе представить, как поступали они с низшими по состоянию и общественному положению!
За обуздание нрава, равно как и за обещание поддерживать все требования России на сейме, «пану Коханку» были обещаны возвращение конфискованных имений и даже забвение таких зловредных проказ, как замысел свергнуть с престола русскую императрицу, чтобы заменить ее темной авантюристкой, выдававшей себя за дочь покойной государыни Елизаветы Петровны. Карл Радзивилл помогал известной княжне Таракановой в затеянной ею интриге против царствующей императрицы.
Все эти подробности были известны киевскому воеводе, приятелю русского посла, руководившего всем этим делом помилования Радзивилла, а также и его друзьям, но тем не менее помилование Радзивилла всем вскружило голову, и всем стало казаться, что теперь можно подвинуть Россию и на другие еще более существенные уступки.
Заговорили сначала довольно робко, а затем все решительнее и смелее, о необходимости изгнать ненавистного всем короля, не сумевшего угодить ни одной партии. Загалдели о престолонаследии, о претендентах, более достойных, чем Понятовский, но, когда стали называть имена, гвалт усилился, и всякого, кто позволял себе упомянуть про сына покойного короля или про Карла Радзивилла, Браницкого, Ржевусского, Чарторыского, противная партия немедленно заставляла смолкнуть, осыпая названного кандидата градом ругательств и насмешек. Презрительные эпитеты сливались с восклицаниями негодования. Шум усиливался, и хозяин, отчаиваясь водворить мир благоразумными увещаниями, начал тоскливо посматривать на дверь, спрашивая себя: не вызвать ли из танцевального зала Длусского, чтобы рассказами о заграничных новостях успокоить распалившиеся умы? Но это средство представляло и немалую опасность. Пан Залесский уже раза два обозвал князя Радзивилла шутом, а пан Старчевский считал этого популярнейшего из магнатов Речи Посполитой не надеждой страны, долженствовавшим водворить золотой век на родине, а круглым дураком и сумасбродом, и позволил себе сравнивать его с огородным чучелом. Пан Ледоховский был тоже невысокого мнения о патроне Длусского, и всем этим господам ничего не стоило бы при последнем непочтительно выразиться о высокой личности будущего маршала конфедерации и повторить оскорбительные эпитеты, которыми они награждали его. Что же тогда останется сделать Длусскому, как не заступиться за честь своего благодетеля, а хозяину дома поддержать его претензию? И поднимется такой кавардак, что все полетит к черту, — и сеймик, и сейм, и все благие упования на поддержку избранных послов. Уже и теперь все так взъерепенились друг на друга, что нельзя было надеяться скоро привести их к какому-нибудь соглашению.
Киевский воевода приходил в отчаяние, но тут вдруг его неприятное раздумье прервалось появлением покоевца с докладом о приезде господина Аратова.
Это известие произвело желаемую диверсию. Оказалось, что не одному воеводе, а почти всем его гостям было известно о затеянном на эту ночь наезде на мызу Сокальского, и со всех сторон посыпались вопросы:
— Аратов приехал? Не может быть!
— Один? Уж не с Мальчевским ли?
— Что это значит? Откуда он явился?
— Неужели уже успели сделать наезд?
— Но когда же? Нет еще и полуночи. Отложили, верно, до более удобного времени… Или совсем раздумали, одумались.
— А вот мы это сейчас узнаем, — весело потирая руки, объявил хозяин и приказал просить господина Аратова.
Когда Дмитрий Степанович вошел, всеобщее изумление усилилось. Вместо запыленного и взволнованного кровавой стычкой драчуна со следами борьбы на лице и платье явился нарядный франт со спокойно улыбающимся лицом, в светло-зеленом бархатном французском кафтане, в атласном белом камзоле, расшитом золотом, в пышном кружевном жабо и в бальных башмаках на шелковых чулках, при легкой шпаге с рукояткой тонкой филигранной работы. Не забыты были и часы с цепочкой и брелоками, и лорнетка. Из бокового кармана выглядывал батистовый платок ослепительной свежести, и от всей фигуры Аратова, изящной и выхоленной, веяло таким ароматом, что запах роз затмил вонь вина и табака, которой был насыщен воздух в кабинете воеводы.
Остановившись в дверях, он с усмешкой обвел глазами общество и, весело воскликнув: «Вот и я!» — стал пожимать протянутые ему со всех сторон руки, начиная с хозяина, который обнял его и расцеловал в обе щеки. Полезли целоваться и другие, так что только минут через пять Аратову можно было усесться в кресло.
— Ну рассказывайте, — сказал пан Салезий, придвигая ему столик с бутылками и кубками. — Но прежде выпьем за ваше благополучное возвращение, — прибавил он, наливая ему вина. — Проше, панове, — обратился он к остальным гостям. — Поздравляем с победой! На вас стоит только взглянуть, чтобы убедиться, что вы довольны результатом вашей экспедиции — вид у вас сияющий!
— Я спешил на бал, граф.
— Но когда же успели вы оправиться от ваших боевых подвигов, смыть следы пота и крови?
— Нас можно поздравить с успехом, но не с боевыми подвигами! Все обошлось без огня, крови и меча, — ответил Аратов, осушив кубок и ставя его на стол.
— Но как ж? Неужели Сокальский сдался без боя?
— Я этого не говорю.
— Так, значит, Мальчевский отказался от своей затеи? — спросил один из присутствовавших.
— Ничего лучшего не мог придумать: затея была преглупая, особенно перед сеймом, когда нам нужны все голоса благонамеренных людей, — заметил хозяин.
— Ну, Сокальский за Радзивилла голоса не подаст, у него много причин ненавидеть его.
— А Чарторыских еще больше.
— Не Сапегу же выбирать маршалом!
— Кто говорит про Сапегу? Есть и другие…
— Огинского тоже не надо.
— А того, кто заикнется про Браницкого, мы решили зарубить. Глаза загорались, и голоса звучали все громче и злее. Некоторые из спорящих сорвались с места, чтобы развязнее размахивать руками и хвататься за сабли. Бедный воевода растерянно обернулся к Аратову, с усмешкой следившему за спором, умоляя его взглядом помочь ему успокоить гостей.
— За Сокальского я не отвечаю, что же касается Мальчевского, то этот за самого Вельзевула с восторгом подаст голос, чтобы только сделать приятное своим согражданам, — сказал Аратов, так возвышая голос, что спорящие не могли не слышать его. — А за ним многие пойдут. Поляки любят таких молодцов, которые ни перед чем не останавливаются, чтобы поставить на своем.
— Да, да, мы это любим! — поспешили согласиться с ним.
— А как же он так легко отказался от любимой девушки?
— Он и не думал отказываться от нее. За кого вы его принимаете? Я никому не позволю оскорблять моего приятеля, — задорно возразил Аратов. — Мальчевский слишком влюблен в свою невесту, чтобы отказаться от счастья обладать ею; он — такой же поляк, как и все вы, Панове, настоящий рыцарь, никого на свете не боится, и сам дьявол не заставит его отступить! — продолжал он, с возрастающим азартом возвышая голос. — Его могут лишить жизни, но гонора — никогда!
Эта речь всем пришлась по вкусу.
— Вы называли дочь Сокальского невестой Мальчевского. Не рано ли? — с улыбкой спросил воевода Аратова.
— Теперь, пожалуй, это уже и поздно, потому что она несомненно превратилась de facto в его супругу. Я обвенчал их ровно в десять часов, а у вас часы показывают одиннадцать, — указал Аратов на массивные бронзовые часы, украшавшие камин.
— Обвенчались? Но в таком случае вам, значит, удалось похитить ее?
— Опять-таки позволю себе заметить графу, что вы не так выражаетесь: мы ее взяли, но не похитили, — возразил Аратов.
— Перестаньте говорить загадками, милейший! Расскажите, как было дело! Видите, что мы все сгораем от любопытства.
— Извольте. Ровно в девять часов вечера мы приказали нашим людям садиться на коней и, не торопясь, ехать на хутор Баранской, где нам было приготовлено верное убежище до роковой минуты, когда нам надо было бы с гиком, свистом, с поднятыми саблями и заряженными пистолетами ринуться в бой…
— Со спящими? — спросил Залесский, маленький ехидный старикашка, который часто затевал споры с единственной целью наговорить неприятностей своему оппоненту.
— У вас, кажется, пане, наезды днем не делаются, и вам это лучше, чем кому-либо известно, так как вы не ждали солнечного восхода, чтобы зарубить саблями пана Моржевского, — с живостью парировал обидную насмешку Аратов.
— Не отвлекайтесь от рассказа! Прошу, панове, не прерывать! — вмешался в вспыхнувшее недоразумение воевода.
— Отправив людей, мы с Мальчевским сели за стол подкрепитьа перед походом, — продолжал свое повествование Дмитрий Степанович. — И не успели мы раскупорить вторую бутылку, как вбежал дворский с докладом о приезде каких-то людей, желающих видеть пана по важному делу. «Что за люди? Откуда? Гони их вон! Не до них!» — вскрикнул Мальчевский, которому, вы сами понимаете, в эту минуту было не до посторонних людей. А так как и я ему в этом вполне сочувствовал, то тоже крикнул: «Гони их вон! вон! вон!» Но тут в столовую вбежал крестьянский хлопчик в мохнатой меховой шапке и в сапогах выше колен; его уже выгнать было невозможно.
— Почему же? — полюбопытствовал один из слушателей.
— Потому, пане, что при ближайшем осмотре этот хлопчик оказался Эльжуней Сокальской.
Это заявление было так неожиданно, что присутствующие несколько мгновений пребывали в недоумении, а затем, поняв, в чем дело, разразились громким смехом.
— Так она сама к нему прибежала, не дожидаясь похищения? — воскликнул воевода. — Отлично!
— Не прибежала, а важно приехала в фуре на волах.
— Ай да девка!
— Умна, должна быть. От больших неприятностей спасла родителя и жениха с приятелями. Мальчевского можно поздравить с такой супругой. Вы говорите, что они уже обвенчаны? Но как успели вы это так скоро устроить?
— О, я им долго раздумывать не дал: приказал заложить карету и повез их в Ябковское, к ксендзу.
— Так в хлопском платье и повенчали ее?
— За кого вы нас принимаете, пане, чтобы мы так нескладно поступили с девицей, доверившейся нашей чести? Нет, нет, мы тотчас занялись ее туалетом и нарядили ее.
— Во что же? Мальчевский живет один, при нем нет ни матери, ни сестер, откуда же взялись у него женские наряды? — спросил паи Старчевский.
— Какой вы недогадливый, пане! Вот и ваша милость, да и пан Глинский, и пан Сементковский, насколько мне известно, семьей еще не обзавелись, а неужто у вас в доме не найдется приличного дамского наряда в случае такой крайности, как та, что нам сегодня представилась? Прекрасные пани и к вам приезжают в гости и, наверное, остаются ночевать, когда найдет гроза, например, или раньше времени наступит темнота и опасно пускаться в путь до утра. Есть между ними легкомысленные и забывчивые, особенно, когда хозяин любезен и красив.
— Понимаем, понимаем! — раздалось со всех сторон.
Политика была забыта, и когда воевода предложил Аратову отвести его в танцевальный зал, разговор в кабинете продолжался на тему любовных похождений.
— Бал у нас в полном разгаре и до ужина остается еще часа два, но я боюсь, что вам уже не достать дамы на мазурку, — сказал пан Салезий, проходя с Аратовым по портретной галерее, куда ясно доносились звуки оркестра.
— Надеюсь, что меня не постигнет такое несчастье, — возразил с самодовольной улыбкой Дмитрий Степанович.
— Запаслись заранее дамой? Однако это, с ее стороны, большая, но довольно рискованная любезность: она могла остаться совсем без кавалера, если бы ваш поход не окончился так счастливо. Мы, признаться, немножко побаивались за вас и порядком бранили Мальчевского за такую… как бы это выразиться по-нашему? — тенжизнь.
— А по-нашему — просто шалость.
Последние слова оба вставили один по-польски, другой по-русски в ту речь, которую, оставшись вдвоем, повели по-французски.
— Хорошо, что все окончилось благополучно благодаря находчивости маленькой бесстрашной Эльжуни, — продолжал Потоцкий. — Непременно пошлю ей свадебный подарок за то, что она нам сохранили два голоса на сейм. Кстати, вы еще не знаете новости? Радзивилл возвращается на родину. Все ему прощено, имения возвращены… Сейчас приехал сюда любимый его дворский с письмом от него и сообщил нам на словах много интересных подробностей об атом приятном событии.
— Князь Репнин говорил мне, что не сомневается в помиловании князя Радзивилла, если только тот согласится исполнить требования императрицы, а требования эти нелегкие, — небрежно заметил Аратов.
— Ну, ведь и король наш дал такое же обещание.
— И плохо ему будет, если он его не исполнит!
Они дошли до дверей танцевального зала, где воевода остановился, чтобы поделиться со своим спутником новостью, а может быть, чтобы узнать его мнение о ее последствиях, но Аратов слушал его рассеянно и с плохо скрываемым нетерпением; ему было не до Радзивилла и не до его противников и друзей; он внимательно вглядывался в пары, мчавшиеся мимо него в бешеной мазурке, отыскивая между ними ту, для которой торопился приехать сюда до конца бала.
Но между танцующими ее не было, и, убедившись в этом, он улыбнулся. Разве могла она предаваться веселью, зная, что он подвергается опасности лишиться жизни под вражескими ударами, и воображая его себе истекающим кровью? Как он напугал ее вчера рассказами о предполагаемом наезде! Как умоляла она его пожалеть ее, отказаться от безумной затеи, и как она была прелестна в слезах и в отчаянии! Ни за что не обнимала бы она его так крепко и не целовала бы так страстно, если бы не страх потерять его. Она, без сомнения, ничего еще не знает о благополучном окончании затеянного дела.
И, действительно, Розальская ничего не знала и так обрадовалась, увидав Аратова здоровым, веселым и, как всегда, красивым и элегантным, что от счастья чуть не лишилась чувств.
— Осторожнее, сердце мое, мы не одни, — чуть слышно, почти одними губами, проговорил он, раскланиваясь перед нею, и прибавил вслух: — Пани не забыла обещанной мне мазурки?
До утра пировали гости у воеводы. После ужина опять танцевали, невзирая на восходящее солнце, заставлявшее бледнеть огни люстр и канделябров.
Аратов так усердно ухаживал за красавицами, так охотно осыпал комплиментами каждую из них, что если бы даже всем было известно о его отношениях к Розальской, то об этом давно забыли бы, так искусно прикидывался он влюбленным во всех хорошеньких женщин, которых в ту ночь в замке киевского воеводы было особенно много.
Протанцевав с Юльянией обещанную мазурку, он, по-видимому, совершенно спокойно уступил ее пану Длусскому.
Тот не отходил от нее, за ужином сел рядом с нею, чтобы прислуживать ей и пожирать ее глазами, нашептывая ей нежности, на которые она отвечала одобрительными взглядами и улыбками. Юльяния была так счастлива, что всем готова была улыбаться. По временам ее глаза встречались с глазами Аратова, сидевшего наискось от нее между двумя нарядными женщинами, которым он расточал свое внимание настолько щедро, насколько это было возможно в промежутках между едой и питьем, и тогда тонкий наблюдатель, может быть, заметил бы, какою глубокою страстью загорались глаза очаровательной вдовушки; но на ее счастье таких наблюдателей тут не было: все были в опьянении от танцев, любви, вина и честолюбивых замыслов.
Улучив благоприятную минуту после ужина, Юльяния подошла к пани Анне, с посланцем князя Радзивилла удалившейся в растворенную в сад дверь балкона, и попросила у нее позволения уехать домой.
— Разве ты не переночуешь в замке? — спросила ясновельможная, устремляя на свою любимицу пытливый взгляд. — Твое место рядом с моей спальней никем не занято, — прибавила она, ласково оправляя пряди развившихся волос молодой женщины.
Юльяния стала жаловаться на усталость и на хозяйственные распоряжения, требующие ее присутствия дома рано утром. С хуторов должны были приехать дозорцы за распоряжениями, задерживать их нельзя, в виду горячего времени для полевых работ, без нее эконом не будет знать, что делать.
— Вот она у меня какая хозяйка, пане! — обратилась жена воеводы к Длусскому. — Поезжай, если уж так нужно, но завтра прошу непременно явиться к концерту, — прибавила она, ласково дотрагиваясь пушком своего веера до раскрасневшейся щечки вдовушки, и, снова повертываясь к Длусскому, который не в силах был оторвать очарованный взор от красотки, сообщила, что пани Розальская сделала большие успехи в пении.
— А далеко живет пани? — спросил Длусский, у которого при одной мысли расстаться с предметом своей страсти больно защемило сердце.
— Очень близко: до ее мызы всего только полчаса ходьбы через парк, и это одна из наших любимейших прогулок. Но в бальном наряде такая экскурсия неудобна, приходится ехать в объезд, и раньше как через час, не доедешь до ее дома, — ответила пани Анна.
«Пробыть с Юльянией наедине целый час в карете! Да это такое счастье, за которое и полжизни не жаль отдать!» — подумал Длусский и умоляюще сказал хозяйке дома:
— Если бы пани дозволила мне проводить ее? Потоцкая с улыбкой обратилась к Юльянии:
— Что ты скажешь на это, моя дорогая? Мне кажется, что с таким кавалером ехать безопаснее, чем одной, да и веселее?
— Очень буду благодарна пану за любезность, — не задумываясь, ответила вдовушка.
— В таком случае я распоряжусь, чтобы подавали ваш экипаж, — и вне себя от радости посланец князя Радзивилла выбежал из комнаты, а пани Анна, пригнувшись к Юльянии, сказала ей вполголоса:
— Вот с этой победой я тебя поздравляю. Это — не чета москалю: он свободен, и состояние его всем известно. Веди дело умненько, и ты сделаешься знатной пани, с блестящим положением в свете. Князь Радзивилл умеет выводить в люди своих любимцев, а Длусский к тому же и сродни ему приходится. То, что Радзивилл оставит ему, не будет принадлежать секвестру за долги после смерти князя; уж и это — огромное преимущество, которого будут лишены законные наследники Карла Радзивилла.
Раскрасневшись от волнения, со слезами на глазах прильнула Юльяния к плечу своей благодетельницы.
— Да, никогда не следует слушать голос сердца, а всегда руководствоваться рассудком, это — вернее, — продолжала растроганная пани Анна, понимая волнение своей воспитанницы по-своему и приписывая его решимости внять ее советам и заглушить некстати зародившееся чувство к москалю. — Не может полька быть счастлива с москалем, с притеснителем ее отчизны! Пусть наши мужчины идут на компромиссы, но мы, женщины, останемся непоколебимы в ненависти к врагам нашей веры и независимости и будем воспитывать своих детей истыми поляками. Это — наш долг, предписанный нам самим главою нашей церкви, наместником Христа на земле, — произнесла она с жаром, а затем продолжала уже своим обычным, высокомерным тоном: — Салезий заласкивает этого Аратова, потому что считает его ловким и полезным ввиду его связей с русским послом. Аратов сумел угодить и королю. Но разве трудно подделаться к такому дураку, как Понятовский? А я всегда скажу, что этот москаль очень хитер и одному только себе будет полезен, никому больше. И надо всеми нами он смеется, а над тобою первой, моя бедняжечка! Ну, да мы ему долго смеяться не дадим, не правда ли, дочь моя?
В то время как этот разговор происходил в дверях балкона, выходившего в сад, Аратов рассказывал тем, кто еще не слышал этого повествования, о пикантных подробностях венчания Мальчевского с Эльжуней Сокальской и, слушая его, молодежь так хохотала, что забывала о дамах, приглашенных на веселый танец, которым должен был завершиться бал.
Но праздник в замке воеводы этим на кончался; на следующий день предполагалась экскурсия в его другое имение на рыбную ловлю, а на третий день — охота в лесную пустошь. Приглашенный на все эти увеселения Аратов один из последних покинул столовую и проследовал за покоевцем в приготовленную для него комнату. Но, когда на следующий день гости собрались к позднему завтраку перед отъездом на рыбную ловлю, москаля между ними не оказалось, и хозяин сообщил, что они будут лишены общества Аратова: за ним прискакал посланец из его имения с какими-то, должно быть, важными и неприятными известиями, — по крайней мере Аратов немедленно приказал своим людям готовиться в путь, и, ни с кем не простившись, кроме хозяина, уехал домой.
— У него был очень расстроенный вид, и он просил передать всей компании свое сожаление, что он лишен удовольствия принимать участие в наших забавах. Супруга его — особа болезненная и подвержена каким-то припадкам; может быть, с нею случилось что-нибудь худое, — прибавил воевода своим гостям о внезапном отъезде Аратова.
XII
Между тем, распростившись с паном Длусским на крыльце своего дома, где ее встретила дворская челядь, со старшей камер-юнгферой Цецилией во главе, пани Розальская прошла в свою уборную и поспешно разделась, чтобы лечь в постель, остаться одной и успокоиться сном. Но думы не отходили от нее и вызывали в ее воображении образы и представления, от которых кровь приливала то к голове, то к сердцу, невыносимо волнуя ее. Ей казалось, что она мчится по скользкому паркету с любимым человеком в мазурке, что он так крепко и близко прижимает ее к себе, что она чувствует его дыхание на своем лице; его страстный шепот пламенною струею пронизывает все ее существо, а сердце бьется, точно выскочить хочет из груди, и млеет она под его жгучим взглядом в любовном упоении. И вдруг картина менялась: она — в карете с противным Длусским. Чтобы не встречаться с его влюбленными глазами, она сидит, низко опустив голову. Но куда деться от его голоса, от ощущения его близости? Как ни старалась она отдалиться от него, прижимаясь к углу кареты, каждый толчок сближал их, и раза два его длинные торчащие усы защекотали ее шею! При этом он, не смолкая, говорил ей о любви — не прямо, конечно, а обиняками, но такими прозрачными, что было очень трудно притворяться ничего не понимающей и держать его на почтительной от себя дистанции, ловко маневрируя между холодным равнодушием и вежливым вниманием. Когда заходило слишком далеко, и признание готово было сорваться с его губ, она смеялась, обращая его слова в шутку. Но как фальшиво звучал этот смех! Надо было быть таким недогадливым, как Длусский, чтобы не понять, сколько в нем досады и отвращения! Чего стоило ей так долго играть комедию! Сколько раз слезы от раздражения подступали ей к горлу! Сколько раз хотелось ей крикнуть: «Оставьте, я люблю другого, и вы мне противны!» Но она сдерживала этот крик, и тихо отстраняла дерзкую руку, осмеливавшуюся по временам пробираться к ее талии, когда Длусскому, поощренному ее молчанием, начинало казаться, что его слова возбуждают в ней сочувствие. Но, слава Богу, искус миновал благополучно, и, хотя она вышла из кареты бледная и измученная нравственной пыткой, зато цель была достигнута: Длусский расстался с ней, почти уверенный в успехе.
Юльянии только этого и надо было. Не одна пани Анна относилась враждебно к ее увлечению москалем: и сам Аратов не переставал предупреждать ее, чтобы до поры до времени никто не подозревал о том, что они только друг для друга и существуют на свете. Надо, значит, ждать и вооружиться терпением.
Время шло, а желанный сон не смыкал глаз. Напротив, с каждой минутой волнение Розальской усиливалось, и лежать в постели стало нестерпимо. При свете пробившихся сквозь розовые занавеси солнечных лучей она поднялась с постели, накинула на себя пеньюар, всунула ножки в атласные туфельки, осторожно растворила дверь на террасу и вышла в наполненный душистыми цветами палисадник, разбитый под окнами ее спальни.
Как тут было светло, весело и оживленно! Какая всюду кипела деятельность! Какое множество красивых бабочек увивалось вокруг пышно распустившихся роз, белых лилий и левкоев! Как хлопотливо жужжали золотые пчелки, и стрекотали в зелени деревьев пташки вокруг гнезд! Все радовалось и наслаждалось жизнью без примеси злобы и зависти, под лучами яркого весеннего солнца. А какой чудный живительный воздух!
Юльяния опустилась на ступеньки и, устремив взгляд в зеленую даль, думала об Аратове.
Как он любит ее! Каким восторгом загорелись его глаза, когда он подошел к ней вчера! Неужели это было только вчера? Сколько важного совершилось! Розальской казалось, что целая вечность прошла с тех пор. Любовь ее к Аратову вдруг как-то расплылась во что-то могучее и огромное, охватившее все ее существо. Прежде были еще в ее душе уголки, ей принадлежавшие, где она была хозяйкой, но теперь у нее в сердце уже ничего своего не осталось, она вся — его, и он в любую минуту может ее взять. Все, чем она прежде жила и дорожила, отошло так далеко, что казалось чужим, непонятным, ненужным. Она лишится расположения и покровительства пани Анны, ее, может быть, никогда больше не пустят в замок, где она выросла и где до сих пор воображала себя счастливой, у нее не будет родины, она совершит незамолимый грех, ну и пусть! Только бы любимый был с нею.
Все чувства, в которых она родилась и выросла, так притупились в Юльянии, что ничто ее не пугало, не казалось ей чудовищным кощунством. Ни перед чем не останавливалась она, даже перед ложью, чтобы отстоять любимого, хотя бы на время, на минуту. Как могла она сказать своей благодетельнице, что он переменит для нее, Юльянии, свою веру и откажется от своего отечества? Ничем не поступится он для женщины, как бы страстно он ее ни любил. Разве он не знает, что та, которую он удостоил своим вниманием, пойдет всюду за ним, куда бы ему ни вздумалось увезти ее? Про развод с женою он один только раз намекнул ей, как о деле, требующем больших хлопот и издержек, и скорее как бы для того, чтобы она на это не рассчитывала, чем в виде обещания. О жене Аратова она знала лишь то, что все знали о ней, а именно, что она — душевнобольная и припадочная. Никаких вопросов относительно ее Юльяния не осмеливалась предлагать своему милому, и вообще он только позволял ей любить себя и беспрекословно повиноваться ему, никаких других прав он за нею не признавал, с тех пор как овладел ее душой.
Но никогда не сознавала Розальская так ясно, что больше не принадлежит себе, как с той минуты, когда Аратов подошел к ней вчера на балу и приказал ей быть осторожнее, потому что на них смотрят. Она покорилась его желанию бессознательно, сама не зная, как это случилось, и сердце ее окаменело для всего, чем еще за минуту перед тем радовалось и печалилось; кроме заботы в каждом движении, слове и взгляде представляться не тем, чем она была на самом деле, у нее ничего не осталось ни в уме, ни в сердце. Так продолжалось всю ночь.
Каждый раз, когда собственная воля начинала пробуждаться в ней, Аратов угадывал это и одним взглядом убивал в ней всякую попытку овладеть собой. Уехала она из замка раньше всех по его желанию: без слов, одними глазами, проходя мимо нее с другой женщиной, начертал он ей план действий, которому она и подчинилась. Воспоминание о нем остановило и порыв откровенности, побуждавший ее сознаться во всем пани Анне, когда та стала выставлять ей выгоды брака с Длусским; она оставила ее в заблуждении относительно ее чувств и намерений. Ни за что неспособна была бы она на такое коварство даже несколько дней тому назад, но теперь она себе больше не принадлежала и готова была пойти на всякое преступление по желанию любимого человека.
Все, что он говорил ей, с тех пор как они познакомились на блестящем празднике в Лазенках, где он в первый раз обратил на нее внимание (очевидно, потому, что ее окружала блестящая толпа поклонников, и сам король остановился перед нею, чтобы сказать ей несколько любезных слов), она помнила наизусть. Его голос, выражение лица, улыбки и ласки, на которые он был скуп, — все это не переставало жить в ее сердце, по временам воскресая в ее воображении так живо, что становилось страшно. Невольно припоминались рассказы о дьявольских наваждениях, о роковом влиянии сатаны на предавшиеся ему души.
Юльянию охватывал ужас при этой мысли, она сознавала себя как бы на краю мрачной пропасти, в которую ее втягивала таинственная сила, но отшатнуться назад и вернуться к прежней жизни, без него, она уже не могла, хотя и дрожала всем телом пред неминуемой гибелью, предотвратить которую была не в силах.
Иногда, в редкие минуты просветления, припоминая слова Аратова, Розальская спрашивала себя: что в них особенного? Множество мужчин говорили ей то же самое и в несравненно более лестных и страстных выражениях; многих видела она вне себя от любви к ней, бледных от страсти, готовых на все, чтобы обладать ею. Вот, например, сегодня Длусский. От нее зависело, чтобы он, как влюбленный мальчишка, не дожидаясь благословения родителей и согласия своего могущественного покровителя, связал себя с нею на всю жизнь неразрывными узами. И таких было много, с тех пор как она овдовела. От Аратова же ни разу не слышала она даже признания в любви. Он являлся к ней всегда внезапно и покидал ее, когда она менее всего ожидала этого, не говоря ей, когда к ней вернется. При каждом расставании ей казалось, что они никогда больше не увидятся. Однажды, после довольно продолжительной разлуки, он застал ее в слезах и в тоске по нем и сказал ей с усмешкой: «Не отчаивайся, мало ли что может случиться!» Этого было довольно, чтобы заронить искру надежды в ее сердце, и эта искра мало-помалу разгорелась в убеждение, что он разрушит все преграды между ними и женится на ней. Каждое его слово было для нее полно огромного значения.
С каких пор начал Аратов говорить ей «ты»? Праздный вопрос! Разве она знает, что у него на уме? И разве он когда-нибудь даст себе труд объяснить ей свои намерения и планы? Он взял ее душу и делает с нею все, что хочет.
Почему не берет он ее всю? Разве он не знает, что сопротивляться ему она не станет? А между тем он даже редко целует ее. «Берегу тебя для будущего», — сказал он ей, отвечая на упрек, выразившийся в ее глазах, когда, прильнув губами к ее губам, он тотчас же, как ужаленный, оторвался от них. Что хотел он этим сказать? Какие у него виды на нее? И скоро ли приведет он их в исполнение? Не смела она спросить у него это, хотя и сгорала от желания узнать.
«Осторожнее, сердце мое, мы не одни», — с наслаждением повторяла она слова, не перестававшие звучать в ее ушах, с тех пор как Аратов произнес их, обдавая ее страстным взглядом.
«Если бы он был теперь здесь, мы были бы одни, и никто не видел бы нас! Цецилия предана мне, как собака, и скорее даст себя растерзать на части, чем выдаст меня. Никого бы не пустила она сюда», — думала Юльяния со вздохом.
Как много надо было ей передать ему! Во-первых, она сегодня любит его еще больше, чем вчера… каждый день все больше и больше. Во-вторых, ей очень важно, чтобы он знал, как ей противен Длусский, и что она скорее поступит в монастырь, чем сделается женой этого пана. В-третьих, выслушивая нежности, расточаемые ей посланцем князя Радзивилла, она все время думала об Аратове и представляла себе, какое было бы счастье, если бы вместо Длусского сидел в карете он, ее единственно любимый, и увозил ее на край света.
Вдруг в спальне, перед растворенной дверью которой сидела Юльяния, раздались шаги. Розальская обернулась. Шаги приблизилась, и вошел Аратов. Он был в темном дорожном плаще, в шляпе с пером и в высоких сапогах. Торопливо подошел он к алькову и отдернул драпировку: открылась перемятая постель и подушки, утопавшие в белом батисте и в кружевах.
Как очарованная, смотрела на него Юльяния, не смея ни двинуться, ни вскрикнуть, в страхе, чтобы видение не исчезло, мысленно творя молитву и спрашивая себя, во сне или наяву она это видит. Не успела она решить этот вопрос, как он обернулся, увидал ее и, схватив на руки, понес в спальню, осыпая ее бессчетными поцелуями.
Когда Юльяния очнулась настолько, чтобы мыслить и говорить, Аратов накидывал на себя плащ и брал шляпу.
— Останься… хоть минуту! — чуть слышно проговорила она.
— Нельзя, меня вызвали домой по очень важному делу. Случилась катастрофа. Мы скоро увидимся, — отрывисто ответил Аратов, нахлобучивая шляпу и поспешно направляясь к двери.
— Какая катастрофа? Кто-нибудь умер? — спросила Юльяния.
Этот вопрос заставил его остановиться, обернуться к ней и уставиться на нее пристальным взглядом. Но его глаза были точно стеклянные от внезапной мысли, сверкнувшей в его уме. Буря, поднявшаяся в его душе, отразилась в стиснутых челюстях, и он сделался неузнаваем. Точно невидимый зверь в нем проснулся и выглянул из глубины его души, и зверь этот был ужасен. К счастью, он тотчас же скрылся.
— Может быть, кто-нибудь и умрет, — произнес Аратов раздумчиво. — Во всяком случае без крови не обойдется. Помнишь, я как-то сказал тебе: «Мало ли что может случиться!»? Ну, кажется, мое предчувствие начинает сбываться. Потерпи еще немножко, ждать уже недолго, развязка близка.
С этими словами он вышел, затворив за собою дверь.
Юльяния хотела бежать за ним, умолять его вернуться, но, увидав себя в зеркале, стоявшем в ногах кровати, застыдилась: пеньюар на ней был весь в клочьях, и только распустившиеся волосы прикрывали наготу ее тела. Трепещущей рукой задернула она полог и спрятала пылающее лицо в подушки.
XIII
Аратов очень торопился домой; однако, как ни сокращал он остановки для ночлега и отдыха лошадей, раньше как к вечеру третьего дня по выезде из Тульчина, он не мог доехать со своей свитой (в числе которой был и тот парень, которого послали к нему с роковым известием из Малявина) до местечка, где надо было в последний раз покормить лошадей и поесть людям до приезда домой.
В этом поселке, бойком торговом центре, его знали хорошо, и едва успел он подъехать к корчме, как под окнами просторной горницы с каменным полом и низким потолком загудела толпа местных жителей, поспешивших сюда в надежде поживиться от богатого помещика. Хозяин корчмы, низко кланяясь и уснащая свое приветствие высокопарными эпитетами, величая Аратова то графом, то князем, тоже назойливо предлагал ему свои услуги:
— Может, его сиятельство желает ужинать? Могу предложить его светлости таких угрей и форелей, каких у самого князя Радзивилла не подают. У поставщика пана Борейки перекупил, точно предчувствовал приезд дорогого гостя. Есть также у меня доброе вино из погреба ясновельможного пана Сапеги, нарочно для вашей милости три бутылки старого венгерского у его поссесора выпросил.
— Выгони из-под окон всю эту сволочь! — прервал его Аратов, опускаясь на диван, обитый потрескавшейся кожей, и протягивая ноги Езебушу, чтобы тот снял с него сапоги и заменил их туфлями, вынутыми из дорожной кисы.
Хозяин поспешно вышел исполнять приказание, и, когда гул голосов удалился, его ухмыляющееся лицо снова появилось в дверях.
— Гони его вон, я спать хочу. Ужина не надо. А вы там поторапливайтесь, чтобы нам засветло пуститься в путь, — и, дав приказание Езебушу, Дмитрий Степанович подложил под голову кожаную подушку, вместе с туфлями вынутую из дорожной кисы, и растянулся на диване.
Езебуш подошел к двери, и принялся энергично выталкивать хозяина корчмы, который упирался, уверяя, что у него есть такое угощение, от которого пан Аратов не откажется.
— Раки крупные, ай какие крупные и хорошие!
— Про каких раков он толкует? Откуда здесь раки? — полюбопытствовал Аратов, знавший, что в пересохшей речонке, орошавшей это местечко, водятся одни только лягушки.
— Из Днепра, ваши русские раки, ваше сиятельство, воробьевские, — поспешил заявить корчмарь, пользуясь удобным случаем снова просунуть голову в дверь, за которую он не переставал цепляться.
Аратов порывистым движением поднял голову с подушки. Спать ему уже не хотелось.
— Кто отсюда ездил в Воробьевку? — спросил он.
— Майзль. Сейчас оттуда вернулся.
«Зачем Майзлю было ездить туда?» — подумал Аратов.
— Пошли его сюда! — прибавил он вслух и, вскочив с дивана, стал большими шагами прохаживаться по горнице, обуреваемый роем самых неожиданных мыслей, или, лучше сказать, обрывков мыслей.
Минуты через две Езебуш вернулся с толстым евреем с золотыми часами на толстой цепочке и с бриллиантовыми перстнями на пальцах.
Майзль, один из богатейших ростовщиков в стране, был известен тем, что во всякое время мог ссудить какую угодно сумму вечно нуждавшимся в деньгах помещикам.
— По какому делу ездил ты в нашу сторону? — спросил его Аратов, садясь на диван.
— Позволю себе доложить ясновельможному, — начал Майзль с низким поклоном, — отправился я в Воробьевку по приглашению самого господина Грабинина, который, как вашей милости известно, изволил приехать из Санкт-Петербурга в свое имение.
— Для чего ты ему понадобился?
Прежде чем ответить на предложенный вопрос, Майзль красноречиво посмотрел на Езебуша, и тот по знаку барина вышел из горницы.
— Им деньги очень нужны, — произнес ростовщик, приподнимая брови и таинственно понижая голос.
— И много ему надо денег? — осведомился Аратов.
— Много… ой как много! Пять тысяч червонцев, — произнес Майзль благоговейным шепотом.
— Вот как много! И ты эту сумму достанешь ему? Да? А какие сдерешь с него проценты?
— Да зачем мне брать с господина Грабинина большие проценты, когда он мне дает в залог Лисичью пустошь!
— Лисичью пустошь? Да там весь лес мачтовый!
— Мачтовый, мачтовый, — повторил Майзль с блаженной улыбкой. — Ему очень нужны деньги и скоро. А кто же может здесь скоро достать деньги? Один только Майзль, никто больше.
«На что ему нужны спешно деньги?» — замелькал в голове Аратова вопрос.
— Уезжать, верно, отсюда вскоре сбирается? — спросил он.
— Да, да, уезжает, далеко уезжает; просил меня прислать из Киева самого лучшего слесаря, чтобы дорожную карету осмотреть. Хорошая карета! Я бы за нее сейчас триста червонцев дал. Но господин Грабинин и за две тысячи не продаст: она ему теперь очень нужна, — со вздохом вставил Майзль.
— А куда едет Грабинин? Ты не знаешь? — обратился к нему Аратов. — В Москву или в Петербург?
— Нет, кажется, за границу. Я слышал, как он говорил своему управителю, что в Пруссии за карету бояться нечего, там дороги исправные, не то, что здесь. ч
«В Пруссию! За границу! И так внезапно собрался! Давно ли просил о продлении отпуска, чтобы заняться хозяйством и сменить управителя, а теперь этот самый управитель ему и деньги нашел, и об осмотре дорожного экипажа хлопочет».
Зародившееся у Аратова подозрение начинало принимать все более и более определенную форму, но до уверенности еще не доходило, хотя и было близко к ней.
Отпустив Майзля, от которого узнать было больше нечего, Дмитрий Степанович вышел на крыльцо и позвал того парня, которого прислали к нему с известием об исчезновении Елены. Это был юноша лет восемнадцати, внучатый племянник Ипатыча, приставленный к последнему помощником. Находясь постоянно в барских хоромах, он должен был знать, что там происходило после отъезда барина, и Аратов стал допрашивать его, заставляя припоминать подробности как этого дня, так и следующего, а именно: кто видел молодую барыню и говорил с нею перед тем как она исчезла, в какое время она легла спать, когда вышла от нее Настя, что Настя говорит, в котором часу уехал Грабинин, предлагали ли ему завтракать, спрашивал ли он о старой барыне, что приказал передать ей, и проч., и проч.
Посланец повторил то же самое, что и при первом допросе, когда передавал барину поручение Ипатыча в тульчинском замке, но каждое его слово принимало в глазах его слушателя особое значение: Дмитрий Степанович находил в нем подтверждение своих подозрений.
Грабинин приехал в Малявино рано — часа за два до обеда по крайней мере. К бабушке его тотчас не пустили — она показываться гостям в дезабилье не любит. В это самое время Елена унесла из флигеля ребенка и могла пробежать с ним кратчайшим путем мимо балкона. После обеда Грабинина надолго оставили одного в библиотеке писать письмо в Петербург, которое отправили с нарочным; за посылку он хотел сто рублей дать, так обрадовался случаю подольше здесь пожить, и вдруг такая перемена! С чего это? Только от безумно и внезапно влюбившегося можно ждать таких перемен в настроении. В библиотеке он провел один по крайней мере часа два. Никто за ним не подсматривал и не может сказать, что делал он все это время. А после отъезда хозяина дома он провел у них целую ночь. Уехал он много раньше, чем предполагал накануне, не дождавшись пробуждения старой барыни, которая так обласкала его и которой он, по-видимому, был так благодарен за советы, что принялся немедленно действовать по ее указаниям. А что изменил он свое намерение до выезда из Малявина, а не по возвращении домой, доказательством служит его поспешность покинуть дом, из которого он накануне вовсе не торопился выехать. Что в эту ночь случилось такого, что заставило перевернуться вверх дном все его планы? Никто к нему из Воробьевки не приезжал с письмами или с какими бы то ни было вестями, и он даже не догадался пожаловаться на болезнь, чтобы объяснить такую перемену в мыслях. Во всяком случае познакомиться с Еленой у него было достаточно времени, несколько часов в продолжение дня и целую ночь был он предоставлен самому себе. Они могли встретиться в саду и в заброшенных покоях в доме, куда никогда никто даже и днем не заглядывает, а ночью и подавно. Одним словом, возможность познакомиться у них была, а также выслушать ее жалобы на мужа и влюбиться в нее. Разве он, Аратов, не влюбился в Елену с первого взгляда, даже не слышав ее голоса? А в тот день она была под впечатлением угроз своего тирана, в тоске и в страхе от ожидания доктора и разлуки с детьми. Женщину в таком настроении можно уговорить на что угодно. Предложи ей Грабинин вместо бегства с ним яду, она выпила бы его, не задумываясь. К тому же Грабинин молод и красив, что же мудреного, если она решилась вверить ему свою судьбу? Обстоятельства сложились для нее так, что скорее можно было бы удивляться, что этого не случилось. Бабушка была права, советуя не доводить Елену до отчаяния. Он довел ее до отчаяния. Не надо было говорить ей о том, что он хочет сделать с нею. Людям на свободе таких вещей не говорят, если не хотят, чтобы они бежали от опасности или лишили себя жизни.
Все это так просто, что и без разговора с Майзлем можно было бы додуматься до этого. Сколько раз сам он обводил таким образом мужей чужих жен и потом смеялся над их недальновидностью! Пришла очередь над самим собою посмеяться. Это не так забавно, но он сам виноват. Надо было все предвидеть и каждого человека, даже такого дурака, как Грабинин, считать способным на хитрость и ловкость, когда им руководит страсть. Всему причиной Юльяния! Он так увлекся ею, что поглупел. Хорошо, что только на время.
Однако положение осложнялось новыми открытиями, и надо было пустить в ход все мыслительные способности, чтобы распутаться в нем и действовать так, чтобы впоследствии не каяться.
Представлялось два исхода: первый, самый легкий, прямой и простой — наехать с вооруженной челядью на усадьбу Грабинина, убить его, найти Елену и привезти ее в Малявино, а затем хлопотать о разводе, в чем после случившегося на будет отказа. Но начнутся следствие, допросы, расспросы, многое трудно будет скрыть, на многое взглянут косо, придется тратиться на подкупы, взятки, поездки в Петербург, и сколько пройдет месяцев и даже лет, прежде чем ему можно будет продолжать затеянные дела и жениться на Розальской!
Аратов решил поступить иначе, оригинальнее и во всяком случае целесообразнее. Собственно, что ему было надо? Навсегда развязаться с Еленой как можно скорее, без шума, скандала и по возможности без больших затрат, но так, чтобы она была жестоко наказана за свою измену, а также и ее похититель. И он их накажет так, что они до гробовой доски будут помнить и проклинать его.
Придуманный Аратовым план был очень сложен, и нелегко было исполнить его, но такого рода комбинации были в его вкусе, а препятствия только разжигали в нем энергию и изворотливость ума. Когда через несколько часов он доехал до Малявина, план его окончательно созрел, и все подробности были так хорошо обдуманы, что оставалось только идти по намеченному пути, ничем не смущаясь и ни перед чем не останавливаясь. Успех казался несомненным.
XIV
Шестые сутки провела Елена в подвальном помещении в развалинах старого дома, с маленьким оконцем в уровень с землей, так густо поросшей травой, что со двора, на который оно выходило, заметить его не было возможности. Проникнуть же в это убежище можно было только по лестнице, проделанной в стене комнаты, служившей некогда спальней старому барину.
По словам Андрея, предложившего это убежище, никто в селе не подозревал о существовании его. Тут была прежде кладовая для вин с выходом в другие подвалы, но старый барин приказал заделать его и устроить потайную лестницу в стене своей спальни, по которой можно было проникать в бывшую кладовую никем не замеченным. Это было сделано для того, чтобы в случае опасности скрыть от всех ту полячку, которую он увез от мужа. Но, когда опасность наступила, эта возлюбленная старого барина не захотела пользоваться этим убежищем и предпочла последовать за людьми, присланными за нею, чтобы вернуть ее на родину.
Елена беспрекословно подчинилась всем требованиям своего освободителя и, хотя встречала его каждый день с заплаканными глазами, тщетно стараясь скрыть мучительные чувства, не перестававшие волновать ее перед страшной неизвестностью и при мысли о детях, но на вопрос Грабинина, не раскаивается ли она, что доверилась ему, она, не задумываясь, отвечала, что другого исхода у нее не было, что у мужа ей грозило несчастье много хуже смерти и что она ничего так не желает, как доказать свою преданность и благодарность своему избавителю.
Преданность и благодарность — ничего больше!
Питала ли она к Грабинину еще и другое чувство, хотя бы сколько-нибудь отвечавшее на его страстную и с каждым днем усиливавшуюся любовь, он не знал. Да и сама Елена без сомнения испугалась бы этого вопроса, если б кто-нибудь позволил себе предложить его ей. К счастью, предлагать ей такие вопросы было некому: кроме Маланьи, являвшейся к ней по несколько раз в день для услуг и не осмеливавшейся вступать с нею в разговоры, да Владимира Михайловича, Елена никого не видела; а Грабинин относился к ней почтительно, старательно избегал малейшего намека на то, что чувствовал к ней, боялся поколебать ее доверие к нему, как к покровителю и другу, посланному ей судьбою в такую минуту, когда ей казалось, что некому заступиться за нее!
Он достиг желаемой цели: с каждым днем, с каждым часом Елена дичилась его все меньше и меньше и бессознательно раскрывала перед ним свою чистую душу.
О как дорожил он ее доверием и откровенностью! Как он был счастлив, когда ему стало казаться, что он ей дорог и что жить вдали от него ей будет так же нестерпимо тяжело, как и ему — без нее!
О том, как устроится их дальнейшая судьба, они никогда не говорили между собою, и в присутствии Елены Грабинин даже старался не думать об этом; ее голос и взгляд милых глаз так обаятельно действовали на него, что тревогам и опасениям не находилось места в его сердце, переполненном восторгами любви. Но когда он оставался один, боязнь потерять Елену овладевала им с такою силой, что он доходил до отчаяния, и Андрею стоило немалого труда удерживать его от безумных поступков, которыми он мог погубить и себя, и Елену. То рвался он навстречу сопернику, чтобы вызвать его на дуэль, то решался бежать с нею за границу, не дожидаясь возвращения Аратова, которому, может быть, уже все известно и который каждую минуту может ворваться в старый дом с вооруженными людьми и, убив его, увезти свою жену на новые истязания.
Когда эта мысль западала Грабинину в голову, он умолял Андрея немедленно увезти Елену в Киев и поручить ее игуменье какого-нибудь монастыря, причем заставлял его клясться, что в случае его смерти он будет заботиться о ней, как о родной дочери, и спасет ее от злодея, хотя бы для этого надо было истратить все состояние, которое останется после барина.
Андрей, насколько мог, успокаивал его, увещевал вооружиться терпением. Об Аратове им ничего не известно, он еще не вернулся домой и по всей вероятности не подозревает о том, где его жена. Прежде чем готовиться к смерти от его руки, надо позаботиться о том, чтобы по мере сил и возможностей отразить нападение. Найдутся и у них приспешники, если нагрянет беда. В случае надобности можно и к лесным друзьям обратиться за помощью — они не откажут, и неизвестно еще, кто одолеет в борьбе: малявинские — воробьевских или воробьевские — малявинских.
Спокойствие и бодрость духа Андрея на время успокаивали Граби-нина. Любо ему было мечтать о кровавой стычке с мучителем своей возлюбленной, но еще охотнее останавливался он на мысли о поединке. В случае благоприятного исхода, никто уже не мог бы отнять у него Елену, и счастью его не было бы предела.
А если победит Аратов? Смерти Владимир Михайлович не боялся, но мысль оставить Елену без защитника леденила ему кровь в жилах.
Невзирая на протест Андрея, он написал духовное завещание, в котором, между прочими распоряжениями, касавшимися любимой женщины, давал своему управителю вольную и делал его своим душеприказчиком. К этому завещанию он приложил письмо к графу Григорию Орлову, которого умолял сжалиться над несчастной жертвой хорошо известного ему озорника и негодяя Аратова. Если б так случилось, что он, Грабинин, будет убит, Андрей, предварительно отвезши Елену в монастырь, должен был с этим письмом и завещанием скакать в Петербург и там умолять графа о помощи против злодея.
Андрей не прекословил барину, но продолжал деятельно готовить все к более удобной развязке: хлопотал о деньгах и об экипаже, в то время как его жена перешивала платье своего брата-семинариста, гостившего у них на каникулах в Воробьевке, для молодой барыни. И муж, и жена молили Бога, чтобы приезд Аратова задержался на несколько дней и чтобы он приехал уже тогда, когда влюбленные будут далеко.
Ждать оставалось всего только двое суток: Майзль обещал привезти деньги в пятницу, а наступила уже среда, но Грабинин был в таком волнении, что по целым ночам не спал, при малейшем шорохе срывался с места и хватался за оружие, чтобы отразить воображаемого врага. Увещевания Андрея уже не действовали, и его барину становилось невмочь скрывать свое волнение и от Елены, так что, когда она предложила ему прогуляться по парку перед заходом солнца, первым его движением было отказаться: так опасно казалось ему даже на несколько шагов отходить от старого дома. Но вечер был в тот день так чудно хорош, воздух так душист и тепел, а кругом царила такая благодатная тишина, что Грабинину жаль стало лишать ее удовольствия побродить с ним по старому парку, и он решил дойти с нею до группы старых лип, покрытых пучками желтых ароматных цветков, на которые она с вожделением глядела из оконца своего убежища.
Они вышли из старого дома и начали медленно пробираться между спутанными ветвями деревьев, завязая в густой траве и в мелком кустарнике, беспрестанно оглядываясь назад в страхе отойти слишком далеко от места, где можно было считать себя в безопасности. Вдруг Грабинину почудилось шуршание листьев под чьими-то ногами, и он остановился, чтобы прислушаться. Шорох смолк, но Владимир Михайлович продолжал стоять неподвижно, напряженно всматриваясь в зелень, сверкавшую в заходящих лучах солнца.
Елена хотела сказать ему, чтобы он успокоился, что никто не проникнет сюда, что Андрей с женой зорко стерегут их, но, взглянув на него, сама побледнела от страха, и слова замерли у нее в горле, — так был бледен Грабинин и таким зловещим блеском сверкали у него глаза.
До его ушей опять начал доходить роковой шорох: шаги то приближались, то отдалялись. Тысячи предположений, одно другого ужаснее, вихрем проносились в мозгу Владимира Михайловича. Аратов все узнал, прискакал сюда. Андрей, может быть, уже убит, и сейчас убийца его предстанет перед ними, конечно, вооруженный, а отразить его нечем! Нечем защитить доверившуюся ему женщину!
— Бегите… оставьте нас вдвоем… Господь мне поможет… Бегите скорее, ради Создателя! — шепнул он прерывающимся голосом, указывая Елене на развалины дома, белевшего шагах в двухстах от того места, где они остановились.
Но она бессознательным движением существа, ищущего защиты, прижималась к нему все ближе и ближе.
Оттолкнуть ее, расстаться с нею в эту минуту, когда смерть была к ним так близка, что он уже ощущал ее ледяное дыхание, было нестерпимо больно, тем не менее, невольно прижимая ее к своей груди, он дрогнувшим голосом повторял:
— Да бегите же, умоляю вас! Я убью его. А если он убьет меня, доверьтесь Андрею; он отвезет вас в монастырь, вы там будете в безопасности, и я умру спокойно… Я люблю вас, безумно люблю как невесту, как будущую жену… Не забывайте меня, молитесь за меня.
Молчать, скрывать дальше свое чувство Грабинин был уже не в силах, и ему казалось, что хуже несчастья, как умереть, не высказав Елене своей любви, для него ничего не может быть.
— Я тоже люблю тебя… Умрем вместе, — чуть слышно прошептала она, взглянув на него с такою решимостью, что вне себя от счастья он забыл все на свете и крепче прежнего сжал ее в своих объятиях.
— О милая, как я счастлив! Да-да, умрем вместе, если Богу не угодно, чтобы мы жили вместе! — воскликнул Грабинин вне себя от восторга.
А между тем тот, кто искал их, напал наконец на их след: кусты перед ними раздвинулись, и между ними появилось взволнованное лицо Андрея.
— Надо собираться в путь, сударь, у меня тут и лошадь с тележкой, я вас сам отвезу в надежное место. Так обернулось дело, что до субботы ждать опасно, — торопливо проговорил он, а затем, обращаясь к Елене, прибавил, подавая ей узел, находившийся у него в руках: — Извольте скорее переодеться, сударыня. Малаша дожидается вас в старом доме и поможет вам собраться в путь.
Елена беспрекословно взяла узел и побежала в дом.
— Что случилось? Он приехал? Где? Ты мне принес, чем убить его? — воскликнул Грабинин, в своем волнении не замечая смущения Андрея.
— Христос с вам, сударь! Зачем вам лишний грех брать на душу? Бог даст, и без смертоубийства обойдется, лишь бы вам сегодня к ночи до надежного места добраться. Есть у меня человечек в лесу; он и совет хороший может дать, и паспорт достанет. Я вас к нему отвезу, а сам, вернувшись назад, вместе с людьми карету вам уже прямо в Киев отправлю и прикажу им там у другого моего приятеля на постоялом дворе дожидаться. И деньги придется тоже в лесу взять. Такое вышло дело, что Майзля нам ждать невозможно, — продолжал он распространяться, не замечая или не желая замечать недоумения, с которым слушал его Грабинин, тщетно старавшийся понять смысл его слов. — Теперь нам как будто наезда из Малявина опасаться нечего, но с таким мудреным барином, как Дмитрий Степанович, осторожность соблюдать не мешает. Вишь ведь, какую злую и грешную штуку придумал! Я, сударь, сказал его посланцу, что вашей милости уже второй день дома нет, в город, говорю, по делу изволили уехать продажную на лесную пустошь совершать.
— Кому ты сказал это? Для чего Аратов ко мне присылал? Кого? Знает он, что Елена Васильевна здесь? — забеспокоился Грабинин.
— Дмитрий Степанович приехали в Малявино еще вчера в ночь и сегодня прислали объявить вашей милости, что у них несчастье случилось, — нерешительно начал объяснять Андрей.
— Какое несчастье?
— Да уж не знаю, как и доложить вашей милости: они приказали всех оповестить, что супруга их скончалась.
— Елена? Он говорит, что она умерла?
— Точно так-с, послезавтра похороны.
Наступило молчание. Грабинин во все глаза смотрел на собеседника, усиливаясь понять, что с ними обоими делается: бредит ли Андрей, не сошел ли с ума, или сам он лишился рассудка?
На эти вопросы ответа не находилось. Андрей казался более смущенным, чем испуганным, и глядел на барина с состраданием, как на человека, который еще не может понять всю важность обрушившегося на него несчастья.
— Они, сударь, вздумали из своей супруги живую покойницу сделать. Похороны на послезавтра назначили. Уж кого они вместо ее в гроб положат и отпевать станут, — кроме самых близких к ним, поляка Езебуша да еще, может быть, двух-трех, никто не знает, а кто и знает, так не скажет. Сделали бедную молодую барыню хуже последней сироты — с белого света совсем, значит, ее выжили! — прибавил Андрей с печальным вздохом. — Не живая и не мертвая она теперь. Зовут уже ее покойницей и послезавтра хоронят… Гостей на похороны ждут много. От нас посланец к господам Патрикеевым поскакал, оттуда махнет за реку к Полянским… Похороны богатые хотят справлять, с двумя попами, с певчими. Столы будут для народа строить, нищих кормить, чтобы, значит, поминали покойницу.
Покойница! Но ведь она жива… сейчас была тут с ним. Грабинину так захотелось видеть Елену, убедиться, что не она умерла и не ее будут хоронить послезавтра в Малявине, что он машинально обернулся к дому, из которого выходил молоденький семинарист в нанковом сером халате, черном высоком галстуке и с шапкой в руке. Короткие волосы и странное одеяние так изменили Елену, что он не вдруг узнал ее.
— Можно, значит, пуститься в путь? — спросил Андрей и, не дожидаясь ответа, побежал за лошадью с тележкой, которую оставил у входа в парк.
— Малаша понесла в тележку узелок с моим добром, — сказала Елена со смущенной улыбкой. — Немного его у меня. Дмитрий Степанович взял меня бесприданницей, а теперь я должна была лишиться и своих кос. Их надо было срезать, чтобы они нас не выдали.
Грабинин смотрел на нее с тревогой и с безотчетной тоской, спрашивая себя: «Как сообщить ей о том, что с нею сделали? Сумею ли я успокоить ее? Примирится ли она когда-нибудь со странным положением мнимоумершей? Не придет ли она в отчаяние и не захочет ли умереть на самом деле?»
— Нам предстоит далекое путешествие, — продолжала Елена, помолчав, и точно угадывая его мысли. — Оставаться на родине мне нельзя — нельзя встречаться с теми, кто знал меня живой и послезавтра будет провожать мой гроб в могилу.
— Так вы знаете? — вскрикнул Владимир Михайлович, озадаченный ее спокойствием.
— Знаю. Мне сказала Малаша. Я не испугалась и не удивилась. После того, что я вынесла и что ждало меня в будущем, ничто не может испугать меня. Дмитрий Степанович прав: ни винить его, ни роптать на него я не могу. Разве я не умерла как для него, так и для всех, кто знал меня его женой? Жива я только для вас, — прибавила она, краснея и стыдливо опуская глаза.
Грабинин слушал ее с восхищением. Каждым своим словом она все больше разъясняла ему его недоумение и заставляла понимать смысл всего случившегося. Как чутко угадала она сердцем то, что не мог он постичь умом! Не Аратов, а он, Грабинин, прервал связь между нею и миром; не Аратов, а он заживо похоронил ее, вырвав из дома мужа. Но она была права, утверждая, что страшиться ей нечего и что ничего нового для них не произошло. Елена Васильевна Аратова умерла для света не теперь, а с той минуты, как решилась последовать за чужим человеком, и жива только для него, ни для кого больше.
Они вступали в новую, неведомую жизнь, полную таких затруднений и опасностей, о которых нельзя было заранее составить себе никакого представления, и единственной поддержкой должна им служить любовь. Сжалится ли над ними судьба и окажется ли милосерднее людей, — должно было показать будущее, а в эту минуту, пускаясь в путь к дремучему лесу, где новая их жизнь должна была начаться знакомством с таинственным приятелем Андрея, они испытывали то, что должен испытывать человек, который, спасаясь бегством от смертельной опасности, кидается в темную пропасть, не зная, что именно ждет его на ее дне — гибель или спасение.
XV
Недаром говорил Андрею посланец из Малявина, что у них готовятся богатые похороны.
Если Аратов задался целью как можно дальше и громче разнести весть о внезапной кончине своей жены, то достиг этого вполне. В назначенный день издалека стал стекаться народ всякого звания и состояния, приехали богатые господа оказать внимание влиятельному соседу, притащились издалека и пешком крестьяне помянуть покойницу сытным обедом, а перед тем полюбоваться обитым золотой парчой гробом, в котором молодая барыня лежала разодетая в роскошный подвенечный наряд, с головою окутанная в густые складки белого крепового савана, среди зажженных свечей, горевших так ярко и в таком множестве, что даже дневному свету нельзя было затмить из блеск.
День был пасмурный и моросил дождь. Под звучное пение певчих, привезенных из Киева, гроб понесли из барских хором к церкви, стоявшей на горе, в конце парка, за полверсты от барской усадьбы.
Здесь начали покойницу отпевать, прежде чем опустить в склеп рядом с гробницами родителей ее мужа. Многие плакали, и особенно убивалась ближайшая прислужница молодой барыни, Настя. Ревела и Анелька, идя за гробом рядом с кормилицей, несшей маленькую барышню, позади убитого горем барина, который вел за ручонку сына. Дмитрий Степанович был так бледен и имел такой удрученный вид, что не мог не возбуждать сочувствия. Сынишка же его был слишком мал, чтобы понимать несчастье, и с недоумением озирался по сторонам, как бы отыскивая в толпе кого-нибудь, кто объяснил бы ему значение происходившей вокруг него странной церемонии.
Когда наступила минута прощания с покойницей, Аратов первый приложился к потемневшей руке, лежавшей поверх савана, а затем поднял сына, чтобы и его пригнуть к этой руке, но ребенок, точно внезапно поняв в чем дело, с таким пронзительным криком откинулся назад, что отец поспешил передать его на руки одному из стоявших позади его людей.
По странной случайности этот человек оказался воробьевским управляющим, явившимся сюда одним из первых, чтобы отдать последний долг молодой барыне как представитель своего барина, задержавшегося в Киеве.
У Андрея был очень представительный вид; в новом черном кафтане из тонкого сукна он по солидности осанки и смелости обращения и речи казался настоящим купцом. С Дмитрием Степановичем ему не удалось говорить, но Езебуш, через которого он передал причину, помешавшую его барину лично приехать засвидетельствовать свое уважение и соболезнование соседу, не мог не заметить перемены, свершившейся в во-робьевском управителе, и он в недоумении спрашивал себя: с чего это он набрался такого гонора, что никого выше себя не считает? Прет прямо на место, отведенное для господ, и со всеми говорит со смелостью свободного человека! Вольную, что ли, барин дал ему?
Высоко держа голову и отвечая покровительственными кивками на поклоны расступавшейся перед ним толпы, Андрей без труда пробрался в среду господ и очутился ближе всех к Дмитрию Степановичу, когда последний, раздосадованный криком ребенка, не оборачиваясь, передал его в первые руки, протянувшиеся, чтобы взять его. Мальчик успокоился, и печальная церемония ничем больше не нарушалась.
При громком пении гроб, поддерживаемый вдовцом и почетнейшими гостями, понесли в склеп. За ним последовали ближайшие слуги, а Андрей, передав барчука Насте, остался на паперти с народом, среди которого толпились монахи и монашенки из окрестных монастырей.
Начали завязываться разговоры. Пришедшие издалека расспрашивали ближних о подробностях печального события, и Андрей узнал, в каком именно виде приказано было домашним представлять посторонним катастрофу, внезапно обрушившуюся на малявинскую усадьбу. Молодая барыня была порченая. Никогда не оставляли ее одну, но на этот раз недосмотрели, думали — она почивает, а она поднялась чуть свет, и никто не видел, как она вышла в сад. Там с нею случился припадок, ее нашли в глубоком обмороке, и, что ни делали, чтобы привести ее в чувство, ничто не помогло. Так и скончалась она, не открывая глаз, на руках супруга, при докторе, которого для нее же раньше выписали из Варшавы.
События были так ловко перепутаны, что, казалось, сами рассказчики верили в то, что повторяли по чужому приказу. Особенно настойчиво распространялись слухи относительно обезображенного личика молодой барыни.
— Почернела вся, страшно было смотреть на нее. Барин, как увидал ее сегодня, даже руками всплеснул и приказал саваном ее с головкой укутать, чтобы народ не пугался. А какая она у нас была красавица! Белая да румяная, глаза с поволокой, волосы до пят! Улыбнется — рублем подарит.
— Ловко обставили дело! — произнес у самого уха Андрея знакомый голос.
Он обернулся и узнал своего лесного приятеля в старом крестьянине, который вместе с ним прислушивался к разговорам в толпе. На нем была темная свитка, мохнатая баранья шапка, надвинутая по самые брови, за плечами котомка и суконная толстая дубина в руке.
— Зачем ты здесь, батька? — с удивлением спросил Андрей.
— А затем, чтобы это новое кощунство не прошло даром Дмитрию Степановичу Аратову, вот, — ответил тот, которого называли монахом. — Пойдем восвояси, Иваныч — я к себе в лес, а ты — в Воробьевку, — продолжал он, повертывая в боковую аллею к выходу из парка. — Что нужно было видеть и слышать, мы с тобою видели и слышали, теперь пока нам с тобою делать здесь нечего.
Андрей последовал за ним, и вскоре они скрылись из вида. Впрочем, народу не до того было, чтобы замечать их отсутствие: из склепа выходил Дмитрий Степанович в сопровождении священника и гостей, все глаза устремились на его бледное лицо с крепко стиснутыми губами и растерянным, как у человека, удрученного печалью, взглядом.
Похороны кончились. После поминального обеда все посторонние разъехались и разошлись, а барин удалился в кабинет и приказал позвать Езебуша.
— Ну что? — отрывисто спросил он, не глядя на вошедшего, который, притворив за собою дверь, остановился на пороге.
— Все хорошо-с. Прислушивался к разговорам, ни единого гнилого слова ни от кого не услышал.
— За Андрюшкой следил?
— Как же-с! Все время он, выжига, к вашей милооти поближе подбирался. В церкви стал с господами. Вы изволили ему барчука на руки передать, когда они расплакались.
— Да, я это уже после заметил, когда он с ним на паперть вышел. Но куда он потом девался? Когда мы из склепа вышли, его уже не было в толпе.
— Ушел с каким-то стариком в крестьянской одежде в парк и больше не появлялся. Лошадь свою оставил у мельника и сюда пешком пришел.
— Что сказал он тебе еще, кроме того, что ты мне передал? Припомни хорошенько.
— Ничего больше не говорил. Хотел было я после службы к нему подойти, а от него и след простыл.
— Ну ступай! Да не зевать! Надо, чтобы я в первое время знал все, что будут думать и болтать в Малявине и по соседству. Найди предлог в Воробьевку съездить.
— Предлог уже есть! Надо у них жеребят на племя купить. Я намедни говорил с управителем.
— А не толкуют в народе об том, что Грабинин так вдруг милостив стал к Андрюшке? Не дивятся этому?
— Как не дивиться! Болтают даже, будто он ему вольную дал. Да это, поди, враки. А одежда хорошая у него и раньше была. Большущий сундук с одеждой им покойный дядя оставил, да опасались носить до сих пор, ну а теперь посмелее стали, — заметил Езебуш с усмешкой.
— А наше дурачье, что болтает?
— Все больше о том, что ваша милость до сих пор со старой барыней не изволили видеться.
— Пусть успокоятся. Сейчас к ней пойду. Прикажи принести детей на ее половину.
Несколько минут спустя, Аратов вошел в спальню старухи, ведя за руку сына, в сопровождении кормилицы с маленькой барышней.
— Привел вам моих сирот, бабушка, — сказал он, целуя ее руку и приподнимая мальчика, чтобы и он сделал то же самое. — Прошу вас заняться ими по вашему усмотрению, — продолжал он, в то время как она смотрела на него пытливым взглядом и с обычной саркастической усмешкой на ввалившихся губах. — Извольте выбрать им нянюшку из приближенных, кого пожелаете; я вмешиваться в это не буду.
— Что так? Нехороша, что ли, оказалась Анелька?
— Анелька проводит здесь последнюю ночь. Завтра мы ее так далеко отправим, что вы никогда о ней не услышите. И эта также скоро здесь не будет нужна, — указал он на кормилицу, с тревогой следившую за изменениями в личике своей барышни, которая, не спуская испуганных глазенок со страшной бабушки, надувала губенки с явным намерением разреветься, в то время как братишка ее с недетским выражением в глазах глядел на отца, прислушиваясь к непонятному для него разговору, решавшему их судьбу. — Крестницу вашу пора отнять от груди, чтобы она скорее ума набралась, — продолжал Дмитрий Степанович, озадаченный молчанием своей слушательницы. — Если бы вас не было, я отвез бы их в Москву, к тетушке Варваре Платоновне.
— Это ты успеешь сделать, когда я протяну ноги. Варвара от тебя не уйдет. Она всегда рада поживиться чужим добром под тем видом, что благодетельствует родичу, а, пока я жива, таскать детей по чужим домам не для чего, когда у них свой есть. Эй, кто там? — крикнула старуха, хлопая в ладоши. — Уведи их пока в красную гостиную, я потом распоряжусь, где их поселить и кого к ним приставить, — сказала она появившейся в дверях Дарье, указывая движением головы на кормилицу с детьми. Затем, оставшись наедине с правнуком, который сел в кресло у кровати, она спросила с усмешкой: — Ну, что ты мне скажешь новенького, фокусник?
— Нового много, бабенька. Предлагают мне знатную службу при нашем посольстве, если я помогу Репнину забрать в руки поляков, а воевода киевский подманивает меня блестящими предложениями от имени короля, чтобы, значит, их руку тянуть на конфедерации. Вот и разрывайся тут, как знаешь!
— А жениться когда думаешь?
Аратов вспыхнул от досады, но, сдержав себя, печально ответил, что странно говорить о женитьбе с человеком, только похоронившем жену.
Однако Серафима Даниловна не расположена была удовлетвориться таким уклончивым ответом.
— Перестань юлить, меня не проведешь! — сердито заметила она. — Не будь у тебя на уме бабы, не отважился бы ты на такое опасное кощунство. Сам должен понимать, чем твоя новая проказа пахнет! Всплывет как-нибудь наружу — Сибири тебе не миновать.
— А если так страшно, для чего же вы так громко говорите об этом? — возразил он. — Это — такое дело, что, чем меньше разговаривать о нем, тем лучше. Словами теперь все равно не поможешь и ничего не переделаешь. Из малолетков я давно вышел, своим умом живу и за все свои грехи — один я ответчик, — произнес он по виду спокойно, но с таким выражением на побледневшем от сдержанного гнева лице, что старуха прекратила свои ядовитые намеки.
— Ты вот как? Хорошо, ни слова больше ты от меня о твоем кощунстве не услышишь.
Опять это слово! Как ножом, резнуло оно Аратова по сердцу.
— Что же мне было делать, по-вашему? Убить их обоих? — глухо спросил он. — Кому бы от этого легче было?
— Ладно, ладно, у тебя свой ум, а у меня — свой. Который лучше — покажет время. Шел на беду — со мной не советовался, нечего, значит, об этом и толковать. А только должна я предупредить тебя, что если ты вздумаешь ко мне привезти твою полячку-папистку…
— Никогда я ее к вам не привезу, не беспокойтесь. Вскоре я должен ехать в Варшаву. У меня там много дел затеяно, и дом уже нанят. Долго там придется прожить, вплоть до зимы. Наезжать сюда нам не рука; если что будет нужно, можете прислать за мною человека с письмом.
— Все время собираешься оставаться в Польше?
— Не знаю еще; может, придется и дальше в чужие края махнуть. У меня и там завелись друзья, которые в нужде не выдадут.
— Пока я жива и хозяйством твоим заправляю, нужды тебе не видать, — заметила старуха.
— Знаю, бабенька. Детей в полную вашу волю предоставляю, как хотите, так и воспитывайте. Имение всегда было ваше, а для меня и того, что умом своим приобрел, на всю жизнь хватит. Вперед, конечно, загадывать нельзя, мало что может случиться, — начал он после довольно продолжительного молчания, во время которого сидел, опустив голову на руки и погрузившись в размышления, — но сдается мне, что сюда, в родное гнездо, я живым никогда не вернусь, а потому вы уж так и устраивайтесь, как если бы похоронили меня, — произнес он дрогнувшим голосом, не поднимая взгляда на старуху.
— Веру-то в Бога уж, значит, совсем растерял? — спросила она.
Аратов молчал, потупившись.
— Начал каяться, так уж говори все без утайки, чтобы на душе полегчало, — настаивала она.
— Да больше сказать нечего. Сам не понимаю, что со мной делается. Я надеялся большое облегчение себе доставить и без хлопот и пролития крови и ей, и себе развязать руки, забавляясь также мыслью, что неслыханную развязку этой авантюре придумал, до того остервенился на Еленку, что только и мыслей у меня было, чтобы досадить и ей, и ее сообщнику, да на всю жизнь, чтобы до гробовой доски через меня страдали, а о себе и забыл совсем. Сердце окаменело, ни страха, ни сомнений, ничего. Казалось, что и само воспоминание о ней похороню навсегда с тем трупом, который под ее именем отпевать станут, а вышло иначе. Нашли такое мертвое тело, какое нам было нужно. Сам указывал, как и во что обрядить его, чтобы на Елену Васильевну похоже было — и все ничего; сам своему равнодушию и присутствию духа дивясь, помогал укрывать чужую покойницу фатой, забавляясь придуманным маскарадом, а как пришел поп и запел панихиду, за сердце и схватило. «Вздор, — думаю, — пустой предрассудок, надо разумом побороть!»
Начатую неохотно речь Аратов продолжал с постепенно возрастаNo щем одушевлением, задыхающимся от волнения голосом, с трудом болью произнося слова, но не будучи в силах оборвать ее до конца, и тогда только смолк, когда всю свою муку излил без остатка.
Старуха слушала его молча, с неподвижным лицом, и только медленно выкатившаяся слеза из поблекших глаз на одно мгновение выдала ее скорбь.
— Не совсем, значит, заглохла в тебе совесть. И за то слава Богу! — проговорила она. — Муки твои только что начинаются, и от тебя зависит найти в них спасение души.
— Я в другой мир… в спасение… не верю; только то и есть, что мы здесь слышим, чувствуем и осязаем.
— Как же ты в него не веришь, когда уже в тот мир больше чем на половину вошел, когда он уже овладел тобою и терзает тебя больше, чем то, что ты считаешь настоящим и видимым? Как же ты не веришь в него, когда уже не знаешь, куда уйти от него и где спастись? Нет, голубчик, есть поступки, которые заживо вырывают человека из видимого мира, чтобы ввергнуть в невидимый, а ты именно такой поступок и совершил. Теперь тебе одно спасение — познать Бога; иного ничего для тебя не представляется.
— А это мы еще увидим. Мне таких слов, как ваши, теперь не нужно, в пущее раздражение только приводят, — отрывисто возразил он.
— Нечего, значит, с тобою и толковать… все равно, что с покойником… Умер ты для меня! — и встряхнувшись, как человек, привыкший управлять своей волей и скрывать в глубине души жесточайшие душевные страдания, старуха спокойным тоном заявила, что ей ничего больше не остается, как позаботиться о новом духовном завещании. — Все мое добро предоставлю твоим детям от законного брака с Еленой Васильевной. Ты, может быть, совсем ополячишься и другой жене, католичке, детей народишь, а Малявино спокон века православным русским дворянам принадлежало, так уж пусть так и впредь будет.
— Как вам будет угодно, — ответил Аратов.
Равнодушие, с которым было встречено ее заявление, удивило старуху и тронуло ее больше самых яростных возражений и упреков, однако она больше не возвращалась к этому предмету и смолкла, выжидая, может быть, что правнук опомнится и постарается заставить ее отказаться от намерения, которым изменялись все его планы и уничтожались все его начинания в имении, со дня его рождения считавшемся его собственностью; но он молчал, устремив взгляд в пространство, и чем больше прабабка смотрела на него, тем больше убеждалась в перемене, происшедшей в нем в последние дни: он постарел, похудел и осунулся до неузнаваемости. Много прочитала она в его ввалившихся глазах и вытянутых чертах, и ее старое сердце сжалось давно не испытанной болью.
«Эх, Митяйка, Митяйка, дожила я, чтобы видеть, как ты себе всю жизнь испакостил!» — думала она, но вслух не проронила ни слова, так как сама была из тех, для которых то не горе, а полгоря, о чем никто не знает и не судачит.
— А ты прежде чем полякам-то передаваться, обмысли хорошенько, — заметила она после молчания. — Иногда бывает, что легче снести обиду от своих, чем ласку от чужих.
— В этом я с вами не согласен, бабушка.
— Кому же ты здесь свое дело поручишь? — спросила она.
От этого вопроса Аратова передернуло. Прежде чем ответить, он I пристально посмотрел ей в глаза, как бы для того, чтобы прочитать ее затаенную мысль, и решил действовать начистоту. Впрочем, он и раньше, до своего признания, не сомневался в том, что его тайна известна прабабке. Она здесь всегда была полновластной хозяйкой, и никому даже в голову не могло прийти скрыть от нее что-либо.
— Вам, бабушка… кому же больше? — ответил он. — Вы из-за пустяков расстраивать меня не станете и сообщите мне все то, что мне необходимо будет знать.
В глазах старухи выразилось нечто, похожее на удовольствие.
— Ладно. Езебуша с собою берешь?
— С собою, он мне нужен.
— Хорошо делаешь. Здесь ему не место, слишком много знает. Убрать бы отсюда и остальных.
— Из прочих ни одного человека ни здесь, ни при мне не останется. Со временем спущу куда-нибудь подальше Езебуша, а остальных завтра же в тамбовское имение с французом отправлю. Я там суконную фабрику затеваю. Он, значит, там и останется, а прочих так далеко друг от дружки по белому свету рассыплю, что забудут, как друг друга и звать. Один здесь опасный человек останется — воробьевский Андрюшка. Ну да, Бог даст, и от этого со временем отделаемся.
— Это не к спеху. У воробьевских в этом деле тоже хвост-то замаран; им теперь не до того, чтобы других топить, сами по уши В трясине завязли, — проворчала старуха.
Обменявшись еще несколькими отрывистыми словами, не имевшими ничего общего с чувствами, наполнявшими их души, и с мыслями, вертевшимися у них, они расстались, чтобы лечь спать, но в ту ночь оба ни на минуту не сомкнули глаз.
Никогда не испытывал Дмитрий Степанович такого томительного чувства недоумения и безотчетного страха, как то, что он испытывал теперь, при неотступной мысли о содеянном с таким легким сердце поступке, а между тем этот поступок даже и преступлением нельзя бы назвать. Аратов в сотый раз задавал себе вопрос, предложенный им и прабабке в ответ на ее осуждение: кому худо от того, что он похорони чужого мертвеца вместо живой жены, которую имел полное право убить за измену? «Никому!» — являлся ответ.
Но как глупо устроен свет и какими нелепыми, нелогичными законами он управляется! Убей он Елену и Грабинина, жертвуя при этои жизнью множества ни в чем не повинных людей, да при такой ужасной обстановке, как резня, грабеж имущества, никто не осудил бы его за самоуправство, и даже суд нашел бы ему извинение, а теперь судьба его зависит от случайности, от пустяка, от которого нет возможности уберечься, потому что нельзя предвидеть, откуда и от кого может прийти напасть. А Аратов чуял эту напасть во всем, в самых простых и обыденных явлениях, предчувствовал ее там, где разумом ничего нельзя было уловить.
Как смутило его появление Андрея на похоронах! А между тем скорее можно было бы удивиться, если бы он не приехал. И, как ни уверял себя Аратов, что повредить ему Андрей не может, особенно в настоящее время, это соображение не успокаивало его, и он начинал сознавать, что вздохнет свободнее тогда только, когда этого человека не будет на свете, а до тех пор придется, чего доброго, откупаться деньгами от этого хама.
Может быть, есть и другие, которым все известно? Может быть, Андрей успел уже с кем-нибудь поделиться своей тайной? Кто этот другой? Где его найти? Как от него спастись?
Езебуш упомянул о незнакомце в мужицком платье, с которым воробьевский управляющий ушел с похорон, не дождавшись поминального обеда. Для чего пришел в Малявино этот незнакомец? И почему Езебуш назвал его не просто крестьянином, а человеком в крестьянском платье? Он, значит, на мужика не похож… Для чего пришел он сюда?
Еще не рассветало, когда этот вопрос завертелся у Аратова в голове, и так назойливо, что ждать его разрешения до утра не хватило сил, а потому, разбудив казачка, спавшего у порога спальни, он приказал послать к нему Езебуша.
Через несколько минут камердинер явился. Оказалось, что было из-за чего звать его в такой неурочный час: у него так же, как и у барина, незнакомец не выходил из головы, таким показался он ему странным и на мужика непохожим. Но больше всего смущало Езебуша то, что из пришедших помянуть покойницу никто не знал этого человека в крестьянском платье, хотя были люди издалека, даже из Польской земли.
— Надо непременно напасть на его след и узнать, кто такой. В Воробьевке его должны знать, если он — Андрюшкин приятель, — сказал Аратов. — Займись этим, не медля; мне не хотелось бы покидать край, пока это не выяснится.
Езебуш был того же мнения, но, как ни старался он, а день проходил за днем без результата: таинственный незнакомец, как в воду канул; у кого про него ни спрашивали, все отзывались незнанием. То же самое утверждали и в Воробьевке, где все видели, что управитель как поехал на похороны один, так и вернулся один. То же отвечали и на мельнице, где Андрей оставил свою лошадь, за которой пришел один. Езебуш не знал уже, где больше и спрашивать.
Впрочем, его барин со дня на день становился спокойнее, все реже осведомлялся о результатах сыска и наконец совсем перестал интересоваться им. До отъезда в Варшаву он съездил в Киев, где виделся со многими знакомыми и приятелями, причем ему удалось устроить несколько выгодных дел и завербовать множество клиентов в партию воеводы. Езебуш же, разъезжая по окрестностям с поручениями своего барина, внимательно прислушивался к толкам и сплетням, но ни от кого не слышал ничего такого, что могло бы возбудить опасение. Не слышно было также ничего и о Грабинине. Должно быть, ему удалось благополучно перебраться в чужие края с «живой покойницей».
Это предположение совершенно успокоило Дмитрия Степановича, и он вернулся домой в совершенно другом настроении, чем тогда, когда выезжал оттуда. Теперь поступок его казался ему не преступлением и не кощунством, а нечаянною шалостью в сравнении с тем, что позволяли себе его приятели-поляки, и, по мере того как мысль об опасности отдалялась от него, воспоминание об Юльянии все чаще навертывалось ему на ум. В пылу томительного волнения, хлопот и опасений он совсем забыл о ней, но теперь его опять потянуло к Розальской, и ему было досадно, что она не через него узнает, что он свободен. Можно представить себе, как она обрадуется! И как она будет прелестна в счастье и восторге!
Но видеться с нею теперь было бы опасно: надо избегать всего, что так или иначе может возбудить подозрение. Они увидятся в Варшаве, куда она приедет с женой киевского воеводы, и первым его долгом будет представить Юльянии, как она должна быть осторожна, чтобы не навлечь на него подозрений. Пусть не прогневается, если он на время даже перестанет ухаживать за нею, чтобы с достоинством выдержать роль удрученного печалью вдовца: раньше как через год, о женитьбе ему нельзя думать, а в это время мало ли что может случиться!
XVI
В Тульчине празднества окончились, и граф Салезий приехал со свитой в Варшаву на продолжительное время, чтобы принять участие в политической агитации между представителями страны, съезжавшимися со всех концов Речи Посполитой в блестящую столицу, где скрещивались и часто жестоко перепутывались нити заговоров, интриг, клевет и сплетен, в которых судорожно билась в предсмертной агонии несчастная страна.
За супругом должна была последовать со своим штатом и пани Анна, чтобы принять участие в празднествах, которыми сопровождались выборы послов на конфедерации, но день ее приезда не был еще назначен, хотя в замке царили суета и оживление сборов.
Вскоре после отъезда воеводы вернулся в замок аббат Джорджио из Киева, куда ездил по поручению своего дяди, тульчинского капеллана. Отпустив на покой своих приближенных женщин, графиня удалилась уже в свою спальню, однако аббатик вызвал старшую горничную, тоже готовившуюся ложиться спать, и попросил ее доложить госпоже, что ему крайне необходимо видеть ее. Невзирая на поздний час (было около полуночи), горничная исполнила его поручение.
— Пусть придет! — ответила ясновельможная, догадавшись, что без особенных причин конфиденциального свойства аббат не позволит себе беспокоить ее ночью, и приготовилась выслушать интересный доклад.
Она не ошиблась: новость, которую аббатик спешил сообщить ей, была так важна, что, поцеловав милостиво протянутую ему руку, он немедленно приступил к изложению ее.
— Аратов овдовел, моя пани. Его жена скоропостижно скончалась. Я говорил с людьми, которые видели ее в гробу и присутствовали при ее погребении.
Графиня от изумления вытаращила свои большие глаза, как бы для того, чтобы лучше понять неожиданную весть.
— Это событие произошло так внезапно и так поразило всех, что судить о нем еще преждевременно, — продолжал аббатик. — Однако мне удалось вывести кое-какие заключения из слов людей, знакомых с интимною жизнью семьи господина Аратова, и, между прочим, мне посчастливилось встретиться у секретаря его всевелебности с французом Соссье; он служит у господина Аратова и приехал прямо из Малявина…
— Ты из Киева? — спросила графиня.
— Из Киева, торопился сообщить моей пани о случившемся…
— Что же там говорят о этой внезапной смерти?
— Почти ничего. И Соссье, как и все знавшие покойницу, так поражен, что никакие соображения и сопоставления не приходят ему в голову. Все это придет впоследствии, когда уляжется первое впечатление. Тогда только откроется истина… разумеется, если кому-нибудь будет выгодно раскрыть ее, в противном же случае и это преступление останется ненаказанным, как и великое множество других.
— Ты тут усматриваешь преступление? — спросила графиня.
— Я в этом вполне уверен. Этот москаль на все способен… как и все, кто с ним имеет дело и зависит от него. Соссье боится его, как огня, и мне стоило немалого труда вытянуть из него те подробности, которые я сейчас передам ясновельможной, но для меня и этого достаточно, чтобы многое понять. Через два дня после отъезда мужа в Тульчин госпожа Аратова убежала из дома, и, как ее ни искали, нигде не могли найти. Вот именно с этим-то известием и приезжал сюда к Аратову посланец из Малявина после нашего бала. Как ее нашли, кто именно и где, живую или мертвую, — я не мог узнать, и по очень простой причине: никто, кроме самого Аратова да его верного камердинера Езебуша, этого не знает, а Езебуш, разумеется, своего барина не выдаст.
— Поляк? — отрывисто спросила графиня.
— Отец был поляк, а мать — хохлушка. Еретик, никогда не бывает ни у исповеди, ни у причастия. Предан москалю, как собака, и так запутался с ним в разных темных делах, что даст себя скорее на куски изрезать, чем выдаст своего сообщника. На этого человека нам рассчитывать нельзя, его ничем не подкупишь и не застращаешь.
— С кем же Аратова бежала? Неужели с любовником?
— Какие могли быть у нее любовники, когда она никого не видела и ни с кем не была знакома? Ее держали в более строгом затворничестве, чем в монастыре. Супруг давно разлюбил ее за то, что она была припадочная и не отвечала на его чувства, а в особенности за то, что она много теряла в сравнении с такими грациозными и остроумными красавицами, как наша пани Розальская, — прибавил аббатик с усмешкой.
Значение последней не ускользнуло от внимания его слушательницы и заставило ее вспыхнуть от гнева.
— Этот намек и неприличен, и неуместен, Джорджио, — заметила она с раздражением.
— А старуха Аратова невзлюбила ее за то, что родители на дали за нею приданого. Старуха очень жадна на деньги и ничего так не желает, как чтобы ее правнук и наследник женился на богатой, хотя бы на еврейке, ей все равно, лишь бы была с деньгами.
— Ну, и пусть ищет для него невесту, где хочет, только не у нас. Юльяния, слава Богу, образумилась, и любимец «пана Коханку» имеет гораздо больше шансов на ее руку, чем москаль.
— О как моя пани заблуждается! — воскликнул аббатик. — Она любит господина Аратова больше, чем когда-либо, и ни за что не выйдет за Длусского!
— Чем ты докажешь мне это? Я слишком люблю и доверяю Юль-янии, чтобы верить клеветам на нее, и ты должен знать это лучше других, — строго заявила графиня. — Никогда еще не обманывала она меня.
— Она до сих пор не была влюблена; влюбленные не принадлежат себе, ими управляет дьявол и наставляет на всякое зло. Вот и Аратов, разве он решился бы на преступление, если бы не был до безумия влюблен в нашу красавицу и не уверен в ее взаимности?
— Это все — твои предположения, я требую доказательств.
— О моя пани, разве позволил бы я себе обвинять нашу Розалъскую без доказательств? Как вы полагаете, когда виделась она в последний раз с москалем?
— Здесь, в замке, где же больше? Бал еще не кончился, когда Длусский повез ее домой, а несколько часов спустя и Аратов уехал в свое имение, вызванный неприятной вестью, и больше не возвращался сюда. Где же им было видеться?
— Правда, он уехал в свое имение, но дорогой свернул на мызу и, оставив свою свиту и коня в лесу, прошел парком в Дом нашей Юльянии, прокрался в ее спальню и провел с нею наедине целый час. Это немного, но вполне достаточно, чтобы условиться относительно будущего. А ушел он от нее так же, как и пришел, никем не замеченный.
— Кроме того или той, кто сообщил тебе все это? — плохо скрывая досаду и гнев, заметила ясновельможная.
Сомневаться в том, что именно так все и произошло, как сказа! аббатик, нельзя было, и то, что она считала черной неблагодарностью со стороны своей любимицы, уязвило ее до глубины души.
— Для того, кому это нужно, и у стен найдутся глаза и уши, — возразил аббатик. — Я хорошо знаю, как ясновельможная привязана к Розальской, и знаю также, что она погибнет на этом свете и в будущем без нашей поддержки. Москаль совсем свел ее с ума, но мы с Божьей помощью заставим ее опомниться, и она со временем будет благословлять нас за спасение ее души от вечных мук в будущей жизни и от великих бедствий на этом свете.
— Хорошо, я с нею переговорю. Я сама поеду к ней завтра, перед завтраком. Надо, чтобы она от меня первой узнала о смерти Аратовой, и ни минуты не предавалась пустым мечтам и надеждам.
— Убедительно прошу мою пани взять меня с собою!
— Хорошо, ты мне поможешь доказать ей всю греховность ее чувств к этому москалю.
На следующий день, часу в одиннадцатом, графиня приехала в маленькой коляске в сопровождении аббата и одного гайдука на мызу Розальской, и о сцене, разыгравшейся между ясновельможной и ее любимицей, долго потом рассказывали в тульчинском замке как о происшествии изумительном и невероятном. Никто даже и представить себе не мог, чтобы Юльяния позволила себе проявить столько дерзкого упорства в отстаивании своей любви к Аратову и такую черную неблагодарность к покровительнице, которой она была обязана всем своим благосостоянием. Известие о смерти жены возлюбленного привело Розальскую в исступление; на все увещевания графини отказаться от мысли сделаться супругой овдовевшего москаля она разразилась неприличными признаниями и клялась, что скорее пострижется в монахини или лишит себя жизни, чем откажется от своей любви.
— На все, на все я для него готова! — повторяла она вне себя, забывая, с кем позволяет себе так дерзко говорить.
— Даже на измену родине и вере? — строго прервала ее ясновельможная. — Одумайся, безумная! Этот человек околдовал тебя. Ты сама не понимаешь, что говоришь! Даю тебе сутки на размышление, и, если ты завтра не явишься ко мне с повинной и с обещанием вполне предоставить твою судьбу на мою волю, мы с Салезием откажемся от тебя, и пеняй тогда на себя за последствия своего безумия. Страна наша, слава Богу, католическая, под непосредственным покровительством святого отца; в его ведении и монастыри, где хорошо умеют справляться со строптивыми грешницами, потерявшими стыд и совесть, — заявила пани Анна, поднимаясь с места, и, не глядя на бледную и трепещущую молодую женщину, прибавила, закутываясь в шаль, которую поспешил подать ей аббатик, присутствовавший при этой сцене, скромно забившись в дальний угол комнаты: — И знай, что никто не верит, чтобы смерть несчастной Аратовой произошла естественным образом. Тут кроется гнусное преступление. Человек, на которого ты так легкомысленно променяла нас, способен на все, на всякое злодейство!
С этими словами Потоцкая вышла из комнаты, не оглядываясь и не видя, как помертвела Юльяния, и каким растерянным взглядом уставилась на альков, где, как живая, воскресла перед нею сцена расставания с Аратовым, а в ушах зазвенел его голос: «Потерпи еще немного, развязка близка».
Вот в каком виде наступила обещанная развязка! Он для нее сделался убийцей, между ними труп… Но кто же выдал? Когда он произносил роковые слова, не перестававшие звенеть в ее ушах, здесь никого не было, и никто не мог подслушать их. Кто же выдал его?
Проводив графиню до экипажа и усадив ее, аббат с ее соизволения вернулся в спальню, где застал Юльянию распростертой на ковре в глубоком обмороке, а над нею Цецилию, тщетно старавшуюся привести ее в чувство.
— Идите, Цецилия, оставьте меня с вашей госпожой. Я знаю, как надо поступать в таких случаях, — сказал он, пригибаясь к молодой женщине и опытными пальцами отыскивая среди кружев и лент застегнутого на груди пеньюара то место, где, хотя и слабо, но билось сердце. — Не беспокойтесь, она сейчас очнется, опасного ничего нет, — продолжал он, следуя за камеристкой в соседнюю комнату, и, остановившись на пороге, прибавил: — Примите меры, чтобы нам никто не мешал, а пока мы будем разговаривать, позаботьтесь о завтраке. Мы выехали из замка натощак, и нет ничего вреднее для желудка, как пропускать время еды. Прикажите, пожалуйста, приготовить нам фрикасе из цыплят и сварить форель. Прибавьте к этому еще что-нибудь — спаржи, сыра, ветчины, что у вас найдется. И, пожалуйста, не прохлаждайтесь! Ваша госпожа тоже нуждается в подкреплении сил, она, наверное, все это время кушает без аппетита?
— Скажите лучше, что она вовсе ничего не кушает. Насилу-насилу заставишь ее проглотить ложку бульона или стакан молока!
— Понятно после этого, что с нею делаются обмороки!
Аббатик хотел еще что-то прибавить, но заметив, что Юльяния начинает приходит в чувство, поспешил удалить служанку, чтобы заняться госпожой.
Юльяния открыла глаза и с изумлением озиралась, пытаясь припомнить, что было перед тем как она лишилась чувств.
— Вы ищите пани Анну? Она уехала и поручила вас мне, — ласково проговорил аббат Джорджио, помогая ей встать и дойти до дивана и заботливо усаживая ее. — Дорогая Юльяния, как жаль, что мне не удалось повидаться с вами перед вашим свиданием с графиней! Я объяснил бы вам, что с нею нельзя говорить так, как вы говорили! — и он сел рядом с Юльянией, нежно пожимая ее руку.
— Правда, что его жена умерла? — перебила она его вопросом, неотвязно вертевшимся в ее уме.
— Вы спрашиваете про жену Аратова? Да, она умерла. Но зачем вы так резко возражали нашей благодетельнице, Юльяния? Это нехорошо.
— Я сказала правду, — начала она оправдываться.
— О милая моя пани, золотая моя, да разве вы не знаете, что правду не всегда можно говорить и что есть ложь во спасение? Пани Анне далеко за сорок лет, она не может понимать вас так, как я, например, ее взгляды на жизнь надо щадить, она с ними свыклась и до самой смерти не расстанется. Если мы с вами не будем жалеть и беречь ее, то кто же будет делать это? Нам известны все ее горести и разочарования, мы знаем, что ее супруг далеко не отвечает ее идеалу и что она и в детях своих не находит того, что желала бы найти. Все ее затаенные скорби, вся язвы ее сердца нам известны, и это обязывает нас к снисходительности, драгоценная Юльяния. А вместе с тем ее доверие к нам нас связывает духовными узами много сильнее кровных. Мы с вами очень близки, дорогая Юльяния, и я, как ваш брат по духу, не могу относиться равнодушно к вашим горестям, а еще менее — к вашим размолвкам с ясновельможной. Я должен помирить вас и достигну этого, но и вы должны быть со мною вполне откровенны, чтобы облегчить мне эту задачу.
— Вы тоже будете требовать от меня, чтобы я отказалась от своей любви? — спросила она, озадаченная не столько его словами, сколько тоном, которым они были произнесены, и странным обволакивающим взглядом, которым он пронизывал все ее существо: ей и хорошо было под этим взглядом, и жутко, как затравленному зверю, всюду подозревающему ловушки и капканы.
Но аббатик, не выпуская ее рук из своих, энергично запротестовал против такого подозрения.
— Золотая моя пани, да разве могу я требовать невозможного? Разве я не понимаю, что этот человек вам дороже жизни и что одна только смерть может разлучить вас с ним? Я молод, кровь во мне еще не остыла, и чувствительность не притупилась; я вас понимаю, как нельзя лучше, и если б даже как служитель церкви осуждал ваше чувство.
— Не осуждайте меня, Джорджио! Я несчастна, одинока, нуждаюсь в сочувствии и в дружбе! — воскликнула Юльяния, безотчетно приближаясь к нему так, что он обнял ее и ласковым движением доброй няни прижал к своей груди.
— Бедная моя птичка! Надо быть бесчувственным зверем, чтобы осуждать вас, невинный ягненочек! — произнес он, поднимая к потолку увлажненные слезой глаза.
— Что же мне делать? — спросила Юльяния, окончательно побежденная его сочувствием.
— Я отвечу вам на это, когда буду знать, что он сказал вам при вашем последнем свидании… вот здесь, в этой самой комнате, — продолжал аббатик, указывая на альков. — Я говорю с вами, как духовное лицо, как священник, получивший свыше власть вязать и развязывать души от грехов, — продолжал он, постепенно меняя тон.
— Вы… вы знаете? — вымолвила она дрогнувшим голосом.
— Я все знаю, Юльяния. Я даже мог бы повторить вам слово в слово все, что он сказал, но хочу слышать это из ваших уст, и вы мне это скажете, — произнес аббат Джорджио, с несвойственной ему резкостью отчеканивая слова.
Он весь преобразился, глаза его горели вдохновением, голос звучал повелительно и так строго, что Розальская все ниже и ниже склоняла голову. Однако она все еще крепилась, и рвущееся из груди признание не выговаривалось.
Тогда аббатик решился на отчаянное средство.
— Слушайте, Юльяния! — начал он с самоуверенностью ясновидца. — В то роковое утро вы отдались ему, забыли женский стыд, изменили памяти вашего доброго мужа, забыли заветы нашей церкви, запреты вашего духовника и совершили непростительный смертный грех — сделались любовницей еретика. Вы дали ему права, которых он раньше на вас не имел, и он теперь может считать вас своей. И за это он обещал вам совершить убийство, освободиться от постылой жены…
— Нет! Нет! — вне себя от ужаса вскрикнула несчастная женщина: — Он только сказал мне: «Потерпи немного, теперь развязка близка»… Вот что он сказал мне, ничего больше!
— Этого, — холодно возразил аббатик, — достаточно для всякого судьи, чтобы арестовать его и начать следствие, вырыть труп, произвести дознание, привлечь к делу вас и всех ваших слуг, допрашивать, пытать… Я первый должен сознаться вам, что если б даже и не подозревал Аратова в преступлении, то теперь, после вашего признания, не могу сомневаться в его виновности. Что же сказать о тех, которые и не зная, что произошло между вами, видят в нем убийцу?
— Но почему же, почему? — пыталась Юльяния вырваться из заколдованного круга, который все теснее смыкался вокруг нее.
— Да потому, что тут очевидность, против которой невозможно протестовать. Потрудитесь только беспристрастно вникнуть в дело! Аратов безумно влюблен в вас, и вы так поставлены, что нет другого способа овладеть вами, кроме женитьбы. Между тем есть законная жена, не-преодолимейшая преграда к блаженству. Как не пожелать отстранить это препятствие? Что подразумевал он, если не это, намекая на близкую развязку? И чем же иным, как не убийством, объяснить смерть, так кстати приключившуюся почти тотчас же после того как вы отдались ему, когда он был еще вне себя от блаженства, испытанного в ваших объятиях? Да, Юльяния, расставаясь с вами, он дал вам торжественное обещание отстранить с пути несносную преграду к счастью, и исполнил свое обещание Это ясно, как день, и другое объяснение его словам невозможно дать. Да и сами вы сознаете это как нельзя лучше; если 6 было иначе, вы не лишились бы чувств от ужаса при первом намеке пани Анны на его преступность и не дрожали бы, как теперь, от моих слов. Вы знаете, что из-за вас человек совершил преступление. Но от вас зависит, чтобы это преступление повело к спасению грешника… Да, Юльяния, Бог избрал вас орудием для проявления торжества нашей церкви, и — кто знает? — может быть, и для блага вашей отчизны, — продолжал аббатик, наслаждаясь эффектом своей красноречивой импровизации.
Его слушательница бледнела и краснела, а в ее прекрасных глазах выражались попеременно испуг, ужас, изумление, страстное любопытство. Невольным бессознательным движением опустилась она на колени перед ним и, схватив его руку, крепко сжимая ее в своих похолодевших от волнения пальцах, задыхающимся шепотом проговорила:
— О спасите нас, спасите! Скажите, что мне делать! Приказывайте! Все исполню, слепо, без рассуждений, приказывайте!
— Вот это хорошо, Юльяния. Я и хочу, чтобы вы именно такой были со мною; лишь тогда могу я спасти вас не только на этом свете, но в будущем, и не только вас, но и того, которого вы любите, — продолжал аббат, лаская своей белой выхоленной рукой голову молодой женщины, которую она в припадке душевного смятения опустила на его колени. — Я уже сказал вам: пути Господни неисповедимы, и часто посылает Он тяжелые испытания тем, которых желает обратить к себе. Казалось бы, что может быть ужаснее того положения, в которое поставил Он вас? Знать, что тот, которому вы отдали не только свою бессмертную душу, но и вашу тленную красоту, — убийца, и что каждую минуту ему грозит от людей жестокое возмездие за убийство, дрожать и день, и ночь за его свободу и жизнь, засыпать и просыпаться с мыслью: не сегодня ли, не сейчас ли наступит ужас разлуки перед судом и казнью? Да, это ужасно, и поистине можно было бы помешаться от отчаяния, если б не знать, что, где горе, там и утешение. А благодаря мне вы это сейчас узнаете, Юльяния, и мы вместе возблагодарим Бога как за испытание, так и за скорую помощь. Сколько времени терзаетесь вы сомнением и злыми предчувствиями, Юльяния?
— С той минуты, как он покинул меня, — чуть слышно вымолвила она, не поднимая глаз.
— С той минуты, как он сознался вам в своем намерении освободиться во что бы то ни стало, хотя бы преступлением, от жены! — строго возвышая голос, поправил ее аббатик.
Юльяния вздрогнула. Все ее существо возмущалось под нравственным насилием, которому подвергали ее, но противиться ему она не могла. Какая-то сила сковывала ее волю, язык не повиновался усилиям выкрикнуть протест против навязываемых ей чувств и мыслей, слова не выговаривались, и мало-помалу, подчиняясь давлению чужой воли, она начала думать, что она и права не имеет сбрасывать с себя обвинение, которое, может быть, ей одной только кажется несправедливым. Может быть, Джорджио лучше ее знает ее мысли и чувства? Недоверие к себе возрастало вместе с чувством странного, никогда еще не испытанного спокойствия, точно этот человек, забирая в свои руки ее душу, тем самым снимал с нее вместе с самостоятельностью и волей всякую ответственность не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. Однако, повинуясь не совсем еще заглохшему в ней разуму, Розальская проговорила вслух мысль, закружившуюся в ее отуманенном мозгу:
— Как же ему спастись от человеческого закона и Божьего гнева, если он — убийца?
Ласково приподняв ее с ковра, аббатик посадил ее возле себя и, не выпуская ее рук из своих, заговорил, таинственно понижая голос и медленно отчеканивая слова:
— Слушайте же! Я посвящу вас в самую суть божественного учения, доступную только немногим избранным из светских людей, эту божественную тайну нет надобности всем знать, и я не открыл бы вам ее, если б не видел в вас избранной души, намеченной самим Богом на великие дела. Грех сам по себе — ничто. Важны последствия греха, — когда он уже совершен, сделать, чтобы его не было, невозможно. Представьте себе такое положение: заблуждающийся со дня рождения еретик, на котором тяготеют грехи целого поколения еретиков, волею Божиею встречается с дочерью истинной церкви и начинает чувствовать к ней сердечное влечение, тем более сильное и прочное, что этого сближения во имя своего спасения требует его изнемогающая во грехе душа. Преградой к этому сближению грешной души с чистой, к спасению первой через вторую является женщина, его супруга, тоже схизматичка, как и он, обвенчанная с ним не по обрядам нашей церкви, а еретиками; значит, брак их имеет для нас такое же значение, как брак между язычниками, евреями, идолопоклонниками и даже хуже того, потому что раньше не знавшие истинной церкви, не так виновны перед Богом, как те, которые, зная ее, отпали от нее. И вот этот человек, горя желанием через любимую женщину приобщиться к вечной жизни, ослепленный страстью, хотя и благородной, но тем не менее безумной, в минуту исступления отстраняет со своего пути роковую преграду… Он виноват, слов нет, по человеческим понятиям он совершил преступление, жестоко караемое законами, но заслуживает ли он гнева Божьего? Нет, Юльяния! Как служитель истинной церкви, сведущий в вопросах совести, повторяю вам, что этот человек заслуживает милосердие Бога и сострадание сынов истинной церкви. Вот что вы должны повторять себе каждый раз, когда вашего возлюбленного будут подозревать в преступлении, которое не доказано и, надо надеяться, никогда не будет доказано. Аратов слишком умен, чтобы действовать, очертя голову, и поверьте, что сплетни о нем гораздо меньше тревожат его, чем вас. А между тем к сплетням и клеветам вы должны готовиться. Вы должны знать, что люди злы и завистливы и что, чем прекраснее счастье выпадает на долю избранного, тем усерднее забрасывают его грязью те, которым кажется, что они достойнее его, этого счастья. Пан Длусский, например. Как вы думаете, поверит он, если ему скажут, что Аратов совершил преступление, чтобы овладеть вами? Разумеется, поверит, тем более что и сам он готов совершить десять преступлений, чтобы обладать вами! А ведь такт как пан Длусский, много, и причиной тому — ваши прелестные глаза, очаровательная грация, эти розы на ваших щечках, лилейная шейка. Чем же виноваты вы, что Господь одарил вас красотой, талантами, умом! Но вы должны все эти дары обращать на славу Божию, и на пользу нашей святой церкви. Вот о чем вы должны заботиться. Можете ли вы знать, какими путями Богу угодно спасти душу вашего возлюбленного! Ему, может быть, угодно провести эту затемненную душу через note ступление? Вы за это не отвечаете, и беспокоиться вам не о чем.
— Но могу ли я примириться с мыслью, что моя благодетельница считает его способным на злодейство? — робко заметила Роэальски, не будучи уже в силах совладать с новыми чувствами, зароившимися ее душе от слов наставника.
Совесть продолжала еще восставать против его софизмов, но ум уже начал покоряться им, и нетрудно было угадать, на чьей стороне окажем победа. Мораль аббата была так удобна, так успокоительна, так проста. Не убил Аратов своей жены из-за нее — прекрасно, а убил — тоже хорошо, и даже как будто еще лучше…
Однако Юльянии хотелось больше верить первому предположении во-первых, потому, что так было безопаснее, а во-вторых, даже и послушной ученице отцов иезуитов лучше иметь мужем человека, не способного даже из-за любви к ней на такие крайние меры.
— Нет, нет, я не хочу, чтобы про него это думали! — повторила она.
— Он и сам позаботится об этом, моя Юльяния, а нам остается помогать только ему в этом, и прежде всего тем, чтобы никогда, даже про себя, не думать и не говорить об этом. Таким образом, дело будет похоронено и забыто. А если вы будете беспокоиться и волноваться, то своим отчаянием наведете на подозрение и накличете беду на голову вашего милого. И тогда раскаянию и угрызениям совести конца не будет. Так-то, моя золотая! Будьте умницей и во всех затруднительных случаях советуйтесь со мною. Я вас дурному не научу, моя ласточка; я слишком уважаю нашу общую благодетельницу и слишком дорожу благоденствием и покоем фамилии, чтобы не желать, чтобы все обошлось благополучно и чтобы вы были счастливы. Мне и будущий ваш муж дорог, и я буду молить Бога, дабы Он вразумил вас скорее обратить его на путь истины, сделать из него доброго католика, спасти его душу от погибели. Ведь вам известно, что ждет схизматиков после смерти? А он — схизматик, и спасение его в вашей власти. А так как вы его любите, то и спасете; за это вам ручается ваш верный друг и руководитель вашей совести. Все дамы высшего общества имеют таких руководителей. Наша ясновельможная не довольствуется наставлениями брата капеллана, у которого она исповедуется два раза в месяц, и во всех соблазнительных случаях обращается к духовной помощи отца Маврикия, бенедиктинца. Княгиня Изабелла Чарторыская уже давно передала заботу о своей душе прелату Фасту; пани Краковская ничего не предпринимает без совета доминиканца отца Симеона. Все наши дамы имеют руководителей совести, почему же и вам такого не иметь? Вам это необходимее, чем другим, так как вы поставлены в исключительно трудное и соблазнительное положение своим чувством к преступному схизматику. Подумайте только, от какой тяжелой ответственности избавит вас это! Ведь за ваши грехи уже я буду ответствен, я буду делить ваши горести, печали, неудачи; у вас не будет ни сомнений, ни недоумений, я за вас буду и думать, и решать, и молиться. Я беру на себя все ваши тяготы и требую за все это только послушания и полного доверия. Хотите взять меня в руководители вашей совести, дочь моя?
Юльяния молча наклонила голову в знак согласия.
— Вы согласны? — радостно произнес он. — Ну, мы сейчас испытаем вашу добрую волю. Вы с ним в переписке?
— Он раз навсегда запретил мне писать ему, и я не смею ослушаться его, — покорно ответила Розальская, совсем уничтоженная властным взглядом аббата Джорджио, представлявшим резкий контраст с ласковой вкрадчивостью речи.
«Глупая бабенка! Как легко забрать тебя в руки и как хорошо, что я вовремя взялся за тебя», — подумал аббатик и вслух прибавил:
— Видите, как он осторожен и как я был прав, упрекая вас в излишней откровенности с графиней! Ведь повтори она свое подозрение, вы, чего доброго, передали бы ей то, что сказали мне, и, желая спасти, окончательно погубили бы его… Ну-ну, успокойтесь, до этого еще далеко; ведь никто, кроме меня, не знает вашей тайны. Меня же вам опасаться нечего; не было еще примера, чтобы духовник выдал тайну, доверенную ему на духу, а я теперь — больше чем ваш духовник, Юльяния, я — руководитель вашей совести, — поспешил он прибавить, увидав гайдука, явившегося с докладом, что кушанья на столе. Затем, поднявшись с места и галантно подавая ей руку, он проговорил тоном светского кавалера: — Пожалуйте завтракать, пани Розальская! И прошу отсутствием аппетита не отговариваться: я без хозяйки за стол не сяду. Вам надо набраться сил на предстоящую борьбу за счастье, — прибавил он, нагибаясь к ее уху и направляясь в столовую, где стол был уставлен изысканными кушаньями и тонкими винами и где Цецилия за особым столом варила кофе, аромат которого, сливаясь с вкусным запахом жареной дичи и трюфелей, приятно щекотал обоняние.
Уписывая цыплят и форель, аббат завязал разговор, подобающий обстоятельствам, и красноречиво распространялся о приготовлениях к празднествам в Варшаве. Он сообщил, что у графини Ржевусской готовится карусель в костюмах, выписанных из Парижа, у Чарторыских — ряд концертов с участием певцов и певиц из Италии, у графини Тышкевич начались репетиции к спектаклям на новом театре в саду. Он слышал, что у русского посла будет великолепный бал, на котором роль хозяйки взяла на себя супруга князя Адама Казимира Чарторыского. Готовится множество увеселений и у банкиров, и у частных лиц, не говоря уже о блестящих праздниках и балах в королевском дворце. Одним словом, увеселений предстояло такое множество, что невозможно было и думать о том, чтобы во всех их принимать участие, и пани Розальской придется выбрать то, что ей будет казаться веселее и приятнее.
Юльяния слушала его с возрастающим удовольствием. Всюду будет она встречаться со своим возлюбленным, и в случаях видеться наедине, среди водоворота светских развлечений недостатка не будет. Это радовало ее. А мысль, что, предаваясь своей любви, она следует по указанному ей пути свыше и что каждым своим поцелуем она способствует спасению души своего возлюбленного, убеждение, что «цель оправдывает средства», наполняло ей душу неописуемым блаженством.
Когда аббат Джоржио покидал ее, она ни в чем не сомневалась, ничего не опасалась, и даже предстоящее свидание с пани Анной не пугало ее. Аббат сказал, что все обойдется благополучно, значит, ей беспокоиться не о чем, и остается только следовать мудрому его совету: где можно — промолчать, а где нельзя молчать — лгать. Есть ложь во спасение, а она поставлена волею Провидения в такое положение, когда остается спасаться только ложью.
XVII
Аббатик от своей новой духовной дочери вернулся назад в замок весьма довольный. От экипажа, предложенного прелестной хозяйкой мызы, он отказался под предлогом моциона, предписываемого докторами после еды, и, шествуя по аллеям прекрасно содержимого парка, предавался приятным размышлениям о случившемся.
Первый опыт воздействия на женскую душу удался ему как нельзя лучше. Правда, эта душа была в большом смятении, не состояла в числе опытных в борьбе с мирскими соблазнами, и с нею справиться было несравненно легче, чем с душой пани Анны, например, и ее высокопоставленных приятельниц, проводивших всю свою бурную жизнь в грехе и покаянии, в покаянии и в грехе, знавших, какой именно ценой искупляется каждое уклонение от намеченного духовником пути, каждое падение, а потому чрезмерно не страшившихся ни этих отступлений, ни падений; тем не менее для первого опыта и такую победу одержать было недурно, в особенности, если взять в соображение красоту и богатство Розальской, многочисленных воздыхателей и претендентов на ее руку, не говоря уже о ее косвенном и бессознательном участии в таинственной истории Аратова, которого выгодно было бы держать в руках ввиду предстоящих политических событий.
В скором времени аббат Джорджио рассчитывал сопровождать графиню Потоцкую в Варшаву и там увидеться с тем, кому он должен был отдать отчет в своих действиях, но, вспомнив, что вечером едет в столицу один из дворских маршалов, пан Држевецкий, с поручениями вельможной пани к супругу, он решил воспользоваться этим, чтобы сообщить некоторые подробности о случившемся одному из ближайших своих покровителей, прелату Фасту.
Это было тем более удобно, что он вошел во двор замка и пробрался в свою каморку, не встретив ни души. Был третий час пополудни, и в это время все обитатели замка предавались послеобеденному отдыху; некому было, значит, следить за его действиями, и он мог спокойно заниматься своим личным делом, не опасаясь помехи.
Его помещение состояло из крошечной каморки под крышей, а обстановка ее — из узкой железной койки с тощим тюфяком и с плоской подушонкой, хромого стола, вдвинутого в углубление под окном, одного стула и поставца для платья и белья. Это убежище было отведено ему по протекции пана Држевецкого, внука которого он подготовил в школу отцов пияров; кровать с постелью презентовала ему кастелянша замка, пана Фабьянова, стол со стулом пожертвовала в его пользу старшая горничная ясновельможной, а неуклюжий поставец со скульптурными украшениями, наполовину изъеденный мышами, уступил великодушно ему старший писарь дворской канцелярии пан Дебольский. Аббат Джорджио был так любим в замке, что даже старая экономка Антонева, с сердцем таким черствым, что никто не мог бы сказать о ней доброго слова, отыскала обрывок старого ковра, чтобы устлать им выложенный кирпичом пол всеобщего баловня.
Да, все тут было поднесено ему любящими сердцами, начиная от обстановки и кончая запасом сальных свечей и масла для лампы. Оставалось только позаботиться о запорах, и на это он не пожалел денег. В Тульчине много смеялись над предусмотрительностью аббатика, который приобрел к своему столу, поставцу и двери такие замки, каких не было даже у пана дворского администратора при кассе.
А между тем смеяться было нечему, и, если бы в замке знали, какого рода бумаги хранятся у аббатика в поставце под аккуратно сложенным бельем, его, наверное, не только лишили бы навсегда доверия и покровительства фамилии Потоцких, но и немедленно изгнали бы из Тульчина, с запрещением подходить к замку на ружейный выстрел. Лишился бы он тогда и покровительства пани Мнишек, Оссолинской, Поцей и многих других за дерзкую предприимчивость и чрезмерную любознательность. Отвернулось бы от него и духовное начальство как от легкомысленного и недостойного доверия члена. Все это было известно аббату Джорджио, и потому нет ничего удивительного в принимаемых им мерах предосторожности против любопытных соседей, а в особенности, соседок.
Вернувшись от пани Розальской, он заперся на ключ в своей каморке и, прежде чем вынуть синеватую золотообрезную бумагу и очинить перо, взгромоздился на подоконник, чтобы внимательно обозреть окружающую местность — широкий двор, окруженный с трех сторон высокими флигелями, а с четвертой примыкавший к парку. Тут было пусто и тихо. Обитатели замка безмятежно предавались послеобеденному кейфу: ясновельможная — в своем будуаре, старшие дворские — в своих комнатах, а молодежь спешила воспользоваться золотой свободой в тенистых уголках парка, на огороде и в саду.
Внимательно всматриваясь в опустевший двор с убегавшими в чащу тропинками в дальнем его конце, аббат Джорджио не мог не убедиться, что надзирать за дворской молодежью некому; влюбленные парочки то и дело пробирались вдоль стен, и одна за другой тонули в душистом море весенней растительности.
Вот юркнула туда хорошенькая Барбара Извольская с длинноволосым Врублевским, за ними крадется сентиментальная Кася… наверное, к шалопаю Стаське, племяннику Фабьяновой, который ждет ее в какой-нибудь беседке. Вот и панна Бронислава, состоятельная зрелая дева, постоянно толкующая о спасении души и о повреждении нравов… С кем это она? Да неужто своего кавалера завела? Так и есть! Из-за дерева выскакивает Моржковский, и они вместе исчезают… Вот так девотка! Вот так любимица ксендза Дубровского, ставящего ее в пример чистоты и непорочности!.. Понятно теперь, откуда взялись у Моржковского такие красивые ленты у шапочки и расшитые шелками перчатки, в которых он так отличался на последнем бале в замке. За ним, без сомнения, отправятся миловаться в парк и все прочие влюбленные. У всех одно только на уме — мерзостные плотские наслаждения, которые так растлевают и расслабляют силу духа! Тьфу, паскудство! Дьявольское наваждение! Аббат Джорджио даже плюнул от отвращения.
Хорошо, что сам он не поддается этой глупой слабости — любви к женщинам. Всегда предпочитал он им сласти иного рода, и нет такой красавицы, которой он не променял бы на чашку хорошего итальянского шоколада с бисквитами или на тарелочку засахаренных фруктов.
Как он славно позавтракал сегодня! Надо почаще навещать пани Розальскую, во-первых, чтобы поддерживать в ней бодрое настроение, а во-вторых, чтобы лакомиться у нее форелью с соусом из перигорских трюфелей. Какая разница с здешними, насколько они сочнее и душистее! И соус такой мало где умеют делать. Как там ни хвастайся поварами дворской эконом, а кухня в Тульчине не может и сравниться с кухней в Пулавах. Откуда у повара Розальской рецепт для приготовления соуса для форели? Надо непременно поговорить об этом с Цецилией и посмотреть, как у них делается этот соус. Все это пригодится ему, аббату Джорджио, когда у него будет своя кухня в собственном доме.
Об этом доме он так много мечтал, что ему часто казалось, что он существует не в одном только его воображении, а в действительности. Представлял он его себе в лучшей части города, среди старого сада с душистыми цветами и тенистыми деревьями. Кабинет обширный, обставленный мягкими диванами, заваленными подушками, вышитыми усердными дамскими ручками. К тому времени под его управление подпадет душа не одной Розальской, а множества других интересных женщин. Стены этого кабинета будут обиты тисненой кожей, пол — мягким смирнским ковром. Потолок разрисует ему хороший художник. Бюро между окнами, выходящими непременно в сад, должно быть лучшей вещью в комнате и обращать на себя внимание с первого взгляда артистической работой из черного дуба. На стенах несколько картин, разумеется, духовного содержания, подписанных именами знаменитых художников. Мраморный черный камин будет украшен массивными бронзовыми часами и канделябрами. У стены, близ письменного стола, несколько шкафов библиотеки, наполненной великолепно переплетенными изданиями, как у прелата Фаста. Да и спальню лучше и удобнее, чем у последнего, он представить себе не мог, также и столовую, светлую и просторную комнату с большим круглым столом посреди и с удобными стульями, на которых удобно подолгу засиживаться за интересными разговорами, переваривая вкусный, тонкий обед или ужин. Кругом поставцы, сверкающие золотом, серебром и фарфором, с чудными фруктами во всякое время года, ликеры, всевозможные сласти…
Но где уже вполне личная инициатива аббатика одерживала победу над подражанием, так это в устройстве кухни и всего, что относилось к ней. Какие у него будут подвалы для вин, сыров, ветчин и прочих припасов! Какие кладовые для фруктов и консервов! Какие ледники для рыб и дичи! И, наконец, какая кухня! Тут все будет выполнено по правилам гастрономии, тут будут создаваться под его непосредственным наблюдением подливки и соуса, тающие во рту пирожки, легкие, как воздух, суфле, кремы и проч., и проч.
К сожалению, все эти прелести могли мерещиться аббатику только в более или менее отдаленном будущем. Но преобладающим качеством его характера было терпение, и он шел к цели неуклонно, не упуская ни малейшего случая, могущего приблизить его хотя бы на шаг к вожделенному блаженству. Вот и теперь, упрекнув себя в бесцельном ротозействе и в пустом блуждании мыслей, он соскочил со своего обсервационного пункта, чтобы приняться, не медля, за письмо к могущественнейшему из своих покровителей, прелату Фасту.
Он начал свое послание с описания тульчинских торжеств и, перечислив магнатов и представителей зажиточной шляхты, на которых патриотам нельзя было рассчитывать, перешел к тем, которые отказались поддерживать требования схизматиков в ущерб католиков, справедливо усматривая в этом преступную измену вере и отечеству. Замечательно толково и ясно охарактеризовал он колеблющихся, которых еще можно попытаться обратить в рьяных патриотов, если приняться за них умеючи. Но особенно долго распространялся он о женщинах, характер, вкусы, пороки и семейное положение которых изучил в совершенстве, вследствие чего знал степень влияния их на мужей, братьев, любовников и сыновей, которое всегда играло важную роль во всей истории Польши, в особенности, перед наступлением смут.
Наконец, коснувшись москалей, вмешивавших в дела страны или по обязанности — в силу предписаний своего правительства, — или по собственной инициативе, чтобы ловить рыбу в мутной воде, он остановился на Аратове и изобразил его, как личность ловкую, умную, ни перед чем не останавливавшуюся и крайне опасную. Последние слова, особенным образом подчеркнутые, должны были обратить внимание прелата, издавна посвященного в тайный смысл едва заметных черточек, крестиков и тому подобных кабалистических знаков, которыми было испещрено послание ученика иезуитов.
«Если я раньше не говорил Вашей всевелебности об этом человеке, то лишь потому, что не знал, к какой партии он примкнет, — написал аббат Джорджио. — Без религии, без нравственных принципов, он относится враждебно к правительству своей родины, не прочь увеличить затруднения русского посла, и если примкнул теперь к русской партии, то непременно с задними целями, весьма ловко скрываемыми до поры до времени. Но во всяком случае, особенно благодаря его дружбе с киевским воеводой, даже и временное его пребывание в этом лагере не может остаться бесплодным. К счастью, представляется возможность превратить эту дружбу в злейшую вражду через женщину, на которую мне посчастливилось приобрести влияние. Смело можно рассчитывать, что размолвка Аратова с киевским воеводой оторвет от русской партии добрую треть приверженцев, из которых более половины легко будет переманить на сторону патриотов. Позволю напомнить вашей всевелебности, что народонаселение в Киевском воеводстве смешанное, состоит, кроме поляков, из русских и хохлов, всегда готовых идти за таким человеком, как Аратов, — православным и владельцем русских крестьян. Как сделать, чтобы, если невозможно будет перетянуть его на нашу сторону, то по крайней мере обезвредить его, — для этого у меня уже составился план, который я буду иметь честь представить на одобрение Вашей всевелебности при личном свидании».
Дальше он с сердечным сокрушением жаловался на усиливающуюся дружбу графа Салезия с русским послом, грозившую, по его мнению, большою опасностью святой церкви, и напирал на необходимость вовлечь пани Анну в партию патриотов, действуя на ее честолюбие и ловко льстя ее патриотическим чувствам. Это тем более было возможно, что ее раздражают успехи русский пропаганды в крае, нескрываемая радость схизматиков, чующих близкое торжество, а также и то обстоятельство, что ее влияние на мужа встречает сильный противовес в личностях, подобных русскому послу, референдарию Подосскому и представителям России вроде Аратова.
«Она очень скрытна и никогда ни единым словом не выражает своего неудовольствия при посторонних, но с супругом у нее уже было несколько шумных сцен и предвидится еще больше по приезде в Варшаву, когда нашему графу придется проводить на практике идеи, которыми он увлекается в теории на границе с Россией и при частых столкновениях с русскими. Если б ясновельможные пани, руководительницы восстания против иноземного гнета на их родину, захотели только воспользоваться тяжелым настроением ее души, им ничего не стоило бы найти в ней смелую, умную и деятельную помощницу, за которой и граф Салезий в самом непродолжительном времени последует, как послушная овца… Хорошо было бы повлиять в этом смысле на пани Краковскую, на графиню Замойскую и на других, чтобы по прибытии нашей ясновельможной в столицу эти дамы сделали первый шаг к сближению с нею. Большую оказали бы они этим услугу отчизне».
В самом конце письма аббатик почтительнейше просил его всеве-лебность передать глубокоуважаемой пани Дуклановой, что ему удалось только на днях исполнить ее поручение, разузнать про русского помещика Грабинина — правда ли, что он приехал в свое имение Воробьевку под Киевом, какое произвел на окрестных жителей впечатление, женат ли он, есть ли у него дети, долго ли думает остаться в деревне?
«Я узнал, что он действительно приезжал в свое имение, но на короткое время и, ни с кем не познакомившись из соседей, уехал неизвестно куда. Несомненно, он не намерен больше возвращаться, потому что оставил своему управителю, простому русскому мужику, по общему мнению, весьма плутоватому, доверенность не только на управление, но и на продажу своего имения. Грабинин — молодой человек лет двадцати пяти, не женат, красив собою. По словам приезжавших с ним слуг, он ведет в Петербурге рассеянную жизнь богатого холостяка и занимается гораздо больше кутежами с продажными женщинами, чем увеличением доходов с имений, которых у него достаточно и под Москвой, и в других местах империи. Одним словом, тип во всем противоположный его соотечественнику Аратову и не представляет для нас никакого интереса», — прибавил в заключение своего длинного письма аббатик.
Этой пани Дуклановой, которой были посвящены последние строки послания, аббат Джорджио был обязан своим сближением с прелатом Фастом. Впрочем, последний уже и раньше чем встретил его у нее в палаццо Чарторыских (где она жила резиденткой на респекте), обратил внимание на протеже киевской воеводши, когда в числе экзаменаторов, приглашаемых ежегодно в коллегию иезуитов, выслушивал бойкие и остроумные ответы племянника тульчинского капеллана. Великий знаток людей, прелат пригласил юношу приходить к нему во всякое время, в полной уверенности, что этим приглашением тот не злоупотребит. Он не ошибся: аббат Джорджио приходил к нему только с интересными сведениями для дела, которому прелат посвящал свою жизнь в Польше и которому в скором времени всей душой предался и его маленький вестовщик.
Окончив письмо и запечатав его, аббатик вложил его в боковой карман и, заперев дверь своей каморки, спустился по крутой лестнице в нижний этаж, где уже царили обычный шум и оживление. По коридорам сновала дворская челядь, раздавался смех и говор, сливаясь со звуками клавесина, арфы и пения. У дверей большого зала, где француз-танцмейстер обучал тех из дворских юношей и девиц, которые должны были сопутствовать ясновельможной в Варшаву, модным французским танцам и даже на всякий случай сценам из какого-то балета, аббатик встретился с резиденткой Младоновичевой. Та от изумления даже всплеснула руками, увидя его.
— Иезус Мария! Это вы, Джорджио? А я бежала по приказанию нашей пани за паюком Юзефом, чтобы послать вас искать на мызе! Когда успели вы вернуться и почему тотчас же не явились к ясновельможной? Она, как встала, каждые пять минут спрашивает о вас, сердится, что вас до сих пор нет. Вернулась она с мызы такая расстроенная, что мы не на шутку опасаемся за ее здоровье, — задыхающимся от волнения голосом сообщила она аббату. — Идите, идите к ней скорее на балкон, может быть, присутствие ваше принесет ей пользу, — продолжала она, указывая на дверь в угловую гостиную с широкой террасой, на которой пани Анна имела обыкновение проводить время до ужина, когда не ездила кататься или не гуляла по саду.
— Иду, иду, — поспешил заявить аббат, направляясь к указанному месту через гостиную.
Там группами сидели за рукоделием и расхаживали, оживленно беседуя между собою таинственным шепотом, дворские девицы с монахинями из соседних монастырей. Некоторые из дворских девиц занимались французским языком, другие — итальянским. Между самыми скромными и прилежными аббатик узнал проказниц, бегавших часа два тому назад на любовные свидания в парк.
«Ах вы, дурочки, дурочки! Лезете, как глупые бабочки, на огонь, чтобы обжечь себе крылья и на всю жизнь искалечиться. Не женятся на вас ваши любезники, разлетятся в разные стороны ваши соколы, и останетесь вы сохнуть на стеблях в Тульчине, как Дмоховская, Мощинская, Младоновичева, Фабьянова и другие старые девы, которых во всех замках такое великое множество!» — думал он.
Проходя мимо клавесина, за которым- Кася свеженьким голоском выводила трели итальянского романса, он подумал подшутить над нею и, пригнувшись к ее розовому ушку, спросил: «А где оставили вы Стаську, моя панна?» Кася вздрогнула, и от испуга ее голос оборвался, как треснувшая струна, но, когда она повернула свое раскрасневшееся личико с умоляющим взглядом к шутнику, он был уже далеко, и просьба о пощаде, готовая сорваться с ее губ, осталась невысказанной.
За несколько шагов до террасы к аббатику подошла резидентка До-мановичева, пользовавшаяся особенным доверием Потоцкой и расположением духовных лиц, посещавших замок киевского воеводы. Она тоже обратилась к аббатику с заявлением, что графиня ждет его с нетерпением, что она очень расстроена и невозможно ее ни развлечь, ни утешить.
— Я задержался на мызе, моя панна, — с печальным вздохом возразил аббат. — Там тоже льют слезы и сокрушаются, терзаются раскаянием и страхом. Насилу удалось мне немного успокоить нашу красавицу. Из обморока она впала в истерику, из истерики — в обморок. Длилось это целых три часа, так что сам я чуть было не заболел, глядя на нее. Только прогулка по парку освежила меня настолько, чтобы явиться перед нашей благодетельницей в приличном виде и засвидетельствовать ей об отчаянии пани Розальской.
— Ах, пожалуйста, не говорите этого! — прервала его с негодованием Домановичева. — Если б пани Юльяния хоть сколько-нибудь ценила милости нашей пани, то не доводила бы ее до отчаяния своими глупыми и преступными фантазиями. Нашла жениха, нечего сказать! Москаль, схизматик, хитрая, кровожадная лисица! Уморил жену, чтобы и другую вогнать во гроб, завладевши ее состоянием… Жених наиподлейшего типа, одним словом.
— Тише, тише, панна, мы не имеем права осуждать человека, которого не знаем.
— Не говорите глупостей, Джорджио! Мы знаем, что он — москаль, еретик и враг нашей веры и нашей отчизны; чего же еще больше надо, чтобы ненавидеть его, презирать и желать ему всевозможного зла? И Розальская должна знать это, а она променяла своих благодетелей, первую фамилию в Речи Посполитой, осыпающую ее милостями, на чудовище, на исчадие ада! Ну разве я не была права, когда говорила, что, кроме горя и проклятий, нам от москалей ничего нельзя ждать? Вот и вышло по-моему! Если б наш граф следовал примеру таких верных сынов церкви, как граф Браницкий, как Радзивилл!
— Но ведь Карл Радзивилл помирился с русскими?
— Отстанье, пожалуйста! Никогда я этому не поверю, никогда! Обещания у него были вырваны силой, а как он их исполнит — это мы увидим. Да и наконец какое им дело до «пана Коханку»? За свои грехи ответит он и близкие его перед Богом и святым отцом.
— Не говоря уже о том, что при его богатстве ему и грешить можно несравненно больше, чем другим, — на индульгенции у него денег хватит, — подсказал аббат.
— Разумеется, разумеется, — поспешила согласиться с ним Домановичева. — Он гораздо богаче нас и далеко не так запутан в долгах, как мы, и у него нет такого ангелочка, как наш Щенсный, которому надо оставить очень большие средства, чтобы с честью поддерживать гонор фамилии, и нет четырех дочерей, которым надо дать богатое приданое… Да и вообще что нам за дело до Радзивилла и до его поступков? Наше дело — заботиться о чести нашей фамилии; нам надо сокрушаться, что наш добрый граф подпал под влияние наших врагов, как и корольтнаш, который представляет собою чистую марионетку в руках русской императрицы… И вот плоды этой преступной податливости: держись наш граф подальше от москалей, нашей Розальской негде было бы встретиться с Аратовым, и теперь мы, может быть, готовились бы отпраздновать ее свадьбу с паном Длусским, человеком из наших и верным сыном нашей церкви, внуком и правнуком друзей нашей фамилии.
— А политика, моя милая панна? Вы забываете про политику? — предвкушая забавный взрыв негодования, заметил аббатик.
— Знаете, что я вам скажу, Джорджио? — зашипела она, близко пригибаясь к нему. — Из-за вашей политики распроклятой все мы, с пани Анной и с паном Салезием во главе, будем веки вечные кипеть в аду, в котлах со смолой, на потеху чертям и на радость Вельзевулу! И, право же, Джорджио, не будь вы духовное лицо, давно сумела бы я уговорить пана маршала, чтобы он приказал двум паюкам разложить вас на ковре и до крови высечь, чтобы выбить из вашей головы грешные и неприличные вашему сану мысли!
С этими словами Домановичева повернулась к аббатику спиной и величественно направилась к двери в противоположном конце покоя, против той, что была отворена на террасу, где пани Анна полулежала в глубоком кресле, с платком, омоченным в уксусе, на голове и с флаконом нюхательного спирта в руке.
При появлении аббата резидентки, занимавшиеся рукоделием в нескольких шагах от госпожи, по ее знаку забрали свои корзины с работой и удалились в покои, а аббатик почтительно взял руку графини, с глубоко удрученным видом поднес ее к своим губами и продержал ее там до тех пор, пока ясновельможная не заговорила. А случилось это не тотчас. Сначала пани Анна несколько раз тяжело вздохнула, потом поднесла флакон к носу и с минуту вдыхала в себя освежающий эфир.
— Неужели ты все это время был у нее? — спросила она наконец, поднимая томный взгляд на аббатика.
— Да, моя пани! И когда ясновельможная узнает о результатах моей беседы с Юльянией, она извинит мое отсутствие, — ответил он, устремляя на нее полный преданности взгляд. — Я оставил ее именно в том душевном настроении, в каком она и должна находится после случившегося: она глубоко проникнута раскаянием, страстным желанием загладить свою вину перед ясновельможной благодетельницей и в лихорадочном ожидании приказа явиться, чтобы выразить свои чувства.
— Она отказывается от Аратова? — спросила графиня, внимательно выслушав блестящую импровизацию собеседника.
— Не только отказывается, но даже хотела написать ему, что все между ними кончено, что она ни за что не решится поступить наперекор желанию своей покровительницы, и чтобы он забыл о ее увлечении, как и сама она постарается забыть о нем.
— И что же?
— Я этому воспротивился, моя пани, и вот почему: на письмо он мог бы ответить письмом или, еще хуже, лично прискакать с требованием объяснений и клятвами, уверениями, мольбами, угрозами лишить себя жизни и тому подобными уловками поколебать ее решение и снова овладеть ее сердцем. Ведь ее чувство к нему не успело еще остыть, и разум еще не вполне взял верх над ее безумным увлечением.
— Ты, может быть, и прав, — заметила графиня.
— Мне кажется, что лучше всего было бы оставить это дело до поры до времени в том положении, в котором оно находится, и что, если не вмешиваться в него, оно само собою распадется. Аратов опасен для нас по многим причинам, из которых его намерение похитить нашу Юльянию — далеко не самая важная. В случае надобности всегда можно будет справиться с обезумевшей от пагубной страсти молодой женщиной; чтобы удержать ее на краю гибели, у нас существуют монастыри, и наша ясновельможная пани слишком хорошо известна в стране своими добродетелями и широкою благотворительностью, чтобы всевелебные настоятельницы не сочли за честь и за счастье оказать ей услугу.
— Но чем же Аратов, по-твоему, еще опасен нам?
— О моя пани! Вам это известно лучше меня! Сердце каждого истинного сына церкви содрогается при мысли об опасности, грозящей католицизму в нашей несчастной стране! Не дай Боже, чтобы намерение русского правительства осуществилось! — продолжал аббатик, в экстазе поднимая глаза к небу и всплескивая руками. — Его коварное требование равенства прав для диссидентов с католиками — не что иное, как ловушка для недальновидных и равнодушных, не желающих понимать, что это равенство влечет за собою неминуемое унижение, а затем разложение нашей святой веры в этом крае. Если мы не сплотимся во имя нашего Господа и Его представителя на земле, святого отца, если мы дружно не выступим на борьбу против схизматиков, не докажем им своего отчуждения и отвращения, — гибель наша неминуема! Наступает торжественная минута для Речи Посполитой… торжественная и роковая! Всем детям святой церкви надо сплотиться, забыть на время до благоприятной минуты, когда нам можно будет жить для личных целей и выгод, нам теперь необходимо помнить только свой долг перед родиной. Я не от себя говорю, а только позволяю себе повторять сердечные желания всех истинных патриотов, — поспешил он оговориться, заметив саркастическую усмешку на губах своей слушательницы.
— С Чарторыскими во главе? — язвительно спросила она.
— «Фамилия» во имя общего блага помирилась с Масальскими, — скромно опуская глаза, заметил аббатик.
— Не слишком ли часто переписываешься ты с руководителем совести княгини Изабеллы? Это отнимает у тебя память. Мы, кажется, говорили про Аратова, — надменно дала ему заметить Потоцкая, что он забывается.
— Он — москаль, моя пани, и этим словом все сказано. К счастью, мне удалось напасть на след его тайны, а это поможет вырвать у змеи ядовитое жало.
— Ты все еще подозреваешь его в преступлении?
— Больше прежнего!
— У тебя новые данные на это? Какие?
— Умоляю ясновельможную дозволить мне не отвечать на этот вопрос. От этого отчасти зависит успех дела. Попрошу также мою пани быть ко мне милостивой до конца и не отказать мне во всепочтитель-нейшей просьбе.
— Что такое? Говори!
— Я позволил себе обещать нашей кающейся Магдалине, что ясновельможная пришлет за нею завтра утром. Она так наказана, что доводить ее до отчаяния было бы опасно.
— Хорошо, я пошлю за нею. Но по твоим глазам я вижу, что это не все и что тебе хотелось бы, чтобы я не напоминала ей о том, что произошло сегодня между нами? Да?
— О моя пани, какое счастье, что наши мысли сходятся! — воскликнул аббатик, в порыве восторга опускаясь перед нею на колени и припадая к ее рукам. — Как это было бы прекрасно, как душеспасительно, какая это была бы заслуга перед святою церковью, если б нам удалось спасти от гибели нашу Розальскую и одновременно выпутать нашего доброго графа из сетей москалей, открыв ему глаза на преступление Аратова! Какой это был бы удар для русского посла и всей русской партии!
— А если он не совершил преступления, в котором ты подозреваешь его? Если ты ошибаешься?
— Я не ошибаюсь, моя пани! Я не могу ошибаться в вопросе, от которого зависит спасение души моего благодетеля. Он должен быть преступником! — произнес аббат Джорджио с такою уверенностью, что, глядя на него, пани Анна с изумлением спрашивала себя: неужели это — тот наивный, неопытный юноша, которым все в замке привыкли забавляться, как игрушкой, всех смешивший своеобразными и остроумными выходками?
Странное бесполое существо в черной ряске, он ни в ком не возбуждал подозрения; никому в голову не приходило придавать значения его наблюдательности, все были с ним откровенны. Ни за что не поверила бы она до этой минуты, что этот ласковый котеночек, которому ради шутки она дозволяет причесывать себя, румянить, налеплять мушки на ее лицо, которого она принимает даже в дезабилье, явится вдруг перед нею осторожным, проницательным политиком, в совершенстве владеющим талантом все выспросить, сам ничего не высказывая, и еще более опасным даром заставлять людей смотреть на все его глазами и отыскивать в тайнике чужой души сокровеннейшие чувства и слабости!
Но еще больше надо было удивляться проницательности, с которой он угадал сомнения, только что начинавшие зарождаться в ее сердце относительно представителей и представительниц оппозиции против короля. Она ненавидела этих людей и презирала их от всей души, но не могла не сознаваться, что они, может быть, имеют больше прав, чем она, называть себя истинными патриотами и верными сынами церкви. Опасность русских требований, кажущихся справедливыми таким верхоглядам, как его супруг и его клиенты, всегда была ясна для нее, и не раз она задумывалась над неприятным вопросом: имеет ли она право из-за личных неприязненных чувств мешать тем, которые готовятся жертвовать собою для ограждения прав церкви, всегда игравшей первенствующую роль в Польше?
Да, аббатик удачно выбрал минуту для первого натиска на эту гордую, самостоятельную душу, томившуюся бездействием и смутными вожделениями выступить вместе с другими на борьбу за целостность и возрождение родины. До сих пор удерживал ее от этого здравый смысл и недоверие к вожакам заговора, но, если эти люди так решительно идут на всякие жертвы, не останавливаясь ни пред разорением, ни перед смертью, можно ли сказать наверняка, что их ждет поражение?
— Во всяком случае первого шага я не сделаю, — проговорила Потоцкая задумчиво, как бы бессознательно отвечая на мысль, завертевшуюся в ее уме.
— О моя пани! Они только и ждут позволения сделать этот шаг! — воскликнул аббатик, подхватывая на лету вырвавшееся признание. — Всюду, во всех дворцах, только и речи, что о счастье заручиться симпатией киевского воеводы и его супруги! Но это счастье кажется так недостижимо, что на многих начинает нападать отчаяние. По приезде в Варшаву моя пани убедится в справедливости моих слов и в том, что настроение умов мне хорошо известно. Да иначе не может быть: только при вашем содействии верным сынам церкви можно рассчитывать на успех в борьбе против схизматиков. Эту мысль прекрасно выразил епископ Солтык на последнем совещании у коронного гетмана, а княгиня Адамова сказала на это: «Если б надо было на коленях вымолить это содействие, я не остановилась бы перед этим».
— Княгиня Адамова сказала это? — спросила ясновельможная, не спуская испытующего взгляда с агента прелата Фаста.
— О моя пани! Да разве я смел бы передать вам то, чего не было? Разве же я могу лгать моей благодетельнице, той, которой я обязан больше, чем жизнью! Что было бы со мною без ясновельможной? Прозябал бы я в какой-нибудь трущобе без образования, без духовного развития, как последний хлоп, отличающийся от животного только даром слова.
Голос аббатика прервался, и он прижал платок к глазам.
Думая, что он плачет от сердечного умиления при воспоминании о ее благодеяниях, ясновельможная сама расчувствовалась и стала утешать и успокаивать его.
— Я верю тебе, сын мой, и докажу тебе это: можешь передать тому, от кого ты слышал такое лестное мнение о моем влиянии, что мне известно про желание «фамилии» привлечь меня к начатому ею делу. Ничего больше! — поспешила она прибавить. — Понимаешь? На первый раз и этого довольно; время покажет, как нам поступать дальше. А теперь дай мне руку, чтобы помочь дойти до моей спальни. Я очень устала от вынесенных сегодня нравственных потрясений и рано лягу в постель, — прибавила она, поднимаясь с места, и, опираясь на плечо аббатика, вошла в покои.
XVIII
Проводив ясновельможную до дверей ее спальни и передав ее с рук на руки выбежавшим к ней навстречу дворским девицам и резиденткам, аббатик отправился во флигель, где жил дворский маршал Држевецкий, и нашел его в самом разгаре приготовлений к отъезду в Варшаву. Увидав его, Држевецкий поспешил выслать помогавшую ему укладываться челядь и с любезной улыбкой спросил, чем он может служить.
Аббатик вынул из кармана приготовленное письмо и подал его с просьбой передать в собственные руки его всевелебности прелату Фасту.
— С величайшим удовольствием, с величайшим удовольствием! — с живостью ответил маршал, опуская письмо в портфель с бумагами. Как видите, ваше письмо поедет в столицу в знатной компании — с письмами ясновельможной к супругу, к графине Поцей, Оссолинской и к другим пани из самого высшего общества и будет передано лично мною по назначению.
— Очень буду благодарен пану маршалу…
— Это я должен быть благодарен ксендзу аббату за доверие.
— Пан маршал не должен сомневаться в моей преданности.
— Обоюдно, обоюдно, ксенже аббате. Большего счастья для меня не может быть, как иметь возможность лишний раз повидаться с такой персоной, как прелат Фаст, умнейшей, образованнейшей и любезнейшей во всей Европе.
— Ксенже прелат тоже высокого мнения о дворском маршале киевского воеводы.
Обмен приятных слов был прерван появлением резидентки Младо-новичевой с поручением от ясновельможной. Заставить ждать такую влиятельную личность было невозможно, и, рассыпаясь в новых извинениях перед своим первым посетителем, маршал попросил у него позволения узнать, что нужно от него ясновельможной.
— Идите, идите, мой пане, я тут подожду, — поспешил заявить прелатик, отступая в темный угол обширного покоя, заставленного чемоданами и приготовленными к укладке вещами.
После обычных церемоний, приветствий и извинений со стороны хозяина и жеманных уверений, что ей бесконечно совестно беспокоить глубокочтимого пана маршала в такой поздний час, панна Младоновичева приступила к изложению данного ей поручения.
— Наша ласковая пани просит пана маршала распорядиться, чтобы комнаты рядом с ее спальней, а именно зеленая, красная и обе следующие, были приготовлены для пани Розальской.
— Пани Розальская будет жить не у себя, а во дворце? — не без удивления спросил маршал.
— Да. По крайней мере графиня желает этого, и вряд ли пани Розальская решится не повиноваться ей в этом. Графиня просила пана маршала переговорить с декоратором и вынуть из кладовых зеркала, мебель, бронзу, драпировки, все, что нужно, чтобы помещение было убрано богато и со вкусом. Может быть, пани Розальская пожелает взять некоторые вещи из своего дома.
— О, надеюсь так сделать, что ей и в голову не придет даже вспомнить об обстановке своего дома! Передайте ясновельможной, что ее желание будет исполнено, — прибавил он с низким поклоном, на который панна резидентка ответила грациозным реверансом, сказав при этом:
— Желаю доброго пути пану маршалу! Еще раз прошу извинения за беспокойство!
— Кроме удовольствия, посещение панны резидентки никогда ничего не может мне причинить; жалею только, что должен был ее принять в такой обстановке.
— Ах, пожалуйста, не думайте об этом! Разве же я не знаю, что значит собираться в дальний путь!
Наконец, пан Држевецкий выпроводил посетительницу и, весело потирая руки, вернулся к аббатику.
— Я счастлив сообщить моему графу приятную весть. Его светлость так беспокоят натянутые отношения между пани Розальской и его супругой, что даже в последнем своем деловом письме он спрашивает: «Часто ли бывает Розальская в замке?»
— Пан маршал может успокоить на этот счет своего ясновельможного господина. Розальская поняла свои заблуждения, раскаялась в них и ничего так не желает, как заслужить прощение своих благодетелей.
— Очень буду рад передать ваши слова графу, тем более что после истории, случившейся сегодня утром на мызе и приведшей нашу пани в такое расстройство, я был бы в большом затруднении отвечать на вопросы, которыми меня встретят в Варшаве.
— Как видите, все забыто, ясновельможная готовит помещение своей любимице во дворце.
— Правда, правда. А я слышал, будто Розальская объявила нашей пани, что ни за кого не выйдет замуж, кроме Аратова.
— Мало ли что говорится в минуты экзальтации, мой пане! Да и кто это слышал? Скажите тем, кто будет передавать вам эти сплетни, что при свидании ясновельможной с пани Розальской присутствовал только аббат Джорджио, который утверждает, что ничего особенного не произошло, — произнес с большим апломбом аббатик.
— Отлично, отлично, так и буду всем говорить. Усерднейше благодарю за доверие!
Но всему наступает конец, и, обменявшись несколькими любезностями, приятели расстались.
Было уже поздно, когда аббатик вернулся в свою каморку, но он был так взволнован событиями этого достопамятного для него дня, что спать ему не хотелось, и, вскарабкавшись на подоконник, он стал мечтать, вглядываясь в ночные тени, сгущавшиеся особенно в парке, из которого ветерок доносил до него шуршание таинственных шагов и глухие, одним только разгоряченным воображением уловимые звуки говора, стонов и ликования никогда не умолкающей природы.
Аббатик находился именно в настроении понимать эти звуки и слышать в них то, чем полна была его душа. Не его ли победу прославляет ночь? Не дивятся ли вместе с ним бесчисленные духи земли и неба блестящим результатом его красноречия и таланта угадывать чужие чувства и мысли?
А подивиться есть чему. Мог ли он надеяться так быстро и ловко овладеть душой Юльянии и из ее собственных уст услыхать подтверждение его подозрений насчет ее возлюбленного? Как ловко воспользовался он этим признанием! В каком смущении, страхе и волнении она теперь! И кому же, как не ему, поверит она свои душевные мучения? От кого может она ждать помощи, поддержки и утешения, кроме как от него? Ни от кого на свете… Но что значит эта победа в сравнении с той, что одержана им над душой пани Анны! Смел ли он когда-нибудь мечтать о такой победе?
Чем больше углублялся он в смысл происходившей между ними беседы, тем знаменательнее и чреватее последствиями казалось ему каждое слово. Разве они не договорились до условий примирения с патриотами. Разве она не выслушала его терпеливо до конца? А восклицание самодовольствия, вырвавшееся у нее о княгине Адамовой? Разве это не есть целое откровение? О да, семя, брошенное им, попало в хорошую землю и принесет плод, достойный цели прелата Фаста, который умеет ценить заслуги! Этот день не может не ознаменоваться для аббата Джор-джио поворотом фортуны в его пользу, и — кто знает? — он, может быть, уже вступил на первую ступень лестницы, ведущей все выше и выше, до таких высот, что голова кружилась заглядывать туда, а сердце сладко билось от опьянения мечтами, к осуществлению которых он вдруг шагнул так близко, что аббатик видел себя таким, каким надеялся сделаться в далеком будущем.
Хорошо, что человеку, даже самому ловкому и умному, не дано провидеть, иначе как в мечтах, не только будущее, но и скрытое от него настоящее; будь это иначе, живо протрезвел бы наш аббатик от своего блаженного упоения, увидав то, что делается на той самой мызе, о которой он вспоминал с восхищением и самодовольством. Там в эту самую ночь и в той самой комнате, где Юльяния, покоренная его проницательностью и красноречием, на коленях молила его о помощи и поддержке, она теперь, забыв все на свете, наслаждалась любовью в объятьях Аратова. Одним своим появлением, первым своим поцелуем уничтожил «проклятый москаль» все победы аббатика. После первых излияний счастья и изумления, когда первый порыв страсти затих, и Юльяния могла собраться с мыслями настолько, чтобы передать ему некоторые подробности того, что произошло за несколько часов до его появления, Аратов громко расхохотался.
— Так этот мозгляк вступил в роль руководителя твоей совести? Недурно! Я вижу, однако, что опасно оставлять тебя надолго одну, и буду это помнить. Впрочем, таких помех уже больше не будет, жены умирают не каждый день… Ну-ну, прошу не смотреть на меня такими глупыми глазами! Я запретил тебе думать об этом, и ты должна повиноваться мне! Ты не знала моей жены, и жалеть о ней тебе нет смысла, а что я — не поляк и враг всякой сентиментальности, это тоже тебе должно быть лучше, чем кому-либо, известно. Меня гримасами, даже самыми хорошенькими, не проведешь, — прибавил он, покрывая поцелуями испуганное личико Розальской.
Однако, немного переждав, она снова вернулась к мучившему ее вопросу.
— Как это случилось?
— Что я к тебе приехал? Очень просто: соскучился, и по дороге в Варшаву свернул сюда. Что тут удивительного! Не в первый раз. Помнишь, какой я тебе сделал сюрприз после бала?
Юльяния так хорошо помнила это, что это напоминание придало ей смелости повторить вопрос, на который он так настойчиво уклонялся ответить.
— Я хочу знать про нее… про ту, которая умерла… Ты представить себе не можешь, как всех удивила эта внезапная смерть!
— Что ты хочешь сказать? Меня считают убийцей? — вымолвил Аратов, сдвигая брови. — Ну и пусть! Тебе-то что до этого? Ведь ты знаешь, что это — неправда?
— Неправда! — радостно повторила Юльяния.
— А ты в этом сомневалась? — произнес Аратов угрюмо. — Ну, видно, мне надо как следует допросить тебя! От кого слышала ты эту клевету? Мне надо все знать, все! Врагов у меня здесь слишком много, чтобы я мог оставаться в неведении, и, если ты меня любишь, ты сама должна это понимать.
Если она его любит! Да у нее в сердце других чувств не осталось, кроме любви к нему. На все готова она, чтобы доказать это, — не только на смерть, но и на погибель души своей.
Юльяния все рассказала Аратову без утайки, начиная от подробностей своей размолвки с пани Анной и кончая признанием, которое вымучил у нее аббатик. Аратов перестал смеяться, а хмурился все больше и больше.
— Хорошо, что я вздумал навестить тебя именно сегодня и что ничто не помешало мне сделать это, — начал он после довольно продолжительного раздумья, которое она, затаив дыхание, не позволила себе нарушить даже вздохом, ожидая с замирающим сердцем последствий своей исповеди. — Вижу, что ты нисколько не понимаешь твоего положения как женщины, которую я полюбил и хочу сделать своей женой. Не плачь, — отрывисто продолжал он, увидав катившиеся по ее побледневшим щекам крупные слезы. — Ты чуть было не погубила меня. Но я не сержусь на тебя за это; вины твоей в этом нет, всему причиной твое фальшивое воспитание… Я сделаю из тебя настоящего человека. Слушай же: прежде всего мне надо, чтобы ты была в наилучших отношениях с твоей пани. Понимаешь?
— А если она захочет, чтобы я в Варшаве жила у нее, а не в своем доме? — спросила Юльяния дрогнувшим голосом.
— Прекрасно! Живи там, где она хочет. Поступай во всем по ее желанию и доказывай ей свою преданность и любовь при каждом удобном случае.
— Она хочет, чтобы я отказалась от тебя.
— И откажись! Что ж из этого? Я же отказываюсь, когда это нужно, от удовольствия видеть тебя, ну и ты выучись терпеть и ждать счастья, ни о чем не рассуждая и во всем полагаясь на меня. Очень просто.
— Где же мы будем видеться?
— Уж это, милочка, совсем глупый вопрос, на который не стоит и отвечать. Повторяю тебе еще раз: положись во всем на меня, я все устрою.
— Но если я не сумею притворяться?
— Вздор! Нет такой женщины, которая не умела бы притворяться. И ты умеешь… может быть, хуже других, но от тебя зависит довести это полезное искусство до совершенства. У меня с вашим графом затеяны большие дела государственной важности; черт знает, как будет досадно, если из-за тебя наши комбинации расстроятся! Никогда не прощу я тебе этого. Ну теперь про аббатика. С этим гусем нужна большая осторожность… Он зол, хитер и воображает себя представителем папы в Варшаве, как сам папа воображает себе представителем Бога на земле. Можно представить себе, каких турусов на колесах нагородил он тебе, чтобы одурманить тебя, напугать и лишить последнего разума! Всех вас здесь, баб, ксендзы так опутали, что мужьям ни до души вашей, ни до ума не добраться. Я этого не желаю и делиться с попом своими правами над женой никогда не соглашусь. Так и знай! Выбирай между мной и твоим аббатиком и выбирай немедля, — продолжал он, пронизывая ее повелительным взглядом. — Ты мне мила, и сдается мне, что любить я тебя буду долго, но все же не умру, если б нам пришлось теперь навсегда расстаться, и с ума от несчастной любви не сойду, а займусь делом да стану другую женку себе приискивать; авось и найду, свет не клином сошелся. Ну, решай же! Скоро засветает, мне надо еще сегодня поспеть к Млодзинскому на хутор, у него собираются приверженцы твоего графа, надо с ними кое о чем важном перетолковать, прежде чем с воеводой видеться.
Не успели последние слова сорваться с губ Аратова, как Юльяния очутилась в его объятиях и, крепко обнимая, клялась всеми святыми, что он ей милее всех на свете, что она всюду последует за ним и будет во всем беспрекословно повиноваться ему.
XIX
В шестидесятых годах восемнадцатого столетия Варшава не отличалась от прочих столиц Европы благоустройством и опрятностью. В ней было точно так же грязно и тесно, как в Париже, Лондоне и Мадриде, особенно в кварталах, где ютилась беднота, а зимой и осенью не только пешеходы, но и экипажи вязли на улицах, безобразно вымощенных острым булыжником и застроенных высокими домами с остроконечными выдающимися вперед крышами; при этом улицы были так узки, что обитателям домов нетрудно было переговариваться и переругиваться из окна в окно.
И нельзя сказать, чтобы этим удобством, в особенности в квартале, заселенном беднотой, не злоупотребляли: гвалт на всевозможных языках и жаргонах, не смолкавший тут ни на минуту, слышен был издалека и, вызывая брезгливые гримасы у счастливцев, имевших возможность не заглядывать сюда, заставлял и пешеходов, и экипажи сворачивать в сторону от этих вертепов нищеты и порока. Не только важные паны и пани, но даже сколько-нибудь уважающая себя мелкая сошка из шляхты или из торгового мира избегала проходить улицами и переулками этой части города, почти сплошь состоявшей из притонов разврата, убежищ для воров, мошенников и нищих разнообразнейших типов, начиная от продавцов секретных снадобий от всевозможных болезней, средств сохранять молодость, счастье в карты и в лотереях, любовь женщин и проч., и проч., и кончая несчастными, выставлявшими для возбуждения сострадания прохожих безобразнейшие язвы и увечья. Одним словом, тут с незапамятных времен ютились подонки большого, богатого торгового города, столицы Речи Посполитой.
О существовании этих подонков в «фамилиях» магнатов знали только понаслышке, а потому можно себе представить, какой поднялся переполох, когда в одно раннее утро в одном из грязнейших переулков этого квартала появилась молодая пани из высшего общества. Она шла пешком и торопливо, закутанная с ног до головы в широкий черный плащ с кружевным капюшоном, скрывавшим ее лицо, но красиво обутые ножки, легкая грациозная походка и маленькая ручка в прозрачной полуперчатке, придерживавшая складки плаща, выдавали в ней особу из совершенно иного мира, чем тот, в котором она очутилась.
Чтобы дойти до площади, к которой она стремилась, надо было пройти шагов триста, не больше, но в одно мгновение во всех окнах, во всех дверях и проходах затеснились лица со сверкающими от любопытства глазами, назойливо оглядывая ее с ног до головы и обмениваясь при этом грубыми замечаниями. Повыскакивали оборванные ребятишки; с гиканьем и криком, толкая друг друга и ругаясь, пытались они загородить дорогу отважной незнакомке. Нахальный хохот и зловещие восклицания, которыми они подбодряли друг друга, грозили перейти в более чувствительные оскорбления, и бедняжка, чувствуя прикосновение грязных пальцев к своему плащу, готова была лишиться чувств от страха, однако следовавший за нею на почтительном расстоянии человек в одежде простолюдина поспешил выступить на помощь ей. При виде его сурово сверкавших глаз и сильных кулаков толпа с проклятиями шарахнулась назад, и он воспользовался общим замешательством, чтобы вывести дрожащую от страха молодую пани на площадь, в противоположном конце которой высился древний костел.
— О как я испугалась, Ян! — проговорила она со вздохом облегчения, когда опасность миновала.
— Я же говорил моей пани, что этими улицами опасно проходить даже днем, а ночью и рано утром и подавно. Тут кроме воров и разбойников, никто не живет, — почтительно заметил провожатый.
В ответ на это пани Розальская промолчала, спеша к цели своего странствования.
Не доходя до ограды костела, она на мгновение остановилась, чтобы боязливо оглянуться по сторонам, и, приказав своему спутнику подождать ее в одном из ближайших трактиров, поспешно проникла под темные своды древнего костела, служившего молитвенным домом беднейшему населению города. Тут даже и за поздней обедней никогда нельзя было встретить настоящую пани, во время же ранней, кроме служанок, забегавших сюда мимоходом сотворить коротенькую молитву, никого нельзя было видеть, и ксендз, служивший в тот день раннюю обедню, не мог не обратить внимания на таинственную незнакомку, скромно опустившуюся на первый попавшийся стул у входа.
«Из какого палаццо залетела к нам эта редкая птичка? И неужто одна, пешком? — прошептал он между молитвенными возгласами, которым рассеянно вторил прислуживавший мальчик в традиционной белой с красным одежде. — И с какой целью пожаловала она сюда?» — продолжал он уже про себя, когда его ассистент, не будучи в силах сдержать любопытство, выскочил на паперть, чтобы беглым взглядом окинуть окружающую местность, и почти тотчас же вернулся он с известием, что у ограды никого не видать.
Посмотрев еще несколько мгновений на углубившуюся в молитву незнакомку, ксендз окончил службу, не торопясь, переоделся и в сопровождении своего маленького служителя вышел из костела, оставляя его на попечении глухого старика, исправлявшего тут должность звонаря и сторожа.
Костел был из беднейших, и, оставшись одна под его мрачными сводами, Юльяния не могла не сознаться, что Аратов был вполне прав, назначив ей именно здесь первое любовное свидание, с тех пор как фамилия воеводы прибыла в Варшаву. Никто во дворце Потоцких не узнает об этом свидании; когда она ушла через сад, все спали, а во время ее отсутствия Цецилия сумеет отклонить подозрения относительно цели ранней прогулки своей госпожи, которая вернется опять через сад, нарвав по обыкновению большой букет цветов для украшения своих покоев. Все было как нельзя лучше предусмотрено великим мастером таких дел, и опасаться было нечего.
Юльяния почувствовала приближение Аратова много раньше, чем он подошел к ней, рванулась к нему сердцем, не поднимая взора от молитвенника и тяжело дыша от подавленного волнения. Наконец его шаги раздались совсем близко от нее, и она решилась поднять на него взгляд. Они были одни в храме, тем не менее он молча подал ей руку и вывел на маленькое пространство, обсаженное кустами и деревьями и огороженное забором, к которому прислонялась хибарка сторожа, и тут только страстно прижал ее к своей груди.
— Видишь, я нашел удобное место для свиданий с тобой. Мы можем здесь сколько угодно целоваться, никто нас не увидит, а и увидят, так не узнают, значит, все равно, что не видели, — весело сказал Аратов, чтобы заглянуть ей в глаза, приподнимая ее лицо, которым она прижималась к его груди. — Ну что у вас новенького? Аббатик все к тебе пристает? А удалось тебе что-нибудь сделать относительно твоих бумаг? Нашла предлог взять их к себе на хранение?
Как сказано выше, это было их первое свидание наедине в Варшаве, а между тем прошло уже около месяца как Аратов приехал из Малявина, а она — в свите ясновельможной из Тульчина.
Узнавши от самого воеводы о приезде его супруги в столицу, Аратов поспешил явиться засвидетельствовать свое почтение пани Анне, но, убедившись с первого ее взгляда, что она относится к нему враждебнее прежнего, повел новую тактику, и она удалась ему как нельзя лучше.
Не будь аббата Джорджио, графиня окончательно успокоилась бы относительно его чувств к ее любимице, — таким равнодушным казался он ко всему, чем увлекался до смерти своей жены. Об этой смерти он распространялся с удрученным видом человека, которому недоступны больше земные радости и утехи. На Юльянию он ни раза не взглянул во время беседы с графиней о постигшем его несчастии и, уходя, оставил всех в недоумении перед странной развязкой романа, занимавшего обитателей тульчинского замка в продолжение целого года.
— Что ты скажешь на это, сын мой? — спросила пани Анна у аббата, оставшись с ним наедине.
— Что за ним надо присматривать внимательнее прежнего!
— Но они не сказали друг другу ни слова, и он не выказал даже поползновения выразить Юльянии какое-либо внимание?
Аббат ответил на это замечание молчанием, мысленно давая себе слово следить за влюбленными без посторонней помощи, никому не доверяя ни своих опасений, ни подозрений.
И он стал следить за каждым шагом Юльянии, за каждым ее словом и взглядом, не упуская при этом прислушиваться ко всему, что говорили об Аратове, и выводя заключения из каждого его самого ничтожного поступка точно так же, как и из каждой улыбки и вздоха Юльянии, подмечая изменения в ее характере, усиливавшуюся нервность, раздражительность, скрытые слезы и бессонные ночи, последствия которых ей удавалось скрывать под румянами, деланными улыбками и лихорадочной живостью от всех глаз, но только не от него.
Длусский начинал не на шутку надеяться и под разными предлогами все чаще и чаще навещал пани Анну. В городе рассказывали, что он не скрывает своего намерения жениться, что он для этого отделывает свой дом в краковском предместье и закупает роскошную обстановку. Если он до сих пор медлил исполнить свое намерение, то потому лишь, что ждет свата. А кто же мог быть им для пана Длусского, если не князь Карл Радзивилл, постоянный его благодетель?
А пани Розальская в то же время начала проявлять небывалый интерес к устройству своего состояния и к увеличению своих доходов. Она заявила, что намерена воспользоваться наездом знатных иностранцев в Варшаву, чтобы сдать внаймы не только свой дом, но и лошадей, и экипажи, так как живя во дворце воеводы, ни в том, ни в другом не нуждается. Для этого она выписала из дальнего имения посессора Яна Вальковского, а по приезде его начала увлекаться постройками, прикупкой земли к саду, разведением каких-то плантаций и тому подобными затеями. У нее были об этом продолжительные переговоры с паном Вальковским в ее помещении во дворце Потоцких, состоявшем из нескольких совершенно отдельно расположенных комнат с выходом в сад.
— Какая ты сделалась расчетливая, дочь моя! — с усмешкой заметила Потоцкая, выслушивая планы, которыми с увлечением делилась с нею молодая женщина, и, вероятно, сообразив, что новое увлечение окончательно освободит ее от прежнего, поспешила прибавить, что пора бы ей взять в руки и остальное свое состояние. — Твой капитал до сих пор лежит у Салезия без движения, и вряд ли ты даже знаешь, сколько именно у тебя денег. Правда, проценты постепенно растут, но, может быть, твой Вальковский посоветует тебе более выгодное их помещение. Многие теперь покупают земли в Галиции, пану Длусскому князь Радзивилл устроил замечательно блестящую аферу в окрестностях Кракова, купив на его имя чудный замок… Тебе бы и с Длусским посоветоваться об этом. Он худого тебе не пожелает, — прибавила она с усмешкой.
Но, ухватившись за мысль самой распоряжаться капиталом, оставленным ей покойным мужем, Юльяния отклонила предложение войти для этого в сношения с злополучным претендентом на ее руку и сердце.
— Я уже давно думаю о том, чтобы снять с моего благодетеля заботу о моем капитальце, моя пани. У него так много хлопот и по своим делам, и по общественным, что мне, право, до слез совестно злоупотреблять его добротою, — с живостью возразила она. — Моя пани оказала бы мне большую услугу, если б переговорила об этом с графом.
— Хорошо, я скажу ему; но время терпит…
— Вальковский здесь долго оставаться не может… Впрочем, я для этого опять могу выписать его, — поспешила прибавить Юльяния, чтобы рассеять подозрение, зародившееся, как ей показалось, в уме ясновельможной при столь ясно выраженном ею желании скорее выйти из-под ее опеки.
Внимательно выслушав это повествование, Аратов спросил, когда же именно рассчитывает Юльяния возобновить со своей покровительницей разговор, прерванный на таком интересном месте.
— Пока этих денег не будет у тебя в руках, нам нельзя и думать о дальнейшем устройстве нашей судьбы. Я коротко знаю повадки твоих магнатов, и веры к их гонору у меня нет ни на грош. Как твоему пану Салезию, так и его жене ровно ничего не стоит зажилить твой капитал под тем предлогом, что ты предалась москалю, и не признать нашего брака действительным. Да и мало ли что они еще могут придумать, чтоб напакостить мне! В этой бесправной стране нам, русским, ни на кого, кроме как на самих себя, нельзя рассчитывать. Лучше всего было бы, забрав деньги, бежать отсюда куда-нибудь подальше, во Францию или в Англию, и оставаться за границей, пока здесь все не угомонится. Ты, конечно, знаешь, что «патриоты» ваши изо всех сил хлопочут перетянуть на свою сторону киевского воеводу?
— У нас только и речи об этом. Вот еще причина, по которой мне теперь неудобно настаивать на своих делах: пани Анна так озабочена увещаниями и просьбами, которые сыплются на нее, ей так неприятно встречаться в обществе с вожаками заговора, старающимися привлечь ее и графа на свою сторону, что она под предлогом болезни отказывается от приглашений на празднества и на балы. Но и доме ей не легче: все у нас против русских, все в заговоре против русского посла, все молятся, чтобы воевода прозрел, отказался от заблуждений и вступил бы в ряды истинных сынов церкви и отчизны.
— Все, кроме тебя, конечно? — спросил Аратов с улыбкой.
— Я люблю тебя! — воскликнула Юльяния, обнимая его.
— А если любишь, так и слушайся одного только меня. Что за человек этот Вальковский? Можно положиться на него?
— О разумеется! Он служил покойному Розальскому. Я обещала закрепить за ним землю, которую хотел подарить ему покойник за услуги.
— Вот это хорошо. Надо его этой землей приманивать и еще кое-что обещать… Знает он про меня?
— Кажется, догадывается, — ответила она, краснея. — Я приказала ему проводить меня сюда и обратно, по совету Цецилии. Без него я умерла бы от страха среди оборванцев! Они уже готовились стащить с меня плащ, но тут он разогнал их…
— Это я уже слышал. Он, значит, дожидается тебя здесь где-нибудь поблизости? — нетерпеливо прервал Аратов, преследуя новую комбинацию, завертевшуюся в его уме.
— Да, он упоминал о трактире…
— Чудесно! Я с ним переговорю, и, если он не глуп, мы скоро поймем друг друга. Надо поторапливаться, голубка: твои безмозглые земляки могут начать свою революцию раньше, чем все думают, и благоразумным людям, которым нет никакой охоты терпеть в чужом пиру похмелье, остается только одно — скорее улепетывать отсюда! Доставай свой капитал под каким бы то ни было предлогом, хотя бы для этого тебе пришлось войти в переговоры с Длусским о покупке имения… Не съест он тебя с первого раза, а, кроме того, чтобы избавиться от беды, и не на такую неприятность можно решиться… И будь готова бежать со мною во всякое время. Может так случиться, что мне не удастся и предупредить тебя заранее… Впрочем, — продолжал Аратов, страстно целуя просиявшее от счастья личико возлюбленной, — надо постараться устроить наше будущее свидание с меньшими хлопотами и опасностями. Нельзя же тебе каждый день вставать чуть свет, чтобы забираться в такую даль. Один раз удалось, но рассчитывать на удачу всегда невозможно. А видеться мы теперь должны чаще.
— Но где же? Где же? — спросила она, задыхаясь от радости.
— Если ты до сих пор не могла придумать этого, то я придумаю, не беспокойся. Это вовсе не так трудно, но для этого мне надо переговорить с твоим Вальковским.
— Да ведь он во дворце не живет.
— Это еще лучше. А ты вот что, моя кошечка: перестань на время думать обо мне и повнимательнее следи за твоей пани. Отлично было бы, если б она впуталась в заговор с Чарторыскими. Это для меня было бы хорошо, а значит, и для тебя.
— Я не понимаю… Они устраивают заговор против короля, а ты с королем, говорят, теперь в большой дружбе?
— Ничего ты не понимаешь и лучше не старайся понимать, а делай то, о чем я тебя прошу. Все узнаешь впоследствии. Ну а что наш злейший и опаснейший враг, аббатик?
— Кажется, понял, что забрать меня в руки ему больше не удастся, и примирился с этим, не надоедает мне больше ни намеками, ни скрытыми угрозами и так держит себя со мною, точно ничего между нами не произошло.
— Он отказался от своей должности руководителя твоей совести? Это хорошо, если именно так. Но ты во всяком случае остерегайся его. Если попадешь опять в его иезуитские когти, он уж не выпустит тебя так легко, как в первый раз. Ведь, если бы я не приехал тогда на мызу, пришлось бы, чего доброго, защищаться от обвинения в убийстве…
Юльяния зажала ему рот поцелуями, не дав договорить фразу.
— Не напоминай, не напоминай об этом! Я с ума схожу от ужаса, когда вспомню, что чуть было не погубила тебя! — вскрикнула она, в волнении забывая, что ее могут услышать.
— А ты тише, мы не у себя дома, глупая! Утро уже наступило. Слышишь, на площади езда началась? Тебе пора бежать домой. Пойду разыскивать твоего провожатого и, кстати, познакомлюсь с ним, а ты тут жди нас, — и Аратов, крепко поцеловав Розальскую, вышел из садика.
Повинуясь его желанию, Юльяния не трогалась с места, погрузившись в воспоминания быстро улетевшего счастья. Мысленно переживая блаженные минуты, повторяя про себя каждое произнесенное Аратовым слово, зажмуриваясь, чтобы лучше представлять себе его лицо с горящими страстью глазами, горячие губы, льнущие к ее губам, млея от этих представлений, она забыла все на свете, забыла, где находится, забыла предстоящее путешествие по грязным переулкам, среди отвратительных ребятишек и ведьмообразных баб; ничего не видела она, кроме своего милого, ничего не слышала, кроме его любовных речей, продолжавших раздаваться в ее ушах явственнее шума с площади, долетавшего сюда все громче и громче по мере того как входила в свои права жизнь большого города. Не слышала она в своем любовном забытье и осторожных шагов, прокрадывавшихся к ней все ближе и ближе, и вскрикнула от испуга, увидав перед собою аббата Джорджио.
XX
Наступил август. Погода стояла великолепная, и Варшава пользовалась этим, чтобы повеселиться напропалую. Балы магнатов, праздники с танцами и катаниями, начинавшиеся с утра и кончавшиеся только поздно ночью, следовали одни за другими, и надо было только дивиться выносливости красавиц, летавших с одного увеселения на другое и едва успевавших переодеваться из одного пышного наряда в другой, еще более пышный, менять затейливые прически на еще более затейливые так же часто и беззаботно, как воздыхателей и любовников, днем сводя с ума кокетством одного, вечером — другого, завтра — третьего и так далее, без передышки, под шумок интриг, заговоров и столь же легкомысленных, сколько опасных решений своих супругов, братьев и возлюбленных. Такого оживления, веселья и такой лихорадочной поспешности пользоваться жизненными утехами уже давно не помнили старожилы Речи Посполитой. Все перемешалось в опьянении любовными и политическими страстями: вчерашние враги делались друзьями, друзья — врагами; только и слышно было, что о блестящих выдумках, честолюбивых замыслах, великодушных предложениях, заманчивых обещаниях и проектах, проектах без конца.
Время от времени среди этой вакханалии раздавались и трезвые голоса, взывавшие к благоразумию и порядку; иногда концерт всеобщего увлечения прорезывался неприятным намеком на предательство такого-то лица, на слабодушие другого, на надвигавшиеся со всех сторон грозные опасности, на то, что враги не дремлют, что прежде чем идти на них, не мешало бы соразмерить свои силы, сосчитаться, очистить атмосферу от ненадежных элементов, сосредоточиться, обмыслить. Но, разумеется, эти предостережения и предчувствия оставались гласом вопиющего в пустыне. Когда же Речь Посполитая мыслила? Недаром один из даровитейших ее сынов сказал о ней: «Есть нации мужского рода и есть женского. Польша — женщина и может жить только сердцем».
В один из этих роковых для Польши дней, в начале августа, у прелата Фаста перебывали с утра несколько посетителей и посетительниц из высшего общества. Встречаться друг с другом гости у него не любили, и карета, подъехавшая с одного конца переулка, обыкновенно сворачивала в соседнюю улицу, завидев экипаж у ворот дома прелата. Не любили приезжать сюда и в компании, а, добившись аудиенции, паны и пани предпочитали беседовать с хозяином наедине.
Ворота в высокой каменной ограде очень редко растворялись, и только для таких почетных посетителей, как, например, епископ, папский нунций или его величество король. Прочие же просители, графы, графини, князья и княгини, важные пани и паны, оставив экипаж на улице, проходили через калитку во двор пешком, а затем по усыпанной песком дорожке с красивой цветочной клумбой посреди доходили до скромного на вид одноэтажного дома, где на крыльце их всегда встречал с низким поклоном Беппо, доверенный слуга прелата, маленький седенький старичок в длиннополой полумонашеской, полусветской одежде, с приветливым выражением в ласковых глазах на гладко бритом и изрезанном мелкими морщинами лице.
Не переставая кланяться, он вводил посетителей в светлую приемную, уставленную диванами и креслами, почтительнейше просил обождать и исчезал за тяжелой драпировкой в небольшой проход с дверью в конце, у которой, постучав условным образом, нетерпеливо ждал позволения войти. Наконец через более или менее продолжительное время, смотря по тому, какими делами был занят его господин, из кабинета раздавалось отрывисто: «Войдите!» — и Беппо с подобострастием проникал в святилище и докладывал о посетителях. Не оборачиваясь и не выпуская пера или книги из рук, высокий худощавый человек, сидевший у большого бюро, покрытого книгами и бумагами, разжимал свои тонкие губы, чтобы выронить из них краткое: «Ждать!» — или «Сейчас!» Беппо скрывался, а господин его продолжал свое занятие все с тем же выражением сосредоточенной думы в больших глубоких черных глазах и в характерном изгибе рта, со слегка выдающимся подбородком.
Это лицо было очень типично. Оно было без малейшего признака растительности; изжелта-бледная кожа была нежна, как у молодой девушки, волосы, вьющиеся вокруг широкой тонзуры и откинутые назад с высокого обнаженного лба, были черны, как смоль, а все черты, замечательно красивые и благородные, казались выточенными из слоновой кости. Никто не мог бы сказать, сколько этому человеку лет: в спокойном состоянии он казался пожилым, но, когда оживлялся, его глаза загорались страстью, как у юноши, слова отчеканивались с резкостью, выдающей его итальянское происхождение, а выражения навертывались на язык такие ловкие, красивые и убедительные, что оспаривать его мнение было трудно.
Описывать обстановку, среди которой прелат Фаст работал, его бюро, верх художественной работы из ценного черного дерева с артистическими бронзовыми украшениями, его библиотеку, представляющую собою целое состояние по редкости книг и красоте изданий, нет нужды, — все это уже было описано в мечтаниях аббата Джорджио. Во всяком случае обстановка, роскошь которой мог оценить только тонкий знаток искусства, вполне гармонировала с изящной и величественной фигурой хозяина, с его черной сутаной, на которой эффектно выделялось массивное распятие на золотой цепи, и с бледными длинными пальцами со сверкавшим крупным сапфиром в освященном перстне. Легко скользя по бумаге, перо, придерживаемое этими красивыми пальцами, изливало твердым почерком всегда непреклонные и своеобразные мнения и мысли.
Аббат Джорджио был прав, предполагая, что невозможно представить себе иное, более удобное и приличное жилище для человека, посвятившего свою жизнь трудам для достижения высших духовных целей на земле. Даже местность была для этого выбрана как нельзя лучше. Владения прелата (Фастовский дом, как прозвали их в городе), приобретенные у разорившегося магната, утратившего вследствие безденежья всякое значение в политике края и выехавшего навсегда за границу, выходили на две улицы и занимали такое обширное пространство, что, проходившим по оживленной площади, мимо глухой стены с перевешивавшимися через нее ветвями деревьев, трудно было бы догадаться, что этим садом можно пройти прямо к дому в совершенно другой части города. Но этой дорогой, чрезвычайно красивой, проходившей по тенистым аллеям старых каштанов, акаций и дубов, с живописными группами пирамидальных тополей, кедров и других редких деревьев, возвышавшихся среди зеленых лужаек, могли пользоваться только избранные и между прочими посланцы с письмами и посылками для прелата из-за границы, являвшиеся сюда довольно часто. Месяца не проходило, чтобы не прискакал к прелату Фасту посол из Рима и в ожидании ответа не пользовался гостеприимством в помещении Беппо, где можно было прожить сколько угодно времени в полной неизвестности. Корреспонденция прелата была такого секретного свойства, что те, которым она поручалась, должны были соблюдать большую осторожность, чтобы присутствие их в Варшаве не было обнаружено, и их всегда старались отпустить в обратный путь как можно скорее.
Приобретенной в городе недвижимостью прелат владел всего только пятый год, а между тем чего он тут не построил, не развел и не насадил! Про его оранжереи рассказывали чудеса, и сам король, встретившись с Фастом у примаса [8], напросился к нему на завтрак, под предлогом полюбоваться его цветами и растениями. Но за завтраком он так объелся и опился, что ему уже было не до цветов, и, только садясь в карету, вспомнил о цели своего визита и обещал осмотреть оранжереи в другой раз.
Штат прислуги у прелата был не велик, но искусно подобран. На Беппо лежали обязанности, относившиеся лично к господину, попечение о его гардеробе, вещах и прочее. Никто, кроме него, не впускался в покои его всевелебности, и, за исключением кучера, возившего прелата по городу с визитами по делам, да садовника, с которым он любил разговаривать о цветах и растениях, никто из остальных обитателей дома не видел хозяина в глаза: повар, прачка, мальчики для услуг должны были за всем обращаться к Беппо. Все эти люди были итальянцы и по-польски не понимали, знакомых у них в городе не было, и, должно быть, они находились в большой зависимости от прелата, если судить по тому, как слепо повиновались они его воле и как опасались навлечь на себя гнев Беппо.
Жили они не в доме, а во флигеле, на довольно большом расстоянии от дома, и для переговоров с Беппо приходили в крытую галерею между столовой и кухней, чтобы кушанье не подвергалось влиянию воздуха и непогоды, когда его проносили под открытым небом.
Секретаря прелат не держал и всю свою обширную корреспонденцию вел сам, так что надо было только изумляться его феноменальной способности к работе. Те, кому это было известно, понимали причину доверия, оказываемого ему его начальством, а также влияния, которым он пользовался у представителей высшей духовной власти.
Вот у какой личности наш аббатик был persona gratissima! [9] Когда бы он ни явился сюда, Беппо немедленно докладывал о нем прелату, и не было еще примера, чтобы аббата Джорджио не приняли или просили зайти в другой раз. Для него у прелата Фаста всегда находилось время и охота побеседовать. Часто вводили аббатика прямо в кабинет, и он удостаивался великой чести разговаривать с прелатом как равный с равным, сидя в кресле у бюро, на котором его могущественный покровитель обдумывал и приводил в исполнение планы, обнимавшие почти весь земной шар и влиявшие на судьбы людей за многие тысячи верст!
В то бурное время, когда все население Речи Посполитой разделялось на фракции, враждовавшие между собою, деятельность агента римской курии особенно оживилась, и Беппо с печалью подмечал усиливавшуюся с каждым днем худобу и бледность своего господина, сокрушаясь потерей у него аппетита, который невозможно было возбудить самыми любимыми его кушаньями.
— Поверите ли, его всевелебность не изволили вчера даже попробовать вальдшнепа, которого мсье Шарль изжарил к обеду. Это — их любимая дичь, особенно когда она приготовлена по-итальянски! А сегодня за завтраком даже от чашки бульона отказались, выпив один только глоток. И это после ночи, проведенной за работой. Дивиться надо, чем только они живы! Вот уж именно можно сказать, что одним Святым Духом… — произнес Беппо со вздохом, обращаясь к Джорджио, который, явившись сюда, когда начало темнеть, и узнав, что прелат занят письмом для курьера, привезшего ему депеши из Рима, просил не беспокоить его и сел у растворенной на террасу двери в столовой, где Беппо все готовил к ужину.
— Так что мсье Шарль трудился для вас одного, мой добрый Беппо? — с улыбкой заметил он, выслушав старика.
— Уж и не говорите! Так мне это прискорбно, что не знаю, как и быть! Если и сегодня они не будут кушать, я завтра отправлюсь к пану Дмоховскому, и он даст мне хороший совет. Недаром слывет он лучшим доктором в городе, и людей, вылеченных им от смертельных болезней, насчитывают тысячами! Вы только подумайте, какое это будет несчастье, если его всевелебность заболеют именно теперь, когда мы переживаем такое смутное время! Опасность грозит святой церкви со всех сторон. Говорят, что целые легионы русских войск двинуты на эту несчастную страну, чтобы заставить поляков допускать схизматиков ко всем должностям в крае наравне с верными сынами церкви, — продолжал он, таинственно понижая голос.
— А не пробовали вы ставить его всевелебности то старое венгерское, которое прислал вам прошлой зимой краковский кастелян? — прервал его аббатик, не любивший рассуждать с низшими о политике.
— Нет еще, до сих пор я подавал им одно токайское. Хотел я вашей милости вот что еще доложить: сегодня рано утром ясновельможная княгиня Изабелла прислала свою резидентку Дукланову, чтобы сообщить о разговоре, который она имела вчера' с супругом.
— Токайское не может сравниться с венгерским для возбуждения сил, Беппо, — снова прервал аббатик попытку своего собеседника вернуться к предмету, заниматься которым достойный ученик иезуитов считал для него неуместным. — Я убедительно прошу вас поставить сегодня на стол бутылку венгерского, и вы увидите, что вам не нужно будет обращаться к доктору.
— Сейчас, сейчас! — и Беппо подошел к камину, пригнулся к полу, поднял трап и затем, спустившись по лестнице в подвал и достав оттуда покрытую паутиной бутылку, поставил ее на стол среди приборов и принадлежностей сервировки, сверкавшей серебром, богемским хрусталем и севрским фарфором. — А вот сейчас, за минуту до вашего прихода, прискакал паюк от княгини Адамовой с напоминанием его всевелебности непременно пожаловать к ним сегодня, — докончил-таки прерванную речь упрямец. — А как поедут они, не подкрепившись? В гостях они никогда не кушают, как вам известно.
— Ваш господин и в этом прав, как и во всем, что делает. Ни у кого в Варшаве нет такого стола, как у вас, Беппо, и это делает вам честь, — заметил аббатик.
— Стараемся, стараемся, — ответил Беппо, скрывая под скромно опущенными глазами торжество удовлетворенного самолюбия, сверкнувшее в них при комплименте. — Сегодня у нас к ужину, кроме угря по-французски и карасей в сметане, готовятся часть ягненка и почки в мадере.
— Почки вы тушите в кастрюле с двойным дном, не правда ли? — полюбопытствовал аббатик.
— И непременно в серебряной, потому что это кушанье нельзя перекладывать в другую посуду, оно подается на стол горячим и в том сосуде, в котором готовится. У нас таким образом подаются и трюфели на сливочном масле, и много других кушаний. А фрукты ставятся на стол всегда холодными, прямо с ледника, — прибавил Беппо, подходя к двери, где появился садовник с корзиной великолепных персиков, слив и вишен, которую поставил на буфет. — Его всевелебность не любит, чтобы фрукты стояли на одном столе с горячими кушаньями.
— Чтобы их аромат не потерял свежести от запаха пряностей.
— Именно так. В других домах ставят фрукты на стол для украшения, но его всевелебность находят, что для этого достаточно цветов. Теперь мы зажжем свечи, — продолжал старик, опуская цветочную гардину перед стеклянного дверью на террасу, но не успел он покончить с этим делом, как раздался звонок из кабинета.
— Идите, идите, я зажгу свечи и без вас, — сказал аббатик, принимаясь доканчивать начатое дело полного освещения столовой, точно прелат не вдвоем с ним должен был сесть за стол, а в большом и блестящем обществе.
Впрочем, освещение отвечало всей остальной обстановке, и, любуясь ею, аббатик подумал, что даже у князей Чарторыских, у богача Стем-нковского и у Радзивилла не живут так удобно и изящно, как в этом маленьком доме, скромно ютившемся в глубине двора, за высокими каменными стенами. Как артист в душе, аббатик наслаждался красивыми переливами серебра, золота, фарфора и хрусталя в блеске восковых свечей и тонких запахов роз, предвкушая вкусный ужин и беседу с выдающимся по уму представителем римского духовенства, с которым у него было много общего в мыслях, убеждениях и вкусах.
Наконец, двери из внутренних комнат растворились, и появилась красивая и величественная фигура прелата. Со снисходительной усмешкой протянул он руку аббатику, который поспешно припал к ней губами, и, сев за стол, милостивым кивком указал ему на место против себя.
Началась постоянно повторявшаяся сцена умиления и отказа от слишком большой чести, с прижиманием рук к груди и возведением очей к потолку со стороны аббатика, повторение приглашения со стороны прелата и наконец уступка первого при появлении Беппо с дымящимся блюдом, которое он торжественно внес и поставил на стол.
Ужин прошел довольно молчаливо. Стесняло ли прелата присутствие слуги, или же он опасался препятствовать правильному пищеварению беседой о предметах, волнующих ему нервы, — так или иначе, но, кроме замечаний о кушаньях, обращенных к Беппо, и пустых рассуждений о погоде, с гостем он не проронил ни слова, имевшего отношение к посещению аббата. Наконец, Беппо убрал со стола лишнюю посуду и, оставив на нем только вино, сыр и фрукты, вышел, подняв штору перед дверью, растворенной в душистый сад, окутанный ночной мглой.
С большим волнением ждал аббатик, чтобы прелат прервал молчание, начинавшее раздражать его, но тот не торопился и, углубившись в думы, довольно долго осторожно снимал ножом пушистую нежную кожицу с персика, прежде чем взглянуть на своего посетителя и спросить у него с иронической улыбкой:
— Что скажете нового мне сегодня, аббат?
— Нового много. Вчера приезжала к нам княгиня Любомирская, а сегодня пожаловала княгиня Изабелла. Наша пани еще не торопится отдавать им визит и сказывается больной, чтобы не встречаться с этими дамами из патриотического лагеря в свете, но наш граф ездил вчера к краковскому кастеляну, у которого виделся с его всевелебностью.
— Епископом Солтыком? — подсказал прелат с усмешкой хорошо осведомленного человека. — Пора, пора киевскому воеводе примкнуть к истинным сынам родины, он слишком медлил до сих пор. Но все это — одни только слова; и, пока он не докажет на деле своего желания правому делу, сынам церкви рассчитывать на него нельзя. Разумеется, порывать связи с врагами отечества ему не следует. Но какая великая польза вышла бы для дела, если б он сумел воспользоваться своими сношениями с русскими, как ими пользуются другие! Вы, кажется, не считаете его способным на такую мудрую политику? — прибавил он, не спуская с собеседника испытующего взгляда. — И вы, может быть, правы. Что же касается пани Анны…
— Извините, если я позволю прервать вашу всевелебность, но не могу не заметить, что, пока при ней Розальская, вмешательство нашей пани в дело ничего, кроме вреда, не принесет ему. Я уже имел честь довести до сведения вашей всевелебности, как мне удалось подкараулить свидание влюбленных за костелом в еврейском- квартале, и вы запретили мне тогда довести это открытие до нашей пани.
— А разве они нашли способ видеться в другом месте?
От волнения и негодования аббатик вспыхнул. Этот вопрос, по-видимому, коснулся очень живого места в его сердце.
— Видятся, ваша всевелебность! Я в этом убежден так же, как в том, что жив, дышу и имею счастье беседовать с вашей всевелебностью! Но где, как и благодаря кому — до сих пор не могу узнать, и это приводит меня в величайшее сокрушение! — прибавил он с тяжелым вздохом.
— Куда же делось ваше влияние на эту особу? — спросил прелат после небольшого молчания. — Вы были так уверены, что овладели ее душою!
— В москале сидит черт! Бороться с ним невозможно. С первой же встречи с этим проклятым схизматиком на балу у короля несчастная опять подпала под его власть, стала меня избегать, когда я начал представлять ей опасность ее поведения, стращать ее вечными муками.
— Я уже говорил вам, что про адские муки и райские утехи с влюбленными разговаривать не стоит: их глаза не видят и уши не слышат, они ищут рая на земле и находят его в свиданиях друг с другом. Ужаснее же разлуки они ничего не могут себе представить. Нет, нет, адскими муками их не напугать, — прибавил прелат убежденным тоном опытного человека.
— О как вы правы! — воскликнул аббатик. — На все мои увещевания она заявила, что не желает слушать меня и чтобы я оставил ее в покое. Она сама начала грозить мне. Чем же? Тем, что переедет в свой дом, если я не перестану приставать к вам. Вот что сделал из нее проклятый москаль! Повторяю, в нем сидит черт!
— Надо этого черта изгнать, сын мой, — с прежней усмешкой заметил прелат. — То подозрение, о котором ты писал мне из Тульчина, не подтвердилось?
— Клянусь вашей всевелебности, что он — преступник! Его жена не могла умереть естественной смертью.
— Все мы преступны перед Богом и перед святою церковью, сын мой, — вздохнул прелат.
— Он и перед человеческими законами — преступник! Со временем это откроется.
— Если этому времени суждено наступить нескоро, то пусть оно лучше никогда не наступает. Все хорошо в свое время, а когда смута в стране уляжется, нам, может быть, окажется выгоднее иметь в Аратове друга, чем врага. Когда он будет женат на польке с сильными связями и крупным состоянием, через него многого можно будет достигнуть.
— О ваша всевелебность! И видно, что вы никогда не видели этого человека и не говорили с ним!
— Почему ты так думаешь? Я видел его, и его наружность показалась мне крайне интересной. Я знаю в Риме одного из приближенных к святому отцу, похожего на этого москаля, как родной брат. На женщин он не может не производить сильного впечатления. Правда, я не разговаривал с ним, а только слушал его, но этого мне было достаточно, чтобы убедиться, что неплохо было бы привлечь его на нашу сторону в случае надобности. Впрочем, как все русские, он скоро исчерпывается. Это — их общая черта, для нас весьма выгодная. Им всегда хочется, чтобы никто не заблуждался насчет их мыслей и намерений. Они сохранили эту особенность от своих предков-славян, у которых было нелепое правило даже и в бой не вступать, иначе как предупредивши врагов о нападении. «Идем на вас!» — этим бессмысленным возгласом они давали оружие против себя. Таковы были и поляки в былое время и такими остались бы до сих пор, если б их не коснулась наша культура.
— Ну, с таким духовенством, как у русских, о культуре не может быть и речи. Нагляделся я на их попов в Киеве! Двух слов по-латыни не умеют сказать правильно, понятия не имеют об элементарных правилах беседы, не умеют даже объяснить Бога, которому поклоняются и которому верят! Чистые дикари!
— А между тем они так крепко держат в руках свою паству, что иначе как силой ее от них не оторвать. А победы насилием непрочны. Мечом приобретенное от меча и погибнет. Как объяснишь ты, сын мой, их упорство? — спросил прелат, с улыбкой поглядывая на своего юного слушателя.
— Дикостью нравов, ваша всевелебность! «Chaque pays a la religion qu'il mérite» [10].
— A может быть, «Chaque religion a l'influence qu'elle mérite»? [11] Во всяком случае, прежде чем судить о предмете, надо изучить его. Это азбучная истина, но как часто забывают ее! Как ты думаешь, сын мой, для чего я сюда приехал?
— Польза для нашей церкви, принесенная вами в этом крае, так значительна, что оценена святым отцом.
— Да, сын мой, возложенную на меня миссию я выполняю по мере сил и возможностей и занимаюсь распространением нашего влияния в этой стране, может быть, удачнее моего предшественника, который слишком часто забывал, что мы здесь не столько для Польши, сколько для Рима. Но те, которые воображают, что другой цели, кроме выполнения данной мне миссии, у меня нет, ошибаются, — продолжал прелат. — Моя главная цель — изучение Московии. Преинтересный предмет для беспристрастного наблюдателя. Сколько в этих варварах врожденной самобытности! Как мало похожи они на людей остальных государств! Князь Репнин, например, кажется настоящим европейцем, во всяком случае образования и лоска у него столько же, сколько у цивилизованнейших из польских магнатов, которые убеждены, что в тайны его политики проникнуть нетрудно. И как они ошибаются! Своей политики он сам не знает, по той простой причине, что это — и не политика, в общепринятом смысле этого слова, а преклонение перед стихийным напором народной воли, всемогущей в своей безгласной ненависти к родственному народу, так долго и беспощадно угнетавшему то, что ему дороже всего — веру его отцов. Эта ненависть, когда во главе народа стоит личность, способная понимать его дух и стремления, как та женщина, которая теперь правит им, всемогуща в своей безгласности. Вся сила русской императрицы, ее талант и счастье во всех предприятиях, вся ее признанная всем светом мудрость, все, чему верхогляды приписывают ее удачи, — все это — не что иное, как покорность народной воле, народному духу. И, пока эта женщина будет на престоле, враги России будут терпеть поражение за поражением. Остановить русское влияние в стране, парализовать стремление православных свергнуть с себя ненавистное польское иго, противное их природе и самому духу, — все равно, что пытаться задержать руками стремление потока. Пока она жива, все будет удаваться россиянам, и их ошибки будут обращаться им же в пользу, а для противников победы будут равняться поражениям.
— Зачем же нам тогда и трудится для народа, обреченного на верную гибель? — спросил аббатик.
— Да ведь если, с одной стороны, идея бессмертна, то, с другой — все люди смертны, и, когда Екатерина отойдет в вечность, в ее наследнике не окажется ни ее прозорливости, ни стойкости убеждения, ни умения выбирать себе помощников, ничего такого, что нужно России. А так как возрождение Польши зависит от ошибок и заблуждений России, а свое благоденствие она может почерпнуть только в ослаблении своей вековой соперницы, то наш долг терпеливо ждать перемены и по мере сил и возможностей подготовить почву к восприятию того, что пошлет нам судьба. Мы работаем для будущего, сын мой, и смущаться неудачами настоящего нам было бы непростительно. Наша задача — подготовлять затруднения, неудачи и горести будущему поколению россиян, тем, которые теперь еще младенцы, и еще более тем, которые еще не родились. Мы сеем ветер, чтобы пожать плоды бури, и эти бури, если не сметут с лица земли врагов римской церкви, то, без сомнения, так потрясут их и ослабят, расстроят и изувечат, что долго им не оправиться от ран и увечий, тем более опасных, что наши стрелы, пропитанные тончайшим ядом, неуловимы; как воздух, язвят больше дух, чем тело, и долго-долго будут терзать и расстреливать страну, прежде чем догадаются, откуда они летят и почему так метко достигают цели.
— Но ведь в конце концов мы их одолеем?
— Сомневаться в этом для верного сына нашей святой церкви — великий грех, сын мой, — строго произнес прелат.
— Правда. Но мне хотелось знать мнение вашей всевелебности об этом не как агента, облеченного доверием святого отца, непогрешимого в своих мыслях и действиях относительно всех людей вообще и близких его в особенности; мне надо знать…
— Ты хочешь знать мое мнение не как воинствующего иезуита, а как скромного труженика науки, посвящающего все свои усилия изучению философии и истории человечества? Да?
— Да, да, ваша всевелебность! Мне хочется знать, чем кончится борьба двух родственных народов, братоубийственная борьба Польши с Россией, порождающая столько зла, горя и отчаяния! Меня воспитывали в мысли о святости этой борьбы, и до встречи с вами я был убежден, что, восстановляя поляков против русских, непрерывно растравляя их самолюбие и мелочность, льстя их дурным инстинктам, не давая им ни на минуту отдохнуть от вражды и забыть злые чувства, мы способствуем торжеству нашей церкви. Но из книг, которыми вы были так милостивы снабдить меня, я не вижу осуществления этой цели не только в настоящем, но и в будущем. Еретики, называющие себя православными, добровольно к нам не идут, они глухи к нашим убеждениям, не понимают нас, мы не можем найти доступ к их сердцу, они продолжают верить своим попам, толпами бегут к своим отшельникам и от этих грубых, некультурных дикарей, не умеющих даже объяснить Бога, почерпают нравственную силу бороться против нас.
— А ты можешь объяснить Бога? — прервал его прелат.
— Я этому учился десять лет, — не без смущения возразил аббатик, сбитый с толка неожиданным вопросом.
— А я этому учусь сорок лет и знаю меньше того безграмотного юродивого, про которого мне не дольше как вчера, рассказывали так много интересного, что я, может быть, соберусь посмотреть на него. Однако мы с тобою заговорились о предметах, не имеющих отношения к цели нашего свидания, и ничего еще не решили насчет самого главного. Ты думаешь, что киевский воевода с супругой не обманет наших ожиданий, что они искренне и горячо предадутся делу, которому мы служим, что они будут помогать нам водить за нос послов до тех пор, пока нам не удастся сконфедеровать всю страну по нашему плану и для наших целей, и что для этого граф Салезий пойдет не только против короля, но и против Репнина, а пани Анна забудет на время свою ненависть к «фамилии» и прочим нашим магнатам?
— Я думаю, что если только они приедут в назначенный день на совещание к краковскому кастеляну и примут участие в прениях, то уже одним этим так скомпрометируют себя перед своими друзьями, что все пути к отступлению им будут закрыты, и их клиентам ничего больше не останется, как вместе с ними примкнуть к заговору патриотов.
— Но приедут ли они? Вот в чем вопрос!
— Что же им может помешать? Совещание назначено в будущий четверг — что же может случиться такого, что заставило бы их изменить мысли? Разве что приближенные короля узнают что-нибудь и возбудят подозрение его величества…
— Королю не до заговоров: он так увлечен таинственной красавицей, с которой познакомился на днях в Лазенковском парке, что только о ней и бредит во сне и наяву. Всю полицию поставили на ноги, чтобы найти ее, и, когда нападут на ее след, мы будем присутствовать при любовной комедии, которая, вероятно, затмит своею нелепостью все прежние любовные похождения короля! Несчастный подражает королю французов, забывая, что таких министров, как у Людовика Пятнадцатого, у него нет. Нет у него и обаяния наследственного венценосца, и держится он на престоле только штыками России, которая дорого заставит его заплатить за поддержку!
— К какому обществу принадлежит пленившая его красавица? — полюбопытствовал аббатик.
— Никто этого не знает и никто, кроме короля, не видел ее, он же уверяет, что невзирая на скромный наряд все в ней — грация движений, голос и умение держать себя — выдает особу знатного происхождения. Но ведь влюбленные слепы. Одно несомненно, это то, что она не полька и не немка; король заговорил с нею по-французски и, приписывая ее волнению затруднение отвечать ему на этом языке, намеревался уже выказать ей свое знание русской речи, но она, как ужаленная, сорвалась с места и убежала. Без сомнения, ее найдут, и мы тогда узнаем, в какие руки попало нежное сердце правителя Речи Посполитой накануне конфедерации, на которой будет обсуждаться вопрос такой важности, как сравнение прав диссидентов и православных с правами сынов истинной церкви! — прибавил прелат с горькой усмешкой. — Но не будем предрешать будущее. «Довлеет дневи злоба его», а злоба настоящего дня — это новый каприз короля. Если судить по тому, как ловко была поведена интрига, дамам, пользующимся фавором его величества, есть причина серьезно опасаться конкуренции, а нам — опасного влияния чужеземки. До сих пор у Понятовского не было в Варшаве ни одной любовницы другого вероисповедания, кроме католического, и во что превратится он под влиянием еретички, даже и представить себе невозможно! Ваш недруг Аратов похваляется найти эту таинственную незнакомку скорее полиции. Уж не подвох ли это с его стороны? Он — частый гость в Лазенках, и король обо всем советуется с ним.
— О этот человек сделает нам много зла! — воскликнул аббатик. — Я вполне разделяю ваши подозрения и уверен, что если Аратов хвастался раньше полиции подслужиться этой женщиной королю, то потому, что знает, где она живет, откуда приехала и кто она… и за сколько можно ее купить. Без сомнения, сам же он и выписал ее сюда, чтобы окончательно овладеть королем. Кто же не знает, что здесь через женщин можно все сделать?
— Очень может быть, — согласился прелат.
— А разве не ужасно, что именно в настоящее время, когда предательство может погубить дело патриотов, любовница их опаснейшего врага — самый близкий человек к супруге киевского воеводы! — подхватил аббатик.
— Да, Розальскую не мешало бы удалить из Варшавы недели на две, — согласился прелат. — Но как? Добровольно она не согласится покинуть город в самый разгар веселья.
— О, добровольно она сделает только то, что ей прикажет Аратов!
Наступило молчание. По выражению лица собеседника прелат видел, что ему есть что прибавить к вырвавшемуся у него восклицанию, и он ждал продолжения недоговоренной мысли.
— Позволю себе представить на ваше суждение план, измышленный мною, чтобы удалить Розальскую из Варшавы на некоторое время, — нерешительно начал после минутного колебания аббатик. — Если бы наша ясновельможная пани взяла ее с собою в один из пригородных монастырей и там оставила бы ее…
— Мысль недурна, и мне кажется, что лучше того ничего не придумать.
— Не правда ли? — воскликнул вне себя от восторга аббатик. — Наши настоятельницы умеют покорять строптивые сердца.
— А тут и покорять нечего; надо только задержать под благовидным предлогом молодую женщину в обители на короткое время, ничего больше, — поспешил поправить зарвавшегося собеседника прелат. — Нам нет надобности надолго лишать ее свободы и повергать в отчаяние ее возлюбленного.
— Разумеется, разумеется! Не успеет он узнать о том, что наша графиня вернулась одна с богомолья, что Розальская исчезла, и о том, где она находится, как она вернется в Варшаву. Ведь надо только, чтобы ее здесь не было во время совещания у краковского кастеляна. Это так важно для нашего дела, что если даже почтенные инокини и силой удержат ее в монастыре…
— Им это за грех не сочтется, — согласился прелат.
— В таком случае я сегодня же переговорю с нашей пани, а она, я в этом уверен, немедленно пошлет меня для предварительных переговоров в Горикальварию.
— Ты с нею, значит, уже говорил об этом?
— Говорил, и она сказала, что если вы одобрите этот план, то она готова привести его в исполнение. О, мне с Божьей помощью удалось возбудить в ее сердце недоверие к Розальской, и если бы мне только удалось узнать, где происходят свидания между влюбленными, с тех пор как я подкараулил их…
— Терпение и настойчивость все преодолевают. Ну, желаю вам успеха. А как отнесется ваша красавица к этой поездке?
— Мне кажется, нет основания сомневаться в ее готовности сопровождать графиню всюду, куда бы она ни повезла ее. Со дня на день становится она молчаливее и сдержаннее. Надо удивляться пани Анне: она одна в доме не замечает, что Розальская только телом у нас, душой же так далеко, что не принимает ни малейшего участия в окружающей ее жизни. Вчера Младоновичева так выразилась про нее: «Овладевший ею бес постоянно тянет ее к себе и мучит ее за то, что она не совсем еще отдалась ему». А сестра Бронислава клялась мне, что собственными глазами видела, как этот бес вьется вокруг Розальской, когда она сидит, задумавшись над книгой или над работой. И знает ли ваша всевелебность, — продолжал он, заметив тонкую усмешку, скользнувшую по губам его слушателя при последних словах о бесе, — ведь вот уже два месяца как она не была на исповеди, под тем предлогом, что наш капеллан не удовлетворяет ее духовные потребности. Недавно между резидентками зашла речь о чудесах отца Марека, который теперь проповедует в Тульчине и в окрестности; все окружили приехавшего оттуда посессора Тавровского и с благоговейным восторгом слушали его рассказы о подвигах этого святого человека; одна Розальская молчала, не проявляя никаких благочестивых чувств. Всем это бросилось в глаза, а сестра Фелицата так рассвирепела, что бросилась на нее с поднятыми кулаками. Хорошо, что я помешал расправе…
— Пора бы этому безобразию положить конец, — заметил прелат. — И как же ко всему этому относится пани Анна?
— Она многого не знает. Розальская на нападки окружающих не жалуется. Она вообще ни на что не жалуется, и, по-моему, это-то и подозрительно. По всему видно, что всеми ее мыслями и поступками руководит москаль, которому до поры до времени выгодно оставлять ее у нас. Прикажи он ей выехать из дворца, ее в ту же минуту у нас не будет.
— Но для того чтобы руководить ею, ему необходимо видеться или переписываться с нею.
— Само собою разумеется, но до сих пор мне не удалось ничего узнать об этом. Држевецкая призналась мне, что каждую ночь подслушивает у дверей ее спальни и ничего не видит и не слышит, что могло бы подтвердить всеобщее подозрение о том, что Аратов поддерживает ее в упорстве. Но как же этого не предполагать? На половине графини он был всего только два раза — на больших балах, а к графу приезжает только утром, проходит в кабинет и выходит оттуда под наблюдением стольких глаз, что Розальской невозможно перекинуться с ним даже взглядом.
— И ты все-таки уверен, что они находят возможность видеться?
— Я в этом убежден, но Розальская устраивает это так хитро и ловко, что я иногда теряю надежду открыть их тайну.
— Да, Аратов замечательно хитер и ловок, и все это утверждает меня в мысли, что недурно было бы попытаться привлечь его на нашу сторону, — заметил прелат.
— На что он нам? — живо возразил аббатик. — Какая будет от него польза? Кого может он привести с собою? Из тех, кого он успел завлечь в партию воеводы, никто за ним не пойдет, никто ему не поверит, когда узнают, что он перекинулся к патриотам, а набрать людей другой местности, где не знают Аратова, да еще вдобавок в короткое время, даже и такому ловкачу, как он, немыслимо. Да и сам он, очертя голову, и без огромных выгод не оторвется от приверженцев России, не откажется от шанса восстановить свой пошатнувшийся престиж в глазах императрицы. Правда, у Орловых он потерпел поражение, но ведь они не вечны, их звезда начинает затмеваться новым светилом, и недруги их, в том числе и Аратов, только и ждут их падения, чтобы всплыть на поверхность волн бурливого житейского моря.
— Однако до сих пор фонды его стоят низко: русский посол его не любит и не уважает.
— Ему это безразлично, с тех пор как ему удалось втереться в доверие к королю и сделаться необходимым ему…
— Через женщин, — с усмешкой заметил прелат.
— Тем хуже для нас…
Аббатик хотел еще что-то прибавить к этому, но его слушатель, по-видимому, решил, что на этот раз узнал от него все, что ему было нужно, и, поднявшись с места, спросил у появившегося в дверях Беппо, распорядились ли подать обедать «приезжему».
— Как повалился на кровать по приезде, так и спит до сих пор, — ответил старый слуга.
— Пусть спит, а когда проснется, скажите ему, что раньше завтрашнего дня я назад его не отправлю! — распорядился прелат и, обращаясь к аббатику, тоже поднявшемуся с места, пригласил его в кабинет.
Здесь, перед тем как расстаться с ним, чтобы приняться за прерванную работу у письменного стола, прелат спросил: не слышно ли во дворце воеводы киевского о новых инструкциях, присланных из Петербурга русскому послу?
— У нас даже не слышно о том, чтобы получены были новые инструкции, — ответил аббатик. — А разве есть что-нибудь новое? — не утерпел он, чтобы не спросить.
Но его любопытство прелат не счел нужным удовлетворить: не отвечая на вопрос аббатика, он пожелал ему благополучно совершить свое путешествие в монастырь и удачно исполнить возложенную на него миссию.
— О, если бы все наши предприятия было так легко исполнить, как это! — воскликнул аббатик.
Это замечание было очень легкомысленно, и он убедился в этом по иронической усмешке, тронувшей тонкие губы его слушателя, но поправляться было уже поздно: прелат готовился сесть за работу, и гостю ничего больше не оставалось, как, краснея от досады и смущения, с низким поклоном удалиться.
XXI
В тот вечер у прелата Фаста перебывало еще несколько посетителей, и сам он куда-то ездил поздно ночью, что, однако, не помешало ему на следующий день подняться, как всегда, в пять часов утра и весь день проработать. Он получил много писем, со многими виделся, а вечером, часу в десятом, поехал во дворец молодых Чарторыских. Там встречать его выбежали на крыльцо с подобострастными поклонами дворские резиденты и гайдуки, под предводительством старшего маршала. В то время как почтенный гость поднимался по мраморным ступеням лестницы и входил в обширные сени, усердные приспешники успели предупредить о приезде прелата старшую резидентку, пани Дукланову, и она также поспешила навстречу руководителю совести прекрасной хозяйки дворца.
— Ваша пани, без сомнения, едет сегодня на бал к Любомирским? Но я ее долго не задержу, — произнес с приветливой улыбкой прелат, милостиво протягивая ей руку с освященным перстнем, к которому она поспешила прикоснуться губами, и следуя за лакеем, растворявшим перед ним двери в богато разубранные покои, через которые надо было пройти на половину княгини Изабеллы.
— О, ваша всевелебность никогда не может обеспокоить нашу пани! Я уверена, что она и от бала отказалась бы с удовольствием, чтобы иметь счастье беседовать с вами. Впрочем, времени на все хватит: раньше как через час, карету подавать не приказано.
— Тем лучше. Я хотел навестить ее завтра, но по непредвиденным обстоятельствам пришлось поспешить со свиданием.
Разговор происходил на итальянском языке, которым прекрасно владела пани Дукланова.
Это была женщина пожилая, но казавшаяся моложе своих лет, с бледным лицом и с большими темно-синими глазами, не утратившими еще молодого блеска и выразительности. Ее густые волосы были прикрыты черным испанским кружевом, спускавшимся в виде мантильи на плечи и на стройный стан. Платье из тяжелой черной шелковой ткани, без всяких украшений, кроме висевших у пояса четок из белого коралла в артистической золотой оправе, волочилось за нею длинным шлейфом, придавая всей ее фигуре величественный вид. Многие были убеждены, что она принадлежит к одному из тайных иезуитских орденов, которых в то время было особенно много в католических странах, а в особенности в Польше. У «фамилии» Чарторыских она пользовалась особенным доверием и почетом. Муж ее, один из усерднейших и вернейших клиентов князей Чарторыских, оказавший своим патронам множество услуг, перед смертью поручил свою жену супруге князя Адама Чарторыского, и когда Дукланова приехала по вызову последней из Пулавы, то в самое непродолжительное время завоевала сердца всех своих новых протекторов. Внушая им из года в год все больше и больше доверия и уважения, она была приставлена руководительницей к семнадцатилетней Изабелле, урожденной Флеминг, супруге Адама Казимира, старшего сына князя Адама.
Рассказывали, будто в первое время новобрачная чуждалась навязанной ей свекровью резидентки, но это недоверие длилось недолго: недаром пани Дукланова слыла умной и ловкой женщиной, опытной в интригах и владеющей даром привораживать сердца; она очень скоро приобрела доверие и дружбу молодой женщины, воображавшей себя несчастной и непонятой мужем, за которого ее выдали, не справляясь ни с ее вкусами, ни с желаниями.
Князь Адам Казимир Чарторыский, сын коронного маршала, не отвечал идеалу, о котором с юных лет мечтала его супруга. То было время сентиментальных любовных бредней, амурных авантюр и парения в экстравагантнейших эмпиреях воображения, вскормленного фантастическими произведениями таких авторов, как мадам де Скюдери, Радклиф и таких сочинений, как «Исповедь» Ж-Ж. Руссо, воспевающих страдания непонятых женщин, доблесть их избавителей от супружеского ига и блаженство незаконной любви.
Супруг этой экзальтированной семнадцатилетней особы неспособен был служить ей ни руководителем, ни опорой против светских соблазнов, которыми был усеян ее жизненный путь при тогдашней распущенности нравов и предприимчивости искусителей женской добродетели, дошедших в этом искусстве до виртуозности. Сам князь Адам Казимир был жертвой страсти к сильным ощущениям, и был воспитан с малых лет в мечтах сделаться героем блестящей авантюры, которая должна была увенчать честолюбивые замыслы «фамилии». Его растили и воспитывали претендентом на польский престол и ни перед чем не останавливались для достижения этой цели.
Он получил блестящее воспитание под руководством опытного и просвещенного педагога, иезуита де Моне, и, обладая в совершенстве всеми талантами светского кавалера, являлся, по свидетельству компетентного в этом деле современника, известного принца де Линя, «любезнейшим, остроумнейшим и обаятельнейшим кавалером в Европе».
К сожалению, сердце князя было сухо, а ум — узок. Не унаследовав ни политических способностей своего строптивого отца, ни холодной рассудительности своего дяди, девизу которого: «Mieux ne rien faire que fair des riens» [12], он слишком часто изменял, — князь Адам Казимир, тратясь свыше средств для поддержания положения кандидата на престол, успел расстроить свое собственное огромное состояние и запутал в неоплатных долгах приданое жены. И все это для того, чтобы потерпеть неудачу в своих честолюбивых замыслах! По настоянию русской императрицы, после смерти Августа III польским королем был избран Понятовский.
Вне себя от раздражения и досады, несчастный претендент поехал развлекаться от поражения за границу, где провел много лет во время ранней юности и где у него осталось множество друзей, веселых собутыльников и товарищей по великосветскому разврату.
Сопровождая его, супруга, развлекалась по-своему. Она давно мечтала о приятных и жутких приключениях, которым неминуемо должна была подвергнуться молодая иностранка, путешествовавшая не только инкогнито, но еще и в мужском платье. Такими приключениями изобиловали прочитанные ею романы, и она усердно принялась осуществлять свои мечты. Вскоре о ней заговорили в столицах цивилизованной Европы и при дворах, представлявших в то время центры всего модного и веселого. Ее романические выходки пришлись как нельзя больше по вкусу красавицам на берегах Тибра, Арно, Сены и Темзы, воспитанным в тех же мечтаниях и восторгавшихся отважностью дочери Севера, решившейся храбро выступить в борьбу с предрассудками и рутиной. Княгине Изабелле завидовали, о ней сплетничали, ее осуждали, но искали знакомства с нею. Однако предшествовавшая ей молва описывала ее так старательно, что при первой встрече с нею являлось разочарование. Никто не узнавал в далеко не красивой и застенчивой молодой женщине с довольно угловатыми манерами героини приписываемых ей романов, но при ближайшем знакомстве с нею ее находили обаятельной. Может быть, особенную прелесть придавала ей наивность, свойственная женщинам, выросшим в замкнутой семейной среде. Эту наивность княгиня Изабелла сохраняла всю свою жизнь, по крайней мере наружно, и это свойство составляло главную ее прелесть.
Отличалась она также от женщин своего общества пытливостью ума, живостью характера и порывами откровенности, а также очаровательной улыбкой, чудными выразительными глазами и восхитительной ножкой.
Лицам, ознакомившимся с перипетиями ее рано начавшейся жизни, следившим за возникновением и развязками ее бесчисленных страстных увлечений по ее собственным письмам и по отзывам многочисленных современников, ее наивность кажется кокетством, а чистосердечие — легкомыслием; но тем, с которыми она искусно разыгрывала любовные комедии, сама при этом увлекаясь до невозможности отличать правду от лжи, она должна была казаться очаровательной. Вполне понятно, что Изабелла кружила головы как старым, так и молодым, как представителям отживающей свой век европейской аристократии, так и «новым» людям, философам, революционерам и ученым, с которыми она с мужем поспешила познакомиться по приезде в Париж, где прожила много месяцев весело и пышно. Чарторыские из Парижа поехали в Англию, где их принимали с таким же радушием, как и везде, и где Изабеллу лечил от мигрени игрою на гармониуме знаменитый Вениамин Франклин, тоже, как видно, подпавший под обаяние очаровательной путешественницы.
Как относилась сама Изабелла к своим новым друзьям, поклонникам и учителям, можно усмотреть из ее писем, в которых, невзирая на осторожность и никогда не покидавшую ее рисовку как в мыслях, так и в чувствах, иногда проскальзывает и правда, чаще всего в юмористической форме, делающей гораздо больше чести тонкости ее ума, чем сердца. Описывая, например, свое первое свидание со знаменитым автором «Моей исповеди» и «Социального контракта», она обмолвилась такой фразой: «Чересчур много кричит и произнес какую-то метафизическую сентенцию, которая показалась нам нелепой». Но этот резкий, сухой и, без сомнения, правдивый отзыв, который можно назвать криком, нечаянно вырвавшимся из глубины души, мало вяжется с представлением чувствительной до экзальтации юной красавицы, какой все привыкли представлять себе Изабеллу Чарторыскую.
А пока молодая чета таким образом развлекалась от потери трона за границей, в Польше произошло много нового. Оказалось, что князь Адам Казимир напрасно был принесен в жертву честолюбивым замыслам «фамилии», деятельно содействовавшей возведению на престол Понятов-ского, в надежде управлять страной под его именем — увы! — эта надежда не осуществилась, и отношения с королем притязательных его родственников дошли до полного разрыва. Тогда Чарторыские повели открытую борьбу против короля, пуская в ход для усиления своей партии клевету, подкупы, пышные обещания и скрытые угрозы.
Эта борьба была в полном разгаре, когда молодые Чарторыские вернулись в Варшаву. Тут оказалось, что Изабелле самой судьбой было предназначено служить орудием для развития честолюбивых планов «фамилии» ее мужа. Молодой, красивый и увлекающийся король без памяти влюбился в свою прелестную кузину и очень скоро завладел ее сердцем.
Изабелла явилась в новой роли ангела-примирителя. Через нее, сентиментальную красавицу, было несравненно легче вступать в переговоры, выслушивать объяснения и требовать уступок, чем через деловитых и сухих посредников, не умевших вовремя отрешиться от предвзятого мнения о короле как легкомысленном молодом человеке, еще недавно игравшем роль покровительствуемого в семье.
Но вряд ли эти соображения входили в голову влюбленному Станиславу Августу, когда он предпринял осаду чувствительного сердца супруги соперника, уже побежденного им на политическим поприще. Не думала об этом и Изабелла, вступая в права королевы с левой стороны, но этим обстоятельством не преминула воспользоваться «фамилия» настолько, насколько это было возможно при строгой опеке иностранных послов над ставленником русской императрицы.
Стеснительнее и неприятнее всех для замыслов вечно фрондирующих магнатов, с Чарторыскими во главе, оказывался русский посол. Причин к тому было много. Князь Репнин был замечательный человек. Еще молодой (ему в 1768 году было всего только тридцать три года), замечательно хорошо воспитанный, с энергичным характером, тонкостью ума не уступавший полированнейшим из магнатов, он был столько же храбр, сколько предан царице и родине. Обвести его было трудно, и он шел к намеченной цели неуклонно, умно и неустрашимо. Цель же эта состояла — и это было самое страшное для римского духовенства, державшего Польшу в руках, — в уравнении православных и диссидентов с католиками в праве исповедывать свою веру, а также принимать участие в управлении страной.
С ужасом доносили представители римской курии об опасности, грозившей их влиянию в Польше, о перспективе исчезновения из их рук власти над народом, до такой степени забитым этой властью, что он казался превращенным в живой труп. Предвидели они также осуществление такого гибельного для Польша плана, как присоединение к России частей Польши — провинций, искони считавшихся русскими и оставшихся русскими невзирая на многолетний и тяжелый иноземный гнет. Курьер за курьером с донесениями самого отчаянного свойства, жалобами, советами и инструкциями летали беспрестанно из Польши в Рим и обратно. Одним словом, положение было отчаянное. И вдруг один из шпионов прелата Фаста донес ему о впечатлении, произведенном на русского посла княгиней Изабеллой Чарторыской.
Живо взвесив все выгоды и невыгоды новой романической авантюры, зародившейся в его изворотливом уме, прелат выступил через преданных ему женщин посредником между влюбленными и ловко довел дело до вожделенной развязки.
Правда, руководитель совести Изабеллы взялся за дело в самое удобное время — когда легкомысленный король начинал заглядываться на хорошенькую Сапегу и между ним и дамой его сердца уже начинали происходить сцены ревности, обыкновенно служащие прелюдией к разрыву; правда также и то, что ветреная Изабелла не могла относиться равнодушно к вниманию такой выдающейся личности, как князь Репнин, по своему влиянию и независимости характера стоявший в стране выше короля, которым он управлял, как строгий дядька, приставленный старшими к шалуну-школьнику, и которому он нередко перечил не только в серьезных замыслах, но и в капризах.
Все шло как нельзя лучше, и из объятий короля Изабелла бросилась в объятия русского посла. Но — увы! — ликование прелата было недолгим; ему пришлось убедиться, что, как ни страстно, как ни беззаветно любил князь Репнин свою новую возлюбленную, как ни щедр был он для нее на подарки, как ни счастлив был исполнять все ее желания и как ни дорожил ее любовью, — извлечь политическую выгоду из этой любовной связи было очень трудно. При первом же ее намеке о необходимости сохранить за католической религией первенство в стране Репнин зажал ей рот поцелуями и дал понять, что лучше бы ей не говорить о том, чего она не понимает, и указал, что никто в мире не заставит его изменить свои убеждения.
Иного нельзя было и ждать от внука друга и сподвижника великого Петра; но чего нельзя было ждать — так это готовности Изабеллы покориться его воле. На все увещевания прелата она ответила, что не чувствует себя в силах огорчать своего возлюбленного, умоляла оставить ее в покое, не заставлять ее ссориться с ним и не отравлять ее счастья комбинациями, не имеющими ничего общего с ее любовью.
Ясно было, что она со дня на день все сильнее подпадала под обаяние нравственной силы Репнина и что большой пользы для родины от этой новой Юдифи предвидится мало. Юдифь искренне влюбилась в Олоферна.
Однако, когда над отцом ее мужа стряслась беда из-за того, что он не исполнил обещания, данного русской императрице, Репнин выпросил ему прощение. Спас он от ответственности и мужа Изабеллы, но о том, что предшествовало этим уступкам, какими предостережениями и угрозами были обставлены эти милости, не знал никто, кроме прелата Фаста, от которого как от руководителя ее совести у княгини Изабеллы не было тайн.
А прелат не только умел ждать, но также довольствоваться малым. Он сумел также умерить негодование остальных действующих лиц политической комедии, разочарованных в своих ожиданиях, когда подготовленная ими интрига разыгралась не так, как они желали, и когда вопреки всеобщим предположениям увлечение Изабеллы русским послом превратилось в настоящую любовь. Но прелату не пришлось каяться в том, что первая неудача не заставила его отказаться от руководительства совестью молодой женщины; в этой роли ему удалось узнать как нельзя лучше не только характер и мысли русского посла, а также и те его душевные свойства, которых он, может быть, сам в себе не подозревал и которые его возлюбленной очень скоро удалось разгадать под личиной суровой сдержанности политического деятеля, принужденного бороться с лукавыми кознями враждебной партии.
Княгиня Изабелла была натура экспансивная, счастье ее было неполно, когда ей нельзя было поделиться им с сочувствующим другом, а таким другом она считала пани Дукланову, которая в свою очередь не имела тайн от прелата Фаста. После каждого свидания со своим возлюбленным Изабелла посылала за своей резиденткой или сама приходила в ее уютное помещение и сообщала ей малейшие подробности любовного свидания, под впечатлением которого она находилась, с восхищением припоминая каждое новое доказательство нежной страсти своего возлюбленного. Но при этом она мимоходом, не придавая этому значения, затрагивала и более интересные для ее слушательницы предметы. Как ни сдержан и ни осторожен был Репнин, однако ему случалось под впечатлением неприятного известия или неожиданного приказа из Петербурга намекнуть своей возлюбленной на обстоятельства, никому еще в городе, кроме него, не известные, или выразить драгоценный для врагов намек на план действий, которого он намерен был держаться, а также на его мнение о таких-то или таких-то лицах. Все эти отрывочные сведения немедленно сообщались интимным другом молодой княгини прелату Фасту, и тот извлекал из них желаемую пользу. Одним словом, от сближения княгини Изабеллы с русским послом, невзирая на нежелательный оборот, принятый этим сближением, все-таки выигрывали и надеялись выиграть еще более в будущем последователи мудрого правила, гласящего, что ничем не следует брезгать для достижения цели.
В пани Дуклановой прелат имел драгоценную помощницу. Эта женщина с бурным таинственным прошлым, которой при жизни ее мужа никто здесь не знал и которая продолжала сторониться всех, после того как поселилась у Чарторыских, умела вкрадываться в душу и сделаться необходимой тем, кому ей было нужно, не употребляя для этого ни самоунижения, ни лести и не платя откровенностью за откровенность. О своем прошлом она никогда не обмолвилась ни словом, так что сама супруга князя Адама ничего не знала о ней, кроме того, что написал о ней в своем предсмертном письме к ней верный Дуклан, умоляя свою госпожу за верную его службу не оставить покровительством и лаской его вдовы и прибавил: «Смею уверить светлейшую многоможную пани, что она и Вашей милости и всей Вашей фамилии будет такой же верной слугой, каким я был… Положиться на нее можно: она умна, ценит ласку и умеет молчать».
Эту рекомендацию Дукланова оправдала вполне: ей во всем можно было довериться, и она все понимала. Она снискала доверие не только всей «фамилии», но также и всех друзей последней. Во время своего увлечения Изабеллой король познакомился с ее старшей резидентной и продолжал оказывать ей внимание, при всякой встрече останавливаясь, чтобы узнать о ее здоровье и прибавить к этому несколько любезных слов; не меньшим уважением пользовалась пани Дукланова и со стороны русского посла. Все знали ее, как особу весьма влиятельную, но так как своим влиянием она никогда не пользовалась ни для себя, ни для других, то никто к ней с просьбами не обращался. Ловко сумела она и в этом отношении оградить себя от посягательства на самостоятельность, которой, по-видимому, дорожила больше жизни.
По тому, как поторопилась она встретить прелата Фаста, когда он в неурочный час приехал навестить свою духовную дочь, и как медленно проходила она с ним по покоям, ведущим к уборной своей госпожи, по временам подолгу останавливаясь, чтобы высказать то, что, по ее мнению, нужно было знать ему до встречи с княгиней Изабеллой, а также по тому, с каким вниманием он слушал ее, можно было заключить о важности происходившей беседы.
В коротких словах передала она прелату о новости, слышанной накануне княгиней от русского посла, а именно о том, что в лагере патриотов появился изменник и что Репнин подозревает о существовании заговора против короля.
— Он расспрашивал княгиню? — спросил прелат.
— Нет. Он сказал только в общих чертах и, как ей показалось, в виде предостережения, выразил сожаление, что эти люди сами лезут в петлю, не понимая, что делают.
— Имен не называл?
— Ни одного.
— А что слышно из Киева?
— Отец Марек имеет большой успех: хлопы начинают волноваться, и уже произошло несколько стычек с православными. Под самым Киевом, в селе Малявине, москали поколотили наших. Там живет та старая помещица, о которой я уже не раз говорила вашей всевелебности, ярая ненавистница и гонительница католиков. Чтобы поступить к ней в услужение или даже получить работу в ее экономии, надо быть православным. Она лучше сгноит весь хлеб в поле, чем даст убрать его полякам. В последнее время она стала особенно свирепствовать; по всему видно, что она прослышала о требованиях, которые русский посол намерен предъявить на конфедерации.
— Это прабабка Аратова?
— Да, прабабка того самого, что змеей вполз в королевский дворец и сводит с последнего ума Понятовского разорительными затеями.
— О его новой страсти ничего нового не слыхать?
— Весь город говорит. У короля из-за этой незнакомки вышла бурная сцена с Грабовской, и, говорят, княжна Сапега с утра до вечера плачет.
— А наша княгиня, наверное, смеется? — усмехнулся прелат.
— Нашей можно смеяться: после нее их сменилось такое множество, что уже и счет потеряли. Но последняя тем опасна, что долго заставляет искать себя, и, как русская, будет, разумеется, поддерживать своих соотечественников.
— Но разве верно, что она русская?
— Все в этом убеждены.
— Княгиня Изабелла была у жены киевского воеводы. Что говорят об этом визите?
— Говорят, что она всех там очаровала, а в особенности пани Анну. Вбежала к Потоцкой, как к родной, опустилась перед нею на колени и, целуя ее руки, заявила, что любит ее, как мать, и что эта минута — счастливейшая в ее жизни. Потом она захотела видеть детей, каждому из них сказала несколько милых слов и так искренне восхищалась красотою и умом Щенсного, что пани Анна совсем расчувствовалась и, обнимая нашу княгиню, сказала, что считает потерянным то время, когда не знала ее. Я была там, и графиня обошлась со мною очень приветливо. Расставаясь она сказала, что раньше будущей недели отдать нам визит не может, потому что хочет поберечь себя для вечера у краковского кастеляна, на котором надеется встретиться и со старой княгиней Адамовой.
Они входили в маленькую гостиную перед будуаром, за которым находилась большая уборная, и прелат прервал свою спутницу, чтобы спросить, не знает ли одна, для чего именно ее госпоже понадобилось видеть его.
Пани Дукланова печально вздохнула.
— Все то же самое: мучится сомнениями насчет чувств князя. Уверяет, что его любовь начинает пугать ее и что так глубоко любить может только русский…
— И, кажется, пани Дукланова согласна с нею? — с тонкой усмешкой заметил прелат, останавливая пристальный взгляд на своей собеседнице.
Она вспыхнула от смущения под этим взглядом, но, тотчас же оправившись, продолжала начатую речь, не отвечая на лукавый намек.
— Требованиям Репнина не предвидится конца, и наша княгиня опасается какой-нибудь экстравагантной выходки с его стороны, вызова ее супруга на дуэль или чего-нибудь еще хуже. Князь уже не скрывает своего желания, чтобы она все и всех бросила, чтобы принадлежать ему одному, и она начинает чувствовать себя бессильной рассеять его с каждым днем возрастающую ревность и подозрительность. Он следит за каждым ее шагом, она должна писать ему каждый вечер и давать ему отчет во всем: кого она видела, что слышала, что думала, что делала.
— Если он верит ей, то это хорошо, — заметил прелат.
— А я скажу вам, что для людей, не посвященных, как я, в тайну ее сердца, просто непонятно, как выдерживает она такое тиранство.
— Если она сделается королевой, тогда ее отношение к русскому послу силою обстоятельств изменится, — заметил прелат.
— А мне кажется, что любовь Репнина ей дороже короны! — подхватила наперсница княгини Изабеллы и хотела еще что-то прибавить, но ее слушатель приложил палец к губам, и слова, рвавшиеся у нее с языка, остались невыговоренными.
Предшествовавший им гайдук растворил дверь в уборную, где при ярком освещении, перед зеркалом на роскошно разубранном туалетном столе, сидела в кружевном пеньюаре княгиня Изабелла, окруженная резидентками, горничными и дворскими девицами, помогавшими французу-парикмахеру убирать ей волосы.
— Просите его всевелебность пожаловать сюда, — ответила она на доклад гайдука о приезде прелата.
По ее знаку все присутствующие удалились, и, когда пани Дукланова ввела прелата в обширный покой с богато расписанным потолком и с парижской обстановкой, кроме хозяйки, тут никого не было.
В описываемую эпоху княгиня Изабелла была еще очень молода и в полном смысле слова обаятельна. Непринужденная грация в движениях, очаровательность улыбки, выражение чудных больших глаз и тонкое изящество гибкой, прелестно сложенной фигуры заставляли не только забывать неправильность чересчур длинного овала лица и следы оспы на тонкой коже, но и находить княгиню очаровательнее всех красавиц Польши. Голос у нее был звучный и вкрадчивый, и, одаренная большим чисто женским умом, она обладала даром находить в данную минуту именно такие слова и выражения, которые проникали в душу слушателя, располагая его к любви, доверию и желанию быть ей приятным. Даже ее суховатый и мелочный супруг, давно охладевший к ее прелестям, не мог ни в чем отказать ей и подпадал под ее обаяние каждый раз, когда она находила это нужным.
Впоследствии эту замечательную женщину можно было встретить в самых разнообразных и интересных ролях житейской драмы, и, надо сознаться, ее репертуар был очень богат. Покорное орудие иезуитов и «фамилии» в молодости, она, очертя голову, бросалась из одной авантюры в другую, интригуя то с Россией, то с Пруссией, то с Австрией, то за одного претендента, то за другого, по веянию ветра из Рима или из Пулав. С летами она становилась самостоятельнее, но еще решительнее и предприимчивее, а по мере того как вкус к амурным похождениям остывал в ней, сфера ее политической деятельности расширялась, власть над мужем и над семьей упрочивалась, и вокруг нее стала группироваться сильная и безгранично преданная ей партия. Своего мужа она заставила поступать вопреки всем его желаниям, симпатиям и выгодам и служить ее целям, часто узко личным и не имеющим ничего общего ни с благом родины, ни со счастьем семьи. Не чужда ей была и мстительность: в 1787 году одним своим появлением «с угрюмым лицом» она расстроила старательно подготовленное общими друзьями примирение между ее мужем и королем. Легкомысленная очаровательница шестидесятых годов проделала это потому, что не забыла своей любовной ссоры с Понятовским и, двадцать лет спустя, сумела наичувствительнейшим образом доказать ему это.
Свидание княгини Изабеллы с руководителем ее совести было довольно долгим. Пани Дукланова дожидалась окончания конференции в будуаре, и ей два раза приходили докладывать, что карета так долго дожидается у крыльца, что кучер боится, чтобы лошади не застоялись. Она приказала проезжать лошадей по соседним улицам, но отнюдь не откладывать их, потому что княгиня непременно поедет на бал. К ней подходила с вопрошающими взглядами и нетерпеливая дворская молодежь, которая должна была сопровождать ясновельможную на бал — девицы в легких платьях, юноши в богатых костюмах цветов «фамилии» при дорогом оружии и кованных из чистого золота поясах, выложенных драгоценными камнями. Дети богатейшей шляхты считали за великую честь служить при дворе бывшего претендента на королевский престол, каковым его и продолжали считать те из противников русского ставленника, которые жаждали перемены, и свиту обаятельной Изабеллы можно было поистине назвать королевской по красоте, щегольству и ловкости. Им тоже пани Дукланова советовала вооружиться терпением.
Наконец дверь из уборной растворилась, и на пороге появился прелат. С первого взгляда на него можно было догадаться, что произошло нечто важное; его всегда спокойное лицо было серьезнее обыкновенного, и глаза озабоченно щурились, что было у него признаком скрытого волнения.
— Идите к княгине, пани Дукланова, она очень расстроена и нуждается в поддержке разумного человека, который объяснил бы ей, как важно, чтобы она обладала всеми своими способностями на сегодняшнем балу. Я оставил ее в слезах; надо скрыть под румянами следы этих слез, вы на это мастерица, — прибавил он с улыбкой, протягивая Дуклановой руку, к которой она с благоговением приложилась губами.
Еще раз повторив ей, чтобы она не медлила, прелат направился к выходу в сопровождении выбежавшего провожать его маршала, а Дукланова прошла в уборную, где застала свою госпожу с парикмахером и с фрейлинами, оканчивавшими ее туалет.
Княгиня Изабелла была так бледна и взволнована, что нельзя было не понять опасений прелата, и Дукланова, не медля, принялась за дело. Она знала, что ее госпоже непременно нужно высказаться, чтобы успокоиться, и, выслав всех из комнаты, сказала, что сама окончит туалет ясновельможной.
— О Дукланова, как огорчил меня его всевелебность! — воскликнула последняя, когда они остались вдвоем. — Он требует невозможного: он хочет, чтобы я непременно узнала содержание депеш, присланных князю из Петербурга на этих днях! Он хочет знать, что ответит на них князь, и, сколько я ни умоляла его избавить меня от этого поручения, он оставался непреклонен и грозится отказаться руководить моею совестью, если я не исполню его приказания!
— Исполните желание его всевелебности, моя пани, — спокойно ответила Дукланова, искусно румяня и налепляя мушки на ее вспухшее от слез лицо. — И ничего тут трудного нет, — продолжала она, взяв со стола приготовленное платье из голубого крепа, вышитого серебром, с отделкой из белых перьев и жемчугов, и надевая его на княгиню.
— Но как же? Как же? — спросила дрогнувшим голосом Изабелла. — Князь запретил мне говорить с ним о политике, он мне даже намекнул, что, хотя бы ему это стоило жизни, он принужден будет расстаться со мною, если я ослушаюсь его, — проговорила она со вздохом, прикладывая розу к груди.
— Когда вы успокоитесь и перестанете думать об этом, я помогу вам советом; но не забывайте, пожалуйста, что успех возможен только при вашем полнейшем спокойствии и самообладании: если вы будете плакать и волноваться, то лучше напрямик отказаться исполнить желание его всевелебности.
— Вы знаете, что это невозможно! — с досадой крикнула княгиня, надевая браслеты поверх длинных перчаток.
— Я это знаю и потому умоляю вас не давать воли нервам, и все будет хорошо. Я вам за это ручаюсь.
— Постараюсь последовать вашему совету.
— Скажите себе, что вы ему непременно последуете. Нет ничего невозможного для такой красавицы и умницы, как княгиня Изабелла, и все возможно для женщины, которая любит и желает сохранить любовь своего милого!
Уверенность, звучавшая в этих словах Дуклановой, передалась ее слушательнице. Впрочем, княгиня знала цену советов своей резидентки, и последней не в первый раз доводилось спасать ее от беды. Однако, когда туалет был окончен, на молодую женщину снова напали сомнения и робость.
— Не отказаться ли сегодня от бала? Уже поздно, и мое появление произведет сенсацию, — нерешительно заметила она, умоляюще взглядывая на Дукланову.
— Как это можно! Не лучше ли произвести сенсацию в публике, чем заронить подозрение в сердце князя? Он не будет иметь покоя, пока не узнает настоящей причины вашего отсутствия на балу, и его такими причинами, как внезапное нездоровье, не удовлетворишь. Он начнет допытываться, узнает про посещение прелата перед балом, когда вы были уже за туалетом, все это сопоставит, догадается, что причиной вашей болезни был разговор с его всевелебностью, и тогда не будет возможности узнать то, что нужно. Нет, нет, стыдитесь такой недостойной слабости! Да и чего вы боитесь? Вперед раздумывать о том, что будет, не для чего. Очень может быть, что князь сам скажет вам то, что вам нужно знать.
— Мы с ним давно не виделись наедине, и он, наверное, будет требовать, чтобы я назначила ему свидание где-нибудь.
— Прекрасно! Завтра днем танцуют у короля, вам там представится возможность уединиться в парке. А послезавтра карусель у Огинских, опять свидание.
— О, такие свидания его не удовлетворяют!
— В таком случае… Вы ни разу не были в его дворце, в случае надобности этим можно было бы воспользоваться и сделать князю визит. Разумеется, к этому средству надо прибегнуть только в крайности, если нельзя будет иначе. Во всяком случае надо все делать вовремя и заранее не мучиться мыслями о том, чего еще нет и, может быть, никогда не будет. У моей пани в настоящую минуту никаких забот не должно быть, она должна быть весела и спокойна, как невинный ребенок, танцевать и радоваться, что восхитительнее ее никого нет на свете. Разумеется, моя пани произведет эффект своим появлением, и, разумеется, даже панна Сапега пожелтеет от досады, когда увидит, как все кавалеры увиваются за княгиней Изабеллой.
XXII
А в тот же день утром вот что происходило во дворце русского посла.
День был жаркий, и все жалюзи у окон, выходивших на площадь, были спущены; сама площадь, как и прилегающие к ней улицы, была пуста, но в комнатах, отведенных под канцелярию, работа кипела, а во дворе курьер, окруженный провожатыми и толпою любопытных, хлопотал у тележки, в которую впрягали лошадей, чтобы везти его в дальний путь.
На башне ближайшего костела пробило двенадцать, и прием у посла кончился. Большой зал, где несколько минут тому назад толпились люди всякого звания и состояния, опустел, и князь Николай Васильевич удалился в кабинет. Тут, растянувшись на широкой турецкой софе, он на просторе перебирал в памяти просьбы, требования, доносы, жалобы и инсинуации, которыми осыпали его в продолжение двух часов.
Всегда были для него мучительны приемные часы в этом крае, но с тех пор как поднялась проклятая сумятица по случаю избрания послов на конфедерацию, на которую возлагали великие упования в Петербурге, у него так развинтились нервы от интриг, подвохов и предательств, что с каждым днем в душе его усиливалось убеждение, что у него не хватит сил довести до конца возложенную на него задачу.
«Не выдержишь, не выдержишь, надо отдохнуть», — твердил ему внутренний голос, в то время как перед его глазами продолжали мелькать лица с умоляющими, вызывающими и даже угрожающими взглядами, обращавшиеся к нему в это утро.
Были тут и смиренные монахи, и почтенного вида ксендзы, терпеливые и настойчивые; от них было очень трудно отвязаться и заставить их понять бессмысленность их требований, так же трудно, как и от надменных величественных прелатов и епископов с велеречивыми разглагольствованиями и нагло-настойчивыми взглядами. Приставали к нему и знатные дамы, а также всякая мелкота, вопившая о помощи и защите. Были тут и православные священники в порыжевших рясах, всклоченные и забитые, умолявшие о заступничестве, о поддержке православной веры, угнетаемой и унижаемой хозяевами страны; были тут и представители от русских крестьян, в рубищах, одним своим изможденным видом свидетельствовавшие о безвыходности положения.
На письменном столе возвышалась куча прошений, докладов, жалоб, доносов. Последних было особенно много, и при одной мысли об их расследовании у русского посла горечь подступала к горлу.
Нет, нет, пора отдохнуть, пора бросить этот край и пожить, наконец, для себя, для своего личного счастья! У государыни преданных слуг много; пусть она поручит другому начатое им дело, а он покинет эту ужасную страну, где для посвященного, как он, во все гнусные тайны закулисной ее жизни, от всего смердит, как от разлагающегося трупа.
Нет, нет, скорее прочь отсюда!
Силы его как душевные, так и телесные, ослабевают в томительной, непосильной борьбе. Все чаще и чаще осаждают его припадки беспомощного отчаяния, и если бы не Изабелла, жизнь давно потеряла бы для него всякий смысл. Только одна любовь к ней и поддерживает его. Но какими нестерпимыми муками сопровождается это любовь!
Сегодня подтвердился слух о примирении Чарторыских с Четвертинскими и Масальскими, вождями коалиции против короля, то есть против русской партии. Первые шаги встречены благосклонно князем Адамом Казимиром, мужем Изабеллы.
Этого только недоставало! Не дольше как третьего дня, был у Репнина долгий разговор с этим снисходительным супругом, и этот культурный европеец уверял его честью, что всеми силами старается исполнить желания русской императрицы. Он утверждал, что уравнение прав диссидентов и православных с католиками ничего, кроме пользы для страны, не принесет. Не опуская глаз перед проницательным взглядом русского посла, он клялся, что рад от души способствовать сокращению могущества представителей Рима.
Давно ли это было? А сегодня ему настойчиво доказывают, что и «фамилия», облагодетельствованная Россией, близка к тому, чтобы стать во главе враждебной королю партии, и что необходимо принять меры и против Чарторыских.
Который раз обманывают его эти люди! Сколько раз жертвовал князь громадными суммами и, рискуя всей своей будущностью, вымаливал им прощение! Чем только не жертвовал он, чтобы вызвать улыбку на губах Изабеллы, и сколько раз императрица спасала его от разорения и окончательного разрыва с семьей, возмущавшейся его увлечением полькой, замужней женщиной, матерью четырех детей! В какую мрачную бездну влечет его эта роковая страсть к иностранке — дочери, матери, сестре и жене врагов России! Он знает, что его преступная слабость хорошо известна государыне. При последнем свидании с ним она просила его опомниться, вспомнить про супругу и про детей, поберечь себя для отечества. Она, повелевающая миллионами русских людей, сказала: «Прошу тебя, Николай Васильевич, пожалей твою Наталью Александровну и побереги себя для меня и для родины!» Эти слова проникли до глубины сердца Репнина, и он был искренен, когда, со слезами целуя ее руку, ответил, что она будет им довольна, а вернувшись сюда, опять ослабел. При первом взгляде на чародейку все было забыто — клятвы, обещания, зароки, и опять все пошло по-прежнему.
Не может он отрешиться от мысли, что и Изабелла находится в числе его предателей! Слишком много уз связывает ее с этими людьми. Не может она забыть, что польская корона чуть было не опустилась на ее голову через ее мужа! Но зато помнит она также и то, как ее втолкнули в спальню короля, чтобы «фамилии» удобнее было вертеть его величеством. От короля она перешла в объятия русского посла и уверяет его в любви. И он не может не верить ей, не в силах, как не в силах жить без дыхания. Но хуже всего то, что он не попытается разорвать свои цепи даже и в таком случае, если убедится, что Изабелла и в этом обманывает его, как и во всем прочем. Да, он может лишить себя жизни, но разлюбить ее не может. И она это знает. С каждым днем убеждается он, что в ее душе царит и всегда будет царить для него непроницаемая тьма, полная непостижимых противоречий и загадочных чувств и стремлений, в которых и сама она мечется, как слепая, повинуясь чужой воле, которая ведет ее по неведомому ей пути к неведомой цели.
Иногда ему кажется, что и сама она изнемогает под гнетом нравственного насилия, которому ее подвергают, что и сама она рада была бы вырваться из опутывающих ее сетей, и тогда он очень счастлив, мечтает, как юноша.
«У тебя даже и предлога нет оскорблять меня подозрениями; ведь я здесь пришлая — и от здешних, кроме оскорблений и бесчестья, ничего не вижу», — сказала ему Изабелла однажды со слезами на глазах.
Правда, фамилия Флемингов — не польского происхождения и, может быть, фанатической любви к Польше у Изабеллы нет, но она — покорная дочь римской церкви, и многочисленная свора духовных обоего пола, наполняющая ее дворец и следящая за каждым ее движением и словом, читая чувства и мысли на ее лице не только днем, но и ночью, через близких к ней женщин, прислушивающихся к ее вздохам и сонному бреду, — не даст ей уклониться от служения таинственным целям. При первом пробуждении в Изабелле самостоятельности эти соглядатаи оповестят об опасных симптомах руководящего ею прелата Фаста, великого мастера выворачивать наизнанку души. Он так искусно выжмет из ее души волю, приведет в такое пассивное состояние все ее существо, что она превратится в живой труп в его опытных и безжалостных руках.
Князь слишком долго жил за границей в католических землях, чтобы не знать влияния католического духовенства на женщин, и часто в минуты величайшего любовного упоения его счастье отравлялось мыслью, что, может быть, то сокровенное, что происходит между ним и его возлюбленной в эти минуты, безумные слова, срывающиеся с губ от избытка чувств, страстные поцелуи, — все будет передано до малейших интимнейших подробностей хитрому прелату Фасту. И доблестный герой не мог без содрогания встречаться с этим всемогущим над женскими душами человеком и невольно избегал его проницательного взгляда, в котором читал ироническое торжество.
Но зло это было так неизбежно, что с ним волей-неволей приходилось мириться; князь знал, что нет католички без духовника и что, чем выше стоит она в общественном положении, чем красивее и обаятельнее, тем сильнее духом, талантливее, ревнивее и усерднее ее духовные вожди. Все это было ему известно, но он был так одурманен страстью, что ласкал себя надеждой вырвать Изабеллу из заколдованного круга, в котором она билась, чтобы увезти ее в такой край, где нет ни духовников, ни руководителей совестью, ни монахов, ни ксендзов. Любимейшей мечтой Репнина было выпросить у своей монархини назначение послом в какую-нибудь протестантскую страну, где его Изабеллу оставили бы в покое черные люди и где она возродилась бы к новой жизни под благотворным влиянием его любви.
Изабелле все это было известно; тысячу раз делился он с нею своими мечтами и заветнейшими желаниями, описывал ей свои мучения, умолял ее отдаться ему всей душой и сердцем, верить, что нет такого места на земле, где он был бы с нею несчастлив и где не посвящал бы ей каждой минуты своей жизни! Но она колеблется, ее пугает неизвестность. Да разве может быть в будущем хуже, чем в настоящем? Разве, кроме любви, не связывает их существо, которое обязано им жизнью и вырвать которое из тлетворной среды — их долг? Она колеблется, а он, не колеблясь, рискует выгодами родины и своих единоверцев в ожидании ее решения!
Надо положить предел этому. Сегодня же поедет он к Изабелле, и не с одними только любовными речами, а с доказательствами нового предательства ее мужа. Она, может быть, прозреет и увидит, для каких продажных душ она жертвует его счастьем, спокойствием, любовью!
Эти размышления были прерваны появлением камердинера с докладом о новом посетителе.
— Кто такой? — с раздражением спросил князь.
— Русский офицер. Убедительно просит ваше сиятельство принять его. Говорит, что ваше сиятельство изволите знать его. У них конфиденциальное дело до вашего сиятельства, — и камердинер передал Репнину письмо.
«Корнет гвардии Владимир Грабинин, имел честь быть представленным его сиятельству князю Николаю Васильевичу Репнину графом Михаилом Илларионовичем Воронцовым, убедительно просит секретной аудиенции», — прочитал князь.
От наплыва приятных воспоминаний его лицо просветлело.
— Проси! — приказал он, поднимаясь с дивана.
Радушнейшим образом готовился Репнин встретить молодого соотечественника, которого горячо рекомендовал ему граф Воронцов как сына покойного приятеля и достойного участия молодого человека, и с улыбкой обратился к двери, растворившейся перед посетителем. Но при первом взгляде на взволнованное лицо молодого человека, его бледность и растерянность князь понял, что над ним стряслась большая беда, из которой русскому послу придется выручать его с большой докукой и неприятными хлопотами. Эта мысль не только заставила улыбку слететь с губ князя, но и опустить протянутую руку, не пожав руки посетителя.
— Чем могу служить вам? — спросил он с холодной вежливостью, когда они остались вдвоем.
— Ваше сиятельство! Я к вам за помощью… за советом… за спасением! — проговорил Грабинин прерывающимся от волнения голосом. — Если вы откажетесь помочь, мы погибли!
«Ишь ведь, как набедокурил юнец! Вляпался, верно, в какую-нибудь опасную интригу через женщин или проигрался в пух», — замелькало в уме князя, в то время как он повторил с официальной холодностью обычную фразу:
— Чем же я могу быть вам полезен?
— Я должен вам сознаться во всем, ваше сиятельство, должен вполне довериться вашей чести, вашему сердцу: другого исхода у нас нет.
— Попали, верно, в дурную компанию? Забыли, верно, что нам, русским, нужна большая осторожность в этой стране, где все нам враждебно? Вы, верно, забыли, что здесь никому доверяться нельзя, особенно женщинам? Разорить человека, обыграть его или в пьяном виде заставить его подписать опасные документы им ничего не стоит, а утопить москаля считают доблестью.
— Ваше сиятельство, к моей беде ни один поляк не причастен. В карты я не играю, и с тех пор как я выехал из Петербурга мне было не до кутежей.
— Но что же у вас за беда и чем я могу помочь вам? Садитесь, рассказывайте! — и, опустившись на диван, князь указал Грабинину на кресло возле себя.
Грабинин начал рассказывать все, что случилось с ним со дня приезда в Воробьевку и до той минуты, когда, похитив Елену, он узнал, что Аратов превратил свою жену в живую покойницу. Говорил он долго, отклоняясь от фактов, чтобы останавливаться на испытанных волнениях, радостях и тревогах и восторгаться бесстрашием и силой духа своей подруги. При одной мысли, что у него могут отнять это сокровище, он сходит с ума…
— А наш злодей уже здесь; я вчера встретил его!
— Да, Аратов уже с месяц как в Варшаве, — заметил князь. — Узнал он вас?
— Не знаю. Он ехал на коне в блестящей кавалькаде, а я шел пешком и в очень скромном одеянии.
— Не в мундире, надеюсь?
— Нет, ваше сиятельство, мундир я надел только, чтобы к вам явиться. Мы принимаем всевозможные меры предосторожности, чтобы скрыть наше общественное положение, и еврейка, у которой мы живем, считает нас русскими ремесленниками: меня — столяром, а Елену Васильевну — швеей. Но ведь мало ли что может случиться! При следующей встрече Аратов может узнать меня. Очень может быть, что он уже напал на наш след и принимает меры, чтобы похитить у меня Елену. Ему это легко — у него есть связи, везде есть люди, которые на все готовы из-за денег. Со мною сталкиваться ему нет расчета: он знает, что я с радостью отдал бы полжизни, чтобы драться с ним до тех пор, пока один из нас не останется на поле боя. Но выкрасть Елену силой или хитростью — для этого он ни перед чем не остановится. Что же нам делать, ваше сиятельство? Бежать за границу дезертиром, с фальшивым паспортом? Признаюсь откровенно, эта мысль приходила мне в голову, но Елена Васильевна запретила мне и думать об этом; она говорит, что не будет иметь ни минуты покоя, если я совершу такую подлость из-за нее. И она права. Я — русский дворянин и офицер гвардии ее величества, никакого позорящего честь преступления я не сделал, мне невместно поступать, как вору или убийце. Хлопотать об отпуске и о дозволении ехать в чужие края, да еще заочно… Вы знаете, сколько на это потребуется времени! А нам каждую минуту грозит опасность хуже смерти. Похитить Елену, убить, стереть с лица земли так легко! Ведь она — живая покойница, она вне закона.
— Вы говорите, что Аратов выписал священников из Киева, и также и певчих для похорон? — прервал его князь.
— Да, ваше сиятельство, мне все это передавал Андрей. Не думайте, пожалуйста, чтобы мы не понимали, что поступили незаконно, и подвергаемся за это ответственности. Но что же нам было делать? Оставить Елену у такого изверга, как Аратов, было невозможно.
— А кого из соседей пригласил он на эти похороны?
— Не знаю, ваше сиятельство; мне было не до того, чтобы интересоваться этим. Да и не все ли равно, как именно нашел нужным обставить свое святотатство наш злодей? Он достиг своей цели, вычеркнул из списка живых свою жертву, и, кроме меня, у нее теперь никого нет на свете.
— А кто этот Андрей? Ваш крепостной?
— Был крепостной, но перед отъездом, за его помощь в спасении Елены, я дал ему вольную вместе с доверенностью на управление всеми моими имениями. Я обязан ему своим счастьем! У Аратова все уже было готово, чтобы заключить Елену в дом умалишенных, опоздай мы только на сутки, и все погибло бы безвозвратно. Ваше сиятельство, найдите нам такой уголок на русской земле, где бы нас на время оставили в покое! Всеми земными благами готов я с радостью пожертвовать за такое счастье! Елена любит меня, ваше сиятельство, — прибавил он с таким выражением, точно эти три слова все объяснили.
И он был прав. В данную минуту никто не мог ему так сочувствовать, как серьезный государственный муж, перед умом, беспристрастием и проницательностью которого трепетало множество людей из сильнейших и важнейших в крае; на этот раз тонкий политик, изловчившийся в искусстве скрывать свои мысли и чувства под личиной холодного спокойствия, с трудом сдерживал волнение, слушая соотечественника, каждое слово которого находило отзвук в его сердце, томившемся страстью к женщине и страхом потерять его.
Но насколько Грабинин был счастливее его! Как дорого дал бы Репнин, чтобы быть так же, как и он, уверенным в беззаветной преданности и в любви той, для которой он был готов жертвовать всем на свете! И как ничтожны казались ему его тревоги и опасения в сравнении с тем, что он сам испытывал, с мрачной запутанностью его положения, с сознанием беспомощности, в которую втягивала его любовь к жене Чарторыского! Счастливейшим из смертных считал бы он себя, если бы вместо покорного ученика иезуитов и первого магната Речи Посполитой судьба послала ему в соперники такого головореза, как Аратов.
А Грабинин, поощренный молчанием князя, которое он принимал за сочувствие, продолжал свое повествование.
По его словам оказывалось, что опасность грозит им не от одного Аратова. Появился еще злодей, преследовавший их. Они поселились за городом, в месте, называемом Уяздово, близ Лазенковского парка, и, опасаясь, чтобы Елена не захворала от недостатка воздуха и движения, он вздумал водить ее гулять в этот парк в такое время, когда трудно было встретить кого бы то ни было из городских обывателей — прогуливались они по отдаленнейшим от дворца аллеям. Но эти предосторожности не спасли их. На днях, чуть свет, в то время, когда после бессонной ночи, проведенной в тревожных мыслях, Грабинин на рассвете забылся крепким сном, Елена Васильевна вышла одна на обычную прогулку в королевский парк. Враги их как будто ждали этого случая. Не успела она дойти до скамейки, на которой они всегда отдыхали, как появился господин, еще молодой, величественной осанки и богато одетый. Не давая Елене опомниться, он подошел к ней и с низким поклоном попросил позволения сесть возле нее. Растерявшись от страха, Елена хотела уйти, но незнакомец, правда, очень вежливо, позволил себе заговорить с нею, заявив, что давно уже ищет случая познакомиться. Оказалось, что он следил за ними с тех пор как они начали приходить сюда гулять, что, увидав такую красавицу, как она, невозможно забыть ее и всем сердцем не стремиться к более близкому знакомству с нею; наконец, он добавил, что лицо ее мужа напоминает ему офицера, которого он встречал в лучшем петербургском обществе.
Можно себе представить, в какой ужас привели Елену эти слова! Не помня себя от испуга, она пролепетала, что он ошибается, что в Петербурге ее муж никогда не был, что они здесь проездом и никаких знакомств заводить не желают. С этими словами она направилась к выходу. Нахал не последовал за нею, но когда, сворачивая на другую аллею, она обернулась, то увидела, что он стоит все на том же месте, и уже не один: двое каких-то вельмож смотрели вместе с ним вслед ей, оживленно разговаривая между собою, очевидно, о ней.
Бедняжка прибежала домой в страхе и волнении. Но этим не кончилось: в тот же вечер к их хозяйке явился человек, по ее убеждению, из тайной полиции, и стал расспрашивать о них: кто они такие, откуда, надолго ли приехали, с кем видятся, от кого получают письма и так далее. Наконец он заявил, что не уйдет, пока не увидит бумаг, удостоверяющих, что они русские ремесленники. Пришлось показать эти бумаги, и он унес их с собою.
— А откуда достали вы эти бумаги на имя русских ремесленников? — спросил князь.
— Нам их дал тот самый человек, который советовал нам прямо обратиться к вашему сиятельству в тяжелую минуту. Он уверяет, что вы можете спасти нас. Мы скрывались у него в лесу несколько дней перед отъездом через Киев в Польшу. Он живет в лесу, носит монашескую рясу и слывет святым человеком. Имени его никто не знает. Сам он себя называет живым покойником. Вы, может быть, забыли о нем, ваше сиятельство, но он вспоминает о вас с благоговением и с любовью.
— Вот что, — начал князь после продолжительного раздумья, — ваша история крайне интересна, и ваше положение весьма опасно и затруднительно, но хорошо, что ваша подруга удержала вас от эмиграции. Это — крайняя мера, на которую можно будет тогда только решиться, когда все остальные меры будут истощены, да и то с опаской, чтобы не лишиться всего вашего состояния. А пока, если вы мне доверяете, извольте ни в чем не уклоняться от моих начертаний.
— Я, ваше сиятельство, именно с таким намерением и отважился явиться к вам. Требуйте от меня, что хотите, кроме разлуки с Еленой!
— Такой жертвы я от вас не потребую, — с улыбкой отвечал русский посол, — но ради нее попрошу вас быть осторожнее и всеми силами избегать встречи с вашим недругом. Ступайте домой, успокойте вашу возлюбленную и ждите моих дальнейших распоряжений. Постараюсь облегчить ваше положение, насколько это будет в моей власти! — прибавил он с чувством, поднимаясь с места и протягивая руку Грабинину.
XXIII
Весь остальной день провел князь Николай Васильевич под впечатлением свидания с соотечественником.
Мысль о романе Грабинина примешивалась ко всем занятиям, которых в этот день выпало особенно много. Невольно вспоминал он Грабинина, разбирая жалобы и просьбы и ставя на них резолюции, а также читая письмо, привезенное курьером из Вильны от полковника Kappa, уведомлявшего его о сборах князя Карла Радзивилла с многочисленной свитой в Варшаву. Такое событие первостепенной важности заставило Репнина забыть о романе соотечественника, но лишь на несколько минут, и перетолковать с начальником своей секретной полиции о том, какие меры необходимо принять во время пребывания здесь сумасбродного «пана Коханку», от приверженцев которого можно было ждать всевозможных безобразий, еще князь предложил ему подробнее разузнать о ремесленниках Демьяновых, живущих у еврейки в Уяздове, и о господине, который, увидав третьего дня эту самую Демьянову в Лазенковском парке, начал волочиться за нею и по приказанию которого агент сыскной полиции допрашивал о них их квартирную хозяйку и наконец завладел их видом на жительство.
— Эти люди мне знакомы, и я не хочу, чтобы их притесняли, понимаешь? — прибавил он.
Начальника тайной полиции сменил епископ Подосский, недавно передавшийся на сторону России и уже успевший оказать русскому послу важные услуги. Этот новый друг русских явился с подтверждением слуха о принадлежности «фамилии» Чарторыских к заговору против короля, и, внимательно слушая его, князь опять с завистью вспомнил о Грабинине и со вздохом подумал, что этот счастливец и понятия не имеет о муках, испытываемых человеком, искренне и страстно привязанным к женщине, которую он имеет полное основание подозревать в предательстве и в стачке со злейшими его врагами. Убедиться в справедливости своих подозрений ему, может быть, придется через несколько часов: Изабелла назначила ему в эту ночь свидание в комнате безгранично преданной ей пани Дуклановой, в помещение которой можно было проникнуть тайным ходом, не опасаясь опасных встреч. Он все скажет своей возлюбленной, осыпая ее поцелуями и беспрепятственно вглядываясь в ее прелестные глаза, и заставит ее во всем чистосердечно признаться. Кто знает, может быть, тут и решится их дальнейшая судьба. Может быть, Изабелла решится наконец отдаться ему и душой так же безгранично, как отдалась телом.
Между тем хлопот и неприятностей с каждым часом все прибавлялось. Прискакал курьер из Петербурга с письмом от первенствующего члена иностранной коллегии Панина с предписанием неуклонно держаться начертанного плана и не отступать в вопросе о православных и диссидентах, хотя бы для этого пришлось пустить в ход острастку в виде русских войск. Намекалось на могущее представиться противодействие союзников, уже давно втайне орудовавших в противном русским планам смысле. По-видимому, государыня получила новые доказательства о коварстве «старого Ирода», как в то время она называла прусского короля Фридриха И. Вообще все послание Панина дышало опасением, чтобы русский посол в Польше не дал себя запутать в сети поляков, втайне поддерживаемых вероломными союзниками России.
Нельзя было не догадаться, что случилось нечто новое, здесь еще не известное. Донос, без сомнения — и, может быть, отсюда же, от
тех самых Чарторыских, — с целью запутать игру, отвел внимание от действительности к несуществующему, чтобы, пользуясь временным ослеплением русского правительства, свободнее действовать для намеченной цели.
Князь пожалел, что курьер с донесениями о настоящем положении вещей уже уехал; он прибавил бы к этим донесениям те сведения, которые надеялся добыть вечером.
Прежде всего надо выяснить суть сыпавшихся в последнее время намеков и доносов на киевского воеводу Потоцкого. Русского посла предупреждали, чтобы он не доверялся этому коварному другу, уверяли, будто заговорщикам почти удалось перетянуть его на свою сторону, указывали на сближение как его, так и пани Анны с Чарторыскими, и будто Потоцкие уже обещали присутствовать на совещании у краковского воеводы вместе с Любомирскими, Масальскими, Поцеями и прочими врагами короля и России. Репнин чувствовал, что вера его в преданность Потоцкого начинает колебаться, и ему это было так неприятно, что он дал себе слово переговорить с воеводой начистоту.
Но ехать к Потоцким без благовидного предлога было неудобно, и Репнин приказал секретарю подать ему папку с бумагами, касавшимися графа Потоцкого, надеясь найти между ними то, что ему было надо. Он не ошибся: между множеством жалоб, просьб и представлений нашлась записка от пани Анны с просьбой освободить одно из ее имений близ Варшавы от военного постоя. Князь решил, что теперь самое время исполнить эту просьбу, и, переодевшись, поехал к магнату, которого еще недавно считал своим другом, не способным ни на лицемерие, ни на коварство.
Визит оказался как нельзя больше кстати: воевода сам собирался к Репнинну по весьма щекотливому семейному делу, о котором он с большим волнением заговорил, едва только гость успел переступить порог его кабинета.
— Ваш соотечественник Аратов влюбился в нашу бывшую резидентку, пани Розальскую, любимицу графини, и, предвидя его обращение к нам с формальным предложением, мы решили просить ваше сиятельство навести секретно справки об этой личности. Должен вам откровенно сознаться, что этот брак нам не по сердцу. Графиня убеждена, что наша Юльяния не может быть счастлива с этим человеком, и, мне кажется, она права. Невзирая на блестящее воспитание, ум и ловкость, невзирая на то, что он с редким для русского участием относится к судьбам нашей несчастной родины, Аратов не внушает нам доверия. В нем что-то загадочное, фальшивое и таинственное. Вы не находите?
Князь ответил, что очень мало знает Аратова, ручаться за него не может и находит естественными опасения графини.
— Очень рад слышать это! — воскликнул добродушный Салезий. — Мне нечего говорить вам, что вообще против ваших соотечественников мы ничего не имеем, и, кажется, достаточно доказываем это на деле; но ведь и между русскими есть люди неблагонадежные.
— И даже очень много, как и везде, — поспешил согласиться князь и, ухватившись за новую мысль, заявил, что готов служить графине и в атом, как и во всем остальном, насколько это будет в его власти.
О волокитстве Аратова за хорошенькой вдовушкой и о ее нежном чувстве к нему князь давно слышал; этой историей интересовались даже и во дворце короля, равно как и семейной драмой, разыгравшейся в семье киевского воеводы из-за этого романа. Рассказывали, что пани Анна, гордая ненавистница москалей, поклялась скорее собственными руками задушить свою любимицу, чем уступить ее Аратову.
Не воспользоваться таким счастливым стечением обстоятельств, чтобы расположить в свою пользу супругу киевского воеводы, было бы непростительной ошибкой для такого тонкого дипломата, каким был Репнин, и он поспешил сказать:
— Я приехал сегодня не столько для вас, граф, сколько для графини, чтобы передать ей, что мне посчастливилось исполнить ее желание относительно освобождения ее имения от военного постоя. Если бы она была настолько любезна, чтобы принять меня, мы переговорили бы и об Аратове.
Воевода смутился и, рассыпаясь в извинениях и уверениях расположения своей супруги к русскому послу, прибавил, что графиня так сильно страдает нервным расстройством вследствие вышеупомянутых домашних неприятностей, что уже с неделю не выходит из своей спальни.
— От волнения и огорчения она потеряла сон и аппетит, и доктор уложил ее в постель. Она любит Розальскую, как родную дочь, и при одной мысли потерять ее приходит в отчаяние. А между тем Аратов успел так повлиять на нашу бедную Юльянию, что можно всего ждать. Ему ничего не значит похитить ее, заставить ее переменить веру.
— Графиня напрасно так далеко заходит в своих предположениях, — холодно прервал его излияния князь. — Мы, русские, насильственным обращением в православие не занимаемся: это не в духе нашей церкви.
— Знаю, знаю, князь! Вы меня не поняли, или, лучше сказать, не дали мне договорить! О насилии в данном случае не может быть и речи; наша бедная Юльяния совсем обезумела от любви; она, не задумываясь, всюду последует за Аратовым и сделает все, что он захочет. А ему выгоднее иметь женой православную, чем католичку, хотя бы для того, чтобы удобнее распоряжаться ее состоянием. Раньше, чтобы увлечь ее, он прикидывался ревностным защитником нашей родины, готовым не только принять польское подданство, но даже перейти в католичество, а теперь, когда ему удалось овладеть ее сердцем и кстати овдоветь, он изменил тактику и передался нашим врагам; он — частый и желанный гость в прусском посольстве и действует в пользу немцев так же ловко и деятельно, как раньше в нашу. Беспринципный, жестокий и преопасный человек этот Аратов.
— Я слышал, что он теперь в большом доверии у его величества, — небрежно заметил князь, внимательно следя за выражением лица своего слушателя.
Тот от его слов вспыхнул до ушей и, видимо, растерялся, но затем живо произнес:
— Для самых низких целей, ваше сиятельство!
— Очень вероятно, — согласился князь и прибавил, что постарается услужить графине и спасти ее любимицу от брака с таким недостойным претендентом.
Но высказано это было так сухо, что Потоцкий встревожился.
— Послушайте, князь, я вижу, вам непременно надо лично переговорить с графиней, она сумеет лучше меня вас убедить в справедливости наших опасений. Позвольте мне спросить у нее, может ли она принять вас? — предложил он.
— Но зачем же беспокоить графиню, когда она нехорошо себя чувствует? Я могу приехать в другой раз, когда графиня прикажет… через неделю или позже.
Но, чем сдержаннее становился князь, тем больше горячился воевода.
— Нет, нет, позвольте мне на минуту оставить вас, чтобы сказать ей, что вы у нас и выразили желание видеть ее, — живо подхватил он и, не дожидаясь ответа, поспешно вышел из комнаты, не замечая иронической усмешки Репнина.
Судьба благоприятствовала князю: свидание с Грабининым произошло весьма кстати. Странная тайна Аратова, если ею как следует воспользоваться, могла сослужить важную службу русскому делу. Надо только ковать железо, пока горячо.
XXIV
На половине Анны Потоцкой царили печаль, страх и тишина. Все ходили на цыпочках и говорили шепотом, на всех лицах читалось недоумение и ожидание необычайных событий. В конце длинного покоя, утопавшего в тенях наступавшей ночи, перед балконом, растворенным в сад, несколько молоденьких девушек толпились вокруг монахини со сверкающими фанатическим блеском глазами.
Это была сестра Фелицата из ближайшего пригородного монастыря, старая знакомая Потоцких, часто гостившая в их дворце, когда семья киевского воеводы приезжала в Варшаву. Она знала такое множество интересных и страшных историй, что обществом ее в замке все наперерыв стремились пользоваться. Не было такого вопроса относительно событий как минувшего, так и настоящего времени, на который она затруднилась бы ответить. Сокровеннейшие семейные тайны были известны ей лучше и подробнее тех личностей, которых эти тайны непосредственно касались.
— Я всегда говорила, что этим кончится, — объясняла Фелицата, зловеще покачивая головой и кивая по направлению к запертой двери в покои ясновельможной. — Как увидала я их вместе на конях, перед каруселью, так и догадалась, что сатана ими уже вертит, как пешками. И кого следует предупреждала, но меня не послушали, и за это наказаны. Я и теперь говорю: упустите время, будете каяться. Таких бед этот схизматик на всю фамилию накличет, что и всем святым не отмолить.
Она глубоко вздохнула и опустила взор на четки, которые стала перебирать, беззвучно шевеля бледными узкими губами.
— А я узнала, куда сегодня утром чуть свет уехал аббат Джорджио, — таинственно понижая голос, заявила маленькая проказница Чистовичева, особа из особенно бойких, пронырливых, любопытных и болтливых. — Ясновельможная послала его с письмом в ваш монастырь, сестра Фелицата.
— Давно пора, — сдержанно заметила на это последняя. — Наша обитель славится умением справляться со строптивыми.
— Как же с ними справляться? — спросила дрогнувшим голосом златокудрая Вильчинская, в то время как подруги ее, прижимаясь друг к другу, с жутким и вместе с тем сладким чувством предвкушали страшный рассказ.
— У наших стариц много средств на это, — приступила к повествованию монахиня. — А в былое время на это способов было еще больше и много действеннее, чем теперь. Тогда ни перед чем не останавливались для торжества церкви. Монастырь наш — древний. Построили его отцы иезуиты на земле, пожертвованной королем Яном Казимиром, на помин души его родителей и сродников. То было время процветания христианской церкви на земле. В монастырях сосредоточивались все богатство страны, вся ее мудрость и величие в лице представителей и представительниц древнейших и знатнейших родов. Благоверным сынам и дочерям церкви легко было обращать души на путь истинный; ни в ком и ни в чем они для этого не встречали препон, не то что теперь, когда начинается царство сатаны. Все окрестные жители были обложены данью в пользу нашей обители; к ней было приписано множество деревень и земель с лесами, заливными лугами, сплавными реками и тому подобными угодьями. Отовсюду сыпались дары золотом, серебром, драгоценными камнями, произведениями искусства. В одном из подземелий у нас еще не так давно хранились бочонки с червонцами. Сколько там именно было миллионов, никто — даже мать-казначея и настоятельница, — не знал, а видели только, что, сколько оттуда ни вынимай, кладовая все полна от усердия верных чад церкви. Вот какие в то время были люди! Господним произволением назначена была у нас настоятельницей дочь важного магната из фамилии Уханских, ее велебность Агнесса, женщина духа мощного и деятельности изумительной. Она настроила на монастырской земле заводов и фабрик, открыла целебный источник; при ней изваяние Пречистой Девы стало проявлять чудеса, исцелять недуги людей, воскрешать мертвых, и доходы обители удесятерились. Вела ксени [13] Агнесса торговлю со многими чужими странами, обладала даром прозорливости и убеждения до такой степени, что не было такого еретика, который после ее увещаний не обратился бы в истинную веру и не проклял бы заблуждений, в коих обретался до встречи с нею. В обители и в принадлежавших к ней деревнях и местечках ксени Агнесса пользовалась такими же правами и привилегиями, какими пользовались рыцари в своих укрепленных замках. Она производила суд и расправу над подвластным ей народом, держала вооруженное войско, и на монастырском дворе нередко воздвигались виселицы и эшафоты, на которых вешали и рубили непокорным головы. Неподалеку от нашего монастыря и до сих пор стоит мужская обитель, где спасался отец Каллист, из фамилии Любомирских, который, когда жил в миру, пылал преступною страстью к княжне Уханской и, говорят, пользовался взаимностью. Когда он узнал, что ее фамилия решила посвятить ее Богу, это так подействовало на него, что он возненавидел свет с его греховными утехами и тоже облекся в монашескую рясу. Вот как в то время смотрели на такое паскудство, как плотские страсти!
— Сейчас она расскажет про алые розы, — шепнула Мальчевская на ухо своей соседке Вильчинской, но та с досадой мотнула головой, не спуская взора с рассказчицы, в страхе проронить слово из повествования, много раз слышанного, но не терявшего от этого интереса.
— Наши цветники всегда славились по всей стране богатством и редкостью цветов и растений, всегда все новинки появлялись у нас у первых, часто раньше, чем в королевских садах. Однако пятьдесят лет тому назад других роз, кроме белых и розовых, у нас еще не знали. А наша ксени Агнесса особенно любила розы, — продолжала между тем свое повествование Фелицата. — Можно себе представить ее изумление, когда она узнала, что в мужской обители, в палисаднике настоятеля, распустились розы алого, как кровь, цвета! Кто именно принес эту весть, так и осталось тайной, но она как-то вдруг распространилась по всей обители, и с неделю между молодыми послушницами только и речи было, что об алых розах в мужском монастыре. И вдруг, в одно прекрасное утро, когда прислуживающая ксени Агнессе белица вошла в ее спальню, чтобы доложить, что зазвонили к ранней обедне, она увидала на постели, на которой крепким сном покоилась велебная матка, большой букет алых роз! От изумления она забыла, для чего пришла, и так громко вскрикнула: «Как попали сюда розы из сада ксендза пшеора»? [14] — что ксени пшеорша [15] проснулась и тоже стала дивиться и всех допрашивать. Но ничего не удалось узнать, и пришлось признать чудо. Розы с молитвой поставили на алтарь, где они через несколько часов завяли, как самые обыкновенные цветы.
— Но их, может быть, принес сам пшеор? — заметила Кася. — Пройти он мог подземных ходом, и вы в прошлом году сами говорили Грохольской, что это чудо многих ввело в соблазн и что до сих пор жива в обители монахиня, которую заключили в темницу за то, что она слишком любопытничала и болтала лишнее об этих чудесных розах.
— Кто сказал тебе такую ложь? — крикнула Фелицата, злобно сверкнув глазами.
— Замысловская, — потупляясь, ответила проказница.
— Замысловская? Ну, счастье ее, что она успела выйти замуж и уехала из Варшавы! Показала бы я ей, как клеветать на такую святую дочь церкви, как наша всевелебная пшеорша! Она слывет у нас в обители святой, понимате ли вы это, глупые? За каждое легкомысленное о ней слово ваши мучения в чистилище продолжатся на многие тысячи лет.
— Сестра Фелицата, расскажите, как ксени Агнесса расправлялась с непокорными монахинями! — умоляющим голосом прервала неприятное объяснение дворская девица Кулеш.
— А также с теми, которые водились с еретиками, — подхватила Запольская.
— Водиться с еретиками в то время было невозможно. Тогда не то что рассуждать о даровании им одинаковых прав с католиками было немыслимо, но даже и поминать про это дьявольское семя считалось грехом смертельным. В то приснопамятное время с такой бесстыдницей, как Розальская, поступили бы так, как с княжной Гедвигой из дома Мисецких, — вымолвила сестра Фелицата все еще сердито.
— А как с нею поступили?
— Как? Ее замуровали, вот как! — ответила рассказчица, обводя торжествующим взглядом слушательниц. — Своею непокорностью княжна могла заразить духом сопротивления всю обитель, как же было ее не похоронить?
— Живую? — спросила одна из слушательниц.
— Разумеется, живую, чтобы дать ей время покаяться в грехах и искупить их земными муками.
— Расскажите, как у вас это делалось, сестра Фелицата!
— Делалось это так, — продолжала Фелицата, — после совещания со старицами и с соизволения папского нунция и других, ксени пшеорша приказывала извлечь из темницы осужденную и в последний раз увещевала ее покаяться, предварив, что в случае упорства ее ждет смерть в муках.
— Так что, если бы в вашу обитель попала пани Розальская…
Энергичное «тсс!» заставило сказавшую это смолкнуть на полуслове и оглянуться вместе со всеми к двери в противоположном конце покоя, в которую входил гайдук с зажженным смоляным факелом. Он зажег один из канделябров на стене, и в ту же минуту из другой двери появился граф Салезий и торопливо, не оглядываясь по сторонам, прошел на половину своей супруги.
Не прошло и минуты, как из той же двери вышла пани Розальская, бледная, с заплаканными глазами, до такой степени озабоченная своими думами, что она прошла мимо группы у балкона, никого не видя. Она так похудела в последнее время, что батистовое белое платье сползало у нее с плеч. Бедная красавица, как жестоко скрутили ее печаль и любовь!
— Как она пожелтела и постарела! — заметила вполголоса Кася, когда виновница сумятицы, волновавшей весь дворец, скрылась за дверью соседней комнаты
— Не такой мы ее еще увидим, дайте срок! — со злой усмешкой прошептала сестра Фелицата.
— Пани Грохольская уверена, что она видится с москалем, — заметила Кася.
— Разумеется, видится, и он поддерживает ее в нераскаянности и в грехе, — поспешила согласиться Фелицата. — И это будет продолжаться до тех пор, пока ее не отвезут к нам.
— С каким-то ответом вернется аббат Джорджио! Губы монахини скривились в презрительную гримасу.
— Не люблю я этого надушенного вертихвоста! Надо только удивляться, что ясновельможная доверяет ему после того, как доказано, что он водит знакомство не только с приверженцами фамилии, но также вхож во дворец самой паскудницы Изабеллы. Его также часто видят и у прелата Фаста. Со временем все откроется, польются слезы, раздадутся рыдания и проклятия, вспомнят тогда слова сестры Фелицаты, да уж поздно будет!
Но монахиню уже не слушали; все ждали, что скажет Карич, незаметно выскользнувшая из зала при появлении гайдука с факелом; она, несомненно, ходила узнать, что происходит на половине графа, который без важных причин не пришел бы беспокоить графиню в неурочный час, когда она лежит с мигренью от расстройства нервов.
Подруги Карич не обманулись в своих ожиданиях, раскрасневшись от волнения, подбежала она к ним и прерывающимся голосом заявила, что во дворце русский посол. Он приехал с полчаса тому назад и все время разговаривал с графом в кабинете с таким оживлением, что разговор был слышен даже в стеклянной галерее, где дворские юноши в ожидании приказаний играли в кости и в карты. Потом граф позвал Левицкого и приказал сказать Младоновичевой, чтобы она доложила графине, что ему необходимо видеть ее. Младоновичева приказала осветить зал, и теперь русский посол один дожидается в кабинете.
— А зачем Розальская вышла из спальни?
— Наверное, граф пришел говорить о ней с графиней.
— Очень может быть. Недаром москаль хвастает дружбой с русским послом. Уж не заслал ли он его сватом?
— Тьфу, паскудство! Чем бы схизматику указать на дверь и окропить святой водой то место, где он дышал, граф Салезий сам лезет в когти к дьяволу! Выйти скорее от греха! — и, энергично плюнув, Фелицата поспешно вышла из комнаты.
А тем временем граф Салезий напрягал свое красноречие, чтобы убедить супругу повидаться с Репниным.
— Он недаром так настаивает на свидании с вами; ему несомненно хочется сообщить вам такое, что касается вас лично. За Аратова он вовсе не стоит и, насколько я мог понять из его слов, не прочь помочь нам избавиться от него, — сказал воевода своей несговорчивой супруге.
— Мне остается только удивляться, Салезий, как вы не понимаете, что нам именно теперь-то и следует избегать свиданий с ним. Вы забыли, что нас ждут послезавтра к Малаховскому с решительным ответом и что на наше участие в затеваемом перевороте все рассчитывают, — заявила пани Анна, устремляя на смущенного супруга пристальный взгляд. — А Юльянию я решила отвезти в монастырь и на время оставить ее там… пока не образумится и пока мы не выгоним русских из Речи Посполитой, — прибавила она.
— А если она окажется ехать туда? — спросил воевода.
— Не говорите глупостей, Салезий! Никогда не было, чтобы которая-нибудь из моих дворских девиц отказалась исполнить мое приказание, и никогда этого не будет! Как ни увлечена Юльяния москалем, однако не посмела же она ослушаться меня и поселиться в собственном доме, когда я выразила желание, чтобы она выезжала в свет не одна, а со мною. Этим я спасаю ее по крайней мере от тайных свиданий с схизматиком.
— А вы уверены, что они не переписываются?
— Вы только умеете говорить мне неприятные вещи, Салезий, и, право же, можно подумать, что и вам так же, как этому Аратову и всем моим врагам, ничего не хочется, как скорее вогнать меня в гроб.
— Графиня, чем заслужил я такую жестокость? — воскликнул Потоцкий с искренней печалью. — Поверьте, меня не менее вас огорчает расстройство в нашем доме, и я ни перед чем не остановился бы, чтобы видеть вас довольной и здоровой. Я только говорю, что Аратов может наделать нам больших хлопот и неприятностей, если вы увезете Юль-янию в монастырь, и что в этом деле никто лучше русского посла помочь нам не может.
— Не поминайте при мне имени этого бесхарактерного дурака! — прервала его графиня так запальчиво, что он окончательно сконфузился и, беспомощно разводя руками, смолк. — Если я чего-нибудь боюсь, так одного: умереть от раздражения и стыда за родину раньше, чем этого болвана с позором выгонят из Варшавы! — продолжала она, помолчав и сдерживая с трудом слезы досады и бессильной злобы. — Не раздражайте меня, а отвечайте без рассуждений на мой вопрос: что вы сказали князю, перед тем как прийти сюда?
— Я сказал ему, что у нас есть важные причины не желать этого брака и что вам легче видеть Юльянию мертвой или в монастыре, чем женой Аратова.
— И что же он?
— Князь вам вполне сочувствует.
— То есть он находит нужным притворяться сочувствующим. Ну, да что с вами толковать! Ступайте к нему и скажите, что я его приму.
Обрадованный успехом своей миссии, воевода поспешил в кабинет. Не ожидал он такой удачи. Борьба с любимицей сломила железную волю пани Анны; впервые с тех пор как они были обвенчаны, граф видел жену в таком удрученном настроении и надивиться не мог происшедшей в ней перемене.
Не подозревал граф Салезий, что супруга лучше его понимала безвыходность положения, в которое ставила ее, с одной стороны, привязанность к Юльянии, а с другой — невольный страх перед Аратовым. Как нельзя лучше знала гордая пани, что если можно заставить молодую женщину ехать в монастырь, то удержать ее там немыслимо, и эта мысль так угнетала ее, что у нее не хватало сил отказаться от услуг даже такого ненавистного человека, каким был для нее русский посол, да еще в разгар борьбы с ним патриотов, решившихся отстаивать первенство своей церкви от посягательств схизматиков, представителем которых являлся Репнин, поддерживаемый русскими штыками. Просить о помощи этого человека, раскрывать перед ним семейные тайны!
Глупый Салезий даже и представить себе не может, до чего доходит она в своих опасениях и подозрениях! Она не только не сомневается, что влюбленные переписываются между собою, но воображение уносит ее еще дальше. Ночью, прислушиваясь в лихорадочном волнении к малейшему шороху за стеной и в саду, она слышит шаги по гравию, сдержанный шепот, прерываемый долгими поцелуями, и так явственно, что третьего дня она сорвалась с постели, созвала своих женщин и приказала осмотреть с фонарями весь сад. А вчера, после бессонной ночи все с теми же мучительными мыслями о бегстве Юльянии, о венчании ее с схизматиком, она опять не вытерпела, чтобы не удостовериться, насколько справедливы ее опасения, и прокралась к спальне Розальской. Правда, она нашла ее спящей, но ведь, что не случилось вчера, могло случиться сегодня.
Каждый день доходили до графини слухи о ненавистном москале, его ловкости и пронырстве, умении открывать все двери, каждому понравиться, каждому услужить и всякому сделаться необходимым. Рассказывали, что он — свой человек во дворце короля через фаворитку-иноземку, которая, ненавидя поляков, разумеется, ни перед чем не остановится, чтобы унизить знатную польскую фамилию. Эта женщина вертела королем, как хотела, и надо только удивляться, что Станислав Август до сих пор медлит открыто вмешаться в амуры своего нового любимца-москаля с бывшей резиденткой киевского воеводы.
Да, как ни восстановлена была пани Анна против русского посла, как ни тяжело ей было унижаться перед ним, однако она не могла не сознаться, что его предложение услуг явилось весьма кстати. Решившись на нравственную пытку, она не стала откладывать ее, и не прошло десяти минут, как один из ее пажей явился в кабинет графа с докладом от ясновельможной: она извинялась за невозможность по нездоровью выйти в большую гостиную и просила князя пожаловать к ней в будуар.
Воевода поспешно поднялся с места и пригласил своего гостя последовать за ним на половину его супруги.
Пройдя несколько разубранных покоев, они вошли в будуар, где на кушетке, в дальнем углу, у камина с тлеющими угольями, лежала графиня Анна в белом кружевном капоте, кутаясь в турецкую шаль.
В комнате пахло эфиром и царил таинственный полумрак от голубой ширмочки, заслонявшей восковые свечи, горевшие в высоком бронзовом канделябре в самом дальнем углу. Но хозяйка, по-видимому, тяготилась и этим скудным светом и отворачивала от него бледное лицо с распухшими от слез глазами. Ее била лихорадка, если судить по тому, как она куталась в шаль и как дрожала холодная, как лед, рука, которую она протянула посетителю, когда тот подошел к ней и с поклоном поблагодарил ее за то, что, невзирая на нездоровье, она сделала ему честь принять его.
— Поверьте, графиня, что только желание сообщить вам приятное известие заставило меня злоупотребить вашей любезностью, — с чувством прибавил Репнин.
— Садитесь, садитесь, князь, побеседуйте с нею на просторе, я вас оставлю вдвоем, — весело подхватил добродушный Салезий, усаживая гостя в кресло у кушетки. — Вдвоем вы скорее договоритесь до дела, мужья всегда мешают, — и, повинуясь повелительному взгляду жены, он вышел.
Пани Анна первая приступила к объяснению.
— Вы слышали от мужа о нашем семейном горе? — спросила она.
Репнин молча наклонил голову.
— Положение так обострилось, Аратов так овладел сердцем нашей бедной Розальской, что мы не знаем, что и делать, — продолжала графиня с возрастающим воодушевлением. — Я уже решилась на крайнюю меру — отвезти ее в монастырь, чтобы оградить ее от преследования этого наглеца.
— Графиня желает знать мое мнение на этот счет? — с холодной вежливостью спросил Репнин.
— Я вас об этом прошу, князь.
— В таком случае мне ничего больше не остается, как повиноваться, и, со своей стороны, просить снисхождения, если мое мнение расходится с вашим. Насколько мне известно, пани Розальская не только совершеннолетняя и вдова, но и сирота, а потому совершенно свободна в своих действиях, и прав на нее никто не имеет. Каким же образом можете вы заключить ее в монастырь помимо ее воли?
От раздражения пани Анна вспыхнула до ушей, до крови закусила себе губы и с горечью возразила, надменно выпрямляясь:
— О, как ни стеснены мы в своих правах и действиях чужестранцами, захватившими власть в нашей стране, но поместить в святую обитель обезумевшую от недостойной страсти молодую женщину, которая воспитывалась в нашем доме и всем нам обязана, у нас всегда найдется возможность!
— Верю и знаю, что здесь такой способ практикуется с успехом, но мне кажется, что спасти вашу воспитанницу от нелепого брака было бы несравненно лучше как-нибудь иначе, — спокойно заметил Репнин. — В другое время и с другим человеком этим средством вы, может быть, и достигли бы цели — в ваших монастырях умеют укрощать строптивых. Но можете ли вы ручаться, что Аратов не воспользуется этим, чтобы поднять шум на весь город, что он не будет всюду трубить о насилии, о превышении власти, вмешательстве духовенства в светские интриги? Кто помешает ему довести эту историю в преувеличенном виде не только до Лазенок, но и до Петербурга? И если я получу предписание исследовать это дело, то могу ли я быть тогда полезен вам? Как вы думаете, графиня?
Но она молчала, глядя на князя из полутьмы, в которой утопало ее лицо, горящими ненавистью и недоверием глазами и обдумывала создавшееся положение.
Как могла она так неосторожно проговориться про монастырь? Без всякой надобности разрушила собственными руками последний выход из затруднительного положения!
— Нет, графиня, — снова начал ее собеседник, как бы угадывая бурю досады и горечи, клокотавшую в ее груди, и спеша ее успокоить, — о таких рискованных мерах, как монастырь, лучше в настоящее время не думать. Да я и не позволил бы себе беспокоить вас, если бы не видел другого средства помочь беде, кроме этого. Но прежде позвольте мне сообщить вам, что мне удалось исполнить ваше желание относительно военного постоя в вашем имении.
— Какой постой? — с недоумением прервала его графиня.
— Вы изволили забыть о письме, которым удостоили меня недели две тому назад. Но я, собственно, для того и приехал сегодня к моему другу Салезию, чтобы сказать ему, что ваше желание мне удалось исполнить. А когда граф рассказал мне о ваших семейных неприятностях, то я позволил себе просить у вас аудиенции, в уповании, что мне, может быть, посчастливится услужить вам и в этом деле, как и в первом. Мы с вашим супругом в таких приятельских отношениях, что помогать друг другу при каждом удобном случае — не только наш священный долг, но и величайшая приятность, — медленно проговорил князь, не опуская глаз под далеко не дружелюбным взглядом Потоцкой.
«Издевается он надо мною, напирая на дружбу с Салезием именно в то время, когда тот готовится вступить в ряды злейших его врагов? — подумала она. — Но откуда ему известно о новом заговоре? Знают о том лишь главари, а эти не проболтаются. Неужели Изабелла отважилась выдать такую страшную тайну, грозящую гибелью всей „фамилии“?»
Эта мысль показалась графине такой нелепой, что она поспешила отогнать ее от себя, и начала после довольно продолжительного молчания:
— Очень тронута вашими добрыми чувствами к нам, князь. Недаром Салезий считает вас добрым и благородным человеком, которому даже и полякам можно довериться! Поверьте, если бы все ваши соотечественники были похожи на вас, мы не дрожали бы при мысли видеть нашу Юльянию женой русского. Но этот Аратов не внушает нам никакого доверия. У нас есть причины считать его способным на все дурное, даже на преступление. Его жена умерла загадочной смертью, и по всей стране ходили невыгодные для него толки об этом.
Князь насторожился. После того, что он слышал от Грабинина, разговор принимал для него интересный оборот.
— Какого рода толки, графиня? Вы премного одолжили бы меня, поставив в известность о том, что толкуют про эту смерть. Я тоже кое-что слышал, и мне очень хотелось бы проверить, насколько мои сведения совпадают с вашими, — прибавил Репнин таким искренним тоном, что опасения ее рассеялись и она решила действовать начистоту.
— Эти слухи дошли до меня не здесь, а там, где разыгралась вся эта история. Как вам известно, у Аратова есть имение под самым Киевом, и в этой местности многие убеждены, что его жена умерла неестественной смертью и что ее умертвил сам он. Про нее шла молва, пущенная самим ее мужем, заметьте, будто она — припадочная. Но вид у нее был, говорят, цветущий, и ее внезапная смерть не могла не удивить всех, кто знал ее. Как мне ни прискорбно, но я должна прибавить, что невинной причиной этого преступления считаю нашу бедную Юльянию, или, лучше сказать, ее состояние, на которое возымел виды Аратов.
— Пани Розальская — такая красавица и так прекрасно воспитана, что ее было бы лестно иметь супругой и без приданого, — любезно вставил князь.
— О, вряд ли этот господин обратил бы на нее внимание, если бы не знал, что, кроме прекрасного и доходного имения, крупного капитала и драгоценностей на несколько десятков тысяч, Юльяния не забыта и в моем завещании.
— А какие у вас есть еще данные подозревать Аратова в преступлении?
— Пока никаких, кроме моего внутреннего убеждения, что этот человек на все способен, да всеобщей молвы о загадочности так кстати случившейся смерти. Но согласитесь, князь, для нас и этого достаточно, чтобы страшиться за судьбу нашей воспитанницы. Мы взяли ее на свое попечение двухлетним ребенком, ее мать поручила мне ее на смертном одре! Я поклялась заботиться о ней, как о родной дочери, и до сих пор свято исполняла свое обещание…
— Я понимаю вас, графиня, и все силы употреблю, чтобы оправдать ваше доверие. Ваша приемная дочь будет ограждена от посягательств недостойного претендента, но вы должны мне помочь в этом. Без вашего содействия все мои старания могут оказаться тщетными, — заявил князь.
— Но, мне кажется, мы никогда не отказывались во всем содействовать вам, а в этом так близко касающемся нас деле и причин нет сомневаться в нашей готовности во всем следовать вашим указаниям, — ответила Потоцкая, смущаясь под его пристальным и строгим взглядом. — Как поляки, мы можем не сходиться с вами в политических взглядах, но, как честные люди, мы, кроме симпатии к вам, ничего питать не можем.
— Мне это чрезвычайно приятно слышать, графиня, — промолвил Репнин, замечательно отчеканивая слова. — Особенно отрадно действуют на меня, как на русского посла, ваши уверения в преданности и нелицеприятной дружбе сегодня, после целого дня, проведенного в выслушивании и в чтении крайне неприятных доносов на людей, которых я считал моими искреннейшими друзьями.
— Вы говорите о нас, князь? — вырвалось у графини. Но он уклонился от прямого ответа на этот вопрос.
— У меня, графиня, в этом враждебном нам крае столько врагов, что знать их всех нет никакой возможности, и, признаюсь откровенно, я ехал сегодня к вам с тяжелым чувством за откровенным объяснением и за советом. Но своей просьбой принять участие в вашем семейном затруднении вы рассеяли все мои опасения, и я постараюсь доказать вам, что вы не ошиблись, относясь ко мне, как к другу. Наше сегодняшнее свидание связывает нас крепче прежнего, и я глубоко благодарен случаю с пани Розальской, которому обязан убеждением, что люди, старающиеся поссорить меня с киевским воеводой и его «фамилией», — низкие клеветники. Войдите в мое положение, графиня: ведь я не только вполне верил дружбе графа Салезия, но и ручался моей государыне в вашей преданности России. Я уверил ее, что вы принадлежите к числу тех разумных патриотов, которые понимают, что Россия — не Пруссия и не Австрия, что, кроме блага, вам нечего ждать от нас, что нам даже и расчета нет восстанавливать против себя подвластное нам родственное племя преследованиями, лишать его самостоятельности и равных с прочими обитателями страны прав. И государыня поверила мне, я оставил ее в наилучших мыслях относительно вас. Можете представить себе после этого, как я опечалился, когда мне сообщили, что киевского воеводу с супругой ждут в четверг на съезде заговорщиков у краковского кастеляна. Я давно знаю об этом заговоре и о стараниях завлечь в него испытанного друга России, Салезия Потоцкого, но мне тяжело было даже и останавливаться на мысли, чтобы человек, всегда выражавший мне дружбу и доверие, мог оказаться низким изменником! И как я рад, что не ошибся, что я по-прежнему могу считать Салезия Потоцкого и его достойную супруг моими лучшими друзьями!
Последние слова Репнин произнес с ласковой фамильярностью, взяв руку графини и поднося ее к своим губам.
Заметил ли он, как холодна была эта рука и какой испуг выражался в растерянном взгляде Потоцкой? Во всяком случае он сумел и это скрыть в душе так же искусно, как и прочие свои чувства и впечатления при этом свидании, но, заставив графиню понять, что ее тайна вполне известна ему, он вместе с тем открыл ей и путь к выходу из опасной интриги, в которую она была готова ринуться, очертя голову, под давлением людей, давно уже ожидавших удобного случая скомпрометировать перед Россией таких популярных и влиятельных магнатов, как Салезий Потоцкий и его супруга.
Чтобы поцеловать руку пани Анны, князь поднялся с места и больше не садился.
— Теперь мне уж не так совестно, что я нарушил ваш покой, графиня, — продолжал он с веселой улыбкой. — Зная причину вашего нездоровья, я счастлив, что мне, может быть, удалось сыграть роль доктора и уничтожить причину вашей болезни. Беспокоиться больше не о чем — за расстройство матримониальных планов Аратова я берусь. Надо надеяться, что мне удастся и вашу красавицу просветить относительно него. Надеюсь убедить ее, что этот господин — для нее не жених и что она должна забыть его. Может быть, ее сердце и пострадает при этом, но мы здесь к терпению привыкли так же, как и к постоянству в чувствах и в целях; без этого ничего не достигнешь, а тем менее душевного спокойствия!
С этими словами, еще раз поцеловав руку графини, Репнин вышел, оставив ее в сильном смятении.
Надежную опору послала ей судьба в лице князя против Аратова, но как дорого придется заплатить за эту помощь! В уме мутилось, и душу заливало желчью при мысли о том, что их ждет, если, паче чаяния, партия Чарторыских восторжествует.
О, если бы только знать, что именно так и будет! Тогда она пожертвовала бы и любовью к Юльянии, и ненавистью к Аратову, чтобы примкнуть к этой партии. Но — увы! — будущее со всеми его неожиданностями и случайностями сокрыто от всех смертных, сокрыто и от князя Репнина.
Душевное спокойствие! Какая ирония в этих словах, которыми русский посол заключил свою речь, имевшую целью доказать ей тщетность всех заговоров, интриг, обмана и лицемерия, которыми враги России обставляют свою борьбу с нею! Так тщательно охраняемая тайна известна ему до мельчайших подробностей: день, час, место сборища заговорщиков, все это он знает. Без сомнения, знает он также и имена их всех. Но кто же выдал их? Во всяком случае рассчитывать на успех при этих условиях было бы безумием, и, когда она все это скажет Салезию, он будет в восторге, что вследствие ее нерешительности они до сих пор еще не связали себя никакими обещаниями.
XXV
Эти размышления были прерваны легким стуком в дверь.
— Аббат Джорджио просит позволения видеть ясновельможную, — доложила вошедшая Младоновичева.
— Зови его сюда.
Не успели эти слова сорваться с губ графини, как аббатик уже подошел к ее руке.
— Ты кстати явился; мне нужен в настоящую минуту человек, на которого я могла бы положиться, — сказала Потоцкая, указывая на кресло, с которого несколько минут тому назад поднялся князь. — Садись и выслушай меня внимательно. Впрочем, расскажи мне прежде о результате моего поручения. Видел настоятельницу? И почему ты так скоро вернулся?
— В монастыре никогда не задерживают посланцев графини Анны Потоцкой, и для них всегда готов любезный прием всевелебной пшеорши, — ответил аббатик, садясь на указанное место. — Ксени пшеорша свидетельствует ясновельможной свое нижайшее почтение и умоляет не сомневаться в ее преданности. Она плакала, вспоминая благодеяния, которыми осыпали обитель спокон века графы Потоцкие. Меня она ради преданности к ясновельможной пани-воеводице приняла не по заслугам милостиво, расспрашивала о здоровье всей «фамилии».
— К делу, к делу! — прервала его графиня. — Согласна она принять к себе на время Юльянию? Объяснил ты ей, для чего нам необходимо удалить ее из Варшавы? Поняла она нашу тревогу и опасения?
— Ксени пшеорша просила меня объяснить ясновельможной, в каком затруднительном положении находится в настоящее время обитель вследствие хозяйничания иноземных еретиков в нашей несчастной стране. Вследствие происков австрийского посла им грозит следствие по поводу жалобы монахини из фамилии Лисаневичевых на насильственное пострижение, а прусский посол требует возвращения вклада, взятого за белицу из фамилии Шварцкопфенов, прошлой зимой бежавшую с гусаром из обители. Особенно опасаются старицы жалобы Лисаневичевой: ее дядя, генерал, являлся к австрийскому императору и в таких черных красках описал монастырские порядки, что ксени пшеорша совсем потеряла голову.
— Значит, она отказывает нам? Говори прямо, чего мямлишь? — с раздражением возвышая голос, перебила его графиня.
Аббатик весь съежился и с тяжелым вздохом ответил, что действительно в настоящее время пшеорша не может исполнить ее желание. Пани Розальская не найдет в обители безопасности. Особенно пшеорша опасается москалей.
— Ей удалось несколько недель тому назад, с помощью Божией, обратить в нашу веру двух схизматичек: супругу русского полковника и ее крепостную девку. За эту услугу нашей святой церкви ксени пшеорша была удостоена благодарности святого отца через его всевелебность прелата Фаста. Он сам приехал в обитель, чтобы…
— Все это я знаю. Что же теперь случилось? Разве и эти тоже жаловались на насилие? — спросила пани Анна.
— Жаловаться они не могли, потому что их уже нет на свете.
— Умерли?
— Скоропостижно скончались вскоре после перехода в истинную веру. Но весть об их смерти дошла до Москвы, и их родственники подняли шум, а полковник обратился к русской императрице с клеветнической жалобой на обитель. Эту жалобу русский посол должен вскоре получить, с предписанием произвести следствие, и тогда можно всего ждать, даже такого кощунства, как отрытие трупов, преданных земле по обрядам нашей церкви. Ксени пшеорша уже ездила в княгине Изабелле за протекцией по этому делу, и та обещала выручить ее из беды.
При этих словах графиня сорвалась с места.
— Ездила к Изабелле? Не предупредив меня? — вскрикнула она, задыхаясь от злобы. — Теперь все понятно! Раз понадобилась Изабелла Чарторыская, то на Анну Потоцкую можно и наплевать! Но не пришлось бы пшеорше каяться, что так скоро забыла благодеяния нашей фамилии, не пришлось бы ей горьким опытом убедиться, что Потоцкие еще пользуются значением в стране, на счастье своих приверженцев и на горе предателей! Ну, будет об этом; мы вспомним пшеоршу в другое время, а теперь я должна поручить тебе дело поважнее этого. Слушай же внимательно! Завтра ты непременно повидаешь прелата Фаста и передашь ему, что мы в четверг на совещании у краковского воеводы не будем. Ведь он тебе доверяет?
— Доверяет, моя пани.
— В таком случае достаточно будет предупредить его об изменении в наших мыслях, чтобы он знал, кого еще поставить в известность, и понял, в чем дело. Ты слышал, что я говорю? — прибавила она, останавливаясь перед аббатиком.
У него от изумления сперло дыхание в горле: так важно и неожиданно было данное ему поручение.
— Приказание ясновельможной будет исполнено в точности, — вымолвил он наконец с усилием, не будучи в состоянии совладать со жгучим любопытством и страстным желанием узнать причины такой резкой перемены в намерениях своей госпожи.
Что такое произошло здесь во время его отсутствия? Напрасно не расспросил он окружающих, прежде чем устремиться с докладом к ясновельможной! Он знал бы теперь, в чем дело, и не стоял бы дураком с разинутым от изумления ртом перед ясновельможной, которая большими шагами продолжала прохаживаться по комнате в таком волнении, что нечего было и думать о том, чтобы дождаться от нее объяснений.
— Знает здесь кто-нибудь, куда ты ездил? — спросила она.
— Успели уже пронюхать! Любопытнее наших дворских девиц трудно найти, от них ничего не скроешь. Надо так полагать, что им известно, куда и для чего изволила меня послать ясновельможная. Не успел я выскочить из экипажа и вбежать во дворец, как сестра Фелицата стала осыпать меня такими ругательствами, что я поспешил скрыться от нее на половину ясновельможной.
— Так ты только сейчас вернулся? Да? И, кроме Фелицаты, ни с кем не говорил?
— Ни с кем. Да и с нею у меня разговора никакого не было, я слышал только, как, ругая меня, она упомянула про Розальскую и про то, что в монастыре сумеют выбить из нее дьявольскую дурь.
— Хорошо. Завтра же ее здесь не будет. Довольно погостила она во дворце Потоцких, не едать ей нашего хлеба до конца дней! Давно надоела она нам своей грубостью и глупостью, пусть ищет протекции у княгини Изабеллы! А ты ступай к себе и ложись спать, отдохни и оправься хорошенько к завтрашнему дню. Поручение я дала тебе немаловажное и надеюсь, что ты сумеешь хорошо исполнить его, — прибавила она, в то время как в порыве благодарности аббатик кинулся целовать ее руки.
«Что случилось? Что случилось?» — думал аббатик, припадая к коленям графини и обнимая их.
Тот же вопрос не переставал вертеться у него в уме и в длинном темном коридоре, по которому он проходил в помещение, отведенное ему в мансарде. Но вот он увидал в дверях зала паюка Юзефа, готовившегося гасить свечи в канделябрах, подскочил к нему, чтобы спросить, был ли кто-нибудь во дворце во время его отсутствия.
— Кроме князя Репнина, никого не было. Графиня даже и к обеду из своей спальни не выходила.
— Как же ты говоришь, что князь Репнин был у нее?
— Целый час у нее сидел. Графиня никого с утра не велела принимать, а его приняла.
Аббатик узнал все, что ему было нужно, и, успокоенный, вошел в буфетную, чтобы приказать подать себе ужинать.
А графиня Анна, оставшись одна, долго еще прохаживалась по комнате, размышляя о случившемся.
Как странно и как знаменательно складывались события! После свидания с русским послом — известие из монастыря об измене той, которая благодаря ей из простых монахинь была возведена в сан настоятельницы невзирая на противодействие самого епископа, подстрекаемого княгиней Любецкой и графиней Ржевусской, у которых были близкие родственницы кандидатками на место начальницы обители. И эта женщина, рассыпавшаяся в благодарности, позволяет себе теперь отказывать в содействии своей благодетельнице в трудную для последней минуту и передается на сторону той, которую она считает влиятельнее ее! И сколько таких измен успело проявиться в последнее время!
Жребий брошен, и киевская воеводица останется верна русской партии в предстоящей борьбе с врагами короля. Какой ни на есть Понятовский, все же видеть его королем не так противно, как Карла Радзивилла, ограниченного и буйного сумасброда, развратного, беспринципного Браницкого или члена ненавистной ей «фамилии» Чарторыских.
«Во всяком случае русские менее опасны для страны, чем австрийцы и пруссаки, им нет выгоды истреблять родственное племя таких же славян, как и сами они», — мысленно повторяла она, сама того не замечая, слова русского посла.
Прием употребленный последним, чтобы привлечь ее на свою сторону, так поразил ее неожиданностью, искренностью и новизною, что не мог не произвести на нее сильного впечатления. Не доказывает ли обращение Репнина к ней, что он понял ее лучше самых близких людей, понял ее ум, прочность ее чувств, душевное благородство, понял, что данному слову она не изменит? Изабелла — его любовница, он для нее разоряется, забывает свои семейные обязанности, подвергается гневу императрицы, осуждению родных, а между тем в трудную минуту он обратился не к ней, а к Анне Потоцкой за помощью. Насколько русский посол дальновиднее презренной пшеорши!
При воспоминании о нанесенном оскорблении кровь прилила к голове графини, и, чтобы, освежиться, она вышла на балкон.
Тут, перед немыми свидетелями многих эпизодов ее тяжелой жизни — перед молчаливыми деревьями, пани Анна, сознавая себя на пороге новой и роковой эпохи в злосчастной судьбе родины, погрузилась в воспоминания прошлого. Длинной вереницей проходили перед нею события с сопровождавшими их радужными надеждами, страстными увлечениями и горькими разочарованиями. Увы, последних было так много, они оставили такой болезненный след в ее сердце, будили в нем столько жгучего раскаяния, что для отрадных впечатлений в памяти не оставалось и места! На одну блаженную минуту — миллион терзаний, за мимолетный луч счастья — бесконечные годы тоски и отчаяния. Все прошлое полно роковых ошибок, слез, гнусных обманов, подвохов, предательств, продажности, обманутых надежд и неудач.
Ей хорошо известны причины всех этих неудач! С детства происходят на ее глазах ссоры за власть и первенство в стране между Радзивиллами и Потоцкими, Осинскими и Грохольскими, Забелло и Мавржецкими, Оскерки — с Илинскими, Зиберле — с Платерами, Масальских — с Чарторыскими. Всю свою молодость видела она и слышала, как лучшие польские роды грызлись между собою и бились в сетях ненависти, зависти, жажды мщения, лжи и обмана, не останавливаясь для удовлетворения самолюбия ни перед какими жертвами, бесцельно кидаясь из омута в омут, обессиленные, обезумевшие от слепой злобы и отчаяния. Им ли думать о спасении отечества? Им ли вести народ к свободе и счастью!
О как она хорошо знала этих вожаков партий, чванных и легкомысленных магнатов, среди которых она сама родилась и выросла! Как она их всех ненавидит и презирает! Как она убеждена, что они ведут родину к гибели! Как сознает она свою беспомощность в этом водовороте мелких личных страстей, низкого корыстолюбия и эгоизма, из которого ей невозможно вырваться даже на один день! С ее состоянием, родством, связями, с традициями своей «фамилии» она не может не принимать участия в общественной жизни. Много тысяч людей ждут от киевского воеводы указаний — идти ли по тому, или по другому пути, а он давно привык поступать так, как она прикажет. У него давно уже нет своей воли, своих чувств и мыслей.
Было время, когда графиня Анна с восторгом мечтала о такой роли. Двадцать лет тому назад, когда она была молода и полна стремлений на славу родины, она избрала Салезия Потоцкого между всеми претендентами, в надежде идти с ним рука об руку на великие подвиги. Ей казалось, что она найдет в нем талантливого предводителя, тонкого дипломата, способного отстранить всех соперников. Иллюзия разлетелась в прах. Избранный ею герой, восстановитель величия родины, оказался добрым, ограниченным и честным малым, ничего больше. Это ли было нужно, чтобы бороться со смелыми врагами и коварными друзьями?
Пришлось выносить пытку за пыткой, присутствовать при шумных торжествах соперников, с притворным равнодушием взирать, как презреннейшие из них забирали в руки власть, добирались до высших должностей, как наконец Чарторыские посадили на престол человека из своих, племянника, чтобы его именем управлять страной, как жена Адама Казимира, без стыда и чувства собственного достоинства, чередуясь с такими же, как сама она, развратницами из лучших фамилий, завладела сердцем безвольного короля Станислава Понятовского, и как потом эта бездушная кокетка, неспособная понимать ни высоких наслаждений власти, ни отрады приносить пользу народу, пленявшая мужчин притворной чувствительностью, томным взглядом и податливостью, покорила и такого человека, как русский посол, представителя России, державшего в своих руках независимость и счастье Польши! О, если бы на месте Изабеллы была женщина с таким характером и с такими чувствами, как пани Анна, давно осуществились бы вожделения истинных патриотов! Презренная Изабелла умеет только вздыхать, хныкать, принимать грациозные позы и выпрашивать подачки своим, — подачки, закрепляющие постыднейшими узами владычество москалей над Польшей.
Как ненавидела, как презирала пани Анна ничтожную дочь Флемингов! Разве владеть сердцем такого человека, как князь Репнин, не было ее всегдашней мечтой? Как полька и горячая патриотка, она не могла не ужасаться успехов его умной политики, но вместе с тем была не в силах не восхищаться действиями палача своей родины.
XXVI
В комнате, служившей прихожей в помещении, занимаемом во дворце пани Розальской, дремала над молитвенником камеристка хорошенькой вдовушки, Цецилия, по временам прислушиваясь то к скрипу двери, осторожно растворяемой вдали, то к храпу и вздохам дворских девиц в соседних комнатах. Минувший день выдался такой жаркий, что многие окна были оставлены на ночь открытыми и из них проникал в дом уличный шум, грохот экипажей, обрывки пьяной песни, жалобный вой собак, глухие, таинственные стоны. По временам тишина прорезывалась резким звуком трещотки ночного сторожа и свистками.
При каждом подобном нарушении ночной тишины Цецилия вздрагивала, подбегала к двери в коридор или выглядывала из окна, проявляя признаки лихорадочного беспокойства, точно ей впервые приходилось проводить ночь без сна. сторожа верным псом свою госпожу. При каждом шорохе она крестилась, с ужасом спрашивая себя, не вздумала ли ясновельможная опять сделать им ночной визит, как несколько дней тому назад? Тогда все обошлось благополучно — москаль успел скрыться, и, посидев минут десять у своей любимицы, графиня вернулась к себе, кажется, ничего не подозревая. Но какого страха натерпелись они! У Цецилии мороз продирал по коже при одной мысли о минувшей опасности.
Когда же наступит конец этому мучению? Вот уже второй месяц как Цецилия не ходит на исповедь, страшась расспросов духовника, близкого приятеля дворцового капеллана. Жутко даже подумать о том, что ее ждет на том свете за такой тяжкий грех!
А во дворце-то с какой опаской надо держать себя! Как надо всех бояться, всем замазывать глаза, ко всему прислушиваться, всем угождать, всех задаривать, чтобы не любопытничали. И все-таки в конце концов не убережешься, и ничтожнейший случай выдаст их тайну!
Есть уже признаки, что начинают кое о чем догадываться. Сегодня Станиславова, графинина камеристка, подъезжала к Цецилии с намеками:
— К кому это, моя золотая пани, кавалер сегодня ночью через оранжерею пробирался? Лазарчик жаловался, что у него каждую ночь несколько горшок, выставленных для свежести перед теплицей, кто-то опрокидывает. Думал, не собака ли, однако подметил на песке следы не собачьих лап, а человеческих ног, в сапожках со шпорами. И — странное дело — Лазарчик уверяет, будто следы эти шли вплоть до вашего окна!
Подлая тварь, не дожидаясь, чтобы ее слушательница опомнилась от испуга, стала жаловаться на то, что ей нечем заплатить башмачнику за починку башмаков, которые так проносились, что стыдно в них ходить.
— Уж не подкараулить ли ночного шатуна, чтобы попросить его сжалиться над моей бедностью? Авось не пожалеет мне нескольких золотых на новые башмачки? Влюбленные бывают щедры, — прибавила она со смехом.
Но Цецилия поняла значение этой шутки и поспешила предложить ей взаймы червонец, сказав при этом:
— Отдадите, когда будете при деньгах. Госпожа моя так же таровата, как и богата, башмачков подолгу не носит, отдает их мне, и мне на обувь никогда тратиться не приходится.
Начинают, кажется, думать, что кавалер, опрокинувший горшки у оранжереи, ходит к ней, к Цецилии. Хорошо, если бы до конца остались при этом убеждении! Если узнают правду, то червонцем от доносчиков не откупиться. Ох, скорее бы всей этой томительной канители конец!
Но госпожа ее была другого мнения об этой «канители» и отнюдь не находила ее ни мучительной, ни томительной. Весь день жила она только ожиданием ночи и надеждой на свидание с возлюбленным.
Сегодня он застал ее в тревоге и слезах, напуганной известием о поездке аббатика в монастырь по поручению пани Анны. Из намеков сестры Фелицаты Юльяния узнала, что ей грозит попасть в руки монахинь, опытных в искусстве домучивать непослушных дочерей церкви до полнейшего изнеможения, до помешательства, до смерти.
— Ты себе даже и представить не можешь, на что они способны! Ты не знаешь, на что пани Анна способна, чтобы поставить на своем! — повторяла она, заливаясь слезами и прижимаясь к своему милому. — Ей ничего не стоит опоить меня зельем и в бессознательном состоянии увезти, куда захочет!
— Глупая! Да разве я это позволю? Ты все забываешь, что принадлежишь мне, — возразил Аратов с беспечной улыбкой.
— Меня могут так далеко запрятать, что ты меня и не найдешь!
— Не беспокойся! Везде найду я мою королеву, мою красотку Юльянию и отовсюду выручу ее. Помнишь, как ты плакала за костелом, когда нас подкараулил ваш аббатик? Как ты сокрушалась, что нам негде будет видеться, чтобы целоваться и уверять друг друга в любви! Помнишь, как я утешал тебя и уверял, что всегда найду возможность встречаться с тобою? Разве не вышло по-моему? Разве мы не видимся почти каждую ночь? Не целуемся, не обнимаемся до утра? Перестань же плакать! Я пришел, чтобы любоваться твоими хорошенькими глазками, а ты показываешь мне противные красные фонари. И охота тебе терять время на скверные мысли! Видишь, я весел, счастлив и доволен. Бери пример с меня.
Как всегда, заставил он Юльянию все забыть в любовном упоении, но сам ни на секунду не забывался и не упускал из вида сложной, запутанной интриги, в сетях которой до сих пор бился, тщетно ища из нее исхода.
— Почему вернулась ты к себе сегодня так рано? — спросил он. — Обыкновенно, не ты меня ждешь, а я тебя. Чем занялась твоя ясновельможная, что так рано отпустила тебя?
— Весь день пролежала она в постели, все нездорова, а вечером приехал князь Репнин, и она вышла в будуар, чтобы принять его.
— Репнин был здесь? И виделся с графиней? Что же ты молчишь до сих пор? Она приняла его? Говорила с ним? Долго? О чем? — с живостью закидал ее Аратов вопросами.
— Сидел он у нее долго, и после его отъезда она за мною не присылала, так что я решилась уйти к себе, не простившись с нею. Но если бы даже я и видела ее после отъезда князя, то все-таки не узнала бы, о чем они разговаривали. Давно уже не говорит она со мною о политике.
— А почему ты думаешь, что они говорили о политике?
Голос Аратова звучал строго и резко; страстный и нежный любовник превратился в неумолимого повелителя.
— Я так думаю… доказательств у меня нет. О чем же им было говорить, если не о политике? Наша пани ненавидит Репнина. Она всех русских ненавидит, — ответила Юльяния, робея под его пристальным взглядом. — Она и княгиню Изабеллу ненавидит и презирает за то особенно, что та полюбила князя. Она это считает изменой отчизне.
— Ну и пусть! Нам-то что за дело до ее глупых бредней? Поговорила бы она со мною, я сумел бы ответить ей! Я — не такой болван, как ее супруг. Странно, однако, что князь приехал к ней говорить о делах. Тут что-то кроется. Непременно постарайся как можно скорее узнать, что именно произошло между ними, а кстати, также и о заговоре, затеянном врагами короля. Ты должна понимать, как мне важно первому узнать об этом. Спасителю жизни ни в чем отказать нельзя, особенно, в первую минуту. Когда король спросит у меня, чем может доказать мне свою благодарность, я скажу: «Дайте мне маленькую Розальскую, ваше величество!» Он будет в восторге, что я прошу у него так мало. Но нам ничего больше не надо, не правда ли, моя кошечка? Какая досада, что ты не знаешь, для чего приезжал русский посол! Боюсь, чтобы он не расстроил моих планов, если раньше меня узнает, в чем дело. Напрасно не вошла ты к ней после его отъезда, когда она находилась еще под свежим впечатлением свидания с Репниным. Самые умные и деловитые женщины плохо умеют владеть собою под наплывом чувств и пробалтываются.
— После отъезда князя она недолго оставалась одна: почти тотчас же приехал Джорджио из монастыря и прошел к ней.
— Его-то ты, без сомнения, видела?
— Нет. Зачем мне было видеть его? Я и без того слишком скоро узнаю об ужасе, который ждет меня! — воскликнула Розальская, заливаясь слезами. — Там для меня уже, наверное, все готово — и сырая тюрьма в подземелье, и…
— Перестань вспоминать этот вздор! Сказано тебе, что я до этого не допущу. Чего тебе еще надо? Разве ты мне не веришь? — сурово прервал ее жалобы Аратов.
— Верю! Верю! Разве я могу тебе не верить! На всем свете никого у меня нет, кроме тебя! За твою любовь я отдала своих благодетелей, родину, моего Бога, все, все! — воскликнула Юльяния, обнимая его и пытаясь умоляющим любовным взглядом смягчить его досаду. — Милый мой, дорогой, единственный, сжалься надо мной! Прекрати мою пытку! Возьми меня скорее отсюда! Я истерзалась, измучилась… я слов не нахожу сказать тебе, как я страдаю, с тех пор как ушла от них душой! Увези меня скорее, милый, увези!.. Сил моих нет дольше терпеть! Ты даже и представить себе не можешь, что я выношу с утра до вечера ото всех в доме — от моей пани, от аббата, от всех, от всех!..
Она видела, что Аратов смягчается, видела в его глазах любовь, чувствовала, что он все крепче прижимает ее к себе, и ободрилась; с каждым мгновением ее мольбы становились упорнее, поцелуи жарче. Ее страсть передавалась ему. Ему также захотелось скорее взять ее, увезти подальше из враждебной среды, где все ему было чуждо и даже противно. Но как много надо было для этого преодолеть преград!
— Как же я увезу тебя, когда ты до сих пор не сумела даже взять в руки твое состояние, когда все твои документы еще хранятся у графа Салезия? — ласково проговорил он. — У тебя даже нет завещания твоего мужа, а без него нам нельзя будет ничего сделать ни с твоим имением, ни с капиталами. Здешние порядки мне хорошо известны; процессы, самые вздорные, тянутся десятками лет, и тягаться иноземному с вашими магнатами просто немыслимо. С помощью графа Салезия, который на все пойдет, чтобы разорить тебя, если ты выйдешь замуж за еретика, родные твоего мужа всем завладеют. Тягайся потом с ними! Знаю я ваши суды! У вас и отравить человека ничего не стоит, когда он опасен. Я часто удивляюсь, что жив до сих пор. Не до нас им теперь, заговором заняты. Скорее бы уж разыгралась у них комедия, назрело бы дело, чтобы хоть на время всех их скрутить! — процедил он сквозь зубы.
— А разве без этого король тебе не поможет?
— Чем он может помочь мне, когда сам еле держится?
— Но разве ты с русским послом не хорош?
— Ничего ты не понимаешь! Помни только, что мне завтра непременно надо знать, для чего Репнин приезжал к твоей графине и о чем они разговаривали. Только тогда, когда я это узнаю, можно будет решить, что нам делать дальше.
— Постараюсь исполнить твое желание, — пролепетала Юльяния, с горестью сознавая, что визит русского посла привел ее милого в ярость.
Почему? Увы, с каждым часом ей приходилось убеждаться, что, невзирая на его страстную к ней любовь, душа его всегда останется для нее во мраке. Никогда не будет она в состоянии угадать тайные причины его гнева и радости, точно так же, как она до сих пор не имеет понятия о его желаниях и заботах, а равно и о средствах, употребляемых им для достижения цели. И сама эта цель представляет для нее непроницаемую тайну. Это убеждение заставляет ее постоянно страдать, но, если бы она открыла в нем свойство ужаснее этого, это открытие нисколько не повлияло бы на ее любовь к нему. Это чувство даже и любовью нельзя было назвать; это было полнейшее поглощение всего ее существа другим существом. Ничего своего у нее не оставалось, все отдала она Аратову: душу, тело, ум, волю.
Недолго продолжалось над нею влияние аббатика — при первом же свидании с москалем она вырвалась из-под этого влияния, и ученику Лойлы ничего больше не оставалось, как сознаться в полнейшем своем бессилии перед сильнейшим соперником. Борьба была не равна. Отстранить такого соперника одними духовными средствами было немыслимо, тем более, что надежда обличить Аратова в преступлении не оправдалась: ничего нового по этому поводу не удалось открыть, а старые толки, должно быть, успели уже выдохнуться и всем надоесть даже и по соседству того места, где произошло роковое событие, не достигнув Варшавы, и пытаться воскресить их было бы нелепо.
Удивительно ловко умел действовать Аратов во всем. Неудачи только подзадоривали в нем энергию и изощряли изворотливость ума.
— Вот что, — начал он после довольно продолжительного раздумья, — мне и самому надоело видеться с тобою украдкой, подвергаясь глупым случайностям. Сегодня я в последний раз прихожу сюда. Надо придумать что-нибудь другое. Что именно — я еще не знаю, все зависит от обстоятельств. Если мне удастся услужить королю той женщиной, в которую он влюбился при первом взгляде, даже не слыша ее голоса, я, разумеется, воспользуюсь этим, чтобы пригласить его сватом, и надо надеяться, что тогда нам будет легче справиться с Салезием и с его женой. Если же выяснится что-нибудь относительно заговора — еще будет лучше. Во всяком случае я чувствую, что вся эта канитель подходит к концу, и прошу тебя готовиться к отъезду. Уложи вещи поценнее и жди уведомления, как поступать дальше. Очень может быть, что нам нельзя будет выехать вместе и что я буду ждать тебя где-нибудь под Варшавой, а может быть, увезу тебя прямо из дворца: все зависит от обстоятельств. Твой Вальковский здесь? Да? Отлично! Прикажи ему завтра зайти ко мне, надо переговорить с ним.
— А если меня увезут в монастырь?
— Ну тогда мы просто похитим тебя оттуда, даже, благодаря теперешним обстоятельствам, заручившись помощью иностранных послов. Куда именно мы поедем — не знаю еще; во всяком случае венчаться надо в России, в Киеве или в Малявине. Что же ты молчишь, не радуешься, не благодаришь меня, за то, что я хочу сделать по-твоему? — спросил он. — Если ты раскаиваешься, что доверилась мне, и боишься ехать со мною, то мы это дело бросим, и при этом ты ровно ничего не потеряешь… кроме моей любви, конечно. Ну, да ведь любовь тогда только дорога, когда на нее отвечают, а вообще я оставлю тебя такой, какой взял, и от тебя зависит заменить меня Длусским или кем хочешь, — прибавил он с усмешкой.
Но искра света, озарившая было на мгновение душу Юльянии, уже погасла от ужаса потерять то, что ей было дороже жизни.
— Нет, нет, я не раскаиваюсь! Я тебе верю! Ради Бога не сомневайся в моей любви! Я не могу жить без тебя и всюду последую за тобой! Приказывай! Все исполню без ропота, все, что в моих силах! — вскрикнула она, кидаясь в объятия возлюбленного.
— То-то же! А я уже думал, что ты колеблешься, — сказал он, прижимая ее к своей груди, а когда она начала успокаиваться от его поцелуев, стал наставлять ее, как вести себя, чтобы отклонить подозрения. — Что бы ни случилось, чем бы тебя ни стращали, будь сдержанна и спокойна. Захотят везти в монастырь — поезжай, не высказывая никаких опасений, но постарайся только выгадать время, придумай благовидный предлог отложить поездку, хотя бы на несколько дней. Насильно потащить тебя не могут и никаким зельем не опоят. Не беспокойся, графиня тебя слишком любит, и очень может быть, что когда увидит тебя спокойной и веселой, то и о монастыре позабудет…
— Ты со мною так говоришь, точно мы больше не увидимся?
— Да мы и не увидимся наедине до тех пор, пока не укатим в дорожной карете в Россию. Нужны большие предосторожности, чтобы наш план удался. Но, если ты будешь умница, успокоишься и повеселеешь, не будешь бледна от слез и бессонных ночей, одним словом, приведешь себя в приличный вид, твоя ясновельможная так обрадуется, что и сама выздоровеет, и пустится с тобой в свет, где мы будем часто встречаться. Но чур, не ревновать, если я буду ухаживать за красавицами, и прошу самой любезничать со всеми, а не приходить в отчаяние, если так случится, что я не буду танцевать с тобой. Помнишь, как весной в Тульчине ты чуть было не вскрикнула от испуга, когда я неожиданно явился на бал после наезда?
— Не от испуга, а от счастья! — прошептала она.
— Со мной тебя постоянно будут ждать такие сюрпризы, то от радости, то от горя.
Увы, Юльянии скоро пришлось вспомнить эти слова! Хорошо что в эту минуту она даже и представить себе не могла, при каких обстоятельствах это случится.
XXVII
Было уже поздно, когда Репнин выехал из дворца Потоцкого, однако он приказал ехать не домой, а к примасу, епископу Подосскому.
В беседе с пани Анной умственное напряжение не дозволяло ему помышлять о женщине, царившей в его сердце, но он вспомнил о ней, когда его карета поравнялась с растворенными настежь воротами перед дворцом князя Любомирского, из окон которого вместе с блеском тысяч свечей доносились звуки бального оркестра. На эти окна с жадным любопытством глазела праздная толпа уличных зевак, нигде столько не падкая на зрелища, как в Варшаве. Она обменивалась вслух замечаниями насчет веселящихся панов. Среди возгласов восхищения и изумления богатству и блеску магнатов, князю послышалось имя княгини Изабеллы Чарторыской, и ему стоило немалого труда воздержаться от искушения приказать кучеру остановиться, чтобы взглянуть вместе с чернью на окна дворца, где его возлюбленная танцевала. Разумеется, она, как всегда, лучше всех одета, обаятельнее и грациознее всех. Репнину стало досадно, что он не уделил даже и получаса в этот вечер, чтобы хоть издали полюбоваться ею в этом балу. Сколько приятных впечатлений вынес бы он от этого мимолетного свидания! Любоваться Изабеллой, когда она с легкостью бабочки порхает в мазурке или грациозно приседает в менуэте, — для него такое же наслаждение, как ловить ее взгляд и улыбку, обмениваться с нею мыслями и чувствами.
Эти представления, мелькая в его воображении и примешиваясь к воспоминанию о благополучно выполненной дипломатической миссии перед пани Анной, приводили его в прекрасное расположение духа. Однако его настроение омрачилось от первых слов примаса. Тот встретил князя дурными вестями. Заговор распространялся по всей стране с невероятной быстротой. К нему же готовился примкнуть помилованный и осыпанный милостями русской императрицы князь Карл Радзивилл со своей многочисленной партией. Всюду формировались отряды повстанцев, раздавалось оружие, эмиссары вожаков везде шныряли с прокламациями, призывающими в таинственных выражениях к нападению на всех чужеземцев и на всех диссидентов и православных. Как всегда, Пруссия исподтишка интриговала в свою пользу против союзников, не скупясь на обещания. Со своей стороны, и Австрия всеми средствами подкапывалась под Россию.
Епископ Подосский, убежденный сторонник России и явный пособник русского посла, с сокрушением распространялся о слабости короля, который не может остановиться ни на каком решении: сегодня склонен вполне довериться России, завтра передается на сторону злейших ее врагов, не желая верить, что эти враги строят свои козни против него, как против главнейшей причины всеобщего неудовольствия.
— Он не хочет понимать, что на Россию злятся единственно за то, что она навязала его Польше и поддерживает его на престоле и, что всего хуже, ему не придают никакого значения. Король мечется, как угорелый, из одной крайности в другую в тщетной погоне за популярностью, в своем стремлении всем угодить становится смешон и, желая все сохранить, все теряет. Со мною, с тех пор как меня считают ренегатом, он боится видеться, а вместе с тем прибегает ко мне за советами через своих приближенных, но я так мало доверяю им, что ничего дельного не могу им сказать. Да и как доверять людям, которые каждую минуту готовы предать всякого? Одним словом, как друзья короля, так и враги его, с редким единодушием желают его смещения, и, право же, даже и мне начинает казаться, что другого способа удовлетворить нацию нет.
Последние слова примас произнес, устремляя пытливый взгляд на своего слушателя, и, вынув из кармана шелковой фиолетовой сутаны золотую табакерку, поднес щепотку к носу.
— Ее величество не согласится с этими доводами. У нее давно составилось мнение о пользе, которую России надо извлечь из настоящего положения в Польше, а своих мнений она не меняет, — сдержанно заметил Репнин, от которого не ускользнула затаенная цель направленного на него подхода. — Нам нужно во что бы то ни стало освободить наших единоверцев от гонений, которым они подвергаются здесь, а для этого представляется только одно — сравнение их в правах с католиками.
— Но если ее величество поближе ознакомить с положением в стране, если ей представить, что заместитель Понятовского, если это будет саксонский принц, поставит себе первейшим долгом исполнить все ее желания и что благодаря содействию нации ему несравненно легче будет достигнуть этого, чем теперешнему королю? Если все это объяснить ей, разумеется, с представлением надлежащих гарантий, она, быть может, и согласится на уступки?
Епископ умолк в ожидании возражений, из которых можно было бы вывести то, что ему не менее прелата Фаста хотелось знать, а именно: получены ли новые инструкции из Петербурга и в чем они заключаются?
— Какие же именно уступки вам желательно было бы получить от нас? — холодно спросил князь.
— Вашему сиятельству известны желания польского народа, — сдержанно ответил епископ.
— Что вы подразумеваете под этими словами «польский народ»? Если магнатов и шляхту, то вам известно, какое значение наше правительство придает их желаниям, которые всегда идут наперекор желаниям и нуждам хлопов как католиков, так и православных, а последних мы всегда будем поддерживать всеми средствами и во всем, что найдем для них полезным и справедливым.
— Так, так! — печально закивал епископ и с тяжелым вздохом заговорил о другом. — Мне очень хотелось бы знать мнение вашего сиятельства о господине Аратове, русском помещике, общество которого так полюбилось нашему королю, что он доверяет ему щекотливейшие поручения. Можно ли положиться на этого человека? Говорят, он замечательно ловок и много содействовал усилению партии киевского воеводы. Но в настоящее смугное время аттитюда его какая-то двусмысленная: он одновременно состоит в ближайших фаворитах короля и дружит с киевским воеводой. Последнего патриотам удалось, говорят, перетянуть на свою сторону, и быть не может, чтобы Аратов не знал этого через любимую резидентку графини Анны, с которой он находится в любовной связи. Кому же после этого служит этот человек? Чью сторону держит: короля или врагов его величества!
— Такого сорта люди, обыкновенно, имеют в виду только свою пользу, — заметил Репнин. — Вы с ним знакомы?
— Сегодня утром он был у меня от имени короля, и я довольно долго беседовал с ним о недоумении его величества перед требованиями, с которыми к нему пристают со всех сторон. Я уже имел честь сказать вашему сиятельству, что его величеству очень хотелось бы знать мое мнение о том, чего ему держаться. Но что же мог я ответить Аратову? Ведь я его совершенно не знаю. Впрочем, он, кажется, и сам сознает это и очень ловко дал мне понять, что воспользовался поручением короля, чтобы посоветоваться со мною относительно своего личного дела. Он желает жениться на любимице киевской воеводицы, однако против этого брака не только граф Салезий и его супруга, но и все духовенство, и ему можно опасаться больших препятствий и неприятностей. Ему нужна поддержка не одного только короля, но и приверженцев России, к числу которых не без оснований причисляют и меня.
— Что же посоветовали вы Аратову?
— Я не мог ничего сказать ему, предварительно не узнав мнения вашего сиятельства о нем, и просил его зайти ко мне на будущей неделе.
— Хорошо сделали. Нам теперь не следует раздражать киевского воеводу и его супругу.
— Очень счастлив, что наши мысли сходятся, ваше сиятельство, — произнес епископ и, убедившись, что ему ничего больше не узнать от посетителя, начал излагать князю общий план действий, предпринятых его агентами против партий, орудующих в захолустьях, где еще держались приверженцы русской политики, превратившейся благодаря вражде магнатов с королем в политику королевскую.
Князь слушал очень внимательно, иногда заставляя повторить то, что казалось ему особенно важным, и наконец, когда часы позвонили два, поднялся с места. Но, прежде чем распроститься с хозяином, он снова заговорил об Аратове.
— Этот господин, кажется, избрал неблаговидный путь, чтобы сблизиться с его величеством. Говорят про какую-то женщину, которую он будто бы выписал издалека с грязными целями.
— Таинственная незнакомка, встреченная в Лазенковском парке? Король очень увлечен ею. Говорят, на ее след уже напали, и мы, вероятно, скоро увидим новую восходящую звезду на придворном горизонте, если только она из тех, которых можно показывать. Послушать Сапегов и Любомирских, это красавица самого низкого звания, жена ремесленника.
— Но где же нашли ее? — спросил князь, которого не могли не забавлять эти сплетни после свидания с Грабининым.
— Она живет за городом, в Уяздове, у еврейки. Со вчерашнего дня отделывают новое помещение в Лазенковском дворце, и из этого можно заключить, что его величество решил довести до конца свою новую любовную авантюру. Впрочем, не в первый раз Станислав Август прибегает к насилию, чтобы удовлетворить свою страсть. О, наш король в подобных случаях способен проявить много силы и упорства! Муж этой женщины выдает себя за русского и, несомненно, обратится к помощи вашего сиятельства, когда у него похитят жену. Меня уже спрашивали, как отнесется к этой жалобе ваше сиятельство?
— Постараюсь уладить это дело ко всеобщему удовольствию.
Возвращаясь домой, Репнин думал о Грабинине. Как странно складывалась развязка этого запутанного дела! Настоящий роман, и, надо сознаться, с весьма интересными героями. Чем более припоминал он подробности своего свидания с соотечественником, тем симпатичнее казался ему тот. Ни минуты не сомневался он в его искренности и чистосердечии, а в этой стране лжи и притворства особенно отрадно было иметь дело с человеком, словам которого можно было верить, не подозревая в них ни задней мысли, ни желания выставиться в лучшем свете. Императрица тоже любит прямые натуры и относится к ним с особенным благоволением. Она, может быть, заинтересуется похождениями злополучных влюбленных и примет участие в их судьбе.
И опять завертелось в уме князя сравнение между подругой Граби-нина и той женщиной, которую сам он любил больше жизни. Не танцевала бы первая так беззаботно, как Изабелла, когда ее возлюбленный в волнении и тревоге от мучительных забот!
Хорошо еще, если она только танцует, если не принимает деятельного участия в злых кознях, которые строят против него ее близкие! Вчера она ездила к супруге киевского воеводы делегатом от «фамилии». Понимает ли она, какую роль ее заставляют играть? Ни словом не обмолвилась она ему об этом в своем последнем письме. Осторожная особа!
Давно уже не верил Изабелле Репнин, и, кажется, должен был бы привыкнуть к мысли, что всегда будет так, что всегда она будет обманывать его. Вот и теперь она всеми мерами отдаляет объяснение и придумывает предлоги не видеться с ним наедине: вчера — концерт, сегодня — бал, завтра — другой, послезавтра — танцевальное утро в Лазенках. Там можно было бы найти возможность остаться минут пять наедине. При дворе Станислава Августа этикет в том и состоит, чтобы влюбленным было удобно уединяться парами в парке, не возбуждая любопытства, без помехи. Но ждать до послезавтра долго, и к тому же именно в ночь за этим днем должно состояться роковое сборище у краковского кастеляна. Многие отправятся туда прямо из королевского дворца, чтобы решать, каким образом свергнуть с престола гостеприимного хозяина, у которого пропировали весь день! Без сомнения, между заговорщиками найдутся и такие, которые предложат, во избежание дальнейших хлопот, убить его. Им это ничего не стоит. Очень может быть, что именно об этом и толкуют у Изабеллы в доме и в ее присутствии. Вычисляют количество русских войск, предлагают меры, чтобы успешнее стереть короля с лица земли, пользуясь его беззаботностью и доверием, предварительно умертвив его защитников с русским послом во главе. И Изабелла знает все это и откладывает свидание с ним, быть может, лишь ради того, чтобы не выдать страшной тайны в любовном экстазе, замирая от страсти в его объятиях! Что происходит теперь в таинственном пу-лавском гнезде постоянных коварств и заговоров, между членами «фамилии», с одной стороны, снедаемыми честолюбием, и с другой — долгами? Какими клятвами и угрозами вынуждают они своих приверженцев молчать и действовать по их указаниям? Все это русский посол, коротко знакомый с главными действующими лицами мрачной трагедии, разыгрывавшейся вокруг него, мог представить себе достаточно ясно, чтобы каждую минуту ждать всего худшего.
Размышляя таким образом, Репнин не замечал, как летело время, и даже не обернулся к окну, когда карета на обратном пути поравнялась с дворцом Любомирских, перед которым продолжала глазеть толпа. Очнулся он тогда только, когда карета остановилась перед крыльцом его дворца.
Ни на кого не глядя, ни о чем не спрашивая, поднялся князь Николай Васильевич по мраморной лестнице, на верхней площадке которой с зажженным канделябром в руке дожидался его старый камердинер.
Не будь князь так глубоко погружен в размышления, он заметил бы по выражению лица доверенного слуги, что во время его отсутствия случилось нечто особенное. Но ему было не до того, чтобы всматриваться в лица окружающих, и, сбросив на руки одного из слуг плащ, он поспешно направился по коридору к двери в кабинет. Камердинер поспешил нагнать его.
— Ваше сиятельство, — проговорил он задыхающимся от волнения шепотом, — у нас гостья… уже с час как дожидается возвращения вашего сиятельства.
— Кто такая? Зачем впустили в такое время? — спросил князь дрогнувшим от радостного предчувствия голосом.
— Княгиня Чарторыская… Я просил их милость подождать в гостиной, но они захотели непременно пройти в кабинет.
Князь стремительно бросился к маленькой двери за шкафами в книгами, занимавшими одну из стен обширного покоя, того самого, где он накануне отдыхал после приема посетителей перед появлением Грабинина, и очутился на широком диване рядом с княгиней Изабеллой. Она с улыбкой кинулась в его объятия.
— Откуда? Какими судьбами? Чему обязан я таким счастьем? — вне себя от восторга воскликнул он, покрывая поцелуями ее руки.
— Не могла дольше вытерпеть, так много надо было сказать моему князю! О милый мой, как я исстрадалась, как я беспокоилась о тебе! Милый, милый! — лепетала она, подставляя горячие губы под его страстные поцелуи.
Как она была прелестна! Сколько беззаветной и искренней любви теплилось во взгляде ее прекрасных глаз! А он подозревал ее в притворстве, коварстве, предательстве!
При скудном свете двух восковых свечей на камине Репнин с восхищением вглядывался в дышащее любовью прелестное личико с томными глазами, на фоне растрепавшихся в страстном упоении светло-пепельных кудрей с сверкавшими в них бриллиантовыми звездами, на белые прелестные руки, обвивавшие его шею, на грациозные плечи и трепещущую грудь, выглядывавшую из волн кружев и голубого крепа. Прижимая ее к себе, он смял букет белых лилий, приколотый к ее груди, и раздавленные цветы, как бы мстя за насилие, запахли еще сильнее и опьянительнее.
— Откуда ты? — повторил Репнин свой вопрос.
— С бала. Прождала тебя до полуночи и, убедившись, что не увижу тебя там, притворилась больной и приехала к тебе. Не могу я без тебя жить!
— И я тоже!
Репнин опустился к ее ногам и, обнимая ее колени, повторил много раз слышанную ею клятву: все для нее бросить и жить для того только, чтобы любить ее!
А время шло. Старый камердинер, дежуривший у входа в коридор, тревожно поглядывал на высокие окна, начинавшие уже золотиться лучами восходящего солнца, с беспокойством прислушиваясь к поднимавшимся издалека шумам, предвестникам пробуждавшегося города. Вот уже утренний караул идет к дворцу русского посла сменить ночную стражу. Начинают скрипеть то тут, то там ворота. Еще немного — и проснутся все обитатели дворца. Уже и теперь начинают раздаваться шаги по лестницам и по коридорам, а дверь в кабинет все еще остается запертой и за нею ничего не слышно.
Каждую минуту старик подходил к двери в кабинет, надеясь услышать хотя бы какой-нибудь шорох, но если бы за этой дверью были не живые люди, а давно остывшие трупы, тишина не была бы полнее и не царила бы торжественнее над окружающею жизнью. Весь дворец проснулся. Лакеи засновали с самоварами и с блюдами из кухни в столовую и обратно, готовя завтрак, который князь имел обыкновение кушать перед утренней прогулкой по саду, примыкавшему к дворцу. Явилась в галерею экономка Марья Андреевна и обратилась к камердинеру с вопросом:
— Что это значит, Михаил Васильевич, что князенька наш до сих пор не выходит из спальни? Уж здоров ли он?
— Они вчера поздно вернулись, не выспались еще, верно.
— Да они уже давно встали и гулять вышли. Вот и назад идут! — вскрикнула Марья Андреевна, подходя к окну, выходившему на широкий, обсаженный деревьями двор, по которому князь направлялся к дворцу. — Бежать скорее, приказать подавать чай, его сиятельство ждать не любит!
Она вернулась в столовую, а камердинер протер себе глаза, чтобы убедиться, что он не грезит и что в самом деле его барин, минуя дверь, перед которой он с двух часов ночи дежурил, очутился вне дома. В соседнем зале уже раздались знакомые шаги, и князь вошел в галерею.
В эту ночь он вовсе не раздевался; на нем был тот самый французский бархатный кафтан, в котором он накануне вечером поехал к киевскому воеводе, а оттуда к примасу. Кружева его жабо и манжет были перемяты, а прическа не совсем в порядке, но у него был такой счастливый вид, что он казался помолодевшим лет на десять.
Мельком взглянув на старого слугу, он прошел в уборную, знаком приказав ему следовать за собой. Выслав дожидавшегося у умывальника лакея, он сбросил с себя платье и принялся с помощью Михаила Васильевича умываться.
— Кто еще, кроме тебя, видел здесь княгиню? — спросил он, вытирая лицо полотенцем, которое ему подал старик.
— Из наших никто не видел; все уже давно спали, да и я тоже в ожидании вашего сиятельства прикорнул было на лавке в буфетной, как вдруг будит меня кто-то. Открыл я глаза и вижу гайдука княгини Залесской в полном параде. А за ним кто-то стоит, в плаще с головой укутан. «Кто такой?» — думаю. А она вдруг как выступит вперед, да капюшон-то с лица откинет… я так и обомлел от удивления: княгиня Чарторыская!
— Тсс! — со смехом прижимая палец к губам, прервал его князь. — Не повторяй этого имени и, никого не называя, расскажи, что было дальше.
— А дальше вот что: «Князя нашего дома нет, ваше сиятельство», — говорю. «Знаю, — говорит, — я подожду его в кабинете». Я подумал, что они-то про кабинет так помянули, зря, и повел их в маленькую гостиную, где ваше сиятельство изволили в последний раз графиню Браницкую шоколадом угощать, но они тотчас заметили, что я не туда их веду, и остановили меня: «Хочу, — говорят, — ждать князя в его рабочем кабинете». Что тут было делать?
— Разумеется, то, что она хочет, — весело потирая руки, заметил князь. — Ну а дальше что?
— Провел я их в кабинет и хотел оба канделябра зажечь. Не дозволили. «Довольно с меня будет и двух свечей, — говорит. — Я тут прилягу, оставь меня одну». Спросил: «Не угодно ли лимонаду, чая, фруктов?» Ничего не пожелали, и я вышел.
— И прекрасно сделал, — заявил князь. — Пошли Густава, надо скорее одеться и идти завтракать.
Пока старик бегал за волосочесом, князь большими шагами прохаживался по комнате, с радостным волнением припоминая подробности любовного свидания, под впечатлением которого ему так приятно было слушать рассказ старика. Сцены, одна другой приятнее его сердцу, проходили в его воображении. Живо представлял он себе, в каком волнении ехала Изабелла сюда и как дрожала от страха, переходя через незнакомый двор, как трепетала при мысли встретить кого-нибудь, поднимаясь по темной лестнице с крутыми ступенями. Хорошо, что все обошлось благополучно, что весь дом спал и что ей удалось найти старика-камердинера одного! Мало ли что могло случиться! Изабелла Чарторыская рисковала быть если не арестованной, то по крайней мере узнанной караульным офицером. Милая, дорогая, неоцененная! Решиться на такой отчаянный шаг для женщины в ее положении доказывает, пожалуй, столько же мужества, сколько требуется бравому воину, чтобы кинуться одному в атаку на целый неприятельский отряд.
XXVIII
Пани Дукланова спала крепким сном в своей уютной спальне, обставленной комфортабельной мебелью, вывезенной из ее собственного имения, когда дверь растворилась и в комнату ураганом вбежала княгиня Изабелла.
— Проснитесь, Дукланова! Мне надо вам все рассказать! — вскрикнула она, садясь на кровать и от избытка чувств принимаясь душить свою резидентку поцелуями. — Я достала все-все! Его всевелебность будет доволен. Подумайте только, какой счастье! Вот-вот, возьмите, спрячьте… я так боюсь потерять эту бумагу… так боюсь, чтобы ее у меня не украли, — продолжала она, торопливо вынимая из нижней кружевной юбочки перемятую бумагу и подавая ее изумленной Дуклано-вой. — Спрячьте, спрячьте! Все время думала я про эту бумагу, в смертельном страхе, чтобы она как-нибудь не зашуршала, не выпала. Спрячьте ее скорее! О как я рада, как я рада! — повторяла она, в то время как Дукланова запирала бумагу в серебряный ларчик, стоявший у изголовья ее кровати.
— Откуда вы? Где провели ночь… не раздеваясь, в бальном платье? И зачем сами беспокоились? Прислали бы за мною! — вне себя от изумления пролепетала почтенная дама, не переставая с возрастающим недоумением оглядывать молодую женщину, прижимавшуюся к ней грациозным движением ласковой кошечки. — Откуда вы так поздно?
— Так рано, хотите вы сказать? Пятый час… Посмотрите! — и Изабелла, подбежав к окну, отдернула драпировку. — Видите!
Солнечный свет яркого летнего утра золотистыми искрами рассыпался по комнате, и Дукланова с испугом стала умолять проказницу скорее опустить драпировку.
— Вас могут увидеть из сада… в таком костюме! Раздевайтесь скорее, чтобы не узнали, что вы только сейчас вернулись с бала.
— С бала! — княгиня весело расхохоталась. — Если б я вернулась с бала, мне нечего было бы вам и рассказывать. Я уже забыла, что была на балу. Я от него! Понимаете ли? От него! — повторяла она в упоении, понижая голос и придвигая к Дуклановой свое зардевшееся от волнения лицо.
— От князя? — с ужасом вымолвила та.
— Да, да, я провела у него все время, от часа до четырех. Никогда еще не были мы так счастливы! Как он любит меня! Если бы вы только видели его радость, когда он увидел меня! Глазам своим не верил, что это — я. О как мне было с ним хорошо! Как в раю!
— Но как же вы попали к нему?
— Очень просто. Прелат приказал мне непременно узнать то, что пишут из Петербурга князю.
— И вы узнали?
— Да, все это в той бумаге, которую я дала вам спрятать. Вы знаете, как я боюсь прелата! Он приказал мне узнать, что пишет русскому послу министр Панин с тем курьером, который прискакал на днях, и это приказание не выходило у меня из головы. На бал князь не приехал, и в первую минуту меня это расстроило, особенно, когда стали со всех сторон говорить о важных вестях, полученных им из Петербурга, и о том, что он будто бы отказался от бала, чтобы не встретиться с людьми, которых намерен арестовать и сослать в Сибирь! Можете себе представить, что я чувствовала, слушая эти рассказы! Тут только поняла я, почему прелату так нужно знать, какие предписания получил мой князь! «Пане Коханку» по обыкновению врал всякий вздор, советовал немедленно схватить русского посла и отвезти его в цитадель, чтобы держать там заложником. Мой тесть настаивал на том, чтобы и короля арестовать и запереть в один каземат с Репниным.
— Но как же могли вы слышать все это? Ведь не при вас же велись такие разговоры?
— Разумеется, не при мне. Я танцевала с прочими в большом зале, а серьезные мужчины собрались в кабинете хозяина, чтобы толковать о деле. Но я чувствовала, что там происходит нечто очень важное, об этом шептались даже и дамы. Приехал король, все на него смотрели как-то странно. Он, как всегда, ничего не замечал, или притворялся, что не замечает, и пожирал глазами Сапегу, которая, чтобы досадить ему, кокетничала с Браницким. Ржевусский не отставал от меня, умоляя танцевать с ним мазурку. Я сказала ему: «Хорошо, но прежде узнайте мне, о чем совещаются в кабинете!» Он полетел туда и вернулся только через час, но зато все узнал. Недешево обошлось ему то, что он назвал моим капризом! Чтобы возбудить к себе доверие стариков, он должен был заявить, что жертвует сто тысяч золотых на предприятие, и тут же передал Малаховскому чек на своего банкира. «Пане Коханку» обнял его, назвал его настоящим поляком, и все стали пить за его здоровье, а потом без стеснения стали при нем толковать обо всем, а он все это передал мне. Тут уж я решила действовать смело, — с восхищением закончила она.
А в это время ее слушательница приводила в порядок ее костюм; сняв с нее платье, она накинула на плечи своей госпожи батистовый пеньюар, вынутый из пузатого комода, и, с ужасом заметив следы росы на белых атласных башмачках, поспешила разуть ее, вытереть душистым спиртом ее ножки и надеть на них сухие чулки и туфли.
— Но я все-таки не понимаю, как вам удалось выехать незаметно с бала? — спросила Дукланова, усадив свою госпожу в кресло. — Вы, надеюсь, не обманули Ржевусского и протанцевали с ним мазурку, за которую он заплатил так дорого?
— Мазурка должна быть начаться после ужина, и исполнить обещание, данное Ржевусскому, я не могла. Я думала только о том, как бы скорее повидаться с князем и узнать от него, что нужно. И как все отлично вышло! Во-первых, когда я начала жаловаться на мигрень, все мне поверили и даже стали уверять, что давно заметили, как я бледна и какой у меня измученный вид. А между тем это была неправда, и никогда не была я так оживлена, как в этот вечер. Хорошо, слушайте дальше! Стачинская, точно ей кто-то шепнул, подошла ко мне в самую удобную минуту и без слов поняла, почему мне надо сейчас же уехать одной, без свиты. Под предлогом не лишать моей дворской молодежи удовольствия танцевать до конца бала, я вышла с одной Стачинской в то время, когда Ржевусский в противоположном конце зала задержался в группе, окружавшей короля. Дальше: все наши гайдуки, кроме Сигизмунда, пировали у дворцового маршала. Еще лучше: кучера были пьяны, и Сигизмунд разыскал чью-то чужую карету, очень простую, и уговорил кучера за червонец довезти до палаццо Чарторыских внезапно заболевшую резидентку княгини Изабеллы. Тот согласился, разумеется, в полной уверенности, что господин его раньше как часа через три, не спросит его, и мы поехали: Стачинская, Сигизмунд и я, закутанная с головою в плащ Стачинской, которая надела мой. Никто меня не видел, когда я садилась в карету. Стачинскую я взяла с собою, чтобы она предупредила здесь всякие разговоры. Благодаря ей, все теперь уверены, что я вернулась с нею и что она уложила меня спать.
— На Стачинскую можно положиться, — заметила Дукланова.
— Не правда ли? Потому-то я и беру ее всегда с собою, когда еду на бал или на какой-нибудь праздник; она уже не раз выручала меня. У ворот русского посла мы остановились, я с Сигизмундом вышла, а Стачинская поехала дальше. Вот тут-то наступило самое страшное, — продолжала отважная красавица. — Мысленно призывая на помощь всех святых, последовала я за Сигизмундом через калитку во двор.
— А вдруг вас встретил бы кто-нибудь! — с ужасом заметила Дукланова.
— Тогда мой спутник пустил бы в ход выдумку, которая у него была готова на всякий случай, но, слава Богу, все спали. Спал и старик-камердинер князя, и, к счастью, не в своей комнате, а в кресле перед дверью кабинета, и совсем одетый, так что можно было тотчас объяснить ему, в чем дело. Сдав его меня с рук на руки, Сигизмунд ушел, а я потребовала, чтобы меня провели прямо в кабинет князя. У меня уже начинал зарождаться в голове план, и он удался, как нельзя лучше! В рабочем кабинете князя я провела одна почти с час, все, что нужно, нашла и все сделала. То, что я отдала вам спрятать, — черновая с ответа князя русскому министру Панину. Я и самое письмо прочитала; оно лежало в бюваре, в среднем незапертом ящике. В ответе повторяется все, что есть в письме, по пунктам, — прибавила она деловитым тоном. — Не правда ли, прелат будет доволен?
— Ничего лучшего нельзя желать. Но зачем оставались вы там так долго, моя пани? Достигнув цели, завладев нужным документом, вам надо было скорее возвращаться домой.
— Как? Не воспользовавшись счастьем пробыть с любимым человеком? Пропустить случай вдоволь нацеловаться с ним? Слушая его страстные уверения, его клятвы, читать его любовь в его милых глазах? Да вы с ума сошли, Дукланова! Сейчас видно, что вы никогда не любили и не понимаете, что такое любовь! — с негодованием воскликнула молодая женщина. — Никогда не думала я, чтобы вы были так жестоки и так мало любили меня. Требовать, чтобы я отказалась от любви князя, единственного человека на земле, который мне дорог, на которого я с радостью променяла бы весь свет! О как вы меня огорчили! А я еще, не дальше как полчаса тому назад, уверяла его, что вполне могу располагать вами и вашей ко мне преданностью!
— Вы были правы, когда сказали это князю, и мне хотелось бы, княгиня, чтобы вы никогда, даже в минуты досады, не сомневались в моей преданности к вам, потому что тогда только я могу быть полезна вам, оставаться при вас, — произнесла Дукланова с большим достоинством.
Эти слова, а в особенности тон их, заставили княгиню опомниться, поспешно протянуть руку своей резидентке и умоляюще заявить, что она будет несчастнейшей женщиной в мире, если Дукланова покинет ее.
— Подумайте только: ведь у меня на земле нет никого, кроме вас, кому я могла бы верить и с кем могла бы говорить о князе. Все меня только эксплуатируют, все-все: моя семья, фамилия мужа — все пользуются для себя моими слабостями, моим одиночеством и беззащитностью. О князе Казимире я уже не говорю: он даже и одной недели не был верен мне, с тех пор как сделался моим мужем, и только одну ночь, в день нашей свадьбы, не виделся со своими любовницами! Как же мне после этого не искать утешений на стороне и не радоваться, когда среди мимолетных развлечений судьба посылает мне человека, которого я полюбила настоящей любовью?
«И ты называешь это настоящей любовью?» — думала с горечью ее наперсница.
Но вслух она своих замечаний не высказала. Слишком опытная была она и знала людей, среди которых вращалась, чтобы высказывать то, чего они ни понять, ни оценить не могли. Все здесь думали и поступали, как княгиня Изабелла, все смотрели на любовь как на развлечение, и выбирали себе любовников с целями, ничего общего с любовью не имеющими. Зачем же требовать от этой душонки больше того, что она в силах дать?
Слушая Изабеллу, Дукланова не могла не изумляться ее простодушному эгоизму и наивному коварству. Злоупотреблять доверием любимого человека, чтобы предавать его врагам! Выкрадывать у него для этих врагов документ, которому он придает такое важное значение, что даже и ей не обмолвился ни единым словом о его содержании! Но она даже и понятия не имеет, как это гнусно. Стоит ли ей открывать глаза на эту гнусность? Разве у нее не найдется тотчас же возражений, перед которыми католичке остается только молчать? Разве она не скажет, что действовала по приказанию прелата Фаста и что если это дурно, то за грехи отвечает он, руководитель ее совести, а не она?
У Фаста по крайней мере высокая отвлеченная цель на уме, и до сих пор средства, которыми он старается достигнуть ее через обаятельную молодую женщину, не слишком грязно пачкают ей душу. Понятовский, с которым он сначала свел ее, — человек хорошо воспитанный и одарен известной деликатностью сердца; благодарность к женщинам, подарившим ему хотя бы минуту счастья, всегда удержит его от пошлости и бестактности. Что же касается до русского посла, то пани Дукланова должна была сознаться, что сама питает к нему поистине непонятную слабость, и осуждать порученную ее попечениям молодую женщину за любовь к этому замечательному душевными свойствами человеку она никак не может. Изабелла инстинктом влюбленной сознавала это, и это обстоятельство связывало этих двух женщин, столь различных по общественному положению, летам и воспитанию, сильнее всяких родственных уз.
— По какому поводу моя пани заговорила сегодня про меня с князем? — спросила Дукланова.
— Ах, да ведь я не успела рассказать вам и десятой доли из того, что узнала сегодня ночью! Мы с князем разговаривали не про одну нашу любовь; когда рассветало, он предложил мне выйти прогуляться в дворцовый сад и провел меня туда какими-то таинственными проходами. Чудо, как было интересно! Я дрожала от страха, чтобы из темноты не выскочило на нас какое-нибудь чудовище и чтобы земля не разверзлась под нашими ногами, и прижималась к нему, а он смеялся и уверял, что никогда еще не был так счастлив! Очень-очень было весело, никогда не забуду я этой ночи! Он смеялся и уверял, что никогда еще не был так счастлив! И вдруг мы очутились в саду! Начинало показываться солнце, птички пели, цветы благоухали, кругом было тихо и спокойно. Вот тут-то, убедившись, что, кроме птиц и бабочек, увивавшихся вокруг роз, нас подслушать некому, князь рассказал мне преинтересную историю со страшными и любопытными приключениями, с героем которой, русским офицером Грабининым, он познакомился вчера утром.
— Грабинин? — с волнением переспросила Дукланова.
— Да, фамилия этого офицера — Грабинин. Он явился к князю как к русскому послу за советом, помощью и заступничеством. Положение его ужасно! Представьте себе, он влюбился к жену своего соседа по имению и похитил ее! Долго искали они пристанища в каком-нибудь захолустье Польши и нигде не могли найти надежное убежище. Увезти ее к себе в Россию нечего было и думать — там на этот счет очень строго, и жить с чужой женой просто невозможно. Ему, разумеется, хочется жениться на ней. Но как это сделать? У православных еще труднее получить развод, чем у нас. Между тем на каждом шагу неприятности, затруднения, страх быть настигнутыми оскорбленным мужем, одним словом, положение ужасное! Ничего больше не оставалось, как бежать за границу и жить где-нибудь вдали от света и от общества. Но для этого нужны средства. У русских закон против эмигрантов очень строг — их имения конфискуются в казну, и они теряют право когда-либо вернуться на родину. Однако Грабинин и на это решился. Но надо продать имения, которые у него в различных концах России, а куда деть подругу, пока он будет хлопотать об этом? Кто-то посоветовал им поселиться в Варшаве, кактв большом городе, где всегда живет множество иностранцев и не так строго относятся к паспортам, как в России. Вот они сюда и приехали, поселились в Уяздове, у какой-то еврейки, выдавая себя за русских ремесленников. Все было бы хорошо, если бы им не вздумалось прогуляться рано утром в Лазенковском парке и если бы на их беду после ночи, проведенной с любовницами, королю не вздумалось освежиться утренней прохладой. Вы догадываетесь, что произошло дальше? Ну, одним словом, это — та самая таинственная незнакомка, которую теперь так усердно разыскивают по городу и окрестностям, по приказанию короля. Его величество с ума сходит по новой красавице, прельстившей его тем, что она убежала от него, как сумасшедшая, при первой его попытке заговорить с нею. Можно себе представить, что должен переживать ее возлюбленный! У него нет никакой возможности защитить ее от нападений короля! Вне себя от отчаяния, Грабинин решился на последнее крайнее средство: во всем открыться русскому послу и просить его защиты. И хорошо сделал! Мой князь так добр, так великодушен, так понимает его положение…
— Но для чего же рассказал он вам все это? — дрогнувшим от волнения голосом спросила Дукланова.
Княгиня вспыхнула при воспоминании сцены ревности, предшествовавшей рассказу о любовных похождения Грабинина, и передавать об этом ей вовсе не хотелось.
— Он всегда откровенен со мной, а в этом случае я могу оказать ему большую услугу: я предложила ему приютить в нашем дворце эту несчастную. У нас ее никому не найти, полиция не посмеет обыскивать дворец князя Адама Казимира Чарторыского. Князю же мое предложение пришлось по сердцу, особенно, когда я сказала ему, что буду просить вас взять эту молодую женщину под ваше особое покровительство и поместить ее под видом родственницы в ваших комнатах. Ведь вы мне в этом не откажете, не правда ли?
— Когда же князь желает, чтобы я взяла к себе эту молодую женщину? — отрывисто спросила Дукланова.
— Чем скорее, тем лучше. Положение ее чрезвычайно опасно, и каждую минуту можно ждать скандала. Грабинин влюблен в нее без памяти и на все пойдет, чтобы защитить ее от насилия, а между тем оба они из-за любовной авантюры в таком положении, что сам князь не может явно выступить их покровителем. Он надеется выпросить им со временем прощение у императрицы, но когда-то это еще будет! А пока надо как можно скорее спасти их от любовного каприза Понятовского.
Как всегда, когда Изабелле случалось упоминать имя своего бывшего царственного любовника, ее лицо исказилось злобой и на губах появилась презрительная усмешка. Со свойственной женщинам логикой, она глубоко ненавидела короля и желала ему всякого зла за то, что он надоел ей и что она бросила его для другого.
Однако роман Грабинина не заставил ее забыть и о другом не менее важном деле, и она стала просить Дукланову скорее отвезти прелату тот документ, который она ей доверила на хранение.
— Ведь я, собственно, для этого и прибежала к вам, прежде чем зайти к себе, да вот заболталась и забыла самое главное. Надо, чтобы его всевелебность получил эту бумагу непременно сегодня и как можно раньше, пока весь дворец будет спать, и никто не узнает, куда вы ездили. Скажите ему, что у меня не было покоя, пока я не исполнила его приказания, что угодить ему — моя первая забота в жизни, что я бесконечно счастлива, что мне удалось найти эту бумагу и взять ее для него и что все эти удачи я приписываю его святым молитвам… а также и счастье быть любимой таким честным человеком, как князь! Подумайте только разве я могла бы с чистой совестью предаваться этой любви, если бы его всевелебность не выпросил у святого отца мне разрешение на это? Ведь мой бедный князь — схизматик, его ждут на том свете адские мучения. О как трудно жить на свете с чувствительным сердцем! Каким волнениям, каким искушениям подвергаешься на каждом шагу! Как я завидую тем счастливцам, у которых достаточно силы воли, чтобы отвернуться от грешного мира и искать спасения от дьявола за монастырской стеной!
XXIX
Солнце было уже высоко, когда княгиня Изабелла вышла из помещения своей резидентки. Та, проводив ее до спальни и уложив в постель, прошла в сад и долго прогуливалась там по тенистой липовой аллее, перебирая в уме впечатления далекого прошлого, бурной волной нахлынувшие ей в душу от известия, сообщенного ей княгиней. При мысли о встрече с внуком человека, который погубил из-за нее всю свою жизнь, и за любовь к которому она заплатила муками, чувство радостного возбуждения заставляло ее сердце биться так, как, бывало, в то время, когда оно билось только для ее возлюбленного юных лет. Наконец-то ей представится случай доказать ему свою признательность.
«Ты видишь, как я счастлива сделать что-нибудь для одного из твоих близких! Ты видишь, что это — первая счастливая минута для меня, с тех пор как меня оторвали от тебя, с тех пор как нанесла такой жестокий удар твоему полному ко мне любви сердцу!» — воскликнула она в экстазе среди тишины ясного душистого утра, забывая, что тот, к кому она обращалась, не может слышать ее, что прах его давно покоится далеко отсюда, а душа витает в недосягаемых пространствах.
Она рассказала ему, как терзалась отчаянием и раскаянием, когда ее, почти обезумевшую от горя, увезли от него, как она с каждой минутой убеждалась все больше и больше, что счастье для нее без него немыслимо, что ни разлюбить его, ни забыть она не в силах, что время только разжигает ее любовь к нему и ненависть ко всему остальному на свете. Только в муках за него и находила она отраду.
Напрасно испробовал все средства возбудить в ней, если не любовь к себе, то по крайней мере жалость несчастный Джулковский, тщетно последовал он совету близких и отвез ее в дальний монастырь для исправления от грешной страсти к проклятому москалю Грабинину. Там принялись истязать ее душу и тело с фанатизмом ревнителей неприкосновенности римской церкви, там она уже ни в ком не встречала даже и тех проблесков жалости, от которых не мог воздержаться влюбленный в нее муж; там все были неумолимы к грешнице, осквернившей себя любовной связью с еретиком, и, не дозволяя даже на минуту отдохнуть от нравственных и физических мук, заставляли ее молить о смерти как об избавлении.
Молитва ее была услышана: здоровье ее пошатнулось, и она впала в бесчувственное состояние, перед которым ее палачи оказались бессильны. Дали знать мужу. Он прилетел в монастырь, как безумный, вбежал в узкую келью, в которую ее перенесли из мрачного подземелья, где она томилась около года, схватил ее на руки и, бросив кошелек с золотом черной стае, налетевшей на него со всех сторон, понес несчастную жертву в карету, запряженную лихими конями, ожидавшую у крыльца. Как ни каркали ему вслед вороны зловещие угрозы, как ни заклинали его оставить у них «одержимую бесом» грешницу, он высовывал голову из экипажа для того только, чтобы приказывать кучеру гнать лошадей скорее прочь от рокового убежища, где от большого усердия чуть было не доконали до смерти его сокровище.
Припоминая эту бешеную скачку и последовавшие затем события, приезд на хутор среди непроходимых лесов и разговор с Джулковским, которому она поклялась повиноваться до конца жизни, под одним условием, что он забудет, что был когда-то ее мужем, она взывала к возлюбленному так страстно, точно он перед нею и слышит ее:
«Владимир, Владимир! Ты знаешь, что осталась верна тебе, что радовалась мукам за тебя! Ты знаешь, что мне стоило бы только притвориться, что я разлюбила тебя, чтобы воспользоваться всем, к чему все стремятся и считают счастьем: почетом, деньгами, свободой! И ты знаешь, что я обрекла себя на истязания для того только, чтобы повторять, что люблю тебя и всегда буду любить. Ведь у меня ни разу не шевельнулась в сердце жалость к моему мучителю, и я радовалась каждому его вздоху, каждой слезе, глядя, как он на моих глазах изнемогает от ревности и любви. Ты знаешь, что в продолжение многих-многих лет у меня не было другой отрады, как мучить его ненавистью и презрением? Жить одной только местью, без надежды на свидание с тем, за кого мстишь, ничего про него не зная — это ужаснее всего на свете! Это растлевает душу!»
Много лет провела она под гнетом этого чувства, мучаясь сама и терзая других. И вдруг случилось нечто за тысячи верст от того места, где она влачила жалкое существование озлобленной отшельницы, и это таинственное нечто в одно мгновение изменило все ее внутреннее существо, целительным бальзамом разлилось по ее наболевшему сердцу, разбудило в ней сострадание и нежность, вызвало на ее глаза слезы любви и прощения. Всем своим существом поняла она, что ее милый не страдалец больше, и приказывает ей всем простить и примириться с Богом и с людьми. То, чего она жаждала столько лет, свершилось: он, ее возлюбленный, был возле нее и указывал ей на небо. От этого сознания таяла и расплавлялась мертвящая ледяная глыба, давившая ей сердце, и впервые, с тех пор как они расстались, упала она на колена и молилась без злобы и отчаяния, с любовью и упованием о соединении с ним.
Поднялась она с колен умиротворенная, просветленная и прошла на половину своего мужа, Дуклана Джулковского, чтобы просить его узнать, жив ли еще Грабинин.
Джулковского так поразил спокойный тон этой просьбы, что он не задумался исполнить ее, и посланный в тот же день в Киев гонец вернулся через две недели с известием о смерти воробьевского барина.
Это известие она выслушала молча, не проявляя ни испуга, ни огорчения, и только выразила желание съездить в ближайший русский город, чтобы отслужить панихиду по православному обряду по покойнику.
И к этому Джулковский отнесся не так, как могли ожидать знавшие его ревнивый нрав: он приказал запрягать лошадей в экипаж, выбрал надежных людей, чтобы сопровождать жену, и, усадив в карету, долго стоял на крыльце, глядя ей вслед затуманившимися от слез глазами, оплакивая безвозвратно загубленную жизнь трех существ, из которых, трудно было решить, который больше страдал и который больше виновен в страдании двух остальных.
Когда Джулковская вернулась, жизнь на хуторе пошла по-новому. Господа виделись чаще и мирно беседовали между собой. Как и раньше, она была задумчива и дольше прежнего молилась, но от прежней злобной мизантропии не осталось и следа; она начала интересоваться хозяйством и окружающими, входить в их нужды и печали, знакомиться с соседями и даже заниматься своим туалетом. На робко выраженное мужем желание представить ее супруге своего патрона и протектора, ясновельможной графине Потоцкой, она ответила согласием, и решено было по окончании полевых работ им вместе ехать для этого в Варшаву.
Счастливый Дуклан Джулковский уже начал находить, что осень — прекраснейшая пора человеческой жизни и что, наслаждаясь тихими и ясными ее прелестями, можно совершенно забыть знойные и бурные ураганы лета. Но не суждено ему было долго пользоваться наступившим для него спокойствием и счастьем: перед поездкой в Варшаву он заболел и умер в полной памяти, не только простив жену, но и благословляя ее за счастье, которым она дарила его в последние годы.
«Никто не знает о том, что было между нами. Я всегда слишком любил тебя, чтобы делиться с кем бы то ни было горем, которое ты причиняла мне. Ты можешь ходить, гордо подняв голову; наша тайна уйдет со мной в могилу».
Это были последние слова Джулковского, и вскоре его вдове пришлось убедиться в их справедливости: никто здесь не знал о ее несчастном увлечении в молодости москалем, и самые близкие к Дукланову люди приписывали ее продолжительное отсутствие из дома мужа таинственной болезни, которая требовала лечения в чужих краях.
Вот о чем вспоминала пани Дукланова, прохаживаясь по липовой аллее в дворцовом саду, в достопамятное утро, перед тем как ехать исполнять поручения княгини Изабеллы.
Через полчаса она, совсем одетая, села в экипаж и поехала к прелату Фасту.
Не было еще семи часов, когда ему доложили о приезде резидентки княгини Изабеллы. Он уже давно сидел за работой и приказал немедленно ввести пани Дукланову в кабинет. Произнося эти слова, он не отрывался от работы и продолжал писать даже тогда, когда дверь за его спиной растворилась и вместе с шуршанием шелковых юбок в комнату ворвалась струя духов, составлявших и в то время непременную принадлежность каждой элегантной женщины.
Пани Дукланова не побоялась нарушить занятие, в которое был погружен прелат, и, подойдя к его креслу, молча положила на стол перед ним вынутую из кармана бумагу. Прелат взял ее слегка дрожащей от волнения рукой и стал читать. Стоя за его креслом, она не могла видеть его лицо, но по его молчанию да по движению его пальцев, все крепче и крепче сжимавших бумагу, ей можно было бы догадаться о важности этого документа даже и в таком случае, если бы содержание его не было известно ей. Перечитав его раза два, прелат сложил его, сунул в один из ящиков бюро, запер особым ключом и повернул к посетительнице взволнованное лицо с искрившимися от затаенной радости глазами.
— Поблагодарите вашу пани, Дукланова. Она исполнила мое приказание лучше и скорее, чем я ожидал. Но что же вы стоите, моя пани? — поспешил он прибавить, указывая на кресло рядом с бюро. — Садитесь, расскажите мне, как все произошло и каким образом нашей княгине удалось достать этот драгоценный документ?
Дукланова передала ему все то из рассказов своей госпожи, что нашла нужным, ни словом, не обмолвившись о Грабинине и поручении, данном ей к последнему.
Прелат слушал ее с благосклонным вниманием и каждый раз милостивым движением руки просил не торопиться уезжать, когда она хотела подняться с места, чтобы дальше не беспокоить своего собеседника и не отнимать у него драгоценного времени.
— О, я уже с самого раннего утра перестаю принадлежать себе! Для работы у меня ночь. Вы сегодня не первая навещаете меня, а теперь каждую минуту надо ждать кого-нибудь. Да вот, слышите? — прибавил он с улыбкой, указывая по тому направлению, откуда раздался звонок. — Не торопитесь покидать меня, надо узнать, кто приехал.
По коридору раздались шаги, дверь приотворилась, и Беппо доложил о приходе аббата Джорджио.
— Хорошо, пусть подождет. Это — свой, — обратился прелат к гостье, когда Беппо скрылся, — мы видимся каждый день.
— Ваша всевелебность очень милостивы к этому молодому человеку, — заметила Дукланова, чтобы сказать что-нибудь.
Этим она хотела не выдать волнения, не перестававшего бушевать в ее сердце от мысли о предстоящем свидании с внуком человека, имевшего роковое значение в ее судьбе. Ей и жутко было, и в то же время хотелось приблизить и отдалить это свидание; но над всеми этими чувствами преобладало страстное желание доказать, в лице ближайшего к нему человека, свою любовь и преданность дорогому покойнику.
— Мы возлагаем большие надежды на аббата Джорджио, но только еще в будущем, — с улыбкой ответил прелат на ее замечание. — Надо надеяться, что со временем, и под нашим руководством, из этого юноши выйдет достойный сын церкви.
— Ваша всевелебность слишком опытны, чтобы отличить недостойного. Прозорливость вашей всевелебности поистине достойна изумления, и даже враги нашей святой церкви не могут не воздавать справедливости талантам, которыми Богу было угодно одарить вашу всевелебность.
Обменявшись еще несколькими любезностями, они расстались, и, благословляя ее на прощание, прелат еще раз попросил передать княгине Изабелле его благодарность за услугу, оказанную отчизне и святой церкви, а затем, приказав Беппо проводить посетительницу до экипажа, вынул привезенный ему документ, внимательно перечитал его и принялся переписывать в толстую, переплетенную в сафьян тетрадь.
Долго пришлось аббатику ждать в столовой, чтобы его пригласили к его всевелебности. Когда из кабинета раздавался звонок, он срывался со стула и с лицом, выражавшим беспредельную преданность и желание услужить, готовился предстать перед своим патроном. Но, к величайшей его досаде, его ожидания не сбывались: Беппо звали, чтобы приказать посланцу из Рима готовиться к отъезду, чтобы привести этого человека в кабинет, чтобы после долгого разговора с ним наедине узнать, готовы ли лошади, и наконец чтобы проводить его в дальний путь. Про аббата как будто совсем забыли.
Раздражение посланца графини Потоцкой с минуты на минуту возрастало. Более двух часов заставляли его ждать.
Каждый раз, когда Беппо пробегал через столовую в кабинет, аббат спрашивал у него, когда же до него дойдет очередь, и каждый раз тот отвечал, чтобы он потерпел еще немножко, что его всевелебность очень занят.
— Про меня, может быть, забыли?
— Никогда его всевелебность ничего не забывает, — обиженным тоном возразил старик, выходя из комнаты.
Его озабоченный вид, равно как и глухая возня, поднявшаяся во дворе и долетавшая сюда через растворенные окна, усиливали волнение и беспокойство аббата. Что за причина такого необычайного переполоха? Что случилось? С какими вестями прискакала так рано сюда резидентка Чарторыских? Неужели ее вести интереснее тех, что принес он из дворца Потоцких? Прелат раскается, что так медлит выслушать его…
Наконец, суета в доме и на дворе прекратилась, и по грохоту колес можно было догадаться, что таинственный посланец уехал в дальний путь.
Наконец, явился и Беппо с сияющим лицом, чтобы отправиться с докладом в кабинет.
— Проводили! И преблагополучно! Ни в переулке, ни на улицы ни души! — ответил он аббатику на полный жгучего любопытства взгляд, которым последний перехватил его на пути в кабинет, а минут через десять вернулся, чтобы сказать, что его всевелебность просит аббата пожаловать к нему.
Предвкушая торжество, аббатик гордо выпрямился, но — увы! — с первого же взгляда на прелата убедился, что гордиться ему нечем. Фаст встретил его очень сухо и как будто гневался на его докучливость, не отрывая взора от письма, дал ему понять, что может уделить ему очень мало времени и чтобы он был краток в изложении своего дела.
«А, ты вот как! — подумал, вспыхивая до ушей от досады, аббатик. — Хорошо, я буду краток… пока ты сам не попросишь у меня подробностей!» — и он просто заявил, что пани Анна прислала уведомить его всевелебность, чтобы ни ее, ни ее супруга не ждали завтра вечером у краковского кастеляна.
Прелат приостановил свое занятие и обернулся к аббатику. Но в пристальном взгляде, который он устремил на него, кроме надменного изумления, ничего нельзя было прочесть.
— Прекрасно! Но почему же ваша госпожа нашла нужным сообщить мне это? — спросил он.
— Я этого не знаю, ваша всевелебность, — ответил аббатик, окончательно сбитый с толка таким неожиданным вопросом.
«Разве прелат Фаст не считает себя больше руководителем заговора, волнующего всю польскую аристократию?» — спрашивал он себя в недоумении.
Наступило молчание. Прелат продолжал смотреть на него, и, чувствуя этот взгляд, юноша стал испытывать страх. Наконец он нерешительно произнес:
— Вчера вечером приезжал во дворец князь Репнин и около часа провел с нашей пани. Поручение к вашей всевелебности графиня дала мне после его отъезда.
— И ничего не прибавила к этому?
— Ничего. Ваша всевелебнрсть изволили, не дальше как вчера, выражать интерес к этому делу…
— К какому делу? Вы, кажется, позволяете себе приписывать мне соображения, которые я не уполномочивал вас приписывать мне, — строго заметил прелат. — Надеюсь, однако, что плодами своей развязной фантазии вы ни с кем не делились?
— Неужели ваша всевелебность считает меня способным на такую гнусность, как злоупотребление милостью ко мне?
— Нет, но вы легкомысленны и не умеете сдерживать свое воображение, а это — большой порок в нашем звании. И вы должны избавиться от него, если желаете внушать доверие. Учитесь угадывать чужие мысли, не останавливаясь над развитием собственных измышлений, особенно, когда они приятно щекочут ваше воображение. Помните, что только таким образом обретете вы умение проникать в суть вещей и избегнете того, чего ничего нет хуже на земле — злорадства врагов над вашими разочарованиями.
Аббатик все ниже и ниже опускал голову. Проницательность прелата в одно и то же время и сокрушала, и восхищала его. Вот что называется искусством читать в сердцах! А он-то, глупец, мнил себя мастером этого дела!
— Что скажете вы еще? Были в монастыре? — спросил, помолчав, прелат. — Видели настоятельницу?
— Видел. Она наотрез отказалась исполнить желание нашей ясновельможной пани. Боится возбудить против себя неудовольствие русского посла и княгини Чарторыской.
По губам прелата скользнула усмешка.
— Она — женщина умная и понимает свои обязанности. Ей прежде всего надо заботиться о спокойствии и выгодах своей обители, а Чарторыские в настоящее время могут быть полезнее, чем Потоцкие, — значит, надо снискивать их протекцию. Вы, кажется, не можете хорошо уяснить себе значение моих слов? — прибавил он, замечая недоумение слушателя.
— Позволю себе почтительнейше заметить вашей всевелебности, что пани Анна обратилась к настоятельнице с просьбой спасти Розальскую от схизматика, намеревающегося жениться на ней и для этого обратить ее в свою веру, — вымолвил аббатик.
— Советую вам больше заботиться об истреблении в своем сердце грешных мирских страстей, чем о предохранении ближних от заблуждений.
— Ваша всевелебность! Для меня важнее этого дела ничего нет на свете! Я дал обет Пречистой Деве спасти Розальскую от еретика и для этого на все готов…
— Тише, тише! Вы забываете, что отреклись от мира, вы забываете, что враг не дремлет и что любовное увлечение женщиной есть одно из могущественнейших его орудий.
— Я ненавижу Розальскую, ваша всевелебность!
— Любовь и ненависть одинаково воспрещаются святой церковью, — холодно произнес прелат. — Предоставьте Розальскую ее судьбе и не мешайте действию Провидения.
— Неужели я должен отказаться и от надзора над нею? Неужели я должен равнодушно относиться к их свиданиям? Ведь они видятся в самом дворце! У меня есть неопровержимые доказательства этого — преданная мне личность подкараулила их сегодня, и стоит только сказать ясновельможной…
— Скажите этой личности, чтобы она прекратила свое шпионство и забыла ваши приказания. Я этого требую! — повелительно возвышая голос, произнес прелат. — Забудьте о Розальской и Аратове, избегайте встреч с ними так же тщательно, как и разговоров о них. Чем меньше вы будете знать о них, тем лучше будет и для вас, и для того дела, которому вы посвятили себя. Приходите каждый день отдавать мне подробный отчет в своих мыслях и действиях. И знайте, что вы на краю гибели.
Аббатик упал, как подкошенный, на колени, и мольба о помиловании глухим воплем вырвалась у него из груди.
— Помилосердствуйте, ваша всевелебность!
— Встань! Я и так слишком много времени потерял с тобою. Отправляйся к твоей благодетельнице с докладом об исполненном поручении и скажи ей, что я посылаю ей свое благословение и молю Бога наставлять ее и впредь на путь истинный. Мимоходом завернешь в коллегию и скажешь аббату Сфортини, чтобы он пришел ко мне от обедни. Можешь предупредить его, что мне надо продиктовать ему важный документ.
Это поручение оказалось каплей, переполнившей чашу страданий аб-батика. При мысли, что Сфортини может заменить его у прелата и что сам он накликал на себя такую беду, его сердце сжалось такой болью, что слезы брызнули у него из глаз. Но, сделав над собой усилие, он довольно внятно произнес:
— Приказание вашей всевелебности будет исполнено.
Мучитель его смягчился и милостиво протянул руку, к которой аббатик стремительно прижался похолодевшими от душевного волнения губами.
В большом смятении покинул он дом, куда входил часа два тому назад в радужном настроении, с самоуверенностью человека, которого представитель главы церкви удостаивал доверием, лаской, почти дружбой. Все это оказалось миражом его воображения! То, что он принимал за дружеское расположение, было не что иное как испытание. Желали узнать, способен ли он приносить пользу делу, и результаты экзамена оказались отрицательного свойства! Ничего не сумел он ни разгадать, ни предусмотреть! Развесил, как осел, уши и проглядел самое главное. Не взял в соображение, что агенты папы действуют в этой стране, не заботясь ни о счастье ее, ни о выгоде, а исключительно об интересах Рима, и что они, не задумываясь, войдут в соглашение с злейшими врагами Речи Посполитой, если это будет нужно для их цели. Вчера прелат Фаст принимал деятельное участие в готовящейся революции, благословлял оружие, направленное против короля, воодушевлял поляков ненавистью к нему и к русским, а сегодня — очевидно, узнав что-нибудь такое, что заставило его изменить тактику — порицает то, что одобрял, и одобряет то, что порицал. Вчера он сочувствовал негодованию его, аббата Джорджио, при мысли о браке Розальской с москалем, а сегодня готов способствовать этому браку.
Впрочем, ведь «цель оправдывает средства». Нечему тут изумляться! Надо негодовать на себя за недостаток проницательности и осторожности, вовлекшей его в заблуждение. Впредь этого не повторится, и он докажет своему покровителю, что урок его не прошел даром.
А пани Дукланова тем временем подъезжала к тому дому в Уяздове, где жил Грабинин со своей подругой.
Этот дом, высокий и узкий, прятался за высокими деревьями большого сада, и с грязной улицы виднелась одна только верхушка его остроконечной крыши. Чтобы найти его, надо было останавливать прохожих и спрашивать у них, где тут дом Сарры Гольденблум. Когда его указали, пани Дукланова велела гайдуку остановиться, вышла из кареты и, приказав слугам отъехать с экипажем в соседний переулок, отправилась одна пешком к указанному жилищу.
Тут она нашла уже настоящую деревню: о мостовой не было и помина, и дети с домашними животными преспокойно владели всем пространством между заборами, с перевешивающимися через них ветвями деревьев, все больше фруктовых, составляющих главный доход обитателей этого уголка.
Поравнявшись с забором, за которым высилась указанная ей крыша, Дукланова спросила у одного из ребятишек, как ей попасть к Сарре Гольденблум.
— Вон там ворота промеж кустов! Толкните калитку и войдите, но берегитесь, чтобы псы вас не растерзали, — заявил мальчуган, протягивая грязную ручонку по указанному направлению, и, зажав в кулак монету, которую ему подали, побежал к калитке, толкнул ее, а затем, что есть мочи, закричал: — Тетка Сарра, тебя пани спрашивает! Богатая! В карете с гайдуком приехала… графиня! Придержи собак, чтобы не разорвали ее!
Предупреждение оказалось далеко не лишним: собаки, почуяв приближение незнакомки, залились таким неистовым лаем, что несколько минут не слышно было громкого, сопровождаемого угрозами, цыканья, которым пытались унять их.
Через полурастворенную калитку пани Дукланова увидела обширный двор с прогуливающимися по нему курами и утками, а в самой глубине — крыльцо с крутыми каменными ступенями, ведущими в дом. Ее сердце забилось так сильно, что на мгновение свет померк в ее глазах, и она оперлась о забор, чтобы не упасть.
— Не бойся, собаки у нее на привязи, надо только в их сторону не сворачивать, — нашел нужным успокоить ее мальчик, понявший по-своему ее волнение. — Тетка Сарра сама проведет тебя, с нею не страшно.
Действительно старая безобразная еврейка, заставив собак спрятаться по конурам, торопливо шла к посетительнице.
— Вам кого надо? — спросила она, подозрительно оглядывая ее с ног до головы и постепенно смягчаясь при виде изящного и богатого наряда незнакомки.
— У вас тут русские люди живут, мне надо с ними повидаться.
— Вот что! Не знаю, захотят ли они принять вас. Знакомых у них в здешнем городе нет.
— Скажите им, что я приехала от князя Репнина. Но не бойтесь, я от него с хорошими вестями.
— Для меня было бы лучше всего, если бы к ним сюда не шатались ни с добрыми, ни с дурными вестями и чтобы полиция освободила меня от таких жильцов, за которыми я должна следить и к которым русский посол посылает шпионов, — сердито проворчала Сарра.
— Чтобы ваше желание скорее осуществилось, мне надо повидаться с ними, — заявила Дукланова.
— Я ничего не имела бы против того, чтобы они у меня хоть десять лет прожили, — продолжала Сарра, решаясь наконец ввести незнакомку во двор и приглашая ее следовать за собою к дому. — В первое время, кроме выгоды и удовольствия, мы ничего от них не видели, но с прошлой недели, как пошли сыски да розыски о них, сами можете понять, моя пани, как нам это неприятно. Страна здесь бесправная, законов никто из богатых людей не соблюдает. Долго ли засадить ни за что ни про что человека в тюрьму, да и забыть его там, как забыли зятя моего Левенштерна за то, что они не захотели отдать векселя графа Ржевусского и Браницкого…
— Дома они теперь?
— Где же им быть, если не дома? Третий день бояться выходить на улицу. Должно быть, хороших дел понаделали на родине, если тайной полиции предписано следить за ними, — не переставала ворчать сквозь зубы Сарра, поднимаясь к входной двери и растворяя ее перед гостьей. — Идите! — прибавила она, указывая на деревянную лестницу, видневшуюся в глубине сеней.
Дукланова последовала совету и стала подниматься по скрипучим ступеням.
Не успела она дойти до конца, как раздался голос с верхней площадки, и такой знакомый, что от волнения у нее дыхание перехватило в груди.
— Да говорите же, кто вы? — повторил свой вопрос Владимир Михайлович.
— Як вам от князя Репнина, — с усилием произнесла Дукланова, поднимая взор на молодое лицо, смотревшее на нее с верхней площадки со страхом и любопытством.
Грабинин так был похож на ее возлюбленного юных лет, что смущение Дуклановой усилилось, и имя князя совершенно бессознательно сорвалось с ее языка. Но оно произвело магическое действие: испуг и недоверие сменились радостью, и, с вежливым поклоном приветствуя посланницу князя, Владимир Михайлович поспешил обернуться к растворенной двери в комнату, чтобы успокоить свою подругу.
— Это от князя Николая Васильевича, Аленушка, не бойся! — произнес он, возвышая голос, и, снова повернувшись к посетительнице, попросил ее войти.
В покое, скудно обставленном грубой мебелью, было весело и оживленно. Окна были заставлены душистыми цветущими растениями и увешены клетками с весело щебетавшими птичками, а на пороге соседней горницы стояла такая красавица, что одно ее присутствие скрасило бы самое убогое жилище.
— Я знал, что князь не забудет о нас; он — такой добрый, и я по глазам его видел, что он принимает в нас участие, — сказал Грабинин, немного озадаченный молчанием незнакомки, с восторженным умилением смотревшей на него. — Вот моя Елена Васильевна, — продолжал он, взяв свою подругу за руку и подводя ее к посетительнице.
Дукланова, будучи не в силах произнести ни слова от волнения, молча обняла молодую женщину.
— Вас князь прислал к нам с поручением? — решился спросить Грабинин, недоумевая перед взглядом этой женщины, к которой он чувствовал непонятное влечение.
— Князь просит вас отпустить ко мне Елену Васильевну, — вымолвила она. — Ей здесь оставаться дольше небезопасно.
На лице златокудрой красавицы выразился испуг, и она, точно ища защиты, прижалась к своему другу.
— Князь обещал не разлучать нас! — воскликнул Грабинин.
— Князь и не думает разлучать. Если Елена Васильевна будет у меня, вам можно будет навещать ее, сколько вам будет угодно. Князь находит, что после того как тайной полиции стало известно ваше местожительство, оставаться здесь вам небезопасно, и предложил мне приютить у себя Елену Васильевну на время, пока он не найдет вам надлежащего убежища. Сами же вы его просили об этом.
Дуклановой удалось овладеть собой, и она говорила не только спокойно, но и со свойственным ей чувством собственного достоинства, внушавшим всем, кто ее видел, уважение. Но вспугнутые голубки продолжали относиться недоверчиво к ее словам.
— Мы вас, сударыня, совершенно не знаем, — заметил Грабинин, переглянувшись со своей подругой.
— А я хорошо знаю вас, Владимир Михайлович!
Второй раз произнесла его имя Дукланова с особенным ударением, и, глядя на нее, он не мог отделаться от смутного сознания, что и он тоже знает ее, хотя и не мог припомнить, где видел ее.
— Где же вы видели меня? — наконец спросил он.
— Вас я не видела, но вы — внук того человека, который и мертвый мне дороже все живых людей на земле. Вы так похожи на него, что когда я гляжу на вас, мне кажется, что он воскрес и стоит предо мною, как живой. Я — Джулковская, — прибавила она со слезами на глазах, пристально и любовно устремленных на Грабинина.
Он понял причину странного влечения, которое чувствовал к ней, и, молча взяв ее руку, почтительно поцеловал ее.
Когда он поднял голову, на его лице не оставалось и следа страха и недоверия: эта женщина сделалась ему так близка, что он, не колеблясь, доверил бы ей не только самого себя, но также и ту, которая была ему дороже жизни.
Не прошло и получаса, как карета, ждавшая в соседнем переулке, ехала назад во дворец Чарторыских, увозя Дукланову с Еленой Васильевной Аратовой.
XXX
Прошло несколько дней, но в это короткое время случилось в городе столько нового, что одному человеку не хватило бы и недели, чтобы рассказать подробно эти происшествия, с изложением их причин и последствий.
Из особенно выдающихся событий, совершившихся въявь, не по побуждениям, остававшимся тайной даже и для самих актеров великой трагикомедии, разыгравшейся в Речи Посполитой, весьма волновали общественное мнение сближение Карла Радзивилла с королем и примирение последнего с Чарторыскими. Король ужинал с ним у «пана Коханку», князь Адам Чарторыский сделал визит своему коронованному племяннику, а его супруга приняла приглашение на праздник, которым счастливый венценосец решил ознаменовать такое счастливое событие, как примирение с вождями враждебной ему партии. Обещала украсить этот праздник своим присутствием и красавица Изабелла, а муж ее прокутил всю ночь в Лазенках и так напился пьян за ужином, что его в бесчувственном состоянии доставили во дворец. Одним словом, по всем признакам, примирение можно было считать состоявшимся.
Ближе посвященные в тайные пружины сложной и хитрой машины чужеземного происхождения, приводившей в движение страсти руководителей польской политики, передавали друг другу о возрастающем влияния прелата Фаста, об огромной услуге, оказанной им королю своевременным открытием намерений русского двора для поддержания его на престоле, о том, что графиня Анна Потоцкая выбрала его руководителем своей совести и что он теперь такой же частый гость во дворце киевского воеводы, каким был и остался во дворце княгини Изабеллы. Ко всему этому с изумлением прибавляли подробности о визите прелату Фасту архиепископа Подосского, о встрече во дворце последнего агента римской курии с русским послом и о продолжительном разговоре между этими двумя представителями враждебных лагерей католичества и православия.
Да и мало ли что говорили! Уверяли, например, будто король уже успел воспользоваться настроением своих бывших недругов, чтобы замолвить графине Анне Потоцкой словечко за своего фаворита Аратова, и так красноречиво доказывал ей все выгоды для страны от брака умного и ловкого москаля с пани Розальской, что графиня будто бы стала поддаваться на эти резоны и просила только дать ей время убедиться, что не Аратов заставит Розальскую изменить католической вере, а Розальская заставит его перейти в лоно католичества.
Но самой животрепещущей злобой дня все же оставалась таинственная красавица, заинтересовавшая короля на прошлой неделе в Лазенковском парке. Теперь она, неизвестно какими судьбами, попала во дворец князя Казимира Адама Чарторыского и продолжала так страстно занимать общество, что все прочие новости и сплетни бледнели перед желанием узнать, кто она такая, и увенчается ли успехом желание его величество познакомиться с нею поближе.
Что побуждает бывшую возлюбленную короля покровительствовать этой личности и окружать ее заманчивой таинственностью и какого рода выгоду надеется она извлечь из этой хитросплетенной интриги, — никто даже и представит себе не мог, но это не мешало предаваться предположениям самого фантастического свойства во всех домах и дворцах Варшавы. Немалая доля этих предположений выпала на счет русского посла, которому досужие умы не прочь были приписывать всюду коварное влияние на судьбы страны. Находились и такие, которые усматривали в таинственной незнакомке орудие берлинского или венского двора и даже Рима. Так или иначе, но все сходилось на одном: что ей суждено заменить всех женщин, царивших в Лазенковском дворце. И можно себе представить, в каком волнении находились эти красавицы и их семьи, строившие блестящие планы на их фаворе как и для себя лично, так и для политических переворотов в стране!
Когда разнесся слух, что княгиня Изабелла, уступая просьбам короля, обещала привести свою гостью на праздник в Лазенки, всеобщее желание быть на этом празднике возрастало до апогея, и на него стали собираться такие древние старушки, которые несколько десятков лет не выезжали из своих замков; из любопытства убедиться собственными глазами, не преувеличены ли толки о красоте незнакомки, почтенные бабушки и прабабушки помолодели и стали заказывать себе к торжественному дню наряды один пышнее другого.
— А вы что скажете про эту незнакомку? — обратился король к Аратову.
День клонился к вечеру, солнце закатилось за деревья, и в прощальных его лучах цветы в клумбах дышали ароматами, подставляя пестрые головки под легкий ветерок, качавший верхушками кудрявых лип и каштанов.
Ветерок приятно освежал не одни только цветы в Лазенковском парке, а также и разгоряченные вином головы блестящей компании, расположившейся на одной из террас летней резиденции короля. В числе этих интимных друзей его величества находился и Аратов. Но он в общей беседе участия не принимал и, удалившись в противоположный конец террасы, сидя на ступеньках мраморной широкой лестницы, спускавшейся в цветник, рассеянно слушал щебетание двух фей из сонма тех, что ютились в роскошных гнездышках, окружавших со всех сторон летнюю резиденцию монарха.
Чтобы ответить на вопрос, предложенный ему королем, Дмитрий Степанович не без сожаления оставил своих собеседников и подошел к группе, окружавшей Станислава Августа.
— Я думаю то, что все думают, ваше величество, — небрежно произнес он, мельком глянув на молодых магнатов, отступивших при его приближении, окидывая его с ног до головы взглядами, выражавшими плохо скрываемое презрение.
— Что же именно? — спросил король.
— Это мистификация, — ответил Аратов.
— Почему мистификация? — И его величество пригласил Дмитрия Степановича занять место поближе к нему.
— И кто же осмеливается мистифицировать его величество? — подхватил один из присутствующих.
— О, особа, придумавшая эту мистификацию, очень смела и так мало боится короля, что сам король ее боится!
— Ну, называть ее вам нечего, мы знаем, на кого вы намекаете, — весело заметил король. — Действительно, в нашем государстве есть дама, которой я боюсь гораздо больше, чем она меня! Но в чем же состоит ее мистификация, и почему вы полагаете, что она направлена именно против нас.
— Потому что ваше величество не дали себе труда скрывать свое восхищение таинственной незнакомкой, встреченной в этом парке.
— Вы, значит, все еще держитесь того мнения, что эта незнакомка и приятельница княгини Изабеллы — одна и та же личность?
— Кто же в этом сомневается, ваше величество?
— Однако княгиня Изабелла в этом не сознается.
— А разве ваше величество спрашивали ее об этом?
— Нет, но… я тут еще не вижу мистификации.
— Как же назвать таинственность, которой ее окружает княгиня, чтобы возбудить всеобщее любопытство, а в особенности, любопытство вашего величества? Я называю это мистификацией и нахожу, что она удалась ей. Наверное, ваше величество давно забыли бы ту женщину, если бы встреча с нею не была обставлена так загадочно и если бы она вдруг не перелетела из дома в Уяздове в роскошный чертог князя Чар-торыского…
— Как ведьма на помеле, — подхватил один из присутствующих.
— Граф предвосхитил мою мысль, я именно это и хотел сказать, — продолжал Аратов. — И в данном случае княгиня Изабелла очень искусно сыграла роль ведьмы. Какое самоотвержение! — прибавил он насмешливо. — Правда, ей не в первый раз представляться не тем, что она есть на самом деле; за границей она разъезжала в мужском платье и кружила головы всем встречавшимся ей на пути женщинам. Кто знает, нам, может быть, суждено видеть ее и в других еще ролях — актриса она гениальная.
— Однако сейчас видно, что вы не успели в том, что ей удалось, любезный друг, — заметил король, — и не можете простить ей это.
— Трудно тягаться с ведьмами, ваше величество.
— Особенно, когда они молоды и обаятельны. Но не все женщины — ведьмы.
— Все, ваше величество, точно так же, как все ведьмы — женщины, — с комичною серьезностью заявил Аратов.
— Вы сегодня к дамам очень неблагосклонны. Хорошо, что пани Розальская вас не слышит!
— О, ваше величество, она не принадлежит к тем, которые не любят правды!
— Ну, вы в таком упорном настроении, что вас ничем не убедишь. Лучше с вами не разговаривать. Пойдемте играть, господа, — продолжал король, поднимаясь с места. — Чем теряться в догадках относительно незнакомки, подождем до завтра, — когда нам можно будет воочию убедиться, так ли она хороша, как показалась мне при первом свидании. А пока за мною реванш, Браницкий, и если вы думаете, что есть такая красавица на земном шаре, которая может заставить меня забыть, что я вам вчера проиграл двадцать тысяч золотых… А вы что же, Аратов? Ведь и вам тоже не мешает отыграться, — повернулся он к Дмитрию Степановичу, который, вместо того чтобы присоединиться к обществу, направлявшемуся в покои, засматривался на тени, сгущавшиеся в парке.
— Прошу у вашего величества позволения прийти минут через двадцать. У меня приехавший из деревни человек возвращается сегодня ночью обратно, и я должен отправить с ним письмо прабабке, — ответил Аратов.
— Хорошо, хорошо, справляйте ваши дела и приходите к нам скорее. Без вас скучно.
Король скрылся со своими приятелями за широко растворенной дверью в ярко освещенные комнаты, и вскоре из окон, выходивших в сад, доносились оживленный разговор, громкий смех и страстные споры усевшегося за карты общества.
Дмитрий Степанович торопливо прошел к маленькому павильону, отданному в его распоряжение на летние месяцы королем, который так привязался к нему, что дня не мог без него прожить и поверял ему все свои сердечные тайны.
Помещение состояло из трех комнат, спальни, кабинета и покойчика для Езебуша, продолжавшего и здесь так же верно охранять интересы своего барина, как и раньше в Малявине, где он беспрекословно исполнял хозяйские приказания самого щекотливого свойства и не задумывался ни перед опасностью, которой он подвергался, ни перед затруднениями.
У Дмитрия Степановича было свое хозяйство в доме, нанятом им в лучшей части города, держал он и лошадей, и экипажи, и приличный штат прислуги, а также прекрасного повара. Король не раз ужинал у него после ночных экскурсий к продажным прелестницам, до которых был так же падок, как и до красавиц лучших фамилий и до авантюристок-иностранок, наезжавших сюда из-за границы, чтобы попользоваться щедротами коронованного донжуана, прославившегося по всей Европе своей слабостью к женскому полу. Станислав Август не мог не понимать, что Аратов приносит для него немалую жертву, теснясь в скромном павильоне, чтобы доставить ему удовольствие, и был благодарен ему за это, тем более что не подозревал, какой ценой намереваются заставить его заплатить за эту жертву. Дмитрий Степанович был такого мнения, что лучше рискнуть ничего не получить, чем получить мало, и так упорно отказывался от богатых подарков, на которые король был чрезвычайно щедр к своим приближенным обоего пола, что с каждым днем его долг москалю увеличивался.
— Я у вас в неоплатном долгу, Аратов, — сказал он ему однажды со смехом.
— Правда, ваше величество, и я, может быть, скоро предъявлю вам счет к уплате, — заметил на эту шутку далеко не шутливо Дмитрий Степанович.
Он знал, что король ни в чем отказать ему не может, и, по-видимому, эта уверенность должна была бы действовать на него успокоительно. А между тем его тревога со дня на день усиливалась. Почему? Ответа на этот вопрос не находилось.
А между тем его дела устраивались как нельзя лучше, и даже процесса с киевским воеводой из-за состояния Юльянии не предвиделось, с тех пор как король вызвался быть сватом своего любимца. Не дальше как сегодня утром, он показывал Аратову письмо графа Салезия с обещанием повлиять на свою супругу для скорейшей развязки любовного романа между их воспитанницей и фаворитом его величества.
В тот же самый день, когда Дмитрий Степанович зашел к себе переодеться к обеду, Езебуш сообщил ему о намерении пани Розальской навестить его вечером, когда стемнеет. С этим известием приходила Цецилия и рассказала, между прочим, что ее госпожа в большом расстройстве и что ей крайне нужно как можно скорее повидаться со своим женихом.
Не в первый раз виделись влюбленные в Лазенках, с тех пор как, уступая настойчивым просьбам короля, Аратов переселился сюда. Новое место свиданий оказалось несравненно безопаснее прежних; здесь никто не мог проследить, настичь и выдать. В королевский дворец, охраняемый военной стражей и агентами тайной полиции, посторонним трудно было проникнуть. Но слуга Аратова пользовался здесь такими же привилегиями, как и его господин, и ему было достаточно сказать смотрителю дворца, что к нему будут время от времени приходить сестра с дочерью, чтобы одетые простолюдинками Розальская и Цецилия могли беспрепятственно проходить в ворота сада, в глубине которого находился павильон нового любимца короля, и проводить тут столько времени, сколько им хотелось. Назад к воротам их всегда провожал Езебуш, одно присутствие которого ограждало их от чересчур любопытных глаз.
Дмитрий Степанович нашел свою возлюбленную в печали и отчаянии. Кинувшись к нему на шею и прерывая свою речь поцелуями, она упрекала его в том, что он заставляет по целым дням ждать мимолетных свиданий с ним, оставляя ее в тяжелой неизвестности, и что у нее нет больше сил переносить неопределенное положение, в которое он ставит ее своей нерешительностью.
— Да, да, от тебя зависит наше счастье, ни от кого больше, — воскликнула она, от волнения не замечая зловещего блеска его взгляда. — Что ты медлишь? Вместо того чтобы, пользуясь благоприятными обстоятельствами, обвенчаться со мною, пока ты нужен королю и пока всем нужно быть с ним в ладу и согласии, ты откладываешь блаженную минуту, когда я буду принадлежать тебе вполне и когда тебе можно будет явно защищать меня от нападок, обид и мук! Чего же ты ждешь? Чтобы король влюбился в ту женщину, которую подставляют ему Чар-торыские, чтобы подорвать твое влияние на него?
— Откуда у тебя такие сведения об этой женщине? — спросил Аратов, угрюмо и подозрительно глядя на нее.
— Всем это известно, один только ты не хочешь видеть то, что всем кидается в глаза. Комедия, придуманная Изабеллой, так груба, что никого не может обмануть. А Чарторыские без цели беспокоиться и тратиться не станут. Им нужна личность из их лагеря, которая держала бы короля в своих руках и вместе с тем зависела бы от них. Сегодня я слышала это от Оссолинской, вчера — от Мнишек, а теперь у нас княгиня Любомирская, и я готова поручиться, что разговор идет об этой женщине и о том, что пока при короле ближайшим человеком москаль Аратов — патриотам на полезные реформы в стране надеяться нечего. Они все на тебя сваливают — все свои ошибки, все неудачи! Тебя уже смешивают с русским послом и приписывают тебе то, что, кроме Репнина, никто не может сделать.
— Весьма польщен такою великой честью, — сквозь зубы и со злой усмешкой заметил Аратов.
— Ах, не шути этим, ради Бога! Меня убивает мысль, что ты окружен врагами, что твоя жизнь в опасности, и что я не только ничего не могу сделать для тебя, но еще усиливаю опасность своей любовью! Я просто с ума схожу от отчаяния! Как мне убедить тебя, что нам надо бежать отсюда как можно скорее, что за каждую потерянную минуту мы можем поплатиться страшными бедами? Как мне убедить тебя, что, когда мы будем обвенчаны, нашему графу ничего больше не останется, как примириться с совершившимся фактом? Что же ты молчишь? Разве я не права, разве не правда, что в настоящее время никто не пойдет против короля, с которым только что примирились и которому все наперерыв стараются доказать преданность, чтобы изгладить из его сердца подозрение? И разве тебе самому не тяжело жить далеко от меня, видеться со мной только украдкой, как с любовницей, которой ты стыдишься? Скажи же хоть слово! Ты видишь, как я жду этого слова! — Не выпуская Аратова из своих объятий, Юльяния любовно заглядывала ему в глаза, с замиранием сердца ища в них ответа на свои мольбы, но, кроме мрачной думы, ничего не могла прочесть на его лице. — Что же ты намерен делать? На что мне надеяться? Чего ждать? Знаешь ли, какие страшные мысли начинают осаждать меня? Мне иногда кажется, что ты разлюбил меня, что я тебе в тягость… что ты раскаиваешься в жертвах, которые принес для меня, — продолжала она с возрастающим исступлением. — Мне кажется, что тебя мучит преступление, на которое ты решился для меня…
При этих словах глаза Аратова сверкнули таким странным блеском, что голос Розальской оборвался на полуслове. Он хотел что-то сказать, но его губы только беззвучно зашевелились, ни единого звука с них не сорвалось. И он был так ужасен в своем бессилии выразить смертельную муку, наполнившую его душу, что Юльяния закрыла лицо руками, чтобы не видеть его лица.
— Я без тебя жить не могу, — вымолвил он наконец с усилием, — и докажу тебе это, — прибавил он, помолчав и поднимаясь с места.
Молча последовала Розальская его примеру и впервые, с тех пор как они стали видеться наедине, не просила продолжить свидание. Безропотно приняв его прощальный поцелуй, она вернулась одна в комнату, проводив его до входной двери, а через несколько минут, когда он скрылся из вида в темной аллее, ведущей к дворцу, пустилась в обратный путь со своей верной Цецилией.
У графини Потоцкой были гости, и от слуг, попадавшихся навстречу, когда она проходила в свои комнаты, Юльяния узнала, что о ней не спрашивали и что отсутствие ее не было замечено, а от ближайших резиденток, выходивших из гостиной, где пани Анна беседовала с гостями, она услышала, что там только и речи, что о завтрашнем празднике в Лазенках.
Последнее слово оживило жгучую боль сердца Юльянии, и она поспешила запереться в своей спальне, чтобы не разрыдаться при свидетелях.
Зачем ходила она к Аратову? Давно уже не слышит она от него слова утешения и после каждого свидания возвращается домой в удрученном настроении. И все-таки ее тянет к нему, и вдали от него она только о том и думает, чтобы опять увидеться с ним. Опасность и неизвестность только усиливают ее любовь, и это чувство становится все требовательнее. Уверенность в любви Аратова уже больше не удовлетворяет ее; она жаждет не одних только его ласк; ей нужно знать его мысли, надежды и опасения. Почему он так изменился в последнее время? Что его мучит? О чем он даже в ее присутствии задумывается так глубоко, что забывает все на свете, не видит и не слышит ее, точно ее тут нет? В эти минуты она не может не сознавать, что она ему в тягость и ничем не может облегчить его страдания. И тогда она не может не вспоминать о страшной тайне, под впечатлением которой она приехала из деревни в Варшаву. Правда, это впечатление быстро рассеялось при первом свидании с Аратовым. Но недолго была она счастлива, недолго с восторгом мечтала о будущем; не успела она еще привыкнуть к своему новому положению невесты любимого человека, как сомнения стали омрачать ее душу, словно зловещие тучи, предвещающие грозу и бурю, — ясное небо.
Разумеется, подал повод к сомнениям и злым предчувствиям сам Аратов. Он сделался молчалив и мрачен, рассеян, придирчив, несправедлив и жесток, но долго еще пересиливал себя и порывами страстной нежности заставлял ее забывать причиненные ей страдания, Однако в последнее время она даже и таких кратких минут счастья с ним не имела, и ему с каждым разом становится все труднее сдерживать досаду и раздражение в ее присутствии. Даже слова любви принимали в его устах такой странный, загадочный смысл, что ей жутко было вспомнить их. Что хотел он сказать ей сегодня словами: «Я не могу без тебя жить и докажу тебе это»? Неужели он решился на новое преступление?
Между тем игра была в полном разгаре, когда Аратов вошел в зал, где шла обычная забава, часто стоившая целого состояния предававшимся ей игрокам. На столе кучи золота сверкали в огнях зажженных свечей, и на всех лицах выражалось напряженное ожидание: страх потерять выигранное и надежда вернуть проигранное. Один только король естественно и добродушно улыбался более и менее шумным проявлениям разгоряченных страстей и по временам, позевывая, оглядывался на дверь, точно кого-то поджидая.
— Ни минуты не может прожить без москаля! — заметил своему соседу вполголоса Браницкий.
— Да, этот черт будет поопаснее десяти женщин из самых заядлых интриганок.
— Хороши и мы! — Жалуемся на этого проходимца, как девчонки на злую гувернантку, и до сих пор никто ему физиономии не попортил.
— Все в свое время, все в свое время. Я слышал, что…
— Тсс! Идет!
В дверях появилась изящная фигура Дмитрия Степановича, и скучающее лицо короля оживилось. Повернувшись к вошедшему, он приветствовал его веселым возгласом:
— Аратов! Наконец-то! Долго же вы писали письмо вашей прабабке! Я уже собирался послать посмотреть, что вы делаете, и напомнить вам, что мы вас ждем.
— Жаль, что ваше величество не прибегли к этому способу, чтобы узнать тайну господина Аратова, — заметил Сапега.
— Пари держу, что тут женщина! — воскликнул Браницкий.
— Вы не ошиблись, граф: меня задержала женщина, — спокойно заявил Аратов, опускаясь на место возле короля. — Имени ее я не скажу, — произнес он, вызывающе глянув на Браницкого, причем его лицо было бледнее обыкновенного и выражало утомление, а глаза сверкали лихорадочным блеском.
— Никто вас об этом и не спрашивает, — задорно возразил за своего приятеля Сапега.
— Да если бы вы и спросили, то я не сказал бы вам, — и, повернувшись к королю, Аратов внезапно изменившимся тоном почтительно попросил позволения поставить карту.
Обрадованный диверсией король поспешил придвинуть к нему карты, и игра продолжалась молча, прерываемая только возгласами, относящимися к ней.
Аратов выиграл. Но его угрюмость от этого не рассеивалась; он ни на кого не поднимал взора, и по временам странная улыбка кривила его губы. Всем было не по себе, и ожидание неприятности мало-помалу начинало овладевать умами.
Чтобы нарушить натянутые отношения, король велел подать вина и, подняв кубок, предложил выпить за царицу завтрашнего праздника.
Кубки были дружно опорожнены, и языки развязались. Полились шутки и веселые рассказы, вертевшиеся, впрочем, на одном и том же предмете: на таинственной красавице, которая должна была вступить в свет под эгидой княгини Изабеллы. Молчал один Аратов. Вдруг он поднялся и, подняв кубок, торжественно провозгласил:
— Предлагаю выпить за здоровье ее мужа!
— Какого мужа? — спросил один из присутствующих.
— Откуда вы знаете, что у нее есть муж? — подхватил другой.
— За здоровье ее мужа! — громче прежнего повторил Аратов и, налив себе еще вина, снова осушил кубок одним залпом до дна, а затем обратился к королю: — Я пью за то, чтобы этот муж не испортил нашего завтрашнего праздника своим появлением! Разве вашему величеству не угодно присоединиться к моему тосту?
— Я всегда готов составить вам компанию, Аратов, но не тогда, когда вы выдумываете нелепости, — ответил король, с любопытством глядя на своего любимца. — Согласитесь, что вы совершенно некстати вызываете этот призрак из таинственной тьмы, в которой он, к величайшему нашему удовольствию, скрывается и, надо надеяться, вечно будет скрываться.
— Вечного на земле ничего нет, ваше величество! Давно ли он был здесь, в вашем парке? Почему ему опять не явиться? Вы, государь, забыли о нем. И это понятно: вы не искали его по всему городу и по окрестностям, как я, не досадовали, что не можете напасть на его след и встретить его с оружием в руках. Но уверяю вас, что на моем месте вы не забыли бы его и ждали бы его появления каждую минуту. Впрочем, — продолжал он, наливая себе вина, — очень может быть, что особенно опасаться его появления нечего; он, может быть, — покладистый муж, его можно будет подкупить деньгами, почестями или напугать тюрьмой, пыткой, казнью… Мужья бывают разные, — небрежно прибавил Аратов, протягивая пустой кубок стоявшему за его стулом дворскому юноше, и тот поспешил наполнить его вином.
Никогда еще Аратов не пил так много, и ни разу не видели его в таком возбужденном настроении. Вино действовало на него не так, как на других: говорил он резко и внятно, взгляд не затуманивался, а прояснялся под влиянием воскресающих в памяти впечатлений. Все меньше и меньше обращал он внимания на окружающих и наконец погрузился в глубокую думу.
А между тем затронутая им тема об обманутых мужьях возбудила споры и рассказы. Каждому из присутствующих навертывались на память и просились на язык смешные, печальные и страшные эпизоды из скандальной хроники Польши.
— Есть такие мужья, которые сами привозили своих жен к любовникам.
— Еще бы! За примерами ходить недалеко.
— Господа! господа! Помните, что nomina sunt odiosa! [16] — прервал король увлекшегося рассказчика.
Посыпались наперерыв анекдоты в этом направлении.
— Но не все мужья — философы; есть и такие, которые убивают на месте преступления и неверную жену, и ее друга, — заметил один из гостей.
— И это называется действовать по-польски! — воскликнул другой.
— Так поступали деды. Они ценили честь не по-нашему, — заметил третий.
— Да и женщины были тогда другие, и с ними было несравненно легче справляться, чем теперь. Жили дома, скромно, в чужие края не ездили, денег у всех было много…
— А монастыри поддерживали родительскую и мужнину власть.
— Засади-ка теперь которую-нибудь из наших пани или панн в монастырь… например, княгиню Изабеллу или Любомирскую…
Это предложение так рассмешило всех, что несколько минут, кроме громкого раскатистого хохота да звона кубков, ничего не было слышно в зале. Все перепились и, не слушая друг друга, прерывали смех, чтобы болтать, что взбредет в отуманенную голову. По знаку дворцового маршала, не перестававшего заглядывать в дверь, вся прислуга покинула комнату, за исключением ближайшего к королю камердинера-француза, сидевшего за высоким буфетом, чтобы быть готовым явиться на первый зов господина.
О Дмитрии Степановиче все забыли, кроме короля; последний с любопытством следил за своим другом в ожидании какой-нибудь забавной выходки, на которые москаль был большой искусник. Но, казалось, на этот раз Аратов не был расположен к остроумию; его бледное лицо было сурово, черты вытянуты и неподвижны, как у мертвеца, и одни только глаза жили сосредоточенной, глубокой внутренней жизнью. Облокотившись на стол среди кубков, бутылок, карт и высоких бронзовых канделябров, упершись подбородком на ладони, он глядел перед собою пристальным взглядом, ничего не видя и, по-видимому, совершенно потеряв сознание времени и пространства.
«Напился до столбняка, точно мертвый!» — подумал король.
И вдруг «мертвец» ожил при слове «монастырь», произнесенном заплетающимся языком пьяного соседа, и, вздрогнув, произнес с обычной саркастической усмешкой, как бы про себя:
— Убить… запереть в монастырь… только и знают! Как все это старо и пошло!
— Вы знаете средство оригинальнее и умнее? — спросил король, обрадованный пробуждению любимого собеседника.
— Разумеется! Похоронить обоих — вот и все, очень просто, — ответил Аратов, обводя окружающих вызывающим взглядом.
Однако все были так пьяны, что для них не стоило тратить слов, и, презрительно усмехнувшись, он повернулся к королю как к единственному достойному поддержать с ним беседу.
— Но, чтобы похоронить, надо сначала убить, — заметил тот.
— Можно похоронить и живых людей, — заявил Аратов.
— Как же это? Я вас не понимаю.
— А вашему величеству интересно было бы знать это? Извольте! Я, пожалуй, удовлетворю любопытство вашего величества. До сегодняшнего дня мне казалось невозможным выдать мою тайну кому бы то ни было, но вышло иначе. Почему — не спрашивайте лучше, я сам этого не знаю. Мы многого не знаем, ваше величество, а меньше всего — самих себя. Какую я, однако, сказал пошлость! Нет философа из древних и новых, который так или иначе не высказал бы этой мысли, а мне кажется, что открыл эту избитую истину я! Очень глупо! — Аратов задумался и машинальным движением протянул руку к стоявшему перед ним кубку. Но тот был пуст, и, прикоснувшись к нему губами, он поставил его на место. Затем, встретившись глазами с глазами короля, он снова заговорил: — Вы ждете продолжения моего рассказа, государь! Хорошо, я вам все скажу. Слушайте же. Не бойтесь, они все пьяны и ничего не поймут. К тому же у каждого из них своя тайна и пострашнее моей, — продолжал он, подметив тревожный взгляд, брошенный королем на остальную компанию.
В ней действительно никто не был в состоянии понимать то, что происходило кругом; одни уже свалились под стол и храпели, другие, бессмысленно уставившись друг на Друга посоловевшими глазами, силились что-то выразить невнятным мычанием.
— Да, есть тайны ужаснее моей, — продолжал между тем Аратов. — То, что я сделал, даже и преступлением нельзя назвать, и мне кажется, что когда меня будут судить, мои судьи буду в затруднении.
— Вы думаете, что вас будут судить? Но вы, разумеется, шутите? — прервал его изменившимся от ужаса голосом король. — Перестаньте так неприлично шутить, мне это не нравится.
— Я не шучу, ваше величество. Выбора у меня не было, мне надо было убить их обоих или… или сделать то, что я сделал… А что я имел право убить их, с этим даже и моя прабабка согласна. Вы Серафимы Даниловны не знаете, ваше величество, и это жаль. Не для нее, а для вас жаль. Ее ваше присутствие не смутило бы, ее и настоящий король не заставил бы сказать то, чего она не думает, а вас она за настоящего короля не считает! Хотите знать, как она вас называет? Ну хорошо, я вам этого не скажу; я ведь хоть и пьян, но понимаю, что правду королям говорить нельзя. Оставим это! Я хотел только сказать, что моей прабабке девяносто девять лет и что одной только ей я не лгу. Ей я все сказал, и она назвала мой поступок кощунством. Пусть так, кощунство так кощунство, мне все равно! Я могу уехать за границу… во Франции у меня есть друзья. Вы их знаете так же хорошо, как и я, ваше величество, — продолжал он с возрастающим оживлением. — Как вы думаете, назовут ли меня преступником мсье Вольтер или Даламбер? Да и в самом деле, что такое кощунство? Оскорбление того, что существует только в воображении! Разве можно карать за это! Но Россия — страна еще дикая, некультурная, и большинство думает, как Серафима Даниловна Аратова. Однако я вам еще не сказал, в чем суть…
— Молчите, молчите! Я не могу… не хочу знать! — шепнул король, хватая его за руку. — В вас говорит дьявол!
— Он во всех нас сидит, ваше величество. Борются с ним разно: кто — молитвой, кто — постом, кто — вином. Последнее — самое действенное, я вам это по опыту говорю, — продолжал Аратов, наливая в кубок вина и подавая его своему слушателю, и тот, дрожа от страха под его пристальным взглядом, залпом выпил.
— Несчастный! Так это — правда, что вы… Нет, нет, я не хочу верить этому! Я что-то слышал… мне намекали… но я не хочу верить! Не хочу! — бессвязно пролепетал король, отмахиваясь точно от подступившего к нему страшного призрака.
— И не верьте, ваше величество, никому не верьте!.. И меньше всего мне. Я всегда лгу. Да и вы всегда лжете, ваше величество, не правда ли? — прошептал Аратов, приближая свое искаженное злобой и презрением лицо к взволнованному страхом и подозрительностью лицу Станислава Августа.
— Правда, правда! — прошептал последний прерывающимся голосом. — Но как же мне не лгать, когда меня со всех сторон окружают изменники, предатели, злодеи, Иуды?
— Что такое ложь и мои преступления перед вашими? — продолжал развивать свою мысль Дмитрий Степанович с упорством маньяка. — Детская шалость, ничего больше. Вам должно быть, тяжело вспомнить прошлое и еще неприятнее вдумываться в настоящее, ваше величество? В чем, собственно, можно упрекнут меня? Что я приказал вырыть из могилы труп, чтобы похоронить его в другую? А сколько вы готовите могил! Сколько трупов!
— Молчите, молчите! Я не хочу ничего знать! — воскликнул король, закрывая лицо руками. — И как вам не совестно? Я считал вас своим другом. За что вы меня мучите? За что? Разве вы не видите, как я одинок, как ненавидим всеми! Когда императрица Екатерина сажала меня на престол, — продолжал он со слезами в голосе, — я умолял ее о поддержке, говорил ей: «Мне нужны не одни только ваши солдаты и пушки, ваше величество, мне нужна нравственная поддержка. Обещайте мне, что вы не покинете меня, не отнимете у меня вашего доверия, дозволите мне обращаться к вашему величеству за советами, не как к царице только, а так же как к женщине, чувствительное сердце которой мне лучше всех известно!» Вот что я писал ей, умоляя о свидании. Она ответила отказом! О в каком я был отчаянии! Тут только понял я, что обречен на погибель! Да, да, я погибну! К сожалению, я — не дурак и все вижу и понимаю; все козни своих противников я вижу насквозь и ласкаю их, лгу им, притворяюсь, что верю им, заискиваю в них! Вот эти самые, что валяются под моим столом, упившись моим вином, как проспятся, так разбегутся отсюда по всему городу, ругая меня и клевеща на меня каждому встречному и поперечному! Хотите, я вам скажу, к какой партии каждый из них принадлежит и которым из моих врагов он сочувствует, — тем ли, которые стремятся низвергнуть меня, чтобы самим занять мое место, или тем, которые интригуют с немцами за иностранного принца. Все-все хотят моей гибели! Расходятся только в средствах для этой цели: один предлагает ссылку, другой — смерть, третий — заточение. Ни на кого не могу я положиться, ни на кого! В каждой из моих любовниц я вижу шпионку и предательницу и, обнимая ее, знаю наверное, что она побежит из моих объятий туда, где ждут ее донос на меня. Есть ли человек несчастнее меня, Аратов? Есть ли положение безвыходнее? Все у меня ускользает из рук, все рушится, за что бы я ни пытался ухватиться! Да, да, почва колеблется у меня под ногами; я не могу этого не видеть, не сознавать. Стоит мне только привязаться к человеку, чтобы потерять его. Вот и вы хотите покинуть меня, Аратов! Я это уже давно замечаю. Не стали бы вы рассказывать мне про себя такие ужасы, если бы дорожили моей дружбой и доверием. Что мне за дело до вашего прошлого? — продолжал король со слезами, тоном капризного, избалованного ребенка. — Пока я вашего прошлого не знаю, оно для меня не существует, и я могу считать вас человеком, достойным моей дружбы. Но, когда я узнаю его, между нами воздвигнется преграда; я должен буду запретить вам вход во дворец, донести на вас русскому послу, способствовать вашей гибели! Вот каким неприятностям подвергаете вы меня! Это ужасно! Я не ожидал от вас такой жестокости!
Аратов слушал его молча, и по мере того как хмель испарялась из его головы, на его бледных губах выдавливалась улыбка глубочайшего презрения. Как мог он рассчитывать на поддержку такого человека, который в своем чудовищном себялюбии не перед чем не остановится, не пожертвует даже и минутным удовольствием для спасения жизни того самого, кто доставляет ему эти удовольствия! Надо было окончательно потерять сознание от угрызений совести и от вина, чтобы искать в нем заступничества и поддержки!
Занималась заря. Огням в канделябрах все труднее и труднее было бороться с дневным светом, белесоватой мглой пробивавшимся в окна. Обыкновенно, когда утренняя заря заставала пирующих во дворце, прислуга спешила продлить искусственным образом ночь, запирая внутренние ставни, но в то утро камердинер не решился войти в покой, где его величество плакал горькими слезами на плече москаля, а прочим было все равно — светит ли луна, или солнце: под столом, где они валялись мертвецки пьяные, и днем было так же темно, как и ночью.
XXXI
Солнце было высоко, когда Аратов проснулся с ноющей болью во всех членах от тщетных усилий освободиться от страшного кошмара, давившего ему грудь.
После выпитого без меры вина и неприятного объяснения с Юльянией, под впечатлением которого он наболтал королю столько лишнего, он заснул тяжелым сном, полным страшных видений. Ему грезилось именно то, что он старательно силился забыть, — похороны мнимой покойницы под деревенским храмом в Малявине, в фамильном склепе. Грезилось ему, что он вторично хоронит Елену, и не труп неизвестной вместо нее, а ее самое закапывает собственноручно в землю. Она мертва, холодна и неподвижна, не дышит; глаза закрыты, это — труп. Но этот труп оказывает ему странное сопротивление: сколько земли ни насыпает он на него, она рассыпается, и невидимая таинственная сила выталкивает труп наружу. Лежит перед ним замученная жертва, бледная и холодная, в белом венчальном наряде, с распущенными волосами и загадочной улыбкой на губах. Долго и отчаянно боролся он с этим трупом и не одолел его: Елена так и осталась непохороненной. Наконец, он открыл глаза и увидал себя не в темном склепе с мертвецом, а в уютной спальне, на широкой кровати, сквозь полог которой пробивались яркие лучи солнца. Под окнами слышалась шумная возня, оживленные голоса, а издалека долетал топот коней, звон шпор и оружия, звонкий смех, возгласы и даже как будто музыка.
— Десятый час, — заявил Езебуш, входя в комнату и отдергивая полог у кровати.
А его господин лежал с открытыми глазами, тщетно пытаясь отделить впечатления сонных видений от действительности, с раздражением спрашивая себя: почему преследует его так упорно образ Елены? Почему вспоминает он ее теперь при каждом удобном случае, когда говорят о женской красоте и неверности? Вчера образ ее встал перед ним, когда на террасе речь зашла о незнакомке, избранной княгиней Изабеллой для каких-то таинственных целей. Видение не переставало преследовать его и во время свидания с Розальской. В то время как она изливала перед ним в страстных выражениях свою тоску и любовь, он мысленно сравнивал ее с Еленой. Потом, за карточным столом, потребность заговорить о ней сделалась так сильна, что он чуть было не выдал своей тайны. Хорошо, что король не дал ему договорить!
Однако пора кончить затеянную любовную канитель с Розальской! Она права, уверяя, что медлить дольше опасно. Надо жениться, сдать ее имения на арендную плату верным людям, оставить старшим управителем Езебуша, забрать капиталы Розальской и уехать. Надоела ему Польша со своим слюнтяем-королем и безмозглыми магнатами! Французы много интереснее. Там тоже готовится политический и общественный переворот, при котором человеку со здравым смыслом и энергией многого можно достигнуть. Лучше там попытать счастья, чем здесь.
Вспомнились пьяные речи короля, и стало тошно. Как он струсил, услышав намек на преступление, совершенное его любимцем! Ждать помощи от Станислава Августа, рассчитывать на поддержку такого нравственного ничтожества! Да он дал бы родной матери живой сгореть в костре, лишь бы не обжечь себе пальцев, снимая ее с него.
Пока эти мысли беспорядочными отрывками навертывались Аратову на ум, Езебуш помогал ему наряжаться в парадный праздничный костюм и убирал ему голову, не переставая рассказывать о том, что происходит в королевской резиденции.
— Торопятся окончить убранство парка к завтраку. Гостей ждут рано. Приказано седлать верховых лошадей для дам. Его величество уже часа два как изволили встать и прогуливаются по саду, любуясь работой живописцев и архитекторов. Летний театр весь будет гореть разноцветными огнями, а беседки разубраны цветами и коврами. В гроте спрятаны музыканты. В ронпуанте приготовлено угощение из сластей и вин. Как только гости сядут кушать — заиграет музыка. Слышите, уже сыгрываются? — прибавил он.
Прибежал паж узнать от имени короля, скоро ли придет Аратов. Его величество не желает садиться за стол без него, и Дмитрий Степанович поспешил во дворец.
От попадавшихся ему навстречу придворных он узнал, что праздник обещал быть великолепнее, чем предполагали. Каждую минуту приходили сюда из города вести наиприятнейшего свойства: знатнейшие пани одна за другой присылали своих дворских юношей и маршалов заявить королю, что они будут участвовать в карусели. «Пане Коханку» изъявил желание привезти к балу целое общество масок. Князь Репнин прислал письмо, должно быть, приятного содержания, если судить по тому, как обрадовался ему король и как щедро одарил посланца.
Веселая суматоха во дворце усиливалась; во всех покоях Аратов видел вокруг столов, уставленных золотой и серебряной утварью, богемским хрусталем и саксонским фарфором, гайдуков и пажей с охапками душистых цветов для украшения столов, каминов, везде, где только можно было поставить вазу с красивым букетом. Садовники вносили апельсинные и лимонные деревья в цвету, мирты, олеандры. Паркет во многих местах, по указанию короля, усыпали цветами. Одним словом, дворец, с растворенными настежь окнами и дверями походил на цветник, разбитый перед ним, и казался продолжением этого цветника.
— Мы в жилище фей, ваше величество, — с улыбкой произнес Аратов, проникая в маленькую столовую во внутренних покоях короля, где его величество прохаживался в радостном возбуждении мимо стола с сервированным на два прибора завтраком, за который он не хотел садиться без Дмитрия Степановича.
— Феи все пожалуют, все до единой! Такого блестящего собрания Лазенки еще не видывали, — сказал король, весело потирая руки, и, указав на место за столом Аратову, сам сел, после чего с большим аппетитом начал есть, говоря, что необходимо запастись силами на то, что предстоит вынести в этот день. — Карусель начнется ровно в двенадцать. Потом легкий завтрак, за который дамы сядут уже переодетыми для прогулки по парку. Для желающих будут готовы коляски. Перед обедом отдых в покоях, приготовленных для фей. Советую вам взглянуть на убранство этих покоев, останетесь довольны. Одних духов и косметик наставлено во всех уборных на тысячу червонцев! Чьим кавалером желаете вы быть за столом, Аратов? Предупреждаю вас, что дама вашего сердца приедет с пани Анной только к балу… а также все пани из «фамилии». Желают отличиться от прочих, понимаете?
— Мы, значит, и таинственную незнакомку увидим только вечерком?
— Только вечером. Но я не сказал вам самого главного, — продолжал король, вынимая из бокового кармана белого атласного камзола сложенное письмо, и подал его Дмитрию Степановичу. — Прочтите-ка это, и вы согласитесь, что я не могу не назвать счастливым сегодняшний день!
Тот, кто видел за несколько часов перед тем Станислава Августа плачущим за карточным столом при свете занимавшейся зари, не узнал бы его теперь, — так был он весел, свеж и красив в бархатном голубом французском кафтане, белом атласном кюлоте и башмаках с бриллиантовыми пряжками на белых шелковых чулках. Пышное жабо из драгоценных кружев выгодно оттеняло свежий цвет, лица и ласковый блеск его красивых женских глаз.
— Ну, что вы скажете на это? — спросил он, когда, окончив чтение письма, Аратов протянул ему его обратно. — Не правда ли, это доказывает, что я не напрасно рассчитывал на доброе расположение ко мне императрицы?
— Кто же сомневается в этом, ваше величество?
— В том-то и дело, что многие сомневаются! Но эта новая милость докажет, что я знаю русскую императрицу лучше всех на свете и, конечно, лучше Потемкина, который так хвастается ее доверием и дружбой! Нет, что там ни говорят, никогда женщина с тонким вкусом не удовольствуется одной только грубой физической красотой в человеке, которого она приблизит к себе! Нужны деликатность сердца, нежность, надо уметь любить, — продолжал он в увлечении своим любимым предметом. — Кроме того, чтобы просить, нужен талант. Нужно, во-первых, знать личность, к которой обращаешься с просьбой, затем надо уметь находить такие слова, которые идут прямо к сердцу, и тщательно избегать всего, что может нарушить гармонию того чувства, которое желательно возбудить. На это не всякий способен, не правда ли?
— Да и вообще просить не всякий способен, — угрюмо заметил Аратов.
— Не правда ли? — весело повторил король. — И ведь какие странные! Не умеют даже и приступить к делу, а потом, при неудаче, жалуются на несправедливость судьбы!
— Кого из ваших кредиторов намерены вы теперь раньше всех удовлетворить, ваше величество? — бесцеремонно прервал его Аратов. — Деньги вы просили для уплаты ваших долгов, и выйдет довольно неловко, если, после того как вы их получите, на вас будут продолжать жаловаться в Петербург.
— Долгов у меня так много, что дарованной мне суммой все равно всех не удовлетворишь, и, чем обижать людей несправедливостью, не лучше ли со всеми обойтись поровну?
— То есть никому не платить?
— Вот именно. Ну разве я не прав? А если вы к тому же возьмете в соображение, что я обещал княжне Гедвиге дивный бриллиантовый парюр, а графине Юлии — заграничную коляску и пару серых лошадей, не говоря уже о проигранном на пари пани Розалии загородном домике…
— А знакомство с таинственной красавицей? Не мешает вашему величеству и на этот предмет отложить несколько десятков тысяч, — со смехом подсказал Аратов.
— Правда, надо и об этом заранее позаботиться.
— Нечего, значит, и думать об уплате долгов?
— Очень рад, что вы теперь и сами убедились в этом. Впрочем, мы еще успеем поговорить об этом, а сегодня нам предстоит еще столько дел до приезда гостей, что ни минуты нельзя терять. Мне хотелось бы знать ваше мнение относительно вечернего представления. Вы знаете, как хорошо изучил я роль Париса в интермедии, которая должна была быть представлена на несостоявшемся спектакле у Любомирских? Я для этой роли выписал костюм из Парижа. Не найдете ли вы возможным предложить Браницкому уступить мне эту роль?
— Попробую. Но кому же, ваше величество, вы намереваетесь предложить яблоко? Богинь готовятся изображать такие красавицы, что выбор между ними довольно затруднителен.
— Это — мой секрет.
Они обошли весь парк, останавливаясь то тут, то там перед работающими над его украшением и выслушивая их объяснения о готовящихся эффектах при вечернем освещении. Наконец король привел своего спутника к скамейке в одном из отдаленных уголков парка. Эта скамейка из простого дерева была особенно красиво разубрана зеленью и цветами, и над нею спускался пунцовый шелковый с золотой бахромой шатер, на котором золотыми буквами красовалась надпись: «В память первого свидания».
— Догадываетесь вы, для кого я приготовил этот сюрприз? — спросил король, самодовольно усмехаясь.
— Как не догадаться! — угрюмо ответил Аратов. — Да и все догадываются. Впрочем, вашему величеству, может быть, это и угодно? — прибавил он с оттенком презрения.
— Вы думаете, что ей это будет неприятно? — нерешительно спросил король, смутившись.
— Я думаю, что надо быть совсем потерянной женщиной, чтобы обрадоваться такому афишированию.
— Вам как будто обидно за нее? Точно вы ее знаете! — сердито процедил сквозь зубы король, отвертываясь, чтобы не встречаться взглядом с насмешливыми глазами Аратова, и направляя свой путь дальше по тенистой аллее к фонтану, где несколько рабочих под наблюдением декоратора оканчивали устройство иллюминации. Тут он остановился и приказал декоратору снять шатер с надписью над скамейкой. — Вы мне, может быть, и цветы прикажете убрать? — с усмешкой обратился он с Аратову.
Однако тот, пожимая плечами ответил, что здесь никто не может приказывать его величеству.
Дмитрий Степанович не мог не видеть, в какое раздражение приводит короля перемена его обращения с ним, но его враждебное настроение ко всему окружающему, начиная от цветов, на каждом шагу лезших ему в глаза, и кончая самодовольной красивой фигурой его коронованного друга, с каждой минутой усиливалось, и язвить его неприятными, но правдивыми замечаниями доставляло Аратову наслаждение. Великие мира сего не переносят правды и жестоко мстят за нее; он знал это, но сегодня как будто задался целью навсегда поссориться с первым человеком в королевстве. Это непременно удалось бы ему, если бы появление гостей не заставило короля поспешно удалиться от него.
Начался праздник. Шумной, веселой толпой рассыпались приглашенные по аллеям парка и покоям дворца; всюду запестрели красивые французские наряды дам в высоких напудренных прическах; маленькие ножки на высоких каблучках атласных башмачков топтали усеянную цветами мураву на лужайках и мелькали под сводами столетних деревьев, осыпанные золотым дождем солнечных лучей. Веселый смех и говор не смолкали ни на минуту, сливаясь со звуками оркестров, игравших во всех концах парка. Программа увеселений исполнялась с удивительным ансамблем и одушевлением. Все точно сговорились способствовать торжеству. Дамы соперничали в красоте, свежести, грации, веселости и любезности, и Станислав Август порхал между ними, как мотылек промеж цветов, расточая на все стороны изысканнейшие комплименты и страстные взгляды. Каждая женщина, к которой он обращался, могла думать, что он с радостью отдаст за нее жизнь, — такими влюбленными глазами смотрел он на нее, предлагая ей цветок, чашку бульона или бисквит.
Карусель удалась как нельзя лучше. Даже старики и старушки, принимавшие участие в блестящих каруселях, устраиваемых в Дрездене покойным королем для несчастной графини Козель, не могли не согласиться, что ничего лучшего они не видывали. Прекрасно выдрессированная прислуга в красивых ливреях ловко лавировала промеж публики с серебряными подносами, уставленными прохладительными напитками, фруктами, мороженым, предугадывая желание гостей освежиться. Ожидание предстоящих вечером наслаждений усиливало всеобщее удовольствие.
Одному только Аратову было тоскливо и скучно среди всеобщего веселья. Все это ему приелось, казалось пошло и глупо, бесцельно. Фальшь улыбок накрашенных губ, белила и румяна на щеках, искусственный блеск подмалеванных глаз невыразимо раздражали его. Противны были ему расфранченные куклы с кокетливыми взглядами и рассчитанными на эффект движениями, но еще гаже и смешнее казались ему мужчины, их подражание французам, кривляние, старание замаскировать мысли, чувства и стремления под заученными фразами и взглядами. Всех их он знал хорошо, и карикатурная комедия, разыгрываемая ими, казалась ему отвратительной.
Вот с превеликой помпой подъехали к воротам парка Чарторыские — знаменитый князь Адам с сыном, супругом очаровательной Изабеллы — в золоченой коляске, окруженные блестящей свитой всадников, предшествуемые скороходами. Все глаза устремляются на короля, который с плохо скрываемым волнением и торжествующей улыбкой спешит навстречу своим заядлейшим врагам, радушно протягивая им руки, приветствуя их напыщенной фразой, которую он с умыслом произносит так внятно и громко, что сотни людей могут слушать ее и с прикрасами разнести по всему городу. Многие приехали сюда единственно для того, чтобы быть свидетелями этой знаменитой встречи. Она происходит у мраморной лестницы большой террасы, с которой его величество сошел в ту самую минуту, когда из соседней аллеи появилось блестящее шествие. Объятиям и поцелуям нет конца. Из присутствующих многие не в силах скрыть ехидную улыбку. Кому же не известно, что «фамилия» отказалась от своих замыслов против Понятовского только на время и что при первом удобном случае король не преминет попытаться утопить Чарторыских, чтобы не погибнуть от них?
Его величество ведет почетных гостей во дворец, где при их появлении раздается музыка. Чтобы сесть за стол, ожидают только одну почетную гостью да князя Радзивилла. И все находили это в порядке вещей, влиятельнее и богаче «пана Коханку» в Речи Посполитой нет магната, и нет также женщины, более уважаемой, чем та, что приехала вскоре после Чарторыских и к которой также с выражением глубочайшего уважения и безграничной преданности вышел навстречу король.
Об этой женщине, хотя она была еще жива, не удалилась в монастырь и жила в своем варшавском дворце, окруженная детьми и верными друзьями, уже успела составиться легенда, венчавшая ее ореолом мученицы, почти святой. Даже злейшие враги ее, а такими были все развратники и развратницы страны, не говорили о ней дурно.
Во все времена и во всех обществах всегда были и будут личности, олицетворяющие собой идеал добра и правды, и такие сверкают яркими звездами среди глубочайшей тьмы заблуждений и порока. И чем растленнее общество, чем гнуснее его вкусы и стремления, тем чище и светлее горят эти светочи христианских добродетелей.
В польском обществе того времени эта женщина была именно таким светочем. Без слов, одним своим примером, говорила она несчастным жертвам сластолюбия короля, барахтавшимся во лжи, разврате и отчаянии: «Делайте, как я, искупите свой грех покорностью и терпением, откажитесь от уязвленного самолюбия и мести за обиду, отвернитесь от зла и сотворите благо, и вы успокоитесь. Счастья я вам не обещаю, но за душевный мир вам ручаюсь».
Сама она была бы даже счастлива, если бы душевный покой, купленный ею ценой мучительной душевной борьбы, не нарушался по временам жестокими требованиями света, которым она подчинялась как справедливому возмездию за минутное заблуждение. Одним из этих требований, самым мучительным для нее, была необходимость принимать у себя в доме раза два в год виновника ее несчастий — короля — и показываться в его дворце на торжественных праздниках. Проводить несколько часов кряду в среде любовниц ветреного Станислава Августа, в тех самых покоях, где он клялся ей самой в вечной любви, было для нее мучительной пыткой. Но она принадлежала к высшей аристократии, имела знатное и влиятельное родство, и лишать своих детей покровительства этого родства не считала себя вправе. Поэтому после постигшего ее, как любящую женщину, горя она безропотно заняла в обществе положение, приличествующее ее рождению и состоянию, не унижаясь и не выставляясь, никого не презирая и ни в ком не заискивая, не вызываясь на услуги, но никому не отказывая в помощи и поддержке и пользуясь своим влиянием на неверного, чтобы его именем делать как можно больше добра. Полюбила она Станислава Августа первой любовью, и эта любовь была последней. С летами ее чувство к нему не изменялось, и, если бы нужно было отдать за него жизнь, она не задумалась бы перед такой жертвой. Недавно еще она была одной из замечательнейших красавиц в стране, и до сих hop была еще прекрасна, но теперь красота ее ни в ком не возбуждала иных чувств, кроме благоговейного восхищения, и, продолжая вращаться между людьми, знавшими ее раньше жизнерадостной счастливицей, она душой отошла от них так далеко, что ни зависть, ни злословие, ни клевета не могли коснуться ее.
Говорили, что король был тайно обвенчан с нею, но справедлива ли была эта молва, до сих пор остается неразгаданной тайной. Очень может быть, что это убеждение возникло в умах из желания чем бы то ни было объяснить необъяснимое духовное обаяние этой замечательной женщины.
Не успел король подать ей руку, чтобы вести ее во дворец, как прибежал паж с известием о прибытии князя Радзивилла. С улыбкой освободив руку из руки его величества, его морганатическая супруга предложила ему поспешить навстречу гостю и, не дождавшись ответа своего смутившегося кавалера, обратилась к стоявшему поблизости Аратову с предложением занять место короля и повести ее к обеденному столу.
С низким поклоном поблагодарив за оказанную ему честь, Дмитрий Степанович поспешил исполнить ее желание и не только сел возле нее за столом, но и провел с нею около часа после обеда, когда все общество рассыпалось по парку, разместилось на террасах или удалилось в уборные, приготовленные для того чтобы гости могли отдохнуть и приготовиться к вечерним удовольствиям. Она не нуждалась ни в отдыхе, ни в новом туалете, так как давно уже не принимала участия в танцах, и приехала так поздно, что устать не успела. По-видимому, общество Ара-това заняло ее, потому что она не выражала желания прекращать разговора с ним. Она расспрашивала его о России, которую знала очень поверхностно, и, точно угадывая душевные настроения своего собеседника, наводила его на воспоминания о раннем его детстве, о родителях и о прабабке, знаменитой ненавистнице поляков и католиков Серафиме Даниловне Аратовой.
Затеянный ею разговор пришелся по душе Дмитрию Степановичу. Вспоминая о России и о русских, он забывал о Польше, и в первый раз, с тех пор как попал в водоворот политических интриг в этой стране, почувствовал себя русским. Слушательницу же его заняли описание старой малявинской усадьбы на рубеже Польши и рассказы о старой помещице, около полустолетия не выезжавшей из своей усадьбы и в полном одиночестве переживавшей впечатления минувшей молодости, шумно и бурно проведенной при дворах Петра Великого и его преемниц.
— Вы говорите, что вашей прабабке скоро минет сто лет? — спросила она. — Она, значит, может помнить царя Петра и его сподвижников?
— Эту эпоху она помнит гораздо лучше последующих, и ее рассказы о царе Петре неистощимы. Но почему интересуетесь вы этой эпохой, сударыня?
— О, причин у меня много! Ведь Ягужинские нам сродни.
— Моя прабабка знала и его. Она жила при дворе и, должно быть, была в молодости довольно интересна. Царь любил ее за остроумие и смелость. Он желал выдать ее замуж за Репнина, деда нашего теперешнего посла здесь, но она предпочла менее блестящую партию и вышла за человека, которого любила. Однако князя Никиту Ивановича она вспоминает с удовольствием и при последнем нашем свидании много расспрашивала о его внуке.
— Вам теперь будет что рассказать о нем. Князь Репнин с изумительной настойчивостью приводит в исполнение жестокую политику своего правительства, — с горечью заметила его собеседница.
— Но это не мешает ему любить поляков.
— Не поляков, а польку, и такую, которая, конечно, возбудить в нем жалость к своим соотечественникам не в состоянии, — живо поправила она его и в страхе, чтобы он не придрался к нечаянно сорвавшемуся с ее губ намеку, чтобы заговорить о женщине, о которой ей было особенно неприятно вспоминать, поспешила свернуть разговор на другой предмет.
Солнце село. Но в этот день в Лазенках наступавшим сумеркам не суждено было превратиться в ночь. Парк загорелся разноцветными огнями, а дворец осветился снизу доверху тысячами свечей в люстрах и канделябрах.
Начался вечерний съезд гостей, и навстречу им грянула музыка скрытого в гроте оркестра. Из уборных выпархивали одетые в бальные платья красавицы и, встречаясь с кавалерами, обменивались с ними комплиментами и веселыми шутками. В летнем театре готовилось представление, и в группах, спешивших туда, разговоры шли о роли Париса, уступленной королю Браницким, о новом костюме его величества, о том, будут ли ждать к представлению княгиню Изабеллу, которая всегда опаздывает для придания себе интереса, или начнут без нее.
Собеседница Аратова поднялась с места, и, думая, что ей хочется пройтись по парку, чтобы полюбоваться иллюминацией, он поспешил предложить ей руку. Но он ошибся в своем предположении: она пошла к выходу из сада.
— Спешу домой. Дети без меня спать не лягут… к разлуке со мною они не привыкли, и я, наверное, найду революцию в моем маленьком царстве, — шутливо заявила она с плохо скрываемым волнением, пробираясь со своим кавалером по хорошо знакомым ей тропинкам. — Люди мои дожидаются у калитки, и вы окажете мне большую услугу, если доведете меня до кареты, — продолжала она, боясь быть узнанной и задержанной. — Никого не желаю я беспокоить. Король занят своей ролью. Если самой не до веселья, то ведь это еще не причина мешать другим веселиться, не правда ли? — добавила она, вскидывая на спутника взгляд, в котором улыбка, не покидавшая ее губ, отражалась далеко не радостным блеском.
Но эта улыбка казалась ему очаровательной, и ему было грустно расставаться с этой женщиной. Казалось, что когда она уедет, он будет еще более одинок в шумной блестящей толпе. Вдруг как-то сблизился он с нею, понял ее душу, ее страдания и мучительные усилия скрыть их под видом спокойного равнодушия. Ему хотелось крепко пожать маленькую нежную ручку, слегка опиравшуюся на его руку, и сказать: «Не притворяйтесь со мною, не сдерживайте слез! Я вам — не чужой! Я тоже несчастлив, не могу себе найти ни покоя, ни утешения, моя жизнь тоже кончилась, и впереди у меня ничего нет. Я вас понимаю, сочувствую вам, и мне было легче видеть вас плачущей, чем смеющейся».
Но Аратов ничего подобного не сказал ей, и она уехала, не догадавшись, какого рода чувства пробудила она в его сердце случайным вниманием и разговором.
Чтобы дольше оставаться под ее обаянием, Дмитрий Степанович долго бродил по аллеям парка, удаленным от тех мест, где беспечная толпа предавалась веселью. Его не тянуло туда, к раскрашенным гримасницам, на которых Станислав Август променял чудную женщину, любившую его без ума. Не переставая размышлять о покинутой Ариадне, с достоинством переносившей измену своего соблазнителя, он спрашивал себя: как повернулась бы его судьба, если бы он встретил ее раньше и добился ее любви? Без сомнения, его жизнь сложилась бы совершенно иначе. Она заставила бы его полюбить добродетель, пробудила бы в нем угасшую веру в Бога, во все, чему ему теперь так хотелось бы верить! Он нашел бы в ней то, что Елена, невзирая на свою чистоту и непорочность и желание быть ему хорошей женой, не могла, не сумела ему дать.
Сопоставление этих двух женщин смутило его своей неожиданностью. С ним делается что-то неладное, он как будто утрачивает способность управлять своими мыслями и чувствами и от всяких пустяков теряет не только душевное равновесие, но и находчивость, которой всегда отличался. Он не может до сих пор оправиться от разочарования в короле, который оказался эгоистичнее и трусливее, чем он воображал, и вместо того чтобы изыскивать другой какой-нибудь способ выпутаться из затруднительного положения, он забавляется бессмысленными представлениями, вытаскивает из могил мертвецов и разыгрывает с ними любовные комедии, такие же нелепые и неестественные, как те, что разыгрываются теперь в двух шагах от него, на разукрашенной цветами сцене летнего театра.
Черт знает, что такое! Елену он похоронил, а морганатическая супруга Станислава Августа сама себя похоронила, и никогда ей больше не воскреснуть ни для какого земного чувства. Стоит ли думать о том, что было, если бы он встретился с нею раньше, когда она была еще жива?
Аратов так долго прохаживался по отдаленным аллеям парка, что наконец в изнеможении опустился на старый пень. Какое-то странное оцепенение начало постепенно овладевать им. По парку раздавались звуки музыки, между листьями сверкали огоньки иллюминации, сюда долетали смех и громкий говор, он но ничего этого не слышал и не видел. Он видел себя в бедной деревенской церкви перед образом Спасителя с потемневшим ликом. Кругом было темно, и с трудом можно было различить царские врата и старичка-священника перед ними. Толпа молящихся крестьян из уважения к незнакомому барину теснилась в углах. Шла всенощная. Вдруг лик Спасителя оживился от приблизившейся к нему нежной белой ручки с зажженной свечкой, которую старательно прикрепляли к поставцу тонкие дрожащие пальчики, и на темном фоне вырезался профиль нежного женского личика с опущенными на розовые щечки золотистыми ресницами. Обрамленное вьющимися кудрями лицо дышало такой неземной красотой, что казалось видением из другого мира. Очарованный он не спускал с него взора, и смущенная этим пристальным взглядом девушка в простеньком платье, привлекшая его внимание, торопливо перекрестилась, а затем, потупившись, прошла к клиросу, где стояла старая женщина, возле которой она и оставалась неподвижно до конца службы.
Недели через три он в этой же самой церкви венчался с нею. Как она была хороша! Да и позже, когда она приводила его в ярость своим отвращением к нему, когда ему хотелось убить ее за это отвращение, он не мог налюбоваться ею. Да, да, такой красавицы он не встречал и никогда не встретит. Юльянию он любит и находит ее хорошенькой тогда только, когда ему удается забыть Елену. Как смешно ему слышать разговоры короля с его приближенными о варшавских красавицах! Сколько раз хотелось ему их дифирамбы Юлии Потоцкой, Изабелле Любомирской, Масальской и прочим прервать замечанием, что один взгляд на его жену охладил бы их восторг.
Видение скрылось. Аратов поднял голову и увидал огни иллюминации в соседних аллеях, услышал музыку и гул голосов. Он вышел на разукрашенную гирляндами площадку перед летним театром, из которого выходила публика.
Интермедия кончилась. За нею по программе следовали живые картины на импровизированной сцене у фонтана. Часть публики спешила туда, чтобы занять места, в то время как другие оставались перед театром, чтобы взглянуть на короля. Последний был так интересен в костюме аркадского пастуха, в котором по просьбе дам обещал остаться до конца вечера!
Аратов присоединился к группе придворных, весело болтавших о представлении, о том, как его величество прекрасно справился со своей ролью и как ему идет костюм Париса.
— Его величество окончательно затмил Венеру.
— Да, сегодня княжна Сапега не в авантаже.
— Во всех отношениях.
— Вот он! — возвестил чей-то голос, и все взоры устремились на театр, из которого выходил король в розовом с голубым костюме буколического пастушка, с посохом, увитым цветами, и с гирляндой из роз на напудренном парике, помолодевший, веселый, жизнерадостный и такой красивый, что он не казался даже особенно смешным.
В нарядной толпе дам, окружавшей его, Аратов узнал княгиню Любомирскую и графиню Потоцкую с Розальской, за которой тенью следовал длинный Длусский. Но Дмитрию Степановичу даже и в голову не пришло остановиться на них взглядом; он продолжал искать глазами кого-то в толпе, а кого именно — этого он и сам не знал, но от ожидания его волнение усиливалось, и сердце сильно-сильно билось.
И вдруг в группе вокруг короля что-то произошло — все расступились, а его величество с приятнейшей улыбкой на губах поспешил навстречу двум женщинам, выходившим из соседней аллеи. Одна, в розовом платье, усыпанном бриллиантами и жемчугами, была княгиня Изабелла, а в другой, в белом, Аратов узнал свою жену.
Король с почтительным поклоном подошел к ним. Княгиня сказала что-то, указывая на свою спутницу, которая ответила на приветствие его величества низким реверансом. Он заговорил с нею, и она отвечала ему, не поднимая глаз, в большом смущении, краснея под восхищенными взглядами, устремленными на нее со всех сторон.
У княгини Изабеллы был торжествующий вид, и она с самодовольной улыбкой озиралась по сторонам, точно желая сказать: «Вот какую красавицу я вам привезла!»
Аратов стоял, как очарованный. Он даже не спрашивал себя: как попала сюда Елена и что произойдет для него от этой встречи! Он жадно всматривался в знакомые черты, прислушивался к звуку голоса Елены и ждал с замирающим сердцем, когда же он проснется, и видение исчезнет. Но оно не исчезало, и ему становилось жутко.
Он почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд, обернулся и встретился глазами с пристально смотревшим на него князем Репниным. Таинственная завеса, застилавшая перед ним действительность, разорвалась, и ему все стало ясно.
Между тем праздник продолжался. После живых картин — фейерверк, представлявший храм любви в огне, после фейерверка — танцы на лужайке под открытым небом с ласково мигающими звездами. Потом опять фейерверк, но уже на воде, с изображением корабля в пламени, а там опять танцы, уже в залах дворца. Веселое оживление не прекращалось; удовольствие сменялось удовольствием, и в пылу любовных признаний под звуки оркестров и гастрономических наслаждений лакомствами и винами мало кто обратил внимание на ухаживание русского посла за супругой киевского воеводы, и на ее довольный вид после продолжительной беседы с ним. Прошел почти незаметно и другой инцидент: обморок хорошенькой пани Розальской… от жары и ароматов цветов. Она приехала на праздник совсем больная, бледная, с растерянным взглядом. Когда она лишилась чувств, ее хотели унести в уборную, но пани Анна заявила, что уедет с нею домой, и хорошенькую вдовушку, все еще в обмороке, понесли в карету в ту самую минуту, когда король начинал танцевать менуэт с таинственной красавицей, которую привезла княгиня Изабелла.
Об Аратове все забыли. Король вспомнил о нем только за ужином, когда все дамы разъехались, и за столом остались одни мужчины. На его вопрос: «Куда делся наш москаль?» — кто-то ответил, что Аратов скрылся еще до первого фейерверка.
Этим ответом его величество удовлетворился и больше не упоминал об Аратове в ту ночь, а когда на следующий день ему доложили, что Дмитрий Степанович еще во время праздника уехал в город со своим верным Езебушем, и по собранным справкам оказалось, что он в ту же ночь покинул и город в дорожной карете, король даже обрадовался такой развязке своей дружбы с москалем, всегда казавшимся ему человеком подозрительным и ненадежным, хотя он и забавлял его оригинальными выходками, остроумием и отсутствием нравственных правил. В последнее время Аратов, утрачивая беззаботную веселость, так досаждал королю неприятными замечаниями и бестактными выходками, что его общество становилось со дня на день невыносимее. К тому же и примирение с могущественными врагами обязывало короля к уступкам общественному мнению, враждебно настроенному против москалей и косо смотревшему на его близость с Аратовым. Одним словом, исчезновение последнего с варшавского горизонта произошло как нельзя более кстати, и оставалось только желать, чтобы он никогда больше не возвращался.
Возликовали и во дворце киевского воеводы, когда известие о бегстве москаля проникло туда. Правыми оказались те, которые относились недоверчиво к этому человеку, подозревая его способным на всевозможные преступления, даже на убийство. Торжествовал особенно аббатик. Разве не он первый догадался о злодействе проклятого схизматика? Разве он не стоял на своем даже тогда, когда за недостатком улик против Аратова никто не осмеливался выражать подозрения относительно таинственной смерти его жены? Разве он всегда не повторял, что этот человек способен на всякое злодеяние?
Когда все узнали, как равнодушно отнесся король к исчезновению своего любимца, и что русский посол сказал: «Надо надеяться, что мы этого господина здесь больше не увидим», — все спрашивали друг друга: неужели Розальская и теперь, когда все отвернулись от Аратова, будет продолжать упрямиться в своей любви к нему? Это было бы сумасшествие, бесовское наваждение, против которого позволительны самые крайние меры.
От печали и смущения бедная Юльяния не выходила из своих комнат, и, кроме Анны и Цецилии, никто ее не видел. Говорили, что она заболела и, к величайшему огорчению ясновельможной, упорно отказывается видеть доктора. Рассказывали, будто она с отчаяния покушалась на самоубийство. Да и мало ли что болтали во дворце киевского воеводы, где все были заинтересованы романом вдовушки с ненавистным москалем.
Сестра Фелицата даже помолодела от предвкушения приятных перспектив в ближайшем будущем. Она убедила старших резиденток и ближайших к ясновельможной компаньонок, панну Джевецкую и панну Недзелковскую, в необходимости обратиться за помощью к известному заклинателю духов, бенедиктинцу отцу Моисею, и эти панны ожидали только удобного случая, чтобы умолить госпожу последовать благому совету такой компетентной личности, как сестра Фелицата. А последняя тем временем в своих беседах с дворскими девицами о черте и чертенятах грозно восклицала:
— Пора, пора пригласить в этот дом отца Моисея! Пора окропить здесь все углы святой водой и прочесть молитвы и заклинания, от которых бесы рассыпаются прахом! Пора очистить воздух! А как это сделать, я вам могу сказать; я сама помогала отцу Моисею в борьбе с нечистой силой. Мы изгнали из матери Клеопатры пять бесов, из сестры Анжелики — восемь! Когда бесы овладевают человеком, он уж сам себе не принадлежит: и сердцем, и умом его, и волей владеет сатана. За него думает, говорит и действует дьявол. Тот, кто хоть раз видел бесноватого в ту минуту, когда из него изгоняют бесов, сомневаться в этом не может, потому что он видит чертей так, как я вас теперь вижу! Они вылезают у него из ноздрей, из ушей, изо рта! О — это страшное зрелище! Не всякий его может вынести!
Это была сущая правда. От одного описания этого ужаса со многими слушательницами делалось дурно; им казалось, что они видят бесов, и беседа прерывалась истерическими припадками.
А затворничество Юльянии между тем продолжалось. На все просьбы выйти из спальни, чтобы подышать свежим воздухом, она отвечала мольбами оставить ее в покое. Об Аратове она не спрашивала.
Прошло с неделю, больная начала поправляться, явились сон и аппетит, она поднялась с постели и просидела с час в кресле перед окном в сад. Можно было надеяться на скорое выздоровление, и пани Анна решилась покинуть ее на целый вечер, чтобы ехать на концерт к графине Ржевусской, где она должна была встретить все высшее варшавское общество, а также и русского посла, с которым ей было особенно интересно повидаться после исчезновения Аратова.
К ее величайшему удовольствию, князь Репнин первый заговорил с нею о ненавистном москале, как о личности, которой покровителям пани Розальской опасаться нечего.
— Я обещал вам, что избавлю вас от этого человека, графиня, и сдержал слово, — заметил он с улыбкой.
— Но нам хотелось бы знать, надолго ли мы избавлены от опасности? — спросила она.
— Навсегда, графиня. Песенка Аратова спета, и в Варшаву он во всяком случае не вернется.
— Извините, князь, но мне хотелось бы знать, насколько я была права в тех подозрениях, которые я позволила себе высказать вам относительно его?
— По поводу смерти его жены? Ничего верного не могу вам еще сказать. Следствие производится, но самое секретное, и я должен предупредить вас, что малейшая неосторожность может все испортить, — прибавил он, устремляя на нее выразительный взгляд, значение которого она отлично поняла.
Явилась на этот концерт и княгиня Изабелла, но без красавицы, возбудившей такое любопытство на последнем празднике в Лазенках. На вопросы о ней она отвечала, что к ее приятельнице приехал муж и что она собирается уехать с ним в Петербург.
— Она здесь проездом, и ей нет цели знакомиться с здешним обществом. Если она приняла приглашение короля, то лишь для того чтобы иметь понятие о том, как мы веселимся у его величества, — прибавила она с иронической усмешкой, всегда появляющейся на ее губах, когда она говорила про своего экс-любовника.
Впрочем, расспросами о таинственной незнакомке ей много не докучали — в последние дни о ней успели забыть. Всеобщее внимание было теперь обращено на князя Карла Радзивилла, у которого начинали собираться те самые недовольные настоящим положением страны, что еще так недавно собирались у краковского кастеляна. Предвиделись новые смуты и раздоры, на этот раз с поддержкой
Пруссии и Австрии, обещавших будто бы свое содействие восстанию против России.
Занимала также общественное мнение ссора короля с княжной Сапегой и возврат нежности к княгине Любомирский, а также вызывающий тон, проявляемый Изабеллой Чарторыской, каждый раз, когда ей и королю случалось встречаться в публике. Она так подчеркивала свое презрение и ненависть к нему, что во избежание скандала король принимал всеьозможные меры, чтобы избегать этих встреч.
С концерта Ржевусской пани Анна вернулась домой в наилучшем настроении, и вдруг, не успела она переступить порог своей уборной, как ей сообщили, что пани Розальской во дворце уже нет.
Юльяния воспользовалась отсутствием ясновельможной, чтобы бежать, и бегство это было задумано так искусно, что сомневаться в том, что оно было подготовлено заранее, было невозможно. До глубокой ночи никто во дворце ничего не подозревал. Огонь горел в ее комнатах часов до одиннадцати, и все оставались бы до утра в убеждении, что Розаль-ская почивает в своей спальне, если бы один из сторожей, делая обход по дворам, не заметил, что калитка в переулок отперта и что ключ от нее, вместо того чтобы висеть с прочими ключами у изголовья старшего жондцы [17], торчит в замке. В испуге он перебудил всех, начиная с дворцового маршала, и тот немедленно обошел помещения обитателей дворца, чтобы убедиться, кому понадобилось выйти в такую позднюю пору из калитки. Вряд ли при этом обыске решились бы беспокоить пани Розальскую, если бы не увидали дверь в ее апартамент полуоткрытой. Когда проникли в ее комнаты, то никого в них не нашли, и на каждом шагу попадались следы бегства как госпожи, так и служанки: ларцы и ящики были опорожнены, на полу валялись обрывки бумаги, бечевок, ни драгоценностей, ни денег нигде не оказалось. Наконец на столе нашли письмо в запечатанном конверте, с надписью на имя пани Анны. В нем Юльяния умоляла свою благодетельницу простить огорчение, которое она причиняет ей, и забыть про нее. Не в силах она жить без любимого человека и решила следовать за ним всюду.
XXXII
В селе Воробьевке шла уборка хлеба, и в такую-то горячую пору Андрею понадобилось ехать в город.
На обратном пути он не вытерпел, чтобы не свернуть в поле, где жали пшеницу, и, увидав, что дело не идет так споро, как бы ему хотелось, отослал тележку с лошадью домой, а сам принялся подгонять народ, чтобы до ночи ни одного не сжатого колоса не оставалось. Вернулся он домой так притомившись, что насилу-насилу уговорила его жена поесть хоть горячих щей перед сном. Ему было не до еды, и, просидев за столом минут пять, он поднялся с места, чтобы скорее раздеться и завалиться спать.
Поспешно легла и Маланья, прекратив расспросы, на которые он отвечал неохотно, — так клонило его ко сну. А между тем он не засыпал и, проворочавшись с боку на бок с час в темноте, сам сердито возобновил прерванный разговор о слухах, распускаемых лихими людьми, чтобы мутить народ.
Вести из Варшавы доходили сюда поздно, случайно и всегда в извращенном виде. Но Андрей недаром здесь вырос; он знал, что самые нелепые слухи никогда даром не появляются и всегда предшествуют каким-нибудь смутам. Чуяло его сердце беду, но не знал он, откуда ее ждать, и это раздражало его. Присмирели в ожидании и хохлы, и казаки, притаились евреи, молчали и русские, ничем особенным, кроме обычной заносчивости, не проявляли себя и поляки, но это было только затишье перед бурей. Вслед за глухими слухами начали уже проявляться признаки зловещего свойства: по дорогам все чаще попадались личности из того неблагонадежного элемента, что всегда всплывает на поверхность взбаламученного житейского моря. Где скрывались до сих пор эти люди и для чего являлись, — не стоило и спрашивать, никто этого не знал.
Андрей столкнулся с таким человеком на постоялом дворе в Киеве. Сидя за столом перед миской галушек и запивая их старой водкой, незнакомец рассказывал какие-то турусы на колесах о том, кого да кого надо выбирать в послы на конфедерацию, и подробно объяснял, что будет, если выберут людей из партии Чарторыских, чего ждать от Радзивилла, за сколько миллионов продал киевский воевода с графом Браницким москалям отчизну и какая их ждет казнь за измену, когда патриоты одержат верх.
Когда Андрей отправился на базар, то услышал там такие же толки и тоже от незнакомых пришлых людей. Вокруг них собирались толпами, закидывали их вопросами и во всеуслышание повторяли их ответы: больше всего льгот надо ждать бедному народу от светлейшего князя Радзивилла. Он всех хлопов выпустит на волю и каждого оделит землей и деньгами. А король вступил в тайный союз и врагами отчизны и дал подписку русскому послу, что всех поляков, которые откажутся переходить в греческую веру, будут топить в колодцах и реках. Много тому подобного вздора рассказывали смутьяны, и этот вздор расползался по всему городу и предместьям, а оттуда распространялся дальше по селам и хуторам. Андрей сам слышал, как эти враки повторялись с прикрасами всюду. И добро бы одни только хлопы этому верили, — это бы еще с полгоря; но об этом рассуждали и в приказе, куда он заходил писать купчую на пустошь, купленную у соседнего помещика. В приказе он нашел всех служащих в переполохе по случаю нового распоряжения русского посла в Варшаве, предлагавшего начальству пограничных с Польшей русских поселений зорко следить за народом, чтобы тот не увлекался россказнями смутьянов и выдавал последних головой начальству, дабы все они понесли должную кару за подговор к мятежу.
— Легко сказать! А как их изловишь, когда их такое множество, и с каждым днем все новые проявляются? — прибавил в конце своего повествования Андрей.
Маланья тяжело вздохнула.
— Не успела я тебе еще рассказать, а ведь я тут без тебя двух таких брехунов из наших приказала Лукьянычу розгами отодрать! — заявила она.
— Кто такие? — спросил Андрей.
— Павлушка Тихонов да Алешка Рожков. Калякала я тут с бабами о льне и вижу, с огорода Аксютка бежит, руками мне машет, чтобы я ее подождала. «Что случилось? — спрашиваю. — Опять, верно, быка не устерегли и он забодал кого?» — «Бык в стаде, — грит, — а Павлушка с Алешкой про тебя с Андреем Ивановичем гнилые слова брешут». И рассказала она мне тут, что какой-то бунтарь из дальних бунтует народ все здесь бросить да в Польшу на вольные хлеба идти. Он, видишь, каким-то своим начальством послан людей всяких вербовать на службу к новому польскому королю и всякому, кто за ним пойдет, сулит подпиской за печатью вольную да сто тысяч золотых. Ну я, как услышала это, так и распорядилась обоих молодцов выпороть, и пока там что, а заместо польских золотых здорово их отчихвостили. Будут помнить польскую волю! Приходили благодарить за науку. «Нас не учить, дураками бы жили». Крепко-накрепко наказала им и за другими присматривать. Обещались.
— Это ты хорошо догадалась и впредь так действуй, — заметил, позевывая, Андрей. — А теперь пора спать, надо завтра чуть свет вставать да жнитво кончать, за рощей еще не начинали.
Но в ту ночь спать ему не удалось. Не успел он задремать, как толчок в бок заставил его проснуться и обернуться к жене, с широко раскрытыми глазами прислушивавшейся к чему-то.
— Что там еще? — спросил он.
— Едет к нам как будто кто, — прошептала она.
Андрей тоже начал слушать. Издалека доносился звон колокольчика, все ближе и ближе. Залаяли собаки. Кто-то ехал.
— Может, мимо, — заметила Маланья.
— Надо посмотреть.
Андрей бросился к окошку, приподнял раму, толкнул ставень и стал вглядываться в ночные тени, застилавшие забор и ворота. Собаки заливались все громче, но звон колокольчика доносился все ближе и ближе. Ехали к ним: грохот колес замер у ворот, и раздался стук.
Накинуть на себя первое попавшееся под руку платье и выбежать на двор было для Андрея делом одной минуты. Крик жены, умолявшей его не впускать чужих, пока не прибегут работники, долетел до его ушей, когда он уже стоял у ворот, в которые не переставали стучать.
— Кто такие? Что нужно? — спросил он, возвышая голос.
— Уйми собак! Ничего не слыхать! — ответили ему.
— Цыц вы, окаянные! Вот я вас!
Псы успокоились. Тогда приезжий заявил, что привез Андрею Ивановичу письмо из города.
— От кого письмо, и кто ты такой?
— Да неужто ты меня не узнаешь? Кузьминский Лексашка. Отворяй без сумления, свой!
Андрей принялся вынимать тяжелые засовы, а Маланья тем временем успела разбудить работников и баб, так что въехавшая на двор телега с молодым парнем, оказавшимся племянником того содержателя постоялого двора в Киеве, у которого Андрей всегда останавливался, была встречена толпой народа с зажженными фонарями.
— С опаской живете, Андрей Иванович! — сказал приезжий, здороваясь с хозяином и следуя за ним в дом.
— Нельзя без опаски, паренек. Здесь худых людей больше, чем хороших. Ну, давай письмо! Наверное, нужное, когда с нарочным прислали, — прибавил он, принимая запечатанный гербовой печатью конверт, который посланец вынул из-за пазухи.
— А ты прочти, что на конверте-то приписано: «Без замедления воробьевскому управителю, Андрею Иванову, с нарочным доставить». Ну, меня той же минутой в путь и снарядили, — объяснял Лексашка, в то время как Андрей распечатывал письмо и читал его, приблизившись к свечке.
Письмо было от барина, и, прочитавши, Андрей опустил его в карман, ни с кем не поделившись его содержанием. Но Маланье достаточно было мельком взглянуть на мужа, чтобы догадаться о важности полученных известий. Да чтобы скорее узнать, в чем дело, она стала торопить Лексашку поужинать и ложиться спать.
— А мне, видно, уж сегодня не ложиться, — сказал Андрей, пройдя с женою в спальню. — Надо собираться в путь.
— Опять? Только что вернулся! Куда же ехать-то?
— Далеко, Маланьюшка, в Варшаву, — ответил с загадочной усмешкой Андрей. — Подошло, кажись, к развязке то дело, о котором я тебе говорил, что оно рано ли, поздно ли, вскроется.
— Это малявинское-то кощунство? — дрогнувшим от волнения голосом вымолвила Маланья, испуганно глядя на мужа.
— То самое. Барин пишет, чтобы непременно разузнать имена всех тех господ, которых господин Аратов на похороны приглашал, а также о тех попах, что отпевали, где их в случае надобности можно будет найти.
— Дошло, значит, дошло! — вскрикнула Маланья. — О Господи! Смилуйся над нами, грешными! Пронеси мимо беду!
— Нам бояться нечего, наше дело — сторона.
— А как же барин-то… с той… с живой покойницей? С ним она все или?..
— Должно быть, с ним, где же больше? Нешто он может ее бросить? Не таковский! Приказывает, ни минуты не медля, в Варшаву собираться… «Ты мне нужен», — грит. Ну и слава Богу! Дай Господи ему послужить за все его добро! А въезжать приказано прямо на двор к князю Репнину. Этот князь российским послом при короле польском состоит и, должно быть, с нашим барином знаком, когда мне приказано прямо к нему на двор въезжать. Поеду с Лексашкой до Киева, чтобы поменьше тут разговоров было промеж наших, а ты тут, если что, всем говори, что с Аксеновым у меня дело не сладилось и что я поехал другого покупщика на лес искать. Поняла? Ну а теперь ложись, под утро я тебя разбужу, — добавил Андрей, присаживаясь к столу между окнами, выдвигая в нем ящик и вынимая бумагу, чернила в пузырьке и очинённое гусиное перо. — Надо кое-что себе записать на память.
— Мне тоже не до сна. Станем с Аксиньей снаряжать тебя в дальний путь. Прикажу ей затопить печь, будем стряпать, курочек да уточек тебе нажарим, пирожок испечем. Из одежи-то, что тебе уложить?
— Одежу надо взять добрую, чтобы не стыдно было в большом городе людям показаться. Уложи в короб, чтобы не смялось. Куплю в Киеве и коня, и тележку, чтобы дальше ехать. Все равно из здешних людей никого нельзя с собой взять, лучше, значит, и лошадей отсюда не трогать.
— А в Малявино не съездишь? — спросила, немного помолчав, Маланья. — Может, барину захочется узнать, что там делается. Намеднись приходила оттуда Домна к тетке, так сказывала, что их старая барыня приказала всех пришлых людей из деревни гнать. Такой завела порядок против смутьянов — страсть! Головлевых всей семьей в дальний хутор выселяют за то, что какой-то бернардинец-монах две ночи у них переночевал. Стихло у них теперь, о смуте не то что толковать, а даже и помыслить боятся.
— Всем господам с нее бы пример брать, живо бы тогда весь край успокоился.
— Говорят, все пишет что-то. По целым ночам пера из рук не выпускает.
— К Дмитрию Степановичу, верно, в Варшаву.
— То само собой — те письма она ему с нарочными отправляет, а другое свое писание она в кованый ларец, что возле ее кровати, складывает. Как испишет лист, так туда и сложит да на ключ запрет. Ближние думают, что духовную свою вздумала менять.
— Желает, верно, родовое добро от польки оградить. Достаточно всего он понатаскал из Малявина в Варшаву, надо старухе и о детках позаботиться. А про ту польку, на которой он жениться-то думал, ничего у них не говорят?
— Говорят! В каждом письме старуха ему свое желание сообщает, чтобы он на ней не женился. Да нетто он кого послушает! А то дело совсем замерло; никто и не вспоминает, точно никогда и не бывало.
— Эх, Маланьюшка, как греха ни заминай, и все раскроется! И сдается мне, что время к тому подходит. Для чего-нибудь да понадобилось нашему Владимиру Михайловичу свидетелей собирать.
— Дай-то Бог! Пора и ему, и бедной молодой барыне успокоиться и по-людски зажить! Как подумаешь, что они от такого богатства да знатности в беглые попали, места себе нигде не могут найти, под чужим именем, как воры какие, должны хорониться! Без слез вспомнить про них не могу!
В Киеве Андрей очень скоро обзавелся всем нужным на дальний путь. На постоялом дворе нашлась прочная тележка на продажу, а знакомый маклак доставил ему отличного коня.
От провожатого Андрей отказался. Дорога ему была знакома и путешествовать один он не боялся, но, чем больше размышлял он о поручении барина, тем больше убеждался, что его жена права: не мешало бы явиться в Варшаву, пособравши побольше сведений о том деле, для которого его выписали. А нигде, даже в Малявине, не знают так много о Дмитрии Степановиче, как в замке киевского воеводы, от которого до мызы Розальской рукой подать. Там все на него смотрят как на жениха молодой вдовушки. Не заехать ли переночевать в Тульчин? Крюк не велик, а если удастся привезти барину побольше сведений о его злодее и узнать от людей Розальской, скоро ли у них готовятся играть свадьбу, тогда жалеть о потерянном времени не придется.
Размышляя таким образом, Андрей свернул на проселочную дорогу и к вечеру приехал в местечко, принадлежащее графу Салезию Потоцкому, с замком, окруженным старинным парком, где несколько месяцев тому назад пышно праздновались приготовления к выборам послов на сейм.
Это местечко, густонаселенное торговым людом, служило сборным пунктом и соседним помещикам, и приезжим купцам, закупавшим у них хлеб, овес, сено, водку, лошадей и проч., и проч. Тут было несколько корчм для приезжающих, и Андрей остановился у ворот одной из них, с хозяином которой был знаком. Время было позднее, и его немало удивляли гул голосов и оживление, царившее на дворе, среди которого стоял отпряженный барский экипаж, окруженный толпой народа.
Экипаж, должно быть, нуждался в починке: над ним хлопотали слесарь с подмастерьями с инструментами в руках, с засученными рукавами, при свете фонарей, которыми светили им другие люди. Все говорили разом, и разобрать слова было невозможно, точно так же, как и разглядеть лица говорящих. Над ними кто-то командовал: когда раздавался резкий повелительный голос из раскрытого окна в корчме, все смолкало. Андрей поднял голову к этому окну и увидел в нем барина, вероятно, обладателя попортившегося экипажа. По голосу и по фигуре ему показалось, что он узнал Аратова.
Вот встреча! Неужели судьба столкнула его с малявинским барином? Большей удачи нельзя было желать.
Между тем, заметив тележку с лошадьми перед воротами, хозяин корчмы побежал к приезжему. Узнав воробьевского управителя, он стал просить его въезжать во двор, уверяя, что для него у них всегда найдется место. Правда, лучшие комнаты он должен был уступить господину Аратову из Малявина, у которого на пути в Киев сломался экипаж, но он поместит Андрея Ивановича в своем собственном покое, в мезонине, что выходит окнами в сад.
— А откуда едет господин Аратов? — спросил Андрей.
— Из Варшавы. Торопится в свое имение, да вот беда с экипажем. Хочет, чтобы непременно к утру было готово, а рессора-то лопнула, починить ее нельзя, надо новую. Послали попросить в замок. Хорошо, если там есть. Если там не достанут, придется уж экипаж на мызе Розальской взять. А пока я приказал хороший ужин сготовить да в лучшей комнате постель приготовить.
— А много с ним людей? — продолжал любопытствовать Андрей, слезши с тележки, но не отходя от ворот.
— Трое: камердинер Езебуш, кучер да мальчик. Венчаться барин, может, в наши края приехал, кто его знает! На мызе тоже госпожу ждут. Прислала сказать, чтобы каждую минуту к ее приезду дом был готов. Вчера их садовник у нас остановился, в замок за лимонными деревьями ходил. Ну, для Розальской в замке ни в чем отказа нет, это — не то, что для нареченного ее жениха, — прибавил он с усмешкой и, взяв лошадь под уздцы, повел ее во двор.
За ним последовал туда и Андрей.
Чем больше размышлял он, тем удивительнее казалась ему непредвиденная встреча, и тем знаменательнее путешествие Дмитрия Степановича из Варшавы в деревню, где никто его не ждал, и притом в самый разгар конфедерации, в которой он принимал такое деятельное участие.
О фаворе малявинского барина у короля, о блестящих празднествах, на которые его всюду приглашали, о его влиянии и интригах было известно в Малявине и в окрестностях не только из писем Аратова к прабабке, но также из рассказов возивших ему из деревни вещи, оказывавшиеся для него необходимыми при пышной обстановке, заведенной им в польской столице: серебряную и золотую утварь, фарфоровые сервизы, украшенные драгоценными каменьями седла и уздечки, хранившиеся в кладовых родового гнезда, не говоря уже о деньгах, которыми Аратов сорил без счета. Андрей от самого Ипатыча слышал, что старой барыне пришлось почать капитал, скопленный ею в продолжение многих лет на черный день.
Этот день наступил. Оборотливый и расчетливый Дмитрий Степанович, считавший то время потерянным, когда ему не удавалось приумножить свое состояние, кажется, совсем обезумел от честолюбия, от желания ни в чем не отставать от польских магнатов и от страсти к полячке. Как мальчишка, ставит он на карту не только свое состояние, но и честь свою, и душу, и совесть. Какие у него были виды на будущее, какие блага рассчитывал он извлечь для себя из распрей и смут, волнующих чужой край, где он всем был чужой и все были ему чужды, никто не знал, но все были убеждены, что без расчета на блестящий выигрыш он ни за что не затеял бы такой рискованной игры. И вдруг все бросить и скакать за несколько сот верст от театра междоусобицы, уступая место соперникам!.. Так поступить без важной причины немыслимо. Андрей невольно искал связь между этой причиной и приказанием Владимира Михайловича немедленно приехать в Варшаву со списком людей, присутствовавших при похоронах живой покойницы.
«Почуял, верно, их злодей развязку и поторопится принять меры, чтобы спастись от беды! Хорошо было бы все это досконально узнать, да вот близок локоть, но не укусишь. И под одной крышей с человеком дышишь, а как к нему влезешь в душу? Как заставишь его высказать то, что он желает скрыть?»
Размышляя таким образом, сидя у окна и глядя в сад, или, лучше сказать, в пустырь, заросший сорными травами, одичалыми кустами малины и смородины да несколькими старыми каштанами, Андрей прислушивался к шуму, долетавшему сюда со двора, где долго еще люди возились у сломанного экипажа. Но мало-помалу все стихло, и раздался скрип ступеней под ногами хозяина, поднимавшегося в мезонин, чтобы спросить у гостя, что принести ему ужинать.
— Ужин у нас на славу, хоть самого воеводу угощать: есть баранина и свинина, борщ, галушки, лапша, что хотите, то и подадим. А рессоры-то в замке не дали, самим, говорят, нужно, — продолжал он, не дожидаясь ответа. — Господин Аратов очень рассердились, хотели было потребовать к себе управителя из замка, чтобы выговор ему сделать за невежество, но потом раздумали и приказали чуть свет на мызе у Ро-зальской экипаж взять. Ночь он проведет у нас. От ужина он отказался, и, как его спать уложат, его слуги сядут за стол. Вам, может, веселее с ними кушать? Или сюда вам принести?
Андрей от всего отказался. Смутное предчувствие давило ему грудь, отбивая не только аппетит, но и способность о чем-либо думать. Хотелось остаться одному, ничего не слышать, никого не видеть ждать… чего именно, он и сам не знал. Все его существо томилось непонятным беспокойством, точно перед грозой, а между тем небо было ясное, синее, звездное.
— Голова у меня разболелась. Скорее бы лечь да выспаться, чтобы завтра утром чуть свет выехать, — сказал он.
— Значит, раньше господина Аратова пуститесь в путь. У вас все в порядке, а им когда-то еще экипаж с мызы доставят.
— И для чего это ему понадобилось в такое веселое время из столицы уезжать? И для чего ему поспешать в деревню, когда там всем хозяйством старая барыня заведует, и ничего там особенного не случилось? — раздумчиво заметил Андрей.
— Жениться, может, надумал. На мызе люди болтают, будто их пани в дальнюю дорогу собирается. Прямо от венца в чужие края будто уедет, чтобы назад уж тогда вернуться, когда графиня с графом перестанут на нее серчать за то, что со схизматиком повенчалась.
— А люди его, что говорят?
— Скажут что-нибудь такие угрюмые, как бы не так! Да к ним с расспросами и подступиться нельзя. А уж барин их и совсем лютый. Заглянул я было к нему в дверь, чтобы спросить, не надо ли чего, он как гаркнет: «Пошел вон!» — как на собаку, право! А еще жених! Души в нем, говорят, наша пани Розальская не чает. Вот уж именно можно сказать, что полюбится сатана лучше всякого ясного сокола!
Андрей ничего не возражал. Ему хорошо была известна причина этой угрюмости Аратова, и он подумал, что если бы даже пришлось уехать отсюда, ничего больше не увидев и не услышав, то и этого было достаточно, чтобы убедиться, что у Аратова явились важные причины к подозрительности и к тревоге. Рассеянно дослушав болтовню хозяина, он пожелал ему доброй ночи, а затем, помолившись Богу, загасил свечку и лег спать.
Но заснуть он не мог. Сердце продолжало тоскливо ныть, и мучительная истома с минуты на минуту усиливалась.
«От духоты, верно», — подумал он и сорвался с постели, чтобы растворить окно, и, усевшись на подоконник, стал вдыхать в себя ночную свежесть.
Стало полегче. Кругом было тихо, все спали. Но Андрею спать не хотелось, и долго-долго смотрел он на звездное небо, перебирая впечатления вчерашнего дня, постепенно сливавшиеся с прошлыми тревогами и волнениями. Одно за другим проходили перед его духовными очами события близившегося к концу лета: внезапный приезд молодого барина в Воробьевку, поездка его в Малявино, ужас пережитых тогда опасений, свидание с монахом, пробуждение его души и, наконец, неожиданная развязка нравственной пытки, чуть было не доведшей его до самоубийства. Переживая чудные мгновения сердечного порыва, заставившего его во всем повиниться барину, Андрей снова ощутил прилив преданности и любви к благодетелю, великодушно заплатившему ему добром за зло, и его сердце наполнилось умилением. Последовавшие затем события: похищение Елены Васильевны, тревога за влюбленных во время ее пребывания в старом доме, проводы их в лес к монаху, расставание с ними и, наконец, страшные похороны в Малявине, — так живо воскресали в его памяти, что ему порой казалось, что он все это переживает не в воображении, а на самом деле. Ему слышались погребальное пение и пронзительный крик ребенка, с ужасом откидывавшегося от мертвого тела, к которому его заставляли приложиться.
Что должен был чувствовать тот, кто свершил это гнусное кощунство — раскапыватель могил и похититель мертвеца? Неужели он может спокойно спать и наслаждаться жизнью? Неужели его не мучат тяжелые сны? Неужели призрак содеянного не тревожит его совести? И неужели он не сознает, что час Божьего суда готовится для него пробить?
И вдруг, как бы в ответ на эти вопросы, Андрей услышал глубокий вздох. В этом вздохе слышался стон наболевшей души, звучали слезы смертельной тоски и отчаяния. В другое время Андрей, может быть, и не услышал бы этого стона, но кругом царила такая чудная, торжественная тишина, и душа его была так близка к несчастному страдальцу, изнемогающему под гнетом нравственной пытки, что он в испуге стал всматриваться в ночные тени, сгущавшиеся под деревом в нескольких шагах от окна, на котором он сидел, и увидел беспомощно распростертое на земле человеческое тело, в котором он узнал, не столько глазами, сколько сердцем, малявинского барина.
Андрей перекрестился и отошел от окна.
Солнце было уже высоко, а он еще спал, как убитый, когда стук в дверь заставил его проснуться и спросить: «Кто тут и что нужно?»
— Отворите скорее! — раздался взволнованный голос хозяина. Андрей слез с постели и откинул крючок с двери.
— Беда у нас случилась! Вы тут себе почиваете, а хотели чуть свет уехать…
— Какая беда? С кем?
— Господин Аратов зарезался!
Андрей остолбенел от ужаса. Воспоминания беспорядочным хаосом закружились у него в мозгу, но разобраться в впечатлениях, туманивших разум и давивших грудь, не было сил, а вопросы, рвущиеся с губ, не выговаривались.
— Да, вот и вы испугались! И мы тоже в первую минуту обалдели. Долго не хотели верить. Чего бы, кажется, человеку недоставало? Молод, богат, здоров, на первой красавице в воеводстве женится, миллионное приданое за нею берет, и вдруг такое над собою сделать, что даже выговорить страшно! — продолжал размышлять вслух хозяин.
— Где? Когда? — задыхающимся голосом спросил Андрей.
— Не здесь, слава Богу! Подумайте только, какое бы это для нас было разорение, если бы он вздумал свое страшное дело учинить здесь! Мертвое тело в корчме! Уж одного этого достаточно, чтобы надолго отпугнуть от дома посетителей — следствие, обыск, розыск! Волосы поднимаются дыбом, когда одумаешь!
— Где же он это над собой сделал?
— На мызе Розальской. Там его нашли уж мертвым. И кинжал возле него… тот самый кинжал, который мы вчера все на нем видели! Ушел туда пешком, один, ночью или чуть свет, а когда именно — никто не знает!
«После того как он тут, под моим окном, стонал от душевной скорби!» — подумал Андрей.
— Хватились его только утром и довольно поздно. Хотел вот, как вы, встать рано и ехать, а между тем уже и солнце взошло, и народ позавтракал, а из спальни нет ни слуха ни духа. Делать нечего! Камердинер его ждал, ждал, да и заглянул в дверь, на кровати-то никого нет! Побежали искать по дому, в саду, в огороде — нигде нет! Между прочим, ни шляпы, ни плаща, ни трости не оказалось. Ушел, значит, далеко. Сейчас, конечно, нам пришло в голову, что он на мызу отправился, чтобы поторопить кучера или чтобы самому экипаж выбрать; ну, Езебуш туда и побежал. А там никто барина его и не видел. Кучера он застал у посессора, закусывает. «Здесь барин?» — спрашивает. А те даже не понимают, что он спрашивает. Однако пошли искать в доме и нашли — лежит бездыханный в спальне их пани, на ковре, кругом целая лужа крови натекла… Да вы это куда же? — прервал он свой рассказ, увидав, что Андрей, который, слушая его, наскоро одевался, взял свой картуз и собирался куда-то выйти. — Вчера от ужина отказались… Хозяйка вам завтрак готовит…
— Спасибо, я есть не хочу, — ответил Андрей, поспешно выходя из дома и направляясь к конюшне в сопровождении хозяина, у которого потребность делиться впечатлениями была так велика, что он продолжал говорить даже и тогда, когда видел, что его не слушают.
— Когда вас назад ждать? — спросил он, помогая Андрею впрягать лошадь в тележку.
— Не знаю, как дела, — отрывисто ответил последний, готовясь пуститься в путь, и через несколько минут, стегнув лошадь, уехал.
Здешняя местность ему была хорошо знакома. Свернув с большой дороги в парк, он с час ехал под тенистыми сводами столетних деревьев, пока не выглянула из моря зелени красная крыша дома с белыми мраморными колоннами, увитыми плющом и каприфолиями. В одной части парка, принадлежавшей Розальской, деревья были особенно прекрасны и хорошо содержались. Наступившая осень начинала уже кое-где окрашивать листву в багровые и желтые цвета всевозможных оттенков. Воздух был мягок и душист, пропитан ароматом цветов и плодов, которыми были наполнены оранжереи и теплицы хорошенькой вдовушки. По мере приближения к дому этот аромат чувствовался сильнее и сильнее, а в искусно прорубленных просеках начинали мелькать живописной архитектуры постройки с окнами, перевитыми вьющимися растениями. Наконец, выглянула и широкая терраса с мраморными ступенями в цветник, на которых Юльяния любила предаваться любовным мечтаниям.
Да, все тут было по-прежнему. По-прежнему цвели и благоухали цветы, по-прежнему хлопотали с беззаботным щебетанием птицы у гнезд, и только глухой сдержанный гул голосов и шагов, долетавший по временам из этого прелестного жилища, нарушал иллюзию, навевая на душу зловещие представления.
Андрей слез с тележки у живой изгороди, усыпанной пышно распустившимися бельдежурами, привязал к ней лошадь и прошел к дому через настежь растворенную калитку по усыпанной песком дорожке, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на людей с испуганными лицами, попадавшихся ему навстречу. Здесь царила смерть, а перед смертью, особенно когда она является внезапно, в самый разгар жизненных забот и наслаждений, все стушевывается, все кажется ничтожно, и нет места ни любопытству, ни подозрительности.
Беспрепятственно поднялся он по ступеням террасы и проник в розовое гнездышко с широкой кроватью, украшенной золотом и фарфоровыми медальонами с живописью. Перед этим разубранным ложем лежал застывший труп Аратова, с зияющей раной на горле, из которой сочилась кровь. Глаза мертвеца были открыты и как будто с недоумением вопрошали каждого, кто останавливался на них взглядом: «Что же вы меня не закроете? Все равно, сколько меня ни спрашивайте, кроме того, что вы видите, ничего не узнаете. Не узнаете ни моей борьбы, ни страданий, не узнаете, раскаиваюсь ли я в содеянном зле и в том, что я над собой сделал. Не узнаете, что именно побудило меня уйти со сцены до конца представления — отчаяние, угрызения совести, утомление жизнью, страх или что другое, человеческими словами невыразимое, человеческим разумом непостижимое, нечто не от мира сего, а оттуда, куда я ушел, когда неуловимая нить, связывавшая мою бессмертную душу с землей, порвалась, и земная жизнь утрэтила для меня всякий вкус и смысл… Ничего не узнаете вы теперь от меня никогда. Тайн своих мертвецы не выдают».
Андрей не мог оторваться от этих глаз. Кругом входили и выходили люди, тихо перешептывались между собою, но он ничего не видел и не слышал. Стоял тут с поникшей головой и с судорожно стиснутыми губами и Езебуш, и люди с мызы, а также из замка киевского воеводы; на всех лицах к испугу и любопытству примешивалось выражение тоскливого ожидания, всех тяготил страшный взгляд мертвых глаз, и все спрашивали себя с раздражением: когда же наконец явится представитель власти, за которым уже давно ускакал верховой, чтобы можно было закрыть эти глаза?
И вдруг среди тишины и всеобщего оцепенения пробежал трепет. Кто-то вошел, что-то узналось, и все, точно сговорившись, поспешно вышли из покоя. С мертвецом остался один Андрей.
Сотворив молитву за душу несчастного, свершившего над собою такой страшный самосуд, он тоже поспешил выйти из дома. Проходя через цветник, он услышал шум подъезжавшего экипажа с противоположной стороны и гул толпы, высыпавшей к нему навстречу, и, сообразив, что приезжие могут задержать его, пустился бежать к выходу.
Отвязав от ограды лошадь, он вскочил в тележку и помчался под горку с такой быстротой, что, когда через несколько минут оглянулся, мызы уже не видно было, и можно было без опасения продолжать путь. Привезти первому весть об освобождении своему благодетелю казалось таким счастьем, при одной мысли о котором его сердце усиленно билось.
И ничто не помешало ему насладиться этим счастьем. Его путь совершился удивительно благополучно. Он опередил всех вестовщиков, посланных с роковой вестью о смерти Аратова в Варшаву: из замка — к киевскому воеводе, и с мызы — к пани Розальской. Когда Андрей явился к русскому послу, никто еще не знал в городе о самоубийстве Дмитрия Степановича, и благодаря воробьевскому управляющему Владимир Михайлович и Елена Васильевна узнали несколькими днями раньше, что им никто не может помешать обвенчаться и перед лицом всего света любить друг друга.
Радовались и в замке киевского воеводы. Но здесь радость была непродолжительна. Из известий, полученных с мызы, выяснилось, что пани Розальская приехала туда накануне того дня, когда тело самоубийцы должны были отправить по требованию его прабабки в Малявино, и что она последовала за этим телом в Россию. Куда она потом делась — очень долго никто не знал, невзирая на то, что сам русский посол, по просьбе киевского воеводы и его супруги, принимал деятельное участие в поисках. Вместе с Езебушем, главным участником преступления Аратова, Юльяния скрылась неизвестно куда.
Из слов Цецилии, за которой послали на мызу, чтобы узнать подробности исчезновения ее госпожи, узнали только, что известие о страшной смерти Аратова Юльяния приняла много спокойнее, чем можно было ожидать; целую ночь она провела одна у трупа, а потом, после продолжительного разговора наедине с Езебушем, уехала с ним в экипаже и на лошадях покойного его барина по дороге в Киев. На все расспросы — когда ее ждать назад? — она не отвечала ни слова и вообще так держала себя со всеми, кроме камердинера покойного, что приставать к ней с вопросами и советами не было никакой возможности. Переждав несколько дней, Цецилия отправилась в Малявино, чтобы узнать о своей госпоже, но ничего там не могла добиться. На все расспросы ей отвечали, что приезжала сюда какая-то польская пани, добивалась свидания со старой барыней, плакала, предлагала деньги, умоляла, чтобы доложили о ней, но старая барыня не пожелала пустить ее на глаза и приказала сказать ей, чтобы немедленно убиралась вон из Maлявина, если не хочет быть схваченной и сосланной в Сибирь. Так и уехала эта пани, ничего не добившись. Пустилась в обратный путь и Цецилия, ничего не узнав из того, для чего сюда приезжала.
Юльяния как в воду канула. На запросы русского посла, по просьбе пани Анны, Серафима Даниловна отвечала, что никаких полячек у нее в деревне нет. И по другим сведениям пришлось убедиться, что Розальской ни в Малявине, ни по соседству нет, а где она — так и осталось тайной.
Много времени спустя, когда все уже забыли о ней, близкие к пани Анне резидентки шепотом передавали друг другу, будто ясновельможная узнала от кого-то, что Юльяния перешла в схизматическую веру и постриглась в монастыре под Москвой. Откуда явилось это известие — никто не знал, но во всяком случае оно было так ужасно и позорно для фамилии Потоцких, что никто не позволял себе повторять его вслух, и расположенные к графу и графине люди не верили ему, утверждая, что это ложь, выдуманная врагами «фамилии». На чьей стороне была правда — до сих пор неизвестно.
1899
Примечания
1
Станислав Понятовский, фаворит Екатерины Великой.
(обратно)2
Проживальцы и проживалки.
(обратно)3
Любовников.
(обратно)4
Брыжи.
(обратно)5
Заблудшаяся и тупоумная нация.
(обратно)6
Поместные воеводские союзы с собственными сеймами.
(обратно)7
Право протеста против решений сейма по общегосударственным делам, принадлежавшее в Польше каждому шляхтичу.
(обратно)8
Епископ-наместник.
(обратно)9
Привилегированной особой.
(обратно)10
Каждый народ имеет такую религию, какую заслуживает.
(обратно)11
Каждая религия имеет влияние, какое заслуживает.
(обратно)12
Лучше ничего не делать, чем делать пустяки.
(обратно)13
Игуменья по-польски.
(обратно)14
Настоятель монастыря.
(обратно)15
Игуменья-настоятельница.
(обратно)16
Имена ненавистны.
(обратно)17
Жондца — управляющий.
(обратно)



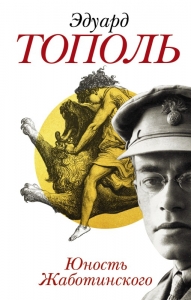

Комментарии к книге «Перед разгромом», Н. Северин
Всего 0 комментариев