Роман-гипотеза
Вместо предисловия
Как-то у нас с приятелем зашел разговор о том, каким образом госпожа история в переломные, решающие моменты выдвигает на первый план тех или иных личностей.
— Конечно, большую роль тут играет фактор случайности, — сказал я. — В одном из рассказов Марка Твена герой, подобно Данте, путешествует по загробному миру. И сопровождающий его чичероне показывает ему самые замечательные личности. Вот этот человек, говорит он, — гениальный полководец. Рядом с ним Наполеон, что говорится, отдыхает. Но на Земле этот человек на земле был портным, жил в другое время и в другом месте, и его задатки оказались не востребованы. А Наполеон оказался в нужное время и в нужном месте…
Кстати, известно, что Бонапарт по молодости подавал прошение на службу в русской армии. Но ему отказали. Наверное, решили, что ростом не вышел. А если бы приняли? Глядишь, вся история девятнадцатого века была иной…
Или взять Шикельгрубера. Стань Адольф студентом художественной академии, то, возможно, направил бы свою истерическую энергию на создание каких-нибудь необычных архитектурных проектов, а не на разработку плана «Барбаросса»…
— Это так и не так, — возразил приятель. — Потому что вместо них все равно кто-нибудь да появился бы. Правда, и события приобрели бы несколько иной характер. Но событие все равно состоялось бы. И потом, история, как известно, не имеет сослагательного наклонения.
— Вот этой затасканной фразы я никогда не понимал, — возразил я. — А почему бы, спрашивается, не порассуждать в сослагательном наклонении о том, что могло бы быть, появись иные личности и иные обстоятельства? Неужели это не интересно и так уж ненаучно? Современные компьютеры позволяют моделировать развитие любой ситуации… Но я возвращаюсь к своему вопросу: каким образом совпадают траектория событий и траектория судьбы конкретной личности?
— Меня-то интересует другое, — сказал приятель. — Насколько вообще достоверны так называемые исторические сведения. Мудрый француз Анатоль Франс заметил как-то по этому поводу: «История не наука; она — искусство. В ней только воображение приносит успех». И, мне кажется, он совершенно прав… Недавно я приобрел в букинистическом магазине «Заговор Катилины», книгу, выпущенную в 1934 году в издательстве «ACADEMIA». Туда включен труд Саллюстия, речи Цицерона, уйма комментариев и статья Преображенского, которая называется «Миф о Катилине». И мне подумалось, что античная история — это вообще наполовину мифология. Ведь мышление греков и римлян с детства формировалось мифами и легендами. Поэтому для них отделить истину от более выразительного, а поэтому и более убедительного исторического мифа было непросто…
У меня сложилось такое впечатление, что Цицерон, а следом за ним Саллюстий просто сочинили своего Катилину. Одному нужна была слава политика, другому — историка, и они на пару хорошо поработали… А народ между тем горячо любил этого самого Катилину и долго еще ходил на его могилку. Так что, возможно, на самом деле это был не такой уж плохой парень. Боролся с олигархами, бросил вызов сенату… Ведь Юлий Цезарь потом сделал то же самое — централизовал власть, урезал права окопавшихся в сенате олигархов, списал с бедняков долги и тому подобное.
— Но Юлий оказался в нужнее время, — продолжал я гнуть свое. — А Катилина был преждевременным человеком. И потом это два разных типа, два разных характера…
У одного китайского мудреца есть парадоксальное размышление о силе и слабости. Подобно тому, как гибкие деревья, по сравнению с крепкими и жесткими, более живучи, говорит он, так и в людских отношениях часто побеждает не сила и крепость, а гибкость, а порой и слабость. Скажем, если сравнить боровшихся за власть Антония и Августа, то это две полные противоположности. Антоний — мужлан, человек действия, здоровенный, полный энергии мужик. Август, наоборот, — слегка субтильный, даже болезненный, мягкий в обращении. Но побеждает в схватке дуумвиров именно он. И, возможно, в истории Катилины и Цезаря, которые тоже оказались своего рода соперниками, но в разных временных отрезках, Цезарю удалось достигнуть того, что он хотел, потому, что он был более терпелив и гибок…
Разговор наш закончился тем, что я забрал у приятеля книгу про Катилину, потом прочел статью А. Блока «Катилина», перелопатил кучу литературы о Риме периода заката республики и, наконец, решился, опираясь на приводимые в исторических источниках факты и подключив, как советовал А.Франс, воображение, решил предложить читателю свой вариант развития событий, связанных с личностью Луция Сергия Катилины.
Глава I. Censeo Carythaginem esse delendam[1]
Под вечер на него навалилась неодолимая дремотная скука. Окутала липкой, вязкой паутиной, лишив энергии его большое, потное тело. Он лежал обнаженный, сбросив на пол легкое покрывало, и уставившись на судорожно мигающий огонек лампады, смотрел, как вокруг него чертят зигзаги бабочки и жуки.
Где-то вдали послышался рык, похожий на дальние раскаты грома, — это негодовал лев, которого уже три дня морили голодом, прежде чем выпустить на арену Большого цирка для казни преступников.
Катилина опустил ноги с лежанки, медленно встал и, подойдя к квадратному окошку, в котором мерцала голубоватая звезда, вдохнул широкими ноздрями ночной, пронзительно пахнущий рекой воздух. Накинул на себя тунику и, громко шаркая сандалиями по прохладному мраморному полу, направился в столовую. Вытащил из котла большую кость, оторвал от нее зубами большой кусок мяса и стал вяло пережевывать его, привалившись спиной к прохладной мраморной стене. Один из слуг заглянул в столовую, спрашивая взглядом и жестом, не нужно ли что хозяину. Катилину махнул рукой, и раб исчез, растворился в темноте.
Катилина скользнул взглядом по восковым маскам предков, на которых осел многолетний слой черной копоти, снял со стены самую выразительную из них — посмертный слепок с волевого лица деда, героя Третьей Пунической и, глядя в его глазницы без зрачков, попытался представить себе, каков был это человек, который ушел из жизни, когда ему, Луцию, было всего десять лет..
Теперь эта знаменитая Третья Пуническая — уже далекая история. За восемьдесят лет она покрылась такой же дымкой памяти, какой восковые маски предков покрываются с годами черной копотью…
Странная это была война. Карфаген в ту пору не представлял для Рима никакой опасности. Некогда мощная армия пунов давно превратилась в плохо обученное воинство, существующее лишь для устрашения собственных граждан и окрестных племен. Но Рим никак не мог забыть унижения и страха, испытанного в Первую Пуническую, когда Ганнибал стоял у ворот города. Поэтому сенат восторженно внимал Катону-старшему, с упорством городского сумасшедшего заканчивавшему чуть ли не каждое свое выступление истерическим возгласом: «Карфаген должен быть разрушен»…
Но реальная война с Карфагеном началась вовсе не из жажды реванша или самоутверждения, а из-за того, что для Рима настали нелегкие времена. Новой добычи и новых рабов почти не поступало; римские легионы терпели одно поражение за другим; граждане Рима погрязли в долгах, с которыми никак не могли расплатиться. Надо было срочно искать выход из кризиса. Тут и вспомнили про Карфаген, уничтожение которого позволило бы занять Риму выгодные позиции в торговле.
Но начать войну сразу, ни с того, ни с сего мешало одно существенное обстоятельство: с пунами был подписан договор о ненападении. А для Рима закон всегда был превыше всего. Требовалось срочно изыскать сasus beli[2], предлог для объявления войны. И тайные службы Рима принялись готовить операцию «Союзник».
Престарелому царю Нумидии, у которого с Римом был заключен договор о взаимопомощи, откровенно дали понять: не хочешь потерять трон — начинай донимать Карфаген. И нумидийские всадники помчались с гиканьем на территорию соседей, опустошая пограничные селения и постепенно углубляясь все дальше на карфагенскую территорию.
Совет Ста Четырех сразу понял, откуда ветер, и отдал приграничным заставам строжайший приказ: не оказывать нумидийцам никакого сопротивления!
Так продолжалось несколько месяцев. Нумидийская конница совершала рейд за рейдом, грабя население, угоняя скот, насилуя женщин. Жители сел посылали в столицу своих представителей, которые сообщали все новые и новые леденящие душу факты. Немногочисленная, но энергичная оппозиция в Совете поставила вопрос о необходимости защиты собственных граждан и с небольшим перевесом нашла поддержку своим предложениям.
И однажды, когда вконец обнаглевшие нумидийцы в очередной раз ринулись за легкой добычей, их встретил внезапный, а потому весьма успешный отпор со стороны армии пунов.
Дожидавшийся именно такого поворота событий, Рим тут же заявил: Карфаген нарушил договор, напав на союзника Рима, и этим поставил себя вне закона, что автоматически аннулирует договор о ненападении.
Верхушка Карфагена поняла, что запахло войной. Было приказано немедля арестовать всех оппозиционеров, инициировавших отпор нумидийцам. Несчастных осудили на смерть, а чтобы продемонстрировать сенату полную лояльность, несчастных для исполнения приговора отправили в Рим.
Сенат одобрил такое проявление покорности, но потребовал прислать еще триста знатных граждан — в качестве заложников. Это условие Совет также беспрекословно выполнил.
Следующая операция, задуманная тайными службами Рима, называлась «Страх и ужас». Из Рима в Карфаген под видом купцов были засланы десятки агентов. Посещая рынки, бани и площадные представления, они как бы между прочим рассказывали, сколь велика мощь Рима. Слухи эти, быстро достигнув ушей карфагенской знати, породили в ней парализующий страх. Теперь она уже была готова идти на любые уступки, чтоб только избежать войны.
Следующее условие сената не заставило себя долго ждать: Рим потребовал полной демилитаризации Карфагена. И на этот раз Совет проявил полную покорность. Под контролем римских советников всё имеющееся у Карфгена оружие было погружено на корабли и отправлено в Рим. Мало того, Совет добавил к этому еще боевых коней и слонов.
Теперь, когда Карфаген оказался полностью разоружен, можно было начинать операцию «Ликвидация». Высадившись на африканский берег, римские легионы приблизились к воротам Карфагена и передали Совету последнее и главное требование: пуны должны снести Карфаген до основания. Новый город они могут построить в любом другом месте, но не ближе, чем за пятнадцать километров от моря. Это означало, что могуществу и благополучию Карфагену пришел конец.
Узнав, чем завершились бесконечные уступки, жители города пришли в ярость и негодование. Собравшись на площади, они рвали на себе волосы, посылали проклятия Совету и без конца скандировали: «Родина или смерть!».
Когда, наконец, эмоции поутихли, начали высказываться разумные предложения — пойти на хитрость, чтобы выиграть время.
Парламентеры пунов изобразили полную готовность выполнить поставленные условия. Единственная просьба послов заключалась в том, чтобы сенат дал горожанам время для того, чтобы они смогли собрать и перевезти свои пожитки. Рим, привыкший к безропотной покорности Карфагена и нисколько не сомневавшийся в том, что все идет по плану, милостиво отпустил пунам на сборы месяц.
Не успели римские корабли скрыться за горизонтом, как в городе закипела работа. Под руководством Гасдрубала (племянника Ганнибала), началась подготовка к обороне. Днем и ночью мужчины возводили стены, ковали оружие, строили катапульты. Ребятишки подкатывали камни к стоящимся стенам и держали ночью факелы. Девочки подносили строителям воду и пищу, а женщины, по примеру жены Гасдрубала, срезали свои волосы и начали вить из них тетиву для луков…
Спустя месяц римские легионы вновь высадились на берег.
Подойдя к городу, они не поверили собственным глазам. Мало того, что Карфаген не был разрушен и стоял на прежнем месте — за его старыми городскими стенами, точно из-под земли, выросли два ряда совершенно новых, мощных укреплений.
Запросив из Рима лестницы и глинобитные орудия, легионеры пошли на штурм. И тут произошло такое, о чем дед рассказывал, как о конце света. Едва солдаты приблизились к стенам и попытались поставить штурмовые лестницы, как на головы их обрушился град камней, изрыгаемых метательными орудиями, швыряемых пращеметателями и просто сбрасываемых на головы штурмующих. Затем сверху полились потоками расплавленная смола и горящая сера, а карфагенские лучники запустили в воздух такое количество смертельно жалящих стрел, что небо потемнело. В завершение этого кошмара ворота крепости распахнулись, и оттуда с ревом вырвались боевые слоны с сидящими на них солдатами, разящими противника копьями и стрелами. Полный разгром легионов довершила конница пунов, неожиданно налетевшая вихрем на римские фланги…
Целую ночь за стенами города царило веселье: звучали песнопения, трубили трубы, и небо багровело от костров — пуны приносили богам щедрые жертвы…
Осознав, что штурм крепости невозможен, римляне решили блокировать город, чтобы заставить его жителей, лишившихся возможности пополнять продовольствие, сдаться.
Минул год. За ним еще один. Но Карфаген и не думал просить пощады.
Маявшаяся же от вынужденного безделья римская армия день за днем теряла боевой дух. Стали процветать неизбежные стутники безделья и скуки — пьянство, азартные игры, тупые забавы. Как мухи на падаль, в лагерь потянулись проститутки, менялы, торговцы, и вскоре он стал больше походить на базарную площадь, чем на военное подразделение.
Сенату надоело, наконец, бессмысленное топтание на месте и пустая трата денег на бездействующую армию. После долгих и яростных споров новым главнокомандующим был назначен очень не удобный для многих, но деятельный и решительный Сципион, потомок того самого Сципиона, что героически сражался с Ганнибалом. В этом было что-то символическое: Сципионы против Ганнибалов.
Дед Луция участвовал и в этом, втором этапе штурма Карфагена.
Видя, что осадой ничего не удалось добиться, Сцепион решил предпринять штурм крепости. Однако, понимая, что успех тут может принести только внезапность, он пошел на хитрость.
Чтобы никто из пунов не мог разглядеть даже предположить какие-либо изменения в римском лагере, далеко от стен крепости, за холмами, начались военные учения. Группы легионеров, незаметно меняя друг друга, отрабатывали там искусство быстрого взбирания по лестнице, упражнялись в рукопашном бое и затачивали свое оружие.
Чтобы окончательно усыпить бдительность осажденных, за день до начала штурма Сцепион построил два легиона и велел трубить в трубы и бить в барабаны. После чего легионеры направились к стоящим у причала кораблям и стали имитировать подготовку к отплытию.
Когда же наступила ночь, легионеры незаметно вернулись на свои места. Густо смазав колеса осадных орудий жиром, в полном мраке — для этого специально была выбрана безлунная ночь — они приблизились к стенам крепости.
Лишь когда забрезжил рассвет, пуны обнаружили, что у крепостной стены стоят осадные орудия, а с ними — огромные лестницы, по которым взбираются римские легионеры.
Сражение закончилось с первыми лучами солнца. Потеряв двести человек, римляне выбили пунов, отчаянно защищавших старую, наружную стену.
Теперь предстояло решить гораздо более сложную задачу — взять второй ряд укреплений, гораздо более высоких и мощных, чем старые стены. Да и притупить бдительность жителей города, почувствовавших близость врага, теперь было непросто: пуны мгновенно определяли, где ведется подкоп или готовится прорыв.
Сципион решил не торопить события и начал второй этап осады. Но, в отличие от своего предшественника, он сделал блокаду полной: были отрезаны все подходы к морю и взято под контроль любое передвижение около крепости.
Дело шло к зиме, и оставалось лишь ждать, когда пуны, оставшись без продовольствия, изнуренные лишениями, голодом, холодом и болезнями, запросят пощады.
Но Карфаген по-прежнему не думал сдаваться.
Тогда, послав за подкреплением, Сципион начал подготовку к новому штурму. Подтянув ночью все глинобитные орудия, он приказал бить двухметровую кладку второй стены, не обращая внимания ни на стрелы, ни на град камней, ни на льющуюся сверху расплавленную серу.
И когда, наконец, в стене зазиял проем, римляне кинулись а атаку. Теперь всё решали храбрость и натиск. Именно тут проявил себя дед Луция. Вместе с легендарным Тиберием Гракхом он оказался среди первых, кому удалось, отбиваясь от вражеских мечей, ворваться в пробитую легионерами брешь. Как и все мужчины из рода Сергиев, дед был широк в плечах, высок и могуч — таким он оставался и в старости. И можно представить, как он рубил наотмашь всех, кто попадался на его пути…
В этот день римляне потеряли несколько сотен человек, но все же сумели взять не только укрепления второго ряда, на которых они споткнулись полгода назад, но и взобраться на третью крепостную стену, через которую и проникли в город. Судьба крепости была решена…
Первое, что поразило легионеров, вступивших на вражескую территорию, было жуткое, удушающее зловоние, которым был пропитан весь город. Повсюду валялись трупы лошадей, точнее то, что оставалось от них после того, как мучимые голодом люди отрезали от животных все, что только могло пойти в пищу. В городе давно были съедены все боевые слоны, собаки и кошки. Судя по всему, нередки были и случаи людоедства.
Кроме тошнотворного трупного запаха в воздухе висел запах паленого мяса. У пунов был ритуал сжигать своих мертвецов, а поскольку от недоедания и болезней каждый день умирали десятки людей, то костры в храмах горели, не затухая.
Изнуренные голодом, холодом, бесконечным неопределенным ожиданием развязки, пуны не в состоянии были оказать достойного сопротивления, хотя храбро бились за каждую улицу и каждый дом. То и дело они перебегали, как кошки, от крыши к крыше по проложенным специально для этого доскам между домами, успевая кинуть в римских воинов копье, дротик или горящий смоляной факел. Озлобленные легионеры, путаясь в незнакомых им улицах и проулках, выкрикивая проклятия, истребляли остервенело все живое, что попадалось им по пути или обнаруживалось в захваченном доме, — будь то старик, женщина или ребенок.
Гасдрубал с женой и двумя малолетними детьми и его приближенные укрылись в храме бога благополучия.
Видя, что легионеры утомлены семидневными боями, Сципион не стал рисковать людьми и решил взять последний оплот Карфагена измором.
Понимая, что рассчитывать на снисхождение победителей не приходится, на третий день осады укрывшиеся в храме люди решили покончить с собой. На полу был разведен огромный костер, и люди стали кидаться в него сверху один за другим.
Глядя на клубы дыма и слыша стоны, причитания и отчаянные крики, доносящиеся из храма, Сципион хотел уже было дать команду идти на штурм последней цитадели, как вдруг боковая дверь храма приоткрылась. Из нее выбежал мужчина в красном плаще, стремительно бросился к Сципиону и упал перед ним на колени.
Это был Гасдрубал, полководец пунов, два года возглавлявший героическую оборону Карфагена. Что-то, видно, сломалось в душе этого свирепого человека, не знавшего пощады к врагам, предававшего безжалостным мукам попадавших в плен римлян, изуродованные тела которых выставлял потом для устрашения на стенах крепости.
Жена Гасдрубала в это время стояла на самой верхней площадке храма, готовясь к самосожжению. Увидев мужа на площади, она громко прокричала ему что-то на своем языке. Исчезла на мгновение и вновь появилась на площадке, но теперь вместе с двумя сыновьями. Выкрикнула гневно какие-то слова, она взяла за руки детей и вместе с ними кинулась вниз, на мостовую.
В тот же миг Сципион, выдернув из ножен меч, пронзил сердце последнего полководца пунов. Может быть, он сделал это из презрения к трусу, а, может быть, из жалости к Гасдрубалу, освобождая его от унизительного плена и от позорной смерти от рук палача…
О самой битве дед не любил рассказывать. Видно, было там что-то такое, что заставляло старого ветерана стыдиться знаменитой кампании. И когда Луций вырос, он понял, что именно томило деда, напрочь лишенного сентиментальности, и что заставляло его избегать карфагенских воспоминаний. Ведь легионерам, озлобившимся на тупое сопротивление осажденных, пришлось уничтожать в основном не солдат, а гражданское население. Можно себе представить, как они, стоя по щиколотку в крови, сражались с изможденными, изнуренными голодом и хворями людьми. Если среди уцелевших пунов женщин осталось в живых меньше, чем мужчин, это значит, что и они принимали активное участие в обороне города и что их убивали так же, как мужчин, не говоря уж о другом…
Когда все было кончено, Сципион, решил побыстрее покинуть проклятое место. Но на всякий случай запросил Рим относительно дальнейших действий. И сенаторы, не обладавшие достаточным воображением, чтобы представить себе сотую долю того, что здесь творилось, повторили слова Катона старшего: «Карфаген должен быть разрушен и снесен с лица земли!»
Подожженный со всех сторон Карфаген горел еще семнадцать дней и семнадцать ночей, и пленные пуны, глядя на багровое зарево, плакали навзрыд и рвали на себе волосы, прощаясь навсегда с тем, что еще совсем недавно было их родиной, великолепным и прекрасным Карфагеном, манившим к себе купцов и странников со всего мира.
После того как пламя истребило все, что только могло гореть, пунов заставили крушить и разбирать остатки бывших домов, дворцов и храмов. Легионеры тоже вынуждены были заняться этим не свойственным им делом, желая поскорей уехать домой с богатой добычей.
Когда камни были в основном разобраны, землю, на которой сотни лет стоял Карфаген, символически перепахали вдоль и поперек. А когда «пахари» увели уставших быков, на их место пришли «сеятели» и принялись разбрасывать пригоршни соли для того, чтобы место это навсегда стало бесплодной пустыней.
Доставленные в Рим пленные прошли во время грандиозного триумфа, устроенного в честь Сципиона младшего, прозванного отныне Африканским, по Священной дороге, ведущей к Форуму. Самых знатных из них подвели в тот же день к Мамертинской тюрьме и опустили через проем башни в затхлое подземелье, где палачи удавили их, как котят. Знай эти бедолаги, какая их ждет участь, они, скорее всего, предпочли бы броситься на римские мечи или кинуться с корабля в пучины моря. Но так уж устроен человек — до последнего вздоха на что-то надеется…
Немногословные рассказы деда о Карфагене произвели на Луция сильное впечатление, и когда ему было предложено на выбор несколько колоний, куда бы он мог отправиться в качестве претора, Катилина выбрал именно Африку — так называлась теперь территория бывшего Карфагена.
Однако здесь его ждало разочарование. Люди, с которыми ему пришлось столкнуться в Африке, большей частью были мелки и ничтожны. Они постоянно хитрили и лукавили, чтобы поиметь для себя какую-нибудь выгоду, и он бесконечно презирал их, не особо стараясь скрывать свои чувства.
Больше всего его раздражали местные начальники, бесстыдно грабившие собственный народ и утаивавшие большую часть получаемой мзды, списывая свою собственную жадность на ненасытность римских мытарей.
Он попытался было навести какой-то порядок, но понял вскоре, что это нисколько не изменит ситуацию, а лишь умножит количество его недоброжелателей и врагов, которых, благодаря его неуравновешенному нраву, у него и так хватало, и оставил свои попытки. Единственное, за чем он пристально следил, — чтобы вовремя отгружалось на корабли нужное количество зерна. Провинция Африка была основной житницей Рима, и любые перебои с хлебом вызвали бы гневную реакцию сената.
Иногда, чтобы развеяться, он садился на коня и сам, без охраны, уезжал подальше от жилых мест. Ехал мимо полей, возникших на месте былых финиковых рощ, мимо песчаных дюн, которых здесь с каждым голом становилось все больше, и размышлял о суетности жизни и о нелепых случайностях, от которых часто зависит судьба не только отдельных людей, но и целых государств. Ведь не прояви самодовольную глупость Карфагенский совета, отказав Ганнибалу в подкреплении, когда победа над Римом была совсем близка, история Карфагена могла сложиться совсем иначе… Теперь нет ни Карфагена, ни даже следов его. Мало того, уже начали истощаться плодородные земли в живописных ущельях Атласа. Напуганные страшной участью, постигшей Карфаген, берберы бежали к югу, и их стада вытаптывают некогда зеленые равнины, превращая их в безжизненные пустыни. А ведь совсем недавно здесь бродили повсюду могучие слоны и стада красивых диких лошадей. Теперь же на глаза попадались лишь верблюды, эти неприхотливые уродцы, созданные богами для подобных ландшафтов, где мало воды и пищи.
Но это еще полбеды. С превращением Карфагена в мертвый город в самом Риме начали происходить недобрые перемены. Возможно, величие двух соперничающих государств — Рима и Карфагена поддерживало в мире какое-то равновесие. И как только Карфагена не стало, многое начало меняться и в Риме. Восстань Катон из мертвых, он с удивлением обнаружил бы, что именно с исчезновением с лица земли ненавистного ему Карфагена дух торгашества и алчности, жажда роскоши и удовольствий, — всё, с чем он всегда неустанно боролся, овладели Римом, поражая всех и вся, как заразная болезнь…
Мало того, каждого римлянина, кто соприкасался с Карфагеном, точнее с тем местом, где некогда он был, начинал преследовать злой рок.
Печально сложилась судьба Гая Гракха. Этот мечтатель хотел создать здесь уголок разума и справедливости, обосновав на месте Карфагена римскую колонию для обездоленного римского люда с поэтическим названием «Юнония». Но пока Гай был в Африке, его враги, не теряя времени даром, распускали о нем по Риму всевозможные сплетни и домыслы, и когда Гай вернулся домой, то Рим был уже совсем не тот. Гая постигла та же участь, что и его брата Тиберия, — он пал жертвой неблагодарной черни, жизнь которой он хотел улучшить.
Зловещую силу мертвого города испытали на себе Марий и Сулла. Именно там началось их соперничество, которое через несколько лет ввергнет Рим в пучину гражданской войны…
Карфаген будто мстил за свою гибель и позор, то и дело сталкивая римлян между собой. Казалось, карфагенский Ваал требовал все новых и новых жертв.
И вот теперь зловещий дух мертвого города, похоже, коснулся и его, Луция Сергия Катилину. Едва он вернулся в Рим, отбыв год проквестором в Африке, как следом за ним оттуда приплыла делегация с жалобой на его действия — он обвинялся в несправедливости, мздоимстве, притеснениях и прочих грехах.
И кто же эти жалобщики? Римские вольноотпущенники, вчерашние рабы, чьих родителей, пленных пунов, провели восемьдесят лет назад с позором по улицам Рима. Недаром легендарный Сципион в ответ на реплики то и дело перебивавших его речь нахалов крикнул как-то: «Да помолчите, наконец, вы, ничтожества, вчерашние рабы! Давно ли я привез вас сюда, в Рим, в цепях?»
Эта публика действительно оказалась необыкновенно живучей, быстро приспособилась к новым условиям и направила всю свою энергию и изворотливость на то, чтобы любыми способами разбогатеть. Выкупившись на волю, они с новой силой продолжали обогащение, занимаясь торговлей, точнее ловкой перекупкой, ростовщичеством и сдачей в наем приобретаемых за бесценок домов. Часть их вернулась на родину, на бывшие земли Карфагена, превращенные сначала в колонию «Юнония», а потом в провинцию «Африка». И вот теперь свора этих тварей примчалась следом за ним, чтобы сотворить свой гнусный навет. Можно подумать, что за всю историю этой провинции со времён Гракха он был самым большим злодеем из всех наместников! Никто не заставит его поверить, что это произошло случайно и не было никем организовано и проплачено. Слишком уж много совпадений. Похоже, кому-то явно не по нутру его попытки пройти в консулы…
Глава II. Multa petentibus desunt multa[3]
Mapку Туллию Цицерону
от Квинта Туллия Цицерона.[4]
Дорогой брат!
Прежде всего хочу сообщить тебе, что просьбу твою выполнил. Правда, частично. Мне удалось купить сравнительно недорого несколько недурных вещичек для твоего загородного дома. Это красивый рельеф для стока воды в виде забавной головы ослика и две бронзовых статуэтки для перистиля — одна изображает девушку с амфорой, из которой (я имею в виду амфору) должна литься вода, другая — плачущего крокодила.
Теперь о главном. Ты снова пишешь о своем желании выставить свою кандидатуру в консулы на следующих выборах. Желание твое вполне понятно и логично. Всей своей жизнью, своими словами и делами ты более, чем кто-либо другой, заслужил это место. Но, зная твою натуру, склонную более к философствованию, нежели к делам практическим, хотел бы все же дать тебе несколько советов.
Первое. Да убережет тебя Юпитер от воинственного пыла во время проведения предвыборной кампании. Избиратели не любят тех, кто откровенно рвется к власти и предлагает себя с настырностью торговца и с бесстыдством уличной девицы. И не забывай, что ты, как выражаются аристократы, — новый человек, то есть человек, пробившийся наверх не благодаря своей родовитости, а лишь своему таланту и упорству. Все эти нобили и патриции, намазывающие восковые маски своих предков сажей, дабы изобразить, сколь древен их род, всегда будут испытывать по отношению к тебе настороженность и скрытое презрение. Поэтому тебе придется предпринять дополнительные усилия, если ты хочешь добиться успеха.
Прежде всего, пусть твои друзья и твои клиенты проявят сейчас максимум усердия, стараясь привлечь внимание и симпатии к твоей личности. Обеспечь их деньгами в достаточной степени, чтобы они не скупились на угощения и подарки, ибо по друзьям твоим судят и о тебе.
Второе. Старайся сейчас выказывать всячески расположение и дружелюбие ко всем слоям и категориям избирателей. Будь внимателен и дружелюбен с людьми низкого звания, начиная от своей многочисленной клиентелы и заканчивая своими рабами и вольноотпущенниками. Да-да, именно все эти бездельники, бродящие с утра до вечера по городу с твоими поручениями или без оных, и создают нам репутацию.
Третье. Старайся каждый день собирать вокруг себя множество людей и появляйся с ними в людном месте, чтобы тебя как можно чаще видело как можно большее количество людей. Это также будет способствовать тому, что твоя популярность, твой авторитет и общее уважение к тебе возрастут еще сильнее.
Четвертое. Кроме этого, больше обращай внимание на конкретного человека, потому что каждый из смертных прежде всего любит самого себя. Узнавай и запоминай какие-то детали жизни людей влиятельных и заслуживающих уважения, чтобы при случае расспросить их о делах и здоровье их самих и их близких. Тем самым ты приобретешь репутацию человека внимательного и заботливого, прямо-таки отца родного.
И, конечно же, если хочешь, чтобы тебя все любили, не забывай каждого хоть за что-нибудь хвалить и в глаза и за глаза. И постоянно сдерживай себя, ибо ты способен порой ради красного словца нечаянно задеть (и довольно язвительно) не только одного человека, но и целое сословие.
Но при этом ты не должен выглядеть бесхребетной, всем угождающей личностью. Не уставай обличать и клеймить позором мздоимцев всех мастей, плутов и глупцов, развратников и растлителей, наглецов и возмутителей спокойствия… Ты не рискуешь обидеть этим кого-то конкретно, — ведь большинство людей почитает себя за умных, честных и добропорядочных, — но зато приобретешь славу человека, непримиримого к любым нарушением закона, морали и традиций, что всегда импонирует публике.
И последнее, но весьма важное условие успеха. Постоянно будь в курсе дел всех своих конкурентов, чтобы успеть опередить их и подготовиться к их выпадам против тебя. Не знаю, с твоей помощью или нет удалось снять с участия в прошедших выборах кандидатуру Луция Катилины, но это несомненно был удачный и ловкий ход.
Катилина — достаточно серьезный конкурент. Его лозунги привлекательны для увязших в долгах бедняков, а также у части всадников и ветеранов Суллы. То, что он не избран консулом, — большая для тебя удача, потому что трудно сказать, что бы он успел натворить за год своего консульства. Сегодня тебе лучше с ними ладить, по крайней мере, изображать полное свое дружелюбие и расположение. И ты совершенно правильно сделал, любезно предложив Катилине свои услуги в качестве адвоката по упомянутому выше делу о его злоупотреблениях в Африке.
И напоследок еще раз повторяю: помни: ты — новый человек, и поэтому должен употребить весь свой ум и энергию на то, чтобы не проиграть. Судьба и фортуна дают тебе шанс.
Прощай. Твой брат КвинтР.S. Не забудь сжечь это письмо.
Глава III. Trahit sua quemque voluptas[5]
За окном тускло пропел рожок — наступало время третьей стражи.
Катилина вышел на улицу, сопровождаемый двумя охранниками и двумя факелоносцами, и пошел в задумчивости по ночному городу, не замечая ни выхватываемых из тьмы колеблющимся светом факелом продажных женщин, зазывавших прохожих откровенными взглядами и жестами; ни убогих нищих, готовящихся ко сну у теплых еще стен домов; ни спешащего на ночную пирушку нобиля; ни кучки молодежи, толкущейся под окнами углового дома, в котором, вероятно, проживала одна из женщин, пользующихся в этом сезоне особой популярностью.
Хихиканье и оживленные реплики сопровождавших его рабов заставили Катилину обратить внимание на группу людей, собравшихся возле трехэтажного дома, в котором располагался лупанарий. Это местечко пользовалось большой популярностью у всадников, но нередко захаживали сюда нобили и даже сенаторы.
Вход в веселое заведение был со двора, но для того чтобы всякий пожелавший удовлетворить свою похоть мог сразу его обнаружить, над крыльцом парадного входа висел фонарь, ярко красное стекло которого было изготовлено в виде приапа.
В эту ночь огонь в фонаре сиял ярче обычного, собирая на свет, кроме бабочек и мошкары, всех окрестных развратников и уличных зевак. Фасад здания тоже выглядел празднично: парадный вход были изобильно декорирован лавровыми венками, плющом, ветками мирта, цветочными гирляндами и прочими атрибутами, которыми принято сопровождать свадебные церемонии.
Из дома доносилась веселая музыка и гвалт возбужденных голосов. Звуки становились все громче, нарастали, приближались, и, наконец, когда дверь парадного входа резко распахнулась, музыка и беспорядочный гам выплеснулись на улицу вместе с толпой пестро разодетых людей, возглавляемую дородным мужчиной, облаченным в белую, как у жениха, тогу. Его широкая, рыхлая физиономия, нездоровую красноту которой усиливали свет фонаря и огонь факелов, расплывалась в довольной улыбке.
Лысеющую голову «жениха» украшал лавровый венок триумфатора. И подобно триумфатору, толстяк то и дело раскланивался направо и налево и воздевал вверх то одну, то другую руку. Сопровождавшая его свита, состоявшая из его приятелей и всякого рода прихлебателей, радостно повизгивала, похрюкивала, чмокала губами и при каждом жесте толстяка принималась хохотать так, будто им щекотали ребра. Прохожие, останавливающиеся поглазеть на это шутовское действо, тоже хихикали, и лишь немногие, очевидно недавние крестьяне, презрительно плевались в сторону весельчаков и торопились дальше по своим делам.
Все понимали, что означает комедия, которая разыгрывалась на их глазах: любитель острых ощущений, отваливший хозяйке заведения щедрую порцию серебра за право провести первую ночь с юной рабыней, только что купленной для лупанария, изображал некое подобие свадебного торжества. Присутствие нечаянных зрителей еще больше раззадорило похитителя невинности, его дружков и видавших виды «волчиц»[6], принимавших в свой приют разврата еще одну жертву, и они веселились так, будто и впрямь присутствовали на настоящей свадьбе.
Среди свиты молодцов, участвовавших в этом балагане, Катилина заметил несколько знакомых ему лиц, но, не имея желания общаться сегодня с кем бы то ни было, ускорил шаг, чтобы побыстрее свернуть за угол.
— Луций! — услышал он за спиной знакомый голос и, обернувшись, увидел Квинта Курия.
— Куда ты торопишься? — активно жестикулируя, заговорил Курий. — Оставайся с нами! Тут хорошо и весело. А хочешь — пошли вместе к Фульвии.
— Нет, спасибо, у меня сегодня другие планы.
— Ну-ну. Интересно, куда можно спешить в столь поздний час. Не на тайное ли свидание?
— В отличие от тебя я не афиширую имена женщин, с которыми встречаюсь.
— Ну, ты у нас во всем конспиратор… Кстати, я случайно встретил сегодня Юлия Цезаря. Он спрашивал про тебя.
— Я сам его найду. А тебе совет: поменьше болтай!
Катилина повернулся к назойливому Курию спиной и скрылся за углом.
Путь его лежал к дому Семпронии, пославшей ему приглашение посетить ее сегодня вечером.
С этой женщиной Луция связывала многолетняя дружба, если их странные отношения можно было назвать дружбой.
Они встретились десять лет назад, когда Семпрония цвела первой женской красотой, яркой, манящей, приковывавшей взоры даже самых ленивых и апатичных мужчин. Боги одарили ее не только привлекательной внешностью и легким, веселым нравом, но и многими талантами. Она сочиняла недурные стихи, красиво пела и хорошо танцевала, что постоянно вызывало недовольство ее мужа Децима Брута. Тот считал, что жена его делает это гораздо искуснее, нежели подобает порядочной женщине. На что Семпрония отвечала со смехом: «Дорогой, ты играешь в кости искуснее, чем иной шулер, но это еще не повод сомневаться в твоей порядочности».
Вспыхнувшая с первой же встречи любовь между Семпронией и Катилиной продолжалась чуть больше года. Луций был влюблен пылко, страстно и даже предлагал красавице разорвать супружеские узы с Брутом, чтобы связать свою жизнь с ним, Катилиной. Но Семпрония не склонна была торопить события. Кроме того, она обожала своего сына Альбина и не хотела разлучаться с ним даже ради любимого мужчины.
Измаявшись от раздирающей его ревности и чувствуя, что он рискует, подобно Валерию Катуллу, оповещавшему в стихах весь Рим о том, как он страдает, оказаться в плену мучительно-сладостного чувства любви-ненависти, Луций решил прекратить всякие отношения со своей возлюбленной, вырвать ее из сердца. Он покинул Рим на несколько месяцев, отправившись сначала в родовое имение, а затем в путешествие по Греции.
Долгая разлука если и не излечила его окончательно, то в большой мере притупила остроту чувств, и когда он встретился с Семпронией вновь, то уже не претендовал на то, чтобы быть единственным ее возлюбленным, не устраивал, как раньше, яростных сцен ревности, и даже стал спокойно, с улыбкой воспринимать новые увлечения красавицы.
Семпрония тоже не склонна была терять окончательно своего преданного поклонника. Ей нравились его ядовитая ирония, мужская грубость и прямота. Благодаря ее дружелюбию, веселому нраву и ясному, почти мужскому уму, отношения их стали более дружественными, чем любовными. Лишь иногда они позволяли себе встречаться наедине, или, как выражалась Семпрония, окунаться в теплые волны воспоминаний…
Приблизившись к расположенному на Эсквилине великолепному особняку Децима Брута, Катилина велел слугам отправляться домой, и, подойдя к массивной двери, постучал по ней висящим на бронзовой цепочке самшитовым молотком. Через некоторое створки двери приотворились, и мрачного вида раб-либурн, поклонившись, пригласил гостя следовать за ним в перистиль.
Это место в доме Брутов мало чем отличалось от подобных мест в домах римских нобилей: в миниатюрном саду, окруженном по овальному периметру мраморной колоннадой, росли маленькие пальмы и кипарисы, благоухали мирт и олеандр, а по стенам и колоннам вился бойкий кудрявый плющ.
Но было здесь и нечто выдающееся — а именно роскошное изобилие воды. Прозрачные холодные струи гулко журчали в двух позолоченных фонтанах, изливались из пастей лягушек, змей, обезьян и ослов, сползали прозрачной кисеей с отполированных водой мраморных ступеней, текли по желобам вдоль стен перистиля.
В дневное время солнечный свет пронзал своими лучами эти водные струи и потоки, отчего они отбрасывали тысячи вибрирующих, танцующих солнечных зайчиков на колонны из белоснежного тибуритинского мрамора, на гладкий мозаичный пол и на влажные ярко зеленые листья растений. Сейчас же, при мерцающем, колеблющемся свете четырех холцедоновых светильников на неумолчных водных струях там и сям вспыхивали, будто бриллианты, яркие блики. Казалось, что ты находишься в таинственной прохладе наполненной драгоценностями пещеры.
Из-за шума воды Катилина не услышал, как к нему приблизилась Семпрония, и даже вздрогнул от неожиданности, когда она нежно коснулась рукой его спины.
— Извини, дорогой, что заставила тебя ждать, — произнесла женщина низким бархатным голосом и, обернувшись к двери, хлопнула дважды в ладони.
В тот же самый момент в перистиле возникли слуги, будто они все время стояли там, за дверью, дожидаясь сигнала госпожи. Слуги внесли три столика из черного дерева, два легких кресла и подставки для ног. На одном из столиков разместились два халцедоновых кубка, отражающих мерцающее пламя светильников, а также небольшой глиняный сосуд-холодильник; на другом столе появилась большая ажурная ваза из серебра, наполненная фруктами; на третьем — чаша с ароматизированной водой для мытья рук и вышитые льняные салфетки.
— Посидим здесь, пока не спадет жара, — Семпрония сделала легкий жест рукой, и слуги исчезли из перистиля так же быстро и бесшумно, как и появились.
Семпрония вынула из глиняного холодильника темный кувшин, расписанный белыми лилиями, и, наполнив вином кубок, подала его гостю.
— Хиосское, из Греции, — пояснила она. И добавила с ироничной улыбкой. — Я знаю, ты предпочитаешь пить вино по-скифски, не разбавляя водой.
Соблюдая ритуал, Катилина поднялся и с легким поклоном принял кубок из рук хозяйки.
— В твоем доме нельзя иначе, — ответил он. — Здесь столько воды, что просто грех наливать ее еще и в вино. А ты не выпьешь со мной? Или твой древний род свято блюдет законы Ромула? Помнишь, как там сказано про женщин? «Суду сородичей подлежит прелюбодеяние и питие вина, если на нем поймают».
— Вот именно — «если поймают», — засмеялась Семпрония и, налив себе немного вина, разбавила его теплой воды.
— Да пошлют тебе боги вечную молодость, удивительная женщина! — сказал с чувством Катилина, глядя неотрывно в серые бездонные глаза Семпронии, и залпом осушил кубок с прохладным ароматным напитком.
Семпрония, как всегда, эффектная, грациозная, выглядела гораздо моложе своих лет. Сегодня она была без повязки, поддерживающей грудь, но от этого ее бюст еще выразительней вырисовывался под легкой туникой. От розовой туники исходил резкий, но приятный, волнующий запах совсем свежей, не стиранной ни разу ткани, — его не могли забить даже благовония, которыми изобильно пользовалась красавица.
— А где твой сын? — спросил Катилина.
— Децим Альбин? Он, как всегда, с Юлием Цезарем. Альбин его просто обожает. Они сегодня уехали компанией куда-то к морю… Бери фрукты, Луций. Они из твоей любимой Африки.
— Ты хочешь, чтобы они застряли у меня в горле? — усмехнулся Катилина.
— Да, кстати, чем ты так досадил африканцам, что они прислали сюда своих жалобщиков?
— И до тебя дошло? Откуда я знаю, что ими двигало. Если бы я воровал, как все, то, наверное, не было бы никаких жалоб. Но поскольку я попытался там кое-кого приструнить, им это, естественно, не понравилось. Не успел я вернуться в Рим, как сюда примчалась бойкая свора мерзавцев с жалобой на то, что я их якобы притеснял и тиранил. Ты же знаешь, что я в этом году решил выставить свою кандидатуру на консульских выборы, так что вполне возможно, что кто-то пожелал таким образом отстранить меня от участия в них.
— Я слышала, — сказала Семпрония, — сам Цицерон выразил готовность выступить в качестве твоего защитника в суде.
Она отщипнула ягоду от кисти винограда и, переменив позу, облокотилась о ручку кресла, отчего край ее туники приподнялся, давая возможность лицезреть красивый изгиб ноги, оплетенной кожаными завязками сандалии.
— Это-то меня как раз и настораживает, — сказал Катилина. — После истории с сестрой его жены Теренции, — а он у нее, как ты знаешь, под пятой ходит, — он должен был бы чураться меня.
— Кстати, дело прошлое, уж признайся откровенно: ты действительно согрешил тогда с прелестной весталочкой?
— Да нет же, клянусь тебе, нет. Я вообще не знаю, зачем Теренции нужен был весь этот скандал. Ведь окажись, что ее сестрица действительно нарушила обет девственности, несчастную замуровали бы живьем.
— Ну, во-первых, наши священные законы теперь не столь уж неукоснительно соблюдаются, а, во-вторых, Теренция пыталась представить дело так, будто ты силой взял весталку. Что, в общем-то, на тебя похоже…
— Да нет же. По-моему, вся эта возня была направлена не столько против меня, сколько против ее сестры… Не пойму до сих пор, что тогда двигало Теренцией. Может быть, она завидовала красоте своей сестры, ее положению?.. Хотя, по мне, почести и привилегии, которыми пользуются весталки, не могут идти ни в какое сравнение с радостями любви…
— Я думаю, Теренция просто была тогда влюблена в тебя.
Катилина ничего не ответил, лишь пожал неопределенно плечами.
Они вновь наполнили кубки, и Семпрония предложила выпить за любовь.
— Любовь — это единственное, ради чего стоит жить, — произнесла она с чувством. — Когда спрашивают у меня про секрет моей молодости, я отвечаю: просто надо жить любовью.
Прежде чем пригубить вино, женщина подошла к статуе Венеры и слегка плеснула из кубка на мраморную ногу богини.
— Она лишь одна — мое божество, И, имя желанное с терпким мешая вином, Впиваю его с наслажденьем,— продекламировала она напевно на греческом и трижды хлопнула в ладоши.
В дверях появились три девушки, две из них с флейтами и одна с тамбурином, и скрылись незаметно за мраморными колоннами, будто растворились в полумраке перистиля. Вскоре оттуда полилась, заструилась тихая нежная мелодия. Казалось, что чарующие звуки музыки рождены неумолчным шумом фонтанов и журчанием водяных струй.
Над перистилем на черном полотне неба засверкали две яркие звезды и показался золотистый рог молодого месяца.
— Божественный вечер, — сказал Катилина, расслабленный музыкой, выпитым вином и близостью красивой и желанной женщины. — Как ты умеешь делать все красивым и божественным… Знаешь, у меня сейчас такое впечатление, что мы с тобой сидим не в середине шумного, душного города, а находимся на далеком сказочном острове, где нет ни интриг, ни ненависти, ни обмана, ни прочих мерзостей, которыми Рим пронизан, как лесная почва корневищами. Помню, когда я был маленьким, я любил слушать рассказы матери про золотой век. О том времени, когда не было ни вражды, ни зависти, ни злобы. И я представлял себе при этом вот такой же тихий вечер, мягкую музыку и улыбающихся женщин…
— Наверное, золотой век в Риме закончился, когда Ромул убил Рэма, — сказала Семпрония.
— Возможно. Кстати, в народе ходит легенда, что Ромул вовсе не убивал Рэма. Они просто устроили комедию с исчезновением одного из близнецов, а потом делали вид, будто страной правит один царь. Сами же появлялись на публике поочередно, отчего, вероятно, и пошли рассказы о неутомимости Ромула.
— Что ж, могло и такое быть. Правители любят иметь двойников…
Катилина вдруг сник и помрачнел.
— Ты знаешь, последнее время надо мной висит злой рок, — сказал он, допив залпом второй бокал. — Будто мертвящий дух Карфагена преследует меня, как и всех, кто когда-то прикоснулся к этому месту.
— Я думаю, тут ни при чем ни рок, ни дух. Просто кто-то внимательно следит за тобой и наносит точные удары.
— Но кому это нужно?
— Не знаю. Мне кажется, тут не обошлось без нашего хитроумного Одиссея.
— Ты имеешь в виду Марка Туллия Цицерона? Но зачем ему это надо?
— Я слышала, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах в консулы. А ты для него вполне реальный соперник.
— Да ну, этого не может быть! Мы служили с ним в преторианской когорте Помпея и были почти друзьями. Цицерону тогда было лет восемнадцать, мне — двадцать. И я был для него вроде старшего брата.
— Тебе давно уже пора понять, что у политика не может быть друзей. Учись у Юлия Цезаря. Ты, может быть, умней его, но ты слишком прям и откровенен. То и дело идешь напролом, не всегда умеешь скрывать свои чувства. Юлий же всегда со всеми ровен и обходителен. А главное — он умеет делать все так легко и весело, будто ему и дела нет до того, благосклонна к нему Фортуна или нет. И в результате его уважают даже его враги… Кстати, Юлий о тебе очень хорошо отзывался. А знаешь, что о тебе говорил Саллюстий?
— Да плевать мне на его мнение.
— Ну, может быть, ты и прав. Я тоже живу по правилу: не важно, что о тебе думают недруги, важно, что ценят в тебе друзья.
Семпрония сняла с шеи серебряную цепочку, на которой висел овальный аравийский оникс, и передала его Катилине. На камне была начертана надпись на греческом:
Вы, люди, говорите, что хотите, Меня это ничуть не беспокоит. Я слышу только тех, кто дорог мне.— Это мне досталось от моей бабки, — сказала Семпрония. — Она очень любила греческую поэзию и философию.
— Вероятно, ты пошла в нее.
— Да, поэзию я люблю. Философия же моя проста: любить и наслаждаться.
— Помнишь, Семпрония, ты мне рассказывала, что в северной части Понта живет племя, у которого есть такой обычай: человек там не дожидается приближения немощной старости, а, чувствуя, как уходят силы, идет на священную скалу и бросается с нее в море. И как бы растворяется в природе, подобно легкой дымке. Не причиняя никому ни хлопот, ни забот. Будто он ушел однажды в далекое, долгое странствие и не вернулся… Ты знаешь, я тоже хотел бы однажды вот так уйти…
— Все мы рано или поздно уйдем в Аид, — вздохнув, сказала Семпрония. — К счастью, никому не дано знать, когда Антропос поднимет свои ножницы, чтобы перерезать очередную нить судьбы, сплетенную парками…
Она хлопнула в ладоши, и музыка тотчас стихла, и девушки, теснясь, двинулись к двери. Семпрония потянулась томно, скрестив руки за головой, и ткань туники напряглась, натянулась, обозначая ее высокую упругую грудь. Катилина прикрыл глаза тыльной стороной ладони, изображая шутливо, что он, ослеплен, сражен наповал красотой хозяйки дома.
— Ты — как Катон-старший, — засмеялась бархатисто Семпрония. — Рассказывают, что этот старый ханжа зашел однажды в цирк во время флоралий. Когда его появление было обнаружено, публика моментально сникла и замолкла. Так робеют и затихают расшалившиеся дети, когда неожиданно возвращаются родители. Даже шлюшки на арене, которые к этому времени уже успели скинуть с себя все, что можно, тоже засмущались и принялись напяливать на себя какие-то одежонки… Гнетущая пауза продолжалась до тех пор, пока, наконец, великий цензор не выдержал и вскочил вон, выкрикивая на ходу проклятия… После чего на арене началось такое, чего Рим давно не видывал…
Катилина засмеялся и, поднявшись с кресла, приблизился к Семпронии. Поднял ее с кресла и стал жадно целовать ее губы, лоб, волосы.
— Как ты хороша! — бормотал он. — Ах, как ты хороша!
— Не торопись, — ответила она негромко. — Пусть все уснут покрепче…
Когда Катилина вышел на улицу, небо на востоке уже розовело. Вдалеке слышался немолчный стук колес, — это подтягивались, торопясь попасть в Рим до запретного времени, повозки с продуктами, ремесленными товарами, предметами роскоши, — со всем, что в течение дня будет сметено с прилавков, разнесено по жилищам, съедено и выпито. Чтобы не столкнуться невзначай с мужем Семпронии, который уже мог возвращаться с ночного пира, Луций спустился к Тибру. Он ощутил резкую свежесть влаги и одновременно затхлый запах нечистот, — неподалеку находилось жерло большой клоаки, этой огромной прямой кишки города, извергавшей в реку отходы жизнедеятельности всего Рима — и, побыстрее миновав этот участок, свернул в тихий безлюдный проулок и зашагал к дому.
Глава IV. Ede, bibe, lude[7]
По итогам выборов, состоявшихся без участия Катилины, консулами на следующий, 689 год (65 г. до н. э.) стали Публий Автроний Пет и Публий Корнелий Сулла.
Однако спустя неделю римляне узнали, — те, что побогаче, из принесенных рабами восковых табличек, те, что победнее, — из ежедневных новостей, вывешиваемых на Форуме у здания Национального архива, — о том, что состоявшиеся выборы признаны сенатом недействительными. По той причине, что оба претендента занимались подкупом избирателей.
Подкуп избирателей в виде устраиваемых кандидатом гладиаторских боев, бесплатной раздачи от его имени вина, еды и денег давно уже никого не удивлял, и обвинения в нарушениях такого рода практически никогда не выдвигались.
Но накануне нынешних выборов по инициативе Цицерона был принят закон, усиливающий кары за подкуп избирателей, вплоть до десятилетнего изгнания, и злополучные соискатели консульских должностей на 589 год стали первыми жертвами нового закона, который сенату не терпелось испробовать при первом подходящем случае.
Уязвленное самолюбие Автрония Пета и Корнелия Суллы не могло смириться с подобным ударом судьбы. Считая виновниками случившегося сенатских старцев, они тут же соединились с Кальпурнием Пизоном, молодым и энергичным патрицием, вокруг которого уже давно собрался кружок людей, оппозиционно настроенных по отношению к сенату.
У каждого из членов этого кружка были свои собственные цели, свои симпатии и антипатии, но все они сходились в том, что обстановка в столице как никогда благоприятна для радикальных перемен: Гней Помпей завяз с войсками на окраинах Рима и, судя по всему, появится в Рим не раньше, чем через год, и если бы сейчас можно было продвинуть в консулы кого-нибудь из членов кружка, то появился бы реальный шанс привести к власти людей новой формации.
Но едва кружок начал приобретать четкие формы, как случилось нечто непредвиденное: Кальпурний Пизон, отправленный сенатом в Испанию, погиб там при таинственных обстоятельствах.
Кроме Пизона, яркими фигурами оппозиции были Гай Юлий Цезарь, Марк Лициний Красс и Луций Сергий Катилина. Ни Цезарь, ни Красс не захотели выходить на первый план, мотивируя это тем, что они слишком заметны в Риме, и в результате все сошлись на том, что группу оппозиции возглавит Катилина. Решено было также, что на следующий, 691 год (63 г. до н. э.) он вновь выдвинет свою кандидатуру на консульскую должность, а его сторонники начнут уже сейчас проводить агитацию за его избрание.
Опасаясь доносов, да и просто слухов, которые в Риме распространялись со скоростью птичьего полета, единомышленники встречались редко и большей частью в ночное или вечернее время.
Лишь однажды решено было собраться днем, на празднике в честь бога Вакха, сына бессмертного Юпитера. Это было удобно и безопасно по той причине, что вакханалии совершались подальше от людных мест, где-нибудь в тихом предместье Рима. К тому же во время праздника полагалось надевать маски, что давало дополнительную возможность не быть никем узнанными…
Пока праздник набирал силу, сообщники, одетые в простые одежды, лежали расслабленно на войлочных подстилках, брошенных на густую благоухающую траву, пили разведенное родниковой водой вино и вели негромко неторопливую беседу.
— Республика в нынешнем ее виде давно изжила себя, — опершись на локоть, говорил Катилина. — Сегодня она больше походит на восковую маску, чем на живое лицо. Сенат состоит в основном из старцев, которые думают о том лишь, как бы не заснуть и не навонять во время заседания. Им очень удобно, что каждый год одни консулы сменяют других и безропотно выполняют все требования сенаторов. Они никогда не принимают разумных законов, зато готовы одобрить любое дурацкое предложение — достаточно опытному демагогу заворожить их своим красноречием. И это называется у нас демократией.
— От демократии давно уже ничего не осталось, — поддержал его сенатор Гай Цетег. — Поэтому Сулле не стоило особых усилий вконец закрепить власть олигархии… Да и вообще какая демократия может быть там, где такая пропасть между богатством и бедностью?
— Марий пытался свести эту разницу к минимуму, — сказал сенатор Публий Автроний, откинув в кусты обглоданную кость. — Но, к сожалению, ему не удалось довести дело до конца.
— Марий был из низов, поэтому и понимал все сословия, — подхватил Квинт Курий. — Он мог примирять интересы аристократов и популяров…
Зная о том, что возлежащий рядом с ними Юлий Цезарь связан родственными узами с Мариями, Автроний и Курий соревновались в похвалах политическому гению покойного экс-консула.
Катилина слушал их речи молча, не желая вступать в бесплодный спор.
Он хорошо помнил тот день, когда вошел вместе с Суллой в Рим, где до этого зверствовал Марий. Оставшиеся в живых горожане рассказывали, как, напившись допьяна, старик бродил, пошатываясь, по улицам Рима, сопровождаемый толпой мерзавцев, державших наготове уже окровавленные мечи, и смотрел, как реагируют редкие, не сумевшие избежать с ним встречи прохожие. Если Марию казалось, что кто-то недостаточно почтительно кланяется ему, он тут же подавал знак своим головорезам, и те набрасывались с мечами на несчастную жертву. Впрочем, и того, кто слишком усердно приветствовал консула, могла ждать та же участь, ибо за подобострастием Марию чудились присущие ему самому лицемерие и притворство.
Вся эта оголтелая, пьяная от вина и крови ватага шла по Риму подобно путникам, прорубающим себе в лесу просеку мечами и ножами. Обезглавленные трупы валялись повсюду на улицах, и никто не осмеливался убрать их, опасаясь гнева обезумевшего старика. На Форуме ораторские трибуны с рострами были завалены до самого верха отрубленными и отрезанными головами …
— И Марий, и Сулла, как к ним не относись, были великими государственными деятелями, — произнес примирительно Катилина, дождавшись паузы. — И тот, и другой значительно изменили Рим. И надо продолжить те разумные реформы, которые они начали. Главное, чего не надо забывать — это то, что после реформы Мария наша армия фактически стала наемной. А это значит, что всякий, кто сегодня завоюет ее симпатии, сможет легко завоевать и власть. И пока армия далеко от Рима, мы должны сделать все возможное, чтобы провести реформы. Надо покончить с сенатской олигархией и установить правление, отстаивающее интересы большинства наших граждан, независимо от их благосостояния. Если Рим сейчас не обновится и не возродит свои великие традиции, мы рискуем потерять все, что было достигнуто и завоевано нашими предками, и превратиться в вырождающуюся нацию. Мне плевать, как будет называться наше внутреннее устройство — демократия, республика или царство. Главное — чтобы большинству людей в Риме жилось хорошо, чтобы они гордились своей страной и всегда были готовы сражаться за нее.
— Браво, браво, — протянул иронично бывший консул Лентул. — Ты, Луций, вполне можешь соперничать с Цицероном. По крайней мере, я бы на твоем месте завел себе скриба, чтобы он записывал твои мысли.
— В твоей шутке есть доля истины, — сказал Цезарь, поправив надетую на лицо маску и пригладив свой аккуратно уложенный пробор. — Ибо нет на свете большей лгуньи, чем история. Тот, кто называет себя историком, — всего лишь собиратель сплетен и слухов, полученных к тому же из третьих рук. Не говоря уж о его собственной буйной фантазии. Поэтому, друзья мои, спешите писать о себе сами, пока это не сделали за вас ваши недруги…
Попивая вино, они продолжили беседу, замолкая на время, если мимо проходил кто-нибудь из участников сатурналий, ожидавших в нетерпении прибытия праздничной процессии. Несмотря на то, что сенаторы вырядились в самые простые одежды и надели соответствующие празднику маски, кое-кто из участников празднества поглядывал на них настороженно, интуитивно чувствуя в них чужаков…
Когда солнце скрылось за горой, окрасив безоблачное небо пурпуром, вдали послышались глухие удары тимпанов. По мере приближения процессии можно было уже отчетливо различать звон цимбал, взвизгивание флейт и нарастающие крики, которые стали подхватывать собравшиеся на месте главного ритуального действа участники празднества:
— Эвоэ! Эво-э! Э-во-э-э!
Согласно древнему преданию, именно таким призывом всемогущий Юпитер воспламенял отвагу в душе своего внебрачного любимца, когда тот преодолевал бесчисленные препятствия, которые то и дело изобретала для него мстительная и ревнивая Юнона.
Впереди появившейся из-за кустов процессии шел огромного роста человек в белоснежной тоге, изображавший Юпитера. Лицо актера было закрыто большой маской из коры и листьев с приделанной к этой маске длинной черной бородой.
Следом за «Юпитером» шествовало четверо статистов в оранжевых масках. Они несли на плечах носилки со скульптурным изваянием Вакха. Раскрашенную фигуру бога окружала группа лампадофоров с горящими факелами. От света факелов покрытое киноварью дерево, казалось, ярко светится изнутри.
За факелоносцами шествовали мужчины, обнаженные торсы которых были натерты охрой. В одной руке они несли тирсу — жезл Вакха, увитый плющом, в другой — большой сосуд, наполненный доверху вином. Далее следовали женщины в коротких туниках с охапками свежих цветов и с корзинами фруктов. Музыкальное оформление процессии обеспечивали молоденькие рабыни, громко поющие и играющие на флейтах, кимвалах и барабанах.
Заключала процессию пестрая толпа мужчин и женщин, изображавших сатиров, фавнов, нимф и вакханок. Сатиры и фавны, одетые в козьи шкуры, плясали, кривлялись, дули в рога и трубы и гортанно распевали непристойные куплеты, посвященные Вакху, вину и любви. На «нимфах» и «вакханках» одежд почти не было — их заменяли побеги плюща, лозы винограда и прикрепленные к ним цветы.
Центром этой веселой компании был восседавший на ослике огромный толстый мужчина, изображавший Силена, воспитателя Вакха. По обеим сторонам от «Силена» шли «сатиры» с прикрепленными к голове козьими рогами. Когда «Силен», глотнув из глиняного сосуда очередную порцию молодого вина, заваливался набок, «сатиры» подхватывали его и возвращали в вертикальное положение. «Силен» то и дело издавал непристойные звуки, неустанно орал что-то и норовил ухватить за зад подворачивающуюся под руку «вакханку», что возбуждало в публике бурное веселье и ликование.
Пока «Силен» развлекал собравшихся безыскусными шутками, сатиры успели украсить цветами и листьями привязанные к ветке большого дерева качели и втащить на них огромный, сделанный из веток, травы и кожи фалл, также украшенный листьями и цветами. На длинную доску качелей взобрались две юных нимфы и принялись раскачивать ее под одобрительный волнообразный рев толпы.
Но особый восторг собравшихся вызвали танцующие и прыгающие под музыку полураздетые мужчины, к поясам которых были прикреплены сделанные из ткани или из кожи большого размера муляжи, также изображающие мужские гениталии, и вакханты, несущие шесты, с подвязанными к ним подобиями того же органа, но еще больших размеров. Время от времени они били ими по голове кого-нибудь из зевак, преимущественно женщин, добавляя этим всеобщего веселья и радости.
На некотором отдалении от веселой процессии шли четырнадцать жрецов в голубых хитонах. Главный распорядитель праздника подал им знак, и жрецы, остановившись, разбрелись и начали готовить все, что нужно, к праздничному ритуалу.
Первым делом на поляне, там, где остановилась первая группа процессии, окруженная широким полукругом лампадофоров, было воздвигнуто нечто вроде шатра. Вокргу шатра задымились горшочки с ароматными веществами, запахло шафраном и мускусом. Из украшенного ритуальными знаками сундука осторожно извлекли священное изображение Бахуса и установили его на возвышение.
Двое дюжих молодцов подтащили к статуе свинью со связанными ногами, истошно визжащую в предчувствии смерти. К свинье подошел архонт, главный распорядитель действа, полоснул по ее мягкому незащищенному горлу длинным острым ножом, и пронзительный визг животного захлебнулся в его же собственной обильно хлынувшей из раны крови.
Внезапно наступившую тишину нарушал лишь сверлящий воздух треск насекомых. Архонт поднял вверх руки и произнес торжественно несколько фраз во славу бессмертного Вакха, самого жизнелюбивого из богов, любимого сына всемогущего Громовержца, покровителя виноделия и всего того, что приносит людям радость, бога, понимавшего человеческую натуру, как никто другой. Закончив речь, архонт подал знак к началу праздника.
Все снова возлегли на свои подстилки и потянулись к кувшинам с вином, продолжая наблюдать за представлением, где тон всему по-прежнему задавал «Силен», то и дело выкрикивавший соленые шутки и прибаутки. В основном они касались его осла, неуемную похотливость которого толстяк не уставал описывать в самых смачных выражениях. Будто подтверждая слова хозяина, осел заорал истошно и наглядно продемонстрировал свою готовность к любви. Невидимой причиной его возбуждения была издававшая призывные звуки ослица, которую приятели шутника спрятали где-то в кустах…
Когда темнота окончательно сгустилась, воспаленное веселье достигло кульминации. Вино разгорячило мужчин и женщин, сняло все условности и запреты, притупило стыдливость, а неумолкающая громкая ритмичная музыка добавила возбуждения. Мужчины и женщины потянулись друг к другу и принялись заниматься любовью с первым, кто оказался поблизости.
Дополнительное возбуждение в царящее веселье вносили мелькающие в свете факелов «нимфы», «вакханки» и «менады», подстрекавшие всех к всеобщему веселью и и наслаждениям. Сбросив с себя немногие одежды и зеленые побеги, прикрывавшие до этого их наготу, распустив свои длинные волосы, они носились, как безумные, по поляне, сопровождая свой буйный танец откровенными призывными движениями и страстными, животными криками. Особо же усердствовали «менады». Они неистово кружились под все убыстряющийся темп музыки в общем хороводе и вдруг, разорвав живое кольцо, бросались с визгом и воплями на мужчин. Потом вновь собирались на поляне и, возбудив себя листьями дурманящих растений, на этот раз набрасывались на приготовленного для жертвоприношения козленка. Разорвав его на части, они тут же принимались пожирать сырое, теплое еще мясо, кровь с которого стекала им на грудь и на живот.
Воздух был пропитан острым запахом свежей крови, терпким духом разгоряченных женских тел и продолжавшими куриться у шатра благовониями. В звуки будоражащей музыки, в громкое пение и крики то и дело вплетался треск ломаемых падающими телами кустов и сладострастные стоны.
Взошедший над лесом красноватый диск луны еще больше возбудил поклонников Вакха. Теперь не осталось ни одного человека, который не участвовал бы во всеобщей разнузданной оргии, где предавались всем видам удовольствий, какие только могла изобрести их фантазия. Казалось, сама земля колеблется, покачивается от этого охватившего всех возбуждения и неистовства, от этого ликующего праздника плоти и бьющей через край, сметающей все преграды и запреты животной радости, к которой уже начинали примешиваться смутная тоска, горечь, стыд и апатия…
— Да, сколько не окуривай человека благовониями, от него все равно несет зверем, — заметил Юлий Цезарь, снимая с себя маску с застывшей улыбкой Вакха.
— А мне нравятся вакханалии, — с чувством произнес Квинт Курий. — Чувствуешь себя тут частью природы.
— Хоть и не самой лучшей, — добавил с усмешкой Катилина.
Но Курия уже не было на месте. Обхватив молоденькую «вакханку» за обнаженную талию, он повалил ее на траву, и они, хохоча, покатились к кустам…
— Не нравится мне этот Курий, — сказал Катилина.
— Откуда он появился? — спросил, позевывая, Цезарь.
— Не знаю, — пожал плечами Катилина. — Его привел еще Пизон.
— Слишком уж хорошо он пахнет, — отозвался Цезарь. — Это всегда настораживает…
Глава V. Audacter calumniare, sempre aliquid haeret[8]
Титу Помпонию Аттику в Афины
От Марка Туллия Цицерона
Рим, майские иды
Так получилось, что в один день получил от тебя сразу два письма. Одно было доставлено твоим знакомцем, другое, как я понял, ты отправил ранее с отходившим кораблем. Оба они (я имею в виду письма), выражаясь любезным твоему сердцу восточным стилем, обильно посыпаны солью острот и сладостно благоухают ароматом истинной дружбы. Я всегда высоко ценил твое доброе ко мне отношение, но сейчас твое участие и помощь необходимы мне более, чем когда-либо.
До выборов магистратов на следующий год остается меньше трех месяцев, и для того чтобы я мог надеяться на успех, необходимо приложить самые энергичные усилия на этом, конечном этапе избирательной кампании.
Я бесконечно благодарен тебе за твой визит в вечный город в начале этого года. Твои встречи с лицами из аристократической верхушки, с которыми у тебя давние крепкие связи, имели для меня самые положительные последствия: в лице твоих знатных друзей я приобрел горячих своих сторонников, которые в противном случае наверняка выступали бы на выборах против моей кандидатуры как человека незнатного происхождения, к тому же рожденного не в столице, или, как они любят выражаться, нового человека.
Теперь, по прошествии некоторого времени, хорошо было бы закрепить этот успех, ибо память человеческая имеет свойство быстро тускнеть и гаснуть. И я был бы бесконечно тебе признателен, если бы ты сейчас изыскал возможность вновь напомнить своим друзьям обо мне, дабы они могли оказать влияние на исход выборов.
Заверь их, что в случае своего избрания я сделаю все возможное, чтобы дезавуировать проект Сервилия Рулла, слухи о подготовке которого возбудили уже многие умы, жаждущие раздуть погаснувшее было пламя вражды между трибунами и консулами, между нобилями и простолюдинами, между италиками и жителями столицы.
Говорят, что за Руллом стоят Красс и Цезарь, тайно рвущиеся к власти, и это походит на правду, ибо Рулл, этот неотесанный, вечно небритый и дурно пахнущий мужичина вряд ли мог бы сам додуматься до всех этих идей, сулящих, насколько я понимаю, радикальные изменения не только в аграрной политике, но и в устройстве финансовой и государственной системы.
И еще несколько слов непосредственно о грядущих выборах. На сегодняшний день окончательно определились кандидаты на должности консулов на следующий, 691 году.
Что касается плебеев, то здесь все более-менее ясно, при таком раскладе большинство голосов скорее всего наберет Гай Антоний, поскольку его фигура наиболее известна и имя его у всех на слуху. В настоящее время он без конца колесит по провинциям, естественно, не за свой счет, а под видом неотложных служебных поездок, и ведет там во всю агитацию за свою драгоценную личность.
Впрочем, его кандидатура, если он станет вторым, рядом со мною, консулом, меня бы вполне устроила. Тщеславие его столь мелко, что он никогда не станет бороться за власть и претендовать на первые роли, по крайней мере, на него всегда можно будет оказать необходимое влияние или, в конце концов, просто подкупить…
Что же касается кандидатур от патрициев, то наиболее реальным соперником тут будет Катилина. В прошлом году, когда этот тип предстал перед судом по обвинению в лихоимстве, творимом им в Африке, я, как ты помнишь, вызвался быть на суде его защитником.
Но сегодня, когда мы встречаемся с ним в политическом бою, я снимаю всякие маски и открыто бросаю ему вызов. Уж я постараюсь нарисовать такой портрет Катилины, что от него отшатнется весь Рим. В ход пойдет история о его безалаберном папаше, лихо промотавшем все свое состояние, и о прочих членах этой достославной семейки, в частности о его сестрице. И хотя этим трудно сегодня кого-либо удивить, постараемся и тут найти что-нибудь такое, что взбудоражит воображение обывателей.
Стоит также поведать о том, как этот верный пес ненасытного Суллы на глазах у римских граждан провел через весь город уважаемого Марка Мария, «подбадривая» его розгами, а затем самолично отволок его голову Сулле, дабы заслужить одобрение ненасытного диктатора.
Думаю, неплохо было бы тебе через своих влиятельных знакомых при удобном случае и в нужном месте живописать подобные подвиги Катилины. Что касается меня, то я проинструктировал всех своих агентов относительно того, что и как говорить в бане, на рынке, в цирке и т. д. И это уже производит нужный эффект. Хотя, должен признаться, хватает и таких, кто готов идти безоглядно за Катилиной, считая его мессией, выразителем идей, которые, якобы, спасут «одряхлевший Рим». К тому же, как я оказал, у него действительно есть дар внушения, подкрепляемый его непоколебимой убежденностью в своей правоте, что особенно действует на вьющихся вокруг него юнцов с бородками.
Но оставим политику и перейдем к более приятной теме. Моя Тускульская усадьба по-прежнему радует меня. Порой мне кажется, что я бываю самим собой только здесь, где все сделано согласно моему вкусу и моим пристрастиям. Я люблю бывать здесь один, писать, размышлять и чувствую себя при этом в полной гармонии с природой и с самим собой.
Теренция — хорошая, умная женщина, заботливая жена и любящая мать, но последнее время она все больше начинает раздражать меня, особенно после обручения моей любимой Туллии. Она все время говорит что-то назидательное, без конца делает замечания слугам, детям, то и дело втягивает меня в свои интриги, дрязги, нелепые споры. Хотя, повторяю, женщина она умная и незаменимая помощница мне во многих моих делах. Сейчас она тоже активно включилась в подготовку к выборам и успешно влияет на общественное мнение через женскую половину Рима. Катилину она ненавидит, как злейшего врага (очевидно, после истории между ее сестрой и Луцием), и рассказывает о нем такие небылицы, что волосы дыбом встают. Впрочем, я не раз замечал: чем история нелепей и неправдоподобней, тем охотней верит ей публика.
Извини, что опять перекинулся на политику. Что поделаешь, сегодня это беспокоит и волнует меня более всего. Как заметил один мудрец, тому, кто добивается многого, многого и недостает, то есть у каждого своя мера отсчета и мера счастья. Если я добьюсь консульства, то это будет для меня не просто получение высокой должности, а нечто гораздо большее, что сделает мою жизнь осмысленной и значимой.
На этом заканчиваю свое письмо. Будь здоров, люби меня и не сомневайся в том, что я всегда помню о тебе и люблю тебя, как брата.
Еще раз спасибо за твои теплые письма. Выражаясь все тем же восточным слогом, необычайно рад был подставить сосуд своего сердца под свежий и сладостный поток твоей речи. С надеждой на скорую встречу
Твой Марк Тулий ЦицеронP.S. Сожги это письмо по прочтении.
Глава VI. Non bene olet, qui bene sempre olet[9]
Одним из самый младших членов круга патрициев и всадников, одержимых жаждой радикальных перемен, был Квинт Курий, неугомонный импульсивный малый, жизнелюбивой натуре которого более всего подходил бы девиз «Varietas delecat» (Разнообразие доставляет удовольствие).
Его легкомысленную голову вряд ли когда-нибудь посетила мысль участвовать в оппозиционном кружке, если бы в это время по инициативе цензоров его не вывели из состава сената за аморальное поведение.
Дело было в том, что, в отличие от других сенаторов, которых тоже не были образцом добродетели, Квинт потерял всякую меру в поисках удовольствий и наслаждений. Подобно закоренелому пьянице, которому для поднятия тонуса требуются все новые и новые возлияния, он испытывал постоянную, почти болезненную потребность в развлечениях и забавах. А поскольку единственной, но весьма существенной помехой для удовлетворения его чрезмерных желаний была вечная нехватка денег, то однажды в голову Курия пришла счастливая, как он считал, мысль совместить, подобно куртизанкам, приятное с полезным, то есть получение удовольствий с решением денежного вопроса: он принялся обслуживать тех знатных матрон, чья молодость близилась к закату и которым смертельно наскучили их престарелые или вечно занятые своими делами мужья. А поскольку среди рогоносцев оказалось несколько сенаторов, то все дружно проголосовали за лишение его сенаторского звания…
Нельзя сказать, что катилинарии с восторгом восприняли факт пополнения своих рядов вечно надушенным франтом. Но широта натуры Квинта, его веселый нрав и неиссякаемое остроумие вскоре сделали его всеобщим любимцем и незаменимым организатором веселья во время шумных застолий, и первоначальное предвзятое отношение к нему постепенно сошло на нет.
Однако именно Курию, если верить Саллюстию, суждено было сыграть роковую роль в судьбе Катилины, да и всего кружка.
Случилось так, что избалованный женщинами, Квинт Курий в один прекрасный момент сам вдруг потерял голову от страсти. Объектом, вызвавшим его маниакальную одержимость, стала та самая Фульвия, имя которой он упомянул при уличной встрече с Катилиной. Это была необычайно красивая и столь же развратная особа из аристократического рода, давно оставившая мужа и жившая в свое удовольствие. Под ее окнами вечно толпилась золотая молодежь, читая ей стихи и распевая любовные песни, и редкий день в ее доме обходился без вечеринки с обильным возлиянием вина и всевозможными любовными утехами.
Для Фульвии встреча с Курием явилась одним из проходных эпизодов, каких в ее жизни было больше, чем лепестков роз, которыми она имела обыкновение посыпать перед сном свою постель.
Курий же, напротив, после первой ночи, проведенной с беспечной красоткой, был совершенно очарован ее прелестями, ее независимым нравом и царившей вокруг нее атмосферой всеобщего поклонения и обожания. А то обстоятельство, что Фульвия не проявила к нему ровным счетом никакого интереса, разожгло в его сердце такую страсть, какой он сам от себя не ожидал, и Курий начал всеми способами домогаться благосклонности гетеры.
Поскольку единственное, что могло на время растопить холодность красавицы, были дорогие подарки (Фульвия, давно осознала, что в этом мире лишь богатство может обеспечить женщине независимость), то Квинт принялся тратить все деньги и драгоценности, которые попадали ему в руки, на то, чтобы удовлетворить очередной каприз своей возлюбленной.
Никогда раньше ему не приходило в голову, что все ювелиры Рима работают на женщин. Именно для их изнеженных рук они делали золотые браслеты в виде змеек с глазами из сапфиров или в форме отчеканенных из золота маленьких виноградных листьев; для их стройных ног они ковали серебряные витые браслеты, изящно ниспадавшие на щиколотки; для их тонких пальчиков они делали всевозможные кольца — из янтаря, слоновой кости, из оникса и сердолика, не говоря уже о золоте и серебре; для их изящных ушек они отливали и чеканили золотые и серебряные сережки в виде больших и маленьких капель, полушарий, серпа луны и маленьких бутонов роз; для их длинных, струящихся волос они вырезали из слоновой кости причудливые шпильки, делали всевозможные костяные пряжки и заколки; для их гибких запястий и лебединых шей обтачивали и шлифовали бусы из стекла и редких камней, а чтобы привлечь женский взор, создавали украшенные диковинными узорами флаконы для благовоний и коробочки для драгоценностей.
Из всех украшений Фульвия более всего любила получать в подарок сережки и кольца с крупным жемчугом или граненым изумрудом. Несколько с меньшим восторгом, но с довольной улыбкой она принимала от Курия берилловые бусы, опаловые браслеты и гарнитуры из разноцветного сардоникса, аметиста и других камней.
Но как только поток подарков иссякал, красавица тотчас охладевала к своему пылкому любовнику и решительно отлучала его от своего дома, предпочитая проводить время в обществе молодых лоботрясов, либо более состоятельных и щедрых поклонников.
Когда Курий, чей кошелек к этому времени основательно похудел, явился к ней однажды со скромным обсидиановым ожерельем, Фульвия заявила ему с нескрываемым раздражением, что он ей окончательно наскучил и что она ставит точку их отношениям. И тогда, пытаясь удержать ветреную любовницу, Курий принялся рассказывать ей о тайном обществе, в котором он состоит, и о том, что недалек день, когда к власти придут Катилина и его сторонники. И уж, мол, тогда-то он, Квинт Курий, тоже будет среди первых лиц государства и сделает для нее все, что она ни пожелает, построит для нее в самом престижном и красивом месте виллу, о которой она так мечтает, осыплет ее с ног до головы драгоценностями, подарит ей десятки рабов…
Продолжая расточать щедрые обещания, Квинт произносил свои тирады с такой убежденностью и страстью, что Фульвия в какой-то момент поверила ему и, поддавшись его увещеваниям, позволила ему остаться у нее на ночь.
Но, пробудившись поутру, ветреница поняла, что речи ее настырного поклонника — не более чем обыкновенная мужская уловка, на которую она, как дура, клюнула, и велела своим слугам не пускать больше в дом Курия, под каким бы предлогом он к ней не заявился. А вскоре и вовсе позабыла об этом нелепом эпизоде, закрутившись в водовороте новых забав и развлечений. К тому же Квинт после той ночи надолго исчез из ее поля зрения, очевидно, был занят лихорадочным поиском денег, а может быть, испугался того, что в состоянии опьянения и в порыве страсти наговорил лишнего.
И, возможно, Фульвия и вовсе забыла о болтовне Курия, если бы спустя несколько дней ее не навестил один из ее богатых поклонников — Марк Тулий Цицерон.
Как нередко случается с деловыми людьми, которым некому излить свои заботы и печали, великий оратор, разнежившись от вина и любовных ласк, принялся рассуждать вслух о возможном исходе грядущих выборов. И когда он произнес имя своего главного соперника Катилины, Фульвия тут же припомнила всё, что наговорил ей Курий, и рассказала, посмеиваясь, о том, что группа заговорщиков во главе с этим самым Катилиной готовит заговор. И что уж ему, Цицерону, точно несдобровать, если эти молодцы придут к власти, а его прекрасная Тускульская усадьба, возможно, достанется ей, так обещал ее странный поклонник.
Услышав все это, Цицерон необычайно оживился. Набросив на себя, будто тогу, постельную накидку, он начал возбужденно расхаживать взад-вперед по комнате, как это обычно случалось с ним в те моменты, когда он сочинял очередную речь или раздумывал о чем-либо.
— Послушай, Фульвия, заговорил, он, наконец, своим хорошо поставленным голосом. — Я оставляю тебе этот кошелек с систерциями а их там, поверь, немало и дам тебе еще десять раз по столько же, если ты выполнишь небольшую просьбу.
— Какую? спросила игриво Фульвия и, высыпав на постель монеты из цицеронова кошелька, принялась укладывать на своем белоснежном теле золотые кругляшки, создавая из них панцирную чешую.
— Просьба моя заключается в следующем, продолжал Цицерон тем же, свойственным его публичным выступлениям тоном. Но, осознав комичность ситуации, смолк и забормотал вполголоса. — Послушай, голубушка, я хотел бы попросить тебя вот о чем: все, что ты мне сейчас поведала, постарайся рассказывать повсюду своим приятелям и подружкам, слугам и рабыням, в термах и на базаре. Но не со смешками и ужимками, как ты мне сейчас об этом рассказывала, а на полном серьезе, закатывая глаза и замирая от ужаса. Ну, не мне тебя учить — ты такая великая притворщица и актриса, что сама кого угодно научишь… И добавь еще каких-нибудь ужасающих подробностей: что заговорщики, мол, хотят с четырех сторон поджечь город, отравить воду, перебить во сне всех уважаемых граждан…[10]
— Что они составили списки тех, кого в ближайшее время предадут страшной мучительной смерти… Что они зарезали одного из своих сообщников и его кровью подписались под своей страшной клятвой, а потом ели его мясо, чтобы скрепить свой страшный союз! подхватила Фульвия, бурно жестикулируя руками подобно выступающим на площадях актерам.
— Вот-вот, одобрил ее фантазии Цицерон. Что-нибудь в этом роде. Чем нелепее слух, тем лучше. Скорей поверят. А я, повторяю, сполна вознагражу тебя за эту маленькую услугу.
— Ну, не такую уж и ма-аленькую, протянула Фульвия и, собрав монеты в ладони, стала осыпать ими свое обнаженное тело, изображая Данаю, к которой неугомонный и изобретательный Юпитер явился в виде золотого дождя. — Как ни как, решается судьба твоего консульства. Ты человек новый, из провинции, а тут, ты знаешь, не любят чужаков. Так что у Катилины достаточно шансов, чтобы обыграть тебя, если ты сейчас не уберешь его с пути. Верно?
— Ты много болтаешь, поморщился Цицерон. Если не согласна, так и скажи. Мне не составит труда найти другой вариант.
— Ну что ты сердишься, мой птенчик? засмеялась Фульвия и, протянув руки, привлекла сенатора к себе. Я все сделаю, как ты просишь, мой сладенький. У нас ведь с тобой схожие натуры: я продаю свое тело, а ты свой красноречивый язык. И если продажных женщин порой побивают камнями, то тебе твой язык когда-нибудь отрежут… Ну-ну, не обижайся, мой сладкоголосый!
— Да, вот еще что, — сказал Цицерон, освобождаясь от объятий куртизанки. — Это касается твоего дружка. Я имею в виду Квинта Курия. Не отвергай его пока.
— Ну, это уже слишком! — капризным голосом сказала Фульвия. — Он мне смертельно надоел мне своей назойливой любовью. И потом он так мажется духами, что просто дышать невозможно…
— Любовь моя, по-моему, ты хотела иметь в своем перистиле оригинальные фигурки для фонтанов. Так вот считай, что там уже стоят две очаровательные бронзовые статуэтки. Одна из них изображает девушку с амфорой, из которой будет литься вода, а другая — большого плачущего крокодила. И еще тебя ждет золотое кольцо с самым большим жемчугом.
— И что я должна сделать за это?
— Сущий пустяк — выведывать у Курия все, что он знает о Катилине… Но для начала я сам, пожалуй, встречусь с этим Курием под каким-нибудь предлогом…
На следующий же день Курий получил приглашение посетить дом Цицерона на Палатине. Лелея надежду на то, что эта аудиенция может быть связана с возможностью возвращения его в состав сената, Квинт облачился в лучшую тогу и в назначенный утренний час появился у цицеронова дома, который, впрочем, уместней было бы назвать дворцом.
Он постучал несколько раз молотком, висевшим у мощной дубовой двери, и вскоре в дверях появился рослый раб с грубым лицом, вероятно, галл или скиф. Раб молча провел гостя в кабинет Цицерона и оставил его там одного.
Время шло, а хозяин дома не спешил появиться. От нечего делать Курий начал вяло осматривать богатую обстановку кабинета оратора, переводя взор от живописных фигурок зверей к лежащим на столе рулонам книг. Наконец, занавеси на двери мягко распахнулись, и в проеме дверей показалась дородная фигура хозяина. Цицерон был одет в окаймленную пурпурной каймой тогу, тщательно оформленную красивыми живописными складками, очевидно, он собирался отправиться в сенат.
— Друг мой, начал он мягко, присаживаясь в кресло, стоявшее у стола, — я буду предельно краток.
— Я слушаю вас со вниманием, — почтительно произнес Курий, ожидая услышать какое-нибудь лестное для себя предложение.
— Я знаю, что вы посещаете иногда некую госпожу Фульвию…
— Да, я знаком с ней, ладони Курия впились в львиные головы на подлокотниках кресла.
— А о том, что вы поведали ей в последний раз, припоминаете?
— Значит, вы позвали меня потому, что…
— Вы догадливы, мой друг. Но, не бойтесь. О том, что вы наболтали там, никто из ваших таинственных друзей не узнает. При условии, конечно, что вы выполните мою маленькую просьбу. А именно — будете докладывать этой Фульвии о каждом шаге вашего предводителя, или как вы его там называете. В противном случае я немедленно сообщу обо всем кому надо. Вы понимаете, кого я имею в виду. А эти люди, поверьте, церемониться с вами не станут.
Курий готов был вскочить и наброситься на адвоката, но, заметив мелькнувшую за занавесками мощную фигуру скифа, бессильно опустился в кресло.
— Взамен же я готов оказать немалую и весьма приятную вам услугу, — продолжал, все так же улыбаясь, Цицерон. — Вы сможете продолжать встречаться со своей ненаглядной Фульвией. Мало того, я буду оплачивать все ваши с нею встречи. Так что делайте сами свой выбор. В любом случае передайте для начала своей пассии вот это.
И Цицерон протянул Курию золотое кольцо с жемчугом.
— И еще один совет, друг мой, — добавил он, когда Курий в мрачном настроении направился к двери. — Постарайтесь поменьше выливать на себя благовоний. Это не все любят…
Глава VII. Vae victis[11]
В большом цирке с раннего утра шло представление, — его давал Юлий Цезарь, выставивший свою кандидатуру на должность верховного понтифика, — и Рим, как всегда случалось в те дни, когда в цирке шли игры, совершенно обезлюдел. Лишь солдаты патруля, кляня судьбу за то, что им выпал жребий дежурить именно в этот день, ходили хмуро по улицам, поглядывая на дома граждан, отправившихся развлекаться, нередко случалось, что, пользуясь отсутствием хозяев и слуг, темные личности норовили прибрать к рукам то, что плохо лежит.
Последнее время Катилина редко посещал цирк, но сегодня решил сходить посмотреть обещанные грандиозные бои, которые должны были начаться после обеда.
Уже за несколько кварталов до цирка он услышал рев беснующейся толпы, напоминавший немолчный шум водопада. Очевидно, в цирке завершались схватки между гладиаторами-новичками, которых выпускали на арену, предваряя «разминкой» большое представление. Эти бедолаги, чаще всего заканчивавшие в первом же бою свою гладиаторскую жизнь, были в основном из числа осужденных на смерть преступников. Им не полагалось ни щитов, ни доспехов, и бои между ними сразу же превращалось в массовую резню, потому что каждый меч рано или поздно достигал цели. Тех гладиаторов, что в животном страхе пытались бежать, тут же встречали служки, стоявшие у бортика, и, тыкая в обнаженное тело раскаленным железным прутом, заставляли несчастных развернуться и встретить смерть лицом к лицу. Белоснежная арена[12] уже через несколько минут после начала такого ристалища покрывалась пятнами крови, и порой казалось, что на песке то там, то тут возникают островки алых цветов-эфемеров.
Как ни странно, но именно это примитивное и жестокое зрелище, где не могло быть и речи о каком-то искусстве боя, сильнее всего возбуждало эмоции зрителей…
Катилина вошел в цирк на последних минутах кровавого побоища, и, растолкав толпившихся в проходе плебеев, которым не досталось мест на трибунах, пробрался на скамью для сенаторов. На местах для матрон он заметил Семпронию, которая выделялась среди других женщин своей броской красотой и, подняв руку, едва заметным движением поприветствовал ее. Семпрония ответила ему легким кивком головы и вновь устремила взор на арену.
Завершавшееся на арене действо привело зрителей в настоящее неистовство. Кто-то, вскочив со своего места, прыгал, воздевая руки к небу, кто-то дико кричал, кто-то в исступлении кусал себе руки, рвал волосы, кто-то просто дрожал от переживаемых им страстей.
«Скажи им, что бои в Риме с сегодняшнего дня отменяются, — подумал Катилина, — и они тут же разнесут вдребезги цирк, устроят бунты или сами перережут друг друга глотки. Как пьяница не в состоянии прожить без глотка вина, так эти люди уже не могут жить без вида крови».
Он снова бросил взгляд на первые ряды амфитеатра. Даже издали было видно, как некоторые матроны бьются в истерических конвульсиях, стонут и вскрикивают сладострастно от испытываемого ими при виде крови острого сексуального возбуждения. Пользуясь их полувменяемым состоянием, похотливые старцы и развратные юнцы, подбирались к ним поближе и принимались их тискать, гладить и целовать в укромные места. Всех как будто охватило коллективное безумие.
Внизу, под трибунами, бесновались, выли, корчили невообразимые гримасы странные типы, при виде крови впадающие в настоящий транс. Как мухи роятся у навозной кучи, так и эти извращенцы, получавшие наслаждение от чужой боли, всегда толклись у прохода, через который выпускали на арену гладиаторов. Когда очередные идущие на смерть бедолаги появлялись в открывшихся воротах, бесноватые принимались выкрикивать им вслед самые пакостные, жестокие и оскорбительные слова.
Из-за клубящихся белых облаков вынырнуло солнце. Яркие лучи его упали на огромный красный полог, натянутый над трибунами для создания тени, отчего лица сидящих под ним людей стали багровыми, как кровь на арене.
Катилина перевел взгляд на трибуну для почетных гостей, где должен был находиться организатор сегодняшних игр, но не обнаружил его там, — наверное, Цезарь решил появиться поближе к концу представления, чтобы услышать обращенные к нему ликующие вопли — ведь на этот раз он заказал сразу 500 пар профессиональных гладиаторов.
Первое отделение на арене между тем подходило к концу: одни служки увозили на тележках раненых; другие занимались мертвыми гладиаторами — зацепив трупы крюками, они утаскивали их в подвалы, после чего бодро выбежавшие на арену рабы принялись засыпать пятна крови свежим белым песком.
Публика, остывая от испытанных острых ощущений и обсуждая увиденное, готовилась к новым зрелищам, которые должны были начаться после перерыва на обед. Те, что побогаче, направились к выходу, чтобы отобедать дома или в харчевне; те, что победнее, остались в цирке сторожить свои насиженные места. Достав из котомок припасы, они принялись поедать их, кидая обглоданные кости и корки от фруктов в комиков, которых выпустили на арену для заполнения паузы.
Катилина поднялся и быстро спустился вниз, под трибуны, туда, где располагалась столовая для гладиаторов.
Тут заканчивался ритуальный обед для тех, кому сегодня предстояло биться на арене. Это торжественное принятие пищи официально именовалось свободной трапезой — то ли потому, что в такой день на столах гладиаторов было все, чем только могут баловать себя свободные граждане Рима, то ли по той причине, что любой зритель, заплатив некоторую сумму, мог свободно войти в помещение трапезной и наблюдать за своими любимцами и фаворитами с достаточно близкого расстояния, а заодно выбрать, на кого сегодня делать ставку, заключая пари.
Для самих гладиаторов в словах «свободная трапеза» крылась мрачная ирония: ведь большинство присутствующих на этом обеде бойцов обречены были получить сегодня вечную свободу, отправившись в тот мир, из которого обратной дороги нет. Лишь единицам победителей, если толпа того пожелает, будет действительно дарована свобода, которая им, в общем-то, не нужна, потому что они давно разучились делать что-нибудь иное, кроме убийства себе подобных.
Прохаживающиеся между столами охранники зорко следили за тем, чтобы кто-нибудь из начинающих профессионалов, не выдержав последних минут ожидания смертного часа, или, не желая делать из своей смерти публичного спектакля, не приблизил свою кончину, совершив самоубийство. Такое время от времени случалось, несмотря на все меры предосторожности, направленные на то, чтобы никакие посторонние предметы не проникали в зону, где находятся гладиаторы. Не говоря уже о том, что боевое оружие гладиаторам выдавалось лишь перед самым выходом на арену.
Следили охранники и за тем, чтобы между гладиаторами-соплеменниками не произошло тайного сговора — бывали и такие случаи: плененные галлы и германцы, не желая потешать римскую толпу, по тайному знаку своего вожака, в считанные минуты удушали друг друга. Кроме того, у всех свежи еще были воспоминания о вырвавшихся на свободу рабах под предводительством Спартака, что доставило Риму немало хлопот и треволнений.
Сполна наслаждаться изысканной пищей могли немногие — лишь те, кто был абсолютно уверен в своих силах и те, кто имел богатый опыт выступлений на арене и был в фаворитах у публики.
Остальные гладиаторы, хоть и были воспитаны ланистами[13] в духе презрения к смерти и к боли, скорее делали вид, что им наплевать на то, что случится с ними в ближайшее время. Они бойко перебрасывались шуточками, игриво подмигивали глазевшим на них матронам и девушкам и вслух комментировали качество поедаемых ими заморских продуктов и изысканных блюд, при виде которых у публики текли слюнки.
Но можно был видеть на этом обеде, больше напоминавшем тризну, и гладиаторов — в основном это были новички — которые, предчувствуя свой неизбежный и скорый конец, не могли скрыть объявшего их животного страха смерти. Одни, охватив голову руками, покачивались из стороны в сторону и глухо рыдали; другие вслух проклинали свою несчастную судьбу; третьи пытались есть, но куски застревали в их горле при мысли о том, что сейчас будет происходить на арене. Им казалось, что они обедают, сидя за столом с мертвецами, — и, почувствовав подступавший приступ рвоты, они вскакивали со своего ложа и отбегали в дальний угол, где их тут же начинало выворачивать наизнанку. Аромат розовых лепестков, которыми был обильно усыпан пол, смешивался с запахом разгоряченных мужских тел, жареного мяса, восточных специй, горящего в светильниках масла и свежей блевотины.
Публике, глазеющей на эту трапезу обреченных, не позволялось подходить к столам ближе, чем на десять метров, и когда Катилина спустился вниз, к нему тут же кинулся один из стражников. Но, разглядев на его тоге пурпурную кайму, отошел с поклоном.
Луций приблизился к крайнему подковообразному ложе, на котором возлежал гладиатор по кличке Фуриос. Это был один из фаворитов публики, уже несколько лет успешно выступающий на арене. На него постоянно делались ставки, о нем тайно воздыхали многие красавицы Рима, его имя то и дело писали на стенах неутомимые его поклонники.
Фуриос[14] (это прозвище он получил за свой необузданный нрав и бешеный темперамент) три года назад был простым римским легионером и сегодня воевал бы где-нибудь на Востоке в когортах Помпея, если бы его не подвела привычка сперва что-то сделать, а потом думать. Когда один из офицеров начал при нем совершенно беспричинно издеваться над первогодком, которого Фуриос опекал, легионер не удержался и сцепился с этим выскочкой. Когда же офицер принялся оскорблять и его самого, Фуриос, не сдержавшись, ударил самодура кулаком в грудь.
Это считалось тягчайшим преступлением: если каждый солдат вздумает поднять руку на своего командира или откажется выполнять его приказание, то это уже будет не армия, а неуправляемый сброд. Фуриос был приговорен трибуналом к смертной казни. Но, учитывая его славное прошлое, решено было дать ему шанс продлить жизнь, и он был отправлен в гладиаторы. Римляне, как люди практичные, раз и навсегда решили для себя, что не стоит умертвлять преступника тайно, если из смерти можно сделать прекрасное зрелище для десятков тысяч граждан. А поскольку Фуриос был хорошо сложен и имел богатые навыки рукопашного боя, то тем более было бы неразумно отправлять его на тот свет, не показав его вначале жаждущему зрелищ народу.
Так Фуриос в один прекрасный день вместе с разбойниками, ворами, фальшивомонетчиками и оскорбителями священных мест попал в большой цирк. Но не на трибуны, на которых он некогда любил бывать, а на арену, где должен был победить или умереть.
Фуриосу повезло: на первом же представлении он, получив лишь непривычное для него вооружение, показал, что он способен биться на равных с сильнейшими бойцами, после чего был отправлен в школу гладиаторов и стал одним из немногих непобедимых и обожаемых публикой гладиаторов…
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Катилина.
— Как всегда, — дожевав ногу фазана, ответил Фуриос. — Не хуже и не лучше. А как твои дела, Луций? Я слышал, ты готовишь большой пир для дядюшки.
Опасаясь, что их могут подслушивать, Фуриос говорил намеками и иносказаниями.
— Молва, как всегда, все преувеличивает, — отвечал Катилина. — Я вовсе не хочу, чтобы красного вина было в избытке, и чтоб было слишком много факелов для освещения. Мне хотелось бы, чтобы все было в рамках приличия и традиций.
— Но, похоже, все же придется потратиться.
— Да, — помолчав, ответил Катилина. — Если обстоятельства вынудят, то придется.
— Послушай, Луций, — приблизив свою голову к уху Катилины, заговорил быстро Фуриос, как только вертевшийся все время ряжом охранник отошел в сторону. — Мои ребята готовы помочь тебе. А это прекрасные бойцы, один стоит десятерых. Только дай знак, и мы все будем в твоем распоряжении. А за нами пойдут тысячи обездоленных. Сейчас для этого в Риме самый удобный момент.
— Спасибо, Фуриос — так же тихо ответил Катилина. — Я никогда не сомневался в твоей преданности. И рекомендованные тобой люди, которые меня последний год охраняют, тоже не раз это доказали. Но пока что мы попробуем сделать все своими силами. Ведь основная часть гладиаторов — это рабы. А ты знаешь, какое к ним отношение у римлян, особенно после Спартака и марианских бардийцев. Я ненавижу любое рабство, но в данном деле я не хочу использовать рабов. Мы должны все сделать чистыми руками, если хотим придти надолго.
— Ты пожалеешь об этом, Луций. Такие дела чистыми руками не делаются, — сказал Фуриос, принимаясь за десерт.
— Может быть, — согласился Катилина. — Но таково мое решение. Желаю тебе удачи, Фуриос!
Он поднялся и медленно пошел к выходу.
Настроение его вдруг резко изменилось, он даже не понял почему. Не оставшись на представление, он быстро вышел на улицу…
Вечером Катилина узнал, что Фуриос убит. Произошло это из-за нелепой случайности. Часть болевших за своего фаворита зрителей начала кидать в рослого галла, с которым он сражался, фрукты и остатки еды. Уклоняясь от мощных ударов противника, Фуриос сделал окружной маневр и уже собирался нанести ответный удар, как вдруг поскользнулся о брошенный кем-то банан и упал на песок. Этой доли секунды галлу хватило, чтобы поразить Фуриоса мечом. Галл был убит через несколько минут другим гладиатором, и служки, зацепив железными крюками еще теплые трупы недавних соперников, уволокли их с окровавленной арены под крики беснующейся толпы…
Узнав о смерти гладиатора, Катилина налил себе неразведенного вина и выпил залпом целый бокал. На душе сделалось смутно и неприятно. Было такое ощущение, что это из-за него, из-за его нежелания принять предложение гладиатора, Фуриос погиб сегодня так неожиданно и нелепо. В любом случае смерть непобедимого фаворита была дурным знаком…
Глава VIII. Insperata accidunt magis saepe quam quae speres[15]
Выборы начались рано утром, едва голубизна неба окончательно растворила на востоке бледнеющие звезды.
Авгур на Марсовом поле, прикрыв голову тогой, чтобы ему не мешал гул собравшейся толпы, застыл, прислушиваясь к голосу богов. Наконец, он открыл лицо и, обратившись к притихшим гражданам Рима, объявил, что ауспиции благоприятны и боги дают свое согласие на проведение в этот день честных и справедливых выборов.
В жертву богам были принесены огромный белый бык и несколько белых баранов, и жрецы, исследовав их внутренности, объявили, что и здесь все в порядке, после чего избиратели устремились за высокий деревянный забор, напоминавший загон для овец.
За этим, большим забором было еще множество других заборов-перегородок. Они образовывали десятки отсеков, в которых избиратели собирались по классам и центуриям. Пока народ, давясь в проходах и весело переругиваясь, заполнял зазаборное пространство, делегаты от каждой из центурий начали жеребьевку. Она должна была определить центурию, получавшую прерогативу, то есть право голосовать первой.
Эта традиция — объявлять результаты голосования после подсчета голосов центурии, получившей прерогативу, — шла из далекой древности и носила характер своего рода жребия: первые избиратели, называвшие кандидатуры будущих консулов, как бы выполняли волю богов. И, действительно, последующий ход избирательной процедуры чаще всего подтверждал первичный результат. Трудно сказать, вследствие чего это происходило, — то ли первая центурия достаточно точно выражала общие настроения и желания, то ли мнение этой центурии, которое, становясь известно остальным, невольно оказывало влияние на остальную часть избирателей.
Цицерон с замиранием сердца ожидал, какая из центурий вытащит табличку, дающую ей право голосовать первой, и когда, наконец, результат был объявлен, вздохнул с облегчением, — в центурии, получившей прерогативу, было немало его клиентов и хороших знакомых.
Авгур снова воздал славу мудрым богам и предоставил слово первому консулу, который торжественно объявил начало первичного голосования.
Избиратели из когорты, получившей прерогативу, заполнили полученные от счетчиков специальные таблички и, вписав в них имена двух кандидатов, выбранных из общего списка, двинулись из-за забора к многочисленным выходам. Выходы были рядом с канавой, по другую сторону которой стояли большие плетеные корзины, куда следовало опустить табличку. К корзинам этим вели узкие мостки — пройти через них мог лишь один человек. Это было сделано для того, чтобы никто не мог проголосовать повторно. Чтобы избежать других нарушений, возле каждой из корзин дежурили бдительные контролеры и группа наблюдателей, состоявшая из доверенных лиц кандидатов.
После подсчета голосов председатель встал на возвышение и, произнеся традиционное пожелание о том, чтобы результат голосования оказался счастливыми и благоприятными для государства и всех его граждан, объявил результаты голосования.
Из семи кандидатов впереди всех шел Цицерон. Это сообщение было встречено одобрительным гулом и аплодисментами. Цицерон не смог сдержать своего ликования и, подняв вверх обе руки, как триумфатор, ответно поприветствовал собравшихся.
— Если бы Катилины не было, Цицерону надо было его выдумать, — сказал вполголоса Юлий Цезарь стоявшему неподалеку от него Марку Крассу. — Благодаря слухам про зреющий заговор, наши аристократы, за неимением серьезных фигур из своей среды, поставили на господина адвоката. Хотя из него такой же политик, как из меня игрок на флейте.
— Да, похоже, Цицерон нас переиграл, — согласился Красс. — Антоний — наш человек, но без Катилины он будет бесполезен.
Цезарь хотел ему ответить, но тут председатель, переждав, когда стихнет шум, продолжил сообщение о предварительных итогах голосования. На втором месте по количеству поданных голосов оказался Антоний, на третьем, с совершенно ничтожным отрывом от Антония — Катилина.
— Что касается Антония, то этого следовало ожидать, — заметил Юлий Цезарь. — Толпа часто голосует за личности серые и мало кому известные. Именно таков наш Гай Антоний. Надо сказать, его сын Марк Антоний гораздо энергичней и умней папаши…
Катилина со своими доверенными лицами стоял на другой стороне Марсова поля. Когда объявили результаты, на лице его ничего не отразилось, но душу мгновенно охватило тяжелое, мрачное предчувствие.
— Это явная подтасовка, — попытался успокоить его Цетег. — Я думаю, общий результат будет в нашу пользу.
Луций ничего не ответил и продолжал мрачно смотреть на высокий забор, за которым своей очереди дожидались еще 372 центурии.
Наконец, двери в заборе распахнулись, и массы людей потекли через мостки, наполняя корзины именами, два из которых дадут название следующему, 691 (63 г. до н. э.) году в истории великого Рима…
Подсчет голосов завершился, когда солнце стало клониться к закату. Основная часть избирателей, проголосовав, разбрелись кто куда, но к вечеру все снова стали подтягиваться на Марсово поле, — кто движимый простым любопытством, кто — чисто меркантильными соображениями: после результатов голосования агенты кандидатов производили тайную раздачу денег завербованным ими избирателям, если кандидат получал нужное число голосов.
Председатель вновь произнес дежурную фразу и объявил конечный результат: консулами на следующий год становились Цицерон и Антоний.
— Приходится признать, что сторонники Цицерона поработали лучше нас, — сказал Юлий Цезарь. — Ну что ж, может, это и к лучшему. Потому что еще неизвестно, куда бы повернул наш Катилина… Одно не понимаю — зачем Цицерону нужна эта игра в политику. Очевидно, он решил, что может войти в историю только, как общественный деятель.
— Действительно, Катилина оказался для Цицерона просто подарком судьбы, — отозвался Красс. — Наши старцы так боятся любых перемен, что дружно сошлись на арпинском словоблуде. Впрочем, Цицерон, я думаю, в свою очередь дал им заверения, что будет верен им, как пес.
— Да, занятные превращения случаются с людьми, — заметил Цезарь, поправляя свою тогу. — Человек из глубинки, убежденный популяр переходит на сторону олигархов, а закоренелый сулланец, недавно боровшийся с популярами, — теперь выразитель народных чаяний. Кстати, где он, наш неудавшийся герой?..
Катилина в это время был уже в конце Марсова поля. Услышав конечный результат, он не смог сдержать чувств — лицо его побагровело, огромные кулаки сжались так, что ногти впились в кожу, и, издав своим рычащим голосом проклятия, он быстрым шагом пошел прочь. По пути он заметил Цицерона, окруженного толпой клиентов, которые приносили свои поздравления патрону, и крикнул в его сторону, перекрывая шум толпы:
— Ну что, добился своего? Ты убил меня своими речами и интригами, но когда-нибудь тебя самого за твой блудливый язык убьют, как поганого пса.
— Дорогой Луций Сергий, — ответил Цицерон, не снимая со своего рыхлого лица торжествующей улыбки, — надо уметь проигрывать.
— Я уважаю соперника, которому проигрываю в честном бою. Твое же главное оружие — интриги и клевета.
— Меня избрал народ! — с пафосом воскликнул Цицерон. — Тот самый народ, который ты подстрекаешь своими речами и…
Катилина не слышал его последних слов. Он уже шел стремительным шагом, быстро удаляясь от Марсова поля.
Дома он застал сына Марка в присутствии Лицинии, дочери Ористиллы. Оба подростка возились на полу, как два щенка, пытаясь отнять друг у друга деревянную игрушку. Катилина позвал сына, и тот, вскочив в панике, подошел к отцу с побледневшим от испуга лицом.
Луций повел Марка в свой кабинет и сразу же, едва они вошли в комнату, сказал:
— Я не буду объяснять тебе причину своего решения. Когда-нибудь ты сам все поймешь. Поверь мне, что так надо. Я очень люблю тебя. Я говорю это потому, что, возможно, мы уже никогда больше с тобой не увидимся… Я решил завтра же отправить тебя в Грецию. Так будет лучше и для тебя, и для меня. И помни — никто не должен знать, где ты. Всё, иди!
Катилина подтолкнул Марка к двери и, сев к столу, обхватил голову руками.
Он не услышал, как в комнату вошла Ористилла. Она обняла его нежно сзади и, прижавшись своей щекой к его щеке, заговорила тихо:
— Луций, ты так изменился в последнее время. Брось, прекрати эту бесполезную борьбу! Ты никогда их не победишь. У них деньги, у них сила, у них всё.
— А у меня — правда.
— Ты же видишь, что они сделали с твоей правдой. Мне уже на улицу страшно выходить, потому что все осаждают меня нелепыми вопросами о тебе… Мне страшно, Луций. Давай уедем куда-нибудь. Ведь мы любим друг друга, а это самое главное… Ну, что ты молчишь?
— Нет, — выдавил, наконец, из себя Катилина. — Нет, Ористилла, я уже не смогу оставить это дело. За мной стоят люди, много людей. Они верят мне, и я не могу их предать.
— Но ты же знаешь, чем закончились попытки Гракхов и всех, кто выступал против олигархов. Ты погибнешь.
— Ну что ж, если суждено погибнуть, значит погибну. Но я уже не могу сойти с этой дороги.
Ористилла замолчала, и Луций ощутил, как по его шее скатилась ее слеза…
Глава X. Salus populi suprema lex[16]
Титу Помпонию Аттику, в Афины
от Марка Туллия Цицерона,
Рим, сентябрь
Неделю назад посланный тобой раб передал мне твое написанное по-гречески письмо, в котором ты размышляешь о моем консульстве. Я с удовольствием ознакомился с твоими мыслями, пусть несколько взъерошенными и неприглаженными, но от этого еще более интересными. Приблизительно то же самое говорил Плавт про женщин: лучший запах женщины — отсутствие запахов.
Да, прошло уже более полугода с тех пор, как я стал — не без твоей помощи — консулом.
Оглядываясь назад, могу с чистой совестью сказать, что я был не худшим из консулов. Мне удалось сохранить в городе и в государстве мир и покой, а что может быть важнее для человека, взявшего на себя ответственность за судьбы отечества и за благо населяющих его граждан? Я приложил немало усилий для того, чтобы сохранить неизменными наши вековые устои и пресечь очередные попытки некоторых неугомонных людей возбудить народ несбыточными обещаниями.
Благодаря мне, был отклонен аграрный проект народного трибуна Рулла. Удар мой, как ты понимаешь, был направлен не столько против Рулла, этого косноязычного, моющегося раз в месяц римского Диогена, сколько против тайной оппозиции, возглавляемой Катилиной и Цезарем. Влияние этой оппозиции на толпу достаточно велико, и мне пришлось трижды выступать на форуме, чтобы всеми дозволенными и недозволенными приемами убедить собравшихся, что закон Рулла, если таковой будет принят, сулит римлянам одни лишь неприятности…
Но кроме этой, в общем-то, никчемной истории с Руллом, мне пока что не представилось возможности сделать что-нибудь существенное. Между тем консульство мое подходит к концу, и мне очень хотелось бы, чтобы оно надолго осталось в памяти народа и навсегда вошло в историю. К сожалению, сейчас нет никаких событий, в которые я мог бы как-то вмешаться, проявив свою мудрость, решимость и волю. Катилина со своими сообщниками продолжают вести агитацию, но, судя по всему, ничего решительного не собираются предпринять. Попробую найти какой-нибудь способ заставить их действовать, чтобы я смог повести с ними открытую борьбу…
В сенате я в целом нахожу поддержку и понимание. Разве что с Катоном-младшим, которого я, в общем-то, люблю, у меня время от времени возникают споры и разногласия. Он мыслит так, будто живет в идеальном государстве Платона, а не среди потомков Ромула. Таким людям, как он, противопоказано заниматься политикой…
Что касается моих усадеб тускульской и помпейской, то они меня чрезвычайно радуют и утешают при всяких неприятностях. Правда, недавние мои приобретения — я имею в виду изделия из коринфской бронзы, купленные на форуме, — заставили меня наделать долгов. Прямо хоть записывайся в сообщники Катилины. Но думаю, как-нибудь справлюсь — и с долгами, и с Катилиной.
P. S. Письмо это никому не показывай, а еще лучше — сожги.
Глава XI. In arenam cum aequalibus descendi[17]
Со времени выборов минул год. До традиционного дня очередных выборов 20 октября оставалось менее двух недель.
За неделю до выборов Цицерон явился в сенат возмущенный и взволнованный и поведал сенаторам о том, что произошло с ним этим утром.
Накануне его агенты сообщили, что на него в ближайшие дни готовится покушение. Поэтому он велел слугам не пускать в свой дом никого из посторонних, под каким бы предлогом те не захотели его видеть. А сегодня поутру к нему явились сенатор Луций Варгунтей и всадник Гай Корнелий. Якобы для решения каких-то неотложных дел. Цицерон приказал крепко-накрепко закрыть в доме все запоры и сказать, что он не может принять их из-за плохого самочувствия. Нежданные посетители чуть не выломали двери и учинили у его дома такой шум и скандал, что это было слышно в соседних домах…
Тут Цицерон сделал многозначительную паузу и добавил, что вряд ли стоит пояснять, с какой целью являлись к нему эти странные утренние визитеры…
На следующий же день по городу поползли слухи, один другого нелепее и страшней. Слухи роились и множились, обрастая все новыми живописными деталями.
Одни рассказывали, что заговорщики, которых возглавляет Катилина, убили человека и, смешав в полночь его кровь с вином, пустили этот страшный кубок по кругу, отпивая из него и произнеся клятвы верности своему свирепому предводителю.
Другие говорили, что Катилина велел своим дружкам зарезать первого попавшегося человека и, дав всем отведать человеческого мяса, приказал всем расписаться кровью на клятве идти за ним, Катилиной, до конца.
Третьи утверждали, что им достоверно известно, что на самом деле Катилина убил мальчика, возможно даже собственного сына, вынул его внутренности, и заговорщики, передавая друг другу еще теплое и бьющееся сердце мальчика, клялись над ним страшными клятвами.
Поговаривали также, что готовится очередное восстание рабов и что сигналом к нему станет поджог Рима с семи сторон…
Успевшие привыкнуть к бездумной суетной жизни, состоящей из добычи хлеба насущного и погони за развлечениями и удовольствиями, горожане легко поддались нарастающей и подогреваемой кем-то панике, возбудились легко, как галлы, заволновались и предались тревоге и печали, которая вскоре охватила всех от мала до велика.
Мужчины днем и ночью держали наготове оружие, женщины постоянно стенали, причитали и готовы были убежать с детьми куда глаза глядят. Все смотрели друг на друга недоверчиво, с опаской, подозревая в каждом вероятного заговорщика, поджигателя и убийцу…
Панические настроения удесятерились, когда природа принялась вдруг выказывать людям свой грозный лик. В окрестностях Помпеи случилось землетрясение и прошли кровавые дожди; над Римом пронеслись страшные грозы, сопровождаемые смерчем, вырывающим с корнем деревья и сносившим крыши домов; страшные, раскалывающие небо раскаты грома и слепящие вспышки молний разогнали всех с Форума. Одна из этих молний попала в статую Юпитера, и та рухнула на землю.
Когда паника достигла своего апогея, Цицерон издал указ о переносе дня выборов на 28 октября.
Накануне, двадцать первого октября, было созвано экстренное заседание сената, чтобы обсудить создавшееся положение.
Сенаторы, возбужденные и напуганные не менее рядовых обывателей, после недолгих и нервных дебатов приняли предложение о наделение консулов исключительной властью ввиду существующей угрозы переворота, «дабы государство не потерпело ни малейшего ущерба».
По предложению Катона был также записан пункт о введении в Риме осадного, чрезвычайного положения…
На следующий день Цицерон появился на форуме в таком виде, будто собрался идти на войну. На груди его сверкали свежее начищенные медные латы, и весь вид его изображал суровость и решимость. Консула сопровождала специально сформированная по случаю чрезвычайного положения гвардия, состоящая в основном из детей граждан всаднического сословия, купцов, ростовщиков, лавочников, всех тех, кому было чего терять в случае переворота.
Толпа, охранявшая любимого консула, оказалась столь многочисленной, что заполнила половину форума. Время от времени кто-нибудь из этой толпы выкрикивал лозунг в поддержку Цицерона, и остальные начинали громко его скандировать. Привлеченные шумом и многолюдьем горожане тоже устремились на форум.
После этого на площади каждый день стихийно собиралась толпа, и это еще больше усиливало, сгущало напряжение, в котором жили горожане, охваченные страхом и предчувствием новой гражданской войны.
Из развешиваемых ежедневно на форуме таблицах горожане узнавали, что преторам Квинту Помпею Руфу и Квинту Метеллу Целеру предписывается немедленно отправиться в Капую и в Пиценскую область со специальным заданием срочно набрать армию; что все гладиаторские группы в виду создавшегося положения должны быть переведены из Рима в Капую; что в самом Риме вводится усиленное ночное патрулирование.
Ничего удивительного не было в том, что в сложившейся ситуации на состоявшихся вскоре выборах Катилина опять не получил нужного количества голосов. Консулами на следующий год стали Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена. Впрочем, результаты выборов нисколько не разрядили царящей в городе тревожной, гнетущей атмосферы.
Если бы чужестранец, посетивший Рим несколько недель назад, появился здесь теперь, он просто не узнал бы этот город вечного праздника или решил, что здесь объявлен всеобщий траур. На улицах было пустынно, на форуме не слышалось привычного оживленного говора и бойких криков торговцев, не говоря о том, что на площадях прекратились всякие представления и даже в термах не было обычного расслабленного веселья и отдохновения. Повсюду царили страх, уныние и настороженная суета. Постоянно плодящиеся слухи обрастали столь живописными и убедительными деталями, что им невозможно было не поверить, и это еще больше усиливало напряженное ожидание того, что вот-вот случится нечто ужасное.
Вновь избранные консулы должны были приступить к исполнению обязанностей с первого января следующего года. Пока же Цицерон оставался первым консулом с возложенными на него чрезвычайными полномочиями и вся ответственность за спокойствие и безопасность государства ложилась на его плечи.
Восьмого ноября он вышел из дома, вновь прикрыв грудь медным латами, в сопровождении вооруженных своих гвардейцев. Он направлялся к построенному по велению Ромула храму Юпитера Статора[18]. Именно здесь Громовержец остановил квиритов, бежавших было от сабинян, и спас их от позора. Знавший толк в символике, Цицерон решил в столь ответственный для родины момент провести заседание сената не в курии, как это обычно случалось, а именно в этом храме, название которого говорило само за себя.
В этот же день по приказу Цицерона была водружена на прежнее место статуя Юпитера, которая рухнула во время грозы. И это тоже носило символический характер, означая незыблемость божественных и государственных основ.
Кроме консульской гвардии, на площади перед храмом собралось большое количество тех, кто пожелал продемонстрировать консулу свое полное сочувствие и поддержку в борьбе с бунтовщиками и заговорщиками.
Они устроили две живые стены, между которыми должны были идти на свое заседание сенаторы. Наиболее известных личностей бывших и будущих консулов, преторов, эдилов и других магистров толпа приветствовала восторженными криками и пожеланиями поскорей установить мир и порядок. Тех же, кого подозревали в причастности к движению катилинариев, встречали шипением, свистом, оскорбительными репликами и даже плевками.
Когда же появился Катилина, толпа вначале затихла, потом заволновалась, злобно загудела и принялась выкрикивать в его адрес грязные слова и угрозы.
Катилина, не обращая внимания на выпады беснующейся толпы, спокойно вошел в храм и сел в правый ряд на вторую скамью. Тотчас несколько человек, сидевших неподалеку, поднялись, будто рядом с ними оказался прокаженный, и спешно пересели на другие места.
Цицерон появился с некоторым опозданием, когда ожидание достигло своего апогея, и ожидавшая его толпа тут же устроила ему восторженную бурную овацию.
Войдя в храм, консул стремительной походкой направился к подиуму и встал рядом с жертвенным огнем. Колеблющийся свет пламени придавал его лицу суровое, мрачное и полное решимости выражение. Дождавшись полной тишины, Цицерон приподнял опущенные веки и, выбросив руку в ту сторону, где сидел Катилина, начал говорить резким, напряженным от волнения голосом:
— Доколе же, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Сколь долго ты еще будешь упорствовать в своем диком безумии? Доколе ты, теряя всякую меру, будешь кичиться своей дерзостью? Неужели на тебя не произвели никакого впечатления ни военная охрана, оберегающая по ночам Палатинский холм, ни усиленные городские патрули, ни страх народа, ни собравшаяся за стенами этого священного храма толпа благонамеренных граждан, ни само это неприкосновенное место, где проходит заседание сената, ни выражение лиц присутствующих здесь сенаторов? Неужели ты до сих пор не замечаешь, что ты связан по рукам и ногам, поскольку все уже знают о твоем заговоре?.. О времена, о нравы! Сенат обо всем знает, консул все это видит, а он еще живет. Живет! Мало того он является в сенат, участвует в государственном совещании, выбирая в это время жертву среди нас, чтобы обречь ее на заклание… Тебя, Катилина, давно следовало бы казнить по приказу консула и на тебя обратить ту погибель, которую ты уже долгое время замышляешь против нас. Почтеннейший Публий Сципион, верховный жрец, не занимавший никакой государственной должности, убил Тиберия Гракха за то лишь, что тот стремился незначительно, повторяю лишь незначительно изменить существующий государственный строй. Мы же, облеченные консульскими полномочиями, спокойно терпим Катилину, жаждущего утопить в крови и истребить весь мир!..
Цицерон говорил более часа, стараясь посильнее накалить и без того раскаленную атмосферу. Его голос то затихал, то гремел под сводами храма так, что казалось, будто его устами говорит сам Юпитер. Он вновь и вновь намекал на то, что у него повсюду есть надежные осведомители и что все, что делают Катилина и его сподвижники, ему немедленно становится известным, и что он, Цицерон, умыслы катилинариев не только видит, но прямо-таки, как он выразился, чует.
Вся вторая половина речи консула была направлена на то, чтобы подстегнуть Катилину убраться поскорее вон из города.
— Я этого не снесу, не потерплю, не допущу, твердил Цицерон, как заклинание, произнося напевно и с выражением в привычной своей манере несколько синонимов подряд, и, обратившись к Катилине, добавил, персонифицируя себя с Матерью-Родиной:
— Уходи и избавь меня, Родину-Мать, от этого страха, если он основателен, чтобы он не давил меня своей тяжестью; если же он ложен, чтобы я, наконец, когда-нибудь перестала испытывать чувство беспокойства…
После этого консул вновь высыпал, как из рога изобилия, массу обвинений против Катилины, уличая его в попытках убить, уничтожить, убрать его, Цицерона, который последнее время только и делал, что успевал «увертываться, как говорится, исключительно только ловким движением своего тела».
— Ты себе представляешь эту картинку? шепнул Красс сидящему рядом с ним Юлию Цезарю. Несчастную горошину[19] пытаются наткнуть на острие ножа, а она увертывается ловким движением своего пухлого тельца.
— Он делает все как надо, отозвался Цезарь. До конца его консульства остаются считанные дни, а ему позарез нужно успеть совершить нечто героическое. Поэтому он и выборы перенес на неделю позже. Сейчас же он всеми способами провоцирует легко возбудимого Катилину. И если тот занервничает и наделает глупостей, то у Цицерона появится возможность доказать всем, что он точно был прав. Ведь пока что все, что он говорит, не более чем эмоции и домыслы. Хотя чувствуется, что он действительно много чего знает о действиях Катилины. Я думаю, у него наверняка есть агент в близком окружении Катилины.
Цицерон между тем переключился непосредственно на личность своего врага:
— Какое клеймо постыдных поступков в пределах собственного семейства не выжжено на твоей жизни? — восклицал он, указуя перстом в то место, где одиноко сидел Луций. — Какой позор в личных отношениях с людьми не тяготеет на твоей репутации? Какой разврат не приковывал к себе твоих взоров? Какое преступление когда-нибудь миновало твоих рук? Какой омерзительный порок не растлевал твоего существа?.. Недавно ты смертью первой жены освободил свой дом для нового брака, а затем увенчал это преступление другим, еще более невероятным. Вся твоя позорная и порочная семейная жизнь богата семейными передрягами и скандалами, любовными интрижками за спиной не ведающих ничего мужей, насилованием невинных жертв… Ты собрал вокруг себя банду злодеев, набрав ее из отщепенцев, потерявших не только средства к жизни, но и всякую надежду на нормальное существование… Пусть же эти негодяи удалятся, пусть отделят себя от благонамеренных людей, пусть они все соберутся в одном месте, пусть, наконец, городская стена, о чем я уже не раз просил, разделит их от нас; пусть перестанут готовить покушения на консула в его собственном доме, осаждать с оружием в руках здание сената, готовить для поджога города ракеты и факелы; пусть наконец у каждого на лице будут написаны его политические убеждения… И после отъезда Катилины вы воочию убедитесь, что все его умыслы открыты, обнаружены, расстроены, наказаны!..
Закончив свою долгую и страстную речь, Цицерон опустился устало в курульное кресло и красиво подпер рукой склоненную голову. В храме воцарилось глухое, зловещее молчание.
Катилина поднялся упруго со своего места, почти вбежал по ступеням на подиум и, оглядев сенаторов, мрачно и настороженно взиравших на него, начал говорить медленно, как будто через силу:
— Не могу не отдать должное ораторскому мастерству нашего уважаемого консула. Если бы я не был достаточно близко знаком с человеком по имени Луций Сергий Катилина, то и я, наверное, так же, как и вы, поверил бы всем словам Марка Туллия Цицерона, столь выразительно и с искренней убежденностью произнесенным здесь, и так же, как вы, негодовал бы при мысли, как может земля носить такого негодяя, такого изверга, разбойника и убийцу…
Если верить словам почтеннейшего Цицерона, то я — порождение самых темных сил, сгусток всех пороков, угроза миру и безопасности государства…
Нетрудно понять, почему уважаемому консулу удобно и выгодно изображать меня чудовищем, готовым сожрать всех благородных римлян, изнасиловать всех матрон и невинных девушек, поджечь ракетами и факелами мирные дома и сиротские приюты… Уже не один год он с редкостным упорством, настойчивостью и последовательностью предпринимает усилия, направленные на то, чтобы я сошел с политической арены…
Уважаемый консул чуть ли не в упрек поставил мне то, что я трижды пытался совершенно законным, я повторяю — законным путем добиться консульской должности.
Да, я считаю себя достойным этой должности ничуть не менее, а может быть даже и более, чем иные претенденты…
Сегодня у нашего государства как бы два тела: одно — хилое, со слабой головой, лишенной государственного мышления и политической воли, другое — сильное, крепкое, здоровое, но лишенное головы. Наше государство ощущает острую нужду в новых идеях, в живых идеалах и в сильной политической воле, подкрепленной государственным разумом. И оно желает найти такую голову во мне. Если, конечно, я останусь жив, потому что я вижу, как делается все возможное и невозможное для того, чтобы уничтожить меня не только морально, но и физически.
Я вовсе не желаю, чтобы проливалась кровь римских граждан, — ее за последнее время и так было достаточно много пролито. Я хочу, чтобы все совершалось по закону и ради блага нашего государства и нашего народа. Но почему со мной поступают не по закону? Почему все обвинения в мой адрес строятся не на фактах, а на домыслах и на сплетнях? Доколе Цицерон, наш уважаемый консул, будет позволять себе, не имея никаких реальных доказательств моей, как он считает, антигосударственной деятельности, обращаться со мной, как с изгоем, попирая при этом все государственные и человеческие законы?..
Я убедительно прошу сенаторов не верить опрометчиво тем порочащим меня слухам, которые, в результате чьих-то усилий и стараний, распространяются обо мне повсюду… Благодаря этим грязным сплетням, моим недругам уже удалось добиться своего: консул перенес на неделю срок выборов, а я потерпел очередное фиаско, а здесь, в сенате, меня уже все чураются, как прокаженного.
Я еще раз заклинаю вас не верить всей этому вздору, который обо мне измышляют с определенной целью. Я заверяю вас, что моя семья, которую тоже не пощадили злые языки, и все мои предки заслуживают самых добрых слов.
Что же касается моего личного поведения, то ни в ранней моей молодости, ни сейчас не было ничего предосудительного или недостойного, и нравы мои и убеждения не несут ничего злонамеренного. Кощунственно даже предполагать, что мне, патрицию по происхождению, оказавшему, равно, как и мои предки, бесчисленное количество благодеяний по отношению к римскому плебсу, нужна гибель государства, которое якобы спасает пришлый гражданин города Рима Марк Туллий Цицерон…
В рядах сенаторов раздался ропот, гул, постукивание по скамьям.
Послышались выкрики:
— Враг народа!.. Убийца!.. Лицемер!.. Долой!..
— Хорошо, вы еще пожалеете о том, что вы сегодня со мной сделали! — вне себя от бешенства прокричал Катилина. — Вы не желаете верить ни единому моему слову, но охотно верите бреду и околесице, которую несет этот краснобай, желающий сделать себе славу на чужом несчастье. Хорошо же! Я хотел все делать мирно, честно и по закону. Но вы сами побуждаете меня к иным действиям. И коль скоро я окружен тут врагами, толкающими меня факелами своей ненависти в пропасть отчуждения и изоляции, то я потушу этот зажженный вокруг меня пожар под развалинами!..
Катилина сжал руки в кулаки и, развернувшись, быстро зашагал к выходу.
Цицерон сидел все в той же позе, подперев ладонью низко склоненную голову, но тот, кто находился к нему поближе, не мог не заметить, как лицо консула озарилось тихой торжествующей улыбкой…
Глава XII. Post equitem sedet atra cura[20]
Далее события развивались с тем стремительным ускорением, с каким брошенный с большой высоты камень приближается к земле.
Покинув заседание сената под злобные выкрики недругов, Катилина решил, что больше нет смысла оставаться в городе, где его обложили со всех сторон, как охотники обкладывают медведя.
Вечером того же дня он собрал самых близких друзей и рассказал им о том, что на самом деле происходило утром в храме Юпитера Статора, ибо и это событие уже успело обрасти самыми нелепыми, фантастическими домыслами.
Все согласились с тем, что Цицерону удалось сделать все возможное для того, чтобы перекрыть Катилине любые попытки придти к власти законным путем, и что настала пора принять вызов Цицерона и сената. Задачей Катилины было сформировать вместе с Манлием боеспособное войско и подвести его к Риму. Остальные должны были оставаться в городе и ждать его указаний и распоряжений.
У Луция было желание оставить вместо себя молодого, толкового, а главное решительного и смелого Гая Цетега, назначив ближайшими его помощниками Луция Статилия и Публия Капитона. Но Цетег стал сенатором совсем недавно, а Статилий и Капитон были не очень знатного происхождения. Поколебавшись, он оставил за главного Публия Лентула, некогда занимавшего консульскую должность. Правда, несколько лет назад за поведение, не совместимое с общепринятой моралью, Лентул Сура был исключен из сената и теперь исполнял должность претора. Но уже сам факт, что Лентул сидел некогда в курульном кресле, возвышал его над остальными претендентами на место Катилины.
Зная медлительный характер Лентула, а главное — его неумение быстро реагировать на изменение ситуации, Катилина рассчитывал лишь на то, что в его отсутствие в Риме ничего чрезвычайного не успеет случиться.
— Я убедительно прошу, — повторил он несколько раз, закончив свое выступление, — без моего ведома не предпринимать никаких действий, никаких решений! Сегодня мы должны быть бдительными, как никогда…
Той же ночью, быстро собравшись, он попрощался с Ористиллой и ее дочерью и в сопровождении нескольких соратников отбыл в лагерь Манлия.
Всю дорогу его не покидали обида на сенаторов, среди которых было немало его добрых знакомых. Как дети, они попались на уловки Цицерона, заворожившего, загипнотизировавшего их потоком слов, в которых не было ни грана правды, а если и была правда, то в таком оформлении, что тоже становилась ложью. Юлий Цезарь прав: Цицерон нутром чувствует, что безотказно действует на толпу. Ему надо было всех ужаснуть, запугать, деморализовать. Массовая паника не дает человеку возможности думать самому — он становится частью мечущегося стада, испытывает потребность в козле-вожаке. И, уповая на этого вожака как на спасителя, все, даже самые разумные люди, начинают верить ему.
Во время коротких остановок Катилина писал письма бывшим консулам и другим влиятельным лицам и отправлял их в Рим с нарочным. Он писал о том, что в результате ложных обвинений и всевозможных хитросплетений он, Катилина, оказался в полной изоляции и, уступая воле судьбы, удаляется в изгнание. Но не потому, что признает за собой преступные действия или помыслы, а для того лишь, чтобы государство пребывало в покое. И что если сенат не хочет, чтобы события приняли нежелательный оборот, необходимо остановить волну лжи и клеветы, которой окутали возглавляемое им общественное, народное движение в поддержку насущно необходимых реформ…
Своему давнему знакомому Квинту Катулу, который не раз выручал его из беды, Катилина отправил личное письмо с просьбой позаботиться об Ористилле и защитить ее, поскольку сгустившаяся вокруг него атмосфера враждебности и отчуждения может сказаться и на его семье.
«Возмущенный обидами и оскорблениями, отнявшими у меня плоды моей работы и энергии, лишенный возможности занимать подобающее мне высокое положение, — писал он, — я взял на себя, по своему обыкновению, дело общественного значения — защиту угнетенных…
Сегодня ничего не стоящие люди пользуются почетом и уважением, а меня затирают и держат в стороне по ложному подозрению. На этом основании я возымел честные для своего положения надежды сохранить хоть остаток своего достоинства…
Поручаю тебе Ористиллу и вверяю ее твоему покровительству; заклинаю тебя именем твоих детей, защищай ее от несправедливости. Прощай».[21]
Глава XIII. Habemus confitentum reum[22]
Лентул Сура, оставленный после отъезда Катилины за главного, был человеком заурядным и скучным, но, как многие недалекие люди, самого себя считал гораздо выше тех, кто его окружает, кичился своим знатным происхождением и любой свой самый незначительный поступок преподносил как подвиг. Лентул обожал толковать о стратегии и о глобальных проектах, не имевших под собой реальной почвы, но когда речь заходила о принятии конкретного решения, устраивал по любому поводу долгие и бесплодные дискуссии…
Узнав через Курия о последних планах заговорщиков, Цицерон, который имел представление об уровне интеллекта Лентула Суры, решил ускорить события.
Надо было спровоцировать чем-то Суру и его соратников на необдуманные действия. И вскоре такой случай подвернулся.
В конце ноября в Рим прибыли два посла гальского племени аллоброгов, направленные сородичами с целью похлопотать перед сенатом о смягчении налогового бремени. Первым делом ходоки направились к некоему Квинту Фабию Санге, который патронировал в сенате их общину. Они вручили ему свои подарки и обратились с просьбой посодействовать облегчению их положения.
Санга, как положено, доложил первому консулу о визите послов и попытался похадатайствовать о некотором изменении для них налоговых квот.
Цицерон понял: сами боги посылают ему шанс. Он тут же нашел человека, который вызывал доверие как у аллоброгов, так и у катилинариев, и который мог бы свести аллоброгов с Лентуллом.
Выслушав аллоброгов, Лентул решил, что совсем неплохо было бы иметь лишних союзников и тут же предложил послам поддержать римских граждан, которые в случае прихода к власти не останутся перед их племенем в долгу.
Аллоброгам было предложено прислать на помощь катилинариям свою кавалерию, славившуюся храбростью и быстротой натиска.
Послы покивали головами, почесали бороды и попросили дать им день на размышление. На том и расстались.
Тем же вечером Цицерон знал, что заговорщики клюнули на приманку, и проинструктировал Сангу, что ему делать дальше.
Хорошо знавший экспансивный характер галлов, воспламенявшихся от любой, даже иллюзорной надежды и мгновенно падающих духом при малейшей неудаче, Санга сразу же заявил аллоброгам: ему все известно об их тайных переговорах с заговорщиками, и это не сулит им ничего хорошего.
Перепуганные насмерть аллоброги тут же выложили все, о чем шел разговор в доме Децима Брута.
Санга же продолжал стращать их всевозможными карами. Наконец, видя, что слова его произвели должное впечатление, он резюмировал, что единственный для послов выход из создавшегося положения и, может быть, даже возможность получить кое-что в качестве вознаграждения, — это в точности выполнить некоторые условия.
Условия сводились к следующему: аллоброги должны по-прежнему проявлять заинтересованность к предложению Лентула и давать всяческие заверения и обещания поддержки заговорщиков. А главное — в конечном итоге убедить главарей заговора дать послам письменное обращение ко всем старейшинам племени с просьбой поддержать их в борьбе за власть.
Перепуганные насмерть послы согласились со всеми условиями и на следующий же день начали в точности выполнять все инструкции Санги, сообщая ему подробно обо всем, что они услышали и увидели.
За день до своего отъезда депутация аллоброгов обратилась к Лентуллу с просьбой дать им письма для того, чтобы они показали своим соотечественникам, сколь могущественных друзей они обрели в Риме, и тем самым смогли убедить своих земляков поднять оружие против римской олигархии.
Кассий засомневался было в необходимости таких писем, но аллоброги затараторили наперебой, что без документального подтверждения им трудно будет убедить свою общину в серьезности намерений римских граждан, с коими они договорились о совместных действиях.
Лентул, считая неожиданное приобретение ценных союзников своей личной заслугой, стал убеждать соратников написать письма и скрепить их своими подписями и печатями. И тут же первым сел писать письмо.
В конце концов, и остальные, последовав его примеру, написали короткие письма, поставили под ними свои подписи и скрепили их своими печатями.
Лишь простодушный Кассий неожиданно для всех отказался это делать, заявив, что в самое ближайшее время он сам лично приедет к аллоброгам и там, на месте уточнит все детали.
Решено было, что депутация аллоброгов отправится из Рима в ночь на третье декабря. Сопровождать посланцев вызвался Тит Вольтурций, поскольку он намеревался на обратном пути заглянуть к родителям, которые проживали под Римом…
Через час Цицерон уже знал обо всем. Прохаживаясь по комнате в возбужденно-радостном состоянии, он решительным голосом отдавал распоряжения преторам Валерию Флакку и Гаю Помптину:
— Как только стемнеет, устройте засаду у Мульвийского моста. Именно там поедут аллоброги со своими провожатыми. Другим путем добраться в Галлию просто невозможно… Как только они доберутся до середины моста, надо перекрыть им возможность отступления и прорыва. Думаю, вам не нужно объяснять, что все надо сделать бесшумно и незаметно. Если будет оказано сопротивление, в выборе средств не церемонтесь…
Операция прошла точно по плану, разработанному Цицероном и преторами.
Едва ночные путники достигли середины моста, как с обоих его концов из темноты раздались громкий крик:
— Всем стоять! Вы окружены. При оказании сопротивления все будут убиты на месте! Всем стоять на месте!
Выскочившие из засады солдаты быстро блокировали все проходы и, обнажив мечи, стали приближаться к аллоброгам в сопровождении факелоносцев.
Вольтурций выхватил было меч из ножен и призвал сопровождавших его слуг и аллоброгов к сопротивлению, но аллоброги, мигом уловив суть происходящего, спешились, побросали оружие наземь и сбились в кучу, как лишенное вожака стадо баранов.
Вольтурций попытался было добраться до старейшины аллоброгов, у которого хранились письма заговорщиков, чтобы сбросить улики с моста, но подоспевшая стража быстро окружила его и выбила меч из его рук…
Вскоре к Цицерону, в нетерпении ожидавшему вестей, примчался курьер и сообщил, что все прошло, как по маслу: делегация захвачена, все улики изъяты.
Услышав это, консул не смог скрыть своего ликования. Он тут же наградил курьера и отправился на кухню, где велел достать лучшего вина и залпом осушил полный бокал разведенного теплой водой хеосского.
Прибывшие следом за курьером преторы, возбужденно перебивая друг друга и то и дело повторяясь, рассказали консулу в подробностях обо всем, что произошло на Мульвийском мосту. Закончив свое сумбурное повествование, они вынули из кожаного мешка ящик, изъятый у аллоброгов.
— Прекрасно, прекрасно, — бормотал Цицерон, просматривая письма, о содержании которых он знал еще два дня назад. — Прекрасно… Теперь надо быстро действовать, пока остальные заговорщики не пришли в себя и не разбежались…
Едва первые неяркие лучи декабрьского солнца осветили крыши домов, Цицерон велел позвать к нему Статилия и Габиния. Еще не зная ничего о том, что произошло минувшей ночью, каждый из заговорщиков полагал, что консул вызывает лишь его одного и что речь будет идти, в крайнем случае, о каких-то подозрениях или предположениях.
Что касается Лентула, в качестве претора и бывшего консула имевшего право неприкосновенности, то Цицерон, согласно протоколу, отправился к нему сам лично в сопровождении охраны и, взяв Лентула за руку, привел его в храм Согласия, чтобы заключить под стражу. Сюда же привели Статилия и Габиния.
Через полчаса храм заполнился сенаторами, удивленными, что их собрали в столь ранний час и ожидавшими услышать от консула самое худшее, поскольку слухи о готовящемся выступлении мятежников продолжали циркулировать по городу.
Когда все сенаторы расселись — на этот раз присутствовали почти все 600 человек — и ожидание достигло своего апогея, Цицерон, восседавший в кресле с мрачным и загадочным видом, приказал страже ввести аллоброгов и плененного Вольтурция. Медленно, с трудом, будто его давила к земле тяжесть происходящего, консул поднялся с курульного кресла и начал рассказ о проведенной им этой ночью операции. Закончив в полной тишине свое повествование и выдержав эффектную паузу, он подал знак стоявшему за колонной претору Флакку. Тот торжественно вынес ящик с письмами заговорщиков и передал консулу. Приблизившись к светильнику, Цицерон начал разворачивать одно за другим письма заговорщиков и зачитывать их тексты.
Едва он закончил читать последнее письмо, как царившая в храме тишина взорвалась криками возмущения, недоуменными вопросами и возгласами проклятий.
Цицерон поднял руку, призывая всех к спокойствию, и предложил, не откладывая, перейти к допросу Вольтурция как непосредственного свидетеля и участника событий.
Вначале Вольтурций пытался отрицать свою вину, утверждая, что он всего-всего отправился с аллоброгами по их просьбе, для того чтобы сопроводить их до границы. Но когда допрошенные аллоброги в подробностях рассказали, как все происходило на самом деле, Вольтурций понял, что дела его плохи, и сразу сник.
Следующим был допрошен Лентул. Он был насмерть перепуган и тоже всячески отрицал свою причастность к письмам, переданным аллаброгам, называя их фальшивкой, а все происходящее — провокацией.
Но после того как заговорщикам были показаны их личные печати, поставленные на письмах, они вынуждены были признать подлинность оттисков. Лентул и Вольтурция тут же были взяты под сражу и отправлены под домашний арест в дома видных граждан.
Аллоброгским послам за их помощь в раскрытии заговора было решено назначить денежное вознаграждение, и они, довольные, что все для них так хорошо и удачно закончилось, удалились из курии, бормоча благодарственные слова и раскланиваясь, как актеры, успешно сыгравшие свои роли…
Заседание сената по вопросу об окончательном решении судьбы заговорщиков должно было состояться через день, 5 декабря, в том же храме Согласия.
Накануне его Цицерон провел бессонную ночь, терзаясь сомнениями относительно того, как поступить с заговорщиками.
Теренция, как всегда, была настроена решительно и увещевала мужа принять по отношению к государственным преступникам самые строгие меры.
— Судьба дает тебе шанс войти в историю как спаситель Рима, сохранивший в государстве мир и порядок, — твердила она. — И ты должен быть строг и непримирим, к тем, кто мог покуситься на это спокойствие. Народу нужен поступок, нужно решительное действие. Только это вызывает уважение толпы.
— Но разве недостаточно того, что я изгнал из города Катилину и разоблачил заговорщиков, разрушив все их замыслы и планы? — возразил Цицерон.
— Все это так, — согласилась Теренция. — Но пока что ты поставил многоточие. Для того же, чтобы войти в историю, нужно ставить точки, а еще лучше — восклицательные знаки. Ты должен совершить мужской поступок, после которого тебя зауважают все — и друзья, и недруги.
— Но я не хочу, чтобы на мне была кровь, — замахал руками консул. — Я, который всегда призывал к миру, к согласию сословий, который ратовал за то, чтобы все свершалось по закону, — как я могу преступить закон?
— Ты ведь сам говорил, что история пишется кровью. К тому же ты не совершаешь ничего незаконного. Ты действуешь по законам чрезвычайного положения, которое пока что никто не отменил. Преступники сами во всем публично сознались. Какие же еще нужны доказательства, следствие и суд? Если ты их не покараешь, это может быть расценено, как проявление твоей слабости, и даст повод сторонникам Катилины форсировать свои действия. К тому же по городу ходят слухи, что катилинарии намереваются силой освободить заключенных.
— Нет, не могу, не могу, не могу, — застонал Цицерон. — Я в своей жизни даже воробья не убил.
— А воробьев и не надо убивать, — спокойно продолжала Теренция. — Ибо они ни в чем не виновны. Но тех, кто угрожает спокойствию государства, нужно уничтожить без всякой жалости. Это так же разумно и гуманно, как если бы хирург отсек больной член, грозящий гибели всего тела.
— Не знаю, не знаю…
Продолжая бормотать, Цицерон и удалился в свой кабинет и предался там размышлениям и сомнениям…
В этот же день, когда произошли описанные события, отмечался праздник Доброй Богини. Согласно традиции, в доме консула его жена должна была в присутствии весталок принести жертвы в честь Дорой Богини. Присутствовать на таких церемониях разрешалось только женщинам, и Цицерон вынужден был коротать время в доме соседа. Вместе с ним за столом сидели его брат Квинт и неизменный советник консула по вопросам политическим Публий Негидий. Цицерон продолжал предаваться размышлением вслух о том, какое же принять решение относительно судьбы взятых под стражу заговорщиков, — ни о чем другом он думать не мог, — а оба его собеседника пытались развеять сомнения консула, говоря, что предложение Теренции не лишено резонных оснований.
Едва было произнесено ее имя, Теренция собственной персоной появилась на пороге в сопровождении двух весталок и сообщила о чудесном знамении: когда женщины совершали жертвоприношение, огонь, который, казалось, уже окончательно погас в очаге, вдруг ярко вспыхнул и озарил всю комнату голубоватым светом, отчего все, кто видел это, настолько были потрясены, что в испуге разбежались прочь. Сопровождавшие Теренцию священные девственницы подтвердили ее рассказ и сказали, что этот большой свет, конечно же, зажгла Добрая Богиня и что данное знамение — это данный ею знак, означающий, что Она благословляет мужа Теренции принять те меры, которые он задумал во имя спасения государства, и что это ему самому сулит спасение и славу.
Зная повадки своей супруги, Цицерон заподозрил, что чудодейственное возгорание углей не обошлось без ее вмешательства, но убежденность весталок, которые еще раз повторили свой рассказ, снабдив его новыми живописными подробностями, передалась и ему, и, поднявшись со своего места, он воздел правую руку вверх и произнес громко и твердо:
— Да, они заслужили смерть!
Глава XIV. «Vixerunt»[23]
Согласно традиции, если до вступления в должность вновь избранного первого консула оставалось меньше месяца, то прения в сенате должен был открывать ныне действующий первый консул. Не упускавший из поля своего зрения ни одной детали, Цицерон учел это обстоятельство, и утром, до начала заседания сената, успел обмолвиться с будущим первым консулом Децимом Силаном относительно того, какое решение следует считать правильным и отвечающим желанию народа и сената.
Подойдя к трибуне, Силан громко и отчетливо, будто уже зачитывал приговор, заявил, что все взятые с поличным государственные преступники заслуживают смертной казни.
В храме наступила гробовая тишина — никто из присутствующих не ожидал, что обсуждение сразу же начнется с требования столь суровой кары.
Выступивший вслед за Силаном второй консул Луций Мурена, не желая, чтобы с первых же шагов его деятельности наметились расхождения с первым консулом, поддержал Силана. Следом за ними такое же мнение высказали и все консуляры.
Цицерон уже совершенно успокоился, видя, что все идет как по писанному, но вдруг слово взял молодой Юлий Цезарь — он выступал первый раз в качестве вновь избранного претора. Зная, что от этого выскочки можно ожидать чего угодно, Цицерон вновь собрался и стал настороженно слушать витиеватую речь претора.
Вначале Цезарь призвал сенаторов, вынося свой вердикт по данному делу, быть свободными от чувства ненависти или дружбы, гнева или сострадания, ибо речь идет о случае, который может иметь непредсказуемые последствия. Приведя несколько исторических аналогий, доказывающих, что настоящие квириты никогда не отвечали на недостойные действия своих противников такими же недостойными действиями, Цезарь вновь призвал сенаторов не поддаваться сиюминутному чувству гнева, а поступить с обвиняемыми по закону, применив к ним лишь те меры, что предусмотрены римским законодательством.
Чем выше положение человека, тем меньше у него свободы действия, — заметил он. — Если обычный человек может позволить себе вспышку гнева или ненависти, то, человек, обладающий властью, не должен поддаваться сиюминутным страстям, чтобы не породить в обществе жестокосердие и злобу.
Услышав в зале неодобрительный гул, Цезарь замолчал, ожидая, пока гул не смолкнет, и продолжал с тем же спокойствием:
— Вы правы, господа сенаторы, и я полностью разделяю ваше мнение: нет таких пыток, которые были бы соразмерны преступлению этих людей. И все же мнение уважаемого Децима Силана представляется мне — не скажу жестоким, ибо что может быть жестоким по отношению к таким людям, но совершенно чуждым нашей государственной конституции.
В зале вновь раздались возмущенные и даже злобные выкрики, — Цезарь явно шел вразрез с подогретой всеми последними событиями и речами предыдущих ораторов жаждой мщения.
— Да, любой приговор в отношении изменников не представляется слишком строгим, — продолжал он, дождавшись, когда гул в курии стих. — Хотя, надо сказать, в печалях и бедствиях смерть не столько наказание, сколько отдохновение. Но мы с вами должны думать о возможных последствиях любого нашего решения. Представьте себе, уважаемые сенаторы, что может произойти, если вдруг однажды власть попадет в руки менее опытных и менее достойных политиков, чем вы. Тогда новая, придуманная нами в отношении римских граждан мера может быть использована как прецедент, для того чтобы обернуть ее против невинных людей, которые чем-то не устраивают власть.
Вспомните историю с лакедемонянами, когда те, победив афинян, назначили для управления ими тридцать олигархов. Вначале те, пользуясь полнотой власти, принялись умерщвлять лиц, ненавистных большинству граждан. Видя это, народ ликовал и радовался, считая, что новые правители поступают совершенно правильно. Но произвол стал постепенно разрастаться, и вскоре террор захватил всех. Так общество тяжело поплатилось за свою неразумную радость и за свое недальновидное решение. Вряд ли стоит приводить другие аналогичные примеры. Ну, разве что можно напомнить о том, что еще совсем свежо в нашей памяти, — о том, как начиналось беззаконие во времена Суллы…
Цицерон заметил, как под влиянием спокойной и не лишенной логики речи Цезаря настроение большинства сенаторов, слушавших внимательно доводы оратора, стало меняться. Он невольно устремил на Цезаря настороженный и недоброжелательный взгляд, а затем переглянулся с Марком Катоном.
— Само собой, я не опасаюсь подобных злоупотреблений при Марке Тулии , — продолжал Цезарь, заметив беспокойство консула, — и вообще в наши времена. Но нельзя исключить того, что в дальнейшем, при другом консуле, у которого к тому же в руках будет армия, на основании созданного нами прецедента будут уничтожаться невинные люди без суда и следствия…
Цезарь говорил более получаса и в конце своей речи внес конкретное предложение — конфисковать имущество обвиняемых, а самих их держать в заключении, распределив по муниципиям.
После того как претор закончил свое выступление, один из бывших консулов предложил закончить прения и приступить к голосованию. Но тут с места поднялся выбранный на следующий год народным трибуном Марк Порций Катон и заговорил своим резким упругим голосом:
— Уважаемые господа сенаторы, вопрос слишком серьезен, чтобы решать его в спешке, не обсудив со всех сторон. Мы только что выслушали мнение Гая Юлия Цезаря, ратующего за соблюдение конституционных норм и болеющего за наших потомков, коих мы якобы своим решением можем подвигнуть на необоснованные репрессии и тому подобное. Можно было бы согласиться с мнением Цезаря, можно… Если закрыть глаза на то, что творится вокруг и позабыть о том, какая жуткая атмосфера царит за пределами этого зала. О том, что еще несколько дней назад всё в городе и за его пределами было пронизано страхом, тревогой и паникой… Когда пылает пожар, огонь надо гасить немедленно и решительно, дабы он не перекинулся на соседние строения, а уж погасив его, можно рассуждать о том, чем лучше было бы гасить горящие бревна — водой или песком. Данный момент, я повторяю — данный, конкретный момент требует того, чтобы мы немедленно оградили себя от злодеев, а потом уж принялись обсуждать юридические тонкости. Я считаю, что при существующих ныне обстоятельствах не может быть и речи о кротости и сострадании, к которым нас призывал уважаемый претор…
Страстная речь Катона, продолжавшаяся дольше, чем речь Цезаря, вновь возбудила сенат, и когда началось голосование, большинство сенаторов, памятуя слухи о зверских планах катилинариев, высказалось все же за смертную казнь.
Получив поддержку сената, Цицерон решил, по совету Теренции, не откладывать надолго исполнение приговора. Распорядившись усилить повсюду стражу, он лично сопроводил находившегося в его доме Лентула в Мамертинскую тюрьму.
Эта тюрьма, одна из самых старых римских тюрем, была сооружена на месте большого пересохшего колодца. Чтобы избежать всякую возможность побега, — а в Мамертинскую тюрьму заключались самые опасные преступники, — здесь был предусмотрен лишь один вход, если так можно было назвать дыру в верхней части купола, через которую заключенных спускали в пахнущую плесенью и нечистотами яму.
Лентулу связали руки и, поддев веревкой под мышки, опустили вниз, в зловонную зияющую темноту. И в тот момент, когда он увидел свет от факела, исходящий из бокового углубления, где его уже поджидали палачи, несчастный окончательно понял, что обратной дороги из тюрьмы для него уже не будет. Палачи накинули на его шею веревку и тянули ее с двух сторон до тех пор, пока не затихли последние судороги бывшего консула. Та же участь постигла в эту ночь Цетега, Статилия, Габиния и Цепария.
Толпа, прознавшая о том, что заключенных повели на казнь, собралась вокруг тюрьмы и стояла в мрачном, пугающем Цицерона молчании.
Когда все было кончено, Цицерон появился при свете факелов и произнес тонким, прерывающимся от напряжения голосом обычную в подобных случаях латинскую формулировку:
— Vixerunt (Они отжили).
В ответ раздались крики, приветствия, овации. Гвардейцы, повсюду сопровождавшие консула, подняли высоко на руках носилки с Цицероном и в окружении факелоносцев понесли его к дому, а следовавшая за ними толпа продолжала восторженно выкрикивать фразы, славящие консула, вернувшего Риму мир и покой.
Глава XV. Vincere aut mori[24]
Узнав о том, что произошло в Риме, Катилина понял, что все потеряно. До этого он еще надеялся на мирный исход и потому не торопился прибегнуть к военным действиям. Его сторонников могли спасти только выдержка и умение ждать. И если бы Лентул не поддался на дешевую провокацию, все могло обернуться иначе.
При желании Катилина мог бы давно возбудить толпы римских бедняков, поднять окрестных крестьян, привлечь гальские племена, которые ненавидели Рим, не говоря уж о рабах и гладиаторах, готовых по первому сигналу придти под его знамена, но он отказывался принимать их в свое войско, потому что не хотел, чтобы война против олигархов выглядела как его желание любой ценой захватить власть. А теперь уже поздно было что-либо поправить.
Оставалось лишь одно — с честью умереть.
С трудом скомплектовав два легиона из солдат, имевшихся в распоряжении Манлия, а также из людей, прибывавших к нему со всех сторон, Катилина двинулся с ними на Рим.
Он видел, что войско его разношерстно, плохо обучено и скверно вооружено. Лишь каждый четвертый имел на руках настоящее боевое оружие, у остальных же были охотничьи копья, самодельные мечи, а то и вовсе вилы и деревянные колья. Тем не менее, когда он узнал, что сенат направил против него правительственные войска во главе с консулом Антонием, он пошел им навстречу. Возможно, в душе его жила безумная надежда, что Антоний все еще верен их общим идеалам и не допустит братоубийства…
В то время как римляне отмечали веселые праздники, прощаясь с уходящим годом, трехтысячное войско Катилины, изнуренное неопределенностью и последним долгим переходом, готовилось к первой и последней своей битве.
Накануне сражения Катилина узнал, что Антоний, сказавшись в последний момент больным, передал командование Марку Петрею. Значит, у бывшего его приятеля хотя бы проснулась совесть. Хотя, скорее всего, это просто была привычная для Антония тактика — уходить в кусты, как только возникала критическая ситуация, которая могла сказаться на его благополучии…
Серым зимним утром два римских войска приготовились к схватке друг с другом.
Катилина вышел из палатки, одетый в боевые доспехи, поднялся на повозку, окинул взором построенные свои легионы и, упруго выдохнув из легких воздух, заклубившийся в холодном воздухе белесым паром, заговорил резким гортанным голосом:
— Что сказать вам в этот час, мои друзья, соратники и сподвижники?.. Никакие, даже самые пламенные слова, не способны превратить ленивого или трусливого солдата в могучего храбреца. Во время сражения каждый проявляет ту степень смелости и доблести, которые присущи его характеру или сформированы воспитанием…
Я знаю, что со мной остались лучшие из лучших, и я не буду тратить время на то, чтобы пытаться взбодрить вас или вдохновить. Мы все сами выбрали свою судьбу, вытянули свой жребий и будем смело смотреть правде в глаза…
Вы все знаете, каких бед натворил Лентул своей беспечностью и своим малодушием, и прекрасно понимаете, каково наше положение в настоящее время. Две армии преградили нам путь, одна — со стороны Рима, другая — со стороны Галлии. Мы могли бы и долее оставаться в тех местах, где оказались сейчас, но продовольствие наше на исходе, и вряд ли есть смысл ждать изменения ситуации. У нас остается только один выход — прокладывать себе дорогу оружием…
Мы победим, если будем храбрыми и решительными, если, сражаясь, мы будем помнить, что отстаиваем свободу и честь, будущее нашей любимой отчизны. Да, в отличие от тех, с кем мы будем сражаться, мы боремся за родину, свободу и жизнь, а не за могущество кучки зажравшихся олигархов. Мы могли бы тихонько разойтись, расползтись и провести жизнь в позорном изгнании или, покаявшись, вернуться в Рим в расчете на чью-то поддержку. Но все эти варианты невозможны и отвратительны для людей, в груди которых бьется мужественное сердце.
Если мы хотим избавиться от теперешнего положения, нам нужна смелость и еще раз смелость. Только победитель приобретает мир вместо войны…
И, сражаясь, помните простую истину: самая большая глупость — искать спасение в бегстве, повернув от врага оружие, которое тебя защищает. Самой большой опасности подвергает себя тот, кто трусит, и, наоборот, самая надежная защита — это смелость. Не бойтесь того, что врагов больше, чем нас. Окруженное горами место, где нам предстоит сражаться, не дает им возможности окружить нас…
Но если судьба все-таки изменит нам, старайтесь отдать подороже свою жизнь. Берегитесь попасться в плен: вас перережут, как скотину. Боритесь, как настоящие мужчины, и если врагам достанется победа, то пусть это будет победа, пропитанная кровью и слезами!
Сейчас мы все с вами равны, как были равны по своим правам и возможности люди, жившие на земле в золотой век. Я прошу нашу конницу спешиться, чтобы мы знали, что нам всем грозит одинаковая опасность и чтобы все мы были одинаково смелыми.
Победа или смерть![25]
Закончив свою речь, Катилина спрыгнул на землю и отдал приказ трубить наступление.
Он попрощался со своим конем и пошел впереди построенных в боевом порядке отрядов.
Они вышли на равнину и стали ждать приближения войск Петрея.
Покрытое слегка заиндевелой после холодной ночи травой единственное ровное место, расположенное между скалистыми горами, походило на русло пересохшей реки. Действительно, здесь не было возможности ни для маневра, ни для окружения. Тут можно было только идти вперед или бежать назад.
Самые первые ряды Катилина составил из лучших центурионов, из видавших виды ветеранов и хорошо вооруженных сильных и смелых солдат. Они должны были принять на себя первый удар, который во многом определял исход сражения.
Сам Катилина также стал в первые ряды возле штандарта с орлом. Это был знаменитый серебряный орел, с которым войска Гая Мария разгромили кимвров. Окружали Катилину преданные ему вольноотпущенники и крестьяне из его родового поместья.
Когда за облаками появился мутноватый диск зимнего солнца, вдали раздался сигнал трубы. Это был точно такой же сигнал, какой недавно звучал над войском Катилины, и казалось, что долгое эхо вернуло назад этот звук.
В другом конце лощины в легкой утренней дымке показались легионы Петрея, который тоже был римлянином и точно так же, как Катилина, построил свою тактику, сформировав первые ряды из опытных ветеранов и самых крепких бойцов. И две армии соотечественников, медленно двигавшиеся навстречу друг другу, были будто зеркальное отражение друг друга.
Может быть, уже в первой схватке между братьями-близнецами Рэмом и Ромулом обозначилась трагическая судьба Рима, то и дело сталкивающая между собой граждан одной страны, истребляющая самых сильных и мужественных, самых смелых и доблестных?..
Когда расстояние между войсками сократилось настолько, что можно было различать напряженные лица противников, среди которых люди и с той и с другой стороны начали узнавать своих знакомых, приятелей и даже родственников, у обеих сторон не выдержали нервы. Раздался единый истошный крик, от которого, казалось, содрогнулись горы, и первые ряды противников стремительно кинулись навстречу друг другу. Засверкали мечи, раздался звук металла, проклятия, стоны раненых, призывные крики сражающихся.
Никто из сторонников Катилины не дрогнул и не пытался бежать с поля боя, хотя с каждой минутой все больше ощущалось численное превосходство войск Петрея.
Сам Луций Сергий бился, как лев, бросаясь в то место, где намечался прорыв противника, успевая при этом командовать своими редеющими на глазах когортами.
Даже его недруги отдали должное тому, как он вел себя в свой последний час.
«Катилина, находясь с отрядом легко вооруженным в первом ряду, — напишет историк Гай Саллюстий, — то бросается на помощь тем, кого теснят, то заменяет раненных воинов свежими, зорко за всем следит, много бьется сам, часто разит врага, одновременно выполняя обязанности храброго солдата и хорошего полководца…
Когда же Катилина увидел, что его войска разбиты и что он остается лишь с незначительной кучкой людей, он, помня о своем происхождении и прежнем достоинстве, бросается в тесно сомкнутый строй врагов; здесь, сражаясь, он падает пронзенный…
Только тогда, когда сражение окончилось, можно было воочию убедиться, какая смелость и какая духовная мощь царили в армии Катилины. Ведь почти все покрыли своими мертвыми телами именно то место, которое каждый еще при жизни занял в начале сражения… Катилину с едва заметными признаками жизни нашли вдали от своих; на лице его выражалась все та же непреклонность характера, которой он отличался при жизни…»
Эпилог. Hoc erat in fatis[26]
14 января 705 года от основания Рима (49 г. до н. э.). Цезарь форсировал пограничную реку Рубикон и повел к Риму свое войско. Этот день стал началом новой гражданской войны, которая закончилась полной победой Юлия Цезаря.
Постепенно Цезарь расчистил место для единовластного правления. Он был провозглашен пожизненным диктатором, получил титул императора, звание великого понтифика и народного трибуна в одном лице. Ему было дано право распоряжаться по своему усмотрению всеми государственными финансами и командовать всеми вооруженными силами страны. Подобно царям, он стал носить триумфальное одеяние: пурпурную тогу, красные сапоги, лавровый венок на голове, восседать на золотом кресле, как Юпитер, и единолично творить суд. Его профиль был изображен на чеканящихся монетах, и гению Цезаря римляне стали приносить жертвы так же, как богам.
Но, в отличие от других диктаторов, Юлий Цезарь не стал злоупотреблять неограниченной властью и был достаточно великодушен по отношению к своим противникам и оппонентам. И, может быть, поэтому пал жертвой своих недоброжелателей.
Он был убит в курии, где должно было состояться заседание сената, прямо под статуей Помпея, у которого Цезарь несколько лет назад перехватил власть (в этой мизансцене, по замыслу заговорщиков, тоже был свой символический смысл).
Когда перекрытый толпой заговорщиков и пронзенный их кинжалами, Юлий Цезарь рухнул ниц, большинство сенаторов решило, что с ним неожиданно случился очередной припадок падучей, которой он страдал с детства. Тем более что всем было известно, что с утра Гай Юлий испытывал недомогание. Но как только убийцы расступились и стало видно, что светлая туника Цезаря (пурпурная тога была сорвана с него во время нападения) медленно покрывается алыми пятнами, а по белому мрамору пола расползается кровавая лужа, сенаторов охватил мистический ужас. С дикими криками, отталкивая друг друга, они кинулись к выходу.
Глава заговорщиков Марк Брут попытался призвать всех к спокойствию, и уже начал было произносить подготовленную заранее речь, но его никто не слушал. Каждый стремился поскорее покинуть место, где среди бела дня произошло нечто непонятное и ужасное, где разыгралась какая-то нелепая сцена из гладиаторских представлений, перенесенная в священные стены курии.
На следующий день Марк Брут все же произнес свою речь, но не в сенате, а на форуме перед собравшимся там народом. Он ждал всеобщего ликования и одобрения своих действий, но народ, внимая его речам, угрюмо молчал и так же в молчаливом недоумении разошелся по домам.
Заговорщики надеялись, что на следующем заседании сената, в котором было немало людей, давно жаждавших избавиться от единовластия Цезаря, их поступок все же получит одобрение. Но и этого не случилось. Сенаторы молчали. Возможно, они опасались лишиться благ, вознаграждений и почестей, которые Цезарь раздавал им своей щедрой рукой. А может быть, их преследовал образ беспомощно распростертого на белом мраморе и истекающего кровью Гая Юлия.
Из создавшегося положения нашел выход Цицерон, предложивший компромиссный вариант: объявить всем участникам кровавого события широкую амнистию, но при этом, дабы не нарушать преемственности, оставить в силе все государственные распоряжения Цезаря, не ущемляющие гражданских свобод. Разбор оставшихся после Цезаря бумаг поручался его ближайшему сподвижнику консулу Марку Антонию…
Антоний тотчас принялся за дело, и уже через два дня завещание Цезаря было обнародовано. Согласно последней воле диктатора, основная часть его наследства передавалась внучатому племяннику Цезаря Августу Октавию, который после смерти завещателя должен был считаться его сыном и носить имя Август Октавиан Цезарь. В том случае если последний по каким либо причинам не может или не пожелает входить в наследование, то эта часть собственности переходила бы к Дециму Бруту и Марку Антонию. Затем следовал длинный перечень вознаграждений, которые должны были быть переданы ветеранам, легионерам и бедным гражданам Рима.
Народ, узнавший об очередной щедрости покойного правителя, преисполнился еще большей скорбью и печалью. В день прощания с Цезарем все двери домов были завешены траурной белой тканью, ступени посыпаны лепестками фиалок, и повсюду слышались стоны, рыдания, траурные звуки оркестров.
Когда же вспыхнул сложенный на форуме огромный погребальный костер, на который было возложено закутанное в пурпурную ткань тело Цезаря, и зазвучала траурная мелодия — ее играли одновременно все сошедшиеся здесь оркестры, — из тысяч глоток вырвался единый истошный крик, перешедший в истерические рыдания и вопли.
Оцепившие костер ветераны Цезаря, с которыми он не один год делил тяжести и лишения походной жизни, горечь поражений и радость побед, принялись ритмично постукивать мечами о камни мостовой, славя великого полководца и проклиная его убийц. Когда же пламя вздыбилось выше крыш, они стали бросать в пылающий костер свое оружие, верой и правдой служившее тому, кто уходил от них навсегда.
После этого в погребальный костер полетело все, что было под рукой или находилось поблизости: скамьи, кресла, корзины, части повозок, словом все, что могло гореть. Многие принялись рвать на себе одежды и тоже кидать их в костер. Всем хотелось продлить минуты скорбного прощания, не дать погаснуть огню, который, пока горел, соединял предававшихся горю людей с покидавшим их человеком, столько сделавшим во благо Рима.
Потрясенные этим зрелищем всеобщего горя и растущей ненависти к убийцам, заговорщики тайно, под покровом ночи покинули Рим, устремившись кто куда…
Антоний между тем продолжал просматривать бумаги, оставшиеся после Цезаря, и обнаружил там немало уже готовых законов, направленных на укрепление порядка и преодоление финансового кризиса.
Сенат не желал даже слышать ни о каких посмертных законах, но поскольку Антоний, как консул и как ближайший сподвижник Цезаря, автоматически становился его преемником, то он, продолжая традиции Цезаря, обратился напрямую к народу.
Народ единодушно одобрил все предложенные проекты, и после этого сенату не оставалось ничего другого, как подчиниться народному волеизъявлению…
В год гибели Цезаря Цицерону исполнилось ровно шестьдесят.
Увы, старость его трудно было назвать спокойной и благополучной. Проявленная им по отношению к оппозиции скороспелая жестокость вскоре бумерангом вернулась к нему самому, превратив его жизнь в череду испытаний, лишений и горестей.
Уже через несколько дней после умертвления в Мамертинской тюрьме пяти катилинариев один из избранных на следующий год народных трибунов поднял в сенате вопрос о незаконности смертной казни римских граждан. Произошло это в тот день, когда Цицерон, завершая магистратуру, отчитывался о своем правлении, воздавая себе хвалу за то, что он сохранил в Риме мир и покой, решительно, на корню задушив зловещие ростки преступного заговора.
Но когда разомлевший от похвал сенаторов экс-консул попросил разрешения обратиться не только к сенату, но и к народу с речью-отчетом о своей деятельности, с места поднялся народный трибун Непот и заявил, что он накладывает вето на эту просьбу экс-консула.
— Ты нарушил Семпрониев закон, не удосужившись обратиться к народу, когда без суда и следствия отправлял на смертную казнь римских граждан, — сказал он. — И уж тем более тебе незачем обращаться к народу сейчас.
Непота поддержал Юлий Цезарь, вступавший в следующем году в должность претора, и просьба Цицерона о выступлении на народной сходке была отклонена.
«Отец отечества», настроение которого было омрачено этими неожиданными выпадами против него, не придал им, тем не менее, особого значения, полагая, что Непот и Цезарь запоздало сводят с ним счеты и пытаются таким образом лишить его благосклонности Помпея, в чьей симпатии к себе он нисколько не сомневался.
Но через несколько лет в сенате вновь был поднят этот вопрос и принято решение ввести в судебную практику наказание консулов и других ответственных лиц, по чьей прямой или косвенной вине кто-либо из римских граждан был осужден без суда и следствия.
Почувствовав, что вокруг него растет полоса отчуждения, Цицерон решил не испытывать судьбу, и сам, добровольно покинул Рим, объяснив свой скоропостижный отъезд почти теми же словами, которые произнес пять лет назад изгнанный им из Рима Катилина: «Я уезжаю, дабы избежать бесполезного кровопролития».
Возвратившись в Рим через год, Цицерон решил отойти навсегда от политики и спокойно жить, предаваясь размышлениям и писанию философских трудов. Но в это время сенатская верхушка, оправившаяся после убийства Цезаря, всерьез озаботилась нескрываемыми намерениями Антония занять место Цезаря с соответствующими правами. Зная натуру Антония, они не без основания полагали, что могут получить в его лице рецидив цезарианства в гораздо более опасном и жестоком варианте. Вспомнив про великого оратора, сенаторы решили использовать его дар в своих целях. И честолюбивый Цицерон вновь не устоял перед соблазном в очередной раз приобрести славу спасителя отечества.
В течение полутора лет он неустанно борется с претензиями Антония на единоличную власть. В речах, направленных против Антония, Цицерон не скупится на самые броские эпитеты, сравнения и гиперболы, рисуя образ тупого тирана и самодура, чей приход к власти будет означать полный конец римской республики и, в конце концов, ему удается добиться того, что все общественное мнение восстает против Антония и тот вынужден покинуть Рим.
Но как переменчивы настроения толпы, будь она многотысячной, как на сходках на форуме, или состоящей из сотни сенаторов! Антонию, обладавшему теперь немалыми средствами, удается, используя разные формы подкупа, постепенно перетянуть на свою сторону самых влиятельных лиц. В итоге сенат не только отклоняет предложение Цицерона объявить Антония вне закона, но и вступает с Антонием в переговоры.
Чувствуя, как почва начинает ускользать у него из-под ног, Цицерон решается на мудрый и ловкий, как ему кажется, ход: он входит в тесный контакт с приемным сыном Цезаря Октавианом, которому в это время уже исполнилось двадцать лет, и начинает оказывать Октавиану всяческую поддержку.
Но Цицерон забыл, что в политике не бывает друзей…
Самым простым и неоднократно использованным способом решения финансовых проблем в Риме были проскрипции. И пришедшие к власти дуумвиры Антоний и Октавиан первым делом решили прибегнуть к этому проверенному средству пополнения государственной и собственной казны. Были составлены списки богатых граждан, которые объявлялись вне закона и за головы которых (в самом прямом смысле) назначалась хорошая награда. Все имущество проскрибированных автоматически становилось собственностью государства.
Проскрипции, объявленные Антонием и Октавианом, по своему размаху затмят все предыдущие акции такого рода — и по количеству жертв, и по той наглости и цинизму, с какими они будут проводиться. Будет уничтожено 300 сенаторов и тысячи состоятельных граждан — все они будут выданы или убиты соседями, слугами, вольноотпущенниками, рабами и даже родственниками.
Правда, массовый террор наберет обороты чуть позже. Ев первых порах Антоний и Октавиан внесли в список лишь шестнадцать фамилий.
В самый последний момент по настоянию Антония в список была включена семнадцатая фамилия. Помнивший все выпады против него язвительного оратора, злопамятный Антоний не мог упустить возможность сполна отыграться. Недавний друг Цицерона Август не стал особо возражать…
По горькой иронии судьбы ровно двадцать лет спустя после исполнения смертного приговора участникам заговора Катилины, в такой же точно серый декабрьский день центурион Геренний, настигнув Марка Тулия Цицерона, отсек мечом его седую, давно уже начавшую лысеть голову, потом отрубил правую руку, которой тот писал свои трактаты и речи.
Но и на этом мстительный Антоний не успокоился. Он велел во время трапезы вносить на подносе голову великого оратора и ставить ее на один из обеденных столов. Жена Антония, которую Цицерон тоже не щадил в своих филиппиках, под угодливый смех присутствовавших на обеде произносила в адрес покойного оратора язвительные реплики и втыкала в вывалившийся посиневший язык Цицерона булавки.
Впрочем, вскоре эта забава Антонию наскучила, и он повелел отнести ненавистную ему голову на форум и положить ее вместе с остальными шестнадцатью головами у ораторских трибун на рострах.
Целый день горожане проходили мимо печального места, не рискуя дать волю эмоциям, в полном молчании прощаясь с великим современником, которому невозможно было даже отдать последние почести.
Когда стало смеркаться и поток людей, приходивших попрощаться со своими близкими и с великим оратором, начал иссякать, на форуме появилась пожилая матрона в траурных одеждах. Она приблизилась к рострам и замерла, застыла, будто давно потускневшие глаза Цицерона, в которых отражался последний отблеск вечерней зари, загипнотизировали ее.
Несмотря на солидный возраст, женщина сохраняла еще статность фигуры, а ее большие голубовато-серые, чуть выцветшие глаза, ее идеально ровные черты лица и всё еще густые, хоть и явно крашенные волосы говорили о былой ее красоте, и толпившиеся люди скользили мимо нее осторожно, с почтением, боясь потревожить оцепенелое молчание женщины.
— Ты тоже скорбишь о нем? раздался за ее спиной негромкий мужской голос.
Женщина оглянулась неторопливо и, ничего не ответив, вновь устремила свой взор на ростры.
— Ты не узнаешь меня? сказал мужчина.
— Почему же? не оборачиваясь, ответила женщина. Ты Гай Саллюстий, муж Теренции, бывшей жены Цицерона. Но у меня нет никакого желания беседовать с тобой.
— Послушай, Семпрония, я понимаю, почему ты в обиде на меня, и я готов покорно просить у тебя прощения за то, что вольно или невольно я огорчил или обидел тебя. Но сейчас, когда человеческая жизнь ничего не стоит, а мы с тобой уже недалеки от той черты, за которой пребывают Цицерон, а также твой сын и муж и десятки родных и близких нам людей, давай отнесемся друг к другу чуть более терпимо.
— Что ты от меня хочешь, Гай Крисп?
— Мне хотелось бы встретиться и спокойно поговорить с тобой.
— Зачем?
— Не буду лукавить это нужно мне как историку.
— Чтобы вновь очернить меня и моих друзей?
— Нет-нет, я хочу написать книгу о Юлии Цезаре, и меня интересуют кое-какие детали, о которых только ты можешь знать… Клянусь тебе, ты будешь первая, кому я покажу свой труд. Я готов буду внести любые поправки, какие ты потребуешь.
— Ну, хорошо, помолчав, ответила женщина. Если ты так настаиваешь, я готова принять твое предложение. Я думаю, нам лучше встретиться у меня, по крайней мере, мне там будет привычней и спокойней…
Через час они встретились в том самом перистиле, где много лет назад Семпрония принимала Катилину. Здесь так же миролюбиво журчали водяные потоки и шумели фонтаны. Лишь стрелки водяных часов, у которых давно испортился механизм, стояли, показывая одно и то же время.
— Прими мои соболезнования по поводу ужасной смерти твоего сына, начал Саллюстий, но Семпрония перебила его:
— Может быть, и лучше, что его уже нет. Те люди, что сегодня пришли к власти, без сомнения включили бы и его в проскрипционные списки.
— Несчастный Рим, — вздохнул Саллюстий. — Он постоянно истребляет собственных детей. Когда-нибудь его просто некому будет защищать.
— Сейчас слуги что-нибудь приготовят, поежившись от холода, сказала Семпрония, и мы пройдем с тобой в таблиний. В этом году декабрь, как никогда, холодный.
Вскоре они прошли в дом и присели у стола, уставленного яствами.
— Так что интересует тебя, Саллюстий? спросила Семпрония.
— Насколько мне известно, ты достаточно долго и хорошо знала Юлия Цезаря. Я всегда был на его стороне, даже если иногда и высказывался против некоторых его действий. А когда его не стало, я отошел от всякой политики и сейчас полностью отдаю свои силы и время литературным трудам. И пока еще свежи в памяти события последних лет, я хотел бы восстановить все, что связано с именем Юлия, от начала его карьеры до того злополучного дня, когда его не стало.
— Я вряд ли смогу сообщить тебе о Цезаре что-то новое или полезное для тебя. Тем более что я имею на этот счет мнение, отличное от твоего.
— Тем интереснее мне было бы его выслушать.
— Да? Ну что ж, изволь… Хотя, повторяю, вряд ли это будет тебе интересно.
Семпрония велела слугам покинуть комнату и продолжала:
— Кто спорит, Цезарь, конечно же, был великим человеком. Он обладал безумной энергией, мгновенно принимал решения, мыслил огромными масштабами. Если он воевал, то истреблял и брал в плен сотни тысяч. Если он строил храмы, библиотеки или театры, то это были грандиознейшие сооружения. Если он осваивал новые территории, то там навсегда поселялись романский дух, романская культура… Но… Как бы это поточней выразиться… В нем всегда жил игрок, авантюрист…
Когда он начинал делиться со мной своими грандиозными планами, я часто не могла понять, где реальность, а где откровенная фантазия. Он хотел покорить Парфию, присоединить земли Колхиды, покорить скифов, прорыть грандиозный канал, соединив Тибр с Адриатическим морем, провести канал от Остии к Адриатике, превратить в поля Сентинские и Помтинские болота, углубить и расширить все наши гавани…
Но главная его беда была в том, что он прежде всего был великим разрушителем. Он уничтожил в гражданских войнах неимоверное количество соотечественников, истребил сотни тысяч галлов, бриттов, кампанцев, испанцев. Он разрушил почти все республиканские традиции, развалил привычные и далеко не всегда плохие структуры…
Мне кажется, что он вообще глубоко презирал человечество. Нередко то, что люди принимали за широту его души и его великодушие, на деле шло от этого его бесконечного презрения и равнодушия… Как всякий диктатор, он считал, что именно с него начинается совершенно новая эпоха, новая история, которая будет продолжаться не одну тысячу лет…
— Ну, может быть, он был не так уж и не прав, сказал Саллюстий.
— При всем при том, Цезарь, на мой взгляд, никогда не обладал государственным умом в высоком смысле этого слова, продолжала Семпрония, будто не слышала слов собеседника. — Он просто воспринял многие идеи Катилины и внедрил их в жизнь. Но не воспринял главную идею Луция о том, что прежде всего надо навести порядок у себя дома .
Цезарю хотелось завоевать весь мир. В Риме он был скорее редко заезжавшим сюда гостем, нежели хозяином.
Вспомни, что здесь творилось, пока он занимался своими делами в Египте. Тогда просто чудом не дошло до новой гражданской войны…
Он надавал бесчисленное количество обещаний своим сторонникам, чтобы те горячей поддерживали его, а заодно — и вчерашним врагам, чтобы те переходили на его сторону. В результате он оказался в плену своих многочисленных обязательств и, подобно должнику, без конца занимающего деньги у одних кредиторам, чтобы тотчас же отдать их другим, вынужден был все время вести войны. А для того чтобы вести войны, приходилось каждый раз опустошать казну. В конце концов, образовался заколдованный круг, и ото всего этого экономика наша с каждым годом хромала все больше и больше.
Тот жуткий бюрократический аппарат, который он создал, чтобы централизовать власть, в основном обслуживал самое себя, деньги же мы по-прежнему получали лишь от бесконечных войн. И стоило на какое-то время прекратить эти победоносные рейды по чужим территориям, как внутри все стало сыпаться так, как рассыпаются при ярком солнце песочные дворцы…
— Ты сильно преувеличиваешь, мягко возразил Саллюстий. Это были естественные и к тому же временные трудности. Я точно знаю, что он успел составить программу мер, которые должны были оживить нашу экономику.
— Я это тоже знаю. После его смерти эту программу попытался осуществить Антоний… Кстати, ты никогда не задумывался над тем, почему после смерти Цезаря все его бумаги оказались в таком идеальном порядке?
— Ну, это было в его характере все систематизировать и держать в порядке.
— Да нет, человек, который не собирается завершить в ближайшее время свой жизненный путь, всегда оставляет что-то недоделанным, начатым, незавершенным. А у него все было расписано так, что мы несколько лет продолжали жить по его указам и планам.
— Это лишний раз говорит о его гениальности.
— Или о том, что он готовился к исчезновению.
— В каком смысле?
— Я не хотела тебе об этом говорить, но все же скажу… Если ты помнишь, в последний год жизни Цезаря все шло к нарастающему, прогрессирующему кризису. И финансовому, и общественному. Все больше активизировалась оппозиция, роптал народ…
Я уж не говорю об отвратительных типах из ближайшего окружения Юлия, о тех лицемерах, которые, увеличивая с каждым разом его властные полномочия, заботились при этом прежде всего о том, чтобы упрочить свое собственное положение. Ведь он, как человек проницательный, я думаю, не мог не понимать, что народ, который ненавидел всех этих Маммур, Антониев и прочих, переносил невольно эту ненависть и на него самого…
Ну, так вот. Кризис нарастал буквально с каждым днем. Вспомни, что творилось на улицах, где грабежи, насилия, убийства стали повседневным делом. Как все погрязли в долгах и уже не верили, что когда-нибудь наступит время, когда можно будет чувствовать себя спокойно, надежно и уверенно. Короче говоря, от Цезаря и его деяний все устали… И когда начались бунты, сначала в армии, а потом и в городе, стало понятно, что добром все это не кончится. Те меры, которые лихорадочно предпринимал Цезарь, лишь на время сняли напряженность, но не изменили ситуацию в целом…
И тогда Юлий понял, что для сохранения порядка ему, вероятнее всего, придется подавлять выступления оппозиции и народа, с которым он привык заигрывать, изображая щедрость и великодушие. И что это сразу очернит тот светлый образ Цезаря, который он так долго создавал…
Кроме того, Юлий в это время и физически ощущал себя крайне неважно: он часто простужался, быстро уставал. Чаще, чем обычно, с ним стали случаться припадки падучей…
Короче говоря, у него к этому времени появилось определенное желание исчезнуть… Он знал, что против него давно зреет заговор. Агентов, соглядатаев и шпионов у него всегда было предостаточно, и он просто не мог не знать о готовящемся на него покушении. И при желании, обладая огромной охраной, он мог без особых усилий это предотвратить. Но он не стал этого делать.
— Тут ты, пожалуй, права, согласился Саллюстий. Его действительно многие предупреждали о возможном покушении… И у меня тоже было впечатление, что он сам шел навстречу гибели. Надо сказать, Юлий часто говаривал, что хотел бы умереть внезапно, не дожидаясь старости…
— Так вот, когда Цезарю доложили о готовящемся на него покушении, в его изобретательном мозгу возник фантастический план подставить вместо себя двойника.
Саллюстий мелко потряс головой из стороны в сторону, изображая крайнюю степень непонимания и недоумения.
— Да, у него был двойник, продолжала Семпрония. — Это был раб, точнее вольноотпущенник, грек по происхождению, необычайно похожий на Юлия. Ты ведь знаешь, что у многих царей, начиная с Рэма-Ромула были двойники. А сегодня есть двойник у Августа. Рассказывают, из-за этого двойника Антоний и потерпел поражение в Египте. Когда он ворвался на корабль, в котором должен был быть Август, то сразу наткнулся на него и сразил своим мечом. И тут же увидел настоящего Августа в окружении охраны. Антоний ретировался в ужасе с горящего корабля, наверное, решив, что у Август десять жизней или что он сходит с ума…
— Ну, хорошо, а причем тут Цезарь?
— Цезарь тоже использовал двойника, чтобы понять, откуда ему ждать опасность. Он не раз выпускал его вместо себя проехаться в носилках по Риму, и никто никогда не обнаруживал подмены… О существовании двойника знало считанное число самых доверенных лиц, включая моего сына Децима Альбина Брута. Цезарь полностью доверял ему, зная, что Альбин предан ему до конца, потому что тот не раз доказал это и в бою, и в мирное время…
— Ну, он точно так же был уверен, что и Марк Брут никогда его не предаст. Ведь тот был сыном женщины, которую Юлий искренне и глубоко любил. Поговаривали даже, что это его внебрачный сын.
— Это были всего лишь досужие слухи. На деле там все было гораздо сложнее. Марка и его мать всегда связывали какие-то странные отношения. Сервилия не любила своего первого мужа, вышла за него по настоянию родителей, и когда у нее родился первый и единственный сын, она всю свою нерастраченную ласку и нежность перенесла на него, на сына. Это бывает у женщин, которым мало приятны их собственные мужья, особенно если эти нелюбимые мужья постоянно надоедают им своими ласками. Тогда женщина делает вид, что она очень занята ребенком и ей не до нежностей. И Марк, который с раннего детства постоянно был при матери, тоже был к ней привязан гораздо сильнее, чем это обычно бывает. Когда же муж Сервилии погиб, я подозреваю, что бедолага и на войну постоянно отправлялся, будучи не в силах выносить отчуждение жены, его место занял Цезарь. И если даже к родному отцу Марк испытывал полувраждебное чувство, то можно себе представить, что он ощущал по отношению к чужому мужчине, спавшему с его матерью. Так что на его решении возглавить толпу этих безумцев, я думаю, повлияли не только политические мотивы.
— Ну, хорошо, и что, по твоей версии, было дальше?
— В тот день, когда было намечено покушение, Цезарь сказался больным. Это страшно перепугало заговорщиков. Они не без основания опасались, что диктатору стало известно об их намерениях… А дальше произошло следующее. Мой сын, которому заговорщики полностью доверяли, считая его своим, вызвался привести Цезаря в курию. Он пришел к Юлию, и они вместе обрядили двойника Цезаря, после чего Децим[27] отправился вместе с ним в сенат. Что произошло потом, ты видел своими глазами.
— Именно поэтому я не верю не единому твоему слову, сказал Саллюстий. — Я действительно собственными глазами видел мертвого Юлия Цезаря. А позже я стоял рядом с погребальным столом, на котором лежало бездыханное тело Цезаря, прежде чем его предали огню.
— Ты видел не его. Это был другой человек, очень на него похожий и к тому же настолько изуродованный во время убийства, что трудно было понять, кто лежит в луже крови, а потом на смертном одре. Да и кому тогда могло придти в голову сомневаться, Цезарь это или не Цезарь?
Саллюстий молчал, продолжая пристально смотреть на женщину, будто пытался определить, не лишилась ли она рассудка.
— Подожди, подожди, вымолвил он, наконец. Даже если поверить твоей легенде, что мне трудно сделать, то все равно концы с концами не сходятся. Ну, представь: а вдруг покушение по каким-то причинам не состоялось? Как бы выглядел тогда Цезарь? Нет, нет, это все досужий вымысел и фантазия.
— Ну, во-первых, двойник лицом почти абсолютно походил на Цезаря. Во-вторых, Лже-Цезарь появился час спустя после напряженного ожидания сенаторов, и в таком состоянии они вообще могли ничего не заметить, кроме пурпурной тоги, которой, к тому же, двойник, изображая болезненное состояние Цезаря, прикрывал часть лица. А, в-третьих, первый удар ему нанес мой Брут, Децим Брут, после чего и началась уже вся эта свалка. А главное, повторяю, никому в голову не могла придти мысль о подмене…
Цезарь же в это время, переодевшись в простую одежду и нацепив парик, усаживался на корабль, отбывающий в Грецию. Он понимал, что мертвый он сможет сделать гораздо больше, чем живой. Так оно и вышло. Погибнув в расцвете славы, он стал легендой, мифом, национальной святыней. Все его заветы были полностью выполнены, бунты и волнения приостановлены, а главное он не потерял народной любви, в которой всегда испытывал в сто раз б о льшую потребность, чем в любви женщины или мужчины…
— И откуда тебе все это стало известно?
— Ну, нетрудно догадаться. Конечно же, от сына. Его все время давила эта страшная тайна, и когда Децим в последний раз уезжал из Рима, он, скорее всего, понимал, что ему уже вряд ли суждено будет вернуться назад. Поэтому он и решился рассказать об этом, взяв с меня клятву, что я никогда и никому об этом не скажу… Увы, бедному Дециму суждено было до конца доиграть роль, которую ему дал Цезарь…
— А почему ты вдруг решила рассказать это мне? спросил Саллюстий.
— Наверное, по той же самой причине. Трудно держать все время тайну в себе… И потом, ты ведь все равно никогда и никому об этом не расскажешь. Ты же историк, тебе надо сочинять красивые исторические мифы. А миф о Цезаре уже сочинен, и кто же осмелится этот миф опровергнуть? Так же, как и созданную Цицероном и тобой легенду о Катилине, Семпрония для наглядности сняла с полки свиток с трудом Саллюстия «О заговоре Катилины» . Нет уж, подожди. Ты сам набился на этот разговор, так что будь добр выслушай меня до конца. Хоть ты и считаешь, вероятно, мои мысли бреднями выжившей из ума старухи… Так вот, я внимательно и не один раз прочла твое сочинение. И каждый раз у меня возникал вопрос: почему ты, который на самом деле терпеть не мог Цицерона и которому в глубине души ты всегда завидовал (я подозреваю, что и на его Теренции ты женился по этой причине)[28], в своем труде фактически подпеваешь ему?
— Просто истина для меня дороже любых отношений между людьми.
— Но истина твоя почему-то всегда совпадает с истиной победителя… Мне же более по душе слова Катона-старшего: «З а победителя боги, побежденный любезен Катону». Ты прекрасно знал, что Катилина — действительно незаурядная личность. Умом и волей он нисколько не уступал Цезарю. И это просто дело случая, что повезло Цезарю, а не Катилине. Можно сказать, что Катилина тоже оказался фактически двойником Цезаря. Двойником политическим. И в определенный момент хитрый Цезарь выставил его вперед, чтобы проверить настроения народа и возможность захвата власти вооруженным путем. После чего понял две вещи. Первое — что нужный момент еще не настал. И второе — что народ ждет решительных перемен…
В отличие от Катилины, у Цезаря было бесценное для политика свойство: он внутренним ухом чувствовал ход событий и знал, когда можно рисковать, а когда стоит отсидеться в тени, дожидаясь своего часа. А главное, в отличие от прямодушного Луция Сергия, он понимал, что в Риме наступили такие времена, когда все решают деньги и еще раз деньги. Что деньги это власть и что для большой власти нужны очень большие деньги. И он этим и занимался: постоянно доставал и тратил большие деньги.
— Ну, отчасти ты права. Хотя любой случай все равно подчиняется исторической логике. Конечно, Цезарь должен быть благодарен судьбе и галлам, которые подняли восстание и дали ему проявить себя столь блистательно, а главное фантастически разбогатеть и погасить свои безразмерные долги…
— …За что он в порядке благодарности и вырезал сотни тысяч этих несчастных… Но подожди, я закончу свою мысль. Так вот, я никак не могла понять, почему ты, ненавидя в глубине души Цицерона, тем не менее, оказался столь солидарен с ним в отношении Катилины… Но когда я перечитала приводимые тобой почти дословно речи Катилины, включая и его последние слова перед боем, я, наконец, сообразила, в чем дело. Я поняла, что никакого описанного тобой Квинта Курия на самом деле не было. Это всего лишь придуманный тобой мифический персонаж. Да-да.
Но существовал некий реальный человек, который присутствовал на всех собраниях катилинариев, знал все о каждом из них и почти дословно записывал слова Катилины. А потом сообщал обо всем, что там происходило, Цицерону — наверное, за хорошую плату. Или под угрозой шантажа…
И этим человеком был ты. Да-да, Квинт Курий — это был ты.
— Ну, знаешь ли, это уж слишком, сказал Саллюстий, резко поднимаясь с кресла. Я с трудом выслушал твои бредни про Цезаря, но слушать оскорбления в свой адрес я не намерен.
— Хорошо, хорошо, успокойся. Считай, что это лишь гипотеза, предположение, фантазия на свободную тему. Ровно, как и твое сочинение о Катилине — это всего лишь фантазия на тему заговора, которого не было .
— Как это не было?
— А так. Не было. Это вы с Марком Туллием все гениально сочинили, потом блистательно разыграли и талантливо описали. Возможно, не без участия Теренции, без которой Цицерон не принимал ни одного решения.
— Ну и что же тогда, по-твоему, было?
— А ничего не было. Был всего-навсего кружок людей, не довольных тем, что происходит в государстве и желавших перемен к лучшему. Вначале эти люди хотели придти к власти совершенно законным путем. И все у них сводилось в основном к разговорам и мечтаниям. Интрига же, которую закрутил Цицерон, не без твоего и Теренции участия, рано или поздно должна была вызвать у них взрыв возмущения. Что, в конечном итоге, и произошло…
Вначале, когда Цицерон захотел стать консулом, он слепил из своего основного конкурента на выборах образ безжалостного чудовища. Потом господину консулу понадобился подвиг, чтобы войти в историю, а на горизонте, как назло, все было спокойно. Ну, не считать же великим деянием блокирование им проекта простака Рулла… И тут снова пригодился несчастный Катилина, который, благодаря усилиям нашего блистательного оратора, а потом и твоим писаниям, превратился в символ зла и сгусток пороков…
Используя тебя и других агентов, Цицерон имел возможность постоянно получать самые подробные сведения о кружке Катилины. И, соответственно, принимать нужные меры, замедляя или ускоряя ход событий. Когда же он увидел, что дни его консульства истекают, а, кроме пустых многословных обвинений, он ничего предъявить Катилине не может, хоть и довел того своим маниакальным преследованием до белого каления, Цицерон форсировал историю с аллоброгами, на которую мог клюнуть только такой самодовольный идиот, как Лентул Сура. То есть это была чистейшей воды провокация…
Впрочем, не будем продолжать эту тему. Извини, если невольно тебя обидела. У меня, повторяю, не было никакого желания встречаться с тобой, ты сам затеял этот разговор…
Семпрония поднялась с кресла и сказала, печально глядя на мерцающее пламя светильника:
— Ты верно заметил: мы с тобой пережили почти всех своих друзей и родных. Мало того, мы с тобой пережили свою эпоху, которая, увы, ушла безвозвратно.
Она подняла бокал и добавила тихо:
— Расставаясь, я хотела бы предложить: давай осушим наши бокалы за память. За светлую, как мрамор, и грустную, как вечернее небо, память о тех, кто был с нами рядом, за тех, кого мы любили, за тех, кто был частью нашей души…
Они подняли бокалы и молча выпили их содержимое до дна.
За стенами дома послышались крики, топот ног и звуки борьбы. Очевидно, охотники за вознаграждением настигли очередного несчастного, внесенного в проскрипционные списки.
— Ты права, сказал Саллюстий, ставя свой бокал на стол. Давай простим всё друг другу, пока мы еще находимся здесь, на земле.
— С чем я не могу не согласиться, так это со словами из твоей книги о том, что если бы духовная доблесть правителей в мирное время была такой же, как и на войне…
— …то человеческие отношения носили бы характер более ровный и устойчивый, продолжил Саллюстий, и не пришлось бы наблюдать бурных революционных порывов, изменяющих и ниспровергающих все.
— Если бы, вздохнув, повторила Семпрония.
Возбужденные крики и шум борьбы на улице приблизились, стали громче, и, наконец, все перекрыл последний, отчаянный предсмертный вопль жертвы…
До начала новой эры оставалось 42 года…
Примечания
1
Censeo Carythaginem esse delendam (лат.). Я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен.
(обратно)2
Повод к войне (лат) .
(обратно)3
Multa petentibus desunt multa (лат.). Кто многого добивается, тому многого недостает.
(обратно)4
Здесь приводится подлинное письмо Квинта Туллия Цицерона с небольшими изменениями (Прим. автора ).
(обратно)5
Trahit sua quemque voluptas (лат.) Всякого влечет своя страсть.
(обратно)6
волчица (лат. lupa) — так называли в Древнем Риме проституток; отсюда — лупанарий т. е. публичный дом.
(обратно)7
Ede, bibe, lude (лат.). Ешь, пей, веселись.
(обратно)8
Audacter calumniare, sempre aliquid haeret (лат.). Клевещи смело, всегда что-нибудь да останется.
(обратно)9
Non bene olet, qui bene sempre olet (лат.). Нехорошо пахнет тот, кто всегда хорошо пахнет.
(обратно)10
В античные времена политические оппоненты не стеснялись поносить своего соперника последними словами и нисколько не брезговали распространением через агентов влияния компрометирующих противника слухов и сплетен (Прим. автора ).
(обратно)11
Vae victis (лат.). Горе побежденным.
(обратно)12
arena (лат. ) первоначальное значение — песок; песчаное место.
(обратно)13
ланиста — учитель, тренер, обучавший гладиаторов искусству боя на арене.
(обратно)14
furiosus (лат. ) — бешенный, неистовый, безумный
(обратно)15
Insperata accidunt magis saepe quam quae speres. (лат.) Неожиданное случается чаще, чем то, чего ожидаешь.
(обратно)16
Salus populi suprema lex (лат.). Благо народа — высший закон.
(обратно)17
In arenam cum aequalibus descendi (лат.). Я вышел на арену против своих современников.
(обратно)18
stator (лат.) — хранитель, защитник, букв. остановитель.
(обратно)19
cicero (лат.) — горошина.
(обратно)20
Post equitem sedet atra cura (лат.). Позади всадника сидит мрачная забота.
(обратно)21
Этот текст письма Катилины приводится в сочинении Саллюстия «Заговор Катилины» (Прим. автора ).
(обратно)22
Habemus confitentum reum (лат.). Мы имеем неопровержимое доказательство.
(обратно)23
Vixerunt (лат.) Они отжили. Эвфемизм, употребляемый римлянами, когда речь шла о совершении казни.
(обратно)24
Vincere aut mori (лат.) Победа или смерть.
(обратно)25
Этот текст речи Катилины также приводится в труде Саллюстия «О заговоре Катилины».
(обратно)26
Hoc erat in fatis (лат.) Так было суждено.
(обратно)27
Еще раз напомним, что в завещании Цезаря в числе его правонаследников стояло и имя Децима Альбина Брута (не путать с его родственником Марком Брутом, главой заговора против Цезаря), являвшегося сыном очень подробно описанной в произведении Саллюстия загадочной Семпронии. (Прим. автора ).
(обратно)28
Жена Цицерона Теренции почти сразу же после развода вышла замуж за Саллюстия. Можно предположить, что последний долгое время был «другом дома» Цицеронов (Прим. автора ).
(обратно)


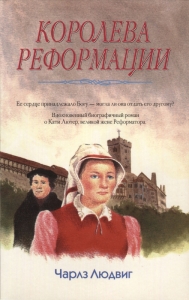






Комментарии к книге «Двойник Цезаря», Виталий Федорович Познин
Всего 0 комментариев