I
Дере коза лозу, а вовк козу, вовка мужык, мужыка пан, пана юрыста, а юрысту чортив трыста.
Народное изречение— Приготовь мне, душечка, бельё,— сказал чиновник Антон Иванович своей жене.— Завтра меня куда-то командируют.
— И ты не знаешь куда? — с удивлением сказала жена.
— Секрет.
— Так у тебя есть секрет! Я и не подозревала.
— Не от тебя, душечка. И это не мой секрет. Начальник ' казал, что буду послан по секретному делу, вот и всё. А куда буду послан, узнаю из адреса на пакете, который должен буду вручить начальнику города, куда буду командирован.
— Г-м! Это довольно странно,— заметила жена. — Пожалуй, и я с тобою согласен,— сказал муж.— Но, знаешь ли, по делам, в которых замешаны евреи, по моему мнению, нельзя поступать иначе: проведают бестии, и концы в воду.
— Так ты едешь по еврейскому делу? — торопливо спросила жена.
— Только это и знаю,— ответил муж.— А в чём это дело, узнаю из пакета, который должен буду распечатать и прочесть вместе с городничим, которому повезу.
— Душечка! — воскликнула жена, обнимая и целуя своего мужа.— Довольно-предовольно и того, что едешь по еврейскому делу! Мы будем счастливы! Не правда ли, ты уже будешь умнее и привезёшь пропасть денег? Душечка! голубчик! не правда ли? — лепетала жена, продолжая осыпать мужа поцелуями.
— Полно, полно,— сказал муж.— Дай говорить.
— Понимаю,— сказала тогда жена и села, насупившись.— Понимаю! Дураком родился, дураком и помрёшь.
— Это я уж не раз слыхал из твоих любезных уст.
— И всегда будешь слыхать то же, пока не исправишься. Посуди сам, к чему послужила нам твоя честность? Ты едва одет, я только что не боса... А ведь ты уже скоро шесть лет на службе и занимаешь такую должность, что другой давно озолотился бы. Посмотри...— И начала называть одного за другим, кого знала нечистым на руку.— Ну? — продолжала далее.— Кто счастливее? У них лошади и фаэтоны, а ты ездишь верхом на палочке; у них кучера одеваются лучше моего мужа; а весь мой гардероб не стоит и одного платья каждой из этих чиновниц. О том же и говорить нечего, что каждая из них по будням одевается лучше, нежели я на пасху.
— Что же прикажешь делать, если такое жалованье получаю, что не раскошелишься. Простирай ножки по одёжке.
— Отчего же те живут не по-нашему? Отчего у них есть всё, а у нас ничего, хотя большая их часть ниже тебя по службе и получают содержание меньше? Те? те другое дело,— сказал Антон Иванович.— Но ты ошибаешься, думая, что у них есть всё, а у нас ничего. У них далеко не всё есть, а у нас далеко не всего нет.
—Что же у нас есть? Говори.
Антон Иванович не отвечал. Молчишь,— сказала, подождавши, жена.— Молчишь, потому что сам сознаешь свою вину. Ты глуп, а они умны. Оттого они богачи, а ты нищий. Если бы ты — да что толковать! Вот давеча купец давал сто рублей, что было принять? Другой, пожалуй, и в руку поцеловал бы, а ты осерчал, разбранил. Что же вышло? Ты остался честным и не с чем на базар сходить,— картошкою перебиваешься; а у них три- четыре блюда каждый день. Да еще и смеются с тебя все — и тот самый купец.
— Пусть себе,— сказал Антон Иванович, закуривая папиросу.
— Боже мой! Боже мой! — завопила жена, ломая руки,— покарал меня господь твоею честностию! Лучше бы мне в девках поседеть, нежели выйти за тебя безжалостного, за тебя бессовестного. Лучше бы выйти за последнего дурака, нежели за тебя образованного! Неуки ни в чем не нуждаются, а ты воспитывался в университете — и нищий.
— Нет, я богат! — воскликнул Антон Иванович.— Богат своею совестью.
— Купи мне на неё платье или, по крайней мере, заплату!.. Ах-ах! совесть! Наговорили с кафедры, так ты и цацкаешься. Что мне из твоей совести, из твоей учёности? Голые локти? Любуйся! —сказала жена, показывая действительно голый локоть. Дешёвое ситцевое платьице до того износилось, что и починить его нельзя было.
— Дай, поставлю заплату.
— Не лоскуток ли совести нашьёшь? Или, может быть, кусок честности, учёности?
— Ох, ох! — вздохнул Антон Иванович.
— Ох, ох! — передразнила жена.
Помолчавши несколько минут, Антон Иванович сказал: «Так приготовишь бельё?»
— Приготовь сам себе,— ответила жена.— Только, пожалуйста, не зови тряпок бельём. Ты никогда не будешь в состоянии иметь бельё.
На утро Антон Иванович прощался с женою.
— Если не думаешь перемениться, то лучше пропади,— сказала жена.— Оставшись вдовою, хоть буду страдать хуже теперешнего, зато буду знать, что у меня мужа нет.
О детях бы ты подумал!
Антон Иванович, слушая, качал головою.
— Господи! Избавь меня от честности, как избавил от уродства,— продолжала жена, которая была, действительно, недурна.
— Друг мой! — начал Антон Иванович.— Нравственное уродство хуже физического. Последнее пропадает вместе с телом, а первое переживет тебя на сём свете. Ты унесёшь его за пределы этой жизни и оставишь детям воспоминание п позор,— сказал Антон Иванович и вышел.
— Позор! позор... Лучше позор и, по крайней мере, достаток, нежели почесть и котомка нищего... Но кто презирает у нас самых отъявленных взяточников и почитает даже лично страдающих за честность, не говоря об их потомстве? Всё это не больше как фразы и фразы! Не личностям кланяются, а их средствам, и тем ниже, чем более обладатель имеет возможности жить без труда. Мало ли чего не говорят! Но «не всё те правда, що на высилли плещуть».
Так рассуждала сама с собою жена, оставшись одна в одной из трёх комнат, образующих собою флигель почти последнего двора в нашем просвещенном и богобоязненном Киеве. Антон Иванович не имел средств нанять квартиру ближе, хотя занимал одно из видных мест в губернском чиноначалии. Под самими окнами с двух сторон его квартиры стоял высокий дощатый забор; с третьей, от улицы, двухэтажный дом, в котором жил сам хозяин — отставной квартальный какого-то уездного городка; а с четвёртой не было ничего такого, о чем бы следовало упомянуть. Скажем разве, что с этой стороны никогда не отпирались ставни — не потому, что они были забиты, но они забиты были именно для того, что в эти окна мог смотреть только слепой,— отворить же окно мог бы только безносый.
Такую-то квартиру занимал Антон Иванович, который, расставшись с семейством, катил на почтовых вниз от Киева, в один из городов, близ которого проходит теперь киево-балтская железная дорога !. Кругом горы, кругом поле; где-где виднелись леса... Наслаждение! Его не знала жена Антона Ивановича, оставшаяся в городе смотреть за детьми, за хозяйством и почти голодать.
II
Сим мыль мосту, а на кинци квит на ввесь свит.
ЗагадкаУездный город N — большой город. В нём есть несколько церквей, в которые одни приходят, чтобы стать впереди и показаться,— другие, чтобы смотреть сзади и удивляться. И действительно, смотрят и удивляются, зачем те вперёд пхаются. Есть и костёл, в который ходят кокетничать и скандальничать. Есть и синагога, кроме архитектуры, замечательная как склад заграничных товаров — тайной перевозки, и внутренних — тайного приготовления. Есть и речка в этом городе, прозванием Мутная, в которой никто даже не покушался ловить рыбу и не будет. За то сам город — такая мутная вода, в которой не ловил рыбу только тот, кто почему-либо довольствовался хлебом — хоть сухим, но насущным. Сюда-то был командирован Антон Иванович с секретным пакетом на имя городничего. От Киева город N в таком расстоянии, что по казенной можно доехать до него менее чем в сутки, а потому Антон Иванович по выезде из Киева прибыл к назначенному месту в одиннадцать часов ночи. Городничий в это время уже спал.
— Ваше благородие! — будил его десятский.—Ваше благородие!
— Проклятый туз! — бредил городничий.— А чьи онеры?
— Ваше благородие! депеша!
— Ваши, ваши? За то левэ наши,— продолжал бредить городничий.
— Чиновник з Киева! Чы не левизор!
— Га? Что? — спросил городничий, поджимая одну ногу, а другую протягивая, так что в колене трещало.
— Левизор приехать изволили! Ждут в зале.
— Одеваться,— гневно и грозно, но шёпотом сказал городничий, опамятовавшись.— Да самовар сию же минуту!
— Будет ли пить ещё! — Не рассуждай! Он подорожний!
Через несколько минут городничий был в форме. Посмотревшись в зеркало, подкрутивши усы, погладивши бороду и щеки, он вышел в залу.
— Извините,— сказал Антон Иванович,— дело срочное. Я по распоряжению высшего начальства. Вот вам и пакет.
— Извините меня,— сказал городничий, меряя Антона Ивановича с ног до головы,— я должен извиняться, а не вы. У нас, извольте видеть, не Киев. Ни теятров, ни клубов, ни прочего такого, где бы отдохнуть, подремать, а работы тьма-тьмущая, так пошли, бог, ночь, а мы сумеем ноги откинуть. Вот и валяешься всю ночь,— бревно неотёсанное. Истинно, неотёсанное бревно,— подтвердил городничий,— я капитан из даточных.
— Дело, не терпящее отлагательства, — сказал Антон Иванович.
С трудом дальнозоркий от старости городничий прочёл адрес и всю надпись на пакете. Дочитавшись до слов «Распечатать вместе с вручителем таким-то», он чуть с ног не свалился: «Незабудки растут! Прощай, уголок!» — подумал городничий, воображая, что ему привезли, по крайней мере, отставку. «Но как это вместе? А, понимаю,— догадался городничий и предлагает Антону Ивановичу пакет.— позвольте, распечатаемте»,— говорит. Антон Иванович хотел взять пакет из рук городничего. «Нет, извините-с,— сказал городничий,— вместе».
— Да, вместе,— сказал Антон Иванович, не понимая ничего.
— Коли вместе, так вместе,— продолжал городничий.— Держите же.
Антон Иванович взял одною рукою за конец пакета, другой конец которого держал в руке городничий.
— Теперь распечатаемте,— сказал городничий.
— Не понимаю,— сказал Антон Иванович.
— Гм,— сказал городничий.— А ещё и образованный человек! Самой сути не понимаете. Коли вместе, так вместе.. Это значит не вы и не я, а оба разом, вместе, а не поодиночке.
После этого городничий научил Антона Ивановича распечатать и прочесть пакет вместе. Это вышло таким способом, что один из них разорвал конверт с одной стороны, в то время когда другой в свою очередь разрывал его с другой стороны. Читали же оба враз и громко.
— Эхм,— произнес городничий, когда чтение было кончено. Антон Иванович клеил папиросу.
— Не угодно ли готовой? — сказал городничий.
— Я привык к одному табаку и курю всегда только свой,— сказал Антон Иванович. В это время в другой комнате начал покашливать десятский. Городничий догадался в чем дело и говорит; «Чайку не угодно ли? По дороге это бы кстати».
— Спасибо,— сказал Антон Иванович,— но не лучше ли, вместо чаю, приняться за дело.
— Я понимаю дисциплину,— начал городничий,— где дело касается службы, там не дремай. О!.. У меня не только не дремай, но помни и одиннадцатую заповедь! Наполеоновскую, значит, не зевай! Ха-ха-ха!
Спустя несколько минут Антон Иванович и городничий в фаэтоне, частный пристав, квартальный, десятские и несколько понятых на петушках отправились к синагоге, которую, по распоряжению губернского начальства, надо было обыскать. Так как дело происходило ночью, то порешили отложить обыск до следующего дня, а теперь только запечатать синагогу и поставить караул. Еще не пробило двенадцати часов, как синагога была опечатана двумя печатями — полицейскою и Антона Ивановича; к часу же городничий собрал весь кагал на совет, и Антон Иванович к тому же времени пил чай на постоялом дворе. Вдруг отворилась дверь и явился мишурис: «Булки хорошие!»
— Не нужно,— сказал Антон Иванович.
— Бублики, сухари,— продолжал еврей.
— Не надо, говорю тебе. Мишурис удалился. Но едва он вышел, как явилось два. «Гребешки, подтяжки, пуговицы, ножики хорошие»,- говорит один. «Перчатки, галстуки, манишки, воротнички»,— говорит другой.
— Ничего не нужно,— сказал Антон Иванович.
— Сургуч, бумага, носовые платки,— твердили евреи.
— Ничего не нужно!
Мишурисы пошли, но не молча, а продолжая говорить: «Носки хорошие, рубашки готовые». Антон Иванович молчал. За этим ввалилось в комнату не менее десятка евреев с разными товарами. «Спички, свечки, мыло, чернило, табак, сукна, полотно заграничное»,— твердили все враз.
— Убирайтесь к чёрту! — крикнул Антон Иванович.
— Так ничего и не купите?
— Убирайтесь, говорю вам.
Евреи ушли, но не все — два осталось.
— Вы чего ждёте? — спросил их Антон Иванович.
— Мы не мишурисы, мы по делу,— ответили евреи.
— Я никаких жалоб не принимаю.
— Мы не с жалобою. Мы пришли спросить, чы вашець долго прогостите у нас?
— Это к чему вам?
— Стало быть, нужно, если спрашиваем. Если бы пе нужно было, то не спрашивали бы.
— Извольте. Завтра уеду,— сказал Антон Иванович.
Евреям этим во что бы то ни стало хотелось втянуть Антона Ивановича в разговор — и успели. «В Киев?» — спросили они.
— В Киев,— ответил Антон Иванович.
— Извините,— продолжали евреи.— Мы знаем, что подорожнему человеку нужен покой; мы только на одно словечко. Позвольте спросить, знавали, вашець, там, в Киеве, NN?
— Что дальше?
— Что он теперь делает?
— Сходите да посмотрите. Полагаю, спит.
— Нет. Но он в отставке?
— В отставке.
— Эй-вэй! Такой человек в отставке! — воскликнули оба еврея и начали говорить между собою по-еврейски — сперва спокойно, а затем подняли крик.
— Что расходились? — заметил Антон Иванович.
— То мы так себе, извините. Мы говорили, что такого чиновника, какой был NN не скоро удастся видеть. Это была душа, а не человек, чистый, как золото. И пострадал? Эй-вэй!
И опять начали говорить между собою, пересыпая свою речь русскими бранными словами.
— На базаре вы, что ли? — сказал Антон Иванович.
— Извините, вашедь, нам жаль NN.— сказали евреи.— Тут-таки, в нашем городе, живет еврейчик — такой богач! Он-то и упек NN. Попался, извольте видеть, с контрабандою и давал ему взятку — такую взятку, что можно бы стать купцом первой гильдии.
— Первой не первой, а второй можно бы,— перебил другой еврей.
— Ну-у? А хоть бы и третьей, то разве мало? — сказал первый своему товарищу и, обратившись к Антону Ивановичу, продолжал: — Но NN не только не принял, а даже донес суду — и посадил еврейчика в тюрьму. Ну-у! Провинился, так и отвечай. Но он не так сделал. Он, бездельник, заплативши здесь-то выше, и теперь занимается по-прежнему контрабандою, а честного человека турнули. Эй-вэй! Он был семейный?
— Даже многосемейный,— ответил Антон Иванович.
— Эй-вэй! Що то гроши!.. Нема правды.
— Ребе Дувыд! — раздался голос в сенях.
— Ву-ус? — откликнулся один из разговаривавших евреев.
Голос из сеней произнес фамилию другого отставного чиновника.
— А этого знавали, вашець? — спросил Дувыд.
Антон Иванович и этого знал. «Этот,— сказал он,— прибил кого-то, что ли,—словом, причинил кому-то смерть».
— Он побил? причинил смерть? Он мухи никогда не убил, блохи никогда. Он был, как дитя! То его самого у нас били — так били, что аж отливали. А правда, что он сидел в тюрьме?
— А если и правда?
То погано честному человеку на свете,— сказали евреи,— тот не брал, так обвинен во взяточничестве, этот и не ругал никого, был побит — и обвинен в разбое. Эй-вэй- мир! Какой теперь свет настал!
Ещё и ещё говорили евреи, распространяясь о невинности этих пострадавших чиновников и взваливая всю вину на своих единоверцев. Хитрые, они вели дело таким образом, что своими обвинениями только доказывали могущество соплеменников. Они хвастали этим могуществом, с умыслом выставляли на вид разные пакости, чтобы дать почувствовать бессилие чиновников и запугать Антона Ивановича. Такова была цель их прихода — они достигли её с полным успехом. Антону Ивановичу взгрустнулось. Перед выездом из Киева начальник сказал ему: «Не ударьте лицом в грязь. Я уже посылал и военных, и штатских; те и другие пакостили. Один вымогал взятку, другой начал драться... Так вот, теперь посылаю вас, учёного. Увидим, в тюрьму ли попадете или только в отставку».
Вспомнивши эти слова и сравнивши их с рассказами евреев, Антон Иванович грустный ходил по комнате. Он и прежде сомневался в виновности обвинённых, но евреи представили столько свидетелей в свою пользу, что и самый пристрастный судья не мог бы оправдать чиновников. Теперь же он окончательно убедился, что они были оклеветаны и пострадали за свою честность. В противоположность этому он знал блаженствующих взяточников и казнокрадов и невольно задался мыслию: «А я то как? Чем это я кончу свою карьеру? Не права ли, в самом деле, моя жена, обвиняя меня?» Мысли сновались в голове, одна другой печальнее, воображение рисовало картины, одна другой безотраднее. И тяжёлая тоска давила грудь. Евреи, строго следившие за впечатлением, какое производили на Антона Ивановича их рассказы, верно поняли причину его грусти. А чтобы довести дело до конца, они выдавали самые тайные секреты, самые низкие проделки евреев с чиновниками, с панами, с крестьянами, со всеми. Чем сильнее они чернили своих, тем рельефнее выдавалась их безнаказанность, тем сильнее Антон Иванович убеждался в небезопасности своей.
— Вы думаете,— сказал ему, наконец, еврей,— вы думаете, что с нашими легко справиться? Ой-вэй как ошибаетесь, если так думаете! Вот вы запечатали синагогу. Там точно есть контрабанда, но конфисковать её — у! опасно, а арестовать самих контрабандистов ещё опаснее.
— Почему же? — спросил Антон Иванович.
— Э, почему? Если бы вы не были вы, а кто-либо другой, что любит хапыс, то иное дело. Но вы человек честный, потому вам дуже-дуже опасно! Против вас станет весь кагал. А что значит кагал? Если один наш еврейчик мог побить и посадить в тюрьму честного чиновника, то чего не сможет сделать кагал? В ложке воды утопит!
— Неужели так дружно станут в защиту воров?
— Ховай, боже! Кто стал бы защищать их целым кагалом? Для этого достаточно одного-двух еврейчиков-купцов — и дело в шляпе. А что найдутся охотники защищать их, то это неудивительно. Кому неизвестно, что все наши еврейчики плуты? Этого довольно, чтобы поддержать контрабандистов, которых не все считают преступниками. Но здесь главное синагога! Одно слово синагога! Это великое слово! Весь кагал станет как один человек, чтобы защищать синагогу. Сочинят пост на завтра и обвинят вас в оскорблении религии. Вот и вся штука. Тогда отдувайтесь своей честностью.
Антон Иванович ничего не сказал. «Попал я впросак»,— думает он. А евреи перемигнулись между собою, и один сказал: «Нет лучше, как правда на свете, но пока нет правды, надо жить кривдою. Боже наш, боже!»
После этого, прилично извинившись и поблагодаривши за снисходительное внимание, евреи удалились, оставив запуганного Антона Ивановича думать на самоте. «Что, в самом деле, если евреи вздумают обвинить меня в оскорблении религии? — спрашивал он сам себя.— А это ведь так легко сделать. Может быть, у них уже и жалоба готова. Как знать! Но какой же я простофиля! — спохватился Антон Иванович.— Почему бы не спросить было о фамилиях контрабандистов! Но всё равно, я их узнаю от раввина иди самого обвиню, если откажется выдать виновных.— Тут повернулась мысль на защиту целым кагалом.— Обвинить раввина,— подумал Антон Иванович,— значит подписать своё осуждение. Если синагогу станут защищать целым кагалом, то раввина и синагогу — целым племенем. Погубят, непременно погубят,— решил Антон Иванович.— Зачем мне было ехать? Почему я не отказался? Чтоб попасть под суд!»
В это время тихонько отворилась дверь и явилось две еврейские головы. Антон Иванович посмотрел на них со страхом, как будто они явились для осуждения его. «Что вам надо?» — спросил он. Вместо ответа, одним прыжком очутилось два еврея у самого лица Антона Ивановича и, схвативши его за обе руки, целуют их, целуют полы, приговаривая: «Жена, дети! Спасите! Спасите!»
— Бог с вами! Что вам нужно от меня? — спросил оторопевший Антон Иванович, освобождая руки.
Детки, жена! — вопили евреи, стараясь снова поймать руки и целуя в грудь, в локти, куда попало.
— Бога ради, перестаньте. Что вы делаете? Чего хотите? Говорите толком,— сказал Антон Иванович, приходя в себя.
— Эй-вэй! Ваше превосходительство! не погубите, то наша контрабанда в школе. Не погубите нас!
— Это не в моей воле и не в моей власти,— сказал Антон Иванович, отступая к столу.
— Как не в вашей? Чисто в вашей.
— Говорю вам, что нет.
— Эй-вэй! Как нет? А зачем там ваша печать?
— Там не одна моя печать. — Другая нам ничего, нам ваша печать страшна. Снимите её и большой беды избавитесь. Ещё и деньги вам дадим.
«Как рада была бы моя жена! — подумал Антон Иванович.— Но я взятки не возьму». Евреи между тем продолжали: «Нам денег не жаль — деньги — набутня рич. И себя нам не жаль; мы виноваты и должны отвечать за свой грех. Нам жаль вас. Вы человек добрый, жаль, если пропадёте даром. А непременно пропадёте, если объявите нашу контрабанду. Наперёд говорим вам, что кагал постановил спасти нас, во что бы то ни стало. И вот, как хотите: или примите деньги, которые нам кагал пожертвовал, или же попрощайтесь со всем, что вам дорого. Мы знаем, что вы до сих пор не брали взяток, потому и терпите нужду. Мы всё знаем. Так верьте же, что ещё не кончите осмотра синагоги, как прилетит депеша из Киева об отдаче вас под суд. У наших везде есть рука, где только знают цену деньгам. Мы говорим правду, и вы послушайтесь нас. Примите деньги и баста. Вот вам тысяча рублей. Если этого мало, дадим две, дадим десять тысяч, только не губите нас и себя, разумеется.
Сказавши это, еврей начал считать деньги — все радужными. Антон Иванович молчал. За несколько часов перед этим он вспыхнул бы, как порох, а теперь прежний огонь едва теплился. Он был как бы сонный или полумёртвый.
— Не надо мне ваших денег,— сказал он наконец. Еврей молча досчитывал десятую тысячу, досчитавши, сказал: «Теперь как хотите. Примите и будете спокойны до гроба, или не принимайте, оставайтесь честными по-старому, и завтра же никто не даст вам куска хлеба, не только денег. И как будет довольна ваша жена! Мы знаем, что она журит вас за честность, так возьмите же хоть раз и успокойте её».
«Откуда им известны мои семейные отношения? — думал Антон Иванович.— Неужели им дух святой сообщил это?» — Нет, не он, а эстафета. Несколько часов по выезде Антона Ивановича из Киева никто не знал, куда он уехал, по, наконец, узнали. Еврей-почтосодержатель тотчас же отправил эстафету. Но так как она была отправлена не прямо в тот город, куда выехал чиновник, а только в ближайший город, тоже почтосодержателю, с просьбою отослать куда следует, то опоздала. Синагога была уже запечатана, когда прибыла она, и евреи могли воспользоваться ею только в отношении самой личности Антона Ивановича, не более.
— Так решайтесь на что-нибудь,— настаивал еврей.
— Я ничего не могу пособить вам,— сказал Антон Иванович.— Тем более, что там не одна моя печать.
— Другая нас не беспокоит. И вы предоставьте нам устроить дело, дайте только свою печать — на один час, не более. А мы уже знаем, что и как сделать. Антон Иванович поколебался немного, наконец дал им печать: «Но, смотрите, только на один час».
Получивши печать, евреи стремглав бросились из комнаты, так что в дверях застряли.
III
«Боже мой! Боже мой! Что я сделал? Где моя совесть? Где моя совесть? Я взяточник, боже мой! — каялся Антон Иванович, лежа на незастланной койке, в той самой комнате, где взял первую взятку.— Как мне вспомнить свое прошедшее, слова свои, свои мысли, которыми я так гордился! Как мне смотреть в глаза тем, на кого я нападал, кого я осуждал! Вот тебе и образованный человек! Не сжечь ли взятку?» Сальная свеча до того нагорела, что едва светила, папироса потухла, а Антон Иванович лежит да страдает. С каким удовольствием он согласился бы вычеркнуть из своей жизни эти несколько часов! Какая глубокая рана зажила бы!
— Добры вечир! Спите? — весело спросил вошедший еврей — один из тех, которые получили печать.
Антон Иванович будто проснулся: «Что? Уже? — спросил он.— Так скоро?»
— Мы люди ловкие,— ответил еврей.— Мигом устроим всякое дело.
— Тем лучше для вас. Пожалуйте же печать.
— Пожалуйте пятнадцать тысяч, то получите печать. А не то мы всё расскажем стряпчему, доставим ему и вашу печать, тогда на себя пеняйте. Если бы кто ударил Антона Ивановича обухом в темя, то не так оглушил бы его, как еврей своим требованием. Он просто остолбенел.
— Ну-у? — продолжал еврей, смотря ему прямо в лицо.— Ну-у? Дадите деньги или идти к стряпчему?
— Где же мне взять столько? — сказал Антон Иванович, сам себя не помня.
— Где хочете, или в Сибирь. Вы думаете, что мы не знаем закона? Мы отлично знаем закон. Мы знаем, куда запрут вас. Так откупитесь?
— Чем же мне откупиться? Я сделал вам добро, а вы чёрт весть что хотите сделать со мною!
— И мы хочем вам сделать добро, только дешевле: вы сделали нам добро за десять тысяч, а мы хотим сделать его вам только за половину. Возвратите же наши десять и прибавьте своих пять — та й герехт.
— И поделом! — рассуждал Антон Иванович.— Не брать было взятки. Если бы пострадал, оставшись честным, то имел бы отраду, по крайней мере, в чистой совести, а теперь... Так и быть! Ступай, взяточник, в тюрьму!
Вошёл Дувыд. Хотя он знал всё и первоначально был послан другими с целью запугать Антона Ивановича, однако притворился ничего не знающим и спрашивает его: «Что с вами, что на вас нет лица человеческого?»
— Спросите у них,— сказал Антон Иванович, указывая на другого еврея. Дувыд обратился к нему — и завязался горячий спор. Дувыд принял сторону Антона Ивановича, а тот настаивал на своём.
— Так и быть! — сказал наконец Дувыд по-русски.— Хочешь половину?
— И слушать не хочу,— ответил другой еврей тоже по-русски.
— Да я только и могу дать, что возвратить ваши деньги,— сказал Антон Иванович.
— Прибавьте что-нибудь отступного,— сказал Дувыд.
— Из чего же я прибавлю, если у меня больше нет?
— И не будет никогда,— сказал требовавший денег.— Дайте наши и бог с вами!
— Вот на столе,— сказал Антон Иванович.— Я до них и не дотрагивался. «Слава богу, что не сжёг!» — подумал он.
Еврей пересчитал деньги, спрятал их, а потом отдал печать и сам удалился. Дувыд же остался с Антоном Ивановичем и заботливо расспрашивал его обо всём, как будто сам ничего не знал. Когда Антон Иванович рассказал всё как было, то он воскликнул: «Эй-взй! Почему меня здесь не было! Вот я бы посоветовал вам штуку! Что вам стоило написать городничему, что приходил такой-то еврей и украл печать? Пусть бы оправдывался».
«Правда,— думал Антон Иванович.— Это вышла бы отличная штука». Но уже было поздно прибегать к чему бы то ни было. Да Антон Иванович ни за что бы и не сделал подобной выходки. Он рад был, что тот ушёл и поличное унёс.
— Не правду ли я говорил, что у нас плут на плуте едет? — сказал далее Дувыд.— Наши еврейчики мастера на все штуки. По крайней мере вы теперь безопасны. Контрабанда прибрана — и делу конец!
Антон Иванович ничего не отвечал. Дувыд скоро вышел, посмеиваясь, а он, не раздеваясь, лёг на незастланной койке.
Не спится человеку в таком состоянии духа, в каком находился Антон Иванович. И он не спал, только лежал, потушивши свечу, как будто боялся света. Но и во мраке не дремала оскорбленная совесть: евреи, деньги, тюрьма, ссылка, позор и страдание — заслуженное и незаслуженное — так и носились перед глазами. Когда же, наконец, удалось заснуть, то и тогда душа не успокоилась: снились черти, называвшиеся вчера слышанными именами и имевшие физиономии вчера виденных людей. И как ни радостно он встретил день, однако был бы рад никогда не видеть таких дней. Как было обыскивать синагогу и чего в ней искать? Той контрабанды, которую сам помог спрятать? «Хорош чиновник! — рассуждал Антон Иванович.— И как образцово оставлен в дураках! Вот так не ударил лицом в грязь!»
Это приключение так подействовало на Антона Ивановича, что он признал себя неспособным для службы в здешнем крае и постарался перейти на север, где нет евреев. По той же причине и жена перестала мылить ему голову за честность, хотя и не оправдывала его поведения. Но Антон Иванович и этим был доволен.




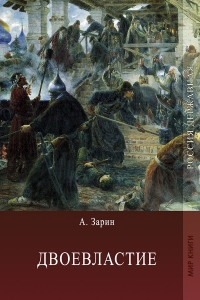

Комментарии к книге «Попался впросак», Анатолий Патрикеевич Свидницкий
Всего 0 комментариев