Посвящаю XX съезду KПСС
Глава первая Зарницы
Август 1844 года был особенно жарким. Сен-Жерменское предместье опустело. Новая, безмерно богатая финансовая знать и укрепившиеся после Реставрации аристократы выехали в свои поместья в Бретань, в сумрачные замки медлительной Луары и на Пиренеи. Над городом нависла знойная дымка, тонкая, как кружева на зонтиках парижанок. Богатые горожанки изнемогали в эти дни в своих сборчатых юбках и узких корсажах на китовом усе. Только к вечеру наступала прохлада.
Карл Маркс сбрасывал редингот и жилет и по целым дням не отрывался от книг и тетрадей. Читал и писал, писал и читал. Книги по экономике, философии, мемуары деятелей французской буржуазной революции, статистические таблицы, «синие» парламентские книги Англии, мрачные, как кладбищенский регистрационный перечень,— все привлекало его внимание. Желая отдохнуть, он перелистывал Шекспира, из которого многое знал наизусть, смеялся над проделками хитроумного Жиль Блаза, зачитывался Бальзаком. Ни одна новая книга Гейне, Жорж Санд, Мюссе, Гюго, Мериме не ускользала от его внимания.
Когда садилось солнце, Карл открывал окна и во всю грудь вбирал свежий вечерний воздух. На лапчатых листьях каштанов, которых так много на улице Ванно, лежала густым покровом седая пыль. Карл не мог не вспомнить душистый родной воздух Трира. Чем-то вакхическим веяло от праздника сбора винограда. Девушки украшали волосы гирляндами из виноградных лоз и пели мелодичные мозельские песни. Сборщики пьянели от солнца, воздуха и приторной влаги ягод.
Маркс сильнее ощущал свое одиночество в огромном городе, особенно в неистовой уличной толпе. Прошло уже несколько месяцев, как Женни уехала в Трир к матери — баронессе Вестфален — и увезла туда тяжело болевшую дочурку. В безмятежном, тихом Трире ребенок быстро поправился. Но Карл тяготился отсутствием обеих Женни. Более обычного раздражали его скрипучие голоса соседки по квартире, госпожи Руге, и ее самоуверенного юркого супруга. Нетерпеливо ждал Карл возвращения жены и ребенка, побеждая тоску напряженной работой.
Фридрих Энгельс решил не позднее сентября 1844 года побывать в Париже, чтобы снова повидаться с Марксом. Их первая встреча была холодной. Под влиянием писем братьев Бауэров, крайне раздосадованных тем, что Маркс навсегда резко порвал с кружком «Свободных», Фридрих отнесся с некоторым недоброжелательством к редактору «Рейнской газеты», с которым виделся в Кёльне. Маркс, заподозрив в Энгельсе единомышленника берлинских «Свободных», ответил ему тем же.
С тех пор прошло почти два года, и Энгельс понял, что ко времени знакомства с «неистовым трирцем» он не достиг еще той ясности, глубины мысли и анализа, которые были уже у Карла. Давно оценил Энгельс по достоинству заблуждения и напыщенные разглагольствования «Свободных», разглядел истинную сущность краснобаев Бауэров.
Мысль Фридриха была отныне прочно прикована к экономике, этой пружине, столь отчетливо выпирающей из-под всех покрывал, набрасываемых на нее буржуазным обществом. Перед внимательным взором Фридриха прошли чартистские восстания, сотрясавшие буржуазную Англию, забастовки голодающих рабочих, бунты луддитов против машин.
Когда Фридрих начал изучать положение рабочего класса в Англии, он был потрясен, как первооткрыватель, вступивший на новую землю. Энгельс писал обо всем Марксу, и между ними, вначале незаметно, протягивались нити полного доверия и понимания, из которых ткется дружба, не разрушаемая ни временем, ни опасностями.
Свое сотрудничество в «Немецко-французском ежегоднике», изданном в Париже, Энгельс начал с критики политической экономии, подобно тому как Маркс штурмовал и низвергал гегелевскую философию права. Полная задора и блеска, статья «Наброски к критике политической экономии» привела в восхищение требовательного Карла. Он назвал эту статью Энгельса «гениальным наброском». В ней двадцатичетырехлетний автор прощупал аналитической мыслью, точно хирургическим зондом, многие коренные вопросы экономики и вскрыл самые глубокие противоречия буржуазного общества. Он добрался до ядра всех бед — до частной собственности.
Фридрих заглянул в самые недра общества, в котором он жил. Он увидел страшные последствия капиталистической конкуренции, кризисов и смертельную борьбу классов. Он задумался над тем, что даже достижения науки при господстве частной собственности вместо освобождения несут человечеству ад и рабство.
Познакомившись поближе с Фридрихом по его письмам и статьям, Карл Маркс безошибочно понял, что это человек могучего ума и дарования.
Через хмурый, зелено-серый Ла-Манш, отделяющий Англию от Франции, Маркс и Энгельс мысленно протянули друг другу руки.
В конце августа 1844 года Фридрих выехал из Манчестера в Лондон. Как всегда, его поразило чудовищное однообразие во внешнем облике этого города. Покуда громоздкий кеб вез его по улицам, он думал, что лондонский «юг» едва ли отличим от «севера» и «юго-востока». Всюду выстроились в ряд совершенно одинаковые гладко-серые дома. Между ними, как во рту с испорченными зубами, чернеют щели — уличные тупики. На замызганных рундуках торгуют рыбой, перезревшими овощами и фруктами, несвежими яйцами, изношенным тряпьем.
Фридрих не впервые всматривался в эти печальные приметы бедности. В черте каждого буржуазного города Европы обязательно есть торговые кварталы, театральные и биржевые площади, базары, пивные, муниципальные и государственные учреждения, дома терпимости, церкви, трущобы — стоки нищеты и горя, кладбища и неприметные родильные приюты, поставляющие миру новое человеческое пополнение. Несмотря на огромную смертность детей бедняков, человечество непрерывно увеличивается. Фридрих недавно в своей статье критиковал мальтусовскую теорию народонаселения. Он основательно продумал все, что с таким пылом пытался доказать в своей книге пастор Мальтус, призывая человечество к сокращению рождаемости, и опроверг его доводы.
«Да, по мнению Мальтуса, за столом сытого буржуа сегодня нет места для пролетария,— думал Фридрих.— Несомненно, фабрикант не даст рабочему ничего, кроме объедков. Покуда частная собственность правит миром, пролетарию ничего не остается, как голодать и бороться за жизнь. Но все будет по-иному завтра, и к этому надо готовиться».
Фридрих невольно сравнивал нарядных дам, прогуливающихся по Пикадилли, с жалкими женщинами, кутающимися в полинявшие шали. Кеб свернул в близлежащий квартал Сохо, заселенный безработными, чужеземцами, ремесленниками, затем выбрался на набережную Темзы. Вдали был виден порт, за ним начинались доки.
В порту Лондона работали люди со всех материков земного шара. Много среди них ирландцев, индийцев, жителей далеких океанических островов.
Склонившийся под тяжестью ящика морщинистый китаец, прикрыв глаза, вдыхает сквозь доски приятный аромат темных засушенных листочков чая с плантаций, окаймляющих его деревню. Рис воскрешает перед ним залитые водой поля.
Атлет-негр, балансируя руками, несет на голове корзину с дозревающими бананами из Западной Африки. К ящикам приклеены горделивые ярлычки — гербы фруктовой компании — могущественнейшего повелителя всех земель, на которых растут среди ярко-зеленой листвы фрукты в золотой кожуре.
С Цейлона в Лондон привозят похожие на ежей ананасы.
Рябой индус рядом со светлолицым уроженцем Дублина нагружает телегу ящиками с высокосортным индийским табаком. Вчера они носили тюки индийского прессованного хлопка.
На тщательно охраняемых складах доков ждут отправки в глубь Англии австралийская шерсть, бразильский кофе, малайский каучук, лес и пушнина из России.
Невзрачный корабль привез бурую, как застывшая вулканическая лава, массу натурального асфальта с острова Тринидад, за находку которого, так же как и за картофель, бритты во всех учебниках истории благодарят настойчивого исследователя — сэра Вальтера Раллея.
Англичане, особенно шотландцы, слывут наиболее рослыми и здоровыми людьми Европы. Нарядные прохожие на центральных улицах Лондона в такой же мере подтверждают эту оценку, в какой люди доков ее опровергают. Часто худы и узкогруды, но выносливы грузчики доков. Сильны их руки, их широкие ладони и короткие пальцы судорожно впиваются в доски ящиков, как бы в самое жизнь, за которую им приходится так непомерно дорого платить.
К Вест-Индским докам примыкает Китайский квартал — самый безрадостный уголок Лондона. Там же живет много ирландцев.
Гетто китайцев — узкие мостовые, уставленные по бокам черными глухими домами, будто снятыми с колес вагонами для перевозки скота. Ядовитые туманы мгновенно уничтожили бы бумажные флаги, цветы, драконов, которые на тесных улицах родных городов заменяют китайцам сады. Пронизывающая сырость загнала жителей в дома. Переулки и тупики вокруг лондонских доков сумрачны. Лица их жителей серы, как вода Темзы, как небо над доками.
Двадцать шестого августа Энгельс был уже в Париже. Он располагал всего десятью днями свободного времени, так как его настойчиво звали в Германию родные. Ему очень хотелось скорее увидеть прохладную долину Вуппера, где расположены вблизи друг от друга родной Бармен и Эльберфельд. Но он решил, хотя бы проездом, повидать Маркса, познакомиться с ним поближе.
Далеко позади оставили они школу немецкой философии, которую прошли в юности. Но в то время, как Фридрих уяснил себе задачи своего времени, знакомясь с английской промышленностью, Карл нашел причины многих противоречий и самый смысл борьбы общественных сил, тщательно изучая историю Франции за последние шестьдесят лет. Париж казался ему живой летописью революции, и он неутомимо разбирал эти письмена. Одновременно он напряженно работал над экономическими и философскими вопросами.
Маркс хорошо изучил Париж. Он часто думал о том, что прошло всего пятьдесят лет с тех пор, как погибли бесстрашный революционер, якобинский вождь Робеспьер, и его соратники. Пересекая площадь Революции, переименованную после восстановления монархии в площадь Согласия, Карл вспоминал о великолепии революционных шествий 1793 года. Девушки в туниках несли белоснежную статую Свободы — пышнотелую женщину с лицом греческой богини. На красных полотнищах, развеваемых ветром, далеко видны были вышитые золотом лозунги: «Свобода, Равенство, Братство!», «Низвергнем гидру тирании!»
С деревянного возвышения выступали ораторы, приветствуя революционные отряды предместий.
Тени недавней революции мелькали перед Марксом.
Якобинец Сен-Жюст — один из лучших ораторов среди соратников Робеспьера — обычно вызывал наибольшее восхищение слушателей. На кресле приносили сурового Кутона. Спокойно и несколько монотонно говорил с трибуны и сам «Неподкупный» — Робеспьер.
Солдаты революционной армии уходили на фронт с этой площади. «Марсельеза» звучала особенно величественно в дни праздников и смотров, происходивших здесь. И нигде так весело не танцевали задорной карманьолы, как на берегах Сены!
Посредине площади силач Сансон, бессменный палач времен революции, неутомимо опускал на шеи аристократов нож гильотины.
Недалеко находилась Гревская площадь. Здесь все было также знакомо Марксу и вызывало множество мыслей. 10 термидора, после того как накануне контрреволюционный переворот низверг якобинскую диктатуру, на этой площади без суда были гильотинированы Робеспьер, Сен-Жюст и калека Кутон. Брат Робеспьера и Филипп Леба покончили с собой в ратуше, когда предательство части Конвента повлекло за собой поражение Горы. Их трупы были привезены на площадь и тоже обезглавлены. Так трагически закончилась последняя глава первой французской революции. Орган городского самоуправления Парижа, оплот революционной демократии столицы — Парижская коммуна была разгромлена и уничтожена. Многие члены ее казнены. Правительственная власть изменилась. Спекуляция, обесценение денег сделали жизнь бедняка совершенно непереносимой, но способствовали необычайному обогащению дельцов. Самые важные политические вопросы, от которых зависела судьба народа, решались теперь не на трибуне якобинского клуба, а в роскошных будуарах красавиц Терезы Тальен, Жозефины Богарне, Аделаиды Рекамье — содержанок заправил Директории.
Но плебейский Париж, город санкюлотов, недолго терпел свое поражение. В 1795 году, когда с вечера до утра перед дверями булочных и продуктовых лавок стояли за хлебом измученные люди, снова произошло восстание в Париже. С криками «Хлеба, конституции 1793 года и освобождения патриотов!» ворвался народ в здание Конвента. Восставшие были разоружены, многие брошены в тюрьмы. Однако беднота не успокоилась. Тому, кто все потерял, нечего было бояться. Голод и лишения снова погнали людей с окраин к Конвенту с требованием хлеба, заработка и справедливых законов.
Труженики, шедшие в годы революции за буржуазией, начинали понимать, страдая и нищенствуя, что отныне их ждет война с новым окрепшим и страшным хозяином.
На целое столетие позже, чем в Англии, в 1789 году, пал трон абсолютной монархии. С того дня, когда на узкие улицы Парижа к домам знати с оружием и знаменами двинулся народ, французская столица не знала длительного покоя. Аристократия, воюя и хитря, вынуждена была уступать пядь за пядью власть новому классу — буржуазии.
В Англии в XVII веке революция кончилась сговором аристократов и буржуа. Грани между классами господ стирались. Знатные лорды охотно роднились с разбогатевшими простолюдинами и становились торговцами и промышленниками. Нажива, богатство — вот что ценилось превыше всего повсюду, вплоть до дворца английских королей.
А во Франции в 1830 году был свергнут Карл X и на трон вступил Луи-Филипп — «король-буржуа». Его царствование не принесло стране умиротворения. Лионские восстания возвестили миру об угрозе господству буржуазии.
Франция в 1844 году была подобна вулкану после сильнейшего извержения, так и не затухшему совсем; подземные толчки все еще продолжали сотрясать страну.
Вечерело, когда в квартире на улице Ванно, где жил Маркс, раздался резкий звонок. Карл сам открыл дверь.
Перед ним, держа в руках цилиндр и трость, стоял очень молодой человек с большими, широко расставленными серыми глазами, смотрящими прямо, испытующе и смело.
Карл сразу же охватил взглядом вошедшего. Это бывает не всегда. Иногда люди долго не запоминаются и впечатление от них меняется со временем. Лицо гостя отражало волю и ум, добродушие и наблюдательность. Карл как-то по-новому увидел и чистоту светлой кожи, и нос с широкими подвижными ноздрями, и большой добрый рот. У гостя была маленькая, тщательно подстриженная каштановая бородка. Густые русые волосы, расчесанные на пробор, переходили в узкую полоску бакенбардов, обрамлявших овальное лицо.
Он был высок, широкоплеч, худощав и щегольски одет.
— Входите, Энгельс, я рад, очень рад вас видеть,— сказал Карл.
— Вы узнали меня, Маркс? Я проездом в Париже, еду из Англии в Германию. Хотел бы...
— Да входите же,— прервал приветливо Маркс.
Через несколько минут Фридрих и Карл сидели за маленьким столом, и казалось им, что они давным-давно дружны.
— Ваши наброски к критике политической экономии превосходны. Вы сказали то, что не было еще открыто никем. Гениальна и сама задача — доказать, что все противоречия буржуазной экономики порождены частной собственностью. Вы далеко опередили Прудона, который борется с частной собственностью, погрязнув в ней сам. Я тщательно изучил вашу статью,— сказал Маркс.
Фридрих покраснел, сильно смутился.
— Вы переоцениваете мои заслуги, доктор Маркс. Это только первые шаги, не более того. Все, что я сделал, вы открыли бы давно, если бы не занимались здесь другими вопросами.
Карл налил две рюмки вина и предложил выпить на брудершафт.
— Мы давно уже воюем рядом. Каждый из нас напечатал в «Немецко-французском ежегоднике» по две статьи. Итак, милый Фридрих, я для тебя просто Карл,— сказал он, улыбаясь.
— Отлично, я очень рад.
Энгельс смотрел с чувством нарастающей симпатии на. широкоплечего, коренастого собеседника. Черные волос м буйными волнами обрамляли великолепный лоб. Неотразимо привлекал прямой веселый взгляд глубоких черных глаз Карла. Столько мыслей было выражено в них, столько силы они излучали!
— Оба мы пришли к одним и тем же выводам,— говорил между тем Маркс. Он встал, закурил сигару и начал ходить по комнате.— Мы убеждены в том, что именно пролетариат несет в себе великую миссию преобразования мира и человечества. Победа его неизбежна!
— Я не сомневаюсь в этом! — воскликнул Энгельс.
— Если у тебя есть время и терпение, Фридрих, я прочту тебе кое-что, о чем неустанно думаю все последнее время. Многое из написанного, кстати, найдено мной после чтения твоей статьи.
Они стояли друг против друга, один высокий, другой пониже, оба широкоплечие, сильные, молодые.
— Видишь ли,— сказал Маркс,— для уничтожения идеи частной собственности вполне достаточно идеи коммунизма. Для уничтожения же частной собственности в реальной действительности требуется коммунистическое действие.
Маркс открыл тетрадь и, перелистав несколько страниц, стал читать:
— «Когда между собой объединяются коммунистические рабочие, то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает благодаря этому новая потребность, потребность в общении, и то, что выступает как средство, становится целью. К каким блестящим результатам приводит это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания французских социалистических рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами соединения людей, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющие своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство».
Энгельс внимательно вслушивался в каждое слово. Он вспомнил своп разговоры с рабочими Вупперталя, Бармена, Манчестера и Лондона.
— Все это верно,— сказал он убежденно.
— Но вернемся к философии,—продолжал Маркс,— нам с тобой неизбежно придется проверить свою философскую совесть. Мы ведь шли одними дорогами.
Энгельс наклонил голову в знак согласия, но добавил:
— Я плутал в этой чаще дольше тебя, Карл.
— Все же и ты выбрался из нее вовремя,— снова заговорил Карл,тяжело шагая по комнате и продолжая курить. Дым то скрывал его голову завесой, то медленно уплывал к потолку.— Антропология — наука о человеке. Очень важная и все еще путаная область знания. Нельзя отказать Фейербаху в том, что он решительно покончил со всеми религиями, как бы они ни назывались. Помнишь его вопрос и ответ? «Что есть бог?» Немецкая философия разрешила его так: «Бог — это человек». Вот оно — ядро новой религии, культ абстрактного фейербаховского человека. Где же действительные люди в их историческом развитии? Несмотря на свою гениальность, Фейербах их не видит. Его человек есть сущность всего, но это неверно; человек — совокупность общественных отношений, плод общественного развития общества,— Маркс остановился возле Фридриха и положил руку на его плечо.
Табачный дым давно уже плыл по комнате густым облаком, и Карл, заметив это и вспомнив наказ жены курить меньше, широко раскрыл створки окна, с шутливой печалью погасил окурок сигары, отложил коробок со спичками, затем подошел к письменному столу и достал еще несколько густо исписанных неровным почерком тетрадей. Он сел и начал читать. Это были думы, самые дорогие и важные для него, итоги многих лет, воплощенные в слово, будто вновь открытый материк, и победа в долгой борьбе.
Маркс спорил с Гегелем. Слова его обрушивались, точно скалы, расплющивая противника. Ему хотелось курить, но он превозмогал себя.
— Не думаешь ли ты, Фред, что иногда мысли у Гегеля будто какие-то застывшие духи, обитающие вне природы и вне человека? Он, подобно Пандоре, собрал их воедино и запер в своей «Логике».
Энгельс кивнул утвердительно головой и живо заметил:
— Все семейство Бауэров не перестает нападать на нас в своей газете, заклиная этих самых духов и высокомерно обрушиваясь на все живое. Пора дать сокрушительный отпор и опровергнуть их бредни. Они не перестают твердить, что лучшее поле битвы — это чистая философия.
— Блестящая мысль. Это и мое давнишнее желание сразиться с ними, Фридрих. Мы не станем откладывать этого дела ни на один день,— ответил Маркс.
— Кстати, до какой нелепости дошли Бауэры и какое пренебрежение у них к народу, к массе, видно по их последнему кредо. Я помню его наизусть: «Все великие дела прежней истории были ошибочны с самого начала и не имели успеха, потому что ими интересовалась и восторгалась масса».
— Да, Фридрих. Противопоставление духа массе проходит через все изречения Бруно Бауэра в его «Всеобщей литературной газете». Я рад, что Кёппен не поддался на эту удочку и не доводит гегельянскую философию до отвратительной абстракции.
— Братья Бауэры видят не дальше своих, правда довольно длинных, носов. Но самомнение их при этом безгранично. Заметь, они все еще тщетно пытаются вознестись за облака на пуховике из философских лоскутов. Они критикуют все подряд, особенно то, что пугает их днем и ночью,— все массовые движения, будь то социализм, французская революция, христианство, англиканство, противоречия и борьба в промышленности. Еще бы, ведь все это тесно связано с массами, с людьми,—горячо говорил Энгельс.—Итак, вызов Бауэров мы принимаем! В течение тех немногих дней, которые я проведу в Париже, мы не только начнем нашу брошюру, но и определим, кому что писать дальше.
— Это будет наша первая совместная работа. Отлично, Фред.
В этот погожий вечер Энгельс поздно ушел из квартиры на крутой тихой улице Ванно. Он был счастлив. «Быть может,— думал он,— я нашел все, о чем мечтал,— друга на всю жизнь».
Друг, друзья... Как часто произносятся эти слова, но, подводя итоги, человек подчас с тоской уясняет, что не имел их в своей жизни. Друг тот, с кем идешь бок о бок через всю жизнь, деля невзгоды и радости, кому доверяешь все сокровенное и никогда в этом не раскаиваешься. Дружба... Древние сложили миф об Оресте и Пиладе, которые готовы были отдать жизнь друг за друга. Испытания, борьба, искания сплачивали их все сильнее, все крепче и приносили им победу.
Фридрих шел, все ускоряя шаги. Он видел перед собой огненный взгляд Карла, слышал его раскатистый смех, он гордился похвалой, радовался ободряющим словам. Эта встреча обещала так много обоим. Энгельс улыбнулся. Все вокруг казалось ему прекрасным...
Париж был полон звуков и красок. В саду Тюильри оркестр играл увертюру из «Севильского цирюльника». Тротуары были заняты столиками кафе, многие посетители были уже навеселе, вино развязывало языки, рождало смех.
В эти теплые осенние вечера хмурыми и пустынными выглядели дома. Казалось, все живущие в них ушли на площади и в сады. По шумным бульварам нелегко было пройти. На высокие шляпы прохожих каштаны роняли пыльные пожелтевшие листья. Несколько кокетливых женщин в светлых платьях задели пышными юбками нарядного молодого человека, в котором они узнали иностранца. Энгельс извинился. Женщины попытались заговорить с ним, но Фридрих поспешно свернул в сторону. Ему, как никогда, хотелось одиночества, чтобы еще раз продумать все, что он нашел в тихой квартире Карла.
«Друг!» — звучало в сердце, и радостное значение этого слова нарастало и заполняло все его существо. То, что впереди их обоих ждет много тягостных испытаний, было несомненным, но это только поднимало и будоражило душу.
Революция — вот о чем мечтал Энгельс. А вокруг было тревожное затишье...
Фридрих подошел к напоминавшему античный храм зданию Парижской оперы. В этот вечер шла премьера «Эрнаии». Итальянец Верди, автор оперы, был еще мало известен в Париже.
«Верди. Я слышал его «Навуходоносора» и «Ломбардийцев». Музыка показалась мне грубой и резкой»,— подумал Фридрих равнодушно. Ему значительно больше правились Доницетти и Россини, которых он слушал в Лондоне, когда весной там гастролировала итальянская опера. Фридрих иногда напевал, не всегда точно, мелодии из «Лючии ди Ламермур» и «Фаворитки». «Севильский цирюльник» Россини казался ему непревзойденным по красоте арий музыкальным творением.
Бойкий мальчуган в рваной рубашонке предложил Энгельсу оставшиеся у него нераспроданными вечерние выпуски газет.
— Месье еще, наверное, но знает, что доблестные французы преследуют Абд-эль-Кадира в Алжире, а марокканцы помогают им на своей территории. Как думает месье, этот отчаянный Абд-эль-Кадир убежит или будет пойман? Было бы интересно видеть его в Париже,— сказал маленький продавец газет.
— А ты, малыш, не собираешься ли в страну пальм, страусов и газелей? — спросил Энгельс, протягивая мальчугану франк вместо одного су,— Купи себе новую рубашку и отправляйся домой.
— У меня, месье, семья на плечах,— важно ответил малыш.
Фридрих зашел в кафе возле угрюмой и пустынной в этот час биржи. В помещении было тихо и очень накурено. Заказав кофе и булочку, Энгельс принялся читать газеты. Из соседнего зала доносились короткие сухие удары бильярдных шаров, Какой-то обанкротившийся на акциях маклер, изрядно опьянев, всхлипывал и что-то бормотал, не отпуская от себя усталого тощего гарсона.
В этом году французы захватили Алжир. Энгельс читал о том, что эскадра принца Жуанвиля подвергла бомбардировке Могадор, разрушив его укрепления, и высадила на остров пятьсот солдат, Англия продолжала запугивать то французский кабинет, то марокканского султана, Впрочем, Франция и не собиралась на этот раз удержать свои завоевания в Марокко, В ответ на унизительные мольбы марокканского султана она начала переговоры. 10 сентября был заключен Танжерский договор против Алжира. Знаменитый эмир Абд-эль-Кадир, боровшийся за освобождение своей родины от французских завоевателей, скрывался в эти дни среди верных ему племен. Французы, зная огромную популярность Абд-эль-Кадира, обязались, в случае если им удастся его пленить, поступить с ним великодушно. Марокканцы со своей стороны обещали интернировать его в одном из приморских городов, чтобы не дать отважному вождю повстанцев снова собрать силы. Договор между Францией и Марокко определял судьбу мятежного эмира.
Энгельс насмешливо улыбнулся: «Франция заигрывает с марокканцами. Акула играет с карпами».
Алжир, Марокко были охвачены огнем народной войны. В них не умолкал грохот орудий.
Фридрих прочел сообщение, что объявлена независимость Парагвая, и вспомнил, какой дорогой ценой была она куплена, сколько крови было пролито в борьбе с Бразилией.
Затишья в мире не было и нет. Фридрих отбросил газеты и вышел на улицу, где все еще было шумно. Ночная свежесть бодрила.
— Хорошо, весьма хорошо,— так, как говорили в родном Бармене, сказал Энгельс.
Иной раз он сам удивлялся своей всегда подавляемой воспитанием и привычками восторженности.
«Гейне говорил, что хотел бы кричать о своей любви на площадях всему миру. Кажется, и я тоже способен сейчас петь, но не о любви, а о дружбе, об освобождении от одиночества»,— думал Энгельс.
Во время своего краткого пребывания в Париже Фридрих написал семь разделов в брошюре, которую вместе с Марксом решили они направить против братьев Бауэров.
В эти дни ему казалось, что сутки необычайно коротки и главное, чего не хватает человеку, это времени. Энгельс несколько раз один либо с Марксом бывал на собраниях французских социалистов и коммунистов и с интересом слушал выступления демократа Флокона. Молодому Фридриху редактор газеты «Реформа», которому не было еще и пятидесяти лет, показался добропорядочным и честным стариком. Социалист Луи Блан, напыщенный, щеголеватый, с лицом миловидной девушки и щупленькой фигурой, пользовался в то время большой популярностью в предместьях, где жили рабочие и ремесленники. Путаница в воззрениях и нетерпимость к критике у Луи Блана удивляли Энгельса.
По сравнению с английскими чартистами, рассудительными и спокойными в споре, французы показались Энгельсу нетерпимыми к критике. Особенно бросалась в глаза их горячность, любовь к яркой фразе, острое чувство юмора, быстрая смена настроений.
Через несколько дней он выехал в Бармен, где в чинном патриархальном доме ждали его придирчивый, деспотический, поучающий отец, нежно любимая, чуткая и ласковая мать и еще семеро деятельных, румяных и жизнерадостных братьев и сестер! Все они резко отличались своими устремлениями от Фридриха. Они не предавались никаким сомнениям и размышлениям и твердо верили, что быть фабрикантами или их женами самый завидный удел на земле.
В этом обширном доме в 1820 году поздней осенью родился Фридрих. Суровый ветер срывал тогда с деревьев, как и теперь, когда Энгельс подъезжал к родному городу, последние багрово-золотые листья и выстилал ими долину реки Вуппер и улицы делового и строгого Бармена.
Вскоре после отъезда Энгельса вернулась из Трира в Париж с выздоровевшим ребенком Женни Маркс. В квартире на улице Ванно жизнь пошла по-обычному.
Летом и осенью 1844 года Карл часто бывал на окраинах Парижа, где встречался с рабочими и ремесленниками. В то время улица Вожирар была еще мало застроена, и рыжая трава пробивалась у колодцев, где собирались и шумели женщины, пришедшие по воду. Вечерами по немощеной улице возвращались с работы каретники, столяры, кузнецы, портные и их подмастерья. В одном из домиков жил портной Сток с семьей. Со двора, где играл по целым дням его сын, озорной Иоганн, видны были вдали городская свалка и низкий жалкий лесок.
В конце улицы, подле шлагбаума, находилось питейное заведение с полинявшей вывеской. На ней были изображены три седовласых старца, которые заглядывали в ярко освещенный хлев. В годы Реставрации трактир назывался «У младенца Христа», но название это стерлось от времени и непогоды, и нынешний владелец, господин Жан, называл свое тесное помещение, похожее на сарай, «Клубом ищущих справедливости». К Жану, объявлявшему себя сторонником идей Фурье и Кабе, после работы сходились жители квартала выпить дешевого вина, поговорить о том о сем. За простыми деревянными столами «Клуба» можно было отдохнуть, а главное — послушать и принять участие в легко вспыхивающих спорах.
Жан обычно настежь открывал дверь своего заведения. Три деревянные ступени вели на широкое крыльцо, где в теплые вечера усаживались посетители.
Жена трактирщика, тихая старушка с лицом без бровей и ресниц и несколькими рубцами от ожогов, в молодости плела кружева в мастерской при монастыре. Узоры плетения были очень сложны, а мастерицы работали при свечах в особых помещениях, куда не проникал дневной свет. Случалось, что тончайшие рукоделия, на которые затрачивалось много месяцев труда, загорались. Огонь не щадил и кружевниц. Прошло много лет, но жена трактирщика все еще с опаской посматривала на горящие фитильки стеариновых свечей и старалась как можно дальше откинуть голову назад, когда вносила подсвечники.
Хозяйка обычно усаживалась у единственного украшения низкого зала — у старинного очага с нишей, где стояла фаянсовая и глиняная посуда времен революции, украшенная фригийскими колпаками, пиками и эмблемами свободы.
Как-то в один из летних воскресных вечеров между завсегдатаями трактира завязался оживленный разговор. Хозяин, болтливый человек лет шестидесяти, не мог усидеть за стойкой. Он стремительно вскакивал со своего высокого стула и подходил то к одному, то к другому столу.
— Я не совру,— шепелявя говорил он,— что для здорового парня всегда найдется работа в городе, Мастерские и заводы растут быстро, как мои внуки.
Худой человек, допивавший кружку кислого вина, сказал:
— У меня есть работа, но я предпочел бы сдохнуть, чем так жить. Сколько мне лет, ребята?
Он встал и начал поворачиваться во все стороны. Свет упал на его лицо, углубив впадины под глазами, обострив и без того тонкий нос.
— Молчите? Мне двадцать девять лет. Я знаю, вы подумали — пятьдесят пять.
Хозяйка жалостливо сказала:
— Нет, на вид ты еще молодой, только хворый.
— Я выжат, как белье в руках бретонской прачки. Четырнадцать часов в сутки работать в темном, как гроб, сарае. И это длится уже пять лет. Моя жена гуляет с приказчиком. У нее нет больше мужа.
Он гулко закашлялся.
— Чем удивил? — буркнул широкоплечий парень с покрасневшими, как от бессонницы, глазами,— Я в рудниках по тринадцать часов уголь добывал, и если бы вовремя не улепетнул оттуда, то был бы теперь слеп, как крот.
— Братья, я знаю, куда нам податься за человеческой счастливой жизнью! — патетически воскликнул высоким тенором хозяин «Клуба».— Прочь из этой растленной страны, где господствует золотой телец и его жрецы — банкиры и фабриканты. Прочь отсюда! В страну обетованную! Переплывем океан и там найдем добро и справедливость, братья мои...
В это время в харчевню вошел Иоганн Сток. Его насмешливый голос прервал монолог трактирщика:
— Брось, старина, напускать туману своими проповедями.
— Я социалист,— возмутился Жан.
— Сказочник ты. Не нужен нам твой рай, Икария, выдуманная папашей Кабе! Я очень чту этого почтенного мудреца, но, право же, нам и здесь будет не плохо.— И Стон громко продекламировал:
Уж здесь на земле будем счастливы мы, Про голод ни слуху ни духу. Того, что добыто прилежной рукой, Не жрать уж ленивому брюху. Достаточно хлеба растет здесь внизу, Всем хватит по милости бога: И миртов и роз, красоты и утех, И сладких горошинок много Мы и здесь свое возьмем.[1]Портняжий подмастерье Иоганн Сток тоже выглядел значительно старше своих тридцати двух лет. Резкие морщины на худом лице, седина, смягчавшая рыжий цвет волос, настороженный взгляд запавших усталых глаз свидетельствовали, о тяжелых испытаниях, которыми не скупясь наделила его судьба.
В начале 1831 года, странствуя вдоль Рейна в поисках заработка, перевалил он через Савойские горы и пришел во французскую текстильную столицу Лион. Был Сток тогда долговязым красноволосым парнем, весельчаком и балагуром. В мастерской владельца нескольких ткацких станков старого Буври он нашел кров и, когда бывали заказы, заработок. В Лионе Сток нашел и свое счастье, дочь Буври, мастерицу искусственных цветов Женевьеву. С тех пор город на светловодной Роне стал для него родным.
Во время Лионского восстания Сток написал на красном полотнище: «Жить трудясь или умереть в бою»,—и под этим знаменем сражался в рабочем предместье Круа-Русс.
Так получил немецкий подмастерье огненное крещение на бедной окраине французского города. Кто однажды пролил свою кровь на баррикаде, тот стал навсегда побратимом революций. И Сток пошел по терниями устланной дороге. После разгрома Лионского восстания вместе с преданной Женевьевой вернулся он на родину в Дармштадт. Там вступил Сток в тайное революционное общество, которое вскоре было раскрыто. Поражение не смутило душу Иоганна. Два года провел он в аду Гессенской тюрьмы. Подобно тому как несчастье помогает распознать истинную дружбу, так заключение испытывает качество революционера. Сток пережил все то, что в течение многих столетий изобретала и совершенствовала жестокость. Он не потерял самого себя и сохранил живую протестующую душу, однако лишился здоровья, стал хромать, поседел и почти разучился смеяться. Ему открылась бескрайняя радость мышления и познания. Удачный побег избавил узника от медленного физического умирания. Тщетно в течение нескольких лет искал Сток Женевьеву, высланную после его ареста из Германии. Но неисчерпаемы возможности, творимые самой жизнью, и никакое человеческое воображение не способно создать то, что подстраивает случай. Иоганн Сток, участник тайного заговорщицкого «Общества времен года» Бланки, во время уличных боев 1839 года был тяжело ранен и спасен сражавшейся тут же Женевьевой.
«Жизнь борца всегда необычайна»,— часто думал портной и перестал удивляться превратностям своей судьбы.
Последние несколько лет Сток жил в Париже.
Да, он мог сказать: «Мы свое возьмем».
Поговорив еще немного с посетителями трактира, Иоганн, прихрамывая, побрел по немощеной пыльной улице. Он снимал угол в одном доме с итальянцем Диверолли и поляком Красоцким.
Пьетро Диверолли был земляком известного итальянского революционера Джузеппе Мадзини. Оба они родились в Генуе. В то время как Джузеппе изучал литературу и философию, Пьетро, родившийся на пять лет позже, рыбачил с отцом, а затем грузил пароходы в порту. Когда юный Мадзини оставил науку и стал редактором газеты, Диверолли, надорвавшись при погрузке, поступил в мастерскую, где ковали кладбищенские ограды. В свободные часы Пьетро любил гулять по аллеям Санто-Кампо. Там в мраморных гробницах покоились купцы и правители города. Вдали виднелось Средиземное море. В спокойную погоду оно казалось затянутым лиловым бархатом. Мирты и лавровые деревья превращали кладбище в тенистую рощу.
Однажды в отдаленной аллее на кладбищенском холме, где хоронили покойников победнее, Пьетро увидел высокого худощавого молодого человека с такими горящими черными глазами, какие даже в Италии встречаются редко. Он сидел, сбросив плащ и высокую шляпу на траву. Пьетро но отрывал глаз от вдохновенного лица незнакомца, пытаясь понять, обдумывает ли тот что-то очень важное или молится. Внезапно молодой человек, будто прочитав его мысли, широко улыбнулся и заговорил. Его звали Джузеппе Мадзини. На следующий день ему предстояло по приказу властей навсегда оставить Геную. Его заподозрили в принадлежности к тайному обществу карбонариев и изгоняли из Италии. Он прощался с родным городом.
— Генуэзцем был и Христофор Колумб,— говорил Мадзини, показавшийся Пьетро несколько странным и очень ученым.— Он открыл Америку, а мы с тобой что откроем полезного людям? Уроженцам этого прекрасного города самой судьбой предначертано странствовать. Пришла и моя пора. Но когда наступит время вечного отдыха, я хотел бы быть погребенным именно здесь, на холме Санто-Кампо. Живым или мертвым — я еще вернусь в мою Геную!
Мадзини взволнованно и образно рассказывал рабочему о могуществе Древнего Рима.
— Но Италия будет снова свободной и великой! — воскликнул он вдохновенно, заканчивая рассказ.
На другой день молодой итальянский революционер отправился по извилистой каменистой дороге вдоль моря к пограничному городку Чивита-Веккиа.
Диверолли не переставал думать о человеке в плаще и широкополой шляпе, с которым случайно разговорился на кладбище. Мадзини казался ему таким же необыкновенным, бесстрашным и неукротимым, как средневековый флорентиец Савонарола, великий оратор, всю свою жизнь боровшийся с произволом хищных римских пап. Даже умирая на костре, он все еще продолжал призывать народ сопротивляться Ватикану.
Мадзини, покинув Геную, не знал, что унес с собой сердце юноши из мастерской кладбищенских оград великолепного Санто-Кампо. Лишь в 1836 году Пьетро Диверолли, которого безработица погнала по свету, отыскал в Париже тридцатилетнего Мадзини. На чужбине особенно радостно встречаются земляки. Джузеппе дружески принял молодого подмастерья и растолковал ему то, что Пьетро, смутно понимая, слышал уже на родине.
Фанатическая убежденность Мадзини, аскетическое бескорыстие подчиняли ему и более самостоятельно мыслящих людей, нежели Диверолли. Он не сомневался в конечной победе и освобождении Италии от австрийского ига, Пьетро преклонялся перед ним, как в детстве перед священником, не понимая всего, но во все веря. Мадзини рассказал ему о программе новой партии, которую назвал «Молодая Италия».
— Республика и единство! — вытянув вперед руку, восторженно говорил Джузеппе, обжигая Пьетро своими глазами. — Республика — потому, что уже в Древнем Риме считали такую форму правления лучшей, соответствующей разуму. Единство же обеспечивает силу, а Италии, окруженной объединенными державами, завистливыми и могучими, нужно прежде всего быть сильной. Согласен ты со мной?
Пьетро со свойственной генуэзцу горячностью соглашался с Джузеппе, слова которого казались ему божественным откровением.
— Наш девиз — «Бог и народ».
И Пьетро повторил за ним эти слова с благоговением, не раздумывая, как произносил в детстве «Отче наш», набожно сложив руки.
Программа «Молодой Италии», написанная Мадзини, несмотря на мистически-религиозный смысл, резко отличалась от всего того, что проповедовали итальянские заговорщики двадцатых годов, о которых народ Италии почти ничего не знал. Они стремились сохранять глубокую тайну, увлекались обрядовой стороной. В отличие от масонов — каменщиков, итальянские заговорщики называли себя угольщиками. Карбонарии были малочисленны. Дело их было заранее обреченным.
Мадзини объединил буржуазных демократов Италии. Это был фанатический республиканец и патриот. Верный Пьетро Диверолли стал его оруженосцем. Он выполнял поручения Джузеппе и несколько раз пробирался в Италию.
В 1844 году небольшая дружина вместе с отчаянно храбрыми братьями Бандьера высадилась в Калабрии, подняла там восстание, провозглашая требования, изложенные в программе «Молодой Италии». Карательный отряд австрийцев разбил их в бою и захватил в плен. Бандьера были расстреляны. Как и попытки карбонариев, этот заговор потерпел поражение.
Диверолли, участвовавший в восстании, чудом спасся и бежал из Калабрии в Швейцарию. Он недолго прожил в Лозанне, где подружился с членом «Союза справедливых» бывшим студентом Карлом Шаппером. Наконец в поисках работы Диверолли пешком добрался до Парижа, Он все чаще впадал в отчаяние. Неудачи сторонников «Молодой Италии» отталкивали многих, кто ранее свято доверял Мадзини. Идеи его казались неосуществимыми.
В то же время многих прельщал католический священник Джоберти, обещавший реформы и свободу иод главенством римского папы, другие увлекались посулами аристократа, посредственного художника и писателя Массимо д’Азельо, призывавшего к войне с австрийцами. Д’Азельо выступал в прессе и на собраниях, требуя конституции от сардинского государя Карла Альберта. Возможность господства папы или короля нравилась клерикальной знати и крупной буржуазии куда больше, чем республика. Учащейся молодежи и мелким буржуа казалось немыслимым дольше оставаться в бездействии. Все лучшие представители итальянской буржуазии и пробуждающегося народа рвались в открытый бой. То, на чем сходились и монархисты и республиканцы, были ненависть к Австрии и стремление уничтожить ее иго над родной страной.
Диверолли, вынужденный оставаться во Франции, работал на прядильной фабрике. Там он подружился с жизнерадостным уроженцем Фонтенбло Этьеном Кабьеном. Как-то на рабочем собрании Кабьен и Диверолли встретились с Сигизмундом Красоцким и до рассвета просидели за увлекательной беседой на скамейке в Люксембургском саду.
Утром все трое решили поселиться вместе и в тот же День сняли мансарду у вдовы на улице Вожирар.
Красоцкий, родом из старинного польского города Люблина, эмигрировал во Францию в 1831 году. Он был офицером повстанческой армии Сованского и сражался до последней пули под Варшавой.
В эмиграции он переменил много профессий. Мыл бутылки у виноторговца, был половым в трактире, сторожем в поместье, пас овечье стадо в Шамони, работал сапожным подмастерьем. Частая безработица и голод сломили его здоровье. Он заболел чахоткой. В это время Сигизмунд встретил в Париже Адама Мицкевича, которого знал по родине. Всегда готовый помочь нуждающемуся, тем более поляку, поэт нашел Красоцкому несколько уроков математики, предварительно купив ему костюм, чтобы тот смог появляться в зажиточных домах. С той поры Красоцкий был всегда более или менее сыт. Он часто посещал Коллеж де Франс, где вот уже четыре года читал лекции по литературе Адам Мицкевич.
В аудитории, когда на кафедру поднимался прославленный поэт, названный «совестью Польши», всегда было многолюдно. Никто не умел так, как он, словом всколыхнуть даже самое черствое сердце и вызвать в человеческой душе любовь к правде, гнев к несправедливости. Высоко подняв седеющую могучую голову, Адам Мицкевич говорил о муках и унижениях порабощенных народов и требовал для них свободы. Он предрекал грядущие национальные революции, и лицо его становилось вдохновенным, будто он читал свои стихи. В такие минуты распрямлялись скорбные линии вокруг рта и исчезало печальное выражение глубоких, полных мысли глаз. Часто в Коллеж де Франс выступал и Мишле — историк великого 1789 года. Слушая Мицкевича и Мишле, Красоцкий едва сдерживал слезы. Свобода! Независимость! Для революционера-изгнанника это были магические, священные слова, дающие силы жить. Сигизмунд знал наизусть много стихов Мицкевича и повторял те, что особенно волновали его:
Тиранов рухнет власть, любовь растопит лед, И Капитолий ввысь свой купол вознесет, И смертный перед ним застынет, изумленный, Когда король-народ, всей властью облеченный, Всех деспотов своих на гибель обречет И новой вольности в Европе свет зажжет.Кроме посещения лекций в свободные часы в Коллеж де Франс и рабочих собраний, Сигизмунд, когда были деньги, ходил на концерты другого своего великого земляка — Фридерика Шопена.
— Если б я имел дар композиции, то не мог бы ничего прибавить к тому, что нашел в мире звуков Шопен. Он, как и Мицкевич, читает в сердцах наших и рассказывает прочитанное,— говорил друзьям Сигизмунд.
Красоцкий купил старую скрипку. Он играл на ней не только польские народные мелодии, но и пьесы Шопена. Летом Сигизмунд по вечерам открывал окна, и волнующие звуки собирали на улице толпу слушателей. Владельцы лавок и питейных заведений приводили к нему своих детей, и вскоре к урокам математики присоединились уроки музыки. Но главное — он приобрел любовь жителей пыльной, захудалой окраинной улицы Вожирар. Музыка сближала людей и радовала их.
На улице Вожирар, как и на многих других окраинах Парижа, жило много иноземцев. Изгнанники — немцы, поляки, итальянцы — нашли после революции 1830 года здесь пристанище. Рабочие и ремесленники зорко следили за всем происходящим в Европе, особенно во Франции. От этого зависела и их судьба. Они собирались и обсуждали политические новости, объединялись в союзы.
Иногда на их собраниях бывали французские журналисты, такие, как многознающий редактор прогрессивной газеты «Реформа» Флокон, заносчивый и поучающий Луи Блан. Они призывали к борьбе за право человека быть человеком.
Маркс любил встречаться с рабочими, внимательно вслушивался в их речи. Он охотно принимал приглашения. И в этот августовский вечер он пришел в домик, где жили Кабьен, Красоцкий, Диверолли и Сток. Комната вдовы — самая просторная в домике — оказалась битком набитой портными, столярами, печатниками и прядильщиками. Разговор шел о невыносимо длинном рабочем дне, о дороговизне и высокой квартирной плате за лачуги. Потом заговорили о премьер-министре Гизо и короле, которые исказили все конституционные законы, о событиях на французском Таити, где англичане через своих миссионеров вызвали волнения среди жителей.
— Из-за интриг королей там погибли французские матросы,— сказал Кабьен.
— Уста короля,— ответил бородатый столяр, намекая на Гизо, которого Луи-Филипп называл «мои уста»,— болтают о благе французского народа, да только под народом понимают банкиров, спекулянтов и пройдох.
— Я рос в деревне, так там крестьянин свою лошадь бережет, чтоб больше служила, а фабрикант не чает, как своего кормильца в могилу загнать,— сказал молодой рабочий с металлургического завода.— Своей же выгоды не понимает.
— Это мы давно знаем.
Было жарко, и многих мучила жажда. Хозяйка внесла на подносе кувшин с водой и кружки. Подойдя к Марксу, она достала из огромного кармана белоснежного передника коробочку и, открыв ее, осторожно положила на поднос кусочек сахару грязно-желтого цвета. Кланяясь чинно, сказала:
— Вы извините, месье, но тростниковый сахар мне не по средствам. Слава богу, что люди сумели из простой свеклы извлечь такую же сладость, как из заморского тростника, Ведь с той поры, как появился свекловичный сахар, дети бедного человека могут тоже попробовать это чудесное лакомство. Раньше мы и слова такого не слыхали.
Маркс рассказал о панике, которая обуяла фабрикантов тростникового сахара в связи с появлением на рынке свекловичного. Они не раз требовали, чтобы правительство полностью запретило выработку сахара из свеклы.
Разговор снова вернулся к Гизо и самоуправству Луи Филиппа.
— В тюрьме Огюст Бланки и Барбес. Некому свернуть шею монархии. Много говорим, мало делаем,— сказал из толпы типографский рабочий, член тайного республиканского «Общества времен года», разгромленного пять лет назад после неудачного восстания.
— Нет смысла лезть в драку, заранее зная, что побьют. Хватит, нас довольно били. Выступать — так уж чтоб победить. Я сам дрался на лионских баррикадах и был в тысяча восемьсот тридцать девятом году ранен, сражаясь в Париже рядом с Бланки,—сказал Сток, обводя всех острым взглядом.
— Терпение лопается. Гизо не допускает никаких реформ, душит свободу,— возразил все тот же наборщик.
— Ничего, время не стоит на месте. Нас много и с каждым днем становится все больше. Мы не разбросаны, как были. С каждой новой фабрикой будет возрастать армия рабочих. Теперь нас голыми руками не возьмешь,— продолжал уверенно Сток.
Маркс одобряюще взглянул на него.
Поздно вечером Карл возвращался домой, с ним шел Иоганн Сток. Они снова заговорили о подлинном правителе франции этих дней.
Сток сказал:
— Прав, пожалуй, Ламартин, когда говорит о Гизо, что, заняв положение благодаря случайности и революции тысяча восемьсот тридцатого года, он поставил себе целью оставаться неподвижным, отвергая малейшие улучшения... Но раз так, его вполне можно заменить просто тумбой.
Маркс рассмеялся.
— На этот раз сладкоголосый фразер Ламартин сказал неплохо. Но не Гизо, который в течение пяти лет тормозит все, определяет движение истории.
Маркс и Сток подошли к Сен-Жерменскому предместью. После многих жарких дней небо Парижа обложили тучи, но дождя не было. Где-то вдали, разрезая темный небосклон, вспыхивали и гасли голубые зигзаги.
— Приближается гроза,— сказал Сток, вглядываясь в даль.
— Гроза будет позже. Эти всполохи на горизонте — пока еще зарницы,— ответил Маркс.
Господин Генрих Бернштейн часто просыпался по утрам но в духе. Лежа в огромной резной позолоченной кровати под бархатным малиновым пологом на нескольких добротных немецких пуховиках, он старался определить, что же, в конце концов, особенно не удалось ему в последнее время. Его любовница — певица, юркая, как обезьянка, приобретшая благодаря Бернштейну известность на подмостках парижских кафешантанов,— давно ему надоела. «Следует сбыть ее кому-нибудь из влиятельных друзей,— сказал себе Генрих Бернштейн, сбрасывая ночную рубашку и натягивая набрюшник.— Это будет нетрудно,— размышлял он. — Ее грация, яркие туалеты и стройные ноги, которые я сделал столь популярными благодаря крикливым афишам и увлекательным подробностям в газетных заметках, подняли цену на эту дуру во много раз».
Но дело было не в любовнице и не в проигрыше накануне вечером в казино на Монмартре. Быть может, его беспокоит отрыжка после пьяных кутежей в ресторане Лемарделе и боль в печени? «Нельзя есть столько жирных паштетов»,— думал Бернштейн. Когда он одевался, его всегда охватывало философское настроение.
Что такое жизнь для немца, рожденного в Гамбурге, лучшем из городов, скитавшегося по Австрии и заброшенного судьбой в Париж? Жизнь — это сложное предприятие, которое может в любой момент обанкротиться. Главное, как во всяком торговом деле, уметь подавать себя в наивыгоднейшем виде. Это тоже реклама. Она во всем движет выгоду и успех.
Но вдруг Бернштейн нахмурился. Неужели одной рекламы мало? Что еще такое придумать? Трудно жить в XIX веке. На пути дельца столько волчьих ям, что, глядишь, и провалишься.
Реклама была до сих пор единственным могущественным божеством, которому верил Генрих. Он говорил каждому деловому, а это, по его мнению, означало — богатому человеку, которого встречал в кафе, в конторе, в театре:
— Вы сомневаетесь в силе газетной рекламы? Ручаюсь, что с ее помощью я могу сделать знаменитым скрипача, выгнанного из консерватории за бездарность, безголосую певицу, любого поэта, которого никто не читает. Мне все равно, француз это или немец. Если бы господин Анри Бейль обратился ко мне в свое время, его скучнейшие книги покупали бы нарасхват. Я знаю душу человека. На чем основана власть королей, князей, Гизо и Меттерниха? На рекламе! Это рычаг, который управляет в наше время всей торговлей и искусством, всяким продвижением. Без рекламы нет признания.
Генрих Бернштейн любил повторять вычитанные где-то слова римского цезаря Веспасиана, обложившего налогами общественные уборные и свалки, что «деньги не пахнут». Он добывал их, не гнушаясь никакими махинациями.
Политикой он интересовался, поскольку можно было извлечь прибыль. Все зависело от нюха и ориентировки. Политика — та же игра, азарт. Бернштейн никогда не пропускал бегов и то выигрывал, то проигрывал на тотализаторе.
Вцепившись однажды в вышитый золотом жилет короля лионских мануфактур Броше, Генрих решил убедить его дать денег на издание газеты.
— Я узнал, что дамы во всем миро охладели к лионскому бархату! Безумные! Им надоели также кружевные мантильи. Дайте мне денег, и я верну вам их всех, где бы они ни находились — в ледяном Санкт-Петербурге или знойном Мадриде. Реклама — это величайшее внушение, гипноз более могущественный, чем у индийских йогов. Она создает моду и правит миром. Я в своих статьях уговорю самую уродливую из женщин, что лионские ткани превратят ее в фею, что шелка, шурша, тревожат мужской слух и воображение.
— Да не поэт ли вы? — спросил испуганно дряхлый Броше, пытаясь спастись бегством. Он с давних лет считал, что поэты опасны, как буйно помешанные. Их бред порождает революции. И, приняв Бернштейна за поэта, он отказал ему в субсидии на газету.
Бернштейн долго мечтал проявить себя во всю ширь, и ему наконец это удалось. После первого акта оперы «Гугеноты» его представили композитору Мейерберу. Никогда Генрих не испытывал такой робости, как в эту минуту перед знаменитым генерал-музик-директором Берлинской оперы, прославленным композитором, пианистом и дирижером.
Яков Бер, как при рождении назывался славолюбивый композитор, стал Мейербером, что было обусловлено завещанием его деда по матери. Эта приставка принесла ему громадное состояние в придачу к деньгам отца, крупного банкира.
Когда Генрих Бернштейн, раскланиваясь с порога ложи, подошел ближе, композитор долго рассматривал его в лорнет. Заикаясь и путая слова, Генрих принялся превозносить необычайное дарование «великого сына Пруссии».
— Если бы я мог, то ежедневно устами знаменитейших критиков и знатоков оперы пел бы заслуженные дифирамбы, превозносил бы ваш не всеми еще достаточно оцененный гений,— сказал он в конце своего монолога.— Вы, по словам нашего Гейне, задыхаетесь под зеленым бременем лавровых венков, но ваши достоинства заслуживают большего.
Пронырливый делец убеждал хитрого и надменного, как испанский гранд, Мейербера в необходимости иметь свою газету.
— Это нужно во имя искусства, лучшим украшением коего вы являетесь, во имя прославления немецкой оперы,— нашептывал коммерсант.
Композитор, опустив острый подбородок в муаровый бант, упивался своей музыкой, которую считал непревзойденной.
— Да, мир нас не знает в должной степени. Мы к тому же, естественно, каждым нашим успехом вскармливаем тьму завистников, всяких музыкальных ничтожеств, опасных, как Сальери. Их так много приходится на один талант! (Он чуть не сказал «на одного гения».) Я стараюсь бывать чаще в современном Вавилоне,— ведь Берлин так провинциален. Да, газета для нас и о нас, чужеземцах, в Париже была бы мне приятна для чтения, как отдых в час досуга.
Неограниченный благодаря огромным деньгам властелин не только берлинской, по и парижской оперы, маэстро Мейербер был ненасытен в своем тщеславии. Подкуп, подарки, лесть, а иногда и подлость сопровождали его возвышение. Никто не мстил утонченнее за критику и не оплачивал дороже восхваления, чем этот болезненно честолюбивый богач. Его пиршества для газетных фельетонистов и критиков в знаменитой «Гостинице принцев» перед премьерой славились не менее, чем арии созданных им опер.
Предложение Бернштейна прельстило композитора. Спустя несколько дней музыкант из банкиров подписал чек на крупную сумму. Сбылась наконец мечта Бернштейна. Отныне он становился хозяином газеты, этого вернейшего, по его мнению, проводника рекламы.
Газета должна была называться «Вперед» («Форвертс») и выходить дважды в неделю. Она предназначалась но только для немцев, живущих во Франции, но также для читателей Пруссии и других немецких королевств и княжеств.
Сидя в кафе, Генрих Бернштейн долго решал, каким сделать рисунок заголовка. После нескольких бокалов вина он заказал художнику картинку, которая взволновала его воображение. Открытая карета, запряженная четверкой лихих лошадей, несется стремительно по улице мимо домов с готическими крышами. В ней, кроме кучера, замахнувшегося кнутом, мНого пассажиров: мужчины в высоких шляпах и дамы под светлыми зонтиками. Уличный фонарь, тщательно нарисованный на переднем плане, особенно понравился издателю.
— Превосходно. Это умилит душу каждого немца.
Создавая газету, Бернштейн нашел себе опору в германском юнкерском реакционном патриотизме, Он принялся вытеснять драматургов «Молодой Германии», находившихся под явным влиянием изгнанных с родины Гейне и Берне. Немецкие пьесы этой литературной группы, часто сентиментальные и слабые, но всегда бунтующие против современных порядков, угождали главным образом вкусам мелких буржуа.
Генрих Бернштейн задумал повести из Парижа наступление на своих конкурентов с помощью множества французских водевилей и драм. Подобно мотылькам, они отличались обманчивой пестротой и полной невесомостью. Эти пьесы скоро исчезали, унося в небытие также и имена своих создателей. Сначала Генрих считал себя в выигрыше. Но вскоре газета натолкнулась на упорное сопротивление. Немцы явно перестали интересоваться французскими пьесами. Монархическое направление газеты также отталкивало подписчиков. Не помогла и реклама.
— Мы живем в век политики, и без нее нет обогащения,—сокрушался Генрих Бернштейн.
Первым редактором газеты «Форвертс» был Адальберт фон Борнштедт, отставной прусский офицер. Если в глазах Генриха Бернштейна еще мелькало что-то напоминающее мысль, страсть или чувство, то Адальберт фон Борнштедт, знавший несколько языков, слывший патриотом, не позволял мускулам и нервам бескровного лица и тусклым глазам как-либо отзываться на внешние впечатления. Он достиг в этом величайшего совершенства, и казалось, лицо его было вытесано из камня. Служба в прусской армии научила его выправке. Он передвигал ноги не сгибая, говорил голосом, лишенным каких бы то ни было оттенков; вообще он предпочитал слушать, а не говорить и быть незаметным, что создавало ему репутацию скромности.
Этот заведенный раз навсегда, невозмутимый, как часы, человек был оценен высшими чинами полиции сначала Австрии, где его безукоризненный автоматизм, светские манеры, кой-какие знания и молчаливость привели в восхищение и внушили полное доверие даже такому знатоку людей, как Меттерних. Князьне раз принимал Адальберта по условному письму, в ночное время, в одном из потайных залов своего замка Иоганнисберг.
Князь Клемент Меттерних, канцлер Австрии, стал после Венского конгресса 1815 года фактическим властителем Европы. Его могущество несколько раз казалось поколебленным, но после революции 1830 года английский премьер Каннинг и русский царь Николай, австрийские Габсбурги и многочисленные германские государи снова бросились за помощью к Меттерниху. Канцлер был ярым врагом революции. Он поклялся бороться с нею до последнего вздоха и провозгласил право вмешиваться в дела стран, охваченных революционными волнениями. Основой политической системы Меттерниха, громогласно им заявленной, было право силы во имя безопасности знатных и имущих.
Николай I, выражая канцлеру Австрии свою благодарность за защиту монархии, сказал: «Берегите себя, князь, вы наш краеугольный камень».
Несмотря на необъятную власть, богатство, удовлетворение любой прихоти, несмотря на любовь красавицы жены Мелании Зичи и потоки лести, семидесятилетний канцлер не чувствовал себя счастливым. Старость оказалась страшнее любой революции. Он тщетно старался побороть надвигающуюся немощь. Ничто не помогло. Время — вот враг, перед которым Меттерних оказался бессильным. Дряхлел канцлер. В мире назревали события, которые подрывали его политическую систему. Огромная плотина, воздвигнутая Меттернихом совместно со всеми реакционными правительствами Европы, чтобы остановить движение революции, грозила рухнуть.
«Неужели я ставлю гнилые подпорки?»— думал он в бешенстве и отчаянии.
Адальберт фон Борнштедт никогда ни перед кем не чувствовал себя таким ничтожным и оробевшим, как перед нарядным высокомерным старичком, полулежавшим у камина в кожаном вольтеровском кресле. Имя Меттерниха так гипнотически действовало на протяжении многих десятилетий, что Адальберт, всегда невозмутимый, с трудом владел собой. Он избегал смотреть в глубоко запавшие глаза этого бога реакции, обладавшего хваткой барса и хитростью лисицы.
— Мы посылаем вас во Францию,— говорил князь.— Эта страна стала после тысяча восемьсот тридцатого года мусорным ящиком мира. Все бунтари, заговорщики, революционеры—вся грязь человеческая нашла там прибежище. Тем лучше, их легко будет нам вымести или жо сразу сжечь, чтоб не разносить заразу по миру. Революция опасна, как чума. Впрочем, плебс, несмотря на силу мускулов, никогда не победит. Это тело без головы. Я не могу относиться серьезно к господам Прудонам, Бланам и Бланки. Люди нашей высокой культуры и ума не пойдут к черни. Если они не патриции по рождению, то продажны. Их можно купить. Несомненно, революционеры обречены: у них никогда не будет своих ученых и вождей. Сейчас в Париже заправляет всем ничтожество Гизо. Впрочем, Тьер хоть и в другом роде, но тоже акробат. Увы, не стало настоящих людей, таких, как герцог Ришелье, например. Вот был политический гений, не правда ли? Что будет с человечеством, когда погаснет последний факел ума и знаний, освещающий землю?
Адальберт фон Борнштедт понял, что под факелом Меттерних подразумевал себя, и подобострастно ответил, смягчив лесть мертвенной неподвижностью лица и бесстрастностью голоса:
— Тогда на землю снизойдет тьма, но я уверен, как и все друзья порядка и покоя, что ваша светлость еще много лет будет освещать своим гением пути, по которым пойдут цивилизованные страны.
Меттерних самодовольно улыбнулся и предложил сесть фон Борнштедту, все еще стоявшему перед ним навытяжку. Канцлер высказал несколько критических замечаний о политике России и Англии и спросил о настроениях в Пруссии. Когда фон Борнштедт закончил свой отчет о родной стране, канцлер сказал:
— Вы напишете мне подробное донесение о настроениях правительства и обо всем существенном в Берлине.— Подумав, продолжал: — Когда вы будете во Франции, присмотритесь к Тьеру. Сейчас это проще. Гизо пролез в Доверие к глупцу королю, и Тьер попал в опалу. Однако Тьер, этот честолюбец и хитрец, еще будет фиглярничать не раз на мировой арене. Он обладает исключительным Даром приспособления, превосходный эквилибрист в политике. А это важное свойство. К тому же никто из деятелей современной Франции не любит власть так страстно, как он.
— Да,— подтвердил Адальберт фон Борнштедт и, ободренный покровительственной улыбкой Меттерниха, добавил: — Один французский поэт отлично сказал, что Тьер жаждет управлять один или с большинством, один или с меньшинством, управлять со всеми или против всех, лишь бы править, лишь бы быть во главе государства.
Поздно ночью Адальберт фон Борнштедт покинул дворец Меттерниха и под утро в закрытой карете выехал из Австрии.
Но, будучи старательным шпионом Меттерниха, пруссак по происхождению, он не довольствовался только этой службой и одновременно, по совместительству, был шпионом также и прусского правительства. Оно весьма дорого оплачивало его услуги, Частичка «фон» — принадлежность к дворянству — придавала особую цену Борнштедту. Как и Мейербер, он любил Париж, предпочитал всем женщинам и винам французские и скучал в казарменной атмосфере Берлина.
Так, продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, он внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками, говорившими на его родном языке. Звание редактора ему пришлось весьма кстати — как удобное прикрытие.
Но вместе с Генрихом Бернштейном он промахнулся, начав борьбу с «Молодой Германией», рассердив этим берлинских филистеров — зажиточных горожан, которые изображали из себя сторонников реформ и прогресса. Между двумя кружками пива, после сытных сосисок, они охотно занимались критикой своего правительства, не приносившей, впрочем, иикому вреда и очень способствовавшей их пищеварению. Курс, взятый газетой «Форвертс», их сначала разочаровал, а затем и возмутил.
Тщетно Генрих Бернштейн писал статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов, как реакционных, так и революционных.
Еще раньше своих соотечественников отбросили газету парижские эмигранты.
— Умеренность, золотая середина — так учил нас Аристотель,— пытался вторить Бернштейну в своих статьях и Адальберт фон Борнштедт. Он был готов на все, лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послало охотиться прусское правительство, щедро вознаграждая за каждое донесение.
Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал.
В это время Борнштедт, поссорившись с прусской полицией, выполнял указания Австрии. Заметив резкое изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты «Форвертс» и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Крах навис над «Форвертсом». Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, обрадовался отставке с редакторского поста и поехал в Берлин с покаянием.
Генрих Бернштейн на этот раз, надевая утром корсет и подстригая вьющиеся бакенбарды, дольше обыкновенного философствовал о сущности жизни. Хотя положение газеты казалось безнадежным, он отправился к Мейерберу, готовый к отпору и нападению. Однако патрон встретил ого любезнее, чем он ожидал. Накануне прошла с успехом премьера его оперы «Лагерь в Силезии», прославлявшей Фридриха II. Правда, наслаждаясь аплодисментами и вызовами, Мейербер знал, что незаменимый Генрих Бернштейн дорого оплатил клакеров, которых рассадил для большей конспирации не группами, а порознь во всем театре. Они шумно доказывали, что получили деньги не зря.
Знаменитый «шведский соловей» — певица /Кении Линд превосходно спела партию цыганки, Декорации и оркестр сумели передать военную мощь, великолепие двора одного из царственных Гогенцоллернов. Безукоризненны были также афиши и либретто. Королевско-прусский музик-директор ценил превыше всего успех. Денег у него было так много, что он мог их швырять на любую прихоть.
— Итак,— сказал Мейербер, подымаясь из-за рояля и томно срывая туберозу в одном из вазонов, которыми после вчерашней премьеры была заставлена его гостиная,— газета не попала в тон и, сфальшивив на верхней ноте, сорвала голос.— Он остановился, ожидая похвал. За что бы его ни хвалили — за оперу, костюм или остроту, он жаждал восхищения. Генрих Бернштейн, понимая это, гулко захохотал.
— Превосходно, герр директор, превосходно сформулировано, колко сказано! Да, гениальные люди во всем гениальны, будь то звук или слово. Об этом следует заказать статью кому-нибудь из наших всезнаек.
— У вас, кажется, не осталось больше подписчиков, кроме меня,— раздвинув в улыбке узкий насмешливый рот, сказал композитор, вдевая цветок в петличку сюртука.
— Да, дело обстоит плохо. Мы поставили, образно выражаясь, не на ту лошадь. Что ж, это случается и с очень опытными людьми. Издатель в наше время тот же игрок, и весьма азартный. Нам необходимо изменить курс. Это вывод, который подсказало нам поведение прусского правительства. Как оно глупо, будем откровенны. Оно не поняло своих же государственных интересов, отбросив такого друга, такую рекламу, как наш благонамеренный печатный орган. Тем хуже для них. Раз «Форвертс» запрещен у нас в Пруссии, надо сделать его достойным этого политического акта. Необходимо придать газете всю притягательность запрещенного издания; в наши дни это лучшая из реклам, обеспечивающих спрос. Запрещенная газета! Да все обыватели сегодня наши подписчики и готовы добыть газету хотя бы контрабандным путем. Мы им поможем. Эмигранты в Париже тоже призадумаются. Будьте уверены, мы никогда не имели лучших коммерческих перспектив. Но нельзя обманывать потребителя. Он ждет сенсаций и заранее содрогается от восторга. Среди немцев я отыскал незаменимого редактора для нашего возрождающегося из праха детища.
— Кто это? — лениво спросил Мейербер. Он скучал.
— Баварец родом, молод, фанатичен, верит в то, что делает и говорит, весь экспрессия и протест, к тому же перо его жжет, как крапива. У него много талантливых друзей: Гейне, Руге, Маркс... Все они будут нашими авторами. Колоссальные возможности! Я надеюсь, у вас нет возражений против Бернайса. Кстати, по секрету, он признался мне, что считает создателя «Гугенотов» величайшим композитором нашего века. Ваша музыка — это бурлящий водопад, то тихий, то грозный океан, в то время как все эти Доницетти, Россини и бездарные Верди производят подслащенный сироп, разбавляя его в массе воды.
— Отлично сказано,— оживился Мейербер.
Молодой, чрезвычайно болтливый, легковерный, но пылкий журналист, юрист по образованию, Бернайс стал редактором «Форвертса». И тотчас же к газете примкнули многие немецкие эмигранты, жившие в Париже и не имевшие своей газеты.
Маркс, искавший трибуну для продолжения борьбы, начатой в «Рейнской газете», решил воспользоваться приглашением сотрудничать в «Форвертсе». Не замедлил принести свои статьи Арнольд Руге. В одной из них, напечатанной за его подписью, он, соглашаясь со многими мыслями Маркса, брал под защиту его работы в «Немецко-французском ежегоднике», на которые пытался нападать Генрих Бернштейн в первый, несчастливый период существования «Форвертса».
В помещении редакции «Форвертса» всегда было накурено, шумно и многолюдно. Несколько раз в неделю там собирались сотрудники: стремительный Маркс, болтливый, изнемогающий от груза новостей, сплетен и домашних неурядиц Бернайс, больной Гейне, щеголеватый Гервег, краснобай Бакунин, трудолюбивый Вебер и тщеславный Руге.
Иногда в редакции поднимался словесный ураган, в котором трудно было что-либо разобрать, затевалась праздная беседа. Бернайс, прерывая монологи Руге и Бакунина, принимался жаловаться на коварство жены, которую подозревал в измене, или таинственно сообщал о последних событиях в высшем обществе и за кулисами театров. Эти новости поставлял ему вездесущий Генрих Бернштейн.
Маркс терпеть не мог празднословия. Истребляя одну за другой сигары, он нередко властно прекращал разглагольствования и призывал всех к делу. Ему не перечили. Маркс скоро стал душой газеты. Уверенно и вместе скромно он подсказывал нужные для следующего номера «Форвертса» темы статей, неотступно следил за тем, чтобы газета сохраняла прогрессивное направление, редактировал ев и писал иногда передовые статьи, а также лапидарно сжатые заметки без подписи.
Врач Вебер не обладал специальными познаниями в области политической экономии, но был образованным и способным популяризатором. Маркс, оценив это, со всей присущей ему щедростью стал делиться с Вебером своими мыслями, он дал ему свои экономико-философские рукописи, из которых тот почерпнул теоретические важнейшие положения и цитаты для своих статей. Вебер в доходчивой форме повторял многое из записок Маркса о власти денег в буржуазном обществе. Он привел ту же цитату из «Тимона Афинского» Шекспира о золоте, как это сделал Маркс!
...Ты Орудие любезное раздора Отцов с детьми; ты осквернитель светлый Чистейших лож супружеских; ты Марс Отважнейший, ты вечно юный, свежий И взысканный любовию жених, Чей яркий блеск с колен Дианы гонит Священный снег; ты видимый нам бог, Сближающий несродные предметы...Руге как-то напечатал в «Форвертсе» несколько заметок и статей о прусской политике, о восстании силезских ткачей, которые снабдил всевозможными сплетнями о нелестных чертах характера пьяницы — прусского короля, привычках хромой королевы. Последнюю заметку он закончил предположением, что прусская королевская чета состоит только в «духовном» браке. Всю эту пошлость Арнольд Руге подписал не своей фамилией, а псевдонимом «Пруссак».
«Кто же это такой?» — недоумевали читатели, Руге был саксонцем. Единственным уроженцем Пруссии в редакции был Маркс. Женни, прочитав подленькие статьи, подписанные «Пруссак», заволновалась.
— Кто такой «Пруссак»? Читателя явно наводят на ложный след,— сказала она гневно, протягивая газету мужу,— Ведь иные подумают, что «Пруссак» — это ты, Карл.— И, всплеснув руками, добавила: — Вот до чего доводит людей политическая ненависть. Надо искать автора среди наших врагов, Я уверена, что это Руге. Его стиль, его перо...
— Госпожа и господин Руге,— заметила Елена Демут, пеленавшая тут же маленькую Женни,— того и гляди, лопнут от бешеной злобы. Они не гнушаются ничем, никакой руганью, когда говорят о докторе Марксе. Я это сама слышала.
— Такие аргументы свидетельствуют только об их слабости,— ответил спокойно Карл, желая умерить нараставшее возмущение обеих женщин.
— Ты думаешь оставить без ответа пущенную в тебя отравленную стрелу? — удивилась Женни.
— Нет, конечно. Я выведу Руге на чистую воду, но не его методом. Помнишь, как смеялся он над моими новыми соратниками! «Полтора пролетария — вот армия Маркса»? К тому же, и это главное, мне есть с чем полемизировать в его статьях.
Карл прошелся по комнате. Он любил схватки и предвкушал победу, как всякий человек, убежденный в своей правоте.
— Умен господин Гейне. Как хорошо сказал он про подобных господ,— снова заговорила Елена Демут.— Такие люди, как господин Руге, сказал он, что клопы: не трогаешь их — кусают, давишь — воняют.
Карл и Женни засмеялись. Ленхен вскоре вышла с ребенком на руках, Карл заговорил, как бы думая вслух. Женни особенно любила эту его привычку мыслить вслух в ее присутствии.
— Отвечать надо так, чтобы не уподобиться Руге, который стремительно скатывается на самое дно беспринципности, Он жалок и труслив, Есть своя логика у человека, когда он становится предателем: сказав «а» в алфавите отступничества, он неизбежно произносит все буквы до последней.., Руге очень скоро доползет на брюхе до прусского министерства иностранных дел, будет каяться и вымаливать прощение, сваливая на бывших товарищей свои грехи.
Глаза Женни заблестели, Арнольд Руге показался ей похожим на мокрицу.
Маркс, не откладывая, принялся за статью, которая должна была отвести от него подозрения в авторстве подлой стряпни.
Внимательно делая пометки на полях и подчеркивая отдельные фразы, Карл снова прочел все, подписанное словом «Пруссак», Не могло быть сомнений в том, что автором был Руге. Карл узнал его слог и образ мыслей.
В одной из своих статей Руге, пытаясь умалить значение происшедшего недавно восстания силезских ткачей, доказывал, что у рабочих не было политических целей, без чего нет и социальной революции. Это дало повод Марксу метко разбить вымученные, напыщенные разглагольствования Руге.
«Каждая революция,— писал Маркс,— разрушает старое общество, и постольку она социальна. Каждая революция низвергает старую власть, и постольку она имеет политический характер».
Маркс отвергал утопические учения и доказывал, что социализм нельзя осуществить без революции.
Восстание силезских ткачей вызвало волну филантропической жалости у немецких буржуа. Классовая борьба в Германии еще была слабой, протекала вяло, и имущие охотно проливали крокодиловы слезы над участью бедных тружеников.
Особенно старалась «Кёльнская газета», открывшая сбор пожертвований в пользу семей убитых или арестованных ткачей. Богатые купцы и высшие чиновники вносили небольшую денежную лепту, о чем спешили повсюду разгласить. На одном из банкетов в Кёльне на блюдо, обносимое вокруг роскошно убранного цветами и яствами стола, падали, звеня, деньги, и дамы, вздыхая, говорили своим кавалерам: «Жаль этих полудиких бедняков. Нельзя в наш век натягивать струну до того, что она лопается. Это все-таки люди и немцы». Было собрано около ста талеров.
Буржуазия заигрывала с восставшими ткачами, как бы развлекалась игрой с порохом, и в то время, как непосредственные хозяева силезских ткачей добивали их голодом и лишениями, другие немецкие буржуа жертвовали на гроб погибшим в восстании и бросали куски хлеба оставшимся без кормильца рабочим семьям.
Старый друг Юнг писал Карлу, что буржуазная «Кёльнская газета» охотно жонглирует словом «коммунизм».
Но Карлу было ясно, что, как только рабочее движение в Германии окрепнет, оно тотчас же встретит кровавый отпор фабрикантов и банкиров. Начнется социальный бой, и баррикады разделят навсегда два непримиримых класса.
Сострадание немецкой буржуазии к угнетенным ею же рабочим является пока лишь подтверждением слабости борьбы и того, что богачи переоценивают свое могущество, не боясь своих рабов.
Восстание силезских ткачей было первой угрозой частной собственности, и в нем Маркс открыл особенности, каких еще не знала летопись плебейских социальных взрывов. Карл писал в статье против Руге:
«Прежде всего, вспомните песню ткачей, этот смелый клич борьбы, где нет даже упоминания об очаге, фабрике, округе, но гдо зато пролетариат сразу же с разительной определенностью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности. Силезское восстание начинает как раз тел1, чем французские и английские рабочие восстания кончают,— тем именно, что осознается сущность пролетариата... В то время как все другие движения были направлены прежде всего только против хозяев промышленных предприятий, против видимого врага, это движение направлено вместе с тем и против банкиров, против скрытого врага».
Обращаясь к прошлому, анализируя историю революций, чартистских и лионских восстаний, Маркс искал всему этому научное историческое объяснение. В тот день он решил продолжать статью ночью, когда в доме наступит полная тишина. Тогда ничем не отвлекаемый мозг начинает свою упоительную, таинственную работу: подхватывает, скрепляет и ткет, без конца ткет, невидимо и бесшумно, неразрушимую пряжу мыслей.
Как любил Карл эти тихие творческие часы! Спят Женки, Ленхен и малютка дочь. Штора наглухо закрыла окно. Ничто не мешает думать, ставить вопросы и находить решения.
Свет лампы под абажуром падает на белые листы, оставляя в тени все окружающее. Бумага покрывается бессмертными словами. Память щедро выбрасывает на поверхность свои сокровища.
На столе разбросаны таблицы, справочники, заметки. Иногда Карл черпает из них то, что ему необходимо. Все это вплетается в ткань статьи, перо несется неровно, точно лодка по разбушевавшемуся потоку возникающих мыслей.
Маркс был истинным поэтом в творчестве. Он отдавался вдохновению, подчинялся его зову. Работая без устали несколько недель подряд, случалось, потом он долго предавался безделью, лежал на диване и перелистывал случайные книги, чаще всего романы или стихи. И так же внезапно прекращался этот духовный отдых, и Маркс Рьяно, запойно предавался снова работе, не щадя себя, отдаваясь весь мышлению и творчеству. Если его отвлекали, он страдал. Творя, он становился к себе придирчив и без конца чеканил слог, фразу, строку, как самый кропотливый из гранильщиков, шлифующих алмазы.
Днем в квартирке на улице Ванно суетно и шумно. Маленькая Женни улыбается, протягивает ручонки, произносит нежные, неопределенные звуки, вглядывается в солнечные зайчики и лица нянчащих ее людей. Но, вступая в жизнь, она так же, как и все дети, иногда хворает. Ее улыбка вызывает радость у взрослых, ее крик пугает отца и мать и заставляет их искать причину. Ее болезни вносили в дом паническую растерянность. Только Ленхен становилась тогда еще более деловитой, настойчивой и властной.
Однажды, когда у Женнихен внезапно появился жар и Карл, оставив работу, не отходил от кроватки больного ребенка, Елена сказала ему назидательно:
— Вы что же, думаете, малютка вырастет, не переболев разными болезнями? Да тогда она не получит закалки. Дети после болезни умнеют и крепнут.
Карла несколько успокаивает ее тон.
— Идите-ка, доктор Маркс, погулять и захватите жену, а то, сидя без воздуха и вздыхая без нужды, она родит вам второго ребенка таким хилым, что некогда вам будет думать, как сделать нас, простых бедных людей, счастливыми и богатыми. Ну-ну, надевайте же шаль, милая Женни. Господин Маркс, захватите зонтик, я уверена, что скоро будет дождь.
Никто не может противостоять натиску здравого смысла — его так много у молоденькой Елены Демут. Она выпроваживает Карла и Женни и тогда уже бросается к ребенку, которого нежно любит. Ленхен — прирожденная сиделка и няня. Никто не умеет так быстро успокоить малютку Женнихен и угадать, что именно болит у нее.
— Лечить ребенка — все равно что птичку. Бедненькие, они только чирикают, но не скажут, где им больно,— шепчет она нежно и принимается поить ребенка подогретым настоем, чудодейственная сила которого ей известна от госпожи Каролины фон Вестфален. Как много узнала она полезного от этой почтенной, важной и доброй дамы. Ленхен выучилась кулинарии, уходу за детьми и больными. Она затвердила, как молитву, которую когда-то выучила у пастора, стародавние рецепты, способы приготовления лечебных отваров и многое другое, необходимое в домоводстве. И теперь это ей очень пригодилось.
Ленхен хорошо знала, что дети благодарные пациенты. Часто они так же быстро излечиваются, как и заболевают. Теплый настой липового цвета и растирание подогретым оливковым маслом помогли Женнихен. И когда Карл и Женни вернулись домой, их дочь крепко спала, а лицо ев перестало пылать, как это былое ночи. Женни, предварительно согревшись, вошла и склонилась над кроваткой дочери, тревожно всматриваясь в ее личико и прислушиваясь. Дыхание ребенка было ровным и тихим.
— Ты кудесница, Ленхен. Чем же ты отогнала болезнь от колыбельки?— спросила она, с благодарностью глядя на молодую девушку.
— Да не сглазьте вы, пожалуйста, и не разбудите крошку,— отмахнулась Демут, притворно рассердившись.
В эти дни пришло письмо из Бармена. Карл нетерпеливо вскрыл конверт. Наконец-то Фридрих написал ему. Прошло три недели, как они расстались. Он сообщал об обручении сестры и связанной с этим в доме суете, о том, что, возможно, целых полгода предстоит ему пробыть в Германии. «Я, конечно, сделаю все,— писал Фридрих,— чтобы избежать этого, но ты не можешь себе представить, какие мелкие соображения, какие суеверные опасения выдвигаются против моего отъезда.
В Кёльне я провел три дня и был поражен невероятными успехами нашей пропаганды. Люди там очень деятельны, но сильно сказывается отсутствие надлежащей опоры. Пока наши принципы не будут развиты в нескольких работах и не будут выведены логически и исторически из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории как их необходимое продолжение, настоящей ясности в головах не будет, и большинство будет блуждать в потемках».
Энгельс подробно описывал настроения в Дюссельдорфе и в Эльберфельде и расспрашивал о газете «Форвертс» и ее редакторе Бернайсе. Заканчивал он письмо приветами знакомым, Женни и следующими словами: «Ну, будь здоров, дорогой Карл, и пиши сейчас же. С того времени, как мы расстались, я не был еще ни разу в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя...»
«..В полночь Карл снова принялся за не доконченную еще статью для газеты «Форвертс». Он решил дописать ее згой ночью.
Оценивая значение силезского восстания, он вспоминает поразительное по теоретической глубине сочинение немецкого портняжного подмастерья Вильгельма Вейтлинга, немало бродившего по Франции, Германии и другим странам.
— Конечно,— говорит Карл, когда Женни присаживается возле него на ручке кресла, прежде чем уйти спать,— изложение самоучки немца Вейтлинга уступает по форме блестящим формулировкам француза Прудона, но зато мысли и выводы его глубже. Оба пролетария — Прудон и Вейтлинг, — несомненно, самородки. В будущем именно рабочий класс даст миру величайшие умы.
Маркс перелистывает книгу Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» и продолжает говорить:
— Как ты знаешь, Вейтлинг — один из создателей «Союза справедливых». Он выступил ранее Кабе, Луи Влана и Прудона и стал социалистом. То, что «Союз справедливых» был разгромлен в тридцать девятом году, фактически только укрепило тех, кто действительно хочет борьбы и кто мыслит. Лучшие из членов этого союза снова принялись за дело и сплачиваются. Я вижусь со многими из них, перебравшимися в Париж. Вейтлинг руководит коммунистическим движением в Швейцарии. В Англии, где свобода союзов и собраний облегчает общение, находятся замечательные люди, полные революционной решимости, которой так не хватает многим из наших парижских союзников.
— Это те три настоящих человека, о которых с таким увлечением вспоминал Энгельс: часовщик, наборщик и сапожник? — спросила Женни.
— Именно. Судя по внушительному впечатлению, которое они произвели на Фреда, я жду от них многого. Итак, пролетариат уже дает нам сильные умы. Я этого ждал. Вейтлинг, как и Прудон, разбивает клевету буржуа насчет ничтожества плебса. Эти люди прокладывают дорогу своему классу. Великая миссия!
Прежде чем оставить мужа, Женни уводит его в соседнюю комнату, к постели их ребенка. На свете нет ничего прекраснее, нежели спокойно спящее, чуть улыбающееся дитя.
Отец и мать оба думают об этом. Но, в чепце и длинной, наглухо закрытой белоснежной рубахе, отчаянно размахивая руками, не издав при этом, однако, ни одного звука, вся олицетворенный укор и возмущение, поднимается с соседней кровати Ленхен. Карл и Женни поспешно на цыпочках пускаются в бегство, чуть не опрокинув столик, на котором стоят затемненная лампа, бутылочка с молоком и корзинка с чистыми пеленками.
Наконец тишина прочно окутывает дом. Обе Женни спят.
Карл снова в своем кресле у стола. Перо его с необычайной быстротой следует за мыслью и энергично покрывает вкривь и вкось одни за другим листы бумаги.
«Где у буржуазии,— пишет Маркс,— вместе с ее философами и учеными, найдется такое произведение об эмансипации буржуазии — о политической эмансипации, которое было бы подобно книге Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы»? Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы с этим беспримерным и блестящим литературным дебютом пемецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать немецкой Золушке в будущем фигуру атлета».
И, завершая это приветствие восходящему классу, Карл называет немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, английских рабочих — его экономистом, а французских — его политиком.
Долго еще пишет Маркс. Под утро, закончив статью для «Форвертса», Карл снова засел за начатый раньше ответ Бруно Бауэру, по плану, разработанному вместо с Энгельсом во время недавней их встречи. Фред уже закончил свои главы брошюры, Карл предполагал, что работа над его частью займет очень немного времени, но, вникая, по своему обыкновению, все глубже и глубже в тему, увлекся. Одно положение рождало последующее, и книга разрасталась вширь и вглубь, как все, над чем работала необъятная мысль Маркса.
Кроме того, первоначальный план обоих авторов написать небольшую брошюру нарушался и другими соображениями. Только книги более чем в двадцать печатных листов, считаясь научными, не подвергались строгой цензуре. Издатель Левенталь из Франкфурта-на-Майне согласился печатать труд Маркса и Энгельса только при условии, если они обойдут все цензурные преграды.
Учитывая это, Маркс написал около двадцати листов. С полутора, сделанными Энгельсом, получилась вместо брошюры большая книга, которую авторы вначале окрестили «Критика критической критики». Она была проникнута юмором, уничтожала смехом, навсегда развенчивая богемствующих болтунов Бауэров и их приверженцев.
Поединок с Бауэром был неизбежен. Он продолжал нападать в газетах на статьи Карла и Фридриха, вышедшие в «Немецко-французском ежегоднике».
Граф Яков Николаевич Толстой в арендованном им особняке неподалеку от улицы Ванно, в Сен-Жерменском предместье, писал обширное донесение в Петербург.
Взлохмаченный, небритый, в шелковом, на вате, шлафроке, сидел он на тахте, покрытой дорогим турецким ковром. Толстому было пятьдесят пять лет, но большое мятое лицо его с дряблым подбородком выглядело старческим.
— Так-то, Иван, - обратился он к своему камердинеру, крепостному лет шестидесяти. Ему он особенно доверял и возил его с собой еще с 1823 года, когда впервые, сославшись на болезнь, уехал за границу.— Гляжу на твою рожу и нахожу, что похож ты на луну и на яйцо всмятку. Итак, по сути, ты луна всмятку.
Старик слуга хихикнул, не то прикрыв смешком обиду и горечь, не то польщенный если не сравнением, то милостивым тоном барина.
— Впрочем, ты, Иван, то есть луна всмятку, не сетуй на меня. Я ведь тоже лицом более всего похож сейчас на эту самую небесную яичницу.
— Что вы, ваше сиятельство! — возмутился Иван.— Белую кость с черной сравняли!
— Мы ведь с тобой похожи,— продолжал Яков Николаевич, как бы не слыша,— может быть, почтенный батюшка согрешил с твоей матерью. Ведь Луша была долго в горничных при барыне. Мой папа, как и я, был большой демократ. Любил он черный хлебец и квас. Скажу тебе по секрету: женщины все одинаковы.
Камердинер подвинул к графу столик с зеркалом и многочисленными предметами туалета. Вошел парикмахер и принялся причесывать спутанную жидкую шевелюру графа и его бакенбарды.
Граф Яков Николаевич Толстой встал из-за стола надушенный и как бы с отутюженной физиономией. Иван подал ему выходной костюм — светлые брюки, бирюзовый, «в мушку», жилет и темно-коричневый редингот. Надев пальто и цилиндр, Яков Николаевич вдруг размашисто ударил лакея по втянутому животу.
— Ну, как твой, как ты его бишь зовешь, пищевар, все не варит?
— Так точно, ваше сиятельство, не варит,— печально и почтительно сказал крепостной, кланяясь.
— Мой тоже плох,— взяв трость и осматривая себя в зеркале, сказал Толстой.
— Все шутить изволите, ваше сиятельство. Вот только не изволили сказать, что ответить, когда мусье Бакунин пожалует в полдень.
— Придумай что-нибудь и проси зайти вечерком обязательно. Всем говори, что граф уехал в посольство, при котором состоит. Запомни хорошенько: именно так — граф отбыл к послу.
С неожиданной для своей внушительной комплекции и возраста почти юношеской легкостью граф Толстой сбежал с лестницы и уселся в карету. Но не в посольство поехал он, а в Булонский лес, где предстояло ему важное и секретное свидание. Развалясь на мягком сиденье в глубине кареты, он мгновенно перестал улыбаться. Лицо его резко изменилось. Губы сжались, и углы их опустились, образуя четкую и злую линию. Две суровые морщины залегли на скулах. Жестким и грубым было выражение небольших глаз под сморщенными веками. Сейчас граф отдыхал от постоянного притворства, которым наполнена была его жизнь.
Только мозг не давал ему покоя, рождая мысли, выбрасывая клочки досадных воспоминаний.
Париж давно стал ему ближе Петербурга. Как только в суровый зимний день на Сенатской площади отзвучали выстрелы и декабрьское восстание было разбито, Яков Николаевич, к тому времени уже два года живший в чужих землях, объявил, что не вернется на родину. Вместе с Тургеневым он стал первым русским политическим эмигрантом. Но шли годы. Николай I, лицемернейший из деспотов и самодуров, понравился Толстому. Графа терзала к тому же тоска по родине — болезнь, именуемая врачами ностальгией. Яков Толстой решил не покаянием, а делом доказать свою преданность новому царю. Он стал писать красноречиво и рьяно донос за доносом на всех, с кем сталкивала его судьба за рубежом. Третье отделение не осталось равнодушным к этому знатному добровольцу, которого все за границей считали невинной жертвой декабрьских дней. Но граф не довольствовался только агентурными донесениями. Он писал в парижских газетах панегирики Николаю I и его правлению. «Это достойный преемник великого Петра. Никогда Россия не была более могущественной державой!» — восклицал Толстой.
В 1837 году его услуги во славу царя и отечества должным образом оценили. Сам Бенкендорф поручился за благонадежность недавнего политического эмигранта. Граф Толстой вернулся на родину, предварительно передав Третьему отделению канцелярии его величества подробнейшие и хитроумные доносы на русских, доверившихся ему в Париже. Он предал всех, кто считал его другом, но зато отныне обрел поприще, на котором мог действовать с наибольшей выгодой для себя. Впрочем, он отождествлял свою выгоду с интересами государства.
В Петербурге Толстой был обласкан и назначен агентом Третьего отделения в Париже. Сначала его замаскировали званием корреспондента министерства народного просвещения, а с 1842 года, для большего удобства, причислили к русскому посольству.
Дом графа в Париже был гостеприимно открыт для всех русских, особенно числящихся неблагонадежными в списках жандармов. Не менее хлебосольно встречал Толстой иноплеменных эмигрантов. Чем больше выявляли они бунтарство духа и недовольство существующим строем, тем ласковей он принимал их.
Сейчас, откинувшись на бархатном сиденье, Яков Николаевич, все с тем же выражением бездушия и надменности в лице, думал: «Я служу государю верой и правдой. Мои предки, Толстые, всегда выводили крамолу без пощады и сантиментов. Легко идти в битву, имея врага перед собой. А вот когда он, как тигр в джунглях, прячется, сливается с окружающей природой, — отличи его! Выяви, уничтожь так, чтобы, умирая, он не догадался, откуда последовал смертельный удар. Вот искусство! Вот могущество! Каждый последующий век хитрее предыдущего. Я не рыцарь на турнире, чтобы звуками рога вызывать на состязание противника. Век прогресса требует иных методов. Враг-крамольник стал хитер, и с ним надо бороться его же методами. Все эти бунтари, революционеры надевают на панцирь маскарадный костюм. Я делаю то же. Кто из них предположит, что я, подозреваемый в соучастии в заговоре Пестеля и Рылеева, бывший политический эмигрант, потомок одного из старейших дворянских родов российских, бунтарь, приобрел доверие своего императора. А если заподозрят?»
Страх вползал, как мороз. Яков Николаевич старался успокоить себя: «Никто не заподозрит. Сам никогда не проболтаюсь об этом ни другу, ни слуге, ни женщине, а царь и Третье отделение не выдадут».
— Им невыгодно меня выдавать,— пробормотал Яков Николаевич, запахивая полы шубы.
Булонский лес стоял оголенный. По земле ветер гнал темные, съежившиеся листья, похожие на окурки сигар, которые курили редкие прохожие. Граф Толстой пошел по боковой аллее, где катались на превосходных арабских лошадях амазонки и какой-то худой, длинный, точно Дон-Кихот, англичанин. Маленький грум едва поспевал за своим господином.
Розовое октябрьское солнце пригревало. Яков Николаевич распахнул шубу. У небольшого закрытого киоска к графу подошел человек непримечательной наружности, в высоком цилиндре, и они, едва раскланявшись, пошли рядом, углубляясь в аллеи.
— Да ничего из ряда вон выходящего пока нет,— тихо говорил Яков Николаевич, зорко поглядывая по сторонам.— Русские баре в Париже швыряют деньгами, блудят и ругают российские порядки. Это, знаете, свойство Русского дворянина. Он всегда смутьян, а тронь его карман и посягни на землю — он орет караул, да и драться готов, как лев.
— Энергии в них непочатый край,— улыбнулся спутник графа.— Всем обильна Россия, но пока почти совсем еще не тронуты ее богатства... И люди ее — тоже покуда неразработанные россыпи... А как неуемный Мишель Бакунин?
— Сегодня рассчитываю увидеться. Да-с, это пороховой склад. Опаснейшая голова.
— Болтун!
— Э, нет, батенька, вы этого недоучившегося прапорщика не так поняли, хоть по должности своей обязаны быть великим психологом. С тысяча восемьсот сорокового года шатается он по Европе. Сначала набирался революционной ереси в Швейцарии, а теперь готовит крестовый поход на древние устои России. Велеречив и опасен. Ловчайший из демагогов.
— Много у нас теперь на Руси среди дворян развелось Маратов и Робеспьеров уездного масштаба,— скептически улыбнулся собеседник Якова Николаевича.
— Нет, я эту породу хорошо изучил и не ошибаюсь. Тут масштаб будет побольше, подлинно европейский. Ну, а насчет путаницы в идеях согласен: Бакунин превзойдет многих. Усидчивости в нем нет. Вот революционную фразеологию и демагогию он уже постиг изрядно. Неразборчив в знакомствах. Праздный человек, но дерзостно смел и энергичен.
Еще добрых полчаса, значительно понизив голоса и озираясь, они прохаживались по Булонскому лесу и разговаривали.
— Передайте в Петербург на словах,— говорил Толстой,— что живем мы здесь как на пороховом погребе. Наш посол Киселев — истинно кисель, не хочет вникать ни во что. Здесь нынче собрались революционеры со всего мира: наши, мятежные поляки, итальянская голытьба, премудрые немцы, неукротимые ирландцы, не говоря уж о якобинцах французских, которыми кишит Париж. Меттерних теперь всего лишь пышное чучело когда-то грозной птицы. Он ни на что более не годен. Вся надежда на нашего государя. Он, как Георгий Победоносец, раздавит дракона революции. В этом наша миссия. Но время не терпит. Если Петербург не поможет, то рухнут многие королевские троны, и революция чумой пройдет по всей Европе.
Граф вручил господину в высоком цилиндре запечатанный несколькими сургучными печатями пакет и быстрой, удивительно легкой походкой направился к карете, которая ждала его у выхода из Булонского леса возле аптеки.
Вечером у графа Якова Николаевича собралось несколько приглашенных.
— Что может быть дороже русскому сердцу, нежели встреча с земляками? — повторял на разные лады одну и ту же фразу Толстой, встречая на пороге гостиной соплеменников. На лице его застыло выражение благорасположения, бесхитростной простоты. Он тщательно подбирал углы губ, чтобы они не опускались в брюзгливом пренебрежении, и старался спрятать в нависших веках проницательные, злые глаза.
Первой прибыла тверская помещица Еланова, владелица двухсот душ, скучающая дама, печатавшая иногда нравоучительные рассказы в столичных журналах. С ней явился однофамилец хозяина, богатырь с виду, Григорий Михайлович Толстой, степной помещик, проживавший свое состояние на дорогих курортах и в столицах Европы. Пришло и еще несколько русских. Наконец Иван, обряженный в богатую новую ливрею, доложил о Михаиле Александровиче Бакунине.
В комнату вошел немного вразвалку широкоплечий, несколько тучный человек с самоуверенным дерзким взглядом небольших светло-голубых глаз, с лоснящейся от пота кожей на лице. Костюм его казался дурно разглаженным, а галстук под подбородком — недостаточно чистым.
— Скажите,— спросила помещица Еланова, манерно протягивая навстречу его губам длинную худую руку в белой перчатке до плеча (она считала, что руки ее прекрасны, неотразимы),— скажите, вы один из тех, кто ищет в дальних краях ответов на не разрешенные на родине вопросы? Как это интересно! «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой...» Я, знаете, обожаю вашего тезку — Лермонтова. Вы ведь Михаил? Но Мартынов мне был все-таки всегда милее Лермонтова — вежливый и хорош собой. Кстати, не ваш ли отец был тверским губернатором?
Тщетно Михаил Александрович Бакунин отрицательно качал головой, пытался что-то ответить Елановой и выбраться из угла гостиной, куда она его загнала.
— Ах, значит, нет? — продолжала наступать на Бакунина красноречивая писательница. — А прелестная Евдокия Михайловна Бакунина, фрейлина, художница, с которой я провела незабываемые три месяца в Италии, где она училась живописи, не ваша ли кузина? Нравится ли вам «Гибель Помпеи» Брюллова? Ведь это шедевр, не правда ли? Как хорош Везувий ночью и римские термы — в сумерки! Это зрелище, потрясающее душу. Мы переносимся на две тысячи лет назад. Я пишу об этом в «Москвитянин». Поезжайте в Италию. Для бунтаря, подобного вам, нет ничего лучшего, чем стать членом тайного общества. Ими кишат Милан, Неаполь, Рим. Там каждый лаццарони обязательно заговорщик, каждый...
Бакунин вдруг решительно отвел мелькавшие перед ним, как бы готовые охватить его руки и, пробормотав извинение, вырвался из западни госпожи Елановой.
Она, впрочем, нисколько не растерялась, не обиделась и мгновенно утопила в своем неумолкаемом словесном водопаде другого гостя. И снова ее руки, брошенные, как лассо, готовы были обвиться вокруг чьей-то шеи.
Хорошо изучив людей, граф Толстой любил обхаживать их, расположить к себе и добиться сокровенных признаний. Но никогда он не задавал прямых вопросов, не набрасывался на собеседника тотчас же, зная, что это настораживает жертву. Чем важнее для него была та или иная намеченная дичь, тем, казалось, безразличнее он к ней относился.
То, что граф переживал, сделавшись ловцом человеческих затаенных мыслей, было очень похоже на ощущение охотника. Толстого гнал вперед спортивный азарт. «Я точно игрок,— думал он иногда о себе,— не выгода подчас важнее для меня, а наслаждение самой игрой». Граф, к тому же, был тщеславен. «Выловить бы рыбу покрупнее, удивить Бенкендорфа»,— мечтал он. Чувство своего тайного могущества восхищало Якова Николаевича.
В этот вечер графа интересовал только Бакунин.
«Богема, простофиля, столь же умен, сколь и глуп»,— думал Толстой, согласно своему методу не обращая на него никакого внимания, кроме диктуемого долгом вежливости.
«Сам навяжется с разговорами»,— рассчитывал хозяин дома, переходя от гостя к гостю и поддерживая общий разговор. Слуги подали ужин. Все уселись за стол.
— Я увлекаюсь Герценом. Вы читали, конечно, его «Дилетантизм в науке»?— спрашивала госпожа Еланова отставного капитана с чудесно расчесанными, завитыми и надушенными бакенбардами.
— Превосходное сочинение! — подхватил граф Толстой.— Несомненно, Герцен и поэт Огарев — звезды первой величины на русском небосклоне. Я, правда, сними не согласен во многих политических воззрениях. Все это брожение молодости. Но свободу мыслей и взглядов ставлю превыше всего и уважаю в людях смелость искания истины и благородство устремлений. Сам шел в жизни тропинкой, усеянной терниями, объездил многие земли и увлекался всяческими утопиями, прежде чем понял, что людям нужен пастырь на земле, как нужна вера в пастыря на небесах.
Ужин окончился. За одним столом уселись игроки в карты. Еланова не отпускала от себя степного помещика Толстого, с которым оказалась в дальнем родстве; они тщательно перебрали несколько поколений своих родичей.
Бакунин нашел хозяина дома курящим в кабинете, примыкавшем к залу.
— Собираетесь ли вы наконец возвращаться в Россию? — спросил граф.— Ведь Бенкендорф шутить не любит. Насколько мне известно, еще в феврале вам предложено возвратиться на родину. Не делайте непоправимой ошибки, мой друг. Вернитесь. Я сам некогда, подобно вам, решил бросить пенаты и много раз потом жалел об этом. Послушайтесь старика и друга, вернитесь, пока не поздно, домой, там ждет вас...
— Каталажка, — прервал, усмехаясь, Бакунин.— Я ведь признан политически неблагонадежным. Но не это меня смущает. Я не из трусливых. Восстал — будь готов к тюрьме. Однако как раз теперь нахожу то, что искал,— революционную теорию и свой дальнейший путь. — Помолчав, Бакунин продолжал: — Вы знаете, Яков Николаевич, как долго кочевал я не только по разным странам Европы, но и в поисках самого себя, так сказать, своих идей. Интересно ли вам все это?
Толстой знал пристрастие Бакунина к многословию. Но разве не в словесной стихии вылавливал граф все то, что следовало сообщить в Петербург в секретном пакете за многими печатями и условной подписью под текстом?
— Говорите, говорите,— оживился Яков Николаевич и насторожился, как бы что-нибудь но упустить, не запамятовать.
«Ах, скорее бы изобрели какие-нибудь машины, которые поставишь этак под диван, а они и будут записывать все, что говорится вокруг»,— подумал граф. После пятидесяти лет агент Третьего отделения стал замечать, как резко ослабла его память.
А Михаил Александрович между тем пододвинул поближе к камину кресло, зажег пахитоску, затянулся и, приглушая голос, заговорил.
...Игра в гостиной увлекла картежников, а Еланова убеждала своего поклонника в том, что любить умеют только под небом Италии, куда им обоим и следует отправиться.
— Парижская осень способна убить романтику. Все так серо, так уныло... — И, переходя на сиплый шепот, Еланова начала декламировать монолог гётевской Миньоны:
Знаешь ли чудный край. Где все радость сулит, Где все манит, зовет, О любви говорит...Михаил Александрович Бакунин рассказывал графу Якову Толстому о кружке Станкевича, этого ученейшего, откликавшегося на все значительное в окружающем мире юноши, кружке, в котором спорили «до петухов» о назначении человека, о смысле жизни, о божестве.
— До этого я был не более чем не закончивший школу прапорщиков, к горести семьи моей, никчемнейший дворянский сын, без должных средств к жизни, без папенькиного наследства... Я зачитывался «Перепиской Гёте с ребенком» писательницы Беттины фон Арним и в ней впервые почерпнул мысли, которые сами не рождались еще в моей голове. Этой книге я обязан пробуждением. Она, подобно электрической искре, поджегшей дерево, вызвала пожар.
— Странно, — процедил Яков Николаевич,— я никогда не чувствовал ничего подобного. Может быть, мне помешало знакомство с автором, дамой весьма мнящей о себе и ума хоть и хорошего, но не превосходного.
— Для меня она муза, вдохновившая гения,— мечтательно ответил Бакунин.— В тридцать пятом году мы все изучали «Критику чистого разума» Канта, а затем принялись штудировать Фихте. Я искал бога, мучительно искал его. И что же? Отверг все и пришел к воинственному отрицанию. Я жаждал верить, но понял, что не постигаю абстракцию, а то, что доступно мне, пусто. Пантеизм не помог мне обрести божество. Природа мертва и обречена. И богом стал для меня человек.
Толстой слушал, не шевелясь и ничем но выдавая своего отношения к сказанному.
— Цель жизни, предмет истинной любви,— продолжал, ожидая его реплики, Бакунин,— был бог, которого я нашел в человечестве. Мой бог возвышается соответственно возвышению и улучшению человека. Вам понятно, граф?
— Еще бы! — слегка насупился Толстой, понимая, что слышит опасную ересь, которую надо запомнить.
Бакунин встал и уже громко, широко раскидывая руки, как бы ораторствуя с кафедры, заявил:
— Нет прав, нет обязанностей, есть лишь общечеловеческая любовь. Всякая обязанность всегда исключает любовь и ведет к преступлению, к бесчестью.
— Темно что-то у вас получается, — разочарованно промямлил Яков Николаевич. — Я сам философствовал немало, но жизнь опрокинула все эти мудрствования.
Из соседней гостиной, привлеченные громким и патетическим голосом Бакунина, вошли в кабинет остальные гости. Михаил Александрович почувствовал себя польщенным (он любил всегда быть в центре внимания) и продолжал:
— У меня неттайн, господа. Но вряд ли Гегель, который был моим кумиром в юности, может заинтересовать нас, русских людей.
— Что вы? Да ведь в России премудро-невнятные книги сего мужа науки стали почти что святыней.
— Все существующее разумно, — совсем уж некстати вставила Еланова, желая показать, что она кое-что знает о написанном сумрачным берлинским профессором.
— Я читал вашу статью, господин Бакунин, кажется, в позапрошлом году, о положении дел в Германии. Она печаталась в журнале, издаваемом этим неуемным Арнольдом Руге. Отличное произведение! — сказал один из гостей Толстого.
— Да это было давно! — махнул рукой Бакунин. — С тех пор я брожу по свету. То Дрезден, то Берлин, то Цюрих...
— Вы, кажется, сошлись там с Вейтлингом? Говорят, он этакий юркий, кривоногий портняжка,— улыбнулся граф Толстой.
В это время несколько слуг во главе с Иваном вошли с подносами, уставленными фруктами, сладостями и винами. Гости заметно оживились.
— Да,— ответил графу уже совсем иным тоном, тише и значительнее, Бакунин, — от вас у меня нет тайн. Вы столько раз помогали мне, бездомному искателю истины...
— Ну что еще за счеты! Я очень рад и еще помочь. Сам был молод и рыскал за истиной. Прехитрая это штучка, оборотень!
— Вильгельм Вейтлинг с виду потомок Нибелунгов, и душа его необъятная.
— Неужели не уродец? Я слышал — чахлый, сутулый, как и положено подмастерью. Я что-то не верю в героев из плебса.
— Ошиблись, Яков Николаевич. Вильгельм — красавец. Душой это Спартак. Знаете ли вы, что значит здравый смысл и чистый ум пролетария, взявшего от патриция знание и культуру? Да это силища, равной которой не найдешь. Античный герой!
— Так вот где нашли вы богов, которых тщетно искали! — язвительно заметил граф.— Среди всякого сброда, вроде немецких коммунистов, толпящихся вокруг демагога Вейтлинга. Впрочем, я не хочу мешать вам спотыкаться. В этом залог того, что вы выберетесь из трясины. Ваше здоровье! — Толстой чокнулся с Бакуниным, несколько растерявшимся от такого заявления хозяина дома.
— О, я знаю, вы кремень, Яков Николаевич. Старый александровский вояка, друг декабристов...
— И вот сейчас я на чужбине. Россия для меня нетерпима, хотя я и верен своему царю... Кстати, после возвращения из Бельгии вы, кажется, виделись и с Прудоном? Это что же, второй из братьев Аяксов?
— Да, в какой-то степени Вейтлинг и Прудон — братья по духу и целям. Один — француз с немецкой головой, другой — немец, пропитанный французской культурой. Оба неподкупны, красноречивы и бодры, хотя живут в лишениях, которые испытывают все рабочие. Никто и ничто не может оторвать их от родной среды.
— От разрушительных идей коммунизма,— уточнил Толстой.
— Но, знаете, граф, кто помог мне своими трудами разобраться и подчинил меня железной логике мыслей, поразил необъятностью знаний, цельностью характера, смелостью дерзаний, несокрушимостью воли? Это немецкий ученый и революционер — доктор Карл Маркс. По правде сказать, он не слишком мне симпатичен как человек, мы разные люди, но я преклоняюсь перед ним как мыслителем.
Толстой сказал с деланным равнодушием:
— Я о Карле Марксе слышал. Это, пожалуй, сейчас самая видная фигура на темном фоне грядущих восстаний рабочих. Громовержец плебса. Но чем же он пленил вас, дворянина и славянина?
Бакунин начал перечислять достоинства Маркса, который, по его словам, создавал впервые в истории цельную социально-политическую систему. Ему, Марксу, признался Бакунин, он обязан тем, что теперь меньше мечется в поисках истины, а смело идет по социалистическому пути. Карл Маркс направил его запутавшуюся мысль к материалистической философии.
Толстой поднялся с кресла и тяжело опустил большую холеную руку на плечо собеседника.
— Скажите, жена этого седьмого чуда, кажется, баронесса? Ее брат чуть ли не прусский министр. Но они, говорят, не богаты. В наше время рабочий мессия обречен на голодное существование.
— Некий Юнг, друг Маркса из Кёльна, недавно прислал ему тысячу франков, чем спас семью от множества лишений и дал возможность писать новые труды... Статьи в газетах нынче оплачиваются недорого, — доверчиво сообщил Бакунин.
— Жаль, жаль, что доктор Маркс не знает себе цены. Такая голова пригодилась бы в каждом государстве. Но он несговорчив. Сейчас неподкупность у нас называется принципиальностью. Я встречал Маркса несколько раз и впервые еще в Берлине, как-то в ресторане. Давно это было. Он уже тогда показался мне необычным студентом, начиненным порохом. Дай ему волю, первым делом освободил бы крестьян в России и установил у нас республику.
— Я на четыре года старше Маркса, а не понял и десятой доли того, что для него является аксиомой,— сказал Бакунин.
— Мне хотелось бы повидать этого самого Маркса. Люблю по старой памяти потренировать мозг, очень уж обрюзг я за последние годы.
— Извольте. В зале «Валентино» соберутся лучшие умы времени — Маркс, Прудон, например. По правде сказать, Прудон мне больше по душе, чем этот мудрец с Рейна. Я люблю ведь галлов.
— Заезжайте за мной, голубчик. Поедем вместе. И но стесняйтесь, дружок, ежели в чем нуждаетесь. Род Толстых и род Бакуниных древни суть и славны. И не забудьте про Маркса.
Незадолго до этого Яков Николаевич отправил в Третье отделение в Петербург один экземпляр сдвоенного номера «Немецко-французского ежегодника», вышедшего под редакцией Арнольда Руге и Карла Маркса. Он доносил, что издание Руге и Маркса заполнено «гнусным подстрекательством и опорочением всего, что достойно самого высокого уважения: ничему нет пощады, пет для этих людей ничего святого».
Было около одиннадцати часов вечера, когда Бакунин покинул обширный и всегда столь гостеприимный дом Толстого. Парижане готовились ко сну. Мелкие торговцы, ремесленники, рабочие, начинавшие свой трудовой день с рассвета, жаждали отдыха и сна. В ночные часы Париж торговал развлечениями, женщинами, вином. Для богачей, жаждущих веселья, для иностранцев всю ночь оставались открытыми кафешантаны, игорные залы. Не спали также бездомные, которых было так много в столице, слонявшиеся по сырым, неуютным в эту пору бульварам, и воры, ищущие возможности поживиться.
Мишель прошел по тихим улицам Сен-Жерменского предместья, где за жалюзи и атласными или шерстяными шторами едва мерцали огни. Он очутился на улице Ванно и, проходя мимо узкого черного дома номер тридцать восемь, вспомнил, что тут живут Руге и Маркс. Невольно возник в памяти давешний разговор о Марксе с графом. Какое-то неуловимое чувство недовольства собой поднялось в душе Бакунина. Зачем разоткровенничался он, как неопытный отрок, перед этим хитрым вельможей, о котором ходят дурные слухи? Но Бакунин не любил тревожиться поздними сожалениями. К тому же он был высокого мнения о своей персоне, это помогало ему всегда чувствовать себя правым. Поразмыслив, он твердо решил, что держался разумно, и с удовольствием вспоминал сытный ужин и лесть Толстого. Но Маркс... Мишель снова почувствовал недовольство собой. Гигант, перед которым он часто испытывал робость, внушал ему необъяснимую враждебность. В чем же дело? Бакунин отбросил мысль о зависти. Нет, он выше этого недостойного чувства. Ведь именно Карл всегда к нему был так внимателен и терпелив. Карл помог ему разобраться в самом себе, а это подчас важнее всего в жизни. Определив свой путь, Бакунин лучше понял окружающее. И вместе с тем Карл все же был чем-то чужд Бакунину.
Трудно было найти натуры более противоположные. Все в Карле — в его деятельности, в его мышлении — было последовательно, гармонично и собранно. И все было противоречиво, поверхностно и разбросанно в Бакунине, точно не было какого-то стержня в его жизни и характере.
Тщетно пытался Бакунин работать планомерно и упорно. Всегда что-то ему мешало и отвлекало отдела. Успокаивая себя, он называл трудолюбие и прилежание педантизмом. В работе, любви и дружбе он быстро загорался и быстро остывал. Его тяготили всякие узы, даже тогда, когда они были ему полезны.
Одинокий, склонный то к преувеличенному восхищению, то к поспешному разочарованию, всегда многоречивый, порывистый, но слабовольный, он любил бесцельные прогулки, сутолоку городских улиц, разговоры и споры далеко за полночь. Способный, легко схватывающий и развивающий чужую мысль, переменчивого нрава, он искренне думал, что готов на самые трудные подвиги, но в то же время как-то сникал, падал духом, когда жизнь ставила перед ним очередные препятствия. Бакунин всегда метался. Марксу же всегда не хватало времени и претили пустозвонные слова.
Оставив позади улицу Ванно, Бакунин но пошел на этот раз за миловидной девушкой, как-то по-кошачьи приблизившейся и на мгновение прижавшейся к нему с нежным мурлыканием:
— Пойдем со мной, дорогой. Я не дам тебе скучать до утра.
Не зашел он и в кафе, чтобы выпить еще бокал крепкого вина.
По бульварам он добрался до темной улицы, где в убогом доме снимал комнату. Старуха консьержка, брюзжа, вышла на его стук, но скоро подобрела, узнав жильца, который часто внимательно выслушивал ее жалобы и охотно помогал то советом, то деньгами, когда имел их сам.
Зайдя в маленькую комнату, Бакунин зажег лампу, снял шарф, который казался ему весь вечер петлей на шее, и, издав довольное «уф!», сбросил сюртук, затем пододвинул шаткий столик, снял с него и переставил на подоконник не вымытую с утра чашку из-под кофе, тарелку с объедками и стопку книг. Затем принялся писать размашистым почерком:
«Редко можно встретить человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как Маркс. Исключительным предметом его занятий является наука экономическая. С особым тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других положительностью познаний и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и отличающихся строгою критикою и смелостью выводов. Но ко всему этому господин Маркс прибавляет еще диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля...»
«Когда-нибудь допишу эту характеристику»,— подумал Бакунин, отложив написанное. Он закурил, подошел к зеркалу... Его круглое, чуть потное лицо и сильная фигура производили приятное впечатление. Он представил себе, как будет выглядеть на баррикаде, конечно в качестве командира революционных повстанцев. Получалось внушительно. И, посмеявшись над собой, он лег в постель, сбросив на пол одежду и обувь.
Утром его разбудила консьержка. Курьер передал господину Бакунину приглашение явиться немедленно к секретарю русского посольства в Париже. В тот же день он узнал, что суд в Петербурге приговорил его за революционную деятельность, направленную на свержение царского строя в России, и за отказ вернуться на родину к лишению дворянства и к каторжным работам.
Глава вторая Скитания
- Я хочу напомнить тебе, Карл, одну мысль, а быть может, ты вспомнишь и ее автора,— сказала Женни, чуточку сощурив свои огромные, всегда готовые улыбнуться карие глаза.— «Невежество — это демоническая сила, а мы опасаемся, что она послужит причиной еще многих трагедий. Недаром величайшие греческие поэты в потрясающих драмах из жизни царских домов Микен и Фив изображают невежество в виде трагического рока». Как хорошо это сказано, правда?
— Дорогая,— не без удивления ответил Маркс,— как ты сумела запомнить дословно целый абзац из моей передовицы в «Рейнской газете»? Я даже не знал, что ты ее читала. Это написано, когда мы были в разлуке.
Женни пожала плечами и шутливо поклонилась:
— Все, что пишет Карл Маркс, к вашему сведению, я знаю так же хорошо, как и он сам.
— Спасибо, а то меня иногда тяготит мысль, что, читая тебе все написанное, я утомляю и эксплуатирую твою доброту и терпение.
— Никогда не говори этого, милый. Чем больше я узнаю тебя, тем больше люблю. И кажется подчас, что сильнее нельзя уже любить, как нельзя углубить твою мысль. Но твой мозг находит еще и еще что-то новое, а мое сердце ширится, чтоб любить тебя еще крепче и еще полнее...
Карл молча сжал тонкую руку жены, затем наклонился и поцеловал нежные маленькие пальцы. Всю жизнь, с ранних лет, он любил одну эту женщину и в любви к ней Узнал подлинное счастье. Тщетно пытался бы он вспомнить день, когда увидел ее впервые. Это было в Трире. Карл был еще ребенком, шаловливым фантазером. Четыре года разницы в летах между Женни и Карлом больше сказывались в детстве и не имели для них теперь никакого значения. Только в отрочестве, покончив с проказами, Карл, поглощенный книгами и мыслями, впервые поднял глаза на прекрасную девушку. Красавица Женни поразила его воображение, столь пылкое и творческое; она была самой прекрасной из всех принцесс и фей его детских сказок, которыми он так пленял своих сестренок.
Как хороша была юная Женни! Стройная, с гордо откинутой головой, обрамленной каштановыми локонами, с искрящимися глазами, нежным овалом лица, маленьким, чуть пухлым ртом... Но и сейчас не менее прекрасна жена Маркса. Величественная красота ее напоминает античных богинь. Тот же гладкий лоб, смелый разлет темных бровей и строгий, ровный нос. Был ли день в его жизни, когда этот образ не волновал его, не жил в нем?
Он отгоняет досадные воспоминания, когда хмель юности и полной независимости одурманил его. Сколько раз корил его за траты и ненужную удаль отец. Совсем другим стал Карл, полюбив Женни. Они ждали друг друга семь лет.
— Единственная, любимая,— говорит Карл и снова почтительно и нежно целует ее пальцы.
— Не правда ли,- Карл, сколько бед и преступлений исчезнет на земле, когда миллионы людей приобщатся к знаниям.
— Ты не учла, мой друг, что невежество — орудие, которым умело пользуются тысячи привилегированных. Не так-то легко было Прометею похитить огонь у богов и отдать его народу. Но есть еще иного сорта невежество. Его мы можем наблюдать даже вблизи своей квартиры.
— Руге и его компания,— подсказала Женни.
— Да, филистер всегда в конце концов обнаружит душу лавочника и готов торговать всем, даже своими ошибками, если на них найдется спрос. То же и с Бауэрами, Рутенбергом. Много их встречалось на нашем пути. Это все политические пустоцветы!
Карл и Женни собирались в этот вечер пойти в зал небольшого ресторана, где намечалась встреча немецких изгнанников, живших в Париже. Был канун рождества. Во всех парижских газетах литераторы соревновались в рождественских рассказах. Они умилили сердца читателей красочными описаниями страданий мальчиков и девочек, продающих в холодную ночь спички у витрин лавок, уставленных яствами, или на пороге церкви, сентиментально рассказывали о бездомных старухах и преступниках, раскаявшихся в своих преступлениях.
Нищие клянчили на углах улиц и прятались в подворотнях, завидя полицейского.
— Прудон, пожалуй, прав, когда утверждает, что, подавая милостыню, мы тем самым потворствуем распространению попрошайничества,— сказала Женни, доставая из муфты кошелек.— Но трудно удержаться, чтобы не помочь.
В витринах, освещенных изнутри ярче обычного, лежали розовые поросята в нарядных воротничках из белой бумаги, вырезанной наподобие накрахмаленных кружев. Телячьи ножки, обвитые бумажными лентами, кровавые куски мяса и множество тушек кур, гусей, дичи должны были поразить воображение прохожих, усилить их аппетит и привести к прилавку. В цветочных магазинах господа в цилиндрах выбирали бутоньерки в петлицы фраков и сюртуков. Молодые люди старались вспомнить любимые цветы своих невест. Если нет того, что нужно, они подбирали хотя бы цвет, который в этот сезон объявила своим их избранница.
— У вас нет белых роз? Какая досада! Тогда дайте мне белую азалию.
Продавщица лукаво смеется.
— Дама вашего сердца, — говорит она игриво,— вероятно, брюнетка, если носит белые платья.
— Белый цвет к лицу и блондинкам. Все зависит от оттенка кожи,— смущенно отвечает молодой человек.
В больших вазах стоят наготове букеты. Как и поросята в витринах магазинов на центральных улицах столицы, цветы, крепко стянутые лентами, ненатурально торчат из широких круглых узорчатых бумажных воротничков. Чтобы головки цветов — роз, азалий, гвоздик, тубероз — не никли, их безжалостно проткнули и укрепили на проволоке, которой в букете не меньше, чем вянущих стеблей. Такова новая мода. Букеты отлично подходят к зашнурованным твердым корсажам с китовым Усом под подкладкой, к юбкам с металлическими обручами, придуманными закройщиками и портными больших и малых торговых фирм. Эти фирмы, невидимые и всесильные, управляют женщинами и мужчинами, определяя их вкусы, желания, толкают подчас на безумные траты.
В одном из цветочных магазинов Маркс увидел в корзине букетики фиалок, привезенных, очевидно, из Ниццы. Он купил цветы. На улице, как и в магазине, все засматривались на красавицу Женни. И Маркс гордился тем, что его жена так хороша собой.
«Цветущая акация»,— вспомнил он сравнение, которое подобрал ей в юности.
Но Женни как бы не замечает вызываемого ее внешностью восхищения.
— Как жаль, что наша девочка еще не может играть в мячик или в куклы. Я не могу дождаться, когда она вырастет,— говорит Женни, охваченная обычным материнским нетерпением.
— Девочка все отлично понимает,-—возражает Карл.— Мы купим ей медведя и назовем его Атта-Тролль. Гейне будет польщен. Мищка как-то солиднее, нежели кукла.
...Маркс жил в Париже немногим больше года. Это было чрезвычайно плодотворное для него время. Множество новых впечатлений, открытий в области философии и экономики, интересные знакомства с Гейне, Гервегом, полемика с противником, оттачивающая оружие бойца, сближение с французскими и немецкими пролетариями и, главное, начало дружбы с Энгельсом особой метой выделили 1844 год. Карл мог не без удовлетворения подвести теперь итоги. После отъезда Фридриха в Бармен он напряженно писал ответ Бруно Бауэру.
Маркс выработал свое особое мироощущение и видение. Если бы сферой его изучения были физика, химия или медицина, он, подобно гениальным естествоиспытателям; пришел бы к величайшим открытиям. Но он избрал другой путь, мечтая сделать наибольшее число людей счастливыми.
В 1844 году Маркс уже твердо знал, где наибольшее число несчастных на земле и кто они. Философия поразила его своей оторванностью от жизни. Он стал изучать политическую историю человечества и особо занялся первой французской революцией, экономикой прошлого и настоящего. Все таинственное становилось для него более ясным, доступным, послушным его несокрушимой логике и уму.
— Это был обогащающий, хороший год, — сказал Карл Женни, глядя на веселые елки в витринах магазинов, знаменующие приближение Нового года.
В зале ресторана было многолюдно и шумно. Члены певческого общества, рабочие и ремесленники — итальянцы, поляки и французы, решили провести с немцами праздничный вечер.
Сигизмунд Красоцкий пришел одним из первых, но Пьетро Диверолли и Кабьен задержались у Стока, который торопясь пришивал пуговицы к их стареньким пиджакам. В это время Женевьева гладила тщательно выстиранные блузы мужа и его товарищей. Много хлопот доставила им всем чистка изрядно поношенной обуви. Маленький Иоганн с любопытством рассматривал чепец матери, который она доставала из сундука не более раза в год. Он был убран яркими искусственными цветами, какие Женевьева любила мастерить в свободные часы. Наконец сборы были окончены, и Сток с женой отправились с улицы Вожирар в зал «Валентино», расположенный неподалеку от центра города.
Оркестр уже играл бравурный вальс, когда в зал вошли несколько рабочих с семьями и Карл с Женни. Женщины грациозно сбросили огромные кашемировые шали и теплые капоры или чепцы. При желтоватом свете газовых рожков все лица казались моложе и красивее. Карл отдал шубку Женни вместе со своим пальто и цилиндром капельдинеру из немецких эмигрантов, который, как старого знакомого, весело приветствовал его:
— Добро пожаловать, доктор Маркс. Я с большим удовлетворением прочитал вашу статью о наших доблестных силезских борцах.
Карл поблагодарил старика и хотел о чем-то спросить, но в это время к нему бросился худощавый, стройный молодой человек. Это был редактор «Форвертса» Бернайс. Его подвижное вдохновенное лицо отражало сейчас беспокойство. Он казался крайне озабоченным.
— Я получил важные и вполне достоверные сведения,— сказал он Карлу.— Как хорошо, что я могу поговорить об этом с вами. Наша газета накануне полного разгрома. Дорогой Маркс, обсудим, как мы будем держаться. Ведь судьба «Форвертса» — наша с вами судьба.
Попросив Женни обождать его в соседнем зале, Карл с Бернайсом прошли из вестибюля в буфет.
Все второе полугодие газета «Форвертс» выступала со статьями против королевской власти в Берлине, не щади самого Фридриха-Вильгельма IV. Король этот, занявший четыре года назад престол, открыто покровительствовал теперь помещичьему юнкерству — опасной и тупой силе, стремившейся объединить все германские княжества под эгидой реакционной прусской империи.
Бернайс в своих статьях жестоко громил приверженцев правительства, этих, по его мнению, христианско-германских простаков в Берлине, которые, поддерживая короля, предрешали исход наступления, начатого мракобесами-дворянами. Вместе с Бернайсом на немецкие порядки ополчился и Генрих Гейне. Его полные сарказма стихи в газете зло высмеивали «нового Александра Македонского», как прозвал он Фридриха-Вильгельма.
Бессильное что-либо сделать в чужой стране с немцами-смутьянами, королевское правительство грозило им всякими карами.
Первого апреля 1844 года за статью в «Немецко-французском ежегоднике» Карл Маркс был обвинен в государственной измене, и в Берлине был издан приказ о его аресте в случае перехода прусской границы. Королевское министерство требовало от французского премьера Гизо расправы с сотрудниками «Форвертса». Господин Гизо пытался отмолчаться. При всей своей реакционности он был весьма образованным человеком, умелым и осторожным политиком. Опасения, что его многочисленные враги, если он расправится с газетой, объявят его прислужником прусского короля, известного всем деспота и самодура, побуждали Гизо долго не принимать требуемых из Берлина мер. У Гизо было твердое правило — не торопиться и выжидать.
А «Форвертс» продолжал наступать на реакцию, подняв забрало. Король и королева прусские все чаще приходили в ярость. Стрелы газеты попадали в цель.
Между прусским правительством и Гизо участилась секретная переписка. Прусский посол фон Арним, элегантнейший и желаннейший гость всех парижских салонов, на одном из блестящих балов долго и убедительно доказывал Гизо необходимость защиты престижа прусской короны и прусской политики от немецких плебеев, приютившихся в Париже. Изысканно одетый и выхоленный аристократ был достаточно умен, чтобы не обращаться письменно к французскому правительству. Сам исписавший множество листов бумаги, посол отлично знал, чего стоит автограф. А высказанное устно всегда можно отрицать. Он забыл, однако, что история имеет длинные и чуткие уши. Фон Арним просил французского премьера и министра иностранных дел Гизо наказать сотрудников газеты должным образом, Но разговор этот не остался тайной.
— Я уверен,— сказал усталым голосом Гизо, провожая взглядом придворную даму,— что ваше естественное возмущение этой газетой не может относиться также и к поэту Генриху Гейне. Вся образованная Европа венчает его лаврами. Я сам, признаюсь, неизменный почитатель его чудесной лиры. Два стихотворения, превосходные, как все, что подсказывает Гейне его муза, не должны бы обидеть короля и королеву. Поэты — это дети, то капризные, то злые, но всегда прекрасные. Кто же серьезно обижается на проказы детей? Не правда ли, господин посол?
— Господин Гейне больнее всего жалит своим пером. Он напечатал одиннадцать, а не две сатиры на прусскую политику и на его величество короля.
— Поэты — пчелы,— твердо сказал Гизо.— Они, может быть, и жалят, но, перелетая с цветка на цветок, дают нам нектар, мед. Кто же обидится на пчел? Два или одиннадцать стихотворений — не важно, если они плод высокого вдохновения. Не будем столь педантичны и придирчивы к любимцам богов. К тому же, как мне сообщили, Генрих Гейне вряд ли является членом редакции газеты, столь досадившей вам и прусской короне.
— Я сам люблю поэзию и не раз оказывал услуги бесшабашному Гейне. Не считайте меня варваром. Но что касается этой скверной газетки и ее сотрудников, они, поверьте, не заслуживают никакого снисхождения.
— Вопрос о закрытии газеты и высылке ее сотрудников предрешен правительством, уверяю вас.
Гизо и фон Арним занялись бургундскими винами, разлитыми в нежные, будто радуга, бокалы баккара.
Маркс и Бернайс договорились о том, что не отступят от взятой линии и не пойдут на попятную, как бы им ни угрожали.
Они вернулись из буфета в низкий, квадратный зал. На больших окнах и дверях висели шерстяные гардины, перетянутые золотыми шнурами, стены были увешаны скверно выполненными батальными картинами и портретами царствующей Орлеанской династии.
Проходя по залу, Карл увидел Бакунина. Жестикулируя и встряхивая пышной гривой волос, он о чем-то пылко и громко спорил с несколькими русскими. Один из них был Яков Толстой, который, заметив Маркса, тотчас же направился к нему вместе с Бакуниным.
— Я восхищен глубиной вашего ума,— говорил он густым басом.— Статьи «К еврейскому вопросу» и особенно, конечно, «К критике гегелевской философии права» превосходно корчуют старые пни. Да-с, кто из нас, русских, не болел гегелианским умопомрачением. И вы, немецкий ученый, революционер, вслед за Фейербахом приходите, чтобы вернуть людям их головы.
Карл внимательно смотрел на барина в светло-зеленом рединготе с золотыми пуговицами, в узеньких, готовых лопнуть при поклоне, сиреневых, в клетку, брюках.
Русские, кроме Бакунина, поражали богатством своих нарядов, острым ароматом духов и роскошными прическами. Волосы графа были разделены пробором и тщательно уложены мелкими локонами. Двое других русских, одетые в светлые рединготы с накрахмаленными торчащими бантами, завили волосы волнообразно, закрыв ими уши. Их бакенбарды спускались до подбородка.
Не менее бросались в глаза и русские барыни в огромных пестрых шалях из индийского кашемира, наброшенных поверх широчайших тафтовых платьев. Перстни, браслеты и броши подчеркивали богатство. Госпожа Еланова смотрела на Маркса, приподняв золотой лорнет, нисколько не скрывая того, что он внушает ей столько же страха, сколько и почтения.
— Какое счастье, что революции теперь вышли из моды. Я где-то уже видела эту голову. Ах да! В Риме, в Сикстинской капелле. Там потолок работы Микеланджело. Среди облаков — Саваоф, — не приглушая голоса, говорила она красавцу Григорию Михайловичу Толстому.— Этот ваш Маркс — истинный Саваоф. Взгляд его такой, точно он видит все насквозь,— повторила Еланова, задержав Бакунина.
Но Бакунин, едва поклонившись словоохотливой помещице, отошел к Марксу.
— Послушайте, Маркс,— сказал он и порывисто взял Карла за руку,— я хочу сказать, что считаю вас совершенно правым в споре с Руге. Честность суждений прежде всего. И хотя ваш противник не раз защищал меня в словесных и газетных схватках, я не могу кривить душой. Вы правы. Вы, а не ои.
— Рад, очень рад, — живо отозвался Карл.
Но граф Толстой бесцеремонно отодвинул Бакунина и попытался снова начать беседу с Марксом.
— Я, знаете, понимаю ваше отвращение к крепостничеству. Должен вам сказать, что сам ненавижу рабовладельчество и дал клятву, что перед смертью... — начал он, но осекся.
В это время Маркса окружило несколько человек. Первым из подошедших был неустрашимый революционер, друг Бюхнера и Бланки — портной Иоганн Сток, с болезненным изможденным лицом и седой головой.
За ним шел Пьер-Жозеф Прудон. Бакунин приветствовал их широким жестом руки.
— Прудон! — взвизгнула госпожа Еланова,— Да он не похож на плебея. Если его получше одеть, он мог бы заседать в палате пэров.
— Он всегда вполне прилично одет,— сказал степной помещик.
— Но мне известно точно,— вмешался граф Толстой,— что господин Прудон сознательно обрекает себя на всяческие лишения, живет в жалкой каморке под крышей. Я был у него и застал пишущим на подоконнике. Сегодня он явился в костюме мелкого буржуа, а при моем знакомстве с ним был одет в заплатанные брюки, шерстяную фуфайку и башмаки на деревянной подошве. Он ведет жизнь самого ограниченного в средствах пролетария, каким, впрочем, и является по рождению.
— Ну, это уже поза,— сказал кто-то из русских.
— Нет, убеждение, но я уверен, что ему это надоест,— закончил Толстой, наблюдая за Марксом, который в обществе Стока, Прудона и Бернайса прошел в соседнюю комнату.
Через несколько минут Бернайс вернулся в главный зал и с эстрады попросил всех собравшихся усесться. Без особой сутолоки и шума на добротных старых стульях разместились почти все пришедшие.
Вслед за Бернайсом на эстраду вышел Прудон. Он выглядел моложе своих тридцати пяти лет. Светлые, очень мягкие волосы беспорядочно падали на его гладкий большой лоб. Маленькие очки в металлической оправе не скрывали небольших близоруких глаз, как-то рассеянно смотревших на мир. Бакенбарды обрамляли овальное тонкое лицо с четко вырисованным, упрямо сжатым ртом и небольшим носом. Чистокровный бургундец, он внешне очень походил на немца, и только порывистые движения, жестикуляция и торопливая темпераментная речь обнаруживали в нем француза.
Прудон говорил горячо, но туманно об экономических противоречиях, о грядущей революции, о коммунизме. Слова его, многочисленные цитаты, которыми он обильно пересыпал речь, казались убедительными в тот момент, когда произносились, но тут же рассеивались, исчезали, как мыльные пузыри. В них не было последовательности мысли.
— Немецкая голова у этого француза, да вся беда, что путаная,— сказал Иоганн Сток руководителю общества немецких изгнанников врачу Герману Эвербеку.
Женни, внимательно вслушиваясь в речь Прудона, думала: «Его мысли — бусинки, не собранные на нить». Вдруг она почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Это было всегда, когда на трибуне появлялся Карл. Как ни была она уверена в каждом слове, которое он скажет, ей не удавалось преодолеть волнение.
Маркс вышел вперед. В зале наступила тишина ожидания. Даже русские, усевшись поближе к эстраде, перестали перешептываться.
За год пребывания в Париже Маркс стал одним безмерно дорог, другим — страшен. Единственно, чего он не внушал к себе — это безразличия.
Едва Карл произнес несколько фраз, Женни — вся внимание, напряжение, любовь — уже поняла, о чем он решил говорить. Это был рассказ о новых выводах, сделанных им в последние, месяцы. Он жил ими и тогда, когда писал статью для «Форвертса». Он как бы дорабатывал и проверял снова и снова то, что так волновало его, рождая новые думы.
Маркс раскрыл различие между освободительным движением буржуазии и пролетариата. Он не раз задумывался над тем, кто же возглавил революцию 1789 года во Франции. Лионские фабриканты, к которым примкнули зажиточные интеллигенты и ученые — Бриссо, Кондорсе, великий физик Лавуазье, инспектор мануфактур Роллан и его жена, дочь ювелира,— все они были бесправны, несмотря на богатство, образование, и рвались к политической власти не вследствие нужды.
Богачам из третьего сословия стало невыносимо презрение аристократической Франции, преграждавшей им дорогу к власти.
Но движущей силой революции всегда был народ, голодавший и лишенный всяких прав. Он постоянно боролся за кусок хлеба, за топливо, за работу.
Буржуазия корыстно использовала восстания масс в своей борьбе с феодалами и дворянами. Революционная энергия принесла ей политическое могущество. Но всегда, захватив власть, буржуазия предавала своих союзников— трудовой люд и, присвоив себе все плоды победы, начинала борьбу против ремесленников, рабочих, крестьян. Труженики, рабочие воздвигали баррикады, вооружаясь топорами, если не было иного оружия, — камнями. Победа или поражение народа определяли судьбы революции. Перед мысленным взором Карла проходили хорошо знакомые ему картины нищеты и лишений лионских текстильщиков, английских рабочих, не имевших права на человеческую жизнь. Вот что толкало их на восстания, на бунт. Глубоко различны причины и цели революций буржуазных и пролетарских.
Пролетарий должен стать человеком, гражданином, несмотря на сопротивление тех, кто поставил его в нечеловеческие условия. Маркс говорил о том, какая жестокая борьба ждет бойца-пролетария, и предрекал ему неизбежную полную победу.
Иоганн Сток не мог более усидеть на стуле. Он, как зачарованный, продвинулся к кафедре.
Когда Маркс сошел с трибуны, к нему протянулось несколько рук. И эти объятия, и особенно глаза, смотревшие с любовью и доверием, были самым большим вознаграждением за его труд.
— Ты не только мыслитель. Ты человек!— сказал Марксу Сток.
Марксу жали руку революционеры, рабочие из Италии, Польши и Франции. Морщился Прудон, но и он понимал значение речи Маркса.
Помещик Григорий Михайлович Толстой, утирая слезы от избытка восхищения, протиснулся к Карлу, обнял его и сказал, коверкая французские слова:
— Клянусь перед людьми и своей совестью, — вернусь домой, построю крестьянам школу и больницу, превращу их в людей. Доктор Маркс, едем со мной в Россию, умоляю вас, прошу. Едем, друг!..
До самого Нового года Маркс не отрываясь работал над «Критикой критической критики». Случалось, он не ложился спать по нескольку ночей. Это был подлинный творческий полет. Лицо Карла желтело, но он не чувствовал усталости. Огромное перенапряжение проявлялось только в большей вспыльчивости, которую, впрочем, легко гасила Женни.
В новом своем труде он вел не только пылкий теоретический спор и опровергал Бруно Бауэра и его единомышленников. Карл как бы вернулся мыслью назад. Разве не был он сам некогда гегельянцем, не шел в одном строю с Бруно в поисках философской истины? Как далеко ушел он вперед с тех пор, когда в день смерти профессора Ганса в гостеприимном домике Бауэров в Шарлоттенбурге усомнился в том, чему ранее верил.
Как и всегда, Карл, разрушая, творил и, низвергая, создавал. Глубокие, прекрасные по изложению откровения заполняли страницы. Болтовне Бруно Бауэра о французском материализме и французской революции Маркс противопоставил блестящий анализ этих исторических явлений. Бруно Бауэр доказывал противоположность между духом и массой, различие между идеей и интересом.
«Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса»,— писал Маркс.— ...Интерес буржуазии в революции 1789 г., далекий от того, чтобы быть «неудачным», все «выиграл» и имел «действительный успех», как бы впоследствии ни рассеялся дым «пафоса» и как бы ни увяли «энтузиастические» цветы, которыми он украсил свою колыбель. Этот интерес был так могущественен, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, шпагу Наполеона, равно как и католицизм и чистокровность рода Бурбонов».
Бруно Бауэр заявлял, что государство соединяет воедино «атомы» гражданского общества. Маркс опроверг и это положение.
«Только политическое суеверие способно еще воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь, между тем как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство».
В ответ на презрительные замечания Бруно о значении промышленности и природы для исторического познания Маркс спрашивал: полагает ли критическая критика, что она подошла хотя бы к самому началу познания, исключая из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, промышленности, естествознанию?
«Подобно тому,— писал Карл о критической критике,— как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самое от мира, точно так же она отрывает историю от естествознания и промышленности, усматривая материнское лоно истории не в грубо-материальном производстве на земле, а в туманных облачных образованиях на небе».
Поздней ночью Маркс закончил первый совместный с Энгельсом труд.
Он снова перечел написанное Энгельсом начало брошюры и с особым удовольствием остановился на сверкающем умом и сарказмом абзаце:
«Критика только то и делает,— писал Фридрих,— что «образует себе формулы из категорий существующего», а именно — из существующей гегелевской философии и существующих социальных устремлений. Формулы — и ничего более, кроме формул. И несмотря на все ее нападки на догматизм, она сама себя осуждает на догматизм, мало того—на догматизм женский. Она является и остается старой бабой; она — увядшая и вдовствующая гегелевская философия, которая подрумянивает и наряжает свое высохшее До отвратительнейшей абстракции тело и с вожделением высматривает все уголки Германии в поисках жениха».
Закончив чтение рукописи, Карл написал имена авторов. На первое место он поставил имя друга, на второе — свое.
Затем свернул сигаретку из легкого табака и закурил с явным удовольствием. Карл отдыхал, испытывая приятное сознание доведенного до конца дела. Впереди было столько непочатой работы, столько новых замыслов и целей...
В эти дни Гизо исполнил обещание, данное прусскому правительству, 16 января 1845 года Карл Маркс получил предписание покинуть пределы Франции. Генрих Бернштейн избавился от высылки, дав обязательство прекратить издание «Форвертса», Арнольд Руге остался в Париже после того, как упросил саксонского посланника вступиться за него и доказал свою лояльность к Пруссии. Генриха Гейне спасло покровительство Гизо, поклонявшегося его таланту. Маркс не шел ни на какие отступления от своих принципов и решил переехать в Брюссель.
Вечером накануне отъезда в квартире Маркса собрались наиболее близкие его друзья. Эмма Гервег пришла первой. На другой день Женни должна была с ребенком переселиться к ней на несколько дней до своего отъезда вслед за мужем в Брюссель.
В квартире было уже неуютно и неустроенно. Исчезли вазы с цветами, салфеточки, добротные, привезенные из Трира гардины. На кроватке маленькой Женнихен не было тюлевого полога с розовыми бантами. На стол кое-как собрали скромный ужин. Эмма осмотрелась вокруг, всплеснула руками, поднесла к глазам батистовый, в кружевных прошивках, дорогой платочек и обняла Женни.
— Дорогая, я так боялась за Георга. К счастью, он но ввязался в эти дела. Мне, впрочем, кажется, что ему тоже хотелось бы быть высланным. Это ведь доказательство сопротивления, борьбы. Но Георг и без того опальный поэт, Всего лишь два года назад нас выгнали из Швейцарии. Ах, поэту всегда хочется сильных ощущений! Гервег столько же трибун, сколько и лирик. К тому же он не может себе представить жизнь в Париже без Карла.
Все еще продолжая говорить, Эмма взяла на руки крошку Женни. Она прижала ее к груди, покрывала пушистую головку поцелуями, приговаривая при этом ласковые словечки, затем снова озабоченно повернулась к Женни.
— В наше время все лучшие люди стали вынужденными бродягами и кочуют из страны в страну,— сказала Эмма.
Появление Георга и затем Гейне помешало ей продолжать.
Генрих Гейне резко изменился за последнее время, Он с трудом передвигал не сгибающиеся в коленях ноги. Болезнь медленно убивала его. Лицо Гейне было зеленовато-бледным и слегка перекошенным. Веки то и дело непроизвольно смыкались, закрывая глубоко запавшие темные глаза. Седая борода удлиняла исхудавшее страдальческое лицо. Он едва владел бессильно свисающей левой рукой. Трудно было поверить, что всего несколько лет назад Гейне, как и Гервег, обладал привлекательной наружностью и славился своей стремительной живостью.
Одет был Гейне но последней моде, щеголевато. Он всячески стремился скрыть свою немощь и физические муки. Отъезд Маркса глубоко огорчал поэта, и он, всегда любивший шутки, на этот раз был молчалив и печален.
Вскоре вернулся и Карл. Он принес билет на поезд в Брюссель. Разговор долго шел вокруг предстоящего путешествия.
— До Брюсселя четырнадцать часов езды,— сказал Карл. Он обвязывал веревкой корзину с уложенными вещами.
— Это в лучшем случае, а то проедете и все двадцать часов,— вмешался Гервег, мрачно взиравший на опустошенную комнату, на сборы в дорогу.
Он закурил сигару, уселся в кресло и казался еще бледнее и подавленнее, чем обычно.
— Медленно развивается железнодорожный транспорт в Европе, а ведь это истинное благодеяние для человека. Вряд ли во всей Франции мы имеем более трех тысяч километров железнодорожных путей,— сказал он.
Генрих Гейне раскупорил бутылку дорогого вина и предложил распить его за здоровье присутствующих и за счастливое будущее.
Когда все выпили, Гейне, сощурив и без того узкие глаза и улыбаясь одним пухлым женственным ртом, снова наполнил бокалы и сказал:
- Да сгинут тираны, филистеры, отщепенцы!
— Предлагаю тост за то, чтобы мечта стала действительностью! — провозгласил Гервег. Он вскочил с кресла и с неожиданной горячностью принялся чокаться.
Когда вино было распито, Генрих Гейне прошел в другую комнату, приблизился к кроватке маленькой Женни и наклонился над ней. Ленхен, обычно отгонявшая от колыбельки посторонних, чтобы девочку не заразили чем-либо, милостиво ему улыбнулась. Это была привилегия Гейне. Однажды, когда у малютки Женни начались сильные судороги, угрожавшие ее жизни, поэт, случайно пришедший к Марксу, спас ее, сам приготовив ей ванну. Растерявшиеся, полные отчаяния родители были поражены, с какой быстротой и ловкостью выкупал, а затем нянчил Генрих Гейне их дочурку. Ванна прекратила судороги, и к маленькой Женни вернулось здоровье.
После прощального ужина у Георга разболелась голова, и Эмма стала уговаривать его уйти пораньше домой.
— Он так хрупок, так впечатлителен. Высылка Карла повергает его в отчаяние,— говорила она, завязывая ленты капора.— До завтра, дорогая Женни.
Гервег крепко обнял Карла.
— Я приеду к тебе, если иначе мы не сможем свидеться,— сказал он.
Проводив Гервегов, Карл, Женни и Гейне уселись за стол. Речь зашла о Руге.
— Я могу перефразировать Солона,— сказал Гейне.— Мудрец говорит: «Пока человек живет, остерегайтесь называть его счастливым». Покуда жив Арнольд, остерегайтесь называть его честным человеком. Обождите, ему остается еще достаточно времени для будущих гадостей. Он уже пробует упражняться в них ради последующего совершенства.
Все рассмеялись.
— Мне хотелось бы узнать от вас о госпоже Жорж Санд,— заговорила Женни,— ведь вы близко знакомы и даже дружны с ней. Сейчас я снова перечитала «Индиану» и «Консуэло». Она очень талантлива, хотя и низводит иногда тему своих произведений до одной только любви, к тому же вне времени, вне обстоятельств. И все требует и требует для нее законной свободы...
Гейне провел рукой по мягким длинным волосам, посмотрел на Женни и сказал небрежно:
— Что ж, она дама, уже начавшая быть немолодой. Но всегда она умна и талантлива. Шопен, с которым она теперь не расстается, несомненно, даровитейший пианист-виртуоз, обаятельнейший человек. Но он очень болен, горячо переживает невзгоды своей родины — Польши, и ему нелегко из-за неспокойного характера возлюбленной.
— Жорж Санд, очевидно, любит музыку. Лист ведь тоже был долгое время ее другом,— заметила Женни.
— Да, но графиня д’Агу поссорила их. Аврора Дюдеван — не понимаю, зачем скрылась она под мужским псевдонимом Жорж Санд,— мечется в поисках истины. Она находит ее в музыке. Разве музыка не лишена противоречий, столь терзающих нас? В звуках нет глупости и желания слыть умным. Мы, каждый на свой лад, находим в них все, что хотим, и становимся от этого лучше, одухотвореннее.
— Жорж Санд — самая смелая женщина и в жизни и в творчестве,— сказала убежденно Женни.— Мне нравится ее смуглое лицо с глубокими черными глазами, смотрящими на мир внимательно, понимающе, но не без грусти.
— Есть от чего взгрустнуть, когда разглядываешь человечество,— сказал Генрих, отбросив обычную насмешку.
Поздно в этот последний вечер распрощались Женни и Карл с Гейне.
— Из всех, с кем мне приходится расстаться, разлука с вами, Генрих, для меня тяжелее всего. Я охотно увез бы вас с собой,— сказал Маркс, обняв в последний раз Гейне.
...Третьего февраля на рассвете Маркс уехал в Брюссель. Женни осталась у Гервегов, чтобы продать мебель и часть белья, полученного в приданое. Нужны были деньги на переезд и устройство в незнакомом городе. Желая поскорее выехать из Парижа к мужу, Женни продала все за бесценок, и средств у нее оказалось совсем мало. К тому же она захворала. Не оправившись окончательно от болезни, несмотря на уговоры Эммы остаться, Женни покинула ставший ей чужим и неприятным город. В наемной карете Гервеги отвезли ее с ребенком на вокзал.
С грустью смотрела Женни сквозь грязное окно кареты на Париж, где провела немало счастливых часов. Подскакивая на неровной булыжной мостовой, карета, запряженная неуклюжим першероном, проезжала но знакомым оживленным улицам. Гервег читал ей стихи о прекрасной Лютеции — праматери Парижа — и восторгался химерами Нотр-Дам. Эмма советовала прикрыть личико малютки Женнихен в поезде вуалью.
— Там так грязно, и дым валит из трубы локомотива, точно из кратера Везувия. В вагоне нет никаких удобств. Это великое достижение века пара — прообраз ада,— говорила она, все время что-то перекладывая.— Я предпочитаю почтовые кареты и особенно езду на перекладных. Какая романтика, какие виды, воздух! Георгу с его слабым горлом нельзя ездить по железной дороге. Это годится лишь для здоровых и бедных.
— Вот именно,— улыбнулась Женни,— ее строят рабочие, пусть она им и служит.
— Эмма, отдаешь ли ты себе отчет в том, что говоришь? — возмутился Георг.
— Право, когда столько забот и беспокойства, сколько у меня, легко запутаться и сказать глупость,— примиряюще ответила Эмма.
Подъехали к вокзалу, похожему на огромный уродливый сарай, отгороженный забором. Носильщики вынесли вещи на деревянный настил перрона. Неистово грохоча и дымя, небольшой локомотив с огромной трубой подтащил несколько узких, похожих на ящики вагонов.
Гервег закашлялся от зловонного дыма, и Эмма оттащила его прочь. Пассажиры кинулись к дверям и в страшной сутолоке занимали жесткие скамьи, бросая на них вещи. Едва Женни с ребенком и Елена с множеством корзин и баулов разместились, послышались резкие звонки, предупреждающие об отправке поезда. Локомотив снова отчаянно завыл и окутал вагоны бурой пеленой дыма. Тщетно Женни пыталась за этой завесой еще раз увидеть друзей, стоявших на платформе. Вагоны вздрогнули, наклонились, точно готовые сорваться в пропасть, и двинулись по рельсам.
Две женщины, очевидно богатые лавочницы, осенили себя крестным знамением. Католический священник вытащил четки из кармана коричневой сутаны и принялся читать молитвы.
— Доедем ли живыми? Это ведь опасный способ передвижения?— спросил старичок в рединготе до колен, испуганно поглядывая в окно.— Тут и не выскочишь! Этакая бесовская прыть!
Какая-то дама почувствовала дурноту. Ее укачало, и, открыв окно, она высунулась, страдая, как от морской болезни. Но обе лавочницы заснули, громко захрапев.
В конце вагона расплакался ребенок, и тотчас же проснулась малютка Женнихен. Мать взяла ее на руки, чтобы Ленхен могла достать большую светло-желтую корзину с провизией. Завтрак был сервирован на шляпной коробке. С необыкновенной ловкостью Ленхен накрыла ее белой салфеткой и поставила тарелки с тонко нарезанной, точно лепестки роз, ветчиной, с охотничьими, похожими на сигары, сосисками и швейцарским сыром, на котором выступили «слезы». Хлеб и домашнее печенье дополняли трапезу. Нельзя было устоять против соблазна, и Женни принялась за еду, к великому удовольствию Ленхен, которая была тщеславна, когда дело касалось ее кулинарных и домоводческих талантов.
На границе таможенные чиновники проверили вещи, п поезд двинулся по бельгийской земле. Женни не находила в окружающем какого-либо отличия от Франции. Разве только в том, что на остановках местные жители говорили на французском и на фламандском языках. За окном вагона то появлялись, то исчезали перелески, поля и холмы. Хмурое небо, моросящий дождик, переходящий на лету в тающий снег, были такими же, как и на улице Ванно. Встречавшиеся по пути вокзалы, похожие на сараи,— все это было точь-в-точь такое же, как и за условной чертой, называемой границей.
...Поезд запаздывал. Карл долго ждал на вокзале прибытия хрипящего локомотива и грязных шатких вагончиков. Наконец поезд пришел, и Карл обнял жену и дочь. Прошло несколько недель, как Женни и Карл не были вместе, но им обоим казалось, что тоска друг по другу дошла до предела.
«В трудные дни надо быть вместе»,— думала Женни. Теперь, когда они встретились, беспокойство Женни о будущем кончилось, все казалось легким и преодолимым.
— Лабрюйер пишет,— сказала Женни, когда они двинулись с вокзала,— что любовь — это огонь, а разлука— ветер. Большое чувство разгорается под его воздействием, а маленькое — гаснет, не выдерживая испытания.
— Милая, неужели в тебе все еще живут сомнения? Наша любовь давно прошла все испытания и вышла из них несокрушимой и вечной.
Женни пожала ему молча руку. Она с интересом смотрела на незнакомый город. Он поражал множеством готических, рвущихся ввысь строений, храмов, остроконечными крышами, узкими, но, не в пример Парижу, чинными улицами и многочисленными площадями, украшенными статуями и фонтанами. Тут чувствовалась иная культура— фламандская.
— Страна купцов. Спокойная буржуазная монархия, о которой тщетно, восседая на вулкане, мечтает Луи-Филипп в Париже.
Когда Женни вошла в тщательно прибранную меблированную квартиру в отеле «Буа Соваж» на тихой улице Плен-Сант-Седюль и немного отдохнула от утомительного путешествия, Карл рассказал ей том, что произошло с ним тотчас же по приезде в Брюссель. Его вызвали в ведомство общественной безопасности, где встретили самым учтивым образом. Разговор был коротким.
— Если вы, господин Карл Маркс, желаете с семьей проживать в королевской столице Бельгии, будьте любезны дать нам письменное обязательство не печатать ни единой строки о текущей бельгийской политике.
Маркс невольно облегченно вздохнул и добродушно улыбнулся. Такого рода обязательство он мог дать не кривя душой. У него не было ни малейшего намерения заниматься таким вопросом.
— Охотно подпишу и ручаюсь, что выполню обязательство,— сказал он и быстро поставил свою подпись на заготовленном к его приходу документе.
Так открылась следующая страница его жизни.
В Брюсселе познакомилась Жепни с поэтом Фрейлигратом. Он пришел к Марксу в морозный февральский день, тотчас же после ее приезда из Парижа.
Маленькая Женни громко смеялась, сидя на высоком, огороженном со всех сторон деревянными перекладинами стуле. Девочка была очень мила в новом платьице, украшенном оборочками и кружевцами. Чепчик на темной головке заканчивался лентами, подвязанными под круглым с ямочкой подбородком. Ленхен разложила на столах и этажерках накрахмаленные салфеточки, расставила безделушки — и скромные меблированные комнаты отеля «Буа Соваж» преобразились.
Услышав голос вернувшегося домой Карла, Женни вышла в соседнюю комнату.
Карл был не один. Он представил жене пришедшего с ним невысокого мужчину.
— Вот это Фердинанд Фрейлиграт, поэт, демократ, неукротимый обличитель мракобесия и обвинитель реакционного пруссачества.
— Автор «Свободы» и «Памятника». Отличные стихотворения,— заметила Женни, всматриваясь в усталое незнакомое лицо.
Фрейлиграту было уже за тридцать. Скитания последних лет, разочарование в прежних идеалах чистого романтизма, возмущение господствующей в мире несправедливостью наложили отпечаток горечи и недоверия не только на его душу, но и на бледное, слегка припухшее лицо с широкой бородой. Беспорядочно рассыпавшиеся волосы падали на плечи.
Период политического нейтралитета кончился для Фрейлиграта. Мечтатель, презиравший тенденцию в литературе, тосковавший по отвлеченному искусству, он столкнулся с суровой и бурной действительностью и содрогнулся, видя, как страдали люди, как беспросветна была жизпь большинства из них.
Стихи о прошлом, неясные и волнующие, как соловьиные трели, преклонение перед легендой и песней, которые дали ему королевскую пенсию в триста талеров, поэт считал теперь презренным отступничеством. Изгнание Гервега, репрессии против живой мысли и слова усилили его возмущение. Он отказался от подачки короля, покинул Германию, издал новый цикл революционных стихов— свой «Символ веры».
Знакомство с Фрейлигратом было очень приятно Карлу. Ему нравилась его открытая, простая и мужественная Душа.
К концу февраля еще одно событие оживило и обрадовало Маркса. Вышла в свет книга его и Энгельса против Бруно Бауэра. Впрочем, Карл уже жил иными мыслями.
В эти дни Фридрих прислал ему большое письмо, которое писал в течение нескольких дней в форме дневника:
«Дорогой Маркс!
Наконец, после длительной переписки, я только что получил из Кёльна твой адрес и сейчас же сажусь тебе писать. Как только пришло известие о твоей высылке, я счел необходимым тотчас же открыть подписку, чтобы по-коммунистически распределить между всеми нами твои непредвиденные расходы в связи с высылкой. Дело пошло хорошо, и недели три назад я послал свыше 50 талеров Юнгу; я написал также дюссельдорфцам, которые собрали столько же, а в Вестфалии поручил агитировать в этом направлении Гессу... Я надеюсь, однако, через несколько дней получить все деньги, и тогда я тебе вышлю вексель в Брюссель. Так как я не знаю, хватит ли этих денег, чтобы ты мог устроиться в Брюсселе, то, само собой разумеется, я с величайшим удовольствием предоставлю в твое распоряжение свой гонорар за первую английскую работу, который я скоро получу хотя бы частично и без которого я в данный момент могу обойтись, так как займу у своего старика. Эти собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что причинили тебе своей подлостью денежные затруднения. Верх мерзости, что тебя заставили еще заплатить за квартиру вперед. Боюсь, впрочем, что тебя не оставят в покое и в Бельгии и что тебе придется, в конце концов, переехать в Англию.
...Здесь, в Эльберфельде, происходят чудеса. Вчера в самом большом зале, в лучшем ресторане города, у нас было третье коммунистическое собрание. На первом — 40 человек, на втором — 130, на третьем — 200 — самое меньшее. Весь Эльберфельд и Бармен, начиная с денежной аристократии и кончая мелкими лавочниками, был представлен, за исключением только пролетариата. Гесс выступил с докладом. Читали стихотворения Мюллера, Пютмана и отрывки из Шелли, а также статью о существующих коммунистических колониях... Успех колоссальный. Коммунизм является главной темой разговоров, и каждый день приносит нам новых приверженцев. Вуппертальский коммунизм стал действительностью и почти уже силой. Ты не можешь себе представить, насколько почва здесь благоприятна для этого. Самая тупая, самая ленивая, самая филистерская публика, которая ничем в мире не интересовалась, начинает прямо восторгаться коммунизмом. Как долго еще все это будут терпеть, я не знаю. Полиция, во всяком случае, в большом затруднении: она сама не знает, что ей делать, а главная скотина, ландрат, как раз теперь в Берлине. Но если наши собрания и запретят, мы обойдем запрет, а если не удастся, то мы, во всяком случае, уже настолько всех расшевелили, что все литературные произведения в нашем духе читаются здесь нарасхват...
26 февраля
Вчера утром обер-бургомистр запретил г-же Обермейер предоставлять свое помещение для подобных собрании, а я был уведомлен, что если, несмотря на ото запрещение, собрание все же состоится, то последует арест и привлечение к суду. Мы, конечно, в настоящий момент от собрания отказались и ждем, привлекут ли нас к суду, что, впрочем, мало вероятно, так как мы были достаточно хитры, чтобы не давать им для этого никакого повода, и вся эта ерунда может кончиться только величайшим позором для властей. К тому же на собраниях присутствовали прокуроры и все члены окружного суда, а обер-прокурор сам принимал участие в дискуссии.
7 марта
С того времени, как я написал предыдущие строки, я провел неделю в Бонне и Кёльне. Кёльнцам разрешено теперь провести собрание по поводу союза. По нашему эльберфельдскому делу пришло распоряжение окружного управления из Дюссельдорфа, согласно которому запрещаются дальнейшие собрания...
«Критическая критика» все еще не получена! Новое название — «Святое семейство» — еще больше поссорит меня с моим благочестивым и без того уже сильно раздраженным стариком. Ты, конечно, не мог этого знать. Как видно из объявления, ты мое имя поставил первым. Почему? Я ведь почти ничего... не написал, и все ведь узнают твой стиль.
Напиши мне сейчас же, нужны ли тебе еще деньги. Виганд недели через две должен выслать мне кое-что, и тогда ты сможешь располагать этим. Я боюсь, что по подписке поступит дополнительно не более 120–150 франков...
Твой Ф. Э.»
В мае Карл снял маленький домик на улице Альянс, номер пять-семь, недалеко от ворот Сен-Лувен. Примечателен был домохозяин, добродушный пожилой врач Брейер, который стал часто посещать и лечить всю семью Маркса. Он был сторонником учения о витализме, заявлял, что длительность жизни человека определена от рождения, и верил в чудодейственную силу кровопускания. Приходя к больному, доктор Брейер иногда вытаскивал из кармана острый скальпель, завернутый в фуляровый платок, чем крайне пугал пациентов, особенно женщин. Он был очень красноречив, когда доказывал, что болезнь есть следствие дурной крови, и Маркс не раз отступал перед ним и разрешал вскрывать вену на руке.
Однажды, когда Ленхен и Женни были особенно заняты хозяйством, раздался энергичный стук молотком по входной двери. Не снимая фартука и поправляя на ходу прическу, Женни пошла открывать.
— Могу ли я видеть Карла Маркса? — спросил молодой человек с улыбающимся, удивительно располагающим лицом.— Я Энгельс.
Женни Маркс живо протянула ему руку.
— Прошу вас, мы очень рады, Карл и я.
— Значит, вы жена доктора Маркса? Я так много слышал о вас лестного. К сожалению, когда я встречался с Карлом в Париже, вы были в отъезде.
— Да, я была тогда в Трире.
Молодые люди улыбнулись и сразу почувствовали взаимную симпатию.
— Карл, Карл, приехал наконец наш друг! Иди скорее сюда!
Карл и Фридрих горячо обнялись. После обеда Женин, разливая кофе, спросила:
— Скажите, Энгельс, как могло случиться, что, не зная лично Карла, вы в ранней юности написали стихи о себе и о нем как о двух соратниках? Они звучат как предвидение. Не правда ли?
— Да, я всегда искал такого друга, как Карл...
— Мне хотелось бы услышать вновь стихи Освальда— Фридриха, в которых он чудесным образом предвосхитил наш сегодняшний день,— настойчиво повторила Женни.
— Прочти, пожалуйста, — присоединился к жене Карл.
И Фридрих, смеясь, начал вспоминать свое стихотворение, написанное несколько лет тому назад.
А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца И в чьей груди насквозь проперченное сердце, Тот длинноногий кто? То Освальд-монтаньяр! Всегда он и везде непримирим и яр. Он виртуоз в одном: в игре на гильотине, И лишь к единственной привержен каватине, К той именно, где есть всего один рефрен: Formez vos bataillons! aux armes, citoyens!..[2] Кто мчится вслед за ним, как ураган степной? То Трира черный сын с неистовой душой. Он не идет,— бежит, пег, катится лавиной. Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный, А руки он простер взволнованно вперед, Как бы желая вниз обрушить неба свод.— Отлично!— зааплодировала Женни.
— Нет,— тихо ответил Фридрих,— эти вирши я писал давно, когда был еще очень молод.
— Но вам теперь только двадцать пять,— весело рассмеялась Женни.
— А Марксу двадцать семь,— сказал Энгельс.
— Вы и по годам идете рядом, как и следует друзьям!
Дверь отворилась. В комнату деловым, энергичным шагом вошла девушка с корзиной в руке, в белоснежном чепце, надетом поверх высоко зачесанных волос. Лицо ее поражало свежестью, светлые глаза — чистотой. Такому румянцу и алым губам могла позавидовать любая парижанка.
Вошедшая недоверчиво и немного исподлобья, строго испытующе посмотрела на Энгельса и остановилась в нерешительности.
— Знакомьтесь, Фридрих. Это наш добрый гений, божок домоводства... — начала Женни.
— И диктатор,— пошутил Карл.
— Елена Демут. Моя мать, у которой Ленхен жила с девятилетнего возраста, прислала ее нам, лишив себя лучшего сокровища, которое было в ее доме.
— Что вы это говорите,— смутилась Елена и несколько неуклюже поклонилась Фридриху.
Их глаза, одинаково смелые и правдивые, встретились. Выражение лица Елены несколько смягчилось, но, казалось, она но хотела поддаваться очарованию ума и простоты, исходившему от молодого человека, и снова немного нахмурилась. Она была осторожна и недоверчива. Трудное детство, бедность в деревне, где росла Елена, приучили ее внимательно и долго приглядываться к незнакомым людям и сдерживать свои чувства.
— Ленхен — друг всех наших друзей, надеюсь, она отныне будет другом и тобе, Фридрих,— сказал Карл, Улыбаясь.
Когда вскоре Ленхен вышла, Женни снова заговорила о ней:
— Право, не знаю, что бы я делала без этой преданной подруги. У нее руки кудесницы. Она все умеет! шить, стряпать, нянчить Женнихен и находить выход из самого безысходного тупика, в который нас часто заводит безденежье и, главное, моя бесталанность в ведении хозяйства.
— Добавь, что Ленхен нередко обыгрывает меня в шахматы. Удивительно, как проницательно добра и природно умна эта девушка. Ей только двадцать два года, У нее, бесспорно, не только большое сердце, но и глубокий ум,— сказал Карл.
Фридрих Энгельс приехал в Брюссель чрезвычайно увлеченный Людвигом Фейербахом и много рассказывал о нем Карлу.
— Как я тебе уже писал,— говорил Фридрих,— Фейербах ответил на наше общее письмо к нему, Я уверен, он неизбежно придет вскоре к коммунизму и станет нашим соратником.
Карл с сомнением покачал головой.
— Фейербах неоспоримо прав, когда объявляет абсолютный дух отжившим духом теологии, Верно и то, что «Сущность христианства» осветила многие головы и спасла их от путаницы и мрака. Мы от всей души приветствовали его в феврале прошлого года, хотя не все у него приемлемо. Ты знаешь, я писал об этом в «Немецко-французском ежегоднике».., Но будет ли он борцом? Это ведь созерцательный ум, к тому же жизнь в глуши делает его все более вялым, безразличным. Увы, Фейербах не хочет понять, что человек существо общественное и всегда зависит от данной среды и условий. Он воспринимает человека исключительно биологически. В этом его великое заблуждение. Природа природой, но не уйти нам в этом мире и от политики. Рядом с энтузиастами природы должны стать энтузиасты государства, хочет или не хочет этого Фейербах.
Помолчав и подумав, Энгельс ответил:
— Фейербах подверг жестокой проверке гегелевскую философию природы и религии, ты вскрываешь и исследуешь философию права и государства.
— Что же ты хочешь? Чтобы я досказал то, о чем умалчивает этот смелый и могучий мыслитель? — иронически спросил Маркс.
— Да, тебе это по плечу. Но потому, что у Фейербаха, согласно его же словам,— ответил Фридрих,— есть движение, порыв, кровь, я все же верю, что он станет, рано или поздно, в наши ряды. Пока же в своем письме он говорит, что еще не покончил с религией, а без этого не может прийти к коммунизму. И все же по натуре он коммунист. Будем надеяться, что летом он, несмотря на свое отвращение к городу и столичной сутолоке, приедет из своей баварской Аркадии к нам в Брюссель п мы поможем ему преодолеть сомнения.
— Конечно, конечно,— подтвердил Карл, любуясь уверенностью и оживлением свежего лица и гибкими красивыми движениями ходившего по комнате Энгельса.
...Людвиг Фейербах много лет подряд жил в Брукберге, в красивейшем уголке Баварии. Угрюмый, замкнутый, он любил сельское уединение, созерцание природы, одинокие прогулки по безлюдным долинам и холмам. Природа, утверждал он, обогащает его ум и душу, открывает тайны жизни и подсказывает ответы на кажущиеся неразрешимыми вопросы. «Город — это тюрьма для мыслителя»,— любил повторять Фейербах слова Галилея и спорил с теми, кто звал его к людям. Он объявлял, что в одиночестве и тишине черпает силы для борьбы. Но борцом он не был и уклонялся от действия. Пассивный характер Фейербаха отражался и на его книгах. Он любил размышлять, но не призывал к борьбе и протесту.
Вскоре после выхода «Святого семейства» один из видных чинов австрийской тайной полиции в Вене передал для ознакомления Меттерниху объемистый пакет, пришедший от сотрудника влиятельной газеты «Альгемайне цайтунг».
Австрийский канцлер сидел за столом в темном мундире и через лорнет просматривал бумаги. Старость безжалостно разрушила этого некогда столь могучего хищника.
Легкий слой румян и пудры еще более подчеркивал потухший взор глубоко запавших мутных глаз, мертвенно-желтые, сморщенные, острые уши и отвислый подбородок. Грозный оплот мировой реакции походил теперь на жалкую одряхлевшую рысь, не имеющую больше сил ринуться за добычей.
Но Меттерних не оставлял еще политической борьбы. Он не хотел замечать сложившейся помимо его воли враждебной обстановки. С тем же бешенством бессилия, с каким он бежал прочь от сотен зеркал своего дворца, отражавших с жестокой точностью его обезображенное временем лицо, он отворачивался теперь и от политического барометра, указывавшего на приближение бури.
Дряблой, в перстнях, рукой Меттерних отложил новенькую, терпко пахнущую типографской краской книгу, на заглавном листе которой прочел имена авторов: Фр. Энгельс и К. Маркс,— и бегло просмотрел донесение. Оно состояло из письма издателя Левенталя и приписки осведомителя. Отпустив подчиненного, канцлер надел очки в золотой оправе и погрузился в чтение.
Левенталь писал некоему журналисту — сотруднику газеты, с которым был коротко знаком:
«Я посылаю Вам книгу Энгельса и Маркса, только что вышедшую из печати. Эта книга в настоящий момент представляет особый интерес, так как Маркс недавно был выслан из Парижа. Энгельс и Маркс — наиболее способные сотрудники «Немецко-французского ежегодника» Руге. Энгельс, который долго жил в Англии, является наилучшим знатоком английских социальных порядков. Его осведомленность в английских фабричных отношениях признана неоспоримой и в Германии.
Данная книга борется против философско-социального направления бауэровской «семьи» и написана в резко саркастической манере.
Энгельс и Маркс, образуя фракцию коммунизма, являются, следовательно, в известной мере крайними по своим взглядам. Книга их — это победоносный и сокрушающий поход против бауэровского пустословия, претенциозности и безвкусной фразеологии. Она, во всяком случае, произведет впечатление, особенно благодаря своему совершенно новому критическому подходу к «Парижским тайнам» Эжена Сю. Она также содержит интересные замечания о французской революции, французском материализме и социализме...
Ознакомление с этой книгой подведет вас к богатому и благодатному источнику, имена обоих авторов ее уже стали предметом обсуждения прессы.
Вы меня очень обяжете, если выступите с обстоятельным разбором этой книги в «Allgemeine Zeitung».
Надеюсь, что я вскоре смогу доказать вам, как всем сердцем я ценю ваше дружеское расположение к себе...
До личной встречи...
Преданный вам Левенталь
Франкфурт-на-Майне, 24 февраля 1845 г.».
Меттерних перевернул последний листик письма, на нем была пометка осведомителя.
«Книга в 21 печатный лист «Святое семейство», пли «К критике критической критики» против Бруно Бауэра и компании Фр. Энгельса и К. Маркса — замечательное явление. На этих днях она вышла в издательстве Рюттен и Левенталь. Как именно доктор Левенталь, который вообще хорошо разбирается в социалистическом движении Франции, оценивает книгу, можно в известной мере получить представление по его письму».
Подписи не было, по Меттерних хорошо знал почерк немецкого журналиста, давно состоявшего на платной службе в австрийской полиции.
Откинувшись в кресле с высокой резной спинкой, старый канцлер перелистал книгу двух молодых коммунистов. Уже беглое ознакомление с ней дало ому возможность оценить юмор, задор и недюжинные знания авторов.
«Ученые люди,— подумал он, ожесточаясь. — И как, однако, заражены страшным ядом века! И все же это от молодости. Образумятся с годами, оценив преимущества кастовых барьеров и прелесть денег».
Тем не менее настроение Меттерниха в этот день было испорчено.
В мае 1845 года в Лейпциге вышла книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».
Фридрих всегда глубоко вникал в каждую мысль, изложенную Марксом. Карл тоже отдался весь чтению книги Друга. И чем глубже, поразительнее было то, что он находил, читая, тем радостнее, счастливее становилось выражение его лица. Карл мог гордиться молодым автором замечательного первого труда о рабочем классе. Все было значительно, ново, неоспоримо в книге Энгельса. Страшные картины непосильного труда и нужды людей, вся жизнь которых — вращение по кругам Дантова ада,— это внешнее, говорил молодой ученый. Это следствие. И затем Энгельс с проницательностью мудреца постиг и глубинную сущность бедствия — капиталистический способ производства. Он открыл закон не только возвышения, но и неизбежного падения буржуазии. Нищете сегодняшнего дня он научно противопоставил неизбежное грядущее возвышение тружеников. Он бросал грозное обвинение капиталистам и буржуазии, рассказывал, как крупная промышленность угнетает огромную массу своих рабов — пролетариев, и далее доказывал, что по суровым законам исторической диалектики рабочие неизбежно поднимутся и ниспровергнут ту силу, которая их порабощает. Слияние рабочего движения с социализмом — вот дорога к господству пролетариата.
— Твоя книга замечательна,— сказал Карл Энгельсу.
Той же весной Марко сформулировал свои тезисы о Фейербахе. Они сложились в часы глубокого раздумья, когда он медленно прохаживался по комнате, сосредоточенно глядя перед собой, или сидел за рабочим столом, выкуривая одну сигару за другой. Снова и снова тогда обдумывал он философские взгляды Фейербаха.
Быть может, Маркс и нашел гениальный зародыш нового мировоззрения в часы этих ночных раздумий?
Маркс записал краткие итоги творческого анализа и размышлений в первую попавшуюся ему под руку тетрадь. Это была записная книжка, в которой Женни отмечала расходы по хозяйству и количество белья, отдаваемого в стирку.
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»,— написал Маркс.
Это был одиннадцатый тезис, имеющий прямое отношение к Фейербаху. Карл подчеркнул слова «объясняли мир» и «изменить его» чертой, похожей на острую летящую стрелу.
Чрезвычайно сложный, трудночитаемый почерк Маркса отражал уверенность и волю. Кажется, что не по хрупкой бумаге, а по мрамору резцом выведена его удивительная вязь. Лаконический слог, полный глубокого значения, напоминает изречения древних мудрецов, что высекались на камне для последующих поколений.
В противоположность Фейербаху, который рассматривал человека абстрактно, Карл Маркс доказывал, что сущность человека «есть совокупность всех общественных отношений».
Женни с ребенком уехала в Трир к матери, и Фридрих уговорил Карла отправиться в Англию месяца на полтора, чтобы ознакомиться с самой мощной капиталистической державой Европы. В начале июля оба друга выехали в Лондон.
...Только тридцать миль отделяют континентальную Европу от Англии. Всегда бурный пролив был для англошотландского государства спасительным водным заграждением, защищавшим от вражеских воинов, вражеских влияний, вражеских новшеств.
Взъерошенный сквозными ветрами, истерический Ла-Манш служил острову в течение ряда столетий тем, чем была для Китая Великая стена. На протяжении веков остров не знал чужеземных нашествий. Последними завоевателями были норманские феодалы, открывшие собой длинную летопись английских королей. Позднее флотилии, посылаемые с континента, тщетно старались причалить к берегам крепнущей морской державы, идущей на смену адриатической Венеции, средиземноморской Генуе и Испании. Напрасно Наполеон, боровшийся за европейский рынок, готовился высадить десант на противоположном французской Нормандии берегу. Неудачные морские войны с англичанами положили начало его гибели...
Старую истину, что три четвертых Земли затоплены водой, задолго до других учли стесненные местом потомки кельтов и саксов. Вода стала им сушей. Суровая жизнь на обойденном солнцем острове создала крепких, беспощадных морских торговцев и завоевателей.
Христофор Колумб обогатил своим открытием не столько Испанию, сколько Англию. Карты Васко да Гама привели британцев в Индию и на острова Великого океана. Неутомимые, легализованные государством английские пираты шныряли по всем морям и океанам, не встречая значительной помехи и преград, увозя драгоценности, захватывая рабов, которыми торговали прибыльно и бойко, наравне с сукном и баранами.
Заморские купцы проявляли в подвластных землях ничем не ограниченную звериную жестокость. Но, возвращаясь на родину, они мгновенно преображались в весьма набожных, лицемерных, готовых к повиновению и покаянию слуг короля и церкви, в строго нравственных отцов, в елейно-послушных сыновей. Это свойство перевоплощения сохранилось у колониальных купцов и чиновников на столетия.
Ступив на трап парохода, идущего под имперским королевским флагом, английские пассажиры, направляющиеся в колонии, оставляют позади свою предназначенную для «домашнего употребления» маску.
Так с годами сеть британского колониализма опутала более полмира. В удачно закинутый с маленького клочка земли невод попались целые материки и огромные страны. Около полмиллиарда людей беспомощно барахталось в этих сетях.
Расстояние не в силах отделить английского собственника от его предприятий. Австралийские стада и пшеница, канадские молочные фермы, индийские хлопковые и чайные поля, каучуковые плантации островов и южноафриканские металлы вынуждают своих хозяев к постоянным длительным разъездам.
Вода — основа благоденствия Англии, поле ее битв, ее военная дорога.
...В первый же день пребывания в Лондоне Энгельс и Маркс отправились посмотреть парламент.
— Сколько крови пролили англичане, чтобы добиться парламентаризма, считая, что в этом — гарантия справедливости, благоденствия, счастья народа,— сказал Карл, рассматривая Вестминстерское аббатство.
Здесь рядом с суровой усыпальницей королей и героев, как многовековой храм пуритан кромвелевской поры, высится серый, мрачный парламент.
Почерневшие, как весь Лондон, от угольного чада миллионов каминов стены, шпили, укрытые сводами оконца, готические башни — таково здание парламента, современника хмурого средневековья.
Маркс и Энгельс медленно входят внутрь.
...Ожившими тенями минувших веков дозор проходит по гулкому ледяному холлу-галерее, просторной, как арена для турниров громоздких, звенящих доспехами рыцарей. Сборчатые, пышные костюмы, меховые шапки тюдоровской поры, квадратные фонари в руках стражников— великолепное дополнение к каменным парламентским стенам. По стершимся ступеням великан пристав, «носитель черного жезла», и его свита спускаются в коридоры палаты общин.
Из холодных чертогов «казенной» квартиры при парламенте, в черной мантии, в рыжем парике, ниспадающем на плечи завитушками, выходит спикер. Через анфиладу пустых залов, украшенных лишь стенными фресками, он проходит по узкому, освещенному тусклым светом с потолка, сумрачному, как часовня, залу парламентских заседаний. Избранный пожизненио, спикер обречен идти всегда той же дорогой, в том же платье средневекового придворного к позолоченному креслу в проходе парламентского «святилища». Здесь он садится на мешок шерсти, символизирующий источник благоденствия Великобритании. Перед ним на зеленом сукне канцелярского стола — своды парламентских постановлений и булава — вооружение председателя.
Золотушный писец, чахнущий в ленивой атмосфере парламентских дебатов, встречает спикера благоговейным, установленным много сот лет назад поклоном и протягивает ему отточенное гусиное перо.
Меняются кабинеты министров, но неизменен тучный спикер и вылинявший среди справочных тетрадей клерк.
Спикер обязан тотчас же после избрания покинуть свою партию, подчиняясь закону о беспристрастии. С точностью и равнодушием автомата он предоставляет «слово» членам парламента, обязанный замечать выраженные ими желания выступить с речью.
Он — одна из неотъемлемых частиц устарелой парламентской машины. Тщетно искать на его лице, в сжатых губах скряги, в сонных глазах отблесков мысли или темперамента политического деятеля. Помятое лицо спикера лишено какой бы то ни было индивидуальности. Он мог бы сидеть за прилавком мясной лавки, в банковском кабинете, за конторкой надсмотрщика долговых тюрем. Таких людей природа изготовляет оптом.
Только одно неотъемлемое достоинство, приведшее к спикерскому креслу, выделяет его в толпе депутатов — память: огромный, содержащийся в примерном порядке склад, на полках которого разложены имена и округа всех парламентариев. Он знает их безошибочно в лицо и называет по местности. Такова традиция. Имя депутата произносится только тогда, когда за ним следует порицание.
Пронзительный гонг извещает о начале заседания. В тот день, когда в парламент пришел Маркс, шли прения о положении в Ирландии. Болезнь картофеля уничтожила там весь урожай. Перенаселенная Ирландия, прозванная «страной картофельной кожуры», дошла в течение года до неописуемой нищеты. Ввоз колониального индийского хлеба по удешевленной цене не помог. Не только в Ирландии, но и во всей Англии и Шотландии народ также голодал.
Правительство вынуждено было подумать о ввозе беспошлинного хлеба из-за границы. Однако богачи землевладельцы и хлеботорговцы решительно возражали. Королева Виктория обратилась к лорду Джону Росселю, предлагая ему составить министерство и провести этот важный законопроект. Но, не имея достаточной поддержки в парламенте, он отказался. Только Роберт Пиль, хитрец и интриган, унаследовавший от отца титул барона и громадное состояние, весьма влиятельный среди консерваторов (так стали называть себя отныне тори), мог добиться решения этого вопроса.
Прения в парламенте о хлебных законах длились уже несколько лет. А голод в это время вползал в лачуги Великобритании и валил с ног людей. О нем пели заунывные песни, грозные и мрачные, как реквием. Поэт Эбенезер Элиот издал свои «Стихи о хлебных законах», которые, как псалом, переходили из уст в уста:
Выходили из престонских сукновален Тысячи маленьких заключенных И грустно улыбались бледными губами. Это была смерть на пороге жизни. Прохожие спрашивали: «Разве это дети?» С ними шли живым грозным потоком, Поддерживая друг друга, мужчины — Армия истощенных теней.Роберт Пиль объявил себя сторонником свободной торговли хлебом. Одновременно он усилил военные гарнизоны англичан в Ирландии, чтобы припугнуть изнемогающую от голода и всяческих лишений страну, где не прекращались волнения и массовая эмиграция. Роберт Пиль понимал, что народ яростно ненавидит существующие хлебные законы, обогащающие аристократию, и не захочет более погибать от голода и платить корыстным землевладельцам по одному пенни надбавки за каждый фунт хлеба.
Маркс с большим интересом прислушивался к прениям о хлебных законах.
Первым выступил член парламента, депутат от Девонширского округа. Приподнявшись, но не сходя с места, он невыносимо ровным голосом начал читать речь о пользе развития куроводства в Соединенном королевстве.
Спикер, безучастно глядя на оратора, подсчитывал в уме расходы, предстоящие в связи с началом светского сезона приемов.
Матовый цилиндр текстильного фабриканта Кобдена, сидящего в первом ряду направо от спикера, сполз на внушительный треугольник носа. Тряхнув головой, он передвинул шляпу и вытянул тощие ноги. Писец почтительно отодвинулся от лакированных дорогих штиблет.
Цыплята, уже ставшие курами, несут бесчисленное количество яиц, легко превращаемых в слитки золота! девонширский депутат отирает пот со лба, доказывая выгоды своих предложений.
— Слушайте, слушайте! — изредка восклицают немногие, выражая тем одобрение оратору.
Зал заседаний парламента вмещает не более половины всех депутатов. В большие «парламентские дни», когда вины (загонщики) в поисках голосующих без устали снуют, сзывая и свозя депутатов, немало парламентариев толпится в проходах и дверях или занимает места на галереях, предназначенных для посторонних и прессы.
Средневековый архитектор поставил депутатские трибуны вдоль длинных готических стен, чтобы депутаты правительственной партии и оппозиции сидели лицом друг другу.
Партийные организаторы иной раз, пользуясь неудобствами зала, подготовляют коварные замыслы, могущие решить участь кабинета. Перед голосованием по незначительному поводу, когда правительственная партия беспечно отсутствует, не предвидя для себя опасностей и подвохов, ловкий загонщик под строжайшей тайной мобилизует силы оппозиции. Заслышав красноречивый гонг, к месту боя — в зал сессии — в неожиданно большом числе сходятся спрятанные до того по квартирам, кабинетам, соседним ресторанам депутаты-оппозиционеры. В панике мечутся, отыскивая своих, загонщики правящей партии; если в течение четверти часа они но противопоставят вражескому натиску свои голоса, кабинет рискует падением.
В холле, на рубеже нейтральной зоны между двумя палатами, прохаживается коренастый светлоглазый Гладстон, честолюбец, выжидающий своего часа, чтобы возглавить правительство Великобритании.
Оживленно жестикулируя, встряхивая поминутно прямыми черными прядями волос, в кулуарной толпе ораторствует неврастенический лидер вигов. Это худой, прямой, как посох, человек с лихорадочным взглядом чахоточного.
Его прислал в парламент город Глазго — город отверженных.
Старые дома, душные шахты, бессолнечные заводские сараи промышленной Шотландии пометили клеймом нищеты, недоедания, горького пьянства многих своих обитателей. Изуродованные рахитом дети, безработные, жмущиеся к стенам, точно случайные прохожие, усталые женщины у потопленных очагов над пустыми кастрюлями и немногие счастливцы, имеющие сегодня заработок,— вот кого часто можно увидеть в Глазго.
...В затянутых коврами и портьерами залах палаты лордов особенная тишина и дорогостоящий комфорт аристократических лондонских клубов. В мягких креслах дремлют древние старцы. Мимо представителей «голубой крови» бесшумно скользят лакеи. На застекленных полках многоэтажных шкафов прекрасной библиотеки в сафьяновых гробах-переплетах — бумажный прах сотен тысяч протоколов, отчетов, речей давно исчезнувших людей. Тут же в читальне грозное предупреждение истории — свиток, скрепленный сотнями разнообразных подписей,— смертный приговор Карлу I.
За окнами бьется бурливая в часы прилива Темза. На противоположном берегу, вдали, как бастионы крепости, стоят доки.
«Святая святых» палаты лордов — зал заседаний. На низких античных скамьях, крытых пурпурным сукном, восседают сенаторы-патриции, подлинные господа империи и парламента, титулованные, богатые скотоводы, помещики, банкиры, главари разбойничьих обществ, законно разоряющих колонии, потомки работорговцев и завоевателей. Десятки знамен побежденных и покоренных наций спускаются о круглого балкона.
«Давно истлевшая мудрость былых поколений все еще пытается воздействовать на современность. Смешные церемонии, неудобные костюмы предков, бесчисленные уродливые, выродившиеся предрассудки используются как защитная форма господства аристократии»,— думает Карл.
Парламент, добытый в многолетней борьбе против произвола королей, герцогов, аристократов, обагренный кровью вольнолюбцев, погибавших за свободу и истинную веру, когда-то опасный и жестокий соперник монархов, все еще арена, где без устали повторяется одна и та же, всем давно известная, изрядно надоевшая пьеса.
Поздней ночью кончается парламентская сутолока. Дома поглотили дневные шумы. Лондон как будто пуст.
...Города с большой точностью изобличают привычки, историю, социальный строй нации.
Город — великолепный музей, где экспонатами являются и сложной архитектуры столетние дома, сохранившие память о многих поколениях и запечатлевшие подчас первый крик и предсмертный стон гениев.
По утрам с окраин отправляются на работу счастливцы, сохранившие ее, тащатся калеки и нищие к месту «службы» — на углы людных улиц, в простенки больших домов, идут слепцы с собаками-поводырями продавать спички у порогов магазинов и банков, едут клерки и лавочники.
В течение многих лет беспредельное высокомерие, национальное чванство одурманивали, как наркотик, сознание преуспевающей нации. На постоянный подкуп и различные формы благотворительных подачек рабочему классу буржуазия и ее правительство тратили ежегодно много миллионов фунтов стерлингов. Сумма незначительная в соотношении с колоссальной данью, которую получал великобританский буржуа. Англия — страна, награбившая неоценимые сокровища.
Шовинистические восторги всегда подобны приторному ликеру, очень приятному после сытного, дорогого обеда. Но ликер тошнотворен и непереносим для пустого желудка.
Ужасна, как проказа, как гноящиеся впадины незрячих глаз, нищета Востока. Ее выставляют, как знаки отличия, о ней исступленно кричат обнаженные чудовищные язвы: зловонные жилища; хворые, изможденные дети; грязные, равнодушные, отупевшие от голода, детского воя женщины; тощие мужчины, готовые за еду и на унизительное кривляние, и на сверхчеловеческий труд; старики, борющиеся с собаками за съедобные сокровища помойных ям. Нищета Востока криклива, необъятна, воинственна. Не было борьбы за жизнь более упорной, длительной и бесплодной, чем ежедневная борьба со смертью китайского, индийского, африканского кули.
На Востоке лишения не позор, они преимущество большинства.
Совсем иная нищета Запада — скрытая, заплатанная, робкая, ослабленная горьким стыдом за себя, добровольным унижением.
Английской нищете в особенности свойственна трагическая робость. Незабываема походка безработного, плетущегося по дорогам Англии из города в город, из конторы в контору. Безработица хлыстом полоснула его по крепкой спине, сдвинула плечи, ослабила ноги. Потрепанный костюм, плохо вымытые у ближайшего ручья большие, тоскующие по работе руки, помятое долгим бродяжничеством лицо не дают ему поднять глаза.
Скелетообразная старуха, закутанная в ветхий платок, как в сгнивший саван, вынырнула из тумана на одной из центральных улиц Лондона, протягивая руку, в которой дрожит увядший букетик фиалок. Она жертва стыда больше, чем нищеты, в которой не решается признаться. Стыд сомкнул ее уста, и она умрет от голода и сырости на этом же углу, не решившись прервать молчание воплем. Жалкий букетик никто не купит, но умирающие фиалки легализуют старуху в зорких глазах полиции, выдавая ее за продавщицу цветов.
Нищенка — выходец из иного мира, мира обездоленных. Через улицы, едва освещенные фонарями и лампами магазинов, она возвращается к себе на окраину, где никто не покупает фиалок. Путь домой долог. Старуха идет до рассвета по набережной, мимо спящих на скамьях нищих, по мосту над Темзой, мимо склонившихся над водой в страшном раздумье — «быть или не быть?» — людей без завтрашнего дня, уставших вымаливать работу. Прижимая к платку дряблые стебельки цветов и несколько выпрошенных молчаливо грошей, добирается она до своей лачуги. Зеленые, как плесень, стены и ободранный кустик у порога полны все того же тоскливого стыда за свое безобразие и бедность.
В Лондоне дома и люди молчат, настороженно прячут свои раны, непросыхающую сырость, чадящий очаг, удушающие запахи перенаселенности. Приглушает запятнанной подушкой стоны роженица, корчащаяся на деревянной без матраца кровати. Бесшумно выпускает из своей мансарды мужчину проститутка. Тихонько перебирает подаяние нищенка...
Фридрих торопился в Манчестер, и скоро Карл понял, в чем была причина. Там ждала Энгельса миловидная ирландка — Мери Бёрнс. Молодые люди любили друг друга уже несколько лет. Мери была долгое время работницей и познала смолоду много горя и унижений. Тем больше дорожил ею Энгельс. Она была общительна, непосредственна, от природы умна и наблюдательна. Мери всей душой навсегда привязалась к Энгельсу с того самого дня, когда он встретил ее случайно на одной из убогих и жалких улиц Манчестера.
Марксу многое понравилось в текстильной столице. Но особенно пристрастился он к большой общедоступной библиотеке, одной из старейших в Европе, носящей имя крупного манчестерского мануфактуриста — Хэмфри Чэтама. Здание библиотеки — одно из древнейших в городе. В XII веке это был замок, превращенный затем в монастырь. В годы английской революции в нем размещались арсенал, тюрьма и казарма. Маркс подолгу любовался архитектурой библиотеки, причудливо сплетавшей стили ранней и поздней готики. Книгохранилище было размещено в бывших кельях монастыря и даже в пределах часовни. До середины XVII века книги, согласно завещанию Чэтама, были прикованы к полкам цепями, чтобы их не расхищали. Позже библиотекари запирали читателей за деревянными решетками в небольших нишах, навешивая огромные висячие замки.
Введя в первый раз Маркса в библиотеку, Энгельс сказал ему:
— Особенно много здесь изданий шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков и, представь, есть девяносто книг — инкунабул, напечатанных до тысяча пятисотого года по методу, изобретенному еще Гутенбергом!
В читальне убранство оставалось неизменным уже два столетия. Вокруг дубового темного стола посредине комнаты с низким сводом стояли стулья— современники Кромвеля. Резные аллегории над камином изображали факел знания, лежащий на книге учения, змею и петуха — символы мудрости и бдительности. Пеликан, кормящий птенцов, должен был олицетворять христианское милосердие.
Маркс выбрал себе место за квадратным бюро в башенном выступе читальни. Сквозь разноцветные стекла высокого окна падал нежный желтый, синий, зеленый и красный свет.
В Чэтамской библиотеке Маркс смог впервые ознакомиться с трудами представителей английской классической политической экономии, которые до сих пор знал лишь в переводе.
В Манчестере Фридрих познакомил Карла с тремя настоящими, как он выразился, людьми. Часовщик Иосиф Молль, превосходный оратор, умевший быть также и превосходным слушателем, сапожник Генрих Бауэр, суровый на вид и сердечнейший человек, и Карл Шапнер, упорный и бесстрашный студент, то наборщик, то учитель, произвели на Маркса сильное впечатление.
Эти три немца были закалены самой жизнью, испытавшей их на постоянной борьбе, в тайных рабочих обществах. После разгрома «Союза справедливых» они бежали в Англию и тотчас же принялись восстанавливать разрушенное. Очень скоро они объединили немцев-изгнанников. Большое влияние на немецких рабочих в Англии имели книги Вейтлинга и выступления чартистов.
Фридрих Энгельс многократно бывал в Англии. Его охотно принимали в самых различных кругах. Он нравился равно деловым людям и женщинам своим умом, обходительностью и внешностью. Лицо Фридриха все еще оставалось юношески пухлым, и только глаза отражали немалый жизненный опыт и зрелость мысли. Он в совершенстве владел английским языком и превосходно знал историю, экономику, политическое положение и быт Великобритании, где ему недавно пришлось безвыездно провести около двух лет. Тогда-то он сотрудничал в чартистской газете «Северная звезда», в социалистическом органе «Новый нравственный мир». Энгельс не преминул познакомить Маркса с несколькими видными руководителями чартистского движения.
Джордж Джулиан Гарни, потомственный пролетарий, человек с суровым лицом, всегда нахмуренными мохнатыми бровями, ужо несколько лет был коротко знаком с Энгельсом. Встретившись впервые с Марксом, он долго испытующе всматривался в него, затем внезапно просто, широко улыбнулся и протянул ему большую шершавую ладонь. Что-то располагающее, неожиданно ласковое почудилось Карлу в его крепком рукопожатии. Интересным и приятным был и другой знакомый Энгельса, словоохотливый, вносивший много оживления, поэт-чартист Эрнест Джонс. Он свободно владел немецким языком, что значительно облегчало обсуждение с ним всех серьезных политических вопросов. Ведь Карл еще не совсем твердо усвоил разговорную английскую речь.
В таверне «У ангела», расположенной на Уэбберстрит, в августе состоялось совещание демократов разных стран. Там был также и Маркс. Согласно принятым в Англии правилам ведения собраний, с Энгельсом заранее договорились, что он выступит в защиту подготовленной резолюции.
Председательствовал Чарльз Кин, несколько медли-, тельный, всеми уважаемый пожилой человек, много лет и сил отдавший борьбе за Хартию вольностей. Ораторы говорили пространно. К концу председатель отыскал глазами Энгельса, который степенностью, подобранностью ничем не отличался от англичан.
— Слово предоставляется ситизену Фридриху Энгельсу,— объявил Кин. Назвав его ситизен — гражданин, он подчеркнул, что выступать будет политический эмигрант.
Энгельс говорил как прирожденный англичанин. Тот, кто узнавал, что он немец, недоумевал и сомневался, так ли это. Фридрих поддержал резолюцию, которая предлагала собрать проживающих в Лондоне демократов всех национальностей для обсуждения вопроса о создании общества, имеющего целью взаимное ознакомление — посредством периодических совместных собраний — с движением за общее дело, протекающим в каждой отдельной стране.
В конце августа Карл Маркс покинул Англию и отправился домой. В сентябре Женни родила дочь. Карл просил назвать ее вторым из двух наиболее любимых им женских имен. Первое всегда было Женни, второе — Лаура.
На семейном совете, где полным правом голоса пользовались также Фридрих Энгельс и Ленхен, это имя, воспетое некогда Петраркой в его сонетах, было утверждено без возражений.
Возле кроватки шустрой, румяной, пухленькой Женнихен, которая теперь бегала по всей квартире, наполняя комнаты самой прекрасной музыкой — детским смехом, поставили еще одну, ее сестрички. У Ленхен и Женни прибавилось дел и забот, у Карла — счастья. В эту ясную яркую осень в домике на улице Альянс, номер пять-семь, было весело и легко. Энгельс, живший тоже в Брюсселе, вносил туда много тепла и света. Всегда бодрый, неутомимый, он как бы излучал энергию, уверенность, спокойствие трезвого и вместе с тем пылкого ума.
Статный, крепкий, как викинг, он обладал пытливой душой мудреца и был из числа тех немногих гармонических и цельных людей, к которым принадлежал и Карл Маркс. Оба они росли в семьях, где сохранились твердые устои брака и семьи. Однако характер и жизненные интересы отца Фридриха резко расходились с характером и взглядами юстиции советника Генриха Маркса.
Энгельс-старший был властный человек, фанатически преданный столько же божеству торговли, сколько Лютеру. Зато мать Фридриха была прекрасной, тонко чувствующей, впечатлительной женщиной, много читавшей и думавшей, однако всегда покорной воле мужа. Фридрих неяшо любил свою мать.
— Если бы не она,— говорил он Женни и Карлу,— не ее умоляющие глаза, хрупкое здоровье, я не уступал бы ни в чем отцу, который верит в ад и отравляет себе существование страхом перед небесными карами, охотясь с невероятным коварством за моей душой, чтобы ввергнуть ее в лоно христианской церкви. Жалость к матери сковывает меня покуда.
В Брюсселе Маркс и Энгельс приступили к совместной работе над новым произведением. Они решили назвать его «Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Бруно Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице различных пророков».
Пока Карл и Фридрих разрабатывали эту тему, прусское правительство продолжало беспокоиться о судьбе своего подданного. Оно боялось Маркса и потребовало от бельгийских властей немедленной его высылки.
Все чаще стали вызывать Карла в ведомство общественной безопасности, и когда ему стало ясно, что длинная лапа Пруссии не даст ему и впредь покоя, он вышел из прусского подданства.
Он осуществил это решение 1 декабря 1845 года. В этот день на улице Альянс собрались друзья Маркса.
— Итак, Карл, ты теперь вне подданства,— сказал Фрейлиграт.
— Думаю, я никогда уже не приму ничьего подданства.
— Латинская поговорка гласит,— отозвался Фридрих: — «Там, где свобода, там мой дом». Это было любимым изречением Франклина. Где же теперь твой дом, Маркс?
— Англичанин Томас Пэйн, приехавший в Англию после американской кампании, где он воевал против англичан за свободу Америки, сказал Франклину: «Там, где нет свободы, там моя родина»,— ответил Карл.
— Эти слова Пэйна впоследствии повторил Байрон, когда ехал сражаться за свободу греков,— напомнила Женни.
Глава третья Наполеон карликовый
Мария Дерук отбросила темную портьеру и, сложив руки на груди, остановилась перед позолоченной дверью. Она оставалась одна в большом зале, и этот жест, вдохновенное выражение глаз были вполне искренними.
С детства Марию учили притворяться или, как говорили ей обычно, владеть собой. Уже давно она постигла в полной мере это сложное искусство. Просыпаясь утром, Мария тотчас же запасалась множеством масок, которые с ловкостью иллюзиониста меняла в течение дня. Иногда ей следовало быть надменной, иногда равнодушной, то суровой, то задумчиво-рассеянной.
После революции 1830 года ее родные потребовали, чтобы она улыбалась покровительственно и ласково даже черни, всем этим выскочкам, предки которых, может быть, торговали на рынках или, что еще хуже, пришли в Париж из деревни, где пасли скот в поместьях аристократов.
Но теперь, у себя, Мария Дерук могла дать выход подлинным своим чувствам. Никогда во время молитвы ее лицо не было освещено таким восторгом. Она давно уже не верила ни во что сверхъестественное, кроме гадания на картах. Бог так часто не исполнял ее желаний, что она посещала церковь с гораздо меньшей охотой, нежели старую тетку-герцогиню, хотя и это было скучно.
Перед этой дверью ее всегда охватывал трепет. Она уподоблялась язычнику, благоговейно входящему в кумирню.
Приподняв волочившийся по ковру шлейф томного шуршащего платья, Мария другой рукой открыла тяжелую дверь и вошла в большую полутемную комнату. Полоски света, пробивающиеся сквозь прикрытые жалюзи, придавали несколько таинственный вид окружающему.
Пол в овальной комнате был застлан ковром цвета сирени, и таким же сиреневым шелком обиты были степы. Посредине комнаты, как жертвенник в храме, стоял большой мраморный пьедестал, вокруг которого покорно увядали цветы. На нем был бюст Наполеона I того времени, когда корсиканский генерал короновался императором. В эту пору скульпторы придавали его хмурому усталому лицу с нечистой кожей олимпийское величие.
В зале висели портреты и были расставлены бюсты всей семьи Бонапарта: матери Наполеона — Летиции, его братьев и сестер. Самой красивой была Полина Боргезе. Она была изваяна в виде обнаженной Венеры знаменитым скульптором Канова. Все другие женщины — в пышных платьях, коронах и диадемах, мужчины — в мантиях или военных мундирах, были написаны то умело, то грубо масляными красками, акварелью, тушью.
В большой позолоченной раме отдельно висел портрет первой жены императора Наполеона, Жозефины Богарне, креолки с острова Мартиника. В годы великих исторических потрясений складываются необыкновенные судьбы. Виконтесса Жозефина Богарне, в прошлом вдова казненного революцией генерала, была случайной любовницей смелого Гоша. Она сблизилась с ним в тюрьме, где оба ждали суда. Затем она была содержанкой одного из всесильных директоров — Барраса и по его настоянию сошлась с опасным для Директории властолюбивым героем Тулона — бригадным генералом Бонапартом и стала в конце концов императрицей Франции. Бонапарт усыновил ее двух детей — сына Евгения, дочь Гортензию — и стал их заботливым отцом. Особенно мила была ему одиннадцатилетняя Гортензия, умевшая приласкаться и развеселить Наполеона, как никто. Она с малых лет хорошо рисовала, еще лучше пела, сочиняя слова и музыку для своих несложных песен. Шли годы, и Гортензия превратилась из подростка в не столь красивую, как мать, но все же очень хорошенькую девушку.
Жерар Дюрок был любимцем Наполеона и с 1796 года его постоянным спутником. Отважный и добродушный, он с первой встречи понравился молоденькой падчерице Бонапарта. Они часто танцевали на вечерах, которые давала жена первого консула, стараясь завязать связи в среде влиятельных богачей и военных. Однажды на полутемной террасе Дюрок поцеловал Гортензию, и она ответила «да» на извечный вопрос о любви.
Однако у ее отчима были другие расчеты. Р1х энергично поддерживала Жозефина. Наполеон уверенно шел к короне. У Жозефины не было от него детей, и она боялась, как бы желание Наполеона иметь наследника престола но привело к мысли о разводе с нею. Она сумела внушить ему решение назначить своим преемником младшего из его братьев — Людовика. А чтобы цепь была еще нерасторжимее, Жозефина уговорила мужа женить Людовика на своей девятнадцатилетней дочери Гортензии. Таким путем, казалось ей, упрочатся навсегда связи Богарне и Бонапартов.
К этому времени в семье Наполеона все переменилось. Когда-то любовь к Жозефине причиняла командующему итальянской, а затем египетской армиями тягостные мучения ревности. Сколько раз лежал Наполеон у ног прекрасной креолки. Теперь, оценив растущее могущество мужа, наоборот, Жозефина изводила его подозрениями в неверности.
Тщетно умоляла Гортензия мать и отчима не выдавать ео насильно замуж. Людовик также не хотел жениться на нелюбимой девушке, казавшейся ему скрытной и лживой. Но Наполеон не отступил. Он становился тем настойчивее, чем большее встречал сопротивление. Брак был заключен в 1802 году. Если бы не требование Наполеона, супруги разошлись бы тотчас же. Но политический расчет, вопрос о наследовании власти, вкрадчивые уговоры Жозефины лишали их этой возможности. Прошли годы, у Гортензии родились два сына. Почти никогда не видели они своих родителей живущими вместе.
Тем временем честолюбивые стремления, желание укрепить трон с помощью родственных связей со старинным австрийским королевским домом Габсбургов побудили Наполеона оставить Жозефину и жениться на принцессе Марии-Луизе, имевшей безупречную родословную и некрасивое, узкое лицо.
Чтобы не обидеть брата Людовика и падчерицу, Наполеон отдал им Голландию, где по приказу из Парижа их короновали. Нелюбимая и не любящая мужа Гортензия и здесь рисовала натюрморты, сочиняла чувствительные стихи и мелодии, меняла любовников.
Роман голландской королевы с адмиралом Веруэлом получил широкую огласку, и, когда в 1808 году у Гортензии родился мальчик, названный Шарль-Луи-Наполеон, ее законный муж, путешествовавший в это время по Пиренеям и давно не встречавшийся с женой, решительно отказался признать ребенка своим сыном. Однако под давлением общественного мнения и, главное, воли императора он махнул рукой на случившееся, забрал двух старших детей, которых имел некоторое основание считать своими, и навсегда порвал с навязанной ему женой. У Гортензии, кроме рисования и музыки, прибавилось еще одно развлечение — разыгрыватыюкинутую жену и мать. В то время знаменитая актриса Жорж выступала в салонах с монологом оставленной Медеи, и образ этот был в большой моде.
С 1810 года Гортензия жила в Париже. Она почти не появлялась в свете. Ее мать, Жозефина, сохранившая титул императрицы, пребывала вне Парижа, в имении Мальмезон, где окружила себя зверьками и растениями с Индийских островов.
Подчеркнуто одетая в просторную тунику, похожую на одеяние античных весталок, принимала бледная Гортензия в своем особняке лишь немногих близких и любовника, молодого шталмейстера своего двора графа Флаго, который, в угоду своей знатной возлюбленной, также изображал разочарованного и страдающего человека.
В 1813 году Гортензия родила еще одного сына, отцом которого официально значился тоже Людовик Бонапарт, хотя уже много лет супруги не виделись. Мальчик получил титул графа Морни и рос вместе с братом в особняке, где все отражало страстное преклонение Гортензии перед Наполеоном, давшим ей титул королевы.
Близкой подругой Гортензии была в ту пору жена генерала, некогда весьма ценимого при дворе за то, что у него и Наполеона были ноги одного размера. Генерал Дерук разнашивал новые сапоги императора. Этот человек, столь счастливо одаренный природой, был крайне необходим Наполеону и сопровождал его повсюду.
Когда жена Дерука умерла от родов, Гортензия забрала новорожденную, названную Марией, и девочка росла и воспитывалась с ее сыновьями.
Независимо от того, был ли Наполеон Бонапарт на троне или в изгнании, дом его падчерицы Гортензии Богарне оставался храмом, где все служили только этому божеству. Тщетно новое правительство Франции, сам Людовик XVIII пытались огромным даром в четыреста тысяч франков и титулом герцогини привлечь на свою сторону бывшую королеву Голландии. Ничто не могло ослабить ее поклонения отчиму. Едва весть о побеге Наполеона с острова Эльба донеслась до нее, как вместе с детьми она бросилась навстречу императору, уверенная в том, что отныне и навсегда восторжествует идея цезаризма .
В течение «ста дней» Гортензия неотступно следовала за Наполеоном. Обычная ее притворная меланхолия исчезла, и бывшая королева Голландии развивала стремительную деятельность, собирая сторонников Бонапарта. Ее дом превращается в штаб, где бывали все те, кто стремился к восстановлению династии корсиканца. Гортензия уверяла, что отныне не будет абсолютной власти, что Франция вернется к свободе и равенству, завоеванным в 1789 году.
Первого июня 1815 года Гортензия, сняв траур по недавно умершей матери, в светлом платье и шали, вместе с Луи, маленьким племянником императора, рано утром в открытом кабриолете поехала на Марсово поле. Этого дня ждали все, кто верил еще Наполеону. Но император не сказал ничего о тех благах, которые он обещал народу, высаживаясь на французской земле. Ограничившись несколькими пышными неопределенными фразами о том, что он осчастливит родину, Бонапарт приказал начать военный парад. Вскоре, 18 июня, последовала битва при Ватерлоо. Все было кончено, Наполеон I нал, чтобы более не подняться. Изгнанная из Парижа вернувшимися Бурбонами, которые не простили ей того, что, приняв в 1814 году деньги и титул герцогини, Гортензия изменила им во время «ста дней», она отныне скиталась из страны в страну...
Гортензия унаследовала от своей матери хищническую жадность. С юных лет сберегала она деньги, пока не накопила огромного состояния. Эта томная мечтательница становилась неузнаваемой, когда отторгала у мужа имущество, выслушивала отчет управляющего своими имениями или торговалась, покупая драгоценности.
В 1817 году бывшей королеве Гортензии надоело переезжать из одного немецкого княжества в другое. Она купила в тихом швейцарском кантоне обширный дворец Арененберг и отправилась туда с детьми, чтобы поселиться навсегда.
Кутаясь в меховой салоп, Гортензия полулежала в карете, обитой коврами, уютной, как маленький будуар. Рядом с ней сидели худенький мальчик с невыразительным продолговатым скучающим лицом — Луи-Наполеон — и девочка с широко расставленными серыми глазами — Мария Дерук. В девочке все отражало восторженное удивление и желание задавать вопросы: и глаза, и вздернутые стрелки ресниц, и нос с приподнятым кончиком, и полуоткрытые губы, напоминающие формой серн.
Бывшая королева говорила:
— В тысяча восемьсот тринадцатом году погиб великий маршал императорского двора герцог Фриульский.
— Ваша светлость говорила нам, что он был такой красивый и добрый,— сказала девочка.
— Вы плохо воспитаны, моя дорогая. Когда говорят взрослые, их не прерывают.
— А когда говорит королева, молчание должно быть полно благоговения,— вмешалась в разговор пожилая гувернантка, которая сидела выпрямившись в углу кареты, стараясь слиться с ковром и быть совершенно неприметной.
— Итак, герцог Фриульский, вернейший из верных, постоянный спутник и любимец моего отчима, пал на другой день после Бейзенского сражения. Увы, мой сын, вы еще не знаете великих дат, которые определяли судьбу империи.
Луи хотел что-то сказать, по воздержался, вспомнив, что его мать любила говорить одна и не терпела реплик.
— Императрица Жозефина, моя мать, всегда считала, что она принесла счастье императору. Это, бесспорно, так. Его величество долго не решался на развод с нею. Он ведь был очень суеверен. И действительно, как только он женился на отвратительной, похожей на лошадь австриячке, так счастье отвернулось от него. Но я уверена, это ненадолго. Римляне говорили, что боги возносят своих избранников, потом бросают их в бездну, чтобы снова поднять. Разве судьбы Александра Македонского или Гая Юлия Цезаря не были полны превратностей? Я уверена, мы недолго пробудем в этом скучнейшем зеленом склепе, который называется Швейцарией.
Наступило молчание.
— Жаль, что остров, где находится мой дядя, не называется мысом Доброй Надежды,— четко произнес Луи-Наполеон слова, которые слышал не раз от одного из окружавших его людей.
— Все равно я не теряю надежды,— воскликнула Гортензия.— Он вернется, и снова народы и государи падут к его ногам.
Путешествие через Альпы было нелегким. Лошади с трудом брали горные перевалы. Валил снег. Вершина Монблана исчезла во мгле.
Карета остановилась. Слуги распахнули дверцы.
— Ваше величество, не пожелаете ли отдохнуть? Мы на швейцарской границе. Впереди горы, и вряд ли встретится жилье.
— Да, мы отдохнем, пожалуй.
Гортензия осмотрелась. Нависли сумерки. Просторное шале — темно-коричневый дом в два этажа — стояло у подножия горы. Сосновый лес подходил к самым стенам. Где-то громыхали горные обвалы. Было жутко и холодно. Тем заманчивее казался яркий свет в окнах и дым, поднимавшийся из трубы.
В большой комнате все уже было готово к приему путников. Пылал камин, и на деревянном, ничем не покрытом темном столе расставлены тарелки, кувшины и кубки.
— Отлично,— сказала Гортензия и приказала раздеть детей.
Маленького графа Морни, который ехал с няней и воспитателем в другой карете, внесли на руках и пытались разбудить. Он открыл глаза, но капризничал и вскоре опять заснул.
Гортензия сбросила шубу и поправила вьющиеся волосы нежными руками, унизанными кольцами и браслетами. Ей было тогда тридцать четыре года. Ее пышная красота волновала многих. Александр I три года тому назад, когда союзные войска заняли Париж, колебался, кому отдать предпочтение — матери, Жозефине, которой он открыто увлекался, или ее прелестной дочери Гортензии.
Русский царь предложил обеим свое покровительство, и когда, проболев четыре дня таинственной горловой болезнью, в разгар увеселений победителей умерла красавица Жозефина, он продолжал с еще большим рвением покровительствовать ее дочери.
Гортензия вспоминала это теперь, в изгнании. Впервые ее испугало одиночество. С мужем она разошлась навсегда. Брат Евгений был далеко. Любовники оставили ее. Друзья — граф Мории, давший имя ее младшему сыну, маршалы Ней и Мюрат — погибли. В чем было спасение? Только император мог вернуть ей снова блестящее существование прошлых лет. И все желания, мечты, надежды Гортензии сосредоточились на нем.
Хозяева почтовой станции, затерянной в Швейцарских Альпах, низко кланяясь, внесли подносы с едой.
В это время раздался звон колокольчиков, и к шале подкатила еще одна карета. Вошла дама, закутанная в меха, за ней— молодой мужчина и две горничные. Сняв шубу, дама приветливо обратилась к Гортензии:
— Французы! Как приятно! — и, помолчав немного, добавила: — Я узнаю вас, ваша светлость.
— Я в затруднении, мадам,— надменно вскинула голову Гортензия.
— В таком случае я представлюсь,— ответила вновь прибывшая.
Она была болезненно полна п дышала с трудом. Бледное, несколько отечное лицо ее говорило о серьезном недомогании. Но глаза блестели задорно и проницательно.
— Я — Анна-Луиза-Жермена де Сталь-Гольштейн. Может быть, мое имя вам что-нибудь скажет... А это... мой друг и секретарь Альбер де Рокка,— представила она молодого человека, стоявшего позади.
Гортензия сделала шаг назад. Передней стояла одна из самых выдающихся писательниц Европы, неустрашимый и упорный враг Наполеона. Много лет назад он изгнал еэ из Парижа.
— Я в восторге от этой встречи,— ледяным тоном сказала бывшая голландская королева,— ваша книга о Германии и особенно любовь и страдания Коринны потрясали не раз мое сердце.— Голос Гортензии смягчился, и вдруг иные чувства овладели ею.
Несчастная судьба высокоодаренной женщины, вступившей в неравную борьбу с общественным мнением, волнующе и умно описанная в романе госпожи де Сталь, напоминала Гортензии ее собственные переживания. Какой бой приняла она, когда родила в отсутствие мужа ребенка от обворожительного шталмейстера графа Флаго. Если бы не вмешательство императора, то ее, королеву, сожгли бы на костре злословия его вельможи и их жены. Император одним взглядом потушил пересуды и приказал бездетному графу Мории усыновить новорожденного, которого не хотел признать Луи Бонапарт, тщетно вымаливавший развод с постылой женой.
Но вскоре другие мысли обуяли Гортензию и опрокинули готовое было возникнуть почтение к таланту мадам де Сталь.
Как эта дочь финансового божка Неккера осмелилась сказать о ее отчиме, что он был первым из контрреволюционеров! Ведь это она разъезжала по России, Швеции, Англии, позоря Наполеона, осуждая все его дела и призывая к войне с его деспотизмом.
Гнев и ненависть охватили Гортензию.
— Вы, мадам, — заметила она язвительно,— кажется, скитались эти годы в поисках защиты и покровительства.
— Не для себя, а для Франции, ваша светлость. С того дня, как старательные полицейские министра Фуше поздней ночью вывезли меня из Парижа, я действительно имела случай повидать много замечательных людей и стран. Впрочем, я слыхала, что и вы, ваша светлость, немало ездили за последние годы...
Обе женщины, одна больная и стареющая, с умной улыбкой, другая цветущая, полная сил, холодно поклонились друг другу и разошлись в разные углы большого зала трактира.
Дети допили молоко, и слуги начали собирать господ в дорогу.
Гортензия еще раз обернулась к писательнице, сидевшей на широком стуле у большого камина. Молодой человек налил кружку вина и протянул ее своей спутнице, вглядываясь заботливо, влюбленно в большое, грубоватое, но умное и красивое лицо Жермены.
От Гортензии не укрылось ничего. Она уловила суть отношений этих двух столь разных по возрасту людей.
«Он ее любит, и как любит!» — подумала Гортензия, удивляясь и невольно завидуя. Ее взгляд скользнул но фигуре мадам де Сталь и надолго задержался на ее руках. Они были маленькие, нежные и вместе с том сильные.
Когда слуги вынесли из шале закутанных высокопоставленных детей и вдали замерли топот лошадей и стук колес, мадам де Сталь заговорила со своим спутником. Он был ее мужем, но об их браке не догадывался никто. Таково было желание Жермены: она не хотела отравлять свое счастье злословием людей.
Альбер де Рокка был на много лет моложе жены. Семь лет назад его, тяжело раненного в испанском походе, привезли в Женеву и вверили заботам мадам де Сталь. Он покорил ее своей беспредельной преданностью. А по ней так истосковалось сердце Жермены! Умный и льстивый граф Луи де Нарбонн, талантливый, славолюбивый Бенжамен Констан, слабохарактерный итальянский поэт Монти, которых она любила,— все изменили ей и обидели в ней не только женщину, но и человека. Альбер де Рокка полюбил в Жермене не талант и славу, но всю ее, уже больную и разочарованную. И с ним ее женская привязчивая душа нашла наконец покой и счастье.
Встреча с падчерицей Наполеона взволновала впечатлительную Жермену. Деспотизм Наполеона всегда вызывал в ней глубокое возмущение. Сейчас, в тихом шале под Монбланом, она рассказывала Альберу о своем знакомстве с императором, о разочаровании в нем.
— Признаться,— говорила она тихо,— я тоже не сразу распознала в нем деспота и надеялась, что он сын тысяча семьсот восемьдесят девятого года и осуществит лучшие идеалы революции. Не сразу я увидела самонадеянного честолюбца. Бездушие и грубость — вот его основные черты.
— Но он умел быть и обаятельным человеком.
— Да, он опаснейший комедиант. Когда Бонапарт бывал искренним и не притворялся, как на парадах и перед дипломатами, то признавался, что такому человеку, как он, наплевать на жизнь миллионов людей!.. Моя мать, женщина весьма строгих правил, читавшая не Руссо и Вольтера, как я, а Библию, всегда говорила о законе возмездия. Теперь, к счастью для мира, миллионы людей плюют на императора.
— Так ли это, моя дорогая? — покачал головой Альбер.— Боюсь, что и сейчас кое-кто творит легенду о «великом императоре, доблестном создателе славы Франции, заботливом отце народа».
— Нет, нет, Бонапарт, клявшийся в верности революции на скрижалях нрав человека, превратил Францию в казарму,— ответила Жермена. Она тяжело дышала. Разговор о Наполеоне всегда волновал ее.— Я ненавижу этого человека, он зло нашего века. Забудем о нем. Право же, на далеком острове он никому больше не страшен.
Но госпожа де Сталь, казалось, не могла оторваться от мысли о бывшем императоре.
— Еще когда Наполеон был консулом, он иной раз прислушивался к чужому мнению и возражениям. Но когда ему удалось зажать всю Францию в кулак, этот деспот терпел возле себя только ретивых исполнителей своей воли, повторявших, как эхо, его слова. И каких только подлецов и ничтожеств не было при его дворе! Фуше, право, был не из худших.
Вдруг Жермена вскинула свои красивые руки и, обессилев, опустила их на колени.
— Вам плохо, друг мой, вы устали? Прошу вас, успокойтесь,— встрепенулся Альбер.
— Ничего, дорогой. Это нахлынули воспоминания. А они делают нас и моложе и старше. Однажды я спросила Наполеона, какую из женщин он считает наиболее замечательной. «Ту, которая родит мне побольше солдат»,— ответил Бонапарт, не раздумывая. А солдат он однажды назвал «пушечным мясом». Нет, я не поверю, чтобы имя этого человека отныне произносилось иначе как только с презрением. Я не допускаю мысли о том, что он выйдет на авансцену истории.
— К несчастью, цезаризм все еще прельщает ложным блеском сердца многих французов.
— Да, это верно,— согласилась Жермена де Сталь.— Основная цель революции, перед которой я преклоняюсь, в завоевании народом политической и духовной свободы. Если преступления отдельных лиц и запятнали революцию, то никогда еще во Франции не выявлялось столько возвышенных сторон человеческого духа. Разве не было в революционных походах беспримерного героизма, самоотречения, энтузиазма? Но теперь, следом за диктатурой Наполеона, мы наблюдаем уродство Реставрации. Произвол власти, придворная аристократия, не имеющая никаких достоинств и заслуг, кроме «родословного древа», невежественный, бесправный народ, армия, низведенная до простого механизма, стеснение печати, никаких гражданских свобод. Ничего, кроме полицейских шпиков и лжи. Бурбоны охотно купили бы меня, писательницу, за любые деньги, лишь бы я восхваляла созданный ими мрак. Но еще никому не удалось купить мое перо!
Мадам до Сталь тяжело откинулась на спинку стула, и лицо ее побледнело. Она задыхалась. Альбер вскочил, позвал горничных, сидевших на скамье у стены поодаль.
— Мадам плохо. Воды! — Он расстегнул корсаж платья Жермены и приложил к ее вискам смоченный в уксусе фуляровый платок.
Жермена попыталась улыбнуться. Глаза ее запали и слегка потускнели. Голос прерывался.
— Не вернуться ли нам назад, в Копе? В парижской сутолоке вам будет тяжело...— спросил Альбер.
— Нет, нет, мы едем в Париж,— решительно ответила Жермена.
Оставив позади границу, Гортензия Богарне медленно спускалась в покачивающейся карете вниз, к швейцарским озерам. Она тоскливо посматривала на горные прекрасные пейзажи, простирающиеся за окнами. Как не хотелось ей жить в этой маленькой стране молочного скота и часовых мастерских, которую мрачный Кальвин напугал божьей карой и учил жить в строгих нравах и трудолюбии.
Все ее мысли были подле низверженного императора. В нем одном оставался залог на лучшее будущее. Его возвращения и возвышения ждала Гортензия, вспоминая прошлое. Но мечты, как это часто бывает, не сбылись.
...Прошло четыре года. И вот однажды в кантон Тургау дошла весть, которой больше всего боялась Гортензия: генерал Наполеон Бонапарт, бывший император Франции, скончался на острове Святой Елены.
— Все кончено для нас,— со слезами прошептала Гортензия.
Только на другой день вышла она из своего кабинета и спустилась в гостиную. При появлении королевы, как величали во дворце Арененберг Гортензию, все ее близкие встали.
Луи-Наполеон, высокий худощавый тринадцатилетний мальчик, подошел к матери первым. С ним был его воспитатель — месье Леба, сын соратника Робеспьера — Филиппа Леба, одного из самых бесстрашных и преданных революции представителей якобинской диктатуры.
За любимым сыном Гортензии шел его десятилетний брат, Шарль-Огюст-Жозеф граф Мории. Это был пухлый мальчуган с насмешливым выражением круглого лица. Он только что открутил от нарядного мундирчика с траурным крепом на рукаве золотую пуговицу и тайком пробовал ее прочность маленькими крепкими зубами. Воспитатель младшего из сыновей Гортензии, отставной офицер, рьяный сторонник императора, растерянно смотрел на проделки своего воспитанника, предотвратить которые было уже слишком поздно. В платье с траурными плерезами, точь-в-точь как у бывшей голландской королевы, следовала за мальчиками Мария Дерук. Ее небольшие шустрые глазки мышиного цвета внимательно вглядывались во все окружающее. Подходя к покровительнице, она постаралась придать своему личику скорбное выражение и опустила глаза.
— Францию постигло великое несчастье. Умер император. В течение года дом наш будет погружен в траур,— тихо и скорбно сказала Гортензия и театральным жестом повесила на портрет Наполеона венок из лавров, оплетенный черными муаровыми лептами.
Месье Филипп Леба, молодой двадцативосьмилетний археолог, выразил соболезнование Гортензии последним.
— Император был подлинным революционером,— сказала ему Гортензия, вспомнив о том, что перед нею сын якобинца, погибшего 9 термидора.
Филипп Леба молча поклонился, не желая в такие минуты затевать споры и возражать очевидной нелепости. Смерть Бонапарта нисколько не интересовала его. Твердый республиканец по своим убеждениям, он хотел посвятить свою жизнь только науке. В его комнате, кроме силуэта отца, скромного акварельного портрета матери, висели также изображения Робеспьера и Марата.
Филипп Леба родился незадолго до того, как заговор контрреволюционеров нанес в спину революции смертельный удар. 9 термидора, когда гибель якобинцев стала очевидной, его отец выбросился в окно ратуши. 10 термидора труп Леба обезглавили на Гревской площади. Маленький Филипп с матерью провел несколько месяцев в тюрьме. Лишения, которые пришлись на долю вдовы Леба и ее сестры — невесты Робеспьера — Элеоноры, были беспредельны. Но обе женщины, потерявшие всех друзей и родных, на допросах были непреклонны. Когда Елизавета Леба была освобождена, мальчика встретила тяжелая нужда. Мать добывала пропитание, не гнушаясь никакой работой. Лишь в 1801 году Елизавета Леба вышла замуж за брата своего погибшего мужа, и жизнь ее ребенка стала несколько обеспеченнее.
Мать рано научила Филиппа петь «Карманьолу» и «Марсельезу». Он читал статьи своего отца и речи Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Но борцом ее сын не стал. Он изучил древнегреческий язык, латынь и увлекся археологией. В далеком прошлом человечества Филипп искал покоя и прибежища. Современность пугала его, как непрерывная гроза, от которой некуда скрыться.
По ночам он часто видел страшные сны, перед ним возникали ужасы, о которых столько раз слыхал он от матери и Элеоноры. Снова и снова вставал в его воображении едва освещенный зал в ратуше Парижа. Робеспьер диктует запоздалое воззвание. Его отец, Филипп Леба, стоит у окна. Начинается летний крупный дождь. Гаснут факелы. Расходятся немногие, оставшиеся верными робеспьеристам отряды. Вдруг двери открываются. Врываются заговорщики.
Сын якобинца просыпается и долго сидит погруженный в ледяное раздумье. Ему кажется, что он помнит все дальнейшее — тюрьму, нищету, унижения, которые испытывала его мать. Нет, прочь от всего этого. Леба читает Платона и Сократа, упивается вечной мудростью умерших цивилизаций. Но когда он посещает дом своей матери и дяди, где живут идеи былой революции, он снова отдается мечтам о правах человека, о великих идеях Свободы, Равенства и Братства. И тогда, занимаясь с Луи-Наполеоном, он говорит ему с нарастающим увлечением о великой революции французов, обновившей мир, о неравенстве людей, о произволе правителей сегодняшней Франции. И его ученик вскакивает и кричит: «Я республиканец и буду бороться с бесправием и нищетой!»
Кроме Леба, с Луи-Наполеоном занимался аббат Бертран, один из тех, кто находил в догматах католической веры обоснование для поощрения всяческих пороков.
— Если бы не было грехов, церкви не осталось бы дола,— говаривал этот снисходительный прелат, не утомлявший ни себя, ни ученика излишними размышлениями.
На берегу Боденского озера, где стоял замок бывшей королевы Гортензии, жизнь казалась лишенной каких бы то ни было потрясений. Но, занимаясь с сыновьями французской грамматикой и литературой, Гортензия старалась приохотить их к путешествиям и приключениям.
— Я боюсь, что зрелище всегда спокойного озера усыпит волю и честолюбие моих сыновей,— говорила она своей воспитаннице Марии Дерук.— Без честолюбия в наши дни нет карьеры, нет жизни для представителя рода Бонапартов. Мой сын должен быть воином, как его дядя.
По настоянию матери Луи Бонапарт поступил в Швейцарии на военную службу и стал капитаном артиллерии. Позднее она отправила его путешествовать.
— Дитя мое, я хотела бы видеть вас полководцем, завоевателем, борцом, победителем, как ваш дядя.— Гортензия хотела добавить «и императором», но она не осмелилась высказать то, о чем мечтала, суеверно боясь вмешаться в судьбу.
В 1830—1831 году Луи Бонапарт вместе со своим старшим братом Наполеоном-Людовиком принял участие в заговоре итальянца Чиро Менетти, стремившегося вырвать светскую власть у римского папы. Заговорщики потерпели поражение. Вскоре Наполеон-Людовик умер, а Луи Бонапарт бежал с английским паспортом во Францию. Но оттуда его немедленно выслали.
Когда умер родной сын императора Наполеона — герцог Рейхштадтский, Гортензия не могла скрыть своей радости. Единственным наследником и представителем наполеоновских притязаний стал ее Луи-Наполеон Бонапарт.
Поддерживаемый честолюбивой матерью и немногими сторонниками, он заявил в печати о своем праве на французский престол. Давно забыты были уроки Филиппа Леба, который старался влить в его душу ненависть к единодержавию.
«Если бы Рейн,— писал племянник Наполеона,— был морем, если бы добродетель была единственным стимулом человеческой деятельности, если бы заслуги прокладывали путь к власти, я стремился бы к республике... Но в жизни все это не так, и потому предпочтительнее монархическая форма правления, которая осуществляла бы республиканские принципы. Народ, законодательный корпус, император — вот три равные силы, которые должны управлять государством... Страна будет счастлива, когда гармония будет господствовать между этими тремя властями...»
— Он — достойный отпрыск гения,— сказала Гортензия своей воспитаннице.
Мария Дерук к тому времени стала уже взрослой девушкой. Было что-то лисье в ее узком личике, обрамленном рыжеватыми локонами. Ее тонкие губы, как и в детстве, напоминали своей формой серп, глаза редко смотрели прямо, как бы боясь выдать мысли, которые следовало тщательно скрывать. Марию и прозвали «Лисичкой». Замкнутая, наблюдавшая за всем из-под приспущенных ресниц, девушка в числе многих тайн прятала и свою большую любовь к тому, кто претендовал на трон Наполеона.
Одна только Гортензия догадывалась о безответной любви своей воспитанницы к ее сыну.
— Брак для такого избранного самой судьбой молодого человека, как Луи Бонапарт, должен быть ступенькой к возвышению и подчинен строгим политическим и стратегическим расчетам,— сказала ей как-то Гортензия предостерегающе.— Он принадлежит не себе, а всей нации, всему народу, может быть, всему миру.
— Но ведь мать вашего величества была всего лишь потерявшей состояние и преследуемой режимом вдовой виконта, — вспыхнула всегда выдержанная мадемуазель Дерук.
— Луи-Наполеон родился сыном короля и королевы голландских, племянником императора Франции,— спокойно и даже с некоторым сочувствием к Марии возразила Гортензия.— Что касается сердца, то у него другие законы и права. Любить можно вне зависимости от титула и политических вериг. Я сама испытала это.
«Луи-Наполеон не замечает женщин, он полон одной страстью, одним стремлением к власти»,— хотела сказать, но не решилась Лисичка и прикусила тонкую губу мелкими зубами.
В Париже королевское правительство Бурбонов по придавало серьезного значения молодому претенденту на власть. Но из разных политических соображений республиканцы Лафайет, Арман Каррель, писатель Шатобриан всячески превозносили его за якобы присущие ему честность и патриотизм. Рассчитывая использовать имя Бонапарта для низвержения существующего строя, они в речах и статьях постоянно напоминали о нем.
В 1836 году Луи-Наполеон, надеясь на свое имя, совершил попытку захватить власть. Дело было в Страсбурге. Несколько офицеров во главе с Водре, командиром артиллерийского полка, организовали бонапартистский заговор. Поздним осенним вечером прибыл в город Луи, одетый в военный костюм, подобный тому, который носил некогда император, в традиционной треугольной шляпе. Однако, к большому огорчению Гортензии, в облике ее сына не было никакого сходства с отчимом. Император был приземистый, низкорослый, а его наследник высок и сутуловат. Чертами лица Луи также не походил на Наполеона I.
Солдаты стояли перед казармой, недоуменно перешептываясь. Водре объявил, что в Париже вспыхнула революция, король низложен и власть должна перейти к законному наследнику великого Наполеона. Кое-кто из солдат крикнул, как было договорено: «Да здравствует император!» Офицеры-заговорщики подхватили эти слова.
Тщетно старавшийся быть величественным, худосочный неврастеник Луи-Наполеон лишь на несколько мгновений почувствовал себя императором. В другом полку, где никто из солдат не был подкуплен и офицеры сохранили верность правительству, заговорщики не нашли поддержки. В ту же ночь Луи-Наполеон был арестован вместе со своей свитой и ретивым полковником Водре. Участников заговора предали суду, который, однако, не состоялся, так как главный виновник, Луи-Наполеон, так униженно покаялся письменно перед королем в своем преступлении, так восхвалял великодушие и милосердие власти, что был помилован Луи-Филиппом и освобожден из тюрьмы. Тотчас же неудачливый претендент уехал в Америку.
В 1837 году тяжело заболела в своем дворце на Боденском озере Гортензия. Дни и ночи проводила Мария Дерук возле больной, здоровье которой подтачивал таинственный недуг. Вот тогда-то и отдала ей бывшая королева не только много драгоценностей, но п все реликвии семьи, завещая хранить их как святыню.
— Мой младший сын, Жозеф Морни, стал истым буржуа. Я оставляю ему большую ренту. Увы, в нем нет аристократизма. Он похож на моего деда-плантатора, который был великим дельцом. Луи-Наполеон слабохарактерен и теряется при каждой неудаче. Но звезда Наполеона Первого не погасла, и я верю— нам суждено продолжить существование династии. Если моему отчиму нужны были гений и удача, то Луи-Наполеону нужно только воскресить в умах народа то, чего достиг его дядя. Ты же, Мария, будешь служительницей пантеона Бонапартов, будешь весталкой нашего храма. Тебе я завещаю то, что дороже всего для меня. Ты отдашь все это Луи, когда он будет императором, а пока допускай в этот храм лишь тех, кто чтит память великого императора.
Вернувшись из Америки, Луи-Наполеон застал мать умирающей. Очень скоро по требованию французского правительства он вынужден был оставить Швейцарию и поселился в Лондоне. Мария Дерук покинула навсегда Арененберг и переселилась в Париж, где купила огромный дом в Сен-Жерменском предместье. Здесь она и устроила храм, где божеством стал Наполеон I. С тех пор прошло восемь лет. Мария свято выполняла свою миссию проповедницы бонапартизма и идей самого Луи-Наполеона. Она вышла замуж за одного из рьяных приверженцев своего кумира — Филиппа Предо.
Муж Марии был очень богат, представителен и до того предан Наполеону I, что, говорят, даже во сне выкрикивал: «Да здравствует император!» У него был податливый характер, и Мария решила, что лучшего мужа ей не сыскать. Оли соединили свои состояния и стремление возвеличить Луи-Наполеона.
Глубокая тишина царила в алтаре храма, устроенного в особняке Сен-Жерменского предместья. Мария Дерук-Предо в это утро долго сидела у мраморного изваяния императора. Но вот дверь бесшумно открылась, и на пороге появился среднего роста мужчина в модном сюртуке и ярком жилете.
— О, это вы, граф,— встрепенулась Мария.
Румяный, упитанный граф Жозеф Морни неожиданно грациозно для его несколько тяжелой фигуры поклонился хозяйке дома.
— Я неоднократно просил вас называть меня просто Жозеф, как это было в счастливые годы Арененберга. Вспомните, сколько раз я таскал вас за косички, и вы никогда не жаловались, хотя и всхлипывали. У вас был каменный характер, Мария. Жаль, что ни я, ни Луи-Наполеон не имеем такого.— Граф Мории осмотрелся.— Ва, да это пантеон! Я вижу здесь всех предков моего брата, запечатленных не только при жизни, но и после их смерти... Выйдем отсюда, милая Мария, здесь пахнет гробовой плесенью.
Действительно, в одной из витрин лежали гипсовые маски, снятые с усопших Бонапартов. Белое лицо Наполеона с закрытыми глазами казалось неправдоподобно маленьким, жалким и скорбным. На стене над витриной висела целая коллекция картин, изображавших дам и мужчин в гробах.
— М-да, невеселое предупреждение,— снова буркнул уже раздосадованно Жозеф Морни.— Это зрелище способно даже испортить мне аппетит! Как истый эпикуреец, я, впрочем, постараюсь скорее утопить печаль в добром вино.
— Жозеф, я не видела вас больше года. И вы все такой же! Не сделались серьезнее и почтительнее к тем, кто и после смерти взывает к нам, требуя действия,— недовольно произнесла хозяйка, когда они вышли из алтаря в светлую обширную гостиную. Здесь она принимала «непосвященных».
— Не забывайте, дорогая, во мне не течет кровь Бонапартов, я просто добрый буржуа. Я приобрел большой сахарный завод и сначала получал хорошие барыши, но сейчас дела идут плохо. Биржевые спекуляции также не приносят мне богатства, я азартен, акции же скачут вверх и вниз, как блохи.
— Жозеф, ваша мать была бы в отчаянии и от того, что вы стали сахарозаводчиком, и от вашей плебейской манеры выражаться.
— Дорогая Мария, повторяю, я буржуа и вполне соответствую своему положению, хотя и граф! Прошу вас, однако, помнить, что столь обожаемые вами герцоги и виконты императора выражались значительно грубее. Ведь под их мундирами и титулами часто скрывались вчерашние торговцы, солдаты из крестьян и простолюдины из столицы.
— Ну, Жозеф, вы всегда были балагуром и шутником.
— А как поживает наш высокочтимый братец, Наполеон Второй?
— Не Второй, а Третий. Вы все путаете. Наполеоном Вторым следует именовать маленького римского короля, которому этот омерзительный палач Меттерних присвоил титул герцога Рейхштадтского.
Мария поднялась с кресла и, негодуя, прошлась по мягкому ковру гостиной. Потом подошла к Жозефу и очень тихо сказала:
— Нас много, прячущих пока на груди изображение наполеоновского орла — эмблему великого императора.
Мы сильны, и очень скоро вы, как и я, присягнете на верность Наполеону Третьему. Мы не дремлем.
— Но, позвольте, Мария,— шепотом, хотя никого не было в гостиной, возразил насмешливо Жозеф,— ведь Луи-Наполеон уже дважды — в Страсбурге и на берегу Ла-Манша — провалился на бессмысленном маскараде, переодеваясь в костюм своего дяди и водружая на голову его треуголку! С кучкой болванов совершить переворот!
— Тогда был великий день! — воскликнула Мария.— И хотя прошло пять лет, я помню все: и себя в мужском костюме, и прирученного орла, которого я выпустила, когда Луи-Наполеон высадился на французский берег, чтобы вернуть себе корону. Если бы не мерзкая чернь и какие-то солдаты, нага заговор удался бы и власть была бы снова в руках того, кто имеет на нее законное право.
Жозеф Морни взял со столика газету и с удивлением увидел в ней статью брата.
Мария вытерла глаза кончиком кружевного платочка и замолчала. Ей не хотелось вспоминать позора, которым кончилась и вторая попытка Луи-Наполеона захватить власть. Он был арестован и предан суду за то, что стрелял в толпу и ранил солдата. Поведение жалкого претендента на французский престол и в этот раз было недостойным. Он дрожал, истерически всхлипывал, просил пощады. На суде его защищали самые красноречивые из французских адвокатов. Мария, удачно избежавшая ареста, ее муж и другие оставшиеся на свободе заговорщики не пожалели денег. Жюль Фавр и Беррье в палате пэров призывали к состраданию к племяннику императора, некогда возвеличившего Францию. Как раз за несколько месяцев до этого правительство короля решило перевезти останки Бонапарта, как национального героя, в Париж и торжественно похоронить. Заглохший было культ диктатора ожил, и суд над его наследником взбудоражил страну.
Луи-Наполеон, покаявшийся и давший клятву верности королю Луи-Филиппу, был приговорен к тюремному пожизненному заключению без ограничения прав.
Его увезли в крепость Гам, где он находился в особо льготных условиях. Мария и его друзья по нескольку раз в год ездили в крепость и проводили там много времени. Благодаря общительному и приветливому коменданту, крепость мало чем напоминала тюрьму. Луи-Наполеон Бонапарт радушно принимал у себя посетителей, занимался гимнастикой, писал статьи.
Услужливые журналисты, которых одаривала Мария и другие бонапартисты, делали все, чтобы раздуть популярность «гамского узника». Во Франции возникло даже несколько газет, которые пропагандировали немудреные идеи Луи Бонапарта и на все лады расписывали его несуществующие достоинства и «страдания».
Луи Бонапарт заявил в газетах, что он навсегда отказался от мысли захватить власть и стать императором. Он объявил себя революционером, республиканцем и напечатал несколько статей «об искоренении нищеты». Он пытался критиковать современные ему экономические отношения, ведущие, по его словам, к тому, что «вознаграждение за труд зависит от случая и произвола».
«...Рабочий класс не владеет ничем. Его нужно сделать собственником»,— писал он. Эти строки, в которых сказалось явное влияние книг Луи Блана, вызвали сочувствие к нему многих видных социалистов. Редактор газеты «Прогресс Па-де-Кале», республиканец де Жорж, прочитав брошюру Луи Бонапарта, отправился в Гам. Затем в своей газете он стал постоянно печатать статьи знатного узника, большей частью путаные и всегда лицемерные, в которых наследник императора обещал искоренить нищету созданием многочисленных сельскохозяйственных ферм, где будут жить пролетарии, не имеющие работы.
Де Жорж восклицал патетически, когда писал о Луи-Наполеоне: «Я убежден, что он отныне не претендент на трон, но член нашей партии, борец за наше республиканское знамя!»
Граф Морни несколько раз перечитал статью в газете с очередными клятвами своего брата в верности республиканским идеям.
— Это только ширма,— сказала Мария презрительно.— Все готово. Не пройдет и полугода, он будет на свободе. На этот раз побег, несомненно, удастся.
Граф Морни насторожился. Он любил брата, и мысль об освобождении и, может быть, возвышении Луи взволновала его.
— Деньги нужны? — спросил он грубо.
— Они никогда не бывают лишними ни в каком доле,— ответила Мария сквозь зубы.
— Отлично. Я человек азартный и не раз уже терпел банкротство. Пусть это будет еще одной авантюрой, в которой я приму участие.
— На этот раз наш Луи-Наполеон переоденется но императором, а плотником,— шепотом рассказывала Мария.— С верным человеком мы отправим ему ящик с инструментами. Он развлекается тем, что изучает ремесла. Это вызывает к нему любовь черни и убаюкивает подозрительность стражи. Небольшой морской рейс — и друзья доставят его в Англию.
— Вы молодец, Мария,— сказал с чувством Жозеф.— Если бы вы предпочли меня, а не Луи-Наполеона, который не унаследовал от своего великого дяди даже его корсиканской страстности, я оставил бы ради вас свои сомнительные спекуляции и заводы, которые вы так презираете.
— Увы, в ваших жилах не течет ни одной капли императорской крови,— сказала, улыбаясь, Мария и пригласила графа Морни в столовую к обеду.
Луи-Наполеону, находящемуся в заключении, его процветающему брату — дельцу Морни — и другим сторонникам идеи цезаризма предстояло вскоре появиться на авансцене истории.
Глава четвертая Трудный год
Женевьева сидела возле маленького Иоганна и напряженно старалась понять, почему две почтовые кареты, из которых одна вышла в шесть часов утра из Парижа в Лион, а другая из Лиона в Париж на час позже, встретятся на полдороге именно через столько-то времени. Сын терпеливо объяснял матери задачу, которую только что решил.
— Поразительно,— сказала Женевьева,— чего только не способна выдумать наука... Но почему многие ученые люди живут бедно, хотя знают все на свете? Раньше я думала, что учение всегда приносит богатство.
Она услышала, как закипает суп, и быстро направилась к печи.
— Богатство чаще достается неучам,— сказал Иоганн Сток, входя в комнату.
Он снял теплую фуфайку и вышел в сени, где стояло ведро с водой и таз, чтобы умыться после работы. Иоганн был утомлен и хромал больше обыкновенного.
— Быть дождю. Болят у меня кости,— сказал он, досадуя на свою немощь. Вернувшись в комнату, он ласково потрепал сына по плечу и пододвинул убогий стул к столу. Женевьева достала из печи кастрюлю, поставила миску. В углу комнаты в бадье намокало белье.
Иоганн посмотрел на красные опухшие руки жены и угрюмо спросил:
— Все стираешь? Надрываешься?
— Надо было начинать сегодня стирку белья господина Ивье, ведь он учит нашего сына.
Поймав взгляд мужа, она поспешно спрятала руки под передник и села, стараясь скрыть свою усталость.
Иоганн подумал с грустью: «В ее возрасте богатые женщины расцветают, а она, что старая яблоня, посерела, высохла и покривилась».
Он отодвинул тарелку, чувствуя, как сострадание к жене сжимает ему горло, и сказал:
— Вот что, жена, так дальше жить мы не можем. Мне в Париже не найти дороги. Работа у меня временная, да и в «Союзе справедливых» на многое не нахожу ответа. Надо подумать, не перебраться ли куда-нибудь. Я слышал, что в Брюсселе безработных портных как будто меньше.
Маленький Иоганн сорвался с табурета и восторженно завертелся юлой. Он только и мечтал что о путешествиях и незнакомых местах.
Женевьева, не скрывая огорчения, села подле мужа.
— Иоганн, зачем ты придумал это? Здесь у меня есть знакомства, постоянная поденная работа.
— Это стирка-то? — горько усмехнулся муж.
— Была бы хоть такая работа. Ведь благодаря ей из нашего малыша выйдет ученый человек. А в чужих местах согласится ли кто учить сына прачки и портного? Ты тоже нет-нет да и имеешь заработок. Тут много хороших людей— Эвербск и другие. А то снова потащимся, как цыгане, по свету. Что цыгане? У них хоть есть лошадь и кибитка, а у пас всего лишь корыто, поломанная кровать, стол, три стула, немного тряпья да еще вот кастрюля.
Женевьева добросовестно перечислила все достояние семьи. Но Сток не уступал. Маленький Иоганн тоже упрашивал мать не бояться переезда в чужие места.
— И чего ты так беспокоишься, Женевьева? — удивился Сток.— У работника есть большое преимущество перед его хозяином — он ничего не имеет и легок на подъем. Терять нам нечего.
Женевьева махнула рукой и согласилась:
— И вправду, хуже не будет.
Ранней весной Сток и его семья в почтовой карете двинулись в Брюссель. Кучер протрубил в рог, захлопнул дверцы, и лошади побежали по мощеной улице к заставе.
Когда наскучило смотреть в окно, Сток достал узкую книжечку в потемневшем переплете и начал читать вслух жене и сыну:
— «Еще в восьмом столетии хроники упоминают о местечке Брусцелле. Герберга, сестра Оттона Первого, принесла с собой это местечко в приданое, когда выходила замуж за Гизельберта Лотарингского. Дочь ее сына Карла, Герберга, вышла замуж за Ламберта, графа Лувенского. Начиная с Иоганна Первого, который правил с тысяча двести пятьдесят первого по тысяча двести пятьдесят девятый год, Брусцелл постепенно превращался в столицу, и город Лувен потерял свое значение. После неоднократных вооруженных столкновений граждан, ревниво защищавших свои привилегии, с патрициями или князьями, после суровых кровопролитных войн в тысяча триста пятьдесят пятом году Брюссель перешел в собственность к графине Фландрской, супруге герцога Филиппа Смелого.
В тысяча четыреста тридцатом году герцог Бургундский, Филипп Добрый, вступил во владение Брабантом, столицей которого был Брюссель, и при его внучке Марии город перешел во владение Габсбургского дома. Постоянное нарушение прав, скрепленных присягой, данной этими князьями народу, приводило к восстаниям».
Женевьева, вздохнув, прервала мужа:
— Куда ни глянешь — все одно и то же. Обижают народ,— он но стерпит — восстанет, его же и побьют, и опять все сначала.
Иоганн продолжал читать:
— «Карл Пятый сделал Брюссель столицей Нидерландов. Город наполнился блеском и шумом придворной жизни. При его сыне Филиппе Втором Брюссель стал ареной Нидерландской революции».
— А было ли, отец, так, чтобы не было бедных? — спросил маленький Иоганн.
— Нот, дружок,— улыбнулся Сток,— на моей памяти такого еще не было. Но будет.
— Читай дальше,—попросила Женевьева. И Сток снова принялся за прерванное чтение:
— «Страшна была тирания Филиппа Второго, этого кровожадного деспота. Он установил в стране инквизицию, которая сжигала на кострах невинных людей, обвиненных в ереси. В начале тысяча пятьсот шестьдесят шестого года в Нидерландах образовался «Союз дворян среднего достатка», которые поклялись защищать свободу воры против посягательств испанского правительства. Один из знатных и богатых нидерландцев, Барлемон, выслужившийся перед испанской правительницей Маргаритой Пармской, прозвал членов союза гезами,что значит нищие. Это название не унижало, а, наоборот, приблизило восставших к народу. Гезы начали одеваться в пепельно-серую одежду нищенствующих монахов и прикрепили к груди особый значок — гезский пфенниг, на котором были изображены две протянутые руки с сумой. Они возглавили восстание народа против испанского гнета. Жестокий герцог Альба был послан в Нидерланды, чтобы подавить восстание и уничтожить главарей. Но все его попытки расправиться с повстанцами не увенчались успехом... В море на испанский флот и на побережье, где расположились войска усмирителей, нападали морские гезы. Гезы заняли в тысяча пятьсот семьдесят втором году город Бриль и постепенно освободили от испанцев-поработителей все северное побережье Нидерландов. Брюссель особенно пострадал от свирепости герцога Альба и от испанской инквизиции, стремившейся к беспощадному уничтожению нидерландских вольностей. На кострах инквизиции и в камерах пыток погибли тысячи людей.
Во время продолжительных войн, которые велись в Нидерландах, Брюссель был опорным пунктом то нидерландцев, то испанцев. Город храбро защищал свою независимость, пока после смерти от руки убийцы доблестного и справедливого принца Оранского не вынужден был сдаться Александру Фарнезе Пармскому в тысяча пятьсот восемьдесят пятом году. Иезуиты и католическое духовенство употребили все старания, чтобы искоренить протестантизм, который, несмотря на жестокие преследования, глубоко укоренился в Брюсселе... Город сильно пострадал во время войны Испании с французским королем Людовиком XIV и Австрии с Людовиком XV».
— Что же это, кто с кем ни дерется, а Брюссель громят,— удивилась Женевьева.
— Так оно и бывает, когда страна теряет независимость. Да и к тому же у города такое месторасположение— мимо не пройдешь! — ответил Иоганн и снова взялся за книгу.
— «Со вступлением на престол австрийского императора Иосифа Второго настал период горьких испытаний, известный под названием Брабантской революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Едва после кратковременной независимости в тысяча семьсот девяностом году было восстановлено австрийское господство, как вследствие битвы при Жемаппе страна белгов, как называли ее при Гае Юлии Цезаре римляне, подпала под власть французов. Но в марте тысяча семьсот девяносто третьего года победа австрийцев при Неервиндене заставила французов оставить город. Сам император австрийский, Франц Второй, торжественно присягнул Брабантской конституции, но спустя несколько месяцев победа, одержанная Журданом при Флерюсе, привела французов в Брюссель, который был низведен отныне до положения главного города Дильского департамента. Ничто не могло ему вернуть прежнего блеска. В тысяча восемьсот четырнадцатом году после свержения Наполеона Брюссель со всей Бельгией был присоединен к основанному тогда королевству Нидерландскому и попеременно с городом Гаагой стал местом пребывания Генеральных штатов и королевского двора».
Сток закрыл книгу и спрятал ее в корзину.
— Что же было потом? — спросил заинтересовавшийся маленький Иоганн.
— Потом в Брюсселе в июле тысяча восемьсот тридцатого года вспыхнула революция. Полилась кровь народная по всей стране. Четыре дня шли в Брюсселе уличные бои между восставшим народом и королевскими войсками. Повстанцы победили, и Брюссель стал столицей вполне независимого королевства Бельгии...
На следующий день, в воскресенье, на рассвете, Сток с женой и сыном вышли из почтовой кареты у дорожного трактира за шлагбаумом. Знакомый ремесленник, немец, приютил их у себя в Нижнем городе, на улочке возле Шельдского канала.
Маленький Иоганн совсем не устал в дороге и, пока его отец и мать отдыхали у гостеприимного земляка, вышел из низкого чистого домика и направился к полю. На окраине города воздух был прозрачным и чистым. Иоганн увидел реку Сенне, которая, делясь на несколько рукавов, текла, перерезая город неподалеку от канала. Женщины в огромных рогатых чепцах полоскали у берега белье. Вдали на лугу гнали скот пастухи. Рысью пронеслись мимо мальчика к городу несколько всадников.
Позабыв строгий наказ — не отходить далеко от дома, Иоганн отправился вверх по узким кривым чистым улочкам. Ему встречалось все больше народу. Люди говорили на незнакомом Иоганну фламандском языке. В это воскресное утро верующие, в строгих темных одеждах, с Библиями в руках, торопились к церковной службе.
Чем выше поднимался мальчик, тем наряднее и шире становились улицы, величественнее дома. Он услыхал снова знакомый французский язык и вошел в парк, где гуляли нарядные дети в сопровождении нянь, воспитателей, гувернанток. Все они глядели на Иоганна с удивлением. В простой чистой одежде и деревянных башмаках, с развевающимися волосами, один, он действительно казался странным в этом чудесном парке.
Погуляв немного, Иоганн вышел из сада и вскоре очутился на площади Мучеников. Там была могила борцов, павших за свободу в 1830 году. Иоганн положил на памятник героям веточку сирени, которую тайком сорвал в парке.
— Ого! — сказал господин в плаще, заметив, с каким благоговением смотрел мальчик на памятник.— А что знаешь ты о тех, кому сейчас принес цветы?
— Это были хорошие люди. Они не побоялись голландских королевских солдат и сражались четыре дня, чтобы народу жилось лучше,— сказал Иоганн и добавил, улыбаясь застенчиво: — Как только я вырасту, буду тоже бороться за народ, за то, чтобы не было бедных, а все на свете были богатыми.
— Да ты, я вижу, парень смышленый. Где ты живешь?
Иоганн не знал, что ответить. Он лишь сейчас понял, что ослушался родителей и не знает дороги домой.
Человек в плаще, с бледным и утомленным лицом, заметил колебание и растерянность мальчика.
— Ты бездомный? Как тебя зовут?
— Я не бездомный. Мы только утром приехали из Парижа и остановились у папиного друга. Меня зовут Иоганн Сток.
— Ты сын портного? Твой отец прихрамывает?
— Мой папа не хромал, когда был такой, как я,— ответил Иоганн.
Через несколько минут Фердинанд Фрейлиграт шел с маленьким Иоганном по улицам Брюсселя, оживленно разговаривая, как с давнишним знакомым.
На площади городской ратуши он ввел мальчика в маленькое кафе и заставил выпить чашку кофе и съесть горячие сосиски.
— Ты, сыпок, наверное, основательно проголодался,— сказал поэт, с удовольствием наблюдая, с каким завидным аппетитом маленький парижанин поглощает еду.
— А вы кто такой? — спросил Иоганн, старательно очистив тарелку с печеньем.
— Я Фрейлиграт.
Всегда несколько тусклые глаза поэта засветились доброй улыбкой. Иоганн задумался.
— А что вы делаете?
— Пишу стихи.
Иоганн обрадовался.
— Их потом поют, я знаю,— ответил он, очень довольный.— Вы знаете такую песню? — продолжал мальчик и тихонько запел:
Звучит над землею свободы труба, Весь мир содрогается вдруг, Развернуто знамя — то знамя борьбы, Толпятся народы вокруг.— Браво! — воскликнул Фрейлиграт.— Кто перевел тебе гимн чартистов на французский язык?
— Это отец поет, а мама любит больше «Марсельезу»,— сказал важно Иоганн.
Они вышли из кафе. Мальчик засмотрелся на необыкновенное здание в готическом стиле с уходящей ввысь башней, которая заканчивалась огромной фигурой расправившего крылья архангела Михаила. Фрейлиграт пояснил ему, что эта ратуша построена в XV веке, во время испанского господства, и высота башни достигает нескольких сот футов.
Иоганн хотел бы еще побродить по незнакомому, очень понравившемуся ему городу, но поэт был неумолим. Он понимал беспокойство отца и матери, потерявших своего сына. Фрейлиграт подозвал фиакр и повез Иоганна к знакомому немцу, который должен был помочь выяснить, у кого же именно остановился по приезде Иоганн Сток. По дороге мальчик попросил поэта прочесть ему стихи.
— Я бы хотел понять, как они делаются,— сказал Иоганн серьезно.
Фердинанд прочитал мальчику свои стихи о республике.
La République! La République! Разгром всего былого! Святой победы светлый лик! Мы шли на риск! Три дня — и все готово! La République! La République! Vive la République![3] Все вести опоздали; Единый вздох, единый миг... И мы вошли В истории скрижали! Республика! Республика! Да здравствует республика!Только к вечеру Фрейлиграт доставил маленького Иоганна его родителям, пережившим немало волнений.
Через несколько дней Сток получил работу в мастерской модного портного на Зеленой аллее. Маленького Иоганна удалось поместить в школу, устроенную несколькими набожными филантропами «для бедных детей». Женевьева была отныне освобождена от тяжелой поденной работы, она ждала второго ребенка.
Вильгельм Вейтлинг приехал в Брюссель из Лондона несколько раньше Стока. Пребывание в Англии принесло ему лишь разочарования. Карл Шаппер, Иосиф Молль и Генрих Бауэр — руководители «Союза справедливых»— встретили его дружески, но очень скоро отшатнулись от новоявленного пророка, которым возомнил себя этот портной.
В то время как в Англии все выше и выше поднимались волны чартистского движения, когда труженики бастовали, собирались, несмотря на преследования, требуя десятичасового рабочего дня, повышения оплаты труда и освобождения заключенных в тюрьмы своих вождей, Вильгельм Вейтлинг ораторствовал среди немецких изгнанников, предлагал создать единый всемирный язык, без которого будто бы немыслимо объединиться рабочему классу. Он разрабатывал для этого особую систему.
«Единый язык рабочих,— удивленно или досадливо спрашивали его,— разве в этом дело? На каком бы языке ни говорил пролетарий, его ждет везде одна и та же эксплуатация, голод, непосильный труд».
Вейтлинг упрямо пытался также доказать, что христианство на заре его возникновения и есть подлинный коммунизм. И это в то время, когда но всей Англии собирали подписи под петициями рабочих парламенту. Было собрано уже свыше миллиона. Теоретические расхождения между ним и другими руководителями Лондонского просветительного общества постепенно углублялись. Вейтлинг с видом оскорбленного гения отходил от своих недавних единомышленников и все больше отрывался от рабочего класса и его борьбы.
Вейтлинг покинул остров и прибыл в столицу Бельгии как раз тогда, когда закончил свою новую книгу — «Человечество, как оно есть». В ней он тоном пророка проповедовал переход от коммунизма к христианской идеологии. Не зная об этом, Маркс встретил Вильгельма Вейтлинга как дорогого ему человека.
Еще весной 1845 года Маркс и Энгельс, ценя публицистический талант Вейтлинга, предложили ему издавать в Лондоне коммунистический журнал. Однако он отказался и написал тогда в Брюссель:
«Дорогие друзья! Между различными коммунистическими деятелями нет единодушия. Это особенно дает себя чувствовать при таких начинаниях, где требуются жертвы и где каждый может сделать больше или меньше, в зависимости от своего рвения к делу пропаганды. Но я вынужден прервать свою мысль — короче, дело обстоит так, что я счел издание здесь журнала затруднительным и в особенности не захотел иметь никакого отношения к редактированию. Если бы вы мне прислали письмо такого же содержания месяц тому назад, то я бы с радостью сделал все возможное для осуществления этого проекта. Но сейчас для меня слишком поздно. Я всегда терплю очень долго, но когда приходится слишком туго, то принимаю быстрое решение. Так случилось и сейчас. Вот уже неделя как я отказался от всякого писательства и занялся изобретением в производстве модного товара. Я потратил остаток своих денег на то, чтобы заказать машину и сделать образцы. Сегодня вечером мне опять будут нужны деньги, и я не знаю, где их достать (2 фунта я смогу получить только завтра)... Редактирование такого журнала всегда неблагодарное дело. Я, во всяком случае, взялся бы за это только в соответствии с вашим предложением, а именно, чтобы каждая статья помещалась за подписью автора. Но тогда многие бы стали приносить статьи, из которых надо было бы делать выбор. На этом наживешь врагов. А тут еще, пожалуй, захотят устраивать заседания и выносить большинством голосов решения по поводу того, что будет выходить из моей головы, и не следует ли это сделать погуще или пожиже, применительно к головам других людей. Короче говоря, в работе не было бы уже той свободы, которой я располагал, когда издавал «Junge Generation» и «Hilferuf». Уполномоченным я поэтому ответил отказом».
По приезде в Брюссель Вейтлинг часто посещал Маркса, и Карл вскоре увидел, что мелкие обиды, ущемленное самолюбие, огромное самомнение совершенно преобразили этого политического деятеля.
В один из вечеров Иоганн Сток отправился к Марксу. Дверь ему открыла Ленхен и, добродушно поздоровавшись, ввела в рабочую комнату Карла. Там было накурено и шумно. Из присутствовавших Сток не знал никого, кроме самого Маркса. Энгельс, показавшийся Стоку очень юным, поздоровался с портным так сердечно и просто, точно они были давным-давно знакомы.
Один из находившихся в комнате гостей с привлекательным лицом назвался — Вестфален.
— Мой шурин и друг детства,— пояснил Иоганну Карл и представил остальных.— Вот Иосиф Вейдемейер; он упрям и верен слову, как все уроженцы Вестфалии. А вот — познакомьтесь, господин Анненков, из суровой и мрачной России. А это сам прославленный Вейтлинг!
Иоганн увидел белокурого красавца в длиннополом сюртуке, обтягивающем стройную фигуру. Узкие штиблеты на его ногах сверкали.
«Впрямь ли он из рабочих?» — усомнился про себя Сток, бесцеремонно разглядывая Вейтлинга — автора столь понравившейся ему книги «Гарантии гармонии и свободы». Хорошо подстриженная бородка, напомаженные волосы, самоуверенная поза Вейтлинга были точно у приказчика из дорогого магазина. Но проницательные глаза Стока поймали настороженный взгляд из-под нахмуренных бровей, беспокойную гримасу тонких, четко вырисованных вздрагивающих губ. Сток догадался, что перед ним человек, чем-то раздраженный, неустойчивый, легко переходящий от одного настроения к другому.
«Нет, этого я не хотел бы иметь рядом с собой на баррикаде»,— подумал Иоганн. С некоторых нор, знакомясь с новым человеком, он неизменно мысленно определял, доверился ли бы он ему, очутившись рядом под огнем.
Все уселись за небольшой, покрытый зеленой скатертью стол. Павел Анненков недавно прибыл с рекомендательным письмом Григория Михайловича Толстого к Карлу Марксу.
Помещик, знавший Карла Маркса по Парижу, писал ему об Анненкове:
«Мой дорогой друг! Рекомендую вам господина Анненкова. Этот человек должен понравиться вам во всех отношениях. Достаточно его увидеть, чтобы полюбить. Он расскажет вам обо мне. Не имею возможности в настоящее время высказать вам все, что хотел бы, так как через несколько минут уезжаю в Петербург.
Примите уверения в искренности моих дружеских чувств.
Прощайте и но забывайте Вашего истинного друга Толстого».
Анненков жадно присматривался ко всему окружающему, Маркс ему очень понравился.
— Этот человек подлинно сложен из воли, энергии и несокрушимого убеждения. Какой поразительный контраст с болтунами-всеразрушителями, которых встречал я перед отъездом в России,— сказал он, обращаясь к Эдгару фон Вестфалену.
Карл сидел с карандашом в руке, записывая что-то на листе бумаги. Энгельс, представительный, серьезный, стоя говорил собравшимся о необходимости для всех тех, кто посвятил себя делу освобождения людей труда, найти единую точку зрения на происходящие события. Надо установить общность взглядов и действий, создать доктрину, которая была бы понята и принята теми, у кого нет времени или возможности заниматься теоретической разработкой всех вопросов в отдельности.
Энгельс говорил с все нарастающим увлечением, разволновался и начал слегка заикаться.
Сток внимательно слушал его речь. Энгельс старался доказать Вейтлингу, что не проповедями, а научной пропагандой можно привлечь к себе тружеников.
На этом собрании решался вопрос о том, какие именно коммунистические книги следует издавать в первую очередь. Вейтлинг настаивал на том, что его произведения наиболее нужны. Он требовал немедленного их издания.
Вдруг Маркс встал и подошел к Вейтлингу вплотную. Глаза его смотрели строго. Движения были несколько угловаты.
— Скажите, Вейтлинг,— спросил Карл громко,— каковы ваши теоретические взгляды сегодня и как вы думаете их отстаивать, увязывая христианский догматизм с идеями коммунистов? Ведь именно это вы предлагаете в своей последней книжке?
Вейтлинг растерялся. Он окинул неуверенным взглядом собравшихся и принялся объяснять, в чем его цель.
— Нужно не созидать новые теории, а принять ужо проверенные опытом и временем,— сказал он,— надо открыть рабочим глаза на их положение, на несправедливость, унижения, которые они встречают повсюду. Пусть рабочий не верит обещаниям сильных мира сего, пусть надеется только на свои силы, пусть создает демократические и коммунистические общины.
Вейтлинг говорил в этом духе долго, речь ого становилась все менее содержательной и подчас бессвязной. Насколько каждое высказанное Энгельсом положение было убедительно и одна мысль закономерно следовала за другой, настолько противоречиво, обрываясь и путаясь, вырывались слова у Вейтлинга. По существу, он не делал никаких выводов.
Сток все более удивлялся. Не менее разочарованным казался и Павел Анненков, который в начале собрания с благожелательным интересом смотрел на знаменитого Вейтлинга.
Маркс все больше мрачнел, слушая его, и постукивал карандашом по столу. Брови его нахмурились, глаза заблестели. Внезапно он приподнялся, посмотрел прямо в лицо Вейтлингу и прервал его.
— Возбуждать народ, не давая ему никаких твердых положений и лозунгов,— значит обманывать его! — воскликнул он. — И знаете ли вы, Вейтлинг, что обращаться к рабочим без строго научной идеи, без проверенного учения — это то же, что разыгрывать в наши дни из себя бесчестного и пустого пророка, который к тому же считает простых людей доверчивыми ослами... Вы неправы, вы неправы! Люди, не имеющие политической доктрины, причинили много бед рабочим и грозят гибелью самому долу, за которое берутся, не понимая своей ответственности.
Вейтлинг вспыхнул, поднялся и заговорил неожиданно гладко и уверенно:
— Меня называют пустым и праздным говоруном1 Меня, которого знают все труженики Европы! Я собрал под одно знамя сотни людей во имя идей справедливости, солидарности и братства. Но вы не можете задеть меня, Маркс, своими нападками. Я вспоминаю сотни писем, полные благодарности, которые получаю из разных стран. Те, кто пишет их, а не вы, далекие от нужд народа, будут моими судьями, если понадобится. Моя работа среди понимающих меня тружеников значительно важнее всяческих кабинетных учений и критики, которые порождены незнанием бедствий народа и его нужды. Вы живете вдали от тех, кого хотите учить. Что вы знаете? Чем вы можете помочь пароду?
При последних словах, произнесенных повышенным тоном, Вейтлинг закинул назад голову, взглянул на всех сверху вниз. Но вдруг он попятился и поспешно сел. Окончательно разгневанный его словами, Карл с такой силой ударил кулаком по столу, что замигала покачнувшаяся лампа. Побледнев, Маркс крикнул:
— Никогда еще невежество никому не помогло!
Затем он вскочил, резко оттолкнув стул.
Тотчас же вслед за ним все поднялись со своих мест. На этом собрание и закончилось. Вскоре все начали расходиться.
Иоганн Сток вышел вместе с Анненковым. Оба они были потрясены тем, что произошло в квартире Маркса в этот вечер.
— И это Вейтлинг? Я думал, он настоящий человек, а не самоуверенный индюк,— сказал Сток своему новому знакомому.— Но Маркс — до чего необыкновенный, до чего большой ум.
— Все, что ни скажет и как ни скажет Маркс,— подтвердил Анненков,— глубоко и справедливо. Это человек замечательный. Таких нелегко сыскать на свете.
У тусклого фонаря они дружески расстались.
Снова Иоганна захватила жажда борьбы. Он думал: «Мы выступим вооруженными не проповедями Вейтлинга, а строгой наукой победы. Ее знают такие люди и бойцы, как Маркс».
Павел Анненков задержался в Брюсселе и зачастил в уютный домик на улице Альянс.
Многократно, с чувством облегчения он покидал родину и странствовал по Европе. Душно было во всем мире, что совсем непереносимой казалась ему атмосфера в России. Анненков любил поговорить, не приглушая голоса и не оборачиваясь воровато по сторонам. Он стыдился страха, мелькавшего в душе опасения, что за высказанное либеральное слово его может ждать жестокая расплата, как то случилось уже со многими его друзьями.
Небогато одаренный творчески, он, однако, умел отличать в людях самое высокое и передовое. Все поражало ого в Марксе. Часами он готов был слушать его непреклонные высказывания, которые казались русскому свободомыслящему помещику радикальными неоспоримыми приговорами над лицами и предметами. В Марксе и Энгельсе он нашел то, чего по было в нем самом и во многих его друзьях, оставленных в Петербурге и Москве,— единство слова и дела.
Анненков все более поддавался огромной воле и силе убеждения Маркса. Он находил неизъяснимое наслаждение в разговорах с ним.
«Есть люди,—думал он,—которые чем ближе пх узнаешь, тем кажутся они мельче и время, проведенное с ними,— потерянным. А Маркс как гора. Издалека но определить ее величины, а подойдешь — и видишь, что вершина уперлась в самое небо».
Удивляла Анненкова и непосредственность, простота Карла. Случалось, придя к нему, Анненков находил его резвящимся с детьми, похожим на шалуна мальчишку, или увлеченно играющим в шахматы с Ленхен. Как радовался Карл, выигрывая партию!
— Поистине, великое просто,— говорил тогда Анненков.
Часто после очень скромного ужина Маркс приглашал его в кабинет, где, куря сигары, они беседовали далеко за полночь.
Маркс не уставал спрашивать и слушать о далекой и загадочной России, стране рабовладельцев и самоотверженных революционеров, невежд и гениальных писателей.
— Я могу удостоверить,— рассказывал как-то Анненков Марксу,— что друг мой Белинский, о котором вы много уже слыхали, знает вас и Энгельса не только по вашим теоретическим работам, по и но политической борьбе. Мы не раз, как вот сейчас с вами, говорили с ним об этом. «Немецко-французский ежегодник» тотчас же по выходе штудировался им с большой тщательностью. Причем, помнится, именно ваша статья «К критике гегелевской философии» особенно заинтересовала Белинского и, я в этом уверен, придала ему бодрости и душевного веселия, открыв глаза на многое. Да и кто мыслящий может равнодушно пройти мимо таких глубоких изречений, как ваши. Я ведь многие знаю наизусть.
«Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».
Цитируя Маркса, Павел Васильевич незаметно для себя встал с места и придал голосу патетические интонации. Карл, улыбнувшись одними глазами, пододвинул ему кресло. Опомнившись, Анненков сел и продолжал спокойнее:
— Столь богато одаренный человек, как Белинский, не мог не понять всю значительность вашей статьи о гегелевских взглядах на мир. К несчастью, наши русские в пору правления Николая Палкина, и даже Белинский, не могут печатно сказать все то, что они думают. По мнению Белинского, которое он высказывал не раз друзьям своим, и мне в том числе, истина, если нельзя ее обнародовать и популяризировать, всего лишь мертвый капитал. В одном я уверен: если мучительная болезнь, подтачивающая Белинского, не убьет его вскорости, этот познавший столько бед и нищеты, безупречный, гениальный человек должен прийти к коммунизму.
Подолгу разговаривали Маркс и Анненков также о судьбах славянских народов.
— Из всех славянских языков для моего западноевропейского уха особенно приятен русский,— отмечал Карл.— Хотя все славянские языки, очевидно, очень близки и схожи.
Сток считался добросовестным и умелым портным. Кроме того, он долго работал в Париже, что очень ценилось.
Хозяин мастерской поручал ему выполнять самые сложные заказы. Никто лучше но шил модные жилеты и узкие брюки. Он знал особенности последних парижских моделей и умел шить также сюртуки и рединготы с пышными складками сзади. В Брюсселе такие складки решались заказывать лишь самые рьяные щеголи да твердые поклонники лорда Дэнди, считавшие, что только мужчина, одетый изысканно, является истинным аристократом.
Хозяин мастерской на Зеленой аллее, одной из самых нарядных в Брюсселе, никогда сам не бывал в Париже и поэтому особенно прислушивался к мнению Стока.
— Что ты думаешь об этом сюртуке? — спрашивал он Иоганна, показывая ему старый журнал мод, полученный из Франции.
— Слишком просторен,— отвечал Иоганн, с профессиональным любопытством вглядываясь в костюм нарисованного господина с длинными волосами, припомаженными на макушке, и пышно завитыми усами, закрывшими половину щеки.— Сейчас в Париже господа одеваются в обтягивающие, словно перчатка руку, сюртуки. Их застегивают только на одну верхнюю пуговицу, чтобы открыть жилет и брюки, которые всегда изящнее, если они в мелкую светлую клетку. Фуляровый платок должен крепко стягивать шею, открывая узенькую полоску тугого воротничка.
— Да, но как же рукав и проймы? — выпытывали хозяин и закройщик.
— По фигуре натянуты, и рукав узенький, на двух пуговичках, без манжет.
— Это очень шикарно,— восторгался закройщик,— наш король Леопольд Первый не откажется от такого костюма. Сколько же пуговиц на сюртуке?
— Шесть,— отвечал Сток,— а на рединготе в этом году следует нашивать восемь, по четыре с обеих сторон.
— Да, Франция — великая страна! Законодательница мод,— вздыхал хозяин, преисполняясь уважением к своему парижскому мастеру.
А Иоганн радовался, что ему обеспечена работа. Часто после двенадцатичасового рабочего дня он отправлялся в маленькое кафе, недалеко от мастерской, где в эти мартовские дни почти ежедневно собирались социалисты.
Сток мог просмотреть там же и газеты. Они писали о том, что в Ирландии множество людей умирает от голода из-за гибели картофеля от какой-то диковинной болезни. Ирландцы питались мхом и травой, бросали обжитые места и бежали в города, где подбирали отбросы и рылись в мусорных свалках. Свыше ста тысяч ирландцев отправились в Канаду и Соединенные Штаты на первых подвернувшихся кораблях.
«Несчастные ирландцы,— писала брюссельская газета,— заполняют до отказа любые суда. Их нередко отвозят за океан на разваливающихся кораблях, на которых нет никакой врачебной помощи. Почти в каждой партии, бегущей с родины, где второй год нечего есть, много чахоточных и больных заразными болезнями. Более шестнадцати процентов ирландских эмигрантов уже умерли либо в пути, либо в карантинах, где их держат по прибытии в Новый Свет».
Газеты также сообщали, что войска русского царя Николая I ведут кровавые упорные бои с мусульманским вождем Шамилем в горах Кавказа, что в английский парламент подано сто сорок девять петиций. Полтора миллиона человек поставили под ними свои подписи. Народ требовал освобождения томящихся в тюрьмах чартистов...
Сток сумрачно качал головой. Много горя повсюду! Он доставал коробочку с табаком и начинал нервно скручивать сигарету, чтобы успокоиться. Его всегда охватывало раздражение, когда он чувствовал собственное бессилие.
Как-то его окликнули с противоположного конца узкой комнаты. В окраинном кафе, не имевшем даже бильярда, стояли круглые столики и вдоль стены высилась длинная стойка буфета. За ней с равнодушным видом сидел хозяин, не спускавший глаз с посетителей и беззвучно, одним мановением руки, управлявший несколькими кельнерами, которые с салфетками, перекинутыми через левую руку, носились, жонглируя подносами.
— Сток, дружище, пересаживайся к нам!
Иоганн узнал приветливое лицо в рамке темных волос. Это был Фрейлиграт. Поэт был ему очень симпатичен. Не задумываясь, со своей кружкой пива Сток перекочевал к столу, откуда его звали.
Рядом с поэтом сидел знакомый портному по бурному собранию у Маркса Иосиф Вейдемейер. О нем Сток знал немного. Это был уроженец Вестфалии, бывший артиллерийский офицер прусской армии, занявшийся журналистикой.
Закуривая давно скрученную сигарету, портной рассматривал Всйдемейера. Чем старше становился Сток, тем осторожнее решался он давать оценки людям и поэтому, встречаясь впервые с человеком, терпеливо всматривался в него.
Иосиф Вейдемсйер располагал к себе честными, вдумчивыми глазами. Благожелательность и добродушие исходили от него. Сток подумал: «Он, кажется, надежный парень, Сразу выдает людям и мне вексель на доверие: берите, мол, Иоганн, я вам верю, докажите, что я прав».
«Хороший парень этот Иосиф из Вестфалии,— еще раз подумал Сток почти с нежностью,— только часто, наверно, его надувают!»
Вейдемейер между тем рассказывал, как глубоко заинтересовали его работы Маркса и Энгельса.
— Как силен Маркс в науке! — восторгался он.— Как замечательно верно оценивает деятелей революционного движения и их позиции. Вот, например, об «истинных социалистах» Маркс сказал безапелляционно: «Для этих старых баб характерно то, что они стремятся замазать и подсластить всякую действительную партийную борьбу»...
Вейдемейер не мог с этим не согласиться...
— Представьте себе, не только Маркс, но и Энгельс высказывал мне удивительные мысли.— При этих словах Вейдемейер достал из кармана тетрадку и продолжал: — Я даже записал кое-что, как видите, вкратце. Разрешите, я прочту свою запись: «Истинные социалисты» чрезвычайно опасны для пролетарской борьбы. Это ловкие мелкие буржуа. Своей словесной белибердой эти истинные путаники и пустомели собираются революционизировать Германию, привести в движение пролетариат, побудить массы к мысли и действию. Чепуха! Они смазывают все классовые противоречия. Чего только не наболтали они в своих статьях!.. Поговаривают они немного также о собственности по Прудону — отнюдь, впрочем, не из первоисточника и потому изрядно перевирают. К этому у них добавлено несколько патетических воплей о бедствиях пролетариата, необходимости какой-то организации труда и союзов для улучшения жизни низших классов. Вообще же совершенно неудобоваримый винегрет под соусом «истинного социализма». Все это к тому же полно неприкрытого невежества в отношении политической экономии! Они ничего не знают о состоянии общества сегодня. Вот примерно что сказал мне Энгельс, и, поразмыслив, я пришел к выводу, что он вполне прав,— закончил Вейдемейер.
— Да, его и Маркса не оглушишь пустыми словами,— заметил Сток и поднял бокал.— За социализм, против «истинных социалистов»,— проговорил он и залпом выпил пиво.
Вейдемейер рассказал п о том, как, побывав в семье Маркса и разглядев, что живется им трудно, решил помочь Карлу в издании его замечательной рукописи «Немецкая идеология». Нелегкое оказалось это дело. Арнольд Руге чинил всяческие препятствия. Он потребовал от своего компаньона, издателя Фребеля, чтобы тот немедленно порвал всякие отношения с Марксом.
Нет более упорного врага, нежели бывший идейный соратник, ставший отступником. Руге неистовствовал и вредил Карлу в чем только мог, хотя и не смел отрицать его дарования. Именно поэтому он ненавидел Маркса все сильнее.
— Самые старательные черти в аду всегда бывшие ангелы,— буркнул Сток, когда Иосиф рассказал о злоключениях, преследовавших новое творение.
— Все же мне удалось найти двух промышленников, которые читали некоторые «дерзостные» книги и после бокала вина кричали, что они коммунисты. С ними мы договорились о трех изданиях «Немецкой идеологии». Но когда эти два «истинных социалиста», два демократа узнали о содержании книги,— Вейдемейер сделал глубокий вздох и надул щеки,— тогда они сказали так: «Маркс и Энгельс решили нас выпороть, а вы хотите, чтобы мы сняли штаны и подставили наши зады. И все это за наши же деньги»...
Все рассмеялись.
— Простофиля вы, старина,— сказал грубовато Сток,— поди так и поверили в коммунизм богачей. Бьюсь об заклад, что издатели найдут и дальше множество оговорок и не захотят печатать Маркса. О, я хорошо знаю их породу. Они щедры, только когда жертвуют на гроб коммуниста, а тут надо тратиться на живую, да еще враждебную им книгу.
— Мне удалось пока собрать несколько сот франков, чтобы Маркс мог спокойно работать дальше,— сообщил Вейдемейер.— То, что он делает, столь важно для всех нас, для нашего движения! А что будет с изданием — не знаю. Но издать «Немецкую идеологию» необходимо. Это нужно для дела рабочих, для победы коммунистов.
— Что и говорить, доктор Маркс тот врач, который знает, как спять бельма с глаз слепого! — воскликнул Сток.
— Хорошо ты сказал,— оживился Вейдемейер и продолжал: — Маркс спокойно относится к неудачам с изданием «Немецкой идеологии», хотя там гениальные мысли, замечательные теоретические открытия! Ведь в ней, полемизируя с Фейербахом, он создает образ человека будущего, совершенного революционера. Удивительный Маркс человек! Весь поглощен уже новой работой и предстоящей полемикой с темн, кто мешает и путает как в теории, так и в практике борьбы. Вот уже подлинно нет в нем и тени честолюбия. Книга его все еще не печатается, а он считает, что цель ее все-таки достигнута.
— Какая же это цель, по-вашему? — спросил Сток.
— Выяснение сути дела для самих себя, сведение счетов с прежней философской совестью — так сказал мпе Маркс.
— Как же это? — изумился Фрейлиграт.— А вот мы, цоэты, писатели, жаждем большей частью одного — лишь бы напечатать поскорее свое произведение. Иногда в этом вся наша цель.
— Значит, у вас одно славолюбие,— усмехнулся Сток.
— Жажда похвал,— добавил, улыбаясь, Иосиф.— Но, мне кажется, но в этом должна быть радость творчества. Для истинного борца слово — всегда оружие, клич, обличение, но никак не самоцель.
Фрейлиграт покраснел, поспешно встал, уронив узкий резной стул, вскинул голову и неожиданно принялся, заглушая все остальные голоса, декламировать:
Не верьте, что больше в живых ее нету, Что чужд ее голос для наших времен, Пусть смелое слово в оковах запрета, И кто не доносчик — молчать обречен. Пусть карами злыми насилье грозится, Пусть многим уделом — в изгнанье томиться, Иной себе вены вскрывает в темнице. Свобода жива, и бессмертны права. Свободу! Права!Кто-то зааплодировал, кто-то громко крикнул:
— Стихи эти не могут относиться к свободной Бельгии!
Несколько степенных господ демонстративно поднялись и, наскоро расплатившись, вышли из кафе. Хозяин встал из-за стойки и подошел к поэту, протягивая ему обе руки:
— Читайте, брат! Я тоже участвовал в уличных боях тысяча восемьсот тридцатого года, и вот этот рубец от раны,— он обнажил руку,— подтверждает, что я дрался лихо за свободу, права, конституцию. Замечательные стихи!
Польщенный Фрейлиграт продолжал:
Борьба не решится проигранным боем! Придут к нам победа и день торжества, В ответ на удар мы усилья удвоим И громко воскликнем: «Свободу! Права!» Идут они вместе на благо народа, Готовы всегда для борьбы и похода, Ведь там, где права, торжествует свобода, И там, где свобода, в почете права! Свободу! Права!Сток позабыл, казалось, время и где он находится. Один за другим, как при звуках некогда петых песен, как при ощущении запахов, некогда коснувшихся обоняния, вставали перед его мысленным взором лучшие часы жизни. И все они были борьба.
Знамена их всюду, над каждым отрядом, Что мстит за неправду и горечь обид,— Пусть здесь нет успеха, так будет он рядом, И правда в итоге везде победит. Да, эту победу венок ждет гигантский: И греческий лавр, и трилистник ирландский, И дуб из священной дубравы германской, И стран всей земли в нем сплетется листва! Свободу! Права!Фрейлиграт закончил читать стихи, и десятка два слушателей подхватили последние слова: «Свободу! Права!»— и наградили поэта щедрыми рукоплесканиями.
Стоку мучительно захотелось побыть одному, и он, распрощавшись, вышел из кафе. Потребность в одиночестве часто охватывала его. Она появилась после двухлетнего одиночного заключения и усиливалась с годами. Женевьева сначала негодовала, но затем смирилась.
«Запой одиночества»,— определил он сам эту новую страсть и но противился ей.
В Брюсселе по приезде ему еще почти не приходилось проводить несколько часов одному.
«Перемена места — перемена судьбы»,— слышал он когда-то библейское изречение. Стоку оно казалось лишенным мудрости.
«Какая такая судьба у бедного подмастерья?» — досадливо морщась, думал он.
Однако все-таки было разное и в его жизни. Менялся он, менялись люди.
С того дня, как в зале «Валентино» он услышал с трибуны маленького красноречивого Луи Блана, затем старого знакомого, болтуна Пауля, и, наконец, глубоко поразившего его Карла Маркса, пытливый ум портного, точно бурный поток, прорывающийся сквозь горы и ущелья, вошел постепенно в берега п уверенно двинулся вперед широкой, спокойной рекой.
Сток много думал и читал. Лионское восстание, «Общество прав человека» Бюхнера, «Общество времен года» Бланки, «Союз справедливых» — это были ступени, по которым он взбирался все выше и выше в борьбе за свободу и справедливость.
Не так давно трескучие фразы Вейтлинга могли бы увлечь его, как и многих других. Но хотя жизнь и была для Стока трудной школой, он сумел стать превосходным ее учеником. Ни одни слова без дел, какими бы многообещающими и красочными они ни были, ни одни только действия, какими бы искренними и смелыми на первый взгляд они ни казались, уже ничего для него больше но значили. Он хотел понять причины поражений и побед, сущность и особенности революций.
Маркс и Энгельс первые из тех, кого он встретил, отвечали на многие волнующие его вопросы, только они, анатомируя общество, историю, экономику прошлого, разгадывали казавшуюся мистической загадку вечного неравенства, порабощений и страданий столь многих людей на земле.
«Откуда и как явилась эта проказа, называемая нищетой, бесправием, когда мы заболели ею? Что ждет моего сына? Как его спасти?» — думал Сток, спускаясь по улице вдоль одного из рукавов тихой реки Сенне.
В этом году в Брюсселе повсюду мостили улицы, переделывали или заново настилали тротуары. Несмотря на поздний час, все еще стучали молотками каменщики. Пригибаясь, они тащили, пригоняли, укладывали камни на влажный песок. Стоку вспомнились гравюры, изображавшие египетских рабов за такой же работой, и он мысленно удивился, как мало изменились за тысячелетия жизнь и техника на земле.
В темноте портной споткнулся о камень и почувствовал острую боль в бедре. От этого ему стало еще тоскливее. Прислонившись к стене дома, чтобы переждать, покуда стихнет боль, Сток вдруг как бы увидел себя со стороны. Его передернуло. Тридцать пять лет, а он уже сед, хром, лицо в морщинах, глаза запали.
«Короток наш век: безработица, тюрьма либо пуля, что-нибудь да загонит в гроб,— подумал Сток и медленно поплелся дальше к Зеленой аллее.— Был ли я счастлив? Что же это такое, счастье?»
С тех пор как Сток медленно умирал в течение двух лот в одиночной каменной щели прусской тюрьмы, он привык иногда разговаривать с самим собой вслух. Но замечая этого, он громко обращался к себе с этими вопросами.
Какой-то прохожий остановился, тщетно стараясь рассмотреть в темноте лицо Стока, и пошел дальше, пробормотав укоризненно:
— Ишь как развезло парня!
Но Иоганн был трезв. Боль в ноге сменилась нытьем в суставах от усиливающейся сырости. Он оглянулся, чтобы понять, где находится, и увидел, что свернул ко дворцу Лекен, где живет король. Чтобы попасть к себе домой, следовало возвратиться назад и спуститься в улочку за Шельдским каналом.
Мысли мучили его. Он снова перебирал события минувшего, как бы вороша стог сена. Сухие стебли — ушедшие навсегда дни — рассыпались от прикосновения и безжалостно кололи. Но портной нашел среди них несколько свежих, зеленых и душистых листьев. Ему припомнилось, как, молодой и здоровый, он нес с берега Роны прижавшуюся к нему озябшую Женевьеву. Он услышал голос Бюхнера, читавшего «Воззвание», на которое возлагалось столько надежд. Проскрипела телега, вывезшая ого тайно из заточения на свободу. Он увидел вновь обретенную Женевьеву и почувствовал бодрое, крепкое рукопожатие Маркса, как бы обещавшее ему свершение всех его желаний.
«Если собрать воедино эти ничем не омраченные часы и мгновения, может быть, получится целый день. Один день счастья за все тридцать пять лет! Это, пожалуй, и немало для таких, как я...»
С такими мыслями вернулся Иоганн домой.
Рано утром хозяин мастерской вызвал портпого в примерочную. В большом, обитом бархатом кресле, возле зеркала во всю стену, сидел какой-то господин, вытянув большие толстые ноги в дорогих полосатых брюках и штиблетах с узенькими носами.
Он курил сигару, дым которой был таким едким, что портной закашлялся.
Хозяин строго посмотрел на Стока и приказал:
— Ты поедешь сейчас же в Остенде, примеришь и при* гонишь тот гардероб, который заготовили лучшие из моих мастеров для больного его сиятельства. Цени мое доверие! — Хозяин повернулся к господину и, низко ему поклонившись, сказал, указывая на Иоганна: — Это лучший из моих работников. Много лет он шил в Париже у знаменитого Лазье на улице Мира, где сам герцог Орлеанский не раз покупал жилеты.
Заказчик поморщился и важно процедил:
— Мой господин одевался лучше всех в Париже и очень разборчив. К несчастью, он сейчас после долгой болезни прикован к креслу. Он нуждается в костюмах, сшитых по самой последней моде и на всякий жизненный случай: прием при дворе, например, охота, бега и тому подобные дела.
Сток только теперь сообразил, что внушительный господин всего лишь дворецкий или лакей какого-то знатного вельможи.
Иоганн должен был выехать немедленно.
— Торопитесь, торопитесь, карета уже ждет.
В огромный сундук, осторожно перестилая бумагой, слуги укладывали всевозможные брюки, строгие длинные сюртуки, пышные рединготы, узенькие фраки и бессчетное количество разных жилетов с богатой отделкой и драгоценными пуговицами.
Сток попросил одного из подмастерьев зайти к Женевьеве и предупредить, что он вернется с морского побережья только через день-два.
В полдень богатая карета, нагруженная сундуками, баулами, огромными шляпными коробками, тронулась в путь. Всю дорогу толстый надменный лакей его сиятельства говорил о себе, своих болезнях, разнообразных путешествиях, службе, но ни словом не обмолвился о больном господине, которому вез столь богатый и разнообразный багаж.
Стока разбирало любопытство, но он умел издавна преодолевать в себе любые чувства и лишь нехотя прислушивался к разглагольствованиям своего спутника, милостиво предоставившего ему место не на козлах или запятках, а в самой карете, на переднем сиденье. Впрочем, это объяснялось тем, что лакей боялся скуки и нуждался в слушателе.
— Когда в тысяча восемьсот десятом году я имел честь служить в Париже у сиятельной графини Потоцкой,— говорил он,— мне приходилось видеть великого Наполеона. А с его мамелюком Рустамом я вот, как с тобой теперь, не раз разговаривал в передней императора. Большой имел он вес при дворе, хоть и черен был, словно савоярский трубочист. Не одному вельможе этот мамелюк оказал протекцию. Мы ведь, слуги, многое можем, поверь, я-то знаю это. Чего только я не насмотрелся! Раз в Варшаве самому императору за столом прислуживал. Ел он мало, но так быстро, что никто за ним не поспевал... Слыхал я, что когда задумал Наполеон жениться на австрийской принцессе, то из Вены гонец ему не портрет ее, а туфельку привез. Не лицом она, мол, а ножкой вышла! Да ведь ему не Мария-Луиза нужна была с ее ножками, а родство с древним Габсбургским домом. Велик всем, кроме роста, был корсиканец.
К вечеру кони, несшиеся во весь опор, доставили наконец карету на морское побережье. Остенде — водный курорт — в эту пору года казался безлюдным. Море неистовствовало и поднимало над серой набережной валы, рассыпавшиеся пенистыми каскадами. Прохожие брели под большими черными зонтами, прижимаясь к домам. Самые дорогие отели были закрыты на ремонт. При свете газовых фонарей городок казался мрачным и безжизненным.
Свернув в тихие улочки, карета выбралась на проселок, понеслась и наконец остановилась у железной ограды. Слуги в ливреях открыли тяжелые ворота, увенчанные гербом, и по большой безлистной еще аллее карета домчалась к дому, в котором освещено было только несколько окон.
Сток долго стоял в полутемном холле, среди чемоданов, сундуков и коробок. Казалось, о нем, как и о багаже, все забыли. Но вот на лестнице с золотым канделябром в руке появилась дама в темном платье, с яркими волосами и позвала его повелительным жестом. Несколько слуг понесли вещи вверх по лестнице. В большой комнате без окон, стены которой были сплошь из зеркал,— очевидно, туалетной,— портного снова оставили одного. Он не решался присесть на обитые атласом скамейки, хотя чувствовал себя очень усталым после стремительной езды.
Внезапно приоткрылась затканная золотыми цветами портьера, и, смеясь, вошел очень худой, довольно высокий мужчина в костюме простого рабочего. Его сопровождали слуги, раболепно сгибавшие спицы, два богато одетых господина и дама, которую Сток видел на лестнице. Позади, с костюмом на изогнутой калачиком руке, шел лакей, с которым Сток ехал сюда.
— Ну вот я и среди верных друзей,— нервно заговорил вошедший.— Право, костюм плотника имеет много преимуществ в наши дни, и я очень сожалею, что вынужден сейчас сменить его на дорожный редингот.
— Ваше высочество, все давно готово и не терпит отлагательств,— низко кланяясь, сказал один из господ.— Торопитесь, молю вас. Этот портняжка быстро исправит недочеты вашего костюма, который шили лишь по приблизительной мерке.
— Но я хотел бы отдохнуть и провести ночь в гостеприимном доме моей дорогой Марии. После почти шести лет спартанской жизни в тюрьме Гам хочется растянуться на хорошей кровати.
— Луи, прошу вас, навсегда забудьте этот гамский ад! — вскрикнула золотоволосая худая дама в темном платье с высоким воротником, подчеркивающим острый подбородок. Она сжала руки и вдруг, что-то сообразив, резко обернулась в сторону Стока.
— Вы будете хорошо вознаграждены не только за труд, но и за молчание,— тихо сказала она.
Затем, подозвав толстого лакея, она проговорила:
— Пока наш господин не покинет берега, задержите портного, если нужно, даже насильно. У него вид якобинца. Эти люди не раз причиняли Франции множество хлопот. Как могли вы выбрать такого разбойника и урода? — Она скривила негодующе лицо.— Разве вы не чувствуете, он так груб, что от его кожи исходит медвежий запах.
— Простите, мадам, но он шил на улице Мира костюмы герцогу Орлеанскому и показывал мне кошелек, которым тот его вознаградил,— бессовестно соврал злополучный слуга, пытаясь выгородить не столько Стока, сколько себя.
— Приступайте же к одеванию его величества,— несколько успокоившись, распорядилась Мария и, слегка улыбнувшись тому, кого она нежно называла «Лун», величественно вышла из комнаты.
Только под утро Стока выпустили из таинственного знатного дома. Поездом он добрался до Брюсселя и на Северном вокзале узнал от выкрикивающего последние новости газетчика, что «претендент на французский престол, единственный потомок императора Наполеона I, Луи Бонапарт, загримировавшись и переодевшись рабочим, с доской и рубанком в руке, бежал из тюрьмы Гам, куда был пожизненно заключен. В настоящее время племянник Наполеона высадился и гостеприимно принят в Англии».
— Так вот кому я накануне пригонял редингот и перешивал пуговицы на слишком просторном жилете! — воскликнул изумленный Сток.
В конце месяца в арендуемом зале, позади дешевого ресторана «Лебедь», должно было состояться очередное собрание немецких тружеников-коммунистов. Обычно там читались лекции по истории Германии или по политической экономии. Случалось, обсуждали статьи из газет и журналов и нередко разгорались шумные споры.
Несколько десятков портных и их подмастерьев, в большинстве пылких приверженцев Вейтлинга, ножовщики, каретники, краснодеревщики и плотники, а также часовщики посещали эти собрания. В своих мастерских и на городских окраинах они, в свою очередь, объясняли простим людям, с которыми сводили их обстоятельства или случай, то, что сами узнали от своих земляков. Так непрерывно расширялись связи, прибывали новые силы.
Утописты, вроде старого Кабе, обещавшие райскую жизнь в фаланстерах сказочной Икарии, давно потеряли власть над этими людьми, разуверившимися в легендах, какими бы упоительными они ни казались.
Рабочие, кто инстинктивно, вслепую, кто уже прозрев, искали выхода из западни, которой стала для них жизнь. Каждый день означал новые тяготы, а будущее казалось еще более угрюмым и безрадостным. Как и у Стока, идеи коммунизма захватывали их сердца, недоверчивые, усталые, нередко изведавшие разочарования.
Иногда на собрания являлись полицейские и угрюмо выстраивались у входных дверей. Но придраться им было решительно не к чему, и, тщетно пытаясь понять, о чем спорят эти ремесленники — в большинстве своем иноземцы,— полицейский комиссар разочарованно уводил блюстителей порядка. Случалось, что собрания проходили вяло и даже скучно, если ораторы повторяли общие слова о человечности, о терпимости, о смирении. Подобные речи напоминали церковные проповеди и усыпляюще действовали на слушателей, уставших после долгого рабочего дня.
Маркс и Вейтлинг вошли в зал собрания одновременно. Необычайно прямо державшийся Энгельс замешкался в дверях при виде Вольфа и Вейдемейера.
— Боюсь, что нам не устоять сегодня против страшного поветрия скуки и предстоит продремать весь вечер,— шепнул шутливо Вольфу Энгельс.— Если здесь выступит какой-нибудь последователь Прудона и начнутся схоластические рассуждения о собственности, об истинной стоимости, мы погибли. Эпидемия сонной болезни распространяется из Франции стремительно.
Вольф захохотал.
— Умоляю вас, Фред, если будете выступать, не пускайтесь в дебри германских первобытных лесов и не рассказывайте об общинном строе древних херусков. Когда я засыпаю, то, говорят, отчаянно храплю. Полиция вообразит, что здесь произошел пороховой взрыв.
— Да, беда, мы накануне мирового словопотопа. Все ото водолейство пошло от «истинных социалистов», и теперь в нем преуспевает Вейтлинг,— уже сердито заметил Энгельс.
Между тем в зале кто-то призывал к тишине. Сначала все шло по-обычному, спокойно и мирно. Оратор, портной, близкий друг Вильгельма Вейтлинга, говорил собравшимся о тяжелом положении своих собратьев по профессии!
— Хозяева открывают большие мастерские готового платья, и нам угрожает безработица. На машинах быстро шьют одежду. Я всю жизнь учился шить, а теперь любой неуч может сделать брюки. А как быть нам, умелым портным-одиночкам? Скоро у нас не останется заказчиков.
— Только и работы будет что закройщикам,— закричали из рядов, где сидели портные и портняжьи подмастерья.
Сток посмотрел на Вейтлинга. Он, как всегда напомаженный и одетый в чрезмерно обтягивающий сюртучок, нетерпеливо мял в руках листок бумаги.
Беспокойство среди портных нарастало.
— Что же помалкивает доктор Маркс? — крикнул Вейтлинг, пряча карандаш.— Ведь он великий теоретик!
И прежде чем кто-либо успел опомниться, он вскочил на шаткую трибуну и закричал, багровея и дрожа, как всегда, когда он волновался.
— Карл Маркс, как средневековый алхимик, хочет обогатить рабочий класс и уничтожить власть денег и буржуазии. Он занимается всем: историей людей, историей революций, историей денег. Отлично! Похвально! Он ненавидит невежество. Конечно, где уж нам, пролетариям, знать пути обогащения и революций! Но пусть скажет мне доктор Маркс, почему сейчас, когда Вейдемейер нашел в Вестфалии издателей не только для Маркса и Энгельса, но и для целой библиотеки иных социалистических авторов, зачем он отбросил меня, Вейтлинга, рабочего, портного, от этого денежного источника? Разве мое учение не приносит пользы моим собратьям? Я рабочий и знаю, как помочь пролетариату. Почему я отвергнут?
Лицо Маркса потемнело, брови сошлись на переносице. Энгельс, чья выдержка и умение владеть собой поражали даже невозмутимых англичан, прикоснулся к его плечу большой сильной рукой и сказал по-английски!
— Спокойствие, друг.
Однако спор разгорался и захватил весь зал. Претензии Вейтлинга не встретили сочувствия. Собрание высмеяло его за игру в новоявленного пророка. Выступавшие обзывали его кто павлином, кто индюком, а кто апостолом Вильгельмом.
Через несколько дней Вейтлинг сидел в квартире Маркса, и Женни наливала ему третью чашку кофе. Ленхен, поводя плечами не то с раздражением, не то с сожалением, принесла из кухни кусок поджаренного мяса с картофелем и поставила перед смущенным гостем.
— Что же, опять ни гроша? — спросила она, бесцеремонно глядя на светловолосую опущенную голову портного.
— Тот проект, который я сейчас разрабатываю,—сказал Вейтлинг таинственно,— стоит всего, что доныне открыли величайшие умы. Иной учится всю жизнь и ничего не открывает, а иного осенит, точно молния, истина, которой ждет страждущее человечество.
— Это уж что-то библейское,— улыбнулась Женни.
— Вы не верите в пророков и гениев? — оживился Вейтлинг.
Женни призадумалась и ответила медленно:
— Вот Энгельс говорит, что гений — это прилежание. Пророком в наши дни, мне кажется, может быть только очень образованный человек, умеющий обобщить все, что люди познали до него, и найти законы, движущие миром и людьми. Пророками были Галилей, Коперник, Стефенсон... Джемс Уатт, например, создал паровую машину и предсказал, что пойдут по рельсам поезда и по морям суда, на фабриках загудят станки, движимые новой силой.
— Мы расходимся в определении сущности пророческого дара,— сухо ответил Вейтлинг и жадно принялся за еду.— Как я буду смотреть в глаза Карлу после происшедшего на этом проклятом собрании, как с ним говорить? — спросил он вдруг, краснея.
— Вы скажете о своем бедственном положении, Вильгельм. Карл, несомненно, поможет вам, хотя, признаюсь, У нас сейчас очень плохо с деньгами. Но у вас их вовсе нет... А ваша гадкая выходка? Да, это было плохо, очень плохо. Но вы жалеете, следовательно, это не может больше повториться. Это главное.
Когда Карл, вернувшись домой, увидел Вейтлинга и узнал, что тот крайне бедствует, он не закрыл перед ним ни двери своего дома, ни своего очень тощего в эти дни кошелька.
Но вскоре, однако, наступил окончательный разрыв между Марксом и Вейтлингом. Карл простил ему личные нападки, но порвал с ним беспощадно, когда Вейтлинг посягнул на общее дело коммунистов и нарушил единство.
Один из объявивших себя коммунистом, ученик Фейербаха, немецкий эмигрант Герман Криге, поселившийся в Нью-Йорке, стал издавать там еженедельник «Народный трибун». Все статьи в журнале, и особенно статьи самого Криге, вскоре начали позорить своей пошлостью и ничтожеством идею коммунизма. Он на все лады склонял слово «любовь», заменяя им слово «борьба».
Герман Криге, выдавая себя за литературного представителя немецкого коммунизма, одновременно ловко устраивал в Америке свои делишки. Он выпрашивал без всякого стыда у американских богачей деньги, писал немецким купцам жалобные прошения, обильно цитируя псалмы и проповеди о любви к ближнему. Купцы, впрочем, ему не отвечали. Они предпочитали квакеров этому любвеобильному и подражавшему сектантам коммунисту.
В своем журнале «Народный трибун» Криге обращался к женщинам, обещая нм любовью исцелить все социальные недуги и быстро осчастливить все человечество. Он писал, не смущаясь никакими слащавыми оборотами: «Женщины, вы — жрицы любви», и, объявляя любовь основой отношений между людьми, повторял без конца: «Любви, любовью, из-за любви», «лучи любви», «звуки любви»...
Но возмутительнее всего было обещание, которое «Народный трибун» давал в одной из своих статей: «Мы не хотим нарушать ничьей частной собственности; то, что ростовщик уже имеет, он может сохранить...»
Одиннадцатого мая у Маркса собрались коммунисты. Чтение статей из «Народного трибуна» заняло не много времени.
Затем Эдгар фон Вестфален сказал:
— Криге сознательно своим бредом о любви расслабляет и мужчин и женщин. Нам с Криге не по пути. Все высокопарные разглагольствования его напоминают религиозные проповеди. Он хочет быть пророком и превратить коммунизм в какую-то новую религию.
Затем Эдгар фон Вестфален под общее одобрение прочел полный критический разбор материалов «Народного трибуна» и огласил документ, названный «Циркуляром против Криге».
Лишь Вейтлинг промолчал, когда все присутствующие стали выражать возмущение писаниями Криге.
— Прошу еще внимания, я зачитаю вам резолюцию,— сказал резко Маркс, обращаясь, казалось, более к Вейтлингу, который в это время встал из-за стола и подошел к окну, заложив руки за спину.— Слушайте проект постановления...
«1) Тенденция, проводимая в «Volks Tribun» ее редактором Германом Криге, не является коммунистической.
2) Детски напыщенный способ, при помощи которого Криге проводит эту тенденцию, в высшей степени компрометирует коммунистическую партию как в Европе, так и в Америке, поскольку Криге считается литературным представителем немецкого коммунизма в Нью-Йорке.
3) Фантастические сентиментальные бредни, которые Криге проповедует в Нью-Йорке под именем «коммунизма», оказали бы в высшей степени деморализующее влияние на рабочих, если бы они были ими приняты.
4) Настоящее постановление вместе с его обоснованием будет сообщено коммунистам в Германии, во Франции и в Англии.
5) Один экземпляр посылается редакции «Volks Tribun» с требованием напечатать это постановление вместе с его обоснованием в ближайших номерах этой газеты».
Едва Карл закончил чтение, Энгельс решительно взял лист с резолюцией и подписался под ней первым. За ним последовали остальные. Один только Вейтлинг продолжал стоять у окна, то сдвигая, то раздвигая тяжелую полосатую штору.
— Очередь за вами, Вейтлинг,— сказал Вестфален,— ваша подпись будет девятой.
— Я не собираюсь подписывать эту резолюцию,— вызывающе бросил Вейтлинг и с силой дернул шнур с кистями.— Криге — искренний человек. Он добр к людям, он борется под лозунгом «Да здравствует любовь!». А вы все насмешники, неверующие, всеразрушающие. Я повторяю его слова: «Мы принадлежим человечеству».
— Браво! Криге и Вейтлинг вместе перепевают «отца» Ламенне,— вспылил Эдгар фон Вестфален. Ему очень хотелось сцепиться с Вейтлингом, но Энгельс властно призвал его к хладнокровию. Все же Эдгар успел высказать Вейтлингу то, что думал: — Вы и Криге с вашими проповедями становитесь отныне тормозом в рабочем движении. Вас нельзя считать коммунистами.
— Прощайте, наши дороги расходятся,— ответил напыщенно Вейтлинг.— Я уеду в Америку к тому, кого вы считаете моим единомышленником, к Герману Криге. Время скоро покажет, кто из нас настоящие коммунисты — вы или я, сын рабочего и подлинный рабочий.— Он поклонился на манер трагика из мелодрамы и вышел, неестественно подняв плечи и откинув светлые растрепавшиеся волосы.
— Мы сделали все за эти полгода, чтобы найти с ним общий язык, и не нашли,— тихо сказал Маркс.— Больше других я осыпал похвалами в свое время его книгу, как выход на арену социальной борьбы. Но, несмотря на природную одаренность и некоторую проницательность, он не смог подняться настолько высоко, чтобы увидеть завтрашний день и понять суть противоречий и борьбы. Вейтлинг, не отдавая себе в этом отчета, озлобляется, замыкается в себе, презирает нас и катится вниз...
Карл долго не ложился спать и выкурил немало сигар. Зайдя в его кабинет после полуночи, Женни тщетно попыталась вернуть ему спокойствие. Разрыв с Вейтлингом тягостно отразился на настроении Маркса. Наедине с собой он, как всегда в юности, беспощадно рылся в самом себе, проверяя, не сделал ли ошибки, не поддался ли мелкому чувству раздражения, которое должен был бы подавить. Он вспомнил о том, с каким радушием встретил Вейтлинга, как хотел помочь ему разобраться во всем, как уговаривал продумать п понять свои заблуждения.
— Во мне, по-видимому,— сказал Карл Женни,— жило не осознанное до конца представление, что люди рабочего класса не должны ошибаться в силу условий, в которые они поставлены были с детства. Но это неверно. Они все тоже только люди и, как каждый из нас, могут заблуждаться. Вейтлинг — типичный сектант, а это никак не совместимо с коммунизмом. Идея коммунизма объемлет целые народы, а вокруг разных «пророков» будут всегда только одиночки.
Пролетарий, которого Карл хотел вооружить столь трудно добытым оружием, не только не взял его, но и пытался мешать в классовой борьбе. Это было предостережение, и Карл, не без душевной боли, вынужден был сделать из случившегося суровые выводы.
— Ты ведь любишь, Карл, повторять поговорку древних: «Подвергай все сомнению, прежде чем сделать окончательный вывод»,— после долгого молчания сказала Женни. Как всегда, она поняла сразу все, что он пережил в этот вечер.
— Следует добавить: «Не делай исключения также и для самого себя»,— улыбнулся Карл.
Кроме забот, связанных с революционной работой, Маркса охватывало беспокойство из-за нарастающей нужды, в которой жила его семья. Тщетно Женни и Ленхен старались скрывать от него возникающие трудности. То продавая вещи, то унося их в ломбард, они кое-как сводили концы с концами.
Редкий день за обеденным столом Маркса не было нескольких нуждающихся рабочих и единомышленников. Они все знали, что последним грошом и куском хлеба всегда поделятся с ними Карл и Женни. Ленхен пыталась ворчать, но сама первая кормила каждого, чья заплатанная одежда и обувь красноречивее слов рассказывали о безработице и трудностях жизни в изгнании. Женни любила тогда подшутить над ней в отместку за обвинения в неумении экономить.
— Ты запретила мне брать сыр и сахар из этого ящика, но я их там больше не вижу,—говорила Женни, притворяясь удивленной.
— Ну вот еще! Что ж, надо было отпустить этого парня ненакормленным? У него и глаза-то голодные. Бедный, как он набросился на хлеб о сыром.
— То-то, не ругай же нас в другой раз.
— Как не ругать, когда мы задолжали молочнице, зеленщику, в мясную лавку! — горячилась снова Ленхен.
Вейтлинг не угомонился и принялся распространять всевозможную клевету об «отъявленных интриганах», как называл он тех, кто выступал против Германа Криге. Вейтлинг отправлял за океан редактору «Народного трибуна» в толстых конвертах самые гнусные обвинения и злостную ложь на недавних соратников. Его старания угодить противникам Маркса и Энгельса принесли ему приглашение в Нью-Йорк на пост редактора еженедельника «Народный трибун» Германа Криге. Однажды, когда Иоганн Сток с несколькими портными-коммунистами явились к Вейтлингу, старуха консьержка сообщила, что господин Вейтлинг отбыл в Америку после того, как получил оттуда изрядную сумму денег на дорогу.
В эти дни осложнились отношения Маркса и с Прудоном. Не имея своей газеты, Карл, Фридрих и их единомышленники в Брюсселе пользовались печатными или литографированными письмами для общения с коммунистами в других странах, а также для борьбы с враждебными течениями. Но чтобы связь была обоюдной и постоянной, они создали коммунистические корреспондентские комитеты в Лондоне и Брюсселе. Такова была организация, объединявшая коммунистов. Только из Парижа не было еще регулярной информации. Карл дружески написал Прудону и просил его взять на себя это дело. Ответ пришел скоро. Прудон соглашался изредка писать обо всем происходящем в коммунистическом движении столицы, но поучал свысока Маркса.
«Я, — сообщал Прудон в своем заносчивом письме,— исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических вопросах... Не нужно создавать хлопот человеческому роду идейной путаницей: дадим миру образец мудрой и дальновидной терпимости; не будем разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума... Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников... Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами...»
Итак, Прудон отрекался от идеи насильственной революции и превозносил теоретическую путаницу, которую Маркс считал наибольшей опасностью в борьбе за коммунизм. Прудон объявлял себя носителем каких-то всеобщих идей пролетариата, но жестоко ошибался. Французские рабочие хотели революции и шли к ней. Это видел Маркс, но не понимал Прудон, желавший сгладить все противоречия и договориться с теми, кого он называл «собственниками».
Карл, хотя и не раз сомневался в Прудоне, был ошеломлен ответом знаменитого теоретика. Неужели и этот рабочий не мог подняться выше уровня бунтующего ремесленника, выше пышноречивого мелкого труса? Что от того, что Прудон пролетарий, если он уводит своих братьев в трясину, из которой нелегко будет выбраться?
В своем письме, напыщенном и дерзком, Прудон сообщил также, что в книге, которую пишет, поведает миру, как разрешить проблему собственности. Когда его произведение будет напечатано, он позволит Марксу обрушить на него «огонь и скалы». Он готов отразить любое нападение.
Карл, дочитав письмо до этого места, почувствовал, что в нем улеглась ярость. Как средневековый рыцарь, он поднял брошенную перчаткуип стал готовиться к открытому бою, когда книга Прудона будет издана.
Фридрих Энгельс летом того же трудного года уехал в Париж. Как-то среди новостей, которые он постоянно сообщал Брюссельскому коммунистическому комитету сношений, Фридрих написал:
«Сообщаю вам для развлечения: в «Journal des Économistes» за август этого года помещена рецензия на книгу Бидермана... о коммунизме, где сказано следующее... «Г-н Маркс — сапожник, подобно тому, как другой немецкий коммунист, Вейтлинг является портным. Первый» (Маркс) «невысокого мнения о французском коммунизме»(!), «который ему посчастливилось изучить на месте. Впрочем, Маркс также отнюдь не идет дальше абстрактных формул... и остерегается затрагивать какой-нибудь действительно практический вопрос. По его мнению» (обрати внимание на эту чепуху), «освобождение немецкого народа послужит сигналом для освобождения человеческого рода; головой этого освобождения является-де философия, а его сердцем — пролетариат. Когда все будет подготовлено, галльский петух возвестит германское возрождение...
Маркс говорит, что нужно создать в Германии всемирный пролетариат (!!) для осуществления философской идеи коммунизма». Подписано Т. Ф. ...»
Энгельс, внимательно изучая все происходящее в Париже, интересовался также и русскими людьми.
«...A теперь еще одна в высшей степени любопытная вещь,— Аугсбургская «Allgemeine Zeitung» от 21 июля в корреспонденции из Парижа от 16 июля пишет о русском посольстве:
«...Это официальное посольство; но вне его или, скорее, над ним, стоит некий г-н Толстой; он не занимает определенного поста, но известен как «доверенное лицо двора». Раньше он занимал должность в министерстве народного просвещения, потом явился в Париж с литературной миссией, написал здесь несколько записок для своего министерства и составил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но зато стал действовать. Он живет на широкую ногу, бывает всюду, принимает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраивает. Мне кажется, что именно он является действительным русским послом в Париже...»
...Этот Толстой и есть не кто иной, как наш благородный Толстой, навравший нам, будто он хочет продать в России свои имения. ...Поляки и многие французы давно уже знали это, только немецким радикалам, среди которых он считал более удобным играть роль радикала, ничего не было известно... Когда Толстой прочитал статью, он только громко рассмеялся и пошутил над тем, что его наконец раскрыли. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там... Даже Бакунин, который должен был знать всю эту историю, так как другие русские знали ее, тоже очень подозрителен... Как ни мало опасны для нас эти шпионы, им, однако, не следует ничего спускать».
Энгельс ошибался, спутав графа Якова Толстого, о котором шла речь в газете, с добродушным краснобаем Григорием Толстым, помещиком из России, бывшим в Париже в то время.
Карл Маркс, желая до конца выяснить, какой же все-таки из Толстых шпион, написал к Анненкову и вскоре получил из России ответ.
«О боже! — восклицал в письме Павел Анненков.— Наш честный, простой, прямой Толстой, который думает теперь в России о том, чтобы распродать все свои имения и поселиться в Европе! Благодарю вас, мой дорогой Маркс, от его имени, что вы усомнились, читая статью в «Allgemeine», и обратились ко мне за разъяснениями».
Глава пятая Битва или смерть
«И все-то я должен терпеть и к тому же молить еще бога, чтоб не было хуже». Прочитав это, Мария Львовна Огарева поспешно отложила томик персидских стихов, переведенных недавно на французский язык, и достала из ящика бархатный с золотыми застежками альбом, куда заносила то, что нравилось ей из прочитанного. Отрывки из Пушкина, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Мюссе, Ламартина, Гейне перемежались с вписанными в альбом усложненным завитушками почерком цитатами из Экклезиаста, Штрауса, Сен-Симона. Особенно часто встречались в альбоме мысли Жорж Санд. И теперь стихи древнего персидского поэта оказались по соседству с патетической фразой из любимого Марией Львовной романа: «Консуэло, душа моя!»
В тот же вечер Мария Львовна говорила своей приятельнице Лизе Мосоловой:
— Послушай стихотворение, Лиза, ведь это же прямо обо мне писано: «И все-то я должен терпеть...» Странно, право. Семь веков тому назад в далеком Ширазе страдал поэт, как я теперь страдаю в Париже.
Мария Львовна считала себя очень несчастной. Муж, узнав о ее разгульном и расточительном образе жизни, настойчиво добивался развода, тем более что они несколько лет уже жили раздельно.
Давно разошлась Мария Львовна с художником Сократом Воробьевым, с которым встретилась в 1842 году. Нынешний любовник ее, мот и повеса, с лицом и станом Аполлона Бельведерского, был в последнее время очень груб и явно тяготился ею. Мария Львовна дурнела от бессонных ночей, шампанского и ликеров. Лицо ее преждевременно постарело, и только вечером, при затененном свете, сильно подкрашенная, она могла еще казаться такой нее красивой, как некогда.
Страшный недуг подтачивал ее силы. Не была ли это чахотка? Одна мысль об этом вызывала в Марии Львовне отчаяние.
О чахотке говорили повсюду, не скрывали страха перед этой болезнью, тщетно искали, откуда она берется и чем лечится. Эта неведомая болезнь уносила во цвете лет во всех странах мира несметное число жертв..
— У меня в семье умирали от старости или уж от переедания. Несомненно, туберкулез — наследственная болезнь,— значит, я ей не подвержена, — убеждала больше себя, нежели подругу, Мария Львовна и продолжала: — Но врачи говорят, что эта болезнь появляется от горя, а я так страдаю!
Лиза Мосолова, дочь мелкопоместного помещика, приехала в Париж в качестве гувернантки с семьей богатых русских. В Петербурге она давала уроки французского языка и занималась переводами.
Черноволосая и большеглазая, с желтовато-бледной кожей, она обладала крайне переменчивым лицом и казалась то красавицей, то дурнушкой. Мария Львовна звала се Кармен, хотя в характере Лизы не было ничего общего с искусительницей из новеллы Проспера Мериме. Лиза была неговорлива, трудолюбива и строга к себе и людям.
— Поверишь ли, Карменсита,— снова принялась болтать Мария Львовна,— я всегда была сторонницей свободной любви, еще до того, как прочла «Индиану» Жорж Санд. Я ненавидела узы брака. Но теперь, когда Николя хочет развода, я принципиально не сниму с него брачных цепей. Ведь это он толкнул меня в пропасть, оп, до самозабвения преданный Герцену, всегда занятый не мной, а всякими отвлеченными идеями, разными кружками, где так скучно красивой женщине. Он не должен был оставлять меня в Париже и предоставлять случайностям. Быть красивой и богатой очень трудно. И вот моя жизнь разбита. Никогда не выходи замуж, Лизонька! Не губи себя!
Лиза, не поднимая глаз, ответила просто:
— Когда любишь, не думаешь о цепях, о рабстве. Любовь — свобода, если она настоящая. Когда сердце прочно привязано к кому-либо, сколько остается сил и времени для дела. Мне кажется, самое лучшее — это любить и быть любимой. Тогда все остальное обязательно наладится.
Мария Львовна вскочила с маленького пуфа и воскликнула с негодованием:
— Глупости! Экие бредни. Да кого любить-то? Фантазеров, как Николя или Герцен, чахоточных небожителей, каким был Станкевич, например, или распутников, как Панаев. А ведь это лучшие люди, кажется, как мне говорили когда-то. Мой муж был всегда щедр ко мне. А иной еще изморит жадностью. Изменять же будут все до одного. Я ненавижу мужчин, ненавижу!
— А не можешь без них жить и дня одного,— тихонько засмеялась Лиза.
— Я не должна была бы говорить тебе этого. Ты ведь намного моложе и к тому же девушка,— спохватилась Мария Львовна.
— Из книг мы знаем много больше,— ответила Лиза,— Да и жизнь рано учит тех, кому надо, как мне, думать о хлебе насущном. Вот, к примеру, недавний урок. Граф, с семьей которого я приехала теперь во Францию, не раз соблазнял меня пойти к нему на содержание. Он предлагал мне квартиру и немалые деньги. Когда я отвергла его домогательства и отказалась обманывать сообща с ним его жену, он мне ответил: «Зачем ей знать? Ведь то, чего мы не знаем, не существует».
— Да он философ,— сказала заинтересованная Мария Львовна, отложив пилочку для ногтей.
— Философия простая. Жена для него — будни, я же должна была быть праздником. Спустя месяц он снова стал приставать ко мне и тут выложил следующее: жену, мол, бросить был бы рад, опостылела, хоть и богата. Но оставить ее не может, здоровье того не позволяет. Боится граф апоплексического удара от скандала, который подымется, едва узнает обо всем семья и высший свет. Карьере тогда конец. Нет у него, видишь ли, сил. А на блуд здоровья хватает. И вообще, по его мнению, все в жизни слаще, когда тайно и преступно. Уж такое развел красноречие, так пыжился передо мной,— смеялась Лиза, зачем встала, выпятила живот, надула щеки и пресмешно попыталась имитировать графа.— И представь, о моих чувствах и о своих ко мне он вовсе позабыл сказать что-либо.
— Что же ты после этого сделала? — спрашивала Мария Львовна.
— Хотела немедленно бросить место гувернантки в его Доме, но потом раздумала. Зачем? Я ведь поступила, как надо было, и вера моя в хороших людей и большую любовь не ослабла.
— Но зато ты, верно, поумнела,— сказала Мария Львовна, снова принявшись за шлифовку ногтей.
— Нет, Мари, какой была, такой осталась. И так же зорко берегу сердце для любви.
— Неисправимая мечтательница ты, вот кто! Любви нет. Есть хмель, чувственность, слова, которые, как цветы, вянут и облетают со временем.
— Любовь не цветок, а могучее дерево,— упрямо возразила Лиза.— Трудно только посадить его так, чтобы не засохло, а выросло.
Мария Львовна начала раздражаться!
— Не знаю, как у простонародья, а в нашем кругу везде своя драма, своя ложь, своя мерзость. Где деньги — там и гнилье. Ну, а все же без роскоши и денег я жить не согласна.
Во время этого разговора в будуар неожиданно вошел завитый барашком молодой человек. С подчеркнутой фамильярностью поцеловал он руку хозяйки и едва склонил пышную голову перед Лизой, которая поспешно встала и, сделав общий поклон, вышла из комнаты.
«Как она может, зная Николая Платоновича, тянуться к этому фату о лицом дешевой куклы! — думала Лиза, медленно идя по набережной Сены,— Бедная женщина, потерявшая себя! Но чем мне ей помочь? Чтобы любить, надо, широко раскрыв сердце, вытряхнуть из него всякий сор».
Когда она вошла в дорогой отель, где жила в большом апартаменте из пяти комнат семья графа, ей встретился Михаил Александрович Бакунин. От него Лиза узнала, что графиня только что решила спешно выехать в Брюссель, а затем в Остенде. В этом не было ничего нового, Графиня была взбалмошной и вздорной дамой, ей быстро надоедало все, кроме интриг. Дочь и сын, которых графиня возила по Европе, предоставлены были Лизе, гувернеру из студентов и двум крепостным слугам, сопровождавшим господ в этом путешествии.
Самой тягостной обязанностью Лизы было каждый вечер докладывать графине о четырнадцатилетней Леле и ее младшем брате Леше. Графиня мало интересовалась детьми, но никогда не лишала себя возможности довести Лизу до яркой краски на лице и тщетно сдерживаемых слез.
— Да, моя милая, счастье попасть в наш дом после нищеты, в которой вы жпли, п вам надо это ценить и быть благодарной. Что вы видели, бедная, в жизни? Ваш отец, конечно,никогда не был истинно благородным человеком. Поэтому он и спился. Что ни говорите, а воспитание в жизни — все! Какое мне дело до души, если человек чавкает за столом. Сейчас много развелось таких. Это не благородные люди и уж конечно не господа в настоящем смысле этого понятия. Я барыней была, есть и буду, а они все, простите, полуживотные. Подойдите к окну. Взгляните на улицу, не правда ли, это зверинец! Какие плебейские рожи, ноги, походка. Лошадей и то надо скрещивать, чтобы получить чистокровных. Презрительно улыбаясь, графиня продолжала:
— Я убеждена, что эта страшная толпа и через десятки поколений не станет человеческой. И подумать только, до чего мы дожили: они требуют прав господства. Не понимаю, зачем медлят знать и короли. Надо объединить все высшие сословия мира и действовать. Мы же не раздумываем, когда убиваем диких зверей. А вот не можем решиться выставить пушки, чтобы очистить землю от этих двуногих с дурацкими рожами, которые вылезли из всех щелей. Я часто наблюдаю за вами, Лиза, и замечаю, что вы стоите над страшной пропастью. Объясните, что общего у вас с горничной из отеля? А вы улыбнулись ей, как равной. Я сегодня нашла у вас под подушкой Прудона. Если бы ваша покойная мать не была бы в родстве с моей теткой, я бы тотчас же избавила от вас мой дом. Но что делать, я так мягкосердечна, мне вас жаль. Без нас вы погибнете. Об этом говорит мне и граф. Нынче вечером пыталась я также воздействовать на этого слабоумного Мишеля Бакунина и уговорить его вернуться на милость государя. Несомненно, царь, продержав его два-три года в тюрьме, простил бы. А так он обречен. Как можно жить на свете вдали от своего царя, от всех светских, благородных людей? Ему лучше бы, пожалуй, умереть. Это было бы менее бесчестно и не так позорно для всех его несчастных родственников.
Иногда подобные монологи графини длились часами, и Лиза боялась, что не выдержит и скажет то, что чувствует, и тогда окажется мгновенно без работы и денег на улице малознакомого города. Чтобы выдержать жестокое многословие графини, она принималась мысленно читать любимые стихи и повторять неправильные французские глаголы и английские идиомы.
Графиня, видя ее задумчивость и сосредоточенное лицо, начинала злиться.
— Вы, кажется, не слушаете меня, моя милая. Вы мечтаете? Запомните: чтобы мечтать, надо быть богатой, а вы нищая. Я говорю все это, надрывая свое сердце, для вашего же блага, хотя знаю, что наживаю в вас врага. Люди не выносят правды. Однако справедливость и человеколюбие для меня превыше всего в жизни, моя милая.
После этого поучения графиня с гувернанткой прошла в комнату дочери. Девочка сидела перед зеркалом, жадно читая «Евгению Гранде» Бальзака, покуда крепостная горничная расчесывала ей длинные прямые блестящие волосы. Внимание графини привлекли цветы, уныло поникшие в большой золоченой фарфоровой вазе с видом Дома Инвалидов в Париже.
— Вы опять не подрезали стеблей, и бедные гвоздики преждевременно гибнут. И, конечно, воду не меняли сегодня,— трагически произнесла графиня. Безразличная к людям, она болезненно переживала все, что относилось к растениям.
Покуда горничная бегала за водой, графиня уселась на оттоманку и сказала дочери:
— Твоя походка приводит меня в отчаяние, ты не плывешь, как следует воздушному созданию, каким должна быть женщина, а шагаешь подобно гренадеру. Когда твоя левая нога коснулась, скажем, Тюильрийского сада, правая топчет площадь Согласия. Ужас, ужас, ужас... (Слово «ужас» графиня произнесла по-английски.) С сегодняшнего вечера я сама буду заниматься с тобой. Подайте тарелку, Лиза.
Графиня положила тарелку ребром между ног дочери выше колен и приказала ей пройтись несколько раз по комнате. Едва семеня ногами, Леля осторожно двинулась по ковру.
— Вот так, теперь ты делаешь шажки, которые придают тебе грациозность. Не забывай, что ты не плебейка, и это должно быть видно по походке.
Более получаса мать наставляла дочь; одновременно она неутомимо поучала гувернантку и горничную, как ухаживать за цветами, сама бережно обрезала стебли побрызгала водой бессильно повисшие головки цветов в вазе.
Графиня происходила из незнатной, но зато очень богатой семьи и принесла в приданое графу, не имевшему ничего, кроме титула и перезаложенного родового поместья с десятком крепостных, большое состояние. Деньги, увенчанные графским гербом, казались ей заслуженным вознаграждением за какие-то врожденные особые качества, которые, впрочем, знала в себе лишь она одна. Низенькая, с очень злой и хищной мордочкой грызуна, она, несмотря на разнообразные льстивые улыбочки, умело используемые ею, никак не могла казаться приятной и вызывать к себе расположение. За пятьдесят пять прожитых лет графиня если и сделала что-либо доброе, то только из тщеславия или из расчета. Один раз она пожертвовала на постройку церкви крупную сумму, но тотчас же устроила в ней богатый родовой склеп. В другой раз подарила институту благородных девиц библиотеку, за что удостоилась приглашения ко двору. Вред же, который она принесла людям, было бы невозможно измерить.
Когда ее лучшая подруга собралась выходить замуж, она, «желая быть справедливой», сообщила жениху, что он выбрал для себя дочь алкоголика, к тому же девушку с трудным характером и вставной челюстью. Она поссорила своего мужа со всеми друзьями, разлучила стартую дочь с мужем. Ее надменность и лицемерие вошли в поговорку. Однако все свои действия она неизменно сопровождала длинными поучениями о пользе, о справедливости, о любви к правде. Зато графиня страстно любила цветы и заливалась слезами, когда погибал ее любимый куст азалии, увядал пышный жасмин в саду или чахли кусты особого сорта роз, за которыми в своем имении ухаживала она сама. Графиня даже вставала на рассвете только для того, чтобы обойти теплицы с цветами. Когда же она уезжала, управляющий писал ей особые донесения о том, как чувствуют себя лилии и пальмы.
Только безвыходное положение, в котором очутилась Лиза, принудило ее взять хорошо оплачиваемое место гувернантки в доме своей богатой дальней родственницы.
Спустя несколько дней после встречи Лизы с Марией Львовной Огаревой графиня со всей семьей и домочадцами отправилась в Брюссель. В каждой стране, куда бы она ни приезжала, одной из ее тщеславных целей было представляться царствующей фамилии. В Париже она удостоилась приглашения к Луи-Филиппу и даже в течение трех минут разговаривала с королевой об изменении к худшему климата Парижа и неприхотливости фиалок. В Брюсселе графиня мечтала побывать во дворце Лекен, где жил в это время король Леопольд I. Графиня стала добиваться приема через высокопоставленных знакомых. Для этого она не переставала восхищаться бельгийским королем.
— Со времени восшествия на престол этот подлинно благородный монарх отдает все силы процветанию своего государства. Посмотрите, как красивы аллеи, какие здесь липы! — восклицала графиня, когда громоздкая карета проезжала по улицам Брюсселя.
После визита к их величествам она собиралась заняться покупкой тончайших кружев и нарядных перчаток. За бельгийскими мануфактурами издавна утвердилась всемирная слава.
Пока графиня была поглощена суетными хлопотами, к великой радости ее детей, крепостных и служащих, отдыхавших от поучений и придирок, Лиза пошла в один из пансионов, чтобы отнести важное письмо от друга из Парижа Вильгельму Вольфу, о котором наслышалась много удивительного. Вильгельм Вольф, прозванный «Казематным Вольфом», недавно бежал из Германии за границу. Тюремное заключение в Силезии в течение более четырех лет подорвало его здоровье. Лиза слышала, что Вильгельм бесстрашен, умен, великодушен. Жизнь его прошла в сплошной борьбе. Сначала нищета силезской деревни, где он родился, грозила навсегда впрячь его в подневольное ярмо. Но он решил бороться за право знать как можно больше. Откуда в маленьком пастушке, в босоногом крестьянском пареньке зародилась такая тяга к свету? Где взял он силы, чтобы, помогая с утра до ночи родителям в тяжелом деревенском труде, одновременно учиться грамоте? Не боясь ничего, без гроша в кармане, пошел он в город.
Несомненно, Вильгельм был самородком. Воля его победила все препятствия, и он добрался до университета, Там он жадно взялся за изучение античных языков, трудов мыслителей и поэзии. История древних революций потрясла его. Он увидел окружающее иным и вознегодовал. С тем же несокрушимым упорством, с каким с детства боролся он с судьбой за возможность учиться, решил силезский крестьянин отстаивать права народа.
Вольф не застал уже в живых Бюхнера, не существовало и созданное им тайное «Общество человеческих прав», Вильгельм отыскал бюхнеровское «Воззвание к крестьянам», а вскоре прочел и статьи Маркса и Энгельса, Всюду, где представлялась возможность, Вольф выступал, резко критикуя деспотизм, бюрократию, жестокие законы цензуры, издевательство над рабочими и крестьянами родной Силезии. Правительство объявило его опасным демагогом и заточило в крепость, где он провел многие годы, хирея физически, но нисколько не ослабевая неукротимым духом. Выйдя на свободу, он поселился в Бреславле и давал частные уроки. Одновременно он устным и печатным словом боролся за идеи свободы и революции. Против него создали дело по обвинению в призыве к подрыву существующего строя. Впереди снова встал призрак тюрьмы.
«Стоит ли лечь живым в могилу, обречь себя на тягостное и, главное, бесцельное умирание?» — думал Вольф и решил последовать совету друзей. С их помощью он тайно оставил родину.
Лиза, думая о жизни Вольфа, известной ей по рассказам его друзей, не могла справиться с нарастающим волнением. Она сидела в сумрачной гостиной пансиона, пока хозяйка пошла звать своего постояльца.
Громоздкая, старинная фламандская мебель, шкафы с резными дверцами, лари и стулья с узкими высокими спинками, которыми была заставлена комната, еще усиливали беспокойное ожидание.
Лиза старалась представить себе, каким должен быть человек, за плечами которого тридцать пять лет столь трудной жизни.
Когда на пороге показался наконец среднего роста, довольно широкоплечий мужчина в коричневом сюртуке с черным бантом под подбородком, она почувствовала некоторое разочарование. У Вольфа было круглое, бледное, строгое лицо. Большой, четко очерченный лоб, совсем гладкие, на пробор расчесанные волосы, крепко стиснутые губы делали его немного похожим на пастора. Близорукие глаза смотрели уверенно и спокойно. Какая-то глубокая мысль была в них.
«Как он, однако, скромен, точно ничего особенного не сделал в жизни»,— подумала Лиза и вдруг поняла, что это та высшая простота, к которой приходят люди только после многих сложных плутаний и в жизни и в своих думах и чувствах.
«Ребенок начинает с простоты — это его сущность, затем, вырастая, теряет ее, пробиваясь и борясь за жизнь, и снова приходит к простоте, как к истине, к прибежищу. Так бывает с большими душами. Он пришел к синтезу, существеннейшему, что находят лишь немногие»,— подумала Лиза, покуда Вольф вскрывал конверт и читал принесенное письмо.
Прочитав его, Вильгельм подошел к Лизе, щуря под стеклами очков глаза, усталые от многих испытаний, от полутьмы крепостных камер, от чтения при слабом свете. Он сказал приветливо, точно давно знал эту совсем чужую девушку:
— Мне пишут, что и вы знаете, что такое беда, и что, подобно мне, вы долго учительствовали.
— Что вы, господин Вольф! Моя жизнь так легка и удачлива по сравнению с тем, что вы пережили.
— Вы, мадемуазель, вероятно, лет на пятнадцать моложе меня. Кто знает, каков будет ваш багаж, когда вы проживете с мое,— снова с удивительной добротой в лице и в голосе сказал Вольф и добавил: — Итак, вам хочется встретиться с коммунистами? И послушать их? Что ж, я помогу вам в этом.
— Я хотела бы также познакомиться с женщиной, которая по развитию и уму была бы равна вам, мужчинам.
— Ага, вы, значит, феминистка, ученица Мери Вулстонкрафт и так называемых «синих чулков»?
— Да, я очень чту их.
— Я познакомлю вас с благороднейшей из женщин, которую нельзя не уважать, но она отнюдь не феминистка в том смысле, какой вы вкладываете в это слово.
— Я буду очень рада! Спасибо, господин Вольф. Где и когда можно будет вас встретить?
— Вы, вероятно, знаете чудо Брюсселя, построенное только в этому году? Стеклянный пассаж Сен-Гюбера? Для дам, даже если они отчаянные феминистки, это вели-» кий соблазн. Завтра в пять я буду там в кофейне вместе с друзьями.
Женни Маркс переживала тяжелые дни. Нужда в семье достигла таких размеров, что не было денег для уплаты Елене Демут за ее услуги. Мизерного заработка Маркса едва хватало на пропитание семьи.
— Что ж,— сказала Женни мужу, когда, уложив детей и уговорив Ленхен отдохнуть, осталась с ним наедине,— отныне я сама буду нянчить детей, вести хозяйство и готовить пищу. В этом, милый Карл, нет ничего особенно трудного. Вот только меня тревожит, не отразится ли это на моей работе по переписке твоих сочинений, а также на корреспонденции с нашими друзьями по партии. Секретарских обязанностей становится все больше с каждым днем, и отказаться от них мне было бы тягостно.
— Об этом не может быть и речи,— возразил Карл.— Тебя никто не может заменить в этой работе! Что касается домоводства...— Он хотел что-то добавить, но мрачно смолк и поник головой.
— Мы не можем безвозмездно пользоваться трудом Ленхен. Ей нужны деньги, чтобы помогать младшей сестре и родным. Нельзя принимать чрезмерные жертвы,— волновалась Женни.
— Да, ты нрава, это было бы чудовищно. Но что скажет сама Ленхен, согласится ли она уехать в Трир, на родину, к твоей матери, где ей будет много легче и спокойнее, чем здесь?
Когда на другой день Карл заговорил с Еленой, она, казалось, сначала просто не понимала, зачем, отвернувшись в сторону, Женни повторяет вслед за мужем, что у них пет денег. Она недоуменно переводила свои ясные пытливые глаза с Женни на Карла, окутанного дымом дешевой сигары.
В открытую дверь Ленхен видела две детские головки, склонившиеся над куклой: одну черноволосую, другую каштаново-золотистую. Эти две девочки, Карл и Женни были самыми любимыми ею существами. Вся ее жизнь сосредоточилась на них. Их радости и горести стали ее радостями и горестями.
— Меня... отправить... в Трир,— прошептала она, тупо уставившись в одну точку.
И вдруг, как бы очнувшись, сорвала фартук и отчаянно закричала:
— Жалованье не можете платить?! Да разве я когда-нибудь напоминала вам о нем или сама подумала об этом? Деньгами все равно не оплатить всего, что я вам отдала. Или любовь моя к вам всем ничего не стоит? Уж не собираетесь ли вы заплатить мне за бессонные ночи, проведенные возле Женнихен и Лаурочки? Вы, господин Маркс, душевный человек, а так оскорбляете ни в чем не повинную девушку. Вот как злом платят за добро!
— Постой, каким злом? Мы хотим сделать лучше для тебя, а нам ведь...— пыталась вмешаться Женни.
Но Ленхен совсем потеряла самообладание:
— Вы думаете, что я предана вам, потому что корыстолюбива? Конечно, всякий понимает, если он не дурак, что в мире нет такой второй умной головы, как у доктора Карла Маркса, и он будет когда-нибудь известным и богатым человеком. Но если даже мне суждено дожить до этого, я не брошу моих крошек и Женни. Стыдитесь, господин Маркс! Я хоть и всего-навсего деревенская девушка, но не позволю вам из-за каких-то денег превращать жену в кухарку и самому делаться дворником.
Сжав кулаки, она пошла на Карла.
— Не уеду! Я думала, здесь моя семья! — И зарыдала,— Как мне теперь жить без вас всех? Да я с ума сойду от тоски! А вас тут обязательно и зеленщик и мясник обсчитывать будут. Все до нитки раздадите, промотаете. Вы ведь в этих делах доверчивее детей. А девочки наши как же без меня останутся? И тот, третий, который родится? Если меня не будет здесь, то у доктора Маркса совсем испортится печень и характер и моя дорогая Женни заболеет.
Карл растерялся, видя неподдельное отчаяние девушки. Женни не могла более сдерживать умиленных слез и крепко обняла свою верную подругу. Никогда больше не поднимался вопрос о разлуке этих трех преданных друг другу людей.
Вильгельм Вольф заехал к Марксу, чтобы пригласить его и Женни отправиться осмотреть брюссельскую новинку, о которой трубили газеты. Жеини попробовала было отказаться. Но Вольф, с ему одному присущей чуткой настойчивостью, уговорил ее посмотреть великолепный пассаж Сен-Гюбера. Он осторожно подчеркнул, что это единственная для него возможность хоть чем-нибудь вознаградить Женни за ее необъятное гостеприимство.
— Разрешите и мне ощутить удовольствие быть хозяином дома и принимать гостей. Я использую для этого весь стеклянный пассаж — гордость белгов. И я уверен, что ни одно сокровище на его витринах не будет достаточно хорошо для вас.
— Вот так чудо! Люпус в трансе красноречия! — раздался раскатистый, удивительно мощный смех Карла.
Вольф смутился, так как был застенчив с женщинами столько же, сколько непреклонно тверд с мужчинами. Он забеспокоился, не задел ли чем-нибудь Женни. Но она уже завязывала под подбородком зеленые ленты шляпки-корзинки, украшенной бархатными анютиными глазками, чтобы отправиться в замечательный универсальный магазин.
Стеклянный трехэтажный пассаж Сен-Гюбера вмещал несколько кофеен и множество лавок, торгующих всевозможными товарами.
Жители Брюсселя утверждали, что в Лондоне и Париже, где недавно открылись такие же пассажи, такого, как у них, не было.
С того дня, когда на углу улицы Саблон появилась квадратная тумба на замке и с прорезом сверху, куда полагалось опускать письма, в Брюсселе ничто не вызывало такого любопытства и удивления. Но первые почтовые ящики никак не могли сравниться с огромным стеклянным ларцом, каким выглядел пассаж Сен-Гюбера. К нему ежедневно со всех сторон города и даже из провинции направлялись теперь кареты и пешеходы.
Чего только не было на прилавках: кружева, так щедро украшавшие в эти годы пышные платья женщин; модные персидские и кашемировые шали,— сложная окраска и узоры их напоминали пестрых змей, перья павлина и степные цветы; английские немнущиеся сукна, индийские воздушные шелка; ленты всех оттенков; нежные веера из страусовых перьев. От английской булавки до сложнейших дамских часов на длинных дорогих цепочках — все продавалось у Сен-Гюбера.
Дамы не могли оторваться от шарфов, безделушек и головных уборов из соломки, атласа, перьев, цветов, похожих формой то на чепчики их бабушек, то на детские капоры. Мужчины восхищались разноцветными жилетами, новыми фасонами рединготов и длинными, до земли, шинелями, тростями с набалдашниками из золота и слоновой кости, примеряли разнообразные шляпы с большими полями, высокими тульями и лоснящиеся цилиндры.
Из России прибыли сюда необычайные меха, дорогие, как драгоценные камни, и не менее соблазнительные, шубки из горностая, беличьи ротонды, мужские воротники и шапки из бобра и соболя привораживали посетителей. У входа в магазин, где торговали мехами, стояли чучела огромного бурого медведя и двух волков, ощерившихся и грозно раскрывших пасти.
— Вольф, люпус,— улыбнулся Карл.
— О, если бы все волки были столь совестливы, любвеобильны, как наш друг,— ответила Женни, взяв под руку Вильгельма.
— Но, увы, homo homni lupus est (человек человеку волк) — так было во все века.
Они вошли в кофейню, щедро украшенную цветами, флажками и фонариками. Каждому входящему выдавался на память бумажный треугольник с гербом бельгийской столицы и стихами по поводу открытия пассажа.
Вольф заказал кофе, пирожные и предложил Карлу дорогие гаванские сигары, недавно появившиеся в Европе. Друзья закурили. Девушка в национальном фламандском костюме предложила посетителям куклу в пышных, как и она, юбке и чепце. Вильгельм тотчас же купил ее для девочек Карла и Женни.
— Остановись, дружище,— сказал Карл,— завтра ты окажешься без обеда. Ты транжиришь деньги, как Крез, и забываешь изречение древних: «Не покупай мелочей сегодня, чтобы не продавать самого нужного завтра».
— Возможность тратить — единственное, чем оправдано существование денег на земле. Не беспокойся. Один из должников, которого я готовил в университет в Бреславле, отыскал меня здесь и прислал деньги. И, признаться, я был тронут, так как, исчезнув внезапно из города, я тем самым дал ему право не платить мне долга. Но я не мог откладывать побега, не правда ли?
— Н-да, ты очень щепетилен, старина,— заметил Маркс, поглядывая с особой ласковостью на открытое и мужественное лицо нового друга.
— Хитрили ли вы когда-нибудь, Вильгельм? — спросила неожиданно Женни, тоже внимательно всматриваясь в глаза Вольфа.
— Хитрость — это нечто вроде ума инстинктов. Человек же должен, по-моему, покорить в себе силу инстинктов высшим из того, что он имеет, то есть умом. Зачем хитрить, когда можно думать? — ответил просто Вильгельм.
В это время в кофейню вошла Лиза в своей неизменной синей кофточке и пышной юбке, отделанной черной тесьмой. Скромная теплая клетчатая шаль заменяла ей верхнюю одежду, капор из синего атласа хорошо оттенял желтовато-бледное миловидное лицо, как всегда строгое.
Вольф, узнав ее, поднялся навстречу и представил Женни и Карлу.
Лиза, подстрекаемая любопытством, задержала взгляд на Марксе и подумала, что это, вероятно, очень властный и одаренный человек, затем она повернулась к Женни и, очарованная ее величавой красотой, широко улыбнулась и как бы вся потянулась к ней. Женни почувствовала это внезапно вспыхнувшее доброжелательство и ответила ей искренней улыбкой.
— Я очень благодарна господину Вольфу за это знакомство,— сказала Лиза с волнением, которому сама удивилась.— Вы оказались лучше, нежели я думала, а ожидать можно было многое, так горячо он говорил вчера о вас.
— Вольф судит о своих друзьях пристрастно. Он сам очень хороший человек. Его совесть ничем не запятнана. Это подлинно кристалл, прозрачный и твердый в одно и тоже время. Когда он верит людям, то отдает им себя, как и своим идеям, полностью, без остатка. Это благороднейшее сердце, которое не щадит себя ни в чем. Я знаю его недолго, но уважаю и люблю,— шепотом сказала Женни Лизе.
Разговор между двумя женщинами завязался с той легкостью, которая неизменно возникает, когда люди ощутили взаимную симпатию и доверие. Вскоре Лиза перевела беседу на тему, наиболее ее интересовавшую.
— Скажите, госпожа Маркс, как вы относитесь к вопросу о равноправии женщин? Нынешнее положение женщин меня угнетает. Жорж Санд требует равноправия в гражданских законах и в любви, но у нее уж очень сильно выражена обида на мужчин за их измены. Ей хочется мести. А это но по мне. Читая книги о кружке «синих чулков», я тоже не нашла ответа на все, что меня волнует. Очень уж путано и похоже на игру от нечего делать то, что они проповедуют и делают.
— Да,— ответила Женни.— Вы правы. Все их советы о том, что женщине надо быть серьезнее, завоевывать уважение примерным поведением, умением воспитывать детей и вести хозяйство, ничего не решают. Сейчас во всех странах открылось много пансионов, где воспитываются будущие жены богатых людей. Мери Вулстонкрафт была значительно дальновиднее, когда требовала, чтобы мы, женщины, изучали также механику, астрономию, естественную историю и даже философию и благодаря этому становились равными со своими мужьями в знаниях, а если потребуется, умели заработать себе и детям кусок хлеба.
— Я счастлива, что самостоятельна и помогаю своему больному отцу,— проговорила не без гордости Лиза.
Женни это понравилось.
— Хорошо, очень хорошо,— улыбнулась она поощрительно и рассказала Лизе о себе, о своей жизни.— Я хотела бы иметь как можно больше знаний и энергии,— закончила Женни,— чтобы помогать мужу и его друзьям в борьбе. А то, что вы говорите о женском равноправии, верно, но ведь оно касается главным образом богатых.
— Я вас не понимаю,— удивилась Лиза.
— Столь чтимая вами законодательница феминизма Мери Вулстонкрафт,— сказала Женни,— права в том, чго богатые женщины похожи на дикарей. Подобно дикарям, они стремятся к нарядам, удовольствиям, услаждающим плоть, а не разум, к ненужному господству, всевозможным хитростям ради всего этого. Тысячелетиями нас учили слепо повиноваться мужскому авторитету. Но мне кажется, что у бедняков это неравенство значительно меньше.
Женни говорила громко. Карл и Вильгельм Вольф давно уже прислушивались к заинтересовавшей их беседе. Кофе стыл в белых фарфоровых чашках, и взбитые сливки опали.
— Скажите, мадемуазель,— обратился Карл к Лизе,— известно ли вам, что в Англии идет теперь отчаянная борьба женщин-работниц за то, чтобы им и подросткам дали десятичасовой рабочий день вместо двенадцати-, а то и четырнадцатичасового? Как вы думаете, много ли у них нарядов, удовольствий и прочих дикарских радостей в жизни? Все эти дамы, прозванные «синими чулками», и умнейшая из них, Вулстонкрафт, были сыты. Им не хватало только гражданских прав. А жены ремесленников и работников нищенствуют и вместе с мужчинами борются за самое существование свое и своих детей. Рабочий чтит в женщине товарища по работе и по борьбе за право быть человеком, и только он, разбив все цепи, освободит полностью женщину.
Вильгельм Вольф с восхищением слушал Маркса. Лиза совсем растерялась. Эти простые мысли никогда не приходили ей в голову.
— Я подумаю обо всем этом новом,— сказала она, внутренне сопротивляясь и желая сохранить самостоятельность в своих суждениях.
Уходя, она шепнула Вольфу, проводившему ее до двери:
— Спасибо. Госпожа Маркс — необыкновенная женщина. Впервые я вижу, чтобы два таких человека, как она и ее муж, встретились и сошлись в жизни... Вот это, видно, и есть подлинное счастье.
Ожидаемая Марксом книга Прудона прибыла из Парижа. Она называлась «Система экономических противоречий, или Философия нищеты».
Карл читал ее до поздней ночи, не отрываясь, жадно вникая в сущность высказываемых Прудоном мыслей и положений. Часто он обводил нетерпеливым карандашом целые абзацы, исписывал поля книги; случалось, он звал Женни, чтобы прочесть ей то, что казалось ему наиболее уязвимым, противоречивым и неправильным. Когда он дочитал, книга была подобна полю сражения.
— Книги — мои рабы и должны служить мне, как я хочу,— шутил нередко Карл и с глубоким убеждением в своей правоте подчеркивал на страницах фразы, отмечал ногтем то или другое слово. Как и во всем ином в жизни, Карл в чтении никогда не оставался равнодушным. Мысль его всегда была в движении и откликалась на все окружающее, на каждое печатное слово. Особенно не мог он оставаться безучастным к книге, пытавшейся утверждать политические и социальные взгляды, которые он считал ложными.
Двадцать восьмого декабря 1846 года Маркс писал Павлу Васильевичу Анненкову:
«Вы уже давно получили бы мой ответ на Ваше письмо от 1 ноября, если бы мой книгопродавец не задержал присылку мне книги г-на Прудона «Философия нищеты»..* Я пробежал ее в два дня...
Признаюсь откровенно, что я нахожу книгу плохой, очень плохой... Г-н Прудон не потому дает ложную критику политической экономии, что является обладателем смехотворной философии — он преподносит нам смехотворную философию потому, что не понял современного общественного строя в его сцеплении [engrènement], если употребить слово, которое г-н Прудон, как и многое другое, заимствовал у Фурье».
Посвятив далее несколько страниц книге Прудона, Карл в заключение писал:
«Он, как святой, как папа, предает анафеме бедных грешников и славословит мелкую буржуазию и жалкие любовные и патриархальные иллюзии домашнего очага, И это не случайно. Г-н Прудон — с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии».
Маркс намеревался принять вызов Прудона и вступить с ним в теоретический бой. Писать он решил на французском языке, чтобы Прудон мог в подлиннике прочитать эту работу, а главное потому, что стремился помочь французским коммунистам в их борьбе с Прудоном. До сих пор, изучая Гегеля и Фейербаха, а также статьи Маркса и Энгельса, Прудону приходилось пользоваться в качестве переводчиков Грюном и Эвербеком. Маркс избавил его от этой необходимости. В своей книге о «Философии нищеты» Прудона он решил показать всю ограниченность взглядов ее автора и опровергнуть доводы Прудона против коммунистической идеи.
— Пожалуй, следует назвать мою книгу «Нищета философии»,— сказал Маркс.— Что ты скажешь об этом названии, милая Женни?
— Я нахожу это название очень метким,— подумав, ответила она. Женни всегда была советчицей мужа в сложном деле подбора названий к его произведениям. На этот раз заглавие нашлось быстро.
Карл принялся за работу. Когда Женни и Фридрих выслушали первые главы книги, они сказали о ней почти одно и то же.
— Твой труд, несомненно, явится вехой в истории науки,— проговорил Энгельс.
— Я с удовольствием перепишу эту рукопись,— заметила Женни.
Карл благодарно улыбнулся Женни и попросил ее во время переписки тщательно проверять особенности французской речи. Хотя сам Карл отлично владел французским языком, ему казалось, что Женни говорит на нем в совершенстве. Точно так же он думал и о Фридрихе, имевшем врожденный дар лингвиста и овладевшем многими чужеземными языками.
«Труд г-на Прудона,— начал свою книгу Маркс,— не просто какой-нибудь политико-экономический трактат, не какая-нибудь обыкновенная книга, это — своего рода библия; там есть все: «тайны», «секреты, исторгнутые из недр божества», «откровения». Но так как в наше время пророков судят строже, чем обыкновенных авторов, то читателю придется безропотно пройти вместе с нами область бесплодной и туманной эрудиции «Книги бытия», чтобы потом уже подняться вместе с г-ном Прудоном в эфирные и плодоносные сферы сверх социализма».
Карл выступил хорошо вооруженным знанием экономики. Он внимательно перечитал Рикардо, который во многом ему в эту пору нравился. Но Маркс, изучая законы развития капиталистического общества, видел его неизбежный взрыв, в то время как для Рикардо капитализм был незыблемым и вечным строем.
В разделах своей книги, посвященных философии, Карл доказал, что история не бесформенный хаос.
Прудон в своем путаном и высокомерном произведении предлагал для преобразования общественного строя множество рецептов, перепевая английских социалистов. Вера Прудона в вечную справедливость и гармонию в современном буржуазном обществе ни на чем не основана. В действительности же мир походил на аквариум, куда бросили одновременно щук и карасей.
Маркс утверждал, что положение Прудона о возможности обмена между людьми без всяких классовых противоречий выгодно только для буржуазии. Это иллюзия ослепляющая, а тем самым вредная для рабочих.
Охваченный высоким порывом, позабыв обо всем ином, Маркс весь отдался мышлению и творчеству.
«С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму антагонизма классов».
Одно открытие влекло за собой другое.
В конце концов, думал Маркс, подыскивая простые, понятные образы для своей книги, первоначально различие между носильщиком и философом было менее значительно, чем между дворняжкой и борзой. Пропасть между ними вырыта разделением труда.
Мысль эта ему понравилась, и Маркс быстро ее записал.
Он поднялся из-за стола и, подойдя к книжной полке, отыскал томик Фергюссона, учителя Адама Смита. Перелистав давно знакомые страницы, Карл остановился на следующей фразе: «В такой период, когда все функции отделены друг от друга, само искусство мышления может превратиться в отдельное ремесло».
В памяти Маркса вставала вся история формирования человеческого общества. Тысячелетия назад не было на »земле богатых и бедных, господ и рабов. Человек каменного века, живущий в пещере, первобытный скотовод, построивший первый шалаш, были равны между собой. Безымянные таланты изобретали и совершенствовали орудия труда. Шли века, и все менялось вместе со способом производства. Некогда не существовало различия между философом и человеком физического труда, но, думал Маркс, придет время, и черта, отделяющая труд физический от труда умственного, вновь сотрется.
Маркс далее писал, что разделение труда создало касты и принизило судьбу рабочего.
«Труд,— говорил Маркс,— организуется и разделяется различно, в зависимости от того, какими орудиями он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая...
Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Машина — это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства...»
Прудон в наивном невежестве утверждал, что металлы золото и серебро были избраны как деньги по воле государей.
Маркс опровергал это ясными выводами своей всепроницающей аналитической мысли. «Деньги — не вещь, а общественное отношение... это отношение соответствует определенному способу производства, точно так же, как ему соответствует индивидуальный обмен»,— заявлял он.
О коммунизме, о конечной цели думал Карл Маркс, когда доказывал, что правильная пропорция между предложением и спросом, о которой писал Прудон, станет возможной только в будущем. Буржуазия, ни с чем не считаясь, хищно стремится к прибылям. Она вслепую кидается навстречу сменяющимся непрерывно процветанию, депрессии, кризисам и подъемам и снова застою.
Ненаучной, мелкой, даже жалкой была та часть книги Прудона «Философия нищеты», где он выступал как философ. Эта область знания была наиболее изучена Марксом. Если к экономической науке он вплотную подошел недавно, хоть и отдался ей с присущей ему безудержной страстью и проник в самые недра, то философии он посвятил много лет, не одну бессонную ночь и неизмеримое количество умственной энергии.
Сначала подчинившись, потом преодолевая и поднявшись над Гегелем и затем над Фейербахом, этим «материалистом снизу и идеалистом сверху», Маркс определил, куда и как надо идти в теории и практике. Прудон же беспомощно барахтался в философских учениях и повторял с обычной самоуверенностью идеалистический постулат, что мир действительности является следствием мира идей.
Рядом с Марксом, который, подобно орлу, поднимающемуся в поднебесье, мог единым взором обозреть огромные пространства, Прудон, человек, стоявший по своему развитию выше многих людей своего времени, выглядел, тем не менее, лишь петухом, не имевшим силы, которая дала бы ему возможность взлететь.
Это был неравный бой. Маркс шутя сбивал спесь с важного и самоуверенного Прудона.
Глубокая убежденность, опиравшаяся на знания, анализ, кругозор, делала Маркса скромным. Прудон вынужден был пыжиться, заранее защищая положения, которые, не имея достаточных научных обоснований, возводил на песке. Он мнил себя стоящим выше и буржуазных экономистов, которые старались замазать все дурное в современном им обществе, и социалистов, обвинявших в несправедливости и неравенстве правящую буржуазию.
Маркс, безукоризненно владевший диалектическим методом, понимал, что во всяком зле в какой-то мере может быть добро и в добре — зло. В каждой странице истории он без труда находил положительные и отрицательные стороны.
Карл тщательно следил за всеми процессами становления и постепенного укрепления буржуазии. В рамках одних и тех же отношений одновременно производится и богатство и нищета. По тем же законам внутри буржуазного общества появляется и новый класс — пролетариат, а вслед за этим развивается неизбежная борьба между этими двумя классами. Экономисты являются в эти годы теоретиками буржуазии, коммунисты и социалисты — теоретиками пролетариата. Однако до тех пор, пока не созрели условия для освобождения пролетариата, социалистические теоретики выступали как утописты.
«Но по мере того как движется вперед история,— отвечает Маркс Прудону,— а вместе с тем и яснее обрисовывается борьба пролетариата, для них становится излишним искать научную истину в своих собственных головах:
им нужно только отдать себе отчет в том, что совершается перед их глазами, и стать сознательными выразителями этого. До тех пор, пока они ищут науку и только создают системы, до тех пор, пока они находятся лишь в начале борьбы, они видят в нищете только нищету, не замечая ее революционной, разрушительной стороны, которая и ниспровергнет старое общество. Но раз замечена эта сторона, наука, порожденная историческим движением и принимающая в нем участие с полным знанием дела, перестает быть доктринерской и делается революционной».
Маркс писал «Нищету философии» на одном дыхании, с трудом отрываясь для сна и еды, весь охваченный нахлынувшими мыслями. Все эти дни он не мог ни о чем другом думать и часто просыпался ночью, чтобы записать ранее не дававшуюся ему формулировку.
Женни называла это творческой лихорадкой. Так оно и было на самом деле. Карл пожелтел от напряжения и долгих часов работы без свежего воздуха. И все-таки писал он необыкновенно быстро, поражая этим Энгельса. Обычно придирчивый к себе, он опять и опять переписывал и откладывал уже сделанное, а неудовлетворенная мысль его проникала все глубже и глубже в суть вопроса.
В смысле требовательности к себе Карл походил на средневекового поэта, о котором рассказывали,что он писал за столом, имевшим сто ящиков. Каждый раз, дополнив или исправив сонет, он перекладывал его дальше и считал оконченным лишь тогда, когда вынимал из сотого ящика.
В этот период Маркс часто работал до глубокой ночи.
Давно уже спал Брюссель. На ратуше часы пробили три раза. Маркс все еще сидел за письменным столом. Женни поднялась с постели, на цыпочках вошла в кабинет мужа и села подле него. Свет лампы падал на склоненное лицо Карла, на его усталые веки. Женни вглядывалась в каждую новую морщинку на его лбу, вспоминая, когда она появилась впервые. Ей казалось, что в суете, в повседневных заботах она недостаточно уделяет ему внимания.
Нередко Карл работал до рассвета...
Еще раз определил он сущность земельной ренты и доказал, что это всего лишь та же феодальная собственность, перенесенная в условия буржуазного производства. В то время как Прудон с присущей ему самоуверенностью заявлял, что фабрика впервые возникла в результате простого сговора тружеников средневековых цехов, Карл, опровергнув это, доказал, что не цеховой мастер, а предприниматель-купец стал ее хозяином.
Карл высмеял также мнение, высказанное Прудоном, что конкуренция порождена человеческим характером и потому неизбежна, и заявил, что, появившись в XVIII веке, она может навсегда исчезнуть в последующие столетия, как только изменятся исторические потребности.
Пышное здание, построенное Прудоном, вся его беспомощная теория распалась на жалкие куски под ураганной силой мысли Маркса.
В самом конце своей книги Карл коснулся исторического значения протеста рабочих против гнета, который выражался в стачках и объединениях для совместной борьбы. Прудон не придавал стачкам и союзам рабочих никакого серьезного значения, оставаясь глухим к грому все более часто повторяющихся восстаний. Признав, что борьба за работу и кусок хлеба частично разделяет тружеников, порождая конкуренцию, Маркс доказывал, что у них всегда останется общая цель — заработная плата на сколько-нибудь приемлемом уровне. Необходимость сопротивления толкает рабочих к объединению в союзы, где выковывается теоретическое и практическое оружие для грядущих боев. Когда-то давно и буржуазия начинала с объединения против гнета феодалов. Так зачинается класс, который потом, свергнув поработителей, сам становится у власти и создает новый строй.
Нарастающие противоречия между пролетариатом и буржуазией должны неизбежно привести к революции. Таков закон истории.
Всякое общественное движение не исключает политического, нет политического движения, которое не было бы общественным. Только в бесклассовом обществе этого уже не будет.
Так, подвергнув разрушительной критике идеалистический и метафизический метод Прудона, Маркс защитил и развил новое научное пролетарское мировоззрение. Он заложил основы новой политической экономии.
Закончил Маркс свое замечательное произведение словами Жорж Санд:
«Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса».
Глава шестая Зрелость
Георг Гервег приехал к Марксу вместе со своей многоречивой и мужеподобной супругой Эммой. Он нуждался в Карле, особенно в периоды частой хандры и расслабленности воли, ждал его душевной поддержки.
Гервег не мог надолго расставаться со своей заурядной женой именно потому, что у нее никогда не пробуждалось никаких гнетущих душу мыслей и разъедающих сомнений. Георг то считал себя гениальным, то совсем бездарным. Нередко он лихорадочно носился с различными планами, которые требовали, однако, большой физической и моральной силы, а затем проводил лежа в постели целые дни, утверждая, что болен и жаждет смерти.
Неглупый, много читавший и знавший, он разделял взгляды Маркса и считал себя коммунистом, но часто колебался и впадал в уныние.
Как бы трудно ни жилось Марксу, даже во время болезней, он никогда не терял ни внутренней силы, ни огромной целеустремленности. Слабохарактерный Гервег всегда искал сильных духом людей, чтобы опереться на них. Он был подобен плющу, у которого нет устойчивого ствола.
Маркс был бесконечно щедр к единомышленникам и отдавал им большими пригоршнями сокровища своего ума и памяти. Гейне, Гервег, Фрейлиграт, Веерт и многие другие, общаясь с ним, духовно обогащались. Их кругозор расширялся: они начинали видеть дальше, чувствовать глубже, знать больше. В этом была великая сила духа Карла. Ни низменной зависти, ни мелкого тщеславия, ни злобной скупости никогда не знал Карл Маркс.
Гервег приехал в Брюссель мрачный и подавленный. Карл тотчас же заметил это.
— Сплин? — спросил он друга, хлопнув его по плечу, как бы желая встряхнуть.— Опять перепеваешь свои унылые сонеты. «Я славлю смерть, друзья» — так ты писал, кажется?
— Да,— ответил Гервег и продолжал начатое в шутку Карлом стихотворение:
Как капли от пучины, с неохотой Оторвались мы от первичных сил.
Смерть нас уносит в океан, что был Нам родиной до нашего отлета...
— Ты любишь жизнь и боишься смерти,— прервал поэта Маркс, но тот декламировал дальше:
Вам гибель горькой кажется пилюлей, Но ведь, не требуй смерти ход вещей, Мы сами б к ней с своих путей свернули.— Тебе часто удавалось, старина, прибегать к поэзии как к оружию, а вот это нытье и воспевание смерти можно уподобить дезертирству.
Гервег разочарованно слушал Маркса и качал головой.
— Я не вижу ни одного трона, который бы покачнулся,— сказал он равнодушно.
— Приложи ухо к земле, Георг. Троны падут не сами по себе, а когда разверзнется под ними земля.
За завтраком Эмма, сообщив присутствующим о том, что Георг лишился аппетита, страдает бессонницей, охладел к графине д’Агу и стал верным мужем, принялась выкладывать новости, которые с неутомимостью пчелы собирала в Париже.
— Гейне, бедняжка, похож на скелет. Представьте, ему запретили бриться, и у него выросла седая бородка. Врачи говорят, что он умирает, но это может тянуться еще несколько лет. Когда мы были у него, я едва скрывала слезы. Он стал какой-то умиленный, тихий, но все еще острит и не сдается. Мы застали у него госпожу Жорж Санд. Она, представьте, еще больше потолстела и почернела. Это одна из немногих женщин, которую Гейне, несомненно, уважает. Именно потому, я думаю, они не были никогда в любовной связи, хотя об этом много болтали в Париже. Ах, как мне жаль Фридерика Шопена. Жорж Санд, кажется, его уже оставила. Он не проживет долго. Не знаю, что он в ней нашел. У гениальных женщин всегда тяжелый характер и плохие дети.
— Но сын Жорж Санд, Морис, скромен, умен, хорошо учится,— вступилась Женни.
— Зато дочь Соланж — красивая змейка. Это она поссорила Шопена с писательницей...
— Видал ли ты Бернайса? — спросил Карл Гервега. Его раздражала пустая болтовня Эммы.
— Конечно. Он большей частью живет в Сарселе, в этом ужасном местечке под Парижем, где девять месяцев сплошная грязь, а три месяца такая пыль, что мой Георг, наверно, заболел бы там ангиной,— не дав ответить мужу, затараторила госпожа Гервег.
— Бернайс все так же подвижен и деловит, как прежде, и так же неустойчив, восторжен и доверчив,— сказал Гервег,— хотя он и твердит иногда, что никому не верит без тщательной проверки...
Снова Эмма, не дав договорить мужу, заглушила его мягкий тенор своим резким контральто:
— Вы знаете, Бернайс разъезжает в прекрасном модном шарабане, запряженном гнедой лошадью. Это, конечно, выезд Бернштейна. Хотела бы я знать, где этот гамбургский пройдоха берет деньги. Неужели все еще у Мейербера? В Париже я несколько раз встречала красавца Энгельса. Как он мил! — продолжала неутомимая супруга поэта, и ее маленькие глазки заблестели.
— Фридрих чем-то похож на эллина. О таких, как Энгельс, пел Гомер,— сказал Гервег, поглаживая свою холеную темную бородку, которой гордился, как и всей своей женственной, томной внешностью.
Завтрак был наконец окончен, и Маркс увел Гервега к себе. Там они смогли поговорить о том, что было важно для обоих.
Адальберт фон Борнштедт переселился в Брюссель. Он говорил, что не может подолгу оставаться на одном месте. Менее всего хотелось ему жить на родине, в Пруссии. Отношения его с прусской полицией после неудачного редактирования «Форвертса» испортились. Борнштедт непрестанно стремился иметь в своем распоряжении газету. Этот с виду совершенно безучастный ко всему светский человек любил власть, которую дает живое печатное слово. Ему нравилась сутолока редакции, запах типографской краски, непрерывный поток новостей, проносящийся через газету. Флегматичный внешне, он жил тщательно скрываемой многосторонней и полной страсти жизнью. Прусское и австрийское правительства высоко ценили его незаурядные способности. Как всякий шпион, он был также и актером.
Адальберт обладал даром перевоплощения. Взяв на себя какую-либо роль, он начинал верить сам, что это и есть его подлинная сущность. По самому роду своей двойственной деятельности хорошо разбирался в людях и был тонким психологом. Это было главным правилом игры, которая стала его жизнью. Знать людей не всегда для того, чтобы точно обрисовать их в секретных донесениях, но чтобы укрыться, не быть разоблаченным,— чрезвычайно важное свойство для тех, чьим вдохновителем становится Иуда. И это искусство маскировки в совершенстве постиг Борнштедт.
Он сумел обмануть даже Меттерниха и прусских профессионалов тайной полиции. Без особого труда ему почти всегда удавалось вводить в заблуждение всех, с кем он встречался, и уж особенно тех, на кого он старался произвести наилучшее впечатление.
Не люди, а одни секретные бумаги, которые он писал и отправлял в Австрию и Пруссию, могли раскрыть его истинное лицо.
Борнштедт был поглощен идеей создания нового печатного органа. Была ли это взятая на себя роль или искреннее стремление?
Наконец ему удалось осуществить свое желание, и он начал выпускать два раза в неделю «Немецкую Брюссельскую газету». То, что Борнштедт резко изменил свои взгляды по сравнению с теми, которые он отстаивал в «Форвертсе» до краха газеты, никого не удивляло. Адальберт не пятился назад, не отступал, как филистеры, вроде Руге, и Маркс охотно протянул руку тому, кто объявлял себя его единомышленником.
У палача тоже есть подобие сердца, которое бьется трепетно, когда он ласкает своих детей. У предателя могут быть свои симпатии и понимание качества окружающих его людей. Издатель «Немецкой Брюссельской газеты» понял, каким неоценимым кладом знаний и мыслей являются два молодых друга — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Он не мог не оценить их политический темперамент, необычайный интеллект. Среди многих других Адальберт выделил Маркса и сделал все возможное, чтобы понравиться ему и привлечь к работе в газете. Перо такого человека, как Карл Маркс, подобно мощному крылу, высоко поднимало любое издание. И Борнштедт, ближе узнав Маркса, не только стал гордиться своим сотрудником, но и предоставил в его распоряжение всю газету.
Еще со времен парижского «Форвертса» о Борнштедте говорили, что он провокатор. Но никаких фактических подтверждений не было. Многих политических деятелей противники пытались очернить такими наветами, поэтому Маркс и Энгельс не придали слухам о Борнштедте никакого значения. Они считали его честным человеком, хотя и непостоянным в своих политических убеждениях. А поскольку газета была им необходима, они охотно согласились принять в ней участие.
Борнштедт сначала не понял, какой силищей является коммунистическое учение, сколь высокой принципиальностью обладает Маркс. Позднее он с ужасом увидел, каких мощных вызвал духов. Конфликт неизбежно назревал, и вскоре Борнштедт затеял интриги против коммунистов.
И все же Маркс получил хорошую трибуну, откуда он и его единомышленники начали борьбу за свои взгляды. С помощью газеты они могли вмешиваться и направлять общественную жизнь не только немецких изгнанников, но также социалистов и коммунистов иных национальностей в Бельгии и других странах. Это дало им преимущество в спорах с «истинными социалистами» и буржуазными демократами, такими, как Гейнцен.
Для своей небольшой по объему книги против Прудона Карл легко нашел двух издателей, одного — в Брюсселе, другого — в Париже, но расходы по печатанию должен был оплатить сам. Он очень нуждался в заработке.
Карл не верил, что Борнштедт может быть предателем. Подозрения против него, которые когда-то зародились в немецкой колонии в Париже, казались Марксу неосновательными также и потому, что с первых дней своего возникновения «Немецкая Брюссельская газета», смело высказывавшаяся против господствовавшего в Пруссии произвола, подверглась жестоким нападкам. Прусское посольство в Брюсселе требовало от бельгийского правительства закрытия газеты. Было ли это возмущение искренним или нарочитым, чтобы отвести от фон Борнштедта всяческие подозрения? Существование газеты не раз висело на волоске. Все это, казалось, подтверждало честные намеренна фон Борнштедта — бороться с прусским деспотизмом.
Маркс решил не упускать возможности активной общественной деятельности. Он с увлечением начал сотрудничать в «Немецкой Брюссельской газете». Многие статьи он писал вместе с Энгельсом, воюя с другими немецкими газетами, особенно с «Рейнским обозревателем», издававшимся в Кёльне. Этот город был дорог обоим. Карл провел в нем песколько лет и оставил там немало друзей, с которыми не терял живой связи и поныне. Он любил вспоминать кабачок возле сумрачного собора, где спорил до рассвета с Рутенбергом и Гессом. Да, Кёльн — веселый город, там живет крепкий народ, любящий песни и шутки. В свое время по дороге в редакцию «Рейнской газеты» Маркс любил иногда останавливаться возле старого дома на Штерненгассе, где родился Петер Пауль Рубенс и умерла Мария Медичи.
В Кёльне теперь жил асессор консистории из Магдебурга, по имени Герман Вагенер, молодой человек с гладко прилизанными волосами и мыслями, усерднейший автор подстрекательских и витиеватых статей в «Рейнском обозревателе». Эта газета была реакционной и пыталась проповедовать феодальный, христианский социализм. Прусский мракобес Вагенер писал в «Рейнском обозревателе», что буржуазия доказала свое безразличие к нуждам простого народа, считая его не более чем пушечным мясом, годным для борьбы заводчиков против законной власти. Иное дело юнкерство, дворянство. Вагенер пытался сделать рабочих оплотом прусского реакционного правительства.
А Маркс и Энгельс утверждали, что пролетариат не заблуждается относительно намерений буржуазии и юнкерского прусского правительства. Власть тех или других для рабочих — угнетение.
Не пощадили Карл и Фридрих и рассуждения Вагенера о преимуществах христианства перед коммунизмом.
«Социальные принципы христианства,— писали они,— располагали сроком в 1800 лет для своего развития и ни в каком дальнейшем развитии со стороны прусских консисторских советников не нуждаются.
...Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов — господствующего и угнетенного, и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, дабы первый ему благодетельствовал.
...Социальные принципы христианства превозносят трусость, презрение к самому себе, самоунижение, смирение, покорность, словом — все качества черни, но для пролетариата, который не желает, чтобы с ним обращались, как с чернью, для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба».
Помимо нескольких статей против «Рейнского обозревателя», Энгельс написал ряд фельетонов о «немецком социализме в стихах и прозе», имея в виду снова «истинных социалистов».
Фридриха особенно возмущали слащавые и унижающие пролетариат строки поэта из группы «истинных социалистов». Тщедушный, кривоногий, жалкий бедняк, готовый на всякие унижения,— таков был, по мнению поэта Бека, рабочий. И подлинным гневом звучат слова Энгельса в его отзыве о поэзии Карла Бека: «Бек воспевает трусливое мещанское убожество, «бедняка»... существо с ничтожными, благочестивыми и противоречивыми желаниями... но не гордого, грозного и революционного пролетария».
Дни в Брюсселе казались Женни слишком короткими,— так много у нее было в то время дел. Переписка рукописей Карла, непрерывно возраставшая корреспонденция с единомышленниками в разных странах, деятельное участие в «Немецком рабочем обществе», членом которого она была, требовали много времени. Женни доставала книги и организовывала для рабочих библиотеки. Она помогала в устройстве общеобразовательных занятий для немецких изгнанников. И в то же время ей приходилось работать по подбору необходимых Карлу материалов, выписывать статистические таблицы по разным вопросам экономики. На столе Женни лежали вперемежку книги по философии, истории, стопки газет на нескольких языках и всегда много беллетристических книг, которые она читала вслух Карлу. Она иногда выписывала цитаты, которые затем появлялись в работах Карла. Шамиссо и Жорж Санд, Гейне и Бальзак, Гёте и Шекспир не исчезали с рабочего столика Женни.
Обычно поздно вечером Карл принимался за чтение многочисленных газет на разных языках. Заметив что-либо особо интересное, он звал Женни и читал ей вслух.
— Ого, сладкоголосая арфа изволит поведать читателям свои «принципы жизни»,— сказал как-то Карл, просматривая газету «Бьен пюблик», издаваемую поэтом Ламартином.— Все последнее время он явно не довольствуется ролью одного из пламенных проповедников католицизма в поэзии.
— Вот как? Что вещает теперь этот политический кондитер, поставляющий, впрочем, весьма ядовитые, хоть и засахаренные, поэмы вроде «Жослена»? — спросила Женни.
Она достала корзинку с разноцветными мотками шерсти, села подле мужа и принялась вязать.
— Несомненно, Ламартин рьяно протискивается к министерскому креслу. Успех у дам и промышленных заправил не может заменить ему политической власти.
Карл отложил сигару и принялся читать:
— «Мой взгляд на коммунизм может быть кратко выражен... следующим образом: если бы бог вверил мне общество дикарей для того, чтобы их цивилизовать и сделать культурными людьми, то первым институтом, который я им дал бы, была бы собственность».
«Присвоение человеком себе в собственность элементов»,— продолжает далее Ламартин,— «является законом природы и условием жизни. Человек присваивает себе воздух, когда он дышит, пространство, когда передвигается, землю, когда ее возделывает, и даже время, увековечивая себя в своих детях; собственность есть организация жизненного принципа во вселенной; коммунизм был бы смертью для труда и для всего человечества».
Письмо Ламартина против коммунизма настолько заинтересовало Маркса, что он написал на него ответ.
Женни много приходилось возиться с детьми, делить с Ленхен заботы о хозяйстве. Это было нелегким делом: денег не хватало на самое необходимое для разросшейся семьи.
В течение дня гостеприимную квартиру обязательно посещал кто-либо из проживающих в Брюсселе или приезжих единомышленников Маркса. И тогда Женни должна была принимать, а иногда и выслушивать гостя, так как Карл часто бывал занят срочной статьей, ответом на важное письмо или подготовкой к выступлению.
Нередко в этот год он болел из-за крайнего умственного переутомления. Тогда Женни неотступно была возле него. Она ждала третьего ребенка, но старалась мужественно переносить недомогание и работала без устали. Превосходно владея собой, Женни всегда оставалась ровной, приветливой и веселой. В доме было как-то особенно уютно и царила атмосфера доброжелательства и спокойствия, столь необходимая Карлу, который уставал подчас так, что становился раздражительным.
Женни хотелось, чтобы он отдохнул на берегу моря, в соседнем Остенде, куда обычно выезжали жители Брюсселя. Она перечитывала давнишнее письмо Энгельса. В нем Фридрих сообщал о расходах, связанных с пребыванием в Остенде, и приводил следующий перечень:
В месяц:
Квартира: 125–150 франков
Завтрак: 45–45 фр.
Обед: 150–175 фр.
(если ты будешь есть на берегу моря) (здесь много жрут)
Ужин, 2–3 бифштекса: 60–90 фр.
Кофе после обеда на берегу, крайне необходимо, 2 чашки: 18–18 фр.
К тому же ванны, по 1,30–1,50 фр.: около 40 фр.
Стирка белья стоит очень дорого, минимум: 20–30 фр.
Итого: 418–508 фр.
Большая получалась сумма.
Карл решительно отказался ехать к морю, хотя чувствовал себя столь плохо, что пришлось пустить ему кровь. Как всегда, когда Карл заболевал, Ленхен отправилась за доктором Брейером, хозяином домика, где они жили. Он явился немедленно и вытащил из кармана фуляровый платок, в котором лежал скальпель.
— Вот и снова,— сказал Брейер,— усиленная работа мозга привела к порче крови. Это, знаете ли, неизбежно.
Ученость лекаря не мешала ему совершать иной раз весьма тяжелые для пациента оплошности. Увлекшись рассуждениями о пользе кровопускания, он по ошибке вскрыл у Карла вену не на левой руке, как следовало, а на правой. Крайне сконфуженный эскулап запретил Карлу писать, чтобы не тревожить рану, которая начала гноиться, и, к ужасу Женни, появился озноб. В течение нескольких дней положение Маркса внушало серьезные опасения.
В это время в Брюссель приехал из сонного Нимвегена двоюродный брат Карла, жизнерадостный, розовощекий крепыш Лион Филипс, В семье Карла все любили этого молодого голландца. Для него же после монотонного быта родного города деятельная, насыщенная мыслями и спорами трудная жизнь Маркса была откровением, бурей, которая очищала воздух и обновляла душу.
Из-за мучительно ноющей руки Карл в течение нескольких дней был лишен возможности писать. Он стремился побольше читать, но Филипсу иногда удавалось все-таки уговорить его отдохнуть. Если дочери не гуляли или не спали, Карл возился с ними на ковре, изображая лошадку. Лион Филипс подсаживал трехлетнюю смуглянку Женни на спину Карла, и она принималась, заливаясь смехом, подталкивать его ножонками, требуя, чтобы он бежал быстрее. Малютка Лаура хотела тоже, чтобы ее развлекали. Она что-то лепетала и старалась догнать веселую кавалькаду. Лион Филипс подхватывал ее на руки и подбрасывал кверху. В детской поднимался тогда веселый шум. По всему дому разносились мужские и детские голоса. Женни тоже не могла оставаться равнодушной и присоединялась к веселящимся.
Из кухни прибегала Ленхен, чтобы посмотреть на взрослых, шаливших, как дети. В эти счастливые минуты совсем забывались все житейские трудности.
Когда Маркс возвращался в свою рабочую комнату, Филипс, прежде чем Карл возьмет какую-нибудь книгу и углубится в чтение, завязывал разговор. Все в мире казалось спокойному уроженцу Нимвегена крайне запутанным и сложным. Он не успевал освоить одну систему взглядов, как натыкался на что-нибудь новое.
— Вокруг такая неразбериха,— говорил он и, не скрывая огорчения, доставал большой красный, вышитый бисером кисет, чтобы успокоить нервы табаком,— Каким образом Карл и Фридрих могут во всем происходящем разобраться? — спрашивал Филипс,— Сколько в ми« ре философских теорий, сколько экономических доктрин, и все они твердят разное. Даже тех, кто называет себя социалистами и коммунистами, развелось невесть сколько.— Филипс загибал пальцы, подсчитывая: — Сен-симонисты, Фурьеристы, последователи «папаши Кабе», Дезами и католического священника Ламенне, «истинные социалисты», христианско-феодальные социалисты...— У пытливого голландца начиналось головокружение, и он в отчаянии опускал руки,— Не меньше появилось и пророков, орущих на весь мир, что только они обладают подлинной истиной. Одни братья Бауэры вносят столько сумятицы,— сокрушался Филипс.
Ему казалось, что вокруг него чудовищный, первозданный мир. «Где же кончается,— думал он,— библейский хаос и появляется свет?»
— Видно, вся сумятица в философии порождена немцами! О, какое счастье, что я голландец!
Вокруг Маркса в Брюсселе собралось немало коммунистов. К постоянному сотрудничеству в «Немецкой Брюссельской газете» Карл привлек Мозеса Гесса и Вильгельма Вольфа. Приехал из Англии и сблизился тотчас же с Карлом двадцатипятилетний Георг Веерт, друг Энгельса.
В отрочестве Веерт, родившийся в небогатой семье пастора, был отдан учеником к купцу. Торговый дом, куда поступил он, находился неподалеку от Бармена — родного города Энгельса. Судьба свела Фридриха и Георга в Англии, где молодой Веерт служил комиссионером немецкой торговой фирмы в Бредфорде, в то время как Энгельс находился в соседнем Манчестере. Они встречались по воскресеньям и не могли наговориться. Тогда же они оба познакомились с чартистами, у которых многому научились. Георг Веерт, как и Фридрих Энгельс, стал в Англии социалистом.
В юности, посещая вольнослушателем Боннский университет, Георг познакомился с литераторами и поэтами. Сначала робко, затем все увереннее принялся он за перо и нашел себя. Много переживший и передумавший, он не поддался ничьим влияниям; без труда отбросив приторные, лицемерные поэтические упражнения «истинных социалистов» и напыщенные, путаные литературные искания «Молодой Германии», Веерт легко, уверенно, самобытно писал стихами и прозой. Он был рожден для литературного творчества, имел свой особенный голос.
Поэзия и художественная проза требуют врожденного дарования; тщетно пытаться петь, если родился безголосым. Истинный писатель и поэт природой создан для искусства, и никакая школа, если нет таланта, не заменит ему его. И голос, как и у певца, у литератора бывает разной силы, тембра и качества. Умение владеть своим инструментом, развивать звучание, знать свои возможности приходит с ростом и самосознанием артиста, будь он певец, художник или писатель.
Веерт много работал, совершенствуя врожденное дарование. У народа он учился языку, пылко увлекался древнегерманским эпосом.
Велико было воздействие на него друга юных лет — Энгельса. Книга Фридриха «Положение рабочего класса в Англии», которую Веерт изучал по рукописи, еще до выхода ее в свет, произвела на него неизгладимое впечатление. В своем очерке «Пролетарии в Англии» Веерт писал, что в настоящее время один из самых выдающихся философских умов Германии — Энгельс — взялся за перо, чтобы написать обширный труд о жизни английских рабочих. Он верил, что это будет труд неоценимого значения.
Веерт неустанно работал над своим самообразованием и в Бредфорде, изучал философию и историю. Тогда же Георг сблизился с вождями чартистов — Гарни и Джонсом — и принялся за чтение экономической литературы. Знакомство в Брюсселе с Марксом углубило его знания, расширило кругозор. Он стал борцом не только в литературе, но и в повседневной жизни.
Болезненный, с часто вспыхивающим на щеках румянцем, с острым удлиненным лицом, с умными глазами, жадно всматривающимися во все окружающее, правдивый и верный своему слову, впечатлительный, подверженный смене настроений и в то же время смелый и сильный духом, он горел и не щадил себя в любом деле. Будучи полной противоположностью спокойному Вильгельму Вольфу, Георг был так же бескорыстен, честен и чуток, как и он.
Веерт, подобно многим поэтам, прятал под внешпей самоуверенностью постоянное сомнение в своем даровании. Чуткая и наблюдательная Женни поняла его и умела ободрить. Как и Гейно, молодой, талантливый Веерт доверял ей и побаивался ее суждений о своем творчестве. Тем более воспрянул он духом, когда однажды опа сказала ему:
— Георг, вы написали превосходные стихи. Прочтите мне еще раз. Это подлинная, умная поэзия.
И Веерт снова декламировал:
В рассветный час под шум осин И жаворонка пение У матери родился сын На горе и мучение. В шестнадцать лет — таков удел!— Выносливый и сильный, Он фартук кожаный надел И стал к печи плавильной. Он жаркий уголь шуровал Тяжелой кочергою, И тек расплавленный металл Медлительной рекою. Он пушки лил. На всех морях Те пушки громыхали, Несли французам смерть и страх, Китай опустошали, Творили в Индии не раз Суровую расправу. И стон стоял, и кровь лилась Британии во славу. Трудился он в жаре, в пыли. А старость приближалась. И с горькой старостью пришли Болезни и усталость. К нему нет жалости теперь. Он, нищим, одиноким, Был грубо выброшен за дверь Хозяином жестоким. Он шел, качалось все кругом В глазах, слезой омытых, А в сердце — ненависть, как гром Всех пушек, им отлитых. И он сказал: «Настанет час Грозы и битв суровых, Когда ударим против вас Из десятидюймовых!»К Марксу потянулся и однофамилец Вильгельма Вольфа, молодой Фердинанд Вольф, по прозвищу «Красный», весьма способный и деятельный журналист.
Кроме этих людей, прошедших суровые испытания и отлично выдержавших их, у Карла в редакции и на дому постоянно бывали рабочие: наборщики «Немецкой Брюссельской газеты» Карл Валлау и Стефан Борн, портные, каретники, столяры, кузнецы. Не только немцы, но и участники революции 1830 года — бельгийцы часто приходили и засиживались в уютной квартире Карла и Женни. Сблизились с Марксом бельгийцы — революционер Жиго и архивариус городской библиотеки Тодеско. Маркс, Энгельс и Жиго возглавили первый Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет.
Через коммунистические корреспондентские комитеты и друзей в эту пору непрерывно расширялись и завязывались новые связи с социалистами разных стран. По существу, это были первые партийные ячейки.
В Германии находилось немало старых и новых единомышленников Маркса. Они сообщали обо всем, что печаталось в газетах и журналах, о событиях общественной и политической жизни и передавали полученные из Брюсселя ответы рабочим кружкам и сочувствующим интеллигентам разных городов.
Все больше возникало рабочих обществ среди ремесленников и пролетариев. Часто они собирались под видом певческих, музыкальных и общеобразовательных кружков. Но после хорового пения народных и патриотических песен собравшиеся принимались за обсуждение вопросов, гораздо более их волнующих, чем популярная песня «Заря, о заря» или романсы Шуберта и Шумана.
Подробно писал Карлу обо всем злободневном, о спорах и борьбе за единство среди коммунистов Кёльна его старый друг и соратник по битвам в «Рейнской газете» Георг Юнг.
Молодые начинающие врачи Роланд Даниельс и Карл Людвиг д’Эстер, жившие в Кёльне, разделяли взгляды Маркса. Оба они постоянно сообщали все самое важное в Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет, но открыто коммунистической группы не создавали. Чрезвычайно осторожный, физически хрупкий, но волевой Даниельс сохранял полную конспирацию. Д’Эстера в Кёльне считали демократом, и он также не разглашал своих коммунистических воззрений. Маркс знал это и одобрял эту тактику, так как считал необходимым не отталкивать мелкую городскую буржуазию, к которой д’Эстер имел доступ.
В конце лета, узнав о большом разброде среди социалистов в Париже, Маркс и его товарищи по комитету пришли к заключению, что в столицу Франции нужно поехать Энгельсу. Вскоре Фридрих уехал в Париж. Для него начались горячие дни. Он выступал с лекциями на различные темы перед немецкими тружениками в общинах «Союза справедливых», горячо отстаивая коммунистические идеи против извращений вейтлингианцев и «истинных социалистов» — Карла Грюна и «папаши Эйзермана».
Особенно привержены к Вейтлингу были портные и их подмастерья. Они же отличались необычайной говорливостью и готовностью спорить до рассвета. Как-то Энгельсу пришлось присутствовать на их обсуждении будущего коммунистического общества.
Старик портной с седыми волосами бурого оттенка и длинным морщинистым лицом говорил:
— Хотел бы я знать, как же будут при коммунизме устроены столовые. Вот, скажем, прихожу я обедать. Еды навалепо всяческой сколько хочешь. Бери и жри. А что же насчет посуды? Ведь официантов но будет. И ложки, ножи, вилки, все серебряные, лежат себе, бери кто хочет. Человек от рождения вор. Значит, он ложку эту и нож, поевши, в карман, да и домой. Так, что ли?
— Правильно,— согласились присутствующие.
Кто-то крикнул:
— Нужно страх божий иметь, иначе чем человека напугаешь.
— Вот я и думаю — вилки и ложки при коммунизме,— продолжал старый портной,— надо прикреплять к столам цепочками, а то иначе государству только и дела будет, что производить столовую посуду.
Столяры-краснодеревцы, ювелиры и кожевники отличались от портных значительно большей широтой понятий и охотно критиковали вейтлингианцев.
Обычно, возвращаясь домой после проведенного в кругу единомышленников или в споре с противниками вечера, Энгельс принимался за письма — сообщения Брюссельскому коммунистическому корреспондентскому комитету. На столе, где он писал, господствовал всегда образцовый порядок: стопками лежали книги и бумаги, которые следовало прочесть, и материалы для начатой статьи. Усаживаясь за письма в Брюссель, Фридрих радовался тому, что он как бы мысленно преодолевает расстояние и приближается к самым близким ему людям. Он все больше и больше привязывался к Марксу. У него вошло в привычку в частных письмах делиться с ним мыслями, планами и всем, что происходило в его личной жизни.
Но в сообщениях Брюссельскому коммунистическому корреспондентскому комитету Энгельс писал только то, что происходило в рабочем и коммунистическом движении Парижа.
«В конце концов я стал бешеным из-за бесконечного повторения моими противниками одних и тех же доводов и предпринял лобовую атаку на этих штраубингеров, что вызвало сильное возмущение среди грюнианцев,— писал он однажды в Брюссель.— Зато я вынудил благородного Эйзермана прямо высказаться против коммунизма...
Тогда я ухватился за оружие, данное мне в руки Эйзерманом,— нападки на коммунизм,— тем более, что Грюн продолжал интриговать, бегая по мастерским, по воскресеньям приглашал публику к себе и т.д., а в воскресенье после вышеупомянутого собрания он сам совершил безграничную глупость: в присутствии восьми или десяти штраубингеров стал нападать на коммунизм. Поэтому еще до начала обсуждения я потребовал голосования по вопросу о том, коммунисты мы или нет... К тому же они хотели бы прежде всего знать, что, собственно, такое коммунизм... Я дал им тогда самое простенькое определение... я определил намерения коммунистов следующим образом: 1) отстаивать интересы пролетариев в противоположность интересам буржуа; 2) осуществить это посредством уничтожения частной собственности и замены ее общностью имущества; 3) не признавать другого средства осуществления этих целей, кроме насильственной, демократической революции.
Об этом спорили два вечера... Одним словом, когда дело дошло до голосования, собрание объявило себя коммунистическим в духе вышеупомянутого определения. Решение было принято тринадцатью голосами против двух оставшихся верными грюнианцев; один из них, впрочем, потом заявил, что ему очень хотелось бы самому уверовать в коммунизм».
Перечисляя тех, среди которых ему приходится выступать в Париям, Энгельс упоминает ремесленников:
«Если бы можно было собираться открыто, у нас скоро было бы больше ста человек одних столяров. Из портных я знаю только нескольких, которые также приходят на собрания столяров...»
Он называет кузнецов и кожевников и сообщает:
«С ремесленниками здесь я думаю столковаться... Конкуренции между ними нет никакой. Плата стоит всегда на одном и том же уровне...»
Однако собираться открыто в Париже, особенно в эту напряженную предреволюционную пору, было невозможно. Никогда еще не кишели окраины таким количеством шпионов. Полиция преследовала всякие собрания, и немецкие изгнанники сходились по десять — двадцать человек под видом пирующих в кабачках и трактирах, стараясь не вызвать ничьих подозрений.
Помимо ремесленников и рабочих Энгельс встречался в Париже с Луи Бланом, Фердинандом Флоконом, редактором газеты «Реформа».
Луи Блан необычайно щеголеват и крайне тщеславен, Флокон росл, грузен, небрежен в одежде и безразличен к внешним знакам славы. Луи Блан, который тяготился своим маленьким ростом, часто повторял слова Наполеона: «Быть длиннее — не значит быть выше». Ему нравился Энгельс. Когда они как-то встретились на улице Парижа, он с интересом выслушал молодого, не по летам зрелого в суждениях немца.
Обычно легко обижающийся, Луи Блан не выразил ни малейшего недовольства, когда Фридрих Энгельс стал излагать ему свои критические замечания по поводу написанной Бланом «Истории революции».
— У вас верный нюх, и вы на отличной дороге, но вас опутывают чары,— сказал в заключение, смеясь, Энгельс.
Луи Блан, недоумевая, спросил своим пискливо-высоким голоском:
— Чары? Но какие?
— Самые опасные — ваша идеология. Пока вы не сбросите их, вы будете бродить, не находя выхода.
Луи Блан не решился оскорбиться и принял слова Энгельса как шутку.
Брюссельские коммунисты были тесно связаны с революционной фракцией чартистов. Редактором чартистской газеты «Северная звезда» в Лондоне был радикальный демократ Джордж Джулиан Гарни, называвший себя Маратом. Он, а также Эрнест Джонс, долгое время живший в Германии и свободно владевший немецким языком, и другие чартисты, оказывая заметное влияние на «Братских демократов», тесно соприкасались в революционной борьбе с коммунистами.
На заседаниях Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета обсуждались вопросы социалистического движения не только в Германии, но и Франции и Англии. В июле, в связи с победой на выборах в палату общин любимца английских рабочих О’Коннора, Маркс и Энгельс поздравляли его и всех чартистов с замечательным успехом.
В Англии в международную организацию «Братских демократов» входил также «Союз справедливых» во главе с Карлом Шаппером и Моллем, давнишними знакомыми Энгельса и Маркса.
Зимой 1847 года Иосиф Молль, человек атлетической внешности, врожденный дипломат, знавший людей не хуже, чем каждую мельчайшую деталь часов, которые чинил с удивительным терпением, пересек Ла-Манш и прибыл в Брюссель. В первый же вечер после приезда он встретился с тремя членами Брюссельского комитета — Марксом, Вольфом и Шиго.
— Мы раздумывали,— медленно, степенно говорил им Иосиф Молль,— откуда могут доктора наук, белоручки, никогда не знавшие нашей нужды, почувствовать, какая мозоль болит у рабочего? Да и вы ведь тоже относились к нам с недоверием. Не отрицайте. Мы огрубели, но и толстая кожа чувствительна, и в кости зуба есть живой нерв. Мы казались кое-кому только бродячими подмастерьями. Верно, мы бродили за хлебом насущным и за истиной. Англия и борьба чартистов многому учат рабочего, кто бы он ни был, хоть немец, хоть американец. Мы читаем то, что рассылает Коммунистический корреспондентский комитет, изучаем ваши статьи, многому научились у вас и предлагаем вам вступить в наш союз, так как разделяем все ваши научные взгляды. Мы хотим отныне работать и бороться за коммунизм вместе. Я говорю не от себя, а от членов нашего союза в Англии. Вот моя доверенность.
Молль подал лист добротной бумаги, на котором красивым четким почерком Карл Шаппер писал:
«Коммунистическому корреспондентскому комитету в Брюсселе. Подписавшиеся члены Лондонского корреспондентского комитета предоставляют Иосифу Моллю полномочия и поручения от их имени вступить в переговоры с Коммунистическим корреспондентским комитетом в Брюсселе и дать устный отчет о положении наших дел. Одновременно просим Брюссельский комитет доверить гражданину Моллю, который является членом здешнего комитета, переговоры по вопросам любой серьезности и сообщить все, что касается Лондонского комитета».
Документ был датирован 20 января 1847 года и подписан, кроме Шаппера, еще четырьмя членами союза.
В последующих переговорах с Марксом все сомнения Молля окончательно рассеялись, и он продолжал настойчиво уговаривать членов Брюссельского комитета вступить в «Союз справедливых». При этом он рассказал, что Центральный комитет союза решил созвать в Лондоне конгресс, на котором будет оглашен особый манифест. В нем взгляды, отстаиваемые Марксом и Энгельсом, должны быть провозглашены как учение всего союза. Но ведь могут быть и возражения у наиболее отсталых и косных людей, и именно поэтому необходимы союзу такие опытные и хорошо вооруженные теорией бойцы, как Карл и Фридрих.
— Без вас нам трудно будет положить некоторых наших старых путаников на обе лопатки и заставить их задуматься. Мы отошли от утопических учений и будем строго придерживаться научного коммунизма,— сказал Молль.— Вы и Энгельс поможете нам. Есть у нас неплохие парни, бойцы, настоящие пролетарии, но за прошлые годы нагромоздилось столько всяких теорий, что у них в голове хаос. А терять их, отбрасывать нельзя. Если в союзе будут такие, как вы, мы сомневающихся парней легко выведем на прямую коммунистическую дорогу.
Из Брюсселя Молль поехал в Париж к Энгельсу.
Вскоре Маркс, Энгельс, Вольф и многие другие их единомышленники приняли предложение «Союза справедливых» и стали его членами.
Графиня наконец добилась представления ее бельгийскому королю Леопольду I и в течение нескольких минут льстиво хвалила ему его парки и зеленые насаждения.
— Ваше имя войдет в историю как одного из самых свободомыслящих монархов и царственного садовода. Тот, кто любит флору, обладает необыкновенной душой,— говорила она, приседая в сложном реверансе, установленном этикетом.
После посещения королевского дворца графиня занялась покупками. Мебель, которую она собиралась приобрести на фабрике «поставщика его величества», показалась ей безобразной.
— Я нахожу,— сказала графиня Лизе безапелляционно,— что при буржуазном правлении вещи неизбежно становятся уродливыми. Что это за кровати, похожие на пышные катафалки? Что за комоды, пузатые, как торгаши, для которых их делали? Что за кресла, годные разве что для квартиры ростовщика или комиссионера! Я считаю — со времен Людовика Шестнадцатого и королевы Марии-Антуанетты исчезло умение украшаться и пользоваться жизнью. Корсиканский выскочка тщетно пытался подражать аристократам. Слава богу, в России благодаря нашему великому государю роскошь сохранилась во всей неприкосновенности. Придется заказать своим крепостным-краснодеревцам диван и обить его турецким ковром. Впрочем, закажу и модные смешные круглые сиденья — пуфики, как во дворце у константинопольского султана. А дешевая китайщина — все эти веера, ширмочки, фонарики, которыми увлекается Париж,— мне не но вкусу. Их привозят купчики с Востока в большом количестве. А вещь должна стоить жизни человеческой и быть подлинно единственной! Тогда она становится сокровищем, достойным украсить дом патриция. Вот посмотрите — мой туалетный столик, например, палисандрова дерева весь в резных узорах. Работая над ним, мой крепостной мастер лишился зрения. Говорят, скоро мебель будут выпускать фабрики, как эти ужасные парижские рединготы, которые все на один манер, точно гробы для бедных.
Графиня в каждом городе обязательно выискивала гадалок и проводила у них немало времени. Она жадно стремилась проникнуть в свое будущее, веря картам, движениям планет, линиям рук, кофейной гуще и бреду впадавших в транс юродивых.
Она гадала не только на себя и графа, но также на обожаемого монарха Николая I, трепеща от мысли, что ему, а значит, и всем патрициям, как называла она дворян, угрожает опасность гибели от рук «черни». Гадалок, составителей гороскопов никогда еще не было так много в Европе, как после революции 1830 года. Уходящая навсегда аристократия искала прикрытия в темных дебрях мистики, предсказаний и гаданий.
Пока графиня выбирала кружева, посещала оранжереи и цветочные магазины и бывала у гадалок, Лиза в свободные часы несколько раз навестила Вильгельма Вольфа. От него она узнала о создании Союза коммунистов. Он Дал ей также книгу Маркса против Прудона и книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».
Перед сном Лиза обычно доставала нарядную тетрадь в тисненом переплете из желтой кожи с двумя металлическими застежками — свой тайный дневник — и записывала то, что казалось ей самым важным, поучительным и Дорогим. В эти часы одиночество, которое с юности, словно тень, неотступно следовало за ней, исчезало. В дневнике девушки переплетались рассказы о мелочах быта, сухие описания событий, сокровенные признания и догадки ищущей души.
«Бакунин был нынче особенно печален,— записала она накануне отъезда из Парижа.— Мы гуляли с ним, прошли в Лувр и любовались там сокровищами скульптуры и живописи, затем поднялись по крутой лесенке в башенку мрачного собора Нотр-Дам, чтобы погладить каменных химер. Бакунин не переставая говорил. Он не верит больше, что скоро зазвучит набат революции над миром, и проклинает мощь тьмы. А недавно он думал противоположное. Он хотел бы поднять восстание народов и обвинял умников, которые мешают прорваться возмущению своими доктринами о классовой борьбе...
«Революция — стихия, а не наука,— говорил Михаил Александрович.— Нельзя остановить тайфун, а вот разные профессора воображают, что сумеют направить ветер по своему разумению так, чтобы он срывал только крыши дворцов, а не хижин. Они мешают и путают».
«Но разве ветру или тучам можно мешать в их движении?» — спросила я. «Нет, конечно, но люди должны понять это и не прятаться от ветра, который веет не по законам, а по стихийному порыву», — повторял Бакунин.
Не знаю, прав ли он? Но я уже спокойнее слушаю его. Сколько хороших слов говорят люди, и так далеки от слов дела их! Я стала страшиться звонких слов. Бакунин уже не так пленяет мое сердце, как когда-то, когда я еще мало читала, мало слышала и думала. Стараюсь преодолеть мое влечение к нему. Он всей моей муки не замечает, занятый, как маньяк, собой и желанием взорвать старый мир. Но я знаю: загораясь так, что, кажется, способен растопить огнем все льды земли, Мишель вдруг гаснет, и тогда видно — пылал всего лишь... стог сена. Все же я верю в него, в то, что он способен, пусть часто только под влиянием минуты, на великое самоотречение и на подвиг не ради тщеславия. Мне нравятся люди, которые столь сильны, что изо дня в день идут приступом, пока не возьмут вражеские бастионы. Я хотела бы, чтобы Бакунин имел волю, направляемую сильным умом, а не порывистую, то напрягающуюся, то опадающую, не защищенную в минуту слабости от всего дурного».
Однажды Вильгельм Вольф рассказал Лизе, что Союз коммунистов основал много просветительных кружков. Они должны были вести пропаганду политических идей, вовлекать новых членов, а также расширять знания рабочих, учить малограмотных чтению и письму, устраивать библиотеки.
Вольф пригласил Лизу на собрание «Немецкого рабочего общества». Он был его секретарем.
— Но не приходите в среду,— сказал Вольф,— а то, пожалуй, проскучаете вечер. Мы в этот день занимаемся для вас неинтересными, для нас же очень важными вопросами повседневных нужд рабочих, и наших членов в частности. В ближайшую среду, например, мы будем рассматривать положение портных в связи с расширяющимся фабричным производством одежды. Будет заслушан доклад Иоганна Стока. А вот в воскресенье — мой еженедельный обзор политических событий, после которого— пение, декламация и разные развлечения.
В воскресенье вечером, накануне отъезда в Остенде с графиней и ее детьми, Лиза пришла в «Немецкое рабочее общество», нанимавшее для своих собраний большой светлый зал на первом этаже гостиницы «Лебедь». Ее удивило большое количество собравшихся. Кроме мужчин в праздничных костюмах, членов общества,— их было не менее ста человек,— в зале находилось почти столько же женщин — жены, сестры и дочери рабочих. Все чувствовали себя совершенно непринужденно и были, видимо, хорошо между собой знакомы. Впрочем, и она очень скоро почувствовала себя так же просто, как и они, и тоже как бы в среде близких людей. Вскоре с ней заговорили; молодой человек, оказавшийся столяром, пододвинул ей стул и познакомил с худенькой степенной старушкой, своей матерью. Она без стеснения сказала Лизе, что недавно начала учиться грамоте и уже разбирает по слогам.
Веселый говор, шутки, смех в разных концах зала постепенно смолкли. Председатель общества Карл Валлау занял место за столом на возвышении и позвонил в колокольчик.
Здесь были люди разных национальностей. Помимо немцев, французов, итальянцев и бельгийцев пришли поляки. Совсем недавно в Брюссель переехал Сигизмунд Красоцкий. Он прибыл в Бельгию с Иоахимом Лелевелем, своим другом по польскому восстанию 1830 года. Лелевель был одним из самых смелых революционеров Демократического крыла польской эмиграции.
Ни Адам Мицкевич, ни Фридерик Шопен — гении, перед которыми склонялся в восхищении Красоцкий,— не были ему так дороги, как Иоахим Лелевель. Уже во время восстания этот зрелый сорокапятилетний человек выделялся среди тех, кто поднял знамя борьбы. Его очень не любили аристократы сейма. Лелевель критиковал узость взглядов шляхты. Он понимал, что восстание не было ни национальной, ни социальной революцией.
Лелевель призывал к оружию всех поляков без исключения и требовал равных прав для людей всех национальностей, населяющих Польшу, и наделения крестьян землей. Он хотел превратить борьбу за независимость в войну за свободу, которая охватила бы всю мрачную консервативную Европу. Уже вскоре после своего прихода Лиза обратила внимание на его лицо с волевым подбородком и проницательными глазами. Под его взглядом нельзя было лгать и кривить душой. Движения Лелевеля были необычно живы.
Он носил широкую голубовато-синюю блузу, того же нежного цвета южных подснежников, что и его полные ума и жизнерадостности глаза. Редко когда внутренняя сущность человека так гармонировала бы с внушительной и прекрасной внешностью.
Недалеко от Лелевеля в зале находился Энгельс. С ним была молодая светловолосая женщина. Глаза ее искрились, она с нескрываемым любопытством смотрела на окружающих, громко смеялась и несколько раз непринужденно прижималась к Фридриху. Лиза увидела, как Энгельс и его спутница подошли к Женни Маркс. Как всегда, Женни была величественна и красива.
Фридрих радостно улыбнулся при виде жены друга. Его серые глаза как-то посветлели.
— Я осмеливаюсь представить вам, дорогая госпожа Маркс, моего юного друга Мери Бёрнс, — сказал он несколько смущенно.— Как видите, Мери решилась переплыть бурный Ла-Манш, чтобы скрасить мое одиночество.
— Рада видеть вас здесь,— ответила Женни на превосходном английском языке. Она не произнесла больше ни одного слова.
В это время Карл Валлау снова позвонил в колокольчик и объявил собрание открытым. Вильгельм Вольф занял место за деревянной конторкой с правой стороны возвышения и заговорил ровным, несколько приглушенным голосом. Его речь очень скоро всех увлекла, несмотря на то что Вильгельм не прибегал ни к каким ораторским ухищрениям, не жестикулировал и не старался чеканной фразой, внезапной паузой привлечь к себе внимание. Простота его речи была очень приятна, но одна она не могла бы заставить слушать столь многолюдное и различное по составу собрание. Он приковывал к себе внимание тем, что обогащал слушателей знаниями, фактами. Иногда он улыбался, и тогда лицо его молодело, становилось каким-то просветленным.
«Какой чудесный человек этот Вольф!» — подумала Лиза, и многие чувствовали то же. Рядом с Лизой сидела миловидная, полная, нарочито ярко одетая дама, и только одна она во время речи не то презрительно, не то досадливо морщила губы.
— Вам нравится, как говорит этот верный до гроба рыцарь всезнающего Маркса и красавца Энгельса?— спросила она неожиданно Лизу.
— Да, очень. И я знаю, он не только рыцарь, он друг Маркса. А говорит отлично, просто, понятно и разумно. Я как бы вижу, слушая его, что происходит сегодня в Ирландии, в чем состоят социальные противоречия во Франции и зачем пытается прусский король столкнуть рабочих с богачами. Вы не согласны с этим? — в свою очередь спросила Лиза соседку.
Та повела пышными плечами, ничего не ответила и отвернулась.
Вольф между тем рассказывал собравшимся о том, что дал английским работницам и подросткам закон о десятичасовом рабочем дне, принятый парламентом в результате многолетней упорной борьбы.
Когда доклад был окончен, к Лизе подсела женщина с усталым морщинистым лицом и неожиданно молодой улыбкой. Очень трудно было определить ее возраст.
«Несомненно, француженка»,— думала Лиза, поглядывая на соседку и тщетно стараясь угадать, сколько ей лет. Но вот женщина поправила шаль, которой старалась скрыть фигуру, и Лиза увидела, что она беременна.
Женевьева Сток, заметив внимательный взгляд Лизы, сама заговорила с ней. Она спросила, какое ремесло знает Лиза и что делает ее муж или брат, приведший ее на собрание.
— Я не немка,— улыбнулась Лиза,— я русская и не имею отношения к вашему обществу. Но я друг всех вас, настоящий друг.
В это время мимо Лизы и Женевьевы, манерничая и свысока поглядывая на окружающих, прошла дама, которая во время речи Вольфа так явно выражала свою досаду и пренебрежение к нему.
— Не знаете ли вы, кто это? — спросила Лиза.
— Как не знать! — ответила Женевьева.— Это жена нашего второго председателя. В «Немецком рабочем обществе» два председателя. Второй — Гесс. Сабилла Гесс, хоть и воображает о себе много, груба и глупа. Говорят, она была раньше женщиной весьма легкого поведения.
После деловой части собрания начались развлечения. Сперва пели немецкие песни, гимн чартистов и «Марсельезу». Затем Георг Веерт вышел на трибуну. Он сильно ссутулился, и на его худом лице загорелся яркий румянец.
— Друзья,— начал он.— Мы ведь все братья, где бы ни жили и какой бы национальности ни были. В течение трех лет я наблюдал борьбу за жизнь и права трех миллионов английских рабочих. Среди них было много ирландцев. Я прочту вам свои стихи о немце и ирландце:
Английская ночь — ненастье и грязь. Два парня, ирландец и немец, сойдясь Под небом, как в собственном доме, Устроились спать на соломе. Друг друга со всех осмотрели сторон, И каждый подумал: «Мой компаньон, Ирландец он или немец, Здесь так же, как я, чужеземец». «Но это,— сказали они,— все равно; Нас, кажется, горе сроднило одно, Не розы судьба нам дарила, а муки, Все наше богатство — дырявые брюки». И вдруг рассмеялись: «Что ж, не беда! Взойдет и нашего счастья звезда!» И стали парни друзьями до гроба, Ирландец и немец — нищие оба.Веерт смущенно улыбнулся, когда его щедро одарили аплодисментами. Затем кто-то сыграл на скрипке старинную саксонскую народную песню. А потом на подмостки вышла Женни Маркс и начала декламировать стихи Гейне.
«Афина Паллада»,— подумала Лиза, вглядываясь в совершенные по форме и красоте античные линии лица и фигуры Женни.
— Баронесса, а как проста,— сказала ей Женевьева.
В чтении стихов особенно ясно сказывалось, как претили Женни наигранность и ложный пафос, столь излюбленный на современной ей сцене. Она декламировала вдохновенно, просто. Голос ее, не очень сильный, но нежный и глубокий, волновал. Четкая дикция и какая-то умная интонация доносили до них глубокий смысл, вложенный поэтом в его произведение.
Женни имела большой успех.
Но вот, сдвинув стулья, молодежь принялась танцевать.
Лиза, не дождавшись конца вечера, сердечно распростилась с Женевьевой и Вольфом и вышла из зала.
У дверей на улицу она заметила худенького человечка, прижавшегося к стене и явно старавшегося слиться с серыми камнями. Лиза, обернувшись, увидела, что он следует за ней.
— Как кстати в этот поздний час вы устремились за мной! — воскликнула она, пройдя несколько улиц.— Под вашей охраной я спокойно добралась до дому.
Шпик оторопело смотрел то на девушку, то на роскошный особняк, снятый графиней в Брюсселе. Природа не была щедра к этому агенту тайной полиции и наградила его запоминающейся наружностью. Он косил на оба глаза, и, как бы для предупреждения доверчивых людей, в то время как один его глаз смотрел подобострастно, другой пугал злобой.
Пройдя тихонько в свою комнату, Лиза поспешно разделась и достала заветный дневник.
«Сегодняшний вечер никогда не должен изгладиться из моей памяти,— записала она.— Я была среди людей здоровых, чистых душой, жадно вбиравших в себя все, чего не умеют ценить богачи: знания, скромные радости и чистое веселье. Кто сказал, что рабочие — хилые уроды? Какая клевета! Их не смогли сделать такими даже все унижения и несправедливости, даже рабство. Спартак и Робин Гуд — вот от кого ведут они свою родословную. Граф и графиня, цари и вельможи мне безмерно гадки. Я читала у Спинозы, что люди страшны не обидами, какие они нам наносят, а тем, что поднимают своей несправедливостью зло в нашей собственной душе, гася свет ее. Но бывает и наоборот. Люди, которых я узнала в Брюсселе, гармонией характеров и действий своих открывают добро в наших душах, зажигая в них яркий свет».
Глава седьмая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Летом 1847 года в Лондоне состоялся конгресс «Союза справедливых». Карл не смог поехать из-за отсутствия денег. От Брюссельского комитета в Англию отправился Вольф, от Парижского — Энгельс.
На конгрессе был принят временный устав, переданный затем на обсуждение отдельных комитетов для окончательного утверждения. «Союз справедливых», по предложению Маркса и Энгельса, отныне переименовался в Союз коммунистов.
Он ставил перед собой великую цель — свержение власти буржуазии, установление господства пролетариата, образование нового общества — без классов и без частной собственности.
Прежний лозунг «Все люди — братья» был заменен. Новый призыв впервые появился ранней весной в первом номере «Коммунистического журнала». Он гласил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Заседания конгресса проходили бурно. Среди лондонских коммунистов были приверженцы французского утописта Кабе, мечтавшие уехать в Америку и основать там сказочную страну Икарию.
В своих статьях Этьен Кабе писал: «Здесь нас преследуют и правительство, и духовенство, и буржуазия, и даже революционные республиканцы. Здесь нас поносят и клевещут на нас и всячески стараются уничтожить нас и физически и морально. Поэтому давайте покинем Францию и уедем отсюда в Икарию». Он предлагал устроить коммунистическую колонию за океаном и приехал в Англию, чтобы выступить в Лондонском просветительном обществе. Проект его был отклонен.
После первого конгресса коммунистов «Немецкая Брюссельская газета» приобрела вполне отчетливое революционно-коммунистическое направление.
Карл зорко вглядывался во все происходящее в Европе и подмечал признаки быстро приближающейся революционной бури. По всей Западной Европе углублялся торгово-промышленный кризис. Он особенно тяжко отразился на жизни рабочих и ремесленников Англии, Германии и Франции. Мелкие и средние предприниматели вынуждены были закрывать свои предприятия и увольнять рабочих. Безработица увеличивалась с каждым днем. Год 1847-й был неурожайным в Европе, и нищета душила бедняков. Начался голод и с ним — болезни. От тифа вымирали целые селения в Германии и Франции. Цены росли. Наживались купцы и капиталисты, погибали неимущие. Вспыхивали голодные бунты. Народ громил булочные.
В больших промышленных городах происходили стачки, чреватые восстаниями.
Энгельс сообщал из Франции:
«...здешние рабочие острее, чем когда-либо, ощущают необходимость революции и притом революции гораздо более радикальной и основательной, чем первая... и в тот момент, когда столкновение между народом и правительством станет неизбежным,— они вмиг окажутся на улицах и площадях, разроют мостовые, перегородят улицы омнибусами, повозками и каретами, забаррикадируют каждый проход, каждый узкий переулок превратят в крепость и двинутся, сметая все препятствия, от площади Бастилии к Тюильрийскому дворцу».
Маркс и Энгельс не сомневались в близости демократической революции в Западной Европе. Они старались скорее и крепче сколотить революционную партию рабочего класса.
Тотчас же после окончания первого конгресса Союза коммунистов Энгельс приехал в Брюссель. Совместно с Карлом он организовал местную общину союза, председателем которой был избран Маркс.
В конце сентября, когда воздух Брюсселя особенно прозрачен и на аллее Луизы ветер срывает и кружит листья лип, кленов и каштанов, таких же золотисто-красных, как покатые черепичные крыши строгих и узких домов, Карл уехал в Голландию. Здесь он должен был получить свою долю наследства после смерти одного из родственников матери.
Фридрих оставался в Брюсселе. Как-то утром он неожиданно получил приглашение на банкет. Чтобы отвлечь подозрения полиции, революционеры собирались для деловых встреч и пропаганды под предлогом банкетов в специально нанятых залах гостиниц или трактиров. Однако Энгельс тотчас же понял, что на этот раз встреча предстоит иная. Его приглашал Борнштедт.
Адальберт фон Борнштедт не скрывал больше своего недовольства «Рабочим обществом» и особенно деятельностью в нем Маркса и Энгельса. Предоставив Карлу газету, он не предвидел, что из этого получится. Маркс и Энгельс с его помощью разожгли неугасимый огонь действенного коммунизма!
Адальберт и кое-кто из немецкой колонии — зажиточные люди и умеренные демократы Зейлер, Гейльберг и другие, обиженные тем, что на них не раз обрушивались Маркс и Энгельс за их политическое непостоянство и колебания,— решили подвести подкоп под «Рабочее общество», создав другое, благонамеренное и чинное, и тем самым ослабить влияние Маркса.
В эти дни Борнштедт впал в уныние, и бесстрастное лицо его, похожее на гипсовую маску, еще более вытянулось. Впервые не он обвел вокруг пальца нужных ему людей, а сам был одурачен. Не только издаваемая им «Немецкая Брюссельская газета» ушла из-под его надзора, но и в «Рабочем обществе» он не сумел приобрести никакого влияния. Тщетно желая заручиться доверием и стать своим, он подарил «Немецкому рабочему обществу» двадцать шесть книг для библиотеки и двадцать семь географических карт. Рабочие приняли дары с благодарностью, но и только. Они не избрали его за это в почетные члены, не сделали руководителем союза, не поставили его бюст, как это было принято.
Наоборот, чем больше старался нравиться Борнштедт, тем сильнее вызывал недоверие и настороженность у рабочих. Здоровое природное чутье подсказывало им, что этот прикидывающийся другом человек относится к ним крайне высокомерно.
Кандидатура Борнштедта при вступлении в общество должна была обсуждаться по докладу наборщика издаваемой им газеты Карла Валлау точно так же, как и любого столяра, каретника или другого иного ремесленника. Адальберт бесился и, объединив недовольных, решил нанести удар в спину общества. Он выждал время, когда Маркс уехал в Голландию но личным делам, и начал действовать.
Обо всем этом думал Энгельс, приводя в порядок свою одежду, кровать, письменный стол, прежде чем выйти из дому.
Фридрих был, в противоположность Карлу, крайне педантичен. Величайший порядок господствовал на его рабочем столе, в шкафу, на полках с книгами. Когда Карл писал, все вокруг было подчинено его мышлению: книги, перья, карандаши валялись где попало, точно пронесся ветер, все разрывая и раскидывая по сторонам. Энгельс, наоборот, работал в строгом покое. Он никогда не разбрасывал книг, не откидывал нетерпеливой рукой ненужные ему в эти минуты листы бумаги, не оставлял на столе, подоконниках, ручках кресел пепел многих выкуренных сигар.
Каждая вещь, покорно служившая Фридриху, имела как бы навсегда определенное ей место; стопки книг лежали, тщательно сложенные, перенумерованные тетради были всегда под рукой. Столь различные темпераменты, однако, не мешали дружбе.
Обдумывая все, чем мог быть вызван банкет, Энгельс окончательно утвердился в своих подозрениях относительно интриги Борнштедта и решил принять немедленные меры. Фридрих поспешил к «Люпусу» — Вильгельму Вольфу. Туда же пришел и Карл Валлау.
Председатель и секретарь общества вместе с Фридрихом решили, что пойти на банкет необходимо не только им, но и еще нескольким рабочим. Нужно было быть готовыми ко всему и поддержать бельгийцев против буржуазных демократов. Тридцать человек из «Немецкого рабочего общества» изъявили желание быть ради этой цели на банкете.
В понедельник, 27 сентября, Вольфу удалось узнать, что задумал Борнштедт. Устроители предполагали организовать международную «Демократическую ассоциацию».
Почетным председателем должен был быть избран столь же престарелый, сколь и прославленный участник бельгийской революции семидесятидевятилетний генерал Меллине. Действительным же главой ассоциации намечался Жотран, красноречивый, влиятельный бельгийский адвокат. Из двух вице-председателей один должен быть немцем и желательно рабочим.
Энгельс тотчас же предложил Карла Валлау, но кандидатура его отпала, так как наборщик не говорил по-французски, что было обязательным условием избрания в руководство международной ассоциации. Сколько ни уговаривал Фридрих Вольфа заменить Валлау ради пользы общего дела, тот решительно отказался.
— Вице-председателем должен быть ты, Энгельс,— настаивал Вильгельм.
— У меня, увы, слишком моложавый вид.
— Это не довод. Мы можем подвергнуться разным случайностям. Дело придется иметь с такими ловкими интриганами, как Борнштедт и его клика, ты справишься.
Энгельс согласился.
Зал для банкета был нанят в трактире «Льежец» на узкой длинной площади Дворца юстиции.
Фон Борнштедт, главный устроитель и хозяин вечера, пришел задолго до назначенного часа и с необычайным для него оживлением принялся распоряжаться кельнерами, расставлявшими по его указанию вазы с цветами и фруктами и вина на больших столах, образующих букву «11». Наконец появились и приглашенные: поляки, итальянцы, бельгийцы, немцы. При виде Энгельса и его друзей фон Борнштедт едва мог замаскировать свою тревогу.
— Посмотри на Борнштедта,— сказал Фридрих Вольфу,— как он хлопочет, подбегает то к одному, то к другому из присутствующих, явно интригует.
Наконец все сто двадцать гостей уселись за стол, и начались тосты. Пили стоя за мучеников свободы, за братство и равенство. Единственный присутствующий на банкете русский предложил тост за революцию и гибель деспотизма.
Энгельс, вскинув голову, поднял бокал в память Великой французской революции. Языки развязались, становилось все шумнее и шумнее.
Швейцарцы чокались с итальянцами, немцы — с поляками, французы пылко обнимали бельгийцев. Ораторы говорили по-фламандски, по-французски, по-немецки, по-польски, обращались к народам Англии, России, Бельгии и Германии, призывали их объединиться и установить справедливость и свободу.
Возбужденный вином, доброжелательностью окружающих и нахлынувшими воспоминаниями, худой, седоволосый польский изгнанник Залевский, патетически вскидывая руки, обратился к немцам и призвал их объединиться.
— За союз между несчастной Польшей и великой, благородной и поэтической Германией!— закончил он.
Иоахим Лелевель, всегда отлично владевший собой, едва сдерживал слезы. Каждому изгнаннику мерещилась далекая отчизна, и крепла надежда на ее освобождение.
Когда речи закончились и собравшиеся принялись за десерт и кофе, фон Борнштедт заявил, что следует начать выборы членов организационного комитета, и выдвинул вице-председателем от немцев Карла Валлау, хотя раньше сам отвел его, как не знающего никакого иного, кроме немецкого, языка. Вильгельм Вольф тотчас же поднялся и предложил кандидатуру Энгельса. Имя это присутствующие встретили шумными аплодисментами. Взбешенному фон Борнштедту ничего не оставалось, как притворно улыбаться.
— Милое дитя,— сказал он громко Энгельсу и предложил ему чокнуться.— Я безмерно рад вашему успеху.
— Приходится иногда делать довольную мину при плохой игре,— сказал Вольф, сидевший рядом с Фридрихом и наблюдавший эту сцену.
Дальше выборы прошли гладко.
По случайному стечению обстоятельств на другой день после банкета фон Борнштедт должен был быть принят в члены «Рабочего общества». 30 сентября Энгельс сообщил Марксу:
«Затем перешли к приему Борнштедта, Крюгера и Вольфа. Первым встал Гесс и задал Борнштедту два вопроса относительно собрания в понедельник. Борнштедт отделался ложью, а Гесс был настолько малодушен, что объявил себя удовлетворенным. Юнге напал на Борнштедта лично по поводу его поведения в Обществе. Так же выступали еще многие другие. Одним словом, упоенному победой г-ну фон Борнштедту пришлось форменным образом пройти сквозь строй рабочих. Ему задали изрядную трепку, и он — он, который считал, что, подарив книги, совершенно втерся в доверие,— был так потрясен, что мог отвечать только слабо, уклончиво, сдержанно... Тогда выступили, разоблачил всю интригу... опроверг одну за другой все уверткн Борнштедта и, наконец, заявил! «Борнштедт интриговал против нас, хотел составить нам конкуренцию, но мы победили и поэтому можем теперь допустить его в Общество». Во время этой речи,— это была самая лучшая речь, какую я когда-либо произносил,— меня часто прерывали аплодисментами; особенно когда я сказал: «эти господа думали, что победа уже на их стороне, потому что я, ваш вице-председатель, уезжаю отсюда, но они не подумали о том, что среди нас есть человек, которому это место принадлежит по праву, единственный человек, который может здесь, в Брюсселе, быть представителем немецких демократов,— это Маркс»,— тут раздались громкие аплодисменты.
...Наши рабочие во всей этой истории вели себя прекрасно... они отнеслись к Борнштедту с величайшей холодностью и беспощадностью, и когда я заключал свою речь, то в моей власти было провалить его огромным большинством... Но мы поступили с ним хуже, мы приняли его, но с позором. На Общество эта история произвела прекрасное впечатление; в первый раз рабочие сыграли решающую роль, овладели собранием, несмотря на все интриги, и призвали к порядку человека, который хотел играть среди них видную роль. Только несколько конторщиков и т. п. остались недовольны, вся масса с энтузиазмом нас поддерживает. Они почувствовали, какую силу они представляют, когда они объединены».
Одновременно Энгельс написал письмо Жотрану с отказом, ввиду скорого его отъезда, от поста вице-председателя организационного комитета ассоциации.
«Милостивый государь! Так как я вынужден уехать из Брюсселя на несколько месяцев, я не смогу выполнять те обязанности, которые возложило на меня собрание 27 сентября.
Поэтому я прошу Вас привлечь кого-нибудь из немецких демократов, проживающих в Брюсселе, к участию в работе комитета, которому поручено организовать международное демократическое общество.
Я позволю себе предложить Вам того из немецких демократов Брюсселя, на кого собрание, если бы он мог на нем присутствовать, возложило бы те обязанности, которые ввиду его отсутствия оно доверило мне. Я говорю о г-не Марксе, который, по моему глубокому убеждению, имеет наибольшее право представлять в комитете немецкую демократию. Таким образом, не г-н Маркс заменит меня в комитете, а наоборот, я на собрании заменял г-на Маркса».
Через полтора месяца после организации «Демократической ассоциации» Маркс и Эмбер были избраны ее вице-председателями. Устав этого общества подписало около шестидесяти бельгийских, польских, французских и немецких демократов. Кроме Маркса, из немцев его подписали Георг Веерт, Мозес Гесс, Вильгельм Вольф, Фердинанд Вольф, Стефан Борн и Адальберт фон Борнштедт.
На собраниях «Демократической ассоциации» часто встречались Сток и Красоцкий. Они вспоминали вспыльчивого, добродушного Пьетро Диверолли и жизнерадостного Этьена Кабьена, с которыми дружно жили некогда в домике вдовы каретного мастера в Париже, на улице Вожирар. Ни француз, ни итальянец ни разу не сообщали им о себе за это время. Сток, впрочем, терпеть не мог писать письма. Он не совсем был уверен в своей грамотности и из самолюбия не хотел показывать этого. Сигизмунд Красоцкий, наоборот, любил эпистолярные развлечения. Дважды он написал на улицу Вожирар своим прежним товарищам, но не получил ответа. Быть может, член партии «Молодая Италия» Диверолли уехал в Италию, а Кабьен переменил квартиру?
Уроки математики и игра на скрипке не мешали Сигизмунду выполнять поручения Иоахима Лелевеля. Этот человек, несмотря на болезни и преклонный возраст, поддерживал связи со многими участниками польского восстания 1830 года, оставшимися верными идеям свободы. С родины и из разных стран мира, где жили поляки-изгнанники, ему сообщали все наиболее значительное. Он участвовал в революционных обществах и был одним из деятельнейших руководителей «Демократической ассоциации». Живой ум Лелевеля помогал ему находить общий язык с любым представителем тружеников. А как хорошо говорил он с трибуны! Тогда казалось — даже старость пугливо отступает при виде этого стремительного человека.
Графиня, поселившаяся на бельгийском модном курорте Остенде, вызвала к себе Лизу.
Едва переступив порог нарядного будуара, заставленного, как оранжерея, разнообразными цветами, девушка поняла, что случилось что-то, предвещавшее ей большие неприятности. Пряный и острый запах цветов дурманил голову.
Графиня встала и, подняв кверху узенькое личико с близко расположенными крысиными глазками и очень тонкими губами, заговорила мрачно и зловеще:
— Я ничего не жду хорошего от молодых людей нашего века, когда заправляют журналисты и юристы, лавочники и Ротшильды, когда газеты стали раздавать даже даром. В Париже какой-то извозчик старался всучить мне газету с плебейским названием «Омнибус». Он принял меня за горничную, ибо кто же еще ездит в этих ящиках, запряженных жалкими лошаденками, кроме бедняков? Тогда же я поняла: Францию опять ждет ужасная анархия. Бедные аристократы!.. Но того, что вы, молодая девушка, хотя и без всяких средств к жизни, связались с чернью и пали так низко, я все-таки не предполагала, хотя многое в вашем поведении могло бы предупредить меня. Это мне не первый урок. Бакунин тоже скатился в бездну. Вот! — Графиня взяла со стола дневник Лизы двумя пальцами, изобразив отвращение, точно она держала в руках дохлую мышь. Затем, швырнув тетрадь в сторону, на пол, графиня воскликнула: — Нет, я не в силах читать вам ваши признания. Всю эту мерзость, которую вы проповедуете! На каких только задворках вы не бывали, с какими разбойниками не проводили вечера! Что по сравнению с этим роман Эжена Сю «Парижские тайны»!
Лиза нагнулась и подняла с полу свой злополучный дневник.
Помолчав, графиня заговорила снова:
— Вы, вероятно, думаете, что графине не следует читать тайком чужие записки. Но ведь я мать и верноподданная своего государя! Если бы мы были в России, я сообщила бы о них куда следует. Но, к сожалению, мы на земле этого добрейшего Леопольда Первого. Нет ничего удивительного, что после плебейских бунтов, которые свергли настоящих монархов, нынешние правители, как, например, Леопольд или его племянница — английская королева Виктория, многое переняли от лавочников, посадивших их на трон. Не следует забывать, что бельгийский король женат на дочери Луи-Филиппа. Я уверена, что его жена, Луиза Орлеанская, просто буржуазка и настолько не похожа на королеву, что проверяет белье, когда его приносят прачки. Только в России еще сохранилась династия настоящих императоров. Я была и есть опора трона, чистокровная дворянка, а вы хуже моей крепостной Феклуши. И хотя это убьет вашего несчастного отца, я не могу больше допустить, чтобы вы портили моих детей и слуг. Вот расчет. Можете отправляться под забор к своим могучим пролетариям, так, кажется, зовете вы этих чудовищных и страшных плебеев, несущих миру одни только бедствия.
И, не дав Лизе произнести ни слова, графиня величественно вышла из комнаты. Лизе осталось только взять небольшую сумму денег, оставленную ей на столе, и пойти собирать свой скромный багаж. Куда было ей податься? Ехать в Россию, где у дряхлой тетки лежал в параличе ее отец, она не могла. Не раздумывая долго, Лиза решила отправиться в Брюссель, где у нее были верные друзья.
В сумрачный осенний вечер Карл по дороге в Лондон остановился в Остенде. У самого вокзала, против бассейна, находился отель «Корона», где его ждал Энгельс. На другой день оба друга (Женни провожала их до небольшого портового парохода) поплыли в Дувр. Карл должен был как специальный представитель от «Демократической ассоциации» выступить с приветствием на митинге, посвященном годовщине польской революции 1830 года. Затем вместе с Фридрихом они готовились к участию в работах второго конгресса, созванного Союзом коммунистов. На нем предстояло утвердить устав и обсудить новую программу.
Митинг в честь Польши происходил в зале собрания «Лондонского просветительного общества немецких рабочих», основателями которого семь лет назад были учитель Шаппер, сапожник Бауэр и часовщик Молль, недавно побывавший в Брюсселе.
Собравшиеся узнали Маркса и встретили его бурными возгласами и громкими аплодисментами.
— Старая Польша, несомненно, погибла,— сказал Карл, поднявшись на трибуну. Его мощный голос разносился по всему залу. Смуглое лицо и блестящие глаза оратора приковывали к себе внимание присутствующих.— И мы меньше, чем кто бы то ни было, хотели бы ее восстановления. Но погибла не только старая Польша. Старая Германия, старая Франция, старая Англия — все старое общество отжило свой век. Но гибель старого общества не является потерей для тех, кому нечего терять в старом обществе, а во всех современных странах в таком положении находится огромное большинство.
Затем Карл объяснил, что освобождение угнетенных трудящихся связано с победой пролетариата над буржуазией, и в какой бы стране ни победил рабочий класс, он поможет всем порабощенным народам. Если бы в Англии чартисты взяли власть, это было бы началом освобождения всех других пролетариев, где бы они ни находились, всех народов вообще.
Закончив свою речь, Карл под возгласы одобрения вручил адрес от «Демократической ассоциации» «братским демократам».
В конце встречи председатель собрания зачитал ответ, посылаемый в Брюссель ассоциации:
— «Ваш представитель, наш друг и брат — Маркс — расскажет вам, как восторженно встретили его появление и чтение вашего адреса. Все взоры сияли радостью, все уста приветствовали его, все руки братски протягивались к вашему представителю... Мы принимаем с чувством живейшей радости союз, который вы нам предлагаете. Наше общество существует уже два года, и девиз его — все люди братья. На нашем последнем празднестве годовщины основания общества мы предложили создать Демократический конгресс всех наций, и мы были очень рады, когда узнали, что и вы выступили с такого же рода предложениями. Заговор королей нужно побороть заговором народов... Мы убеждены, что для того, чтобы осуществить общее братство, нужно обращаться к действительному народу, к пролетариям, к людям, которые ежедневно проливают кровь и пот под гнетом современного общественного строя... Из хижин, с мансард или из подвалов, от плуга, с фабрики, от наковальни придут и уже идут по той же дороге носители братства и избранные спасители человечества».
Затем на трибуну вышел Энгельс. И когда он четко п громко сказал: «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации»,— англичане, поляки, французы, бельгийцы, немцы, итальянцы встретили его слова шумным одобрением. Полное сердечное согласие утвердилось между представителями многих наций на этом собрании. В знак единства Гарни и Энгельс предложили приветствовать демократические газеты — английскую «Северную звезду», французскую «Реформу» и «Немецкую Брюссельскую газету», и тогда трижды ураганом разразились аплодисменты. Все присутствующие, встав и обнажив головы, начали петь «Марсельезу». Голоса сливались, как сердца всех присутствующих здесь простых людей.
Сразу же после собрания в честь Польши в том же помещении начался второй конгресс коммунистов.
Маркс и Энгельс считали, что пора уже коммунистам открыто выступить и рассказать всему миру о своих взглядах, стремлениях и целях.
Маркс говорил:
— Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая, в свою очередь, не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противникам?
Коммунизм стал силой, и следовало клевете и россказням о нем противопоставить программу самой партии и сказать, что коммунисты не заговорщики, собирающиеся тайно, что они борются открыто.
Только Маркс и Энгельс, по мнению всех собравшихся в Лондоне коммунистов, могли сделать это. Горячие споры об уставе и программе длились более десяти дней. В завершение дебатов Марксу и Энгельсу поручено было изложить принципы коммунизма в манифесте.
Первоначальные названия его — «Исповедание веры» и «Катехизис» — были отброшены. Энгельс предложил назвать важнейший документ «Манифестом Коммунистической партии». Карл поддержал его.
Среди многих разноплеменных рабочих в большом, низком, освещенном газовыми фонарями зале находился и портной Фридрих Лесснер — немец, коммунист, долго бродивший до этого по свету и хлебнувший немало горя.
Лесснер, как и многие другие на конгрессе, не мог отвести глаз от молодых руководителей Союза коммунистов. Карлу было около тридцати лет, Фридриху — двумя годами меньше. Великолепный возраст полноценной зрелости. Карл был широкоплеч, крепко сложен, энергичен. Энгельс поражал уверенностью, быстротой движений и стройной выправкой. Речь Маркса была краткой, логичной, понятной, он никогда не говорил лишних слов, и каждая фраза-мысль была как бы звеном в цепи неопровержимых доводов. Энгельс любил метко шутить, говорил лаконично и решительно. Волнуясь, он начинал слегка заикаться. Все в нем отражало необыкновенную одаренность натуры. Он был жизнерадостен, удивительно правдив.
Карл и Фридрих хорошо знали людей, и Лесснер быстро определил это, вглядываясь в их лица, следя за их движениями, вслушиваясь в речи и замечания. Портной отметил саркастическую складку рта Маркса, придававшую ему то выражение непреклонности и силы, которого так боялись его противники.
Перед тем как отправиться в Брюссель, два друга побывали в Манчестере, куда Фридрих, когда бывал в Англии, всегда заезжал по поручению отца. Как и два года назад, в первую поездку, Карлу не удалось ни разу работать в читальном зале Британского музея в Лондоне. Но зато в Манчестере, пока Фридрих находился в конторе «Энгельс и Эрмен», Маркс проводил многие часы в знакомой ему городской Чэтамской библиотеке.
Густой плющ обвил серое, всегда как бы сырое от дождя, здание манчестерской библиотеки с несколькими башенками. Там, в одном из круглых выступов с окном из разноцветных стекол, где было особенно хорошо, тихо и уютно, Маркс любил сидеть перед квадратным бюро. Библиотекарь Томас Джонс, рыжеватый, высушенный, крайне вежливый, отлично знал книжные богатства, которыми распоряжался. Он умел быть совершенно незаметным, хотя все время находился в библиотеке, и с поразительной быстротой и ловкостью взбирался по лесенке к верхним полкам, даже когда держал в руках множество книг. Он был ходячим каталогом и справочником. Карл и Фридрих уже давно прониклись к нему заслуженным уважением.
При виде Маркса Джонс, хотя прошло уже два года, приветствовал его так, ^очно опи расстались накануне. Он не забыл ни одной книги, которые брал у него тогда Карл, и спросил учтиво:
— Будет ли мистер Маркс далее конспектировать Оуэна, Задлера, Тука, Джильберта или ему хватило тех выписок, которые он с невероятной быстротой сделал за полтора месяца в прошлом году?
Маркс и на этот раз перечитал за время пребывания в Манчестере множество книг. Он просмотрел и «Политическую справедливость» Годвина, под влиянием которой сложились взгляды Оуэна. Очень образованный, дерзко мыслящий, Годвин большую часть жизни был обречен идти одиночкой, своим особым путем.
Его книга «Политическая справедливость» стоила баснословно дорого — три гинеи, но все же она произвела сенсацию в парламентских кругах. Премьер Англии Питт, прочитав ее, пришел в бешенство и успокоился, лишь когда решил, что «книга ценою в три гинеи не может принести вреда в среде, на которую рассчитана, потому что там заработок не достигает и трех шиллингов».
«Бытие определяет сознание и формирует человеческий характер»,— писал в своей нашумевшей книге ученик Гольбаха и Локка. «Добродетель и грех — не следствие врожденных свойств, а следствие обстоятельств...», «Инстинкты и наследственность едва ли существуют и уж, во всяком случае, не играют решающей роли в формировании человека...», «Брак безнравствен, поскольку связанные люди не могут следовать велениям своего рассудка...», «Вещи должны принадлежать тем, в чьих руках они наиболее продуктивны...»
Эти замечательные мысли Годвина нравились Марксу.
Годвин, подобно Томасу Пэйну, отрицал не только монархический, но и всякий иной правительственный строй, обвиняя всякую власть в насилии. Лишь коммунизм, по мнению Годвина, идеальная система, но ее может осуществить только общество, высокоразвитое умственно и нравственно.
Несмотря на высокую цену, книга Годвина разошлась в небывалом тираже. Мечты о республике и перестройке мира волновали потрясенные революциями и войнами умы молодежи. Байрон зачитывался ею в своей комфортабельной квартире при Оксфордском университете. Шелли потихоньку читал «Политическую справедливость» на школьной скамье в Итоне и до конца жизни остался верным годвинским доктринам.
Женой Годвина была известная Мери Вулстонкрафт, поборница женской эмансипации. Ее книга «Обоснование женских прав» считалась библией феминизма.
Маркс, выходя в коридор, чтобы выкурить сигару, часто сталкивался там с мистером Джонсом, который любил пофилософствовать. Карл терпеливо выслушивал его подчас странные монологи.
Как-то, доказывая, что жизнь не более чем «суета сует», Джонс, подняв свой желтый палец, задал Марксу вопрос:
— Из чего же состоит человек?
И, не дав Карлу вымолвить ни слова, сам ответил на свой вопрос:
— Ученые недавно подсчитали, что средний англичанин нашего времени, например, состоит из десяти галлонов воды; жира в нем довольно, чтобы сделать семь кусков мыла; угля хватит на девять тысяч карандашей; железа — на гвоздь средней величины; извести —на побелку небольшого курятника; порция магнезии невелика, но количество серы могло бы избавить собаку от блох. Я берусь все эти вещества купить на рынке за пять шиллингов. Вот цена человека!
Маркс долго смеялся над такой оценкой человека.
Карл Маркс пытливо присматривался к быту и нравам англичан.
Англия — колыбель предельного, крайне суженного бытового индивидуализма. Поблекшее, воинственное слово «независимость» воспринято гражданами ее величества как возможность не знать своего соседа. Мистер Браун гордится тем, что после сорока лет жизни стена к стене, коттедж к коттеджу, незнаком с мистером Смисом.
Маркс и Энгельс были люди веселые, приветливые, простые в обращении с окружающими. Перед ними невольно открывались даже самые замкнутые души. Их приглашали в самые чопорные дома мелких буржуа. Им говорили:
— Мы, хвала небу, не нуждались в соседских услугах, будучи людьми, достаточно обеспеченными для независимости. В наших домах есть все, чтобы не одалживаться и не мешать друг другу. Случай сводит людей на одном клочке земли, но случай не может считаться основанием для их знакомства...
Так мистер Браун последний узнает о браке соседа, не замечает рождения его детей и катафалка с двумя джентльменами в блестящих цилиндрах и сюртуках, которые отвозят гроб с останками мистера Смиса на кладбище...
Надменная молчаливость, презрительная сдержанность, обидное безразличие, скучающий, скачущий поверх людей взгляд — все эти детали высокомерия, совершенно несвойственные англичанам, когда они в кругу близких,— испытанный щит, отражающий посторонние вторжения в их личную жизнь, обременительные, случайные знакомства.
Не давать и не брать взаймы — священный девиз, прочная путеводная нить буржуа.
Дом британского зажиточного горожанина неприкосновенен, охранен законом, неприступен, как крепость феодала. За такую «свободу» жилища английский буржуа боролся упорно и долго. Без достаточного основания ни полиция, ни сам лорд — мэр города — не смеет переступить порога, если нет на то согласия домохозяина.
Стандартный «дворец» мелкого буржуа — двухэтажный коттедж — и снаружи и внутри лишен каких бы то ни было характерных для его обитателей особенностей, какого-либо уклонения от неких средних норм не только в обстановке, но даже в назначении комнат. Крайняя обособленность не внесла разнообразия в английскую жизнь. Марксу казалось, что за миллионами стен укрывается в Англии один и тот же отстоявшийся быт. В первом этаже помещаются кухня, столовая и гостиная. На втором этаже миллионов домов обязательно размещаются узкие спальни с деревянными кроватями, шкафами и комодами нм под стать.
Английский дом подобен зонтику или недавно появившемуся в Европе макинтошу, названному так по имени его создателя. Под ним не промокнешь, но не согреешься и не скроешься от ветра. Жилище англичанина обогревает камин — костер пещерного жителя, а его самого греет шерстяное белье — бараний тулуп предков.
Укладываясь на ночь в постель, англичане не снимают, а меняют одежду — дневную на ночную.
Одевшись как бы для восхождения на гору, британец лезет на высокую постель. Мягкая перина поверх нескольких одеял (их количество уменьшается или увеличивается в зависимости от погоды) заменяет до утра тепло потухших каминов.
Марксу и Энгельсу, когда они бывали в гостях у зажиточных англичан, всегда казалось, что они видят очень странный мир.
Викторианская безвкусица щедро представлена в каждой квартире английского обывателя. Семейные портреты, литографии, изображающие охоту, дерби и собак, скрывают стены. Мягкая мебель, расставленная по всей комнате и вдоль стен, громоздка, неуклюжа, как перина, омнибус и ротонда. Китайская лаковая ширма, вышитый турецким полумесяцем и звездами экран перед камином, переливающиеся радугой искусственные перламутровые цветы в «славянских» вазах под вышитым какой-нибудь родственницей «извержением Везувия» соседствуют с гипсовыми и фарфоровыми статуэтками — рождественскими подарками за несколько десятилетий. Пестрые попугаи, причудливые хризантемы, пышные розы на чехлах кресел и диванов своей яркой окраской как бы заменяют комнате недостающий солнечный свет и создают экзотику, какой она укладывается в английском представлении. Может быть, все это должно напоминать хозяину дома лилово-оранжевые краски экваториальных вод и южных островов, мимо которых он когда-то плыл за товарами или хотел бы плыть.
И всего одна-две книжки где-нибудь среди подушек или на каминной подставке!
Карл перелистывал не раз книгу «Кто есть кто» — толстую сплетницу в красном переплете, сообщающую о профессии, родословной и семейных отношениях не всегда знаменитых, но всегда зажиточных общественных деятелей, банкиров, купцов империи.
Карл не мог жить без книг, и его поражало, как мало их в домах самодовольных мелких буржуа. И это в стране, где творили Шекспир, Мильтон, Свифт.
Лишь в домах богачей библиотеки обязательны, как зимний сад и зал для танцев. Но они безлюднее старого кладбища. Слуги почтительно стирают пыль со старых манускриптов, которые составляют коллекции их господ, так же как собрания китайских будд или орхидей. Страшная, тягучая скука, сплин, как туман, окутывал дома зажиточных горожан, и Маркс бежал от них прочь, испытывая нечто подобное удушью.
С юности его любимым поэтом был бунтарь Шелли. Теперь, на его родине, Карл до конца осознал всю глубину жизненной трагедии не только этого смелого поэта, но и его не менее беспокойного друга Байрона. Оба они навсегда покинули «веселую» старую Англию и умерли на чужбине.
Маркс и Энгельс гораздо чаще, чем у буржуа, бывали на окраинах Манчестера и Лондона в жилищах рабочих. Здесь они увидели много горя и неописуемую нищету. И все же здесь дышалось легче и люди не прятались друг от друга, как трусливые улитки.
«Защитным» свойством отличается и английская, ничего не высказывающая, граничащая с дерзостью, обороняющаяся вежливость.
Наиболее употребляемое слово в английском языке — thank you — начинает и заканчивает деловой и случайный разговор. Благодарят за все, кроме еды. Кондуктор омнибуса благодарит, протягивая билет пассажиру; старуха поспешно благодарит прохожего, наступившего на ее тридцатилетнюю мозоль; продавщица благодарит ничего не купившего покупателя; ребенок — высекшего его учителя. Это автоматически используемое слово, без оттенков, без интонаций, заменяет англичанину междометие, вызволяет его в затруднительном положении и ограждает от чужого вмешательства.
Такова была Англия времен королевы Виктории.
Однако не быт англичан, а главным образом экономика передовой промышленной и колониальной страны, глубокие классовые противоречия и поднимающееся рабочее движение привлекали внимание Маркса. Но пребывание в Англии и на этот раз было очень недолгим. Вскоре он возвратился в Брюссель, а Фридрих Энгельс направился в Париж.
Лиза поселилась в маленьком дешевом пансионе недалеко от дома, где жили Сток и Женевьева. В семье портного было теперь уже двое детей. Маленький Иоганн не мог понять, зачем понадобилась родителям еще и крошечная Катрина, которая причиняла одно только беспокойство, метала спать своим криком и вынуждала мать то и дело стирать ее пеленки. Но Сток и его жена были очень довольны, и мальчик не без ревности замечал, что маленькое существо, которое не умело ни сидеть, ни говорить, непонятно почему часто вызывало улыбки на лицах отца и матери.
В последние месяцы Сток редко бывал дома и не мог уделять много времени сыну. Между тем маленький Иоганн не скучал в Брюсселе. Ему жилось привольно. В школе его били линейкой реже других, так как он легко запоминал грамматические правила, счет и, главное, молитвы. У него был отличный слух, и во всей школе никто не пел лучше его псалмы царя Давида и бельгийский национальный гимн. Остальное время он проводил на берегу реки Сенне с оравой веселых мальчуганов и ждал лета, чтобы переплыть канал.
Лиза стала давать уроки французского языка немцам. Найти учеников ей помог Вильгельм Вольф. Как-то Лизу вызвали в полутемную столовую пансиона. У окна, почти загородив его своей широкой фигурой, стоял Бакунин. Лиза была рада, что полутьма скрыла румянец, вспыхнувший на ее лице. Она вся преобразилась, и Михаил Александрович, который редко замечал что-либо непосредственно его не касающееся, сказал ей о том, как она красива. Впрочем, он тут же перевел разговор на себя, свои дела и мысли.
Бакунин был необычайно оживлен. Он рассказал Лизе о том, что изгнан из Парижа за речь, произнесенную на банкете в годовщину польского восстания 1830 года. В ней он не поскупился на критику русского самодержавного режима.
— За это, по ходатайству нашей жандармерии, Гизо предложил выслать меня из Франции,— говорил Бакунин.— Но кто оказался наибольшим подлецом во всем деле — это наш блистательный посол Киселев. Вот достойный воспитанник Бенкендорфа! Он, представьте, в низости своей дошел до того, что распустил слухи, будто я был агентом Третьего отделения. Конечно, этому никто не поверил! Но это лишний раз говорит о том, что наши политики иначе как краплеными картами не играют.
Лиза не могла скрыть своего восхищения Бакуниным, На другой день они встретились в скромном кафе «Швейцария», недалеко от городской ратуши. Здесь обычно бывали изгнанники, нашедшие приют в Бельгии.
Бакунин был менее оживлен и чем-то раздосадован, Неразделенная любовь делала Лизу особенно наблюдательной и чуткой.
— Что с вами? — спросила она с беспокойством.
— Ничего особенного,— ответил Бакунин.— Надо действовать! Вести народ на приступ дворцов, низвергать власть тиранов, а здесь, в Брюсселе, взамен этого только резонерствуют. Карл Маркс читает лекции рабочим о наемном труде и капитале, о заработной плате. Зачем это? Надо заряжать пушки, а он портит рабочий люд, делает из него «мыслителей»( Какое-то теоретическое сумасшествие!
Лиза всплеснула руками.
— Но ведь рабочие должны знать, за что им драться на баррикадах. И неужели вы откажетесь вступить в их союз? Кто помешал бы вам отстаивать там свои идеалы?
Бакунин побагровел, его большое привлекательное лицо стало некрасивым от ярости, серо-синие глаза округлились.
— Никогда, слышите, никогда не вступлю я в Союз коммунистов, в собрание разных там ремесленников! Никогда не захочу иметь с ними никаких дел. В их обществе нельзя дышать полной грудью. Советую вам читать Прудона и Фейербаха именно потому, что их отвергают теперь Маркс и Энгельс.
— Что вы говорите! Ведь Маркс и Энгельс признают значение Фейербаха для истории, философии и германской общественной мысли. Они сами многому у него научились,— ответила Лиза, вспомнив лекцию, которую недавно слушала.
— И, однако,— снова вспылил Бакунин,— они заявляют, что в области специально-политической Фейербах не дошел до конца и остался вне коммунистического учения. Все экономические теории Маркса — ложь и глупость. Меня они нисколько не интересуют. Ведь я слышу, как, подобно вулканическому извержению, приближаются народные восстания. Земля колеблется. Под натиском стихий не устоит и русское самодержавие.
Лиза придвинула свою тонкую руку ближе к большой грубоватой руке Бакунина и несмело прикоснулась к ней.
— Возьмите меня с собой как сестру, как друга. Я пойду с вами куда захотите: на баррикады, в изгнание, на смерть.
Он удивленно взглянул на девушку. На лбу его пролегла, но тут же исчезла морщинка.
— Простите, Лиза! Вы, наверно, не подумали о том, что я не принадлежу себе. Жизнь моя кочевая, неустроенная. Да и такие, как я, ведь обреченные.
— Но вы верите в торжество справедливости!
— Да. Однако достигается она ценою великих жертв, самоотречения и крови.
— Значит, правы те, кто учит, как побеждать наверняка и с наименьшим количеством жертв?
— Чушь! Победа будет за храбрыми, свободными духом, ненавидящими цепи рабства! — воскликнул Бакунин.— «О, рабочий люд, судьба твоя — загадка!» Верно говорит Прудон.
Лиза отдернула руку, которую взял было Михаил Александрович, поспешно встала из-за стола и, сославшись на начавшуюся головную боль, покинула кафе. Ей было тяжело, более одиноко, чем всегда, и стыдно за свой не понятый Бакуниным порыв.
В тот же день Лиза пошла к жене Стока. К ней она чувствовала симпатию и доверие. Женевьева, много страдавшая, без слов смягчила горести русской девушки.
Перед домом (он стоял на окраине города), где жил Сток, с оравой ребятишек играл маленький сын портного. Разделившись на две группы — бельгийских «повстанцев» и голландских «солдат», отчаянно дралась на мостовой детвора. «Повстанцы» выкрикивали революционные лозунги. Маленький Иоганн изображал генерала Меллине и побеждал противников.
Женевьева в одно и то же время умудрялась готовить обед, нянчить крикливую Катрину и наблюдать в окно за расшалившимся сыном.
Увидев Лизу, она торопливо положила дочку на большую семейную постель, бросила ложку на стол и вытерла передником сиденье высокого резного стула.
— Хотите кофе? — спросила она.
— Да но хлопочите, пожалуйста, Женевьева. Я только на минутку, посмотреть на вас и узнать, как учится маленький Иоганн. Не помочь ли ему?
— Ленив мальчонка. Зато мой муж превратился в примерного школьника. Сыну бы его прилежание.
— Вот как! Чему же учится господин Сток?
— Он ходит на лекции доктора Маркса в нашем «Рабочем обществе». И поверите ли, вечером пишет и читает, читает что-то и пишет час за часом! Жаль, что нам, женщинам, не понять их премудрости. Никогда еще мой Иоганн не был так доволен и не учился столь прилежно. Вот посмотрите, сколько он исписал бумаги!
Лиза, чуть улыбнувшись, взяла из рук Женевьевы тетрадь.
«Маркс вчера объяснял причины кризисов,— прочла она, открыв наугад страницу.— Он сравнивает их с землетрясениями. И вправду, чтобы уцелеть, промышленный мир приносит тогда в жертву богам преисподней часть своих богатств, товаров и производительных сил».
Перелистав тетрадь, Лиза задержалась на словах о том, что капитал и труд взаимно обусловливают друг друга.
— Неужели вы такая ученая, что понимаете это? А мне кажется, тут и не по-немецки написано,— сказала Женевьева с явным почтением в голосе.
— И мне в этом пока что трудно разобраться,— ответила Лиза.— Надо, видно, подучиться, чтобы знать, почему богатеют одни и едва сводят концы с концами другие.
— Вы думаете, рабочему человеку станет легче жить, если он поймет, отчего у него столько болячек? — спросила Женевьева.
Лизе вдруг припомнился недавний разговор с Бакуниным, злобное выражение его лица, когда он упомянул имя Маркса, и она ответила сухо:
— Знать болезнь — еще не значит уметь ее лечить. Иногда, может быть, лучше оставаться в неведении, раз нет лекарства.
— А если коммунисты найдут его? — спросила Женевьева, но, взглянув в окно, бросилась из дому.
Маленькие бельгийские «революционеры» так ретиво избивали голландских «усмирителей», что на улице поднялся невероятный крик. Перепуганные матери выбежали из домов и принялись растаскивать увлекшихся битвой детей. Иоганн с поцарапанным носом и огромным синяком на лбу отбивался не только от противников, но и от матери и Лизы, которые тащили его с мостовой.
— Мы победили! — кричал он.
Маленький Иоганн становился все более проказливым и непослушным.
— Вот горе мне с ним,— обмывая кровоточащий нос сына, жалобно говорила Женевьева.— Никакой управы на мальчишку!
Лиза попыталась ее успокоить:
— Будет добрый боец, когда вырастет.
— Если до той поры в драке не сломает шею,— заметила мать и вдруг добавила: — Скажите и вы ему, барышня, что слезы матери превращаются в камни и падают на дорогу, по которой идет в жизни человек. Он обязательно споткнется о них и пожалеет впоследствии. Так в детстве не раз говаривала мне, когда я ее огорчала, дорогая матушка.
— Бабушка Катрина храбро дралась на баррикадах, И я буду драться тоже,— выпалил Иоганн и убежал.
Энгельс пробыл в Париже месяц. Во всех слоях населения Франции в это время росло недовольство. Заводчиков и фабрикантов стиснули со всех сторон банкиры, опиравшиеся на короля и его правительство, Народ изнемогал от нищенской зарплаты при двенадцати — четырнадцатичасовом рабочем дне. Всесильный любимец короля Гизо стал ненавистен очень многим. Но он был убежден, что с помощью оружия удержит Францию в повиновении королю, забыв слова ловчайшего из политиков — Талейрана, что штыками можно добиться всего, но сидеть на них нельзя.
В кофейнях на Больших бульварах, возле Биржи и в читальне Национальной библиотеки Энгельс просматривал газеты разных стран, интересуясь всем, чем живет планета. Он читал на разных языках. В ранней молодости Фридрих любил писать «многоязычные» письма, чередуя вперемежку немецкий с английским, французским, испанским, португальским и голландским.
Из Бремена — шумного торгового порта, куда приплывали корабли со всего света, — юноша Энгельс когда-то писал сестре Марии, шутливо кокетничая обширными познаниями в лингвистике:
«...так как я пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на английский язык, или нот, на мой прекрасный итальянский, нежный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада, и испанский, подобный ветру в деревьях, и португальский, подобный шуму моря у берега, украшенного цветами и лужайками, и французский, подобный быстрому журчанию милого ручейка, и голландский, подобный дыму табачной трубки...»
С годами количество иноземных языков, которые он изучил, все возрастало.
Многие вечера в зиму 1847 года Фридрих провел на собраниях рабочих и ремесленников. Он рассказывал о том, что происходило на Лондонском конгрессе; иногда ему приходилось жестоко спорить с противниками коммунизма.
Как по шелесту листьев в кроне деревьев опытный лесничий определяет приближение бури, Энгельс предвидел по многим приметам в политической жизни и экономике, что близок новый подъем революционного движения.
Встретить 1848 год Энгельс решил на банкете немецких революционных эмигрантов в Париже, Банкеты тогда вошли в моду во всех слоях общества.
Революционная пропаганда Энгельса давно уже беспокоила французские власти. В конце января он получил предписание под угрозой выдачи его прусской полиции в течение суток покинуть Париж. Поздней ночью полиция ворвалась к нему на квартиру, требуя немедленного отъезда. Одновременно были арестованы многие немецкие рабочие-эмигранты. Всем им предъявили обвинение в пропаганде коммунизма. 31 января Фридрих приехал в Брюссель.
Тем временем Маркс писал «Манифест Коммунистической партии» вдохновенно и самозабвенно. Каждое положение этого документа было выношено им давно. Но он отчеканил заново многие мысли.
Среди заметок о заработной плате, в тетрадке, помеченной декабрем 1847 года, которой он пользовался как конспектом при чтении популярных лекций, у Маркса было записано:
«...все так называемые высшие рода труда — умственный, художественный и т. д.— превратились в предметы торговли и лишились, таким образом, своего прежнего ореола. Каким огромным прогрессом явилось то, что все функции священников, врачей, юристов и т. д., следовательно религия, юриспруденция и т. д., стали определяться лишь преимущественно по их коммерческой стоимости!»
Это чудесное сырье дум и выводов превратилось в чеканную блестящую строфу «Манифеста». Маркс писал о современной буржуазной власти: «Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников».
По приезде в Брюссель Энгельс стал усердно помогать другу в работе над программой коммунистической партии.
Карл работал медленно, без конца переделывая фразы и отбрасывая то, что казалось ему излишним. Каждую мысль, слово он подолгу отбирал, испытывал и шлифовал, как самый терпеливый и придирчивый гранильщик драгоценных камней. Он создавал непревзойденный по образности, точности и яркости документ, как произведение искусства, из одного целого.
Женни снова и снова переписывала его рукопись и то дивилась, то принималась роптать:
— Сколько же раз можно заново оттачивать, уточнять смысл, заменять то или иное слово? Когда же ты будешь наконец доволен сделанным? Я переписываю весь текст уже третий раз, а отдельные страницы — без счета.
Время шло... В Лондоне, в Союзе коммунистов, начали уже сомневаться, выполнят ли Маркс и Энгельс свое обещание.
И наконец настал незабываемый час, когда Женни дописала рукопись Карла.
— «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма,— произнесла она вслух первые слова «Манифеста».— Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».
Женни подошла к Карлу, занятому уже новым делом — подготовкой к очередной лекции в «Просветительном рабочем обществе», и положила руку на его плечо. Он обернулся и, взглянув в ее лучистые глаза, понял, какое одобрение и восхищение они выражали. Близость Карла и Женни была так велика, что подчас им не нужно было слов,— взгляд говорил им больше. Маркс взял руку жены, улыбнулся и приложил ее узкие нежные пальцы к усталой голове. Всегда это прикосновение освежало его и радовало.
Как и Женни, он знал, что боевым, неотразимой силы оружием снабжены теперь пролетарии в их борьбе за освобождение и власть.
«Манифест Коммунистической партии», законченный в последние дни января 1848 года, был направлен в рукописи в Лондон, в распоряжение Центрального комитета коммунистов.
Недавний знакомый Маркса и Энгельса портной Фридрих Лесснер, деятельный коммунист, по прибытии рукописи тотчас же отнес ее в одну из лондонских типографий.
Весь январь и февраль Карл был чрезвычайно занят в редакции, на участившихся собраниях. Давно уже спала семья, а он далеко за полночь сидел за рабочим столом, то читая, то покрывая листы бумаги острыми, извивающимися и трудно разбираемыми буквами. Книги и газеты на разных языках наполняли комнату.
В эти ночные, ничем не нарушаемые часы мысль Маркса, как световой луч, обегала планету, и оттого мир казался вовсе не таким большим, как когда-то в Трире, когда он изучал глобус и представлял себе Землю необъятной и таинственной.
Карл думал об Италии, где народ вооружался против Австрии. В Швейцарии шла гражданская война. Впервые все двадцать два кантона соединились в одну федеральную республику. Германия была охвачена брожением. Соединенные Штаты Америки победили в войне с Мексикой...
«Манифест Коммунистической партии» вышел из печати в конце февраля 1848 года. В книге было 23 страницы. Имена авторов — Маркса и Энгельса — в этом первом издании не были указаны.
«Манифест Коммунистической партии» охватил все области политической и социальной жизни мира. Он учил рабочих борьбе и победе.
Гордым призывом к пролетарской революции заканчивается этот гениальный исторический документ:
«Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Каждая высказанная в «Манифесте» мысль Маркса и Энгельса о будущем счастливом бесклассовом коммунистическом обществе принадлежит вечности.
Очень скоро после выхода в свет «Манифеста» рабочие узнали и оценили его.
В те же дни мир обошла весть о начавшемся восстают в Париже. Пал трон Луи-Филиппа. Революция смела буржуазно-королевскую власть и, как огонь но сухой траве, перекинулась в Бельгию. Король Леопольд I сумел хитростью и, главное, уступчивостью предотвратить свое падение. Он созвал либерально настроенных министров, депутатов парламента и мэров городов страны и заявил, что немедленно подчинится и отречется сам от престола, если такова будет воля народа, Леопольд I говорил все это опустив глаза, вздыхая столь драматически, изъявлял такую покорность, что присутствующие в тронном зале парламентарии-буржуа умилились и поспешили успокоить короля заявлениями о том, что не имеют никаких замыслов ни против него лично, ни против королевской власти в Бельгии.
Едва кончилась эта чувствительная сцена, как Леопольд I приказал войскам разгонять народные собрания, стихийно начавшиеся на площадях города. Одновременно полиция получила приказание начать травлю и усиленную слежку за революционерами-изгнанниками из других стран. Власти опасались народных масс, и особенно рабочих.
Как только весть о революции в Париже дошла до домика Маркса, возбуждение и радость охватили всех. Наконец-то! .
До поздней ночи не спали в семье Маркса. В детской стояли теперь уже три кроватки. Женни родила сына. Маленький Эдгар, названный в честь брата Женни, любимого друга детства Карла, сосредоточивал на себе любовь всей семьи. Ребенок поражал всех осмысленным взглядом темных больших глаз и красивым выпуклым лбом. Родители, сестренки и Ленхен души не чаяли в спокойном, здоровом, веселом мальчике.
В этот полный треволнений день Карл, решивший с самого начала революции, что его место отныне в Париже, написал туда требование отмены приказа о высылке и начал готовиться к спешному отъезду. Очень долго сидели у него друзья, с которыми он делился мыслями о наступившей революции, о том, как действовать коммунистам.
Карл, получивший незадолго до этого небольшое наследство, тотчас же передал свои деньги для покупки оружия. Остальные члены «Рабочего союза» давали также кто сколько мог. На собранные деньги были куплены револьверы, ружья, кинжалы.
Через несколько дней, в субботний вечер, совершенно неожиданно, Маркс получил с нарочным королевский приказ в течение двадцати четырех часов покинуть Бельгию. Это не огорчило его. Карл, Женни и Ленхен принялись укладывать чемоданы и готовиться в путь. Им помогали в этих поспешных сборах несколько случайно забредших друзей.
Когда далеко за полночь все разошлись, Карл, по обыкновению, вместе с Женни прошел в детскую, чтобы взглянуть на спящих детей. Но вдруг раздался резкий стук во входную дверь. Ленхен, домывавшая посуду на кухне, поспешила открыть. Карл в это время снова занялся укладыванием своих чемоданов. Вопреки бельгийскому закону, запрещающему нарушать неприкосновенность жилищ граждан между заходом и восходом солнца, десять вооруженных полицейских агентов во главе с полицейским комиссаром ворвались в квартиру Маркса и предложили ему следовать в тюрьму городской ратуши. Никаких оснований для ареста не было предъявлен но. Ему сказали лишь, что его паспорт якобы не в порядке, хотя он предъявил полиции документы, разрешающие проживать в Брюсселе, где он уже находился три года!
Все в доме всполошились. Только Маркс сохранял невозмутимость и старался успокоить разволновавшуюся Женни. Ленхен принялась сначала бранить полицейских, затем закрыла лицо фартуком, чтобы скрыть слезы, В детской от топота ног проснулась Лаура и громко позвала мать. Ее крик разбудил Женнихен, Только Эдгар спокойно спал в своей колыбельке.
За окном была холодная ночь. Овладев собой, Ленхен принялась поспешно искать в шкафу теплую одежду, шейный платок для Карла, Впервые эта спокойная и собранная женщина раскидала по стульям и столам белье, которое всегда так тщательно стирала, гладила и складывала.
Женни ходила следом за Карлом, точно этим могла удержать его. Мысль, что сейчас она останется без мужа в этой квартире, одна, приводила ее в полное отчаяние.
— По какому праву смеют арестовывать тебя? Это произвол. Я сейчас же пойду к магистру общественной безопасности, подниму на ноги всех, в ком есть еще совесть и честь. Я все скажу, что думаю об их порядках,— говорила она.
Полицейские торопили Маркса. Не желая усиливать отчаяние жены и беспокойство, охватившее дом и передающееся детям, которые громко плакали, Карл поцеловал девочек, ободряюще коснулся рукой плеча Ленхен и, крепко обняв Женни, вышел на улицу со своими конвоирами.
Но Женни, несмотря на его просьбу остаться до утра спокойно дома и поберечь себя и детей, выбежала на улицу, на ходу застегивая шубу и завязывая капор.
«Карл, я не могу остаться без тебя!» — повторяла она, отталкивая полицейского. Никакие уговоры Маркса не действовали. Лишь у подъезда полицейского управления стража грубо оттеснила Женни от Карла.
Маркса ввели внутрь дома, и дверь за ним глухо захлопнулась. Женни осталась одна на темной сырой улице. Часовой потребовал, чтобы она отошла от ворот. Это были страшные для нее минуты. Вернуться домой и ждать рассвета казалось ей невозможным. Дом без Карла?! Нет и нет! Дрожь прошла по ее телу, когда она представила себе, что входит в его кабинет, где книги и вещи еще хранят на себе его тепло, его прикосновение... А вдруг его искалечат, убьют?
Сердце жены и друга Карла, сердце Женни забилось так сильно, что причинило ей острую боль. Любовь к мужу она ощущала теперь с еще большей силой.
«Надо что-то делать, вырвать его из лап полиции»,— думала она, стучась в разные дома малознакомых, казавшихся ей влиятельными людей. Ее встречали то с удивлением, то с досадой за прерванный сон, то с желанием помочь люди в шлафроках, с заспанными лицами и взлохмаченными волосами и бакенбардами. Слуги видных чиновников со свечами провожали Женни до подъезда, сомневаясь в ее рассудке.
Женни зашла также к бельгийскому адвокату г-ну Жотрану, председателю «Демократической ассоциации». Он всегда предлагал свои услуги преследуемым иностранцам.
Подле собора святой Гудулы она встретила своего друга — Жиго. Крайне взволнованный арестом Карла, он пошел с ней по пустынной улице.
Внезапно к Женни подошли два полицейских.
— Госпожа Маркс? — спросил один из них.— Отлично! Вас нам как раз и надо.
— Где мой муж?
— Следуйте за нами, и мы покажем вам, где он находится.
Женни была так утомлена, что едва держалась на ногах. Жиго проводил ее до полиции.
Через час Женни ввели в смрадное помещение — длинный каменный коридор с несколькими окошечками, забранными ржавыми решетками в стенах. «Тюрьма,— подумала Женни.— Здесь где-то Карл, и я, может быть, с ним рядом». Этого она и хотела.
Тюремный сторож, которому передали ее полицейские, потянул взвывший, как горемычный пес, засов и открыл камеру.
— Иди,— сказал он, подтолкнув Женни.
Смрад вызвал у нее тошноту. Она с трудом сделала шаг по скользкому полу и вошла внутрь. Тотчас же снова заскрипел засов и щелкнул замок.
Женни сначала ничего не могла разглядеть вокруг. Откуда-то доносился храп, кто-то тяжело вздыхал. Обойдя омерзительно пахнущую парашу, Женни нащупала жесткие деревянные нары. Полное безразличие, безмерная усталость сковали ее. Мир, свобода, представлялось ей, были так отныне далеки и недосягаемы, что теряли реальные очертания. Казалось, давным-давно она уже покинула свой дом.
Вдруг Женни охватило острое беспокойство о детях. Ей стало казаться, что Ленхен бросили в тюрьму и никогда больше ей не суждено обнять своих близких. Она зарыдала. Чья-то худая, жесткая рука прикоснулась к ней.
— Не плачь-ка и ложись. Утро вечера мудренее. В тюрьме сидят не звери, — сказал ей хриплый голос.
Свет чадящего фонаря, висящего над дверью, был так слаб, что Женни не смогла разглядеть лица женщины в лохмотьях, которая уступила ей свое место на парах.
Пощупав скромную, но добротную одежду Женни, всмотревшись в нее, женщина сказала с состраданием:
— Ишь ты какая, а тоже попалась. От тюрьмы и сумы, видать, не отказывайся.
Несмотря на предельное отчаяние и напряжение, Женни все-таки уснула, подложив руки под мокрое от слез лицо.
Проснувшись, она сначала не могла понять, где находится. Все окружающее показалось ей кошмаром. На нарах сидели и лежали женщины, вид которых красноречивее всяких слов говорил об их мытарствах.
Это были бездомные старухи, беззубые, бледные, как трупы; бродяги, на лицах которых запечатлелись не только всевозможные пороки, но и многолетняя нищета; развязные или угрюмые проститутки. Они бессовестно врали и хвастались друг перед другом отчаянными кражами, ловкими мошенничествами и богатыми содержателями.
Женни встала на нары и выглянула. Каково же было ее удивление и радость, когда она увидела у противоположного окна, за железной решеткой, усталое лицо друга — бельгийского архивариуса Жиго. Он узнал ее и стал жестами показывать ей на тюремный двор.
Взглянув вниз, Женни не могла сдержать крика. Она увидела Карла, которого вели куда-то под конвоем.
Вскоре Женни перевели в другое помещение, совершенно не топленное, где она оставалась в течение трех часов, дрожа от холода. Через час ее вызвали к следователю. Довольно учтиво у нее пытались получить подтверждение того, что Карл не был лоялен в отношении бельгийского правительства. Однако, ничего не добившись, следователь дал распоряжение отпустить Женни на свободу.
А Маркс тем временем находился в камере с буйно помешанным, от которого ему ежеминутно приходилось обороняться.
К вечеру Карл получил предписание немедленно покинуть Брюссель и вернулся домой. Там его ждал ответ Временного французского правительства, которое в самых вежливых выражениях отменяло приказ о его высылке. Письмо было подписано Фердинандом Флоконом, знакомым Энгельса и Маркса, редактором газеты «Реформа».
Париж снова был открыт Карлу, и он вместе с семьей выехал туда, где не смолкала «Марсельеза», где торжествовала победу революция.
Сток и Женевьева также собирались во Францию. Никогда еще Иоганн не был так возбужден, как с той минуты, когда узнал, что в Париже началась революция.
Революция! Как долго, как напряженно ждал он ее. Мысль эта ускоряла пульс. Невольно прошлое снова воскресало в его памяти. Лионское восстание, «Общество прав человека», два года одиночного заключения. Это был его капитал политического деятеля, его завоеванное право называться революционером.
Даже время убийственного пребывания в прусском каземате он не считал пропащим. Там он потерял здоровье, но познал себя и окреп как боец.
Он не жалел о страшных годах тюрьмы. Они обогатили его душу не менее, нежели тайные заговоры и участие в восстании «Общества времен года» Огюста Бланки.
«Ничто не пропадает даром в жизни человека, умеющего думать и чувствовать»,— размышлял Сток.
Женевьева принялась укладывать жалкий скарб семьи, готовясь к скорому отъезду из Бельгии. Ей предстояло снарядить в дорогу также двух детей. Маленькая Катрина ползала в ногах матери и теребила ее фартук. Сын Иоганн сильно изменился за последнее время. Из ребенка он превратился в крепко скроенного, уверенного подростка. Он реже шалил, реже дрался на улицах с мальчишками, стал подражать отцу, стараясь казаться степенным и молчаливым. Со времени известий о революции Иоганн пытливо прочитывал каждую цопавшуюся ему в руки газету или воззвание. Как и родители, Иоганн-младший рвался в Париж. Революция... Вначале он смутно понимал, что это слово означает, хотя оно и раньше постоянно доносилось до его слуха. В детстве он воспринимал его как женское имя, потом как таинственный пароль и только в Брюсселе недавно понял, что взрослые, произнося его, подразумевают борьбу за свободу, баррикады, сражение, жизнь или смерть.
В это время Сток получил расчет, к большому неудовольствию хозяина, который ценил его за добросовестность и трудолюбие.
- Ну, куда тебя несет? — говорил он, разводя недоумевающе руками.— Торопишься сделать жену вдовой, а детей сиротами? Сломишь ведь ты в этом дьявольском пиру себе шею. У нас в Брюсселе все как-то тише и безопаснее. Наш проповедник, мудрый человек, называет революцию потехой чертей. Ну, чего тебе не хватает? Жил бы себе да поживал. Там, глядишь, и домик бы приобрел, сам бы портняжное заведение открыл. Руки у тебя золотые, к тому же и не пьешь. На что вам нужно какой-то коммунизм на земле устраивать, людей благодетельствовать! Все равно до богачей и королей не доберетесь.
Сток не стал спорить и, пожелав хозяину здоровья, распрощался с ним навсегда.
Хозяин был верующий протестант и проповедовал смирение. Долго смотрел он вслед уходящему прихрамывающему Стоку, силясь понять, зачем тот бросает насиженное место и спокойную работу.
Вместе с семьей портного в Париж собирался и Сигизмунд Красоцкнй. Поляк тоже был взволнован, вспоминая, как восемнадцать лет назад участвовал в польском восстании.
«Революция пробьется из Франции на восток и в конце концов поднимет польский народ на борьбу за свободу!»— думал он.
Наконец был назначен день отъезда. Накануне вечером проводить товарищей пришли рабочие-бельгийцы и те из немцев и поляков, которые собирались уехать из Брюсселя позднее. Они принесли с собой пиво и закуски. Вскоре в комнатенке Стока стало шумно и накурено.
Выпив и закусив, поговорили о предстоящей дороге, затем кто-то затянул песню. Внезапно Женевьева, разрумянившаяся и помолодевшая, начала «Марсельезу». Не все присутствующие хорошо знали слова, но страстный мотив никого не оставил равнодушным. Запели все.
Вместе с взрослыми гимн Великой французской революции пел и юный Иоганн. Смутное чувство радости и тревоги охватило его душу.
Маленькая Катрина удивленно вслушивалась в звуки, заполнявшие комнату.
— Вот это песня! Под нее и жить, и сражаться, и умирать хорошо,— сказал Сток.
После пения наступило молчание. Каждый подумал об отъезжающих и о будущем, которое так много обещало. Сток, вдруг вспомнив о чем-то, порылся в карманах и достал книжечку в желтой, словно весенние лютики в лугах, обложке. Кое-кто из рабочих узнал ее:
— «Манифест Коммунистической партии»!
Книжка пошла по рукам, но каждый из берущих предварительно вытирал, чтоб не испачкать тонкую обложку, свои исколотые, натруженные руки. Женевьева, всегда питавшая особое почтение к печатному слову, с беспокойством следила за рабочими, перелистывавшими и разглядывавшими книгу.
— Иоганн, дружище, ты — известный грамотей. Почитал бы нам, что ли,— попросил седобородый каретник и добавил: — Не велика книжечка: тридцати листиков не наберется, а, говорят, мудрее любого катехизиса.
Иоганн придвинул лампу и начал медленно читать.
Вступление поразило всех слушателей.
— Значит, страшен богачам коммунизм-то,— сказал раздумчиво все тот же седой старик.
Сток читал все громче и увлеченнее. Рабочие и ремесленники придвинулись ближе к столу, стараясь уловить каждое слово, каждую мысль «Манифеста Коммунистической партии».
Сток читал:
— «...общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, класса — буржуазию и пролетариат».
Женевьева, захваченная чтением, ощутила мучительное беспокойство. Время как бы стремительно передвинулось для нее назад, и она увидела себя ползущей с кусками корпии и кувшином воды под нулями на мосту предместья Круа-Русс в Лионе. Шел бой. Раненые звали ее на помощь...
Сток продолжал читать:
— «Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии.
...В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли».
— Святая правда,— сказало несколько голосов.
— «...человека науки она превратила в своих платных наемных работников».
— Отец,—не выдержал Иоганн,—значит, нам не побороть ее никогда. Сильна буржуазия, всех сильней на свете?
Сток ответил сыну словами «Манифеста»:
— «...буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие,— современных рабочих, пролетариев».
— Выходит, как всегда, что это наш долг, наше дело убить змия,— сказал все тот же каретник. Он недавно перешел к коммунистам от сторонников утопического учения Кабе.
— Конечно, наше! На кого же еще надеяться? —-раздались голоса других слушателей.
— «Коммунисты не являются особой партией,— читал далее Сток,— противостоящей другим рабочим партиям.
У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом».
— Постой, старина,— спросил один из друзей Стока, кузнец из Кёльна, живший по соседству.— Скажи-ка нам, кто же написал эту рабочую библию? Эту песнь песней? На обложке ничего об этом не сказано.
— «Манифест Коммунистической партии» — это программа нашего союза,— ответил Сток.— Его написали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Еще не старые они люди, а все поняли, потому что они настоящие ученые.
— Золотая книга! — раздалось сразу несколько голосов.
Ударив по плечу Стока, старик каретник сказал:
— В начале книги говорится: призрак коммунизма бродит по Европе. Очень хорошо. Теперь этот призрак уже облекся в плоть и кровь во Франции. Гляди же, Сток, чтоб буржуазия снова нас, рабочих, вокруг пальца не обвела.
...Поздней ночью Сток остался один у стола со своими мыслями. Женевьева с детьми крепко спали. Иоганн снова углубился в чтение книги, ставшей для него священной.
Он нашел то, что искал всю жизнь: «Манифест» стоил, по его мнению, всех книг, которые он прочитал, всех слов, которые он слышал. Охватывая область всей политической и социальной жизни мира, он учил Стока борьбе и победе. Портной более не сомневался, что он, его дети, его класс явятся творцами нового, коммунистического общества, которое возглашал «Манифест», и гордая радость переполнила его душу.
И, улыбаясь, как улыбается узник, когда наконец перед ним открылись ворота тюрьмы, он повторил:
— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Глава восьмая Праздники истории
Вдова старшего сына короля Луи-Филиппа герцогиня Орлеанская не решалась лечь и эту ночь.
Накануне вечером по королевскому приказу на бульваре Капуцинов солдатами линейного королевского полка была в упор расстреляна мирная народная демонстрация. Пение «Марсельезы» заглушила стрельба. Более пятидесяти человек было убито. И снова над Парижем раздался клич: «Да здравствует республика! Долой короля! Мщение!»
До поздней ночи на телегах увозили погибших. Моросил холодный дождь. Шипели факелы.
Луиза Орлеанская в третий раз послала горничную разведать, что происходит в городе. Та принесла тревожные вести. Начались пон!ары. Движение по улицам стало невозможным. Повсюду воздвигались баррикады, достигавшие высоты двух-, а то и трехэтажного дома. Сторожевые будки, захваченные на улицах кареты, срубленные деревья, столбы, бочки, доски, наваленные кучами, загораживали улицы и переулки. Вооруженные пикеты восставших задерживали и опрашивали прохожих. Плошки, прикрепленные к палкам, освещали грозные баррикады и их защитников. На стенах домов появились воззвания: «Граждане! Луи-Филипп, король банкиров, приказал нас убивать, как это сделал Карл X. Пусть он отправляется вслед за Карлом X!», «Долой королей! Мы требуем республику!», «Свобода, Равенство и Братство!»
Луиза, сидя у камина, смотрела, как статс-дамы распоряжались укладкой ее вещей. Над загромоздившими комнату большими сундуками с металлическими гербами Орлеанского дома на стенках суетились камеристки, укладывая груды кружев, мехов, тяжелых парчовых и невесомых шелковых платьев. Сновавшие с кладью слуги вносили необычное беспокойство в неприветливые величественные дворцовые залы.
Герцогиня вспомнила о том, что революция 1830 года принесла ее тестю, Луи-Филиппу, корону и богатство. Но отец короля, Филипп Эгалите, был обезглавлен во время первой великой революции. Луиза, едва преодолевая нахлынувший страх, быстро поднялась с кресла, подошла к окну и приоткрыла портьеру. Февральская ночь показалась ей особенно угрюмой, зловещей. Вдали мелькали силуэты людей с зажженными факелами, доносились слова «Марсельезы». Она впервые поняла их угрожающий смысл:
Дрожи, тиран! И ты, предатель, Переползавший рубежи, Ты, подлых замыслов создатель, Перед расплатою дрожи. Любой из нас героем будет, И если первые падут, Французы смену им найдут, Их голос Родины разбудит. К оружию!..Герцогиня злобно потянула к себе край бархатной портьеры и отошла к камину. Чтобы скрыть охватившее ее волнение, она наклонилась к огню и принялась медленно ворошить длинными щипцами, тлеющие угли.
Что несет с собой завтрашний день для нее и ее маленького сына, графа Парижского, наследника престола? Честолюбивая и властная, она не раз мечтала избавиться от постоянной опеки скупого короля и поучении ханжи королевы.
Охваченная тревогой, Луиза не могла больше оставаться одна и подозвала статс-даму, которой особенно доверяла.
— Не находите ли вы, что король, имевший перед собой страшный пример падения Карла Десятого, мог принять энергичные меры, чтобы подавить мятеж? Колебания в столь опасный момент могут принести нам всем гибель. Я никак не могу понять, что привело чернь к бунту.
— Ваше высочество,— почтительно, но с достоинством ответила статс-дама,— революции, как извержения вулканов или землетрясения, вне человеческой воли. Это божья кара.
Лакеи шумно захлопнули сундуки, доверху набитые вещами. Статс-дама выслала слуг и подошла с поклоном к Луизе, чтобы напомнить ей о драгоценностях. Но герцогиня медлила и продолжала всматриваться в разгорающееся пламя камина. Часы, которые некогда украшали спальню казненной королевы Марии-Аитуанетты, пробили двенадцать раз. Луиза Орлеанская, встряхнув пышно убранной головой, чтобы отогнать тревожные мысли, решительно направилась к шкафу, где в потайных ящиках хранились ее драгоценности. Она торопливо сняла с шеи длинную золотую цепь с ключиком ювелирной работы, усыпанным алмазами, и открыла замок с секретом.
В это время без доклада, нарушив сложный этикет, размахивая руками и как-то странно подергивая плечом, в комнату вошел министр Луи-Адольф Тьер. Ему было за пятьдесят. Маленького роста, с необыкновенно короткой талией, он напоминал суслика, ставшего на задние лапы. Скрывая глаза, на узком носу торчали огромные очки.
— Что-нибудь случилось? — спросила Луиза, мгновенно оробев.
— Прошу ваше высочество немедленно отправиться к королю. Решается судьба династии. Торопитесь,— резко, со свойственной ему бесцеремонностью ответил Тьер. Но, заметив испуг в больших глазах Луизы, смягчился и добавил вкрадчиво: — Ваш сын, граф Парижский, и ваше высочество, смею надеяться, спасут обезумевшую страну.
Лицо Луизы вспыхнуло. Страх сменила надменность. «Неужели регентство?» — подумала она и, сразу овладев собой, сказала:
— Я верю, благоразумие возьмет верх во Франции... Прошу вас сопровождать меня к его величеству.
Накинув на себя шаль, низенькая полная герцогиня оперлась на руку Тьера и, стараясь придать себе величавость, направилась в противоположное крыло дворца Тюильри, в королевские покои. На широком дворе, который им пришлось пересечь, толпились, громко споря, офицеры и солдаты королевской гвардии. Луиза не обратила внимания на царивший во дворе шум и необычайный беспорядок. Она внимательно вслушивалась в то, что говорил ей Тьер, и даже не замечала раздражавшего ее прежде провинциального акцента министра.
— Ваше высочество хочет знать, что происходит в Париже? Дворцы сегодня — осажденные крепости. Чернь снова охвачена безумием. Увы, вал поднимается, грозя поглотить всех нас. Если бы король внял моим советам, моим настояниям, если бы он отправился немедленно в Сен-Клу...
— В Сен-Клу? Но зачем?
— Чтобы призвать армию и с нею двинуться назад к столице. Мы приступом овладели бы Парижем и растоптали бы мятежников. Пусть это будет стоить большой крови, многих жертв. Тем лучше. Мы уничтожим всех врагов порядка, монархии, инсургентов, которые восстают против тех, кто двигает прогресс. Дикари уже сожгли один из дворцов Ротшильда. Франции нужен хирург. Нож. В этом ее спасение.
Тьер остановился. Глаза его за стеклом очков засветились.
— Вы правы. Ваш план выражает ум и волю. Надо отрезвить народ. Но что же решил король? — спросила Луиза, не скрывая своего восхищения Тьером.
— Гизо и королева отговорили его величество, и он отверг наступление извне на Париж. Тем хуже,— мрачно ответил Тьер.
— Неужели же вы, как Пилат, умыли руки? Гизо — рок для нашей семьи, вы — ее спаситель.
— Благодарю вас,— загадочно улыбнулся Тьер,— я ваш верный слуга, запомните это.— И, снова подергивая плечом и размахивая рукой, он продолжал: — Сегодня на площади Карусель мне удалось заставить короля вовремя повернуть коня и отступить во дворец.
— Отступить? Я вас не понимаю.
— Увы, вслед королю из окон летели пули. Национальные гвардейцы скрестили штыки и потребовали реформ. Мужайтесь, герцогиня. Жребий брошен. Король Луи-Филипп вынужден отречься от трона в пользу вашего сына.
Тьер и Луиза Орлеанская вошли в большой зал, Король, осунувшийся и одряхлевший, сидел в кресле. Вокруг стояли члены его семьи, придворные и поодаль — Гизо.
В больших бронзовых канделябрах горели свечи. Их колеблющийся свет падал на посеревшее растерянное лицо Луи-Филиппа с его большим «бурбонским» носом и выпяченной губой, на выхоленную руку Гизо. Гобелены на стенах оставались в полутьме, и вытканные на них фигуры пастухов и пастушек казались более живыми, нежели король и его окружение.
— Когда я взошел на престол,— сказал Луи-Филипп, обводя всех выпуклыми рыбьими глазами,— эта старая лиса Талейран предсказал мне, что я процарствую всего семнадцать лет. Очевидно, он считал меня столь же безрассудным, как и Бонапарт, или глупым, как Карл Десятый. И что же, здание, которое я воздвигал с таким тщанием, тоже оказалось непрочным. Но безумцы, уничтожающие плоды моих трудов, еще покаются и, как блудные сыны, придут, чтобы пасть к ногам отца своего.
Оживившись и привстав с кресла, король недоуменно развел руками:
— Как это все началось? Ничего не понимаю. Ведь еще вчера народ не просил у меня ничего, кроме реформ. Зачем же сегодня ему требуется республика? Ведь я нее обещал им реформы, я пожертвовал даже верным Гизо и назначил Тьера и Барро. Подумать только, до чего дошли безумцы, они уничтожили решетку храма Успения богородицы и священными прутьями подпирают баррикады.
Король замолчал. Все присутствующие учтиво вздохнули. Заметив вошедшего Тьера, Луи-Филипп подозвал его движением руки.
— Верно ли, что вас стащили с кабриолета и окунули в грязь?
Тьер подтвердил это.
— Ах, как ужасно,— всплеснул руками король.
— Мятежники разграбили оружейные магазины, обезоружили посты, деревья в парках и бульварах навалены, как после бури,— сказал Тьер.
— Сколько баррикад воздвигли бунтовщики в моей столице? — спросил, задыхаясь, Луи-Филипп, прижав руку к сердцу.
— Более двух тысяч, государь,— с готовностью ответил Тьер.
Луиза Орлеанская, скрывая истинные чувства, торопливо подошла к королю и, опустившись перед ним на колени, нарочито громко и патетически воскликнула:
— Умоляю, государь, не отрекайтесь от престола. Корона непосильно тяжела для нас. Вы, вы один созданы для того, чтобы ее носить!
Король ничего не ответил. Кое-кто из дам зарыдал. Королева подошла к Луизе и поцеловала ее.
— Дитя мое, ваш сын под именем Луи-Филиппа Второго будет достойным преемником своего деда.— И добавила сквозь слезы: — Мой дорогой муж, французы не стоят такого доброго короля, как вы. Я верю, что...
— Время не терпит! — прервал бесцеремонно Тьер разглагольствования королевы.— Мятежники приближаются, мы бессильны. Поздно, слишком поздно!
— Как поздно? — закричал король.— А где же моя гвардия? Маршал Бюжо, вы уверяли меня, что отвечаете за мою безопасность. Действуйте. Я даю вам все полномочия !
— Ваше величество,— ответил Бюжо,— я бессилен. Слишком поздно.
Король подписал отречение в пользу внука и объявил, что тотчас же покидает Францию.
Луиза Орлеанская решительно отказалась ехать. В ее руках было отречение короля в пользу графа Парижского, ее юного сына. Это означало, что она становится правительницей Франции до совершеннолетия Луи. Мечты ее сбылись. Она не могла более скрыть своей радости. Едва простившись с низложенным королем и его женой, Луиза по совету Тьера отправилась в Бурбонский дворец, чтобы оттуда явиться в палату депутатов.
Отряды Национальной гвардии и восставшего народа подошли между тем к Тюильри. Королевские гвардейцы вышли им навстречу и подняли ружья прикладами вверх. Братание сопровождалось объятиями. Полетели каскетки, шляпы, кирасы, меховые шапки. Все запели «Марсельезу»:
Французы! Будьте в ратном поле Великодушны и добры, Пред вами жертвы поневоле, Наемники чужой игры. Но весь ваш правый гнев — тиранам, Кровавым тиграм наших дней, Кто тело Родины своей Обрек неисчислимым ранам. К оружью, граждане! Равняй военный строй! Вперед, вперед, чтоб вражья кровь Была в земле сырой.Народ не хотел более никаких королей. Испуганный Луи-Филипп бежал из Тюильри через боковой выход у вращающегося моста. Там его ждал экипаж. Однако народ заметил Луи-Филиппа. Один из офицеров охраны обратился к молчаливо взиравшей на низложенного короля толпе:
— Господа, пощадите короля!
В ответ несколько голосов крикнули:
— Мы не убийцы, как он. Пусть уезжает!
Лошади тронулись, и экипаж помчался по набережной, затем свернул на площадь с белым обелиском, где в годы первой великой революции стояла гильотина. Король вздрогнул и откинулся на спинку сиденья. На этом месте по воле народа скатились некогда головы Людовика XVI и герцога Орлеанского, отца его, Луи-Филиппа.
Отпустив короля из Парижа без единого оскорбительного слова, народ ринулся в его дворец. Мимо богато сервированных столов, через спальни, где валялись брошенные роскошные женские платья, меховые ротонды, тончайшее белье, кружева, страусовые перья, веера и ценные безделушки, люди бежали к тронному залу. Им казалось, что, разбив в щепы и предав сожжению лепной золоченый трон, они как бы навсегда освобождают свою страну от ненавистного ига монархии.
Трон Луи-Филиппа был сожжен несметной толпой народа на площади Бастилии. Танцы и песни сопровождали эту символическую расправу с королевской властью.
В эти дни ни одна вещь не была украдена в покоях низверженного Луи-Филиппа. Так безгранично и глубоко было презрение народа ко всему принадлежащему королям, что ни одна теплая шаль, которая могла бы согреть ребенка в семье бедного труженика, ни одна свеча, которая осветила бы лачугу, не была взята из дворцов.
Луи-Филипп Орлеанский был корыстолюбив, алчен, ненасытен в стяжательстве. Уверовав в несокрушимость своей династии, он предавался страсти накопления. Скупал угодья, леса, дворцы, разорял государственную казну, входил в огромные долги, которых не платил. Неисчислимы были его коллекции часов, статуэток, картин и скульптур из бронзы.
Король задолжал тридцать миллионов франков. В одном только замке Нейльи свалено было про запас свыше двадцати пяти тысяч восковых свечей. В февральскую ночь 1848 года, когда народ поджег дворец Нейльи, свечи эти озарили ярким пламенем старые липы, мраморные беседки и статуи королевского сада.
— Вот это костер! — говорили восставшие. Огонь, казалось, достигал неба.
Самое высокое, чистое и лучшее, что таится в человеческой душе, раскрывалось и господствовало в светлые дни революции. Труженики точно обретали себя, расправляя плечи. И чтобы не стать снова рабами, они уничтожали вещи, фетиши. Сгорел дотла старинный дворец Орлеанов — Пале-Рояль.
Но герцогиню Луизу — отныне королеву-регентшу — разгул революции не беспокоил. Она провела неповторимые часы, предвкушая власть, которую ей вручил король. Слушаясь во всем Тьера, она подготовила умилительную сцену. Пешком, скромно одетая, в черном вдовьем платье, вместе со своими двумя сыновьями и несколькими герцогами, она прибыла в палату депутатов, чтобы выслушать решение народных представителей. Кое-кто из монархистов встретил ее появление приветствиями. Одилон Барро, учтивейший приверженец династии Орлеанов, предложил собравшимся признать королем графа Парижского при регентстве герцогини Орлеанской. Но в зал хлынули вооруженные отряды республиканцев.
— Низложим всех Орлеанов! Да здравствует республика! — закричали со всех сторон.
Луизе, пытавшейся выступить с подготовленной речью, не дали говорить. Председатель надел шляпу и объявил перерыв. Но гул и крики не смолкали. Ледрю-Роллен, юркий краснобай, пытавшийся уместиться на двух стульях — пролетариата и буржуазии, всегдашний сторонник средней линии, вскочил на трибуну и попросил выслушать его, но ничего не добился. Его сменил поэт Ламартин. Он не терял ни одного часа в эти все сметающие дни и, отбросив лиру, стремился протиснуться к власти. Он зачитал список Временного правительства. В то же время в редакции газеты «Реформа» Флокон, Луи Блан и их приверженцы составляли свой список министров.
Через несколько часов в ратуше была провозглашена республика.
Луиза Орлеанская в сопровождении Тьера покинула палату депутатов. Они шли пешком. Вот уже двое суток, как в Париже не видно было ни одного экипажа.
Пряча лицо под вуалью, Луиза медленно шла подле Тьера по бульварам. Деревья были срублены. Кое-где путники натыкались на разбитые статуи, опрокинутые скамьи. Под ногами звенели осколки стекла. Наконец Тьер без долгих разговоров и церемоний препроводил претендентку на престол в Дом Инвалидов, где ей затем пришлось провести несколько тревожных дней. Она уже ни к чему больше не стремилась, ей хотелось только одного — поскорее очутиться в Англии. Там высадился ее свекор, бывший французский король, со своим многочисленным семейством.
На прощание Тьер сказал Луизе бесцеремонно:
— Мадам, я боюсь, что профессия королей вышла из моды. Им грозит безработица. Я нахожу, что лучшая форма правления, менее других разделяющая парод, это республика. Исключение можно сделать только для империи, если во главе ее стоит гигант, подобный Наполеону. Но титаны более не родятся. А жаль... Вспомните Талейрана. Хорошо, говорил он, когда стадо баранов ведет лев, но плохо, если львов поведет баран.— Тьер вдруг замахал руками и закачался на маленьких ногах. Он громко смеялся.— Заверяю вас, герцогиня,— сказал он уверенно,— рано или поздно бараны опять позовут льва — царя зверей. Было уже немало революций, а конец один. Все равно какой-нибудь король будет управлять стадом.
— Что же, пришел конец династии Орлеанов? — спросила Луиза, с трудом скрывая чувство ненависти к министру-плебею.
— Может быть, мне это все равно. Мой отец, когда я родился, был бедным ремесленником.
— Но ведь вы истый буржуа,— удивилась герцогиня.
— Это теперь не имеет значения. Я за тех, кто победил. Банкротство всегда результат ошибок. Успех — венец истинных достоинств. Прощайте, мадам.— Тьер исчез в ночной темноте.
Луиза долго смотрела ему вслед. Она не сомневалась, что этот изворотливый честолюбец еще не раз предаст тех, кто ему доверится, и свершит не одно подлое дело. У него было будущее, которого она уже не видела перед собой. А может быть, история еще вынесет и ее на поверхность? Надежда придала неудачливой правительнице силы. Луиза прошла в главный зал Дома Инвалидов. Это была усыпальница Бонапартов. Посередине на богатом постаменте стоял гранитный гроб Наполеона. Несколько лет тому назад сын короля Луи-Филиппа, принц Жуанвильский, привез сюда останки императора с острова Святой Елены.
«Потомки этого корсиканского самозванца, во всяком случае, никогда больше не взойдут на престол. Если монархия воскреснет, мой сын — вот кто первый претендент на корону»,— подумала Луиза.
В день отъезда в Англию к герцогине явилась толпа кредиторов ее свекра, низложенного короля Луи-Филиппа. Владелец пекарен, тощий бородатый длинноногий старик, представил счета на двадцать пять тысяч франков, торговец яйцами и маслом, чей пискливый голос был крайне неожиданным при его могучем сложении, совал прямо в лицо Луизе Орлеанской пачку долговых расписок более чем на шестьдесят тысяч. Отчаянно ругались поставщики мяса и зеленщики. Король задолжал им свыше ста тысяч франков.
— Не думайте, что мы не отыщем толстяка Луи и за морем! — кричали кредиторы.
— Король еще вернется! — прервала их возмущенная Луиза.— Вы первые позовете его. Сейчас, когда чернь взбунтовалась, вы обнаглели. Но именно королю вы обязаны своим достатком. Пусть вернет вам бог разум и чувство благодарности!
Но кредиторы еще долго не унимались. Луиза вынуждена была укрыться от них в отдаленных комнатах Дома Инвалидов.
...Вскоре и она оставила Францию. Волна истории на мгновение подняла ее на гребень, чтобы тут же отбросить в сторону. Никогда больше династии Орлеанов не суждено было взойти на французский престол.
Французы говорят о Париже, что это столица всех столиц земли, место мировых встреч, вторая родина для изгнанников, предмет постоянного сожаления для тех, кто вынужден его покинуть. Париж, по их мнению, высится как огненный столб, направлявший некогда библейский народ, сияет звездой, служившей маяком восточным правителям.
Средневековая легенда считала основателем древней Лютеции — праматери Парижа — мифического Геркулеса. Но прославленный город в 1848 году был плохо вымощен, в жару пылен, в дождь грязен. Рядом с особняками знати, с дворцами королей стояли невзрачные дома с темными подворотнями; в узкие тесные улицы вокруг ратуши и Вандомской площади едва пробивался солнечный свет. В предместьях Сен-Дени и Сен-Мартен было много лавок с огромными вывесками. Бакалейщики украшали свои магазины натюрмортами или назидательными картинами. Изображения пеликана, раздирающего свое тело, чтобы накормить детенышей, были в большой моде. На вывеске-картине торговца бургундскими товарами бог и апостол Петр, выглядывая из облаков, рекламировали устриц. Под картиной было написано:
«— Петр, я хочу спуститься на землю попробовать вкус этого животного, которое не знаю и не помню, чтобы я создал.
— Вы останетесь довольны вкусом устриц, продаваемых этой фирмой.
— Спасибо за справку,— говорит бог,— никогда не поздно получить хороший совет».
На парижских рынках фруктами и овощами торговали алжирцы, тунисцы и марокканцы. На столичных улицах всегда было много цветочниц.
Настал март 1848 года. В Париж продолжали съезжаться изгнанники-революционеры из многих стран — немцы, поляки, ирландцы, итальянцы. Временное правительство Второй республики гостеприимно открыло им двери столицы. Из тюрем вышли прославленные борцы «Общества времен года» Огюст Бланки и Барбес. То, что еще недавно казалось недосягаемой мечтой,внезапно осуществилось.
Могучие лучи мартовского солнца никогда не возвращали к жизни быстрее деревья и травы. Природа милостиво одаривала людей. Ранняя теплая весна украсила Париж. Он ожил после зимы и засиял. Трехцветные и пунцовые знамена, революционные эмблемы, белые статуи Свободы, торжественные шествия и песни, бодрые, веселые, шуточные, героические, празднично изменили французскую столицу.
Карл и Женни Маркс не узнавали города, который был им обоим дорог. Ведь на улице Ванно провели они первый счастливый год после женитьбы!
Маркс любил Париж. Он знал его улицы, площади, окраины, его лучшие книгохранилища, памятники, музеи, театры. Здесь безмерно обогатилась его мысль. Маркс почерпнул в бурной истории Франции многое из того, что помогло ему понять законы, неумолимо двигающие вперед человеческое общество. У него было много друзей среди вожаков французских рабочих тайных обществ. Но Париж первых дней февральской революции показался Карлу иным, новым.
С улиц исчезли скучающие франты, надменно размахивающие тонкими тросточками с золотыми набалдашниками. Не стало тучных господ, презрительно посматривающих через лорнет, и брюзгливых барынь в светлых ротондах, восседавших на мягких сиденьях кабриолетов. Не видно было и самих экипажей с рослыми кучерами на козлах и ливрейными лакеями на запятках. Кое-где еще оставались баррикады, возникшие стихийно, как горы в минуту землетрясения. Распевая песни, их торопливо разбирали работники в пестрых блузах, с засученными рукавами, с красными шарфами на шеях. Работа спорилась, сопровождалась смехом и шутками.
— Не хотели одной трети, взяли все,— говорили они, играя двояким значением слова «Тьер», означающего на французском языке также и одну треть.
— Долой решетки! — отвечали нм, намекая на то, что Барро — фамилия любимца Луи-Филиппа и ставленника Гизо — означает также решетку. Боязливо косились на рабочих, разбиравших свои бастионы-баррикады, лавочники и их жены с поглупевшими от страха лицами.
С каждым часом город становился наряднее и чище. Мостили улицы, восстанавливали пострадавшие от пожаров и снарядов дома и памятники. Опустели тюрьмы. Отменена была смертная казнь. Никто не помешал герцогине Орлеанской и Гизо отправиться вслед за низверженным королем в Англию.
Революция всегда кажется чудом для тех, кто, как узник, благодаря ей выходит на свет из тьмы. Ощущение легкости, когда с истерзанного тела сняли кандалы, беспредельное раздолье поднимает в душе все самое чистое и светлое.
Рабочий, полунищий, обремененный большой семьей, нашел во дворце Тюильри триста тысяч франков и тотчас же сдал их правительству. Не было предела героизму тружеников Парижа. Сами испытавшие голод, унижения, страдания, обретя свободу и права, они преисполнились состраданием и добротой, какую редко видел мир. Парижане, исконные любители зрелищ, были охвачены опьянением движения, шума, красками и звуками.
Блаженство победы охватило пролетариев Парижа. Казалось, что все преграды отныне рухнули, что зло, нищета, несчастья навсегда уничтожены. Незнакомые друг другу люди разных национальностей чувствовали себя братьями. История перевернула еще одну страницу.
Чувства Карла и Женни обострились. Город пел и радовал слух, улицы были щедро украшены знаменами, лозунгами, и каждое слово волновало, как свершение желаний.
Свобода собираться под небом или в богатейших замках столицы, чтобы публично обсуждать насущные жизненные вопросы. Право объединяться в союзы, голосовать и отстаивать то, что несет счастье обездоленным. Возможность участвовать в шествиях, провозглашать те идеалы, за которые еще так недавно рабочие проливали кровь и жертвовали жизнью. Никогда заря над Парижем не казалась Женни такой нежной, свежей и прекрасной.
Как-то ранним утром Карл и Женни вышли на улицы французской столицы.
Каждый миг в эти дни стоил всей человеческой жизни. Карл и Женни почувствовали себя участниками величайших событий истории, ради которых стоило жить и терпеть любые испытания.
Женни шла по улицам, опьяненная весной, восторженным гулом толпы, радостью, светившейся в глазах людей, пестротой флагов, доносившимися отовсюду звуками музыки и песен.
На площади Согласия, куда в полдень пришли Карл и Женни, толпился народ. Среди множества картузов изредка мелькали мягкие шляпы. На гладко зачесанные волосы женщины накинули скромные косынки. Царила удивительная в столь многолюдном сборище тишина. Все благоговейно ловили каждое слово человека, говорившего стоя с сиденья наемного фиакра.
— Да это же Огюст Бланки,— сказал Карл жене, протискиваясь поближе к оратору, чтобы рассмотреть его. Он никогда раньше не видел Бланки, но отлично знал по дагерротипам это худое, преждевременно изборожденное глубокими морщинами лицо, эти острые глаза с фанатическим блеском, узкий рот аскета. Маркс знал и всю историю его жизни и борьбы.
— Как он сед, как изможден,— прошептала Женни.
— Что же удивительного, много раз уже он сидел в тюрьме, больше семнадцати лет в общей сложности его держали в суровом заключении.
Сын жирондиста Огюст Бланки, руководитель «Общества времен года», был приговорен к смертной казни после неудавшегося восстания 1839 года. Борьбе за республику он посвятил свою жизнь. В крепости Мон-Сен-Мишель, в каменном гробу, о стены которого постоянно разбивались морские волны, отбывал он пожизненное заключение взамен смертной казни. Теперь он снова был на свободе.
Яркий солнечный свет еще больше подчеркивал зеленовато-серый цвет лица Бланки. Оно будто переняло навсегда окраску стен тюремных камер, где он провел большую часть жизни. На этого непреклонного человека непрерывно обрушивались несчастья. Пока неукротимый бунтарь был в заключении, его жена, хрупкая, нежная женщина, умерла, не выдержав пытки страхом за его жизнь и долгой разлуки. Огюст Бланки горячо любил только одну эту женщину и дал клятву, что будет верен ей до самой смерти.
В то недолгое время, когда Бланки жил вместе с женой, они оба были очень счастливы. Вырвавшись из тюрьмы, он не нашел более жены и ребенка. Ему казалось, что безмятежные дни в маленьком домике на медлительной Уазе, где около десяти лет назад он в последний раз обнимал своих близких, приснились ему. Была ли у него жена, которая согласилась нести с ним тяжелую ношу борца? Подруга революционера! Каждый час она была готова к тому, чтобы претерпевать лишения, делить опасности и, может быть, остаться одной навсегда.
Бланки не имел более семьи, но долгие годы заключения и невозвратимые потери закалили его. Никто не видел слез отважного борца. Они как бы высыхали в пламени его глаз. С еще большей фанатической страстностью бросился он в стихию революции.
С детских лет Бланки, сын члена Конвента, готовился к борьбе за права народа. Во время июльской революции 1830 года он уже дрался на баррикадах. Когда Луи-Филипп, воспользовавшись народным восстанием, стал королем, Бланки выступил в Париже с речью против монархии и за это был отдан под суд. Рубцы от ран, полученных в уличных боях, шрамы от кандалов, совершенно седые волосы в сорок с небольшим лет — отметины революционера.
Сейчас же после февральской революции Огюст Бланки организовал «Центральное республиканское общество», которое собиралось в зале Прадо. С помощью своих приверженцев он стремился снасти молодую республику. Он слишком хорошо помнил и знал по опыту, как обманчиво бывает безоблачное утро, как временное соглашение между враждебными друг другу сословиями внезапно заканчивается бойней.
— Будьте бдительны, граждане! — призывал Бланки,— Революция — праздник для бедных тружеников, но катастрофа для богачей и деспотов. Не верьте тиграм, даже если они ползают на брюхе. Долой знамена короля, поднимем алые стяги республики! Вспомните июльские дни тысяча восемьсот тридцатого года. Мы сражались тогда на баррикадах не за монархию, а за республику, за свободу, равенство и братство. Сколько крови было пролито французским народом! И что же? Вместо Карла Десятого мы получили Луи-Филиппа. Один хищник сменил другого. Ротшильды и другие финансисты и банкиры создали свою монархию. Восемнадцать лет мы боролись, чтобы вернуть то, что должны были сберечь в тридцатом году...
Карл и Женни, как и вся толпа, жадно вслушивались в слова Огюста Бланки. Он наэлектризовывал слушателей своей внутренней силой, своей убежденностью.
Маркс взял Женни под руку, и они пересекли площадь.
— Железный человек этот ветеран революции,— сказал Маркс!
— Какая цельная душа! Он выстрадал эти тревожные мысли. Вся его жизнь — подвиг. Бедная госпожа Бланки, у нее не хватило сил дожить до этих дней...
Народ под крики «Да здравствует навеки республика!» во главе с Бланки двинулся к ратуше. Появились красные знамена и бюст Свободы — пышнокудрой женщины в фригийском колпаке. Кто-то окликнул Карла и Женни. Обернувшись, они увидели Бакунина. Блаженно улыбаясь, он неуклюже обнял Маркса, поклонился низко Женни.
— Мы все пьяны, не правда ли? Одни от безумного восторга и надежд, а те,— Бакунин указал на особняки финансовой знати с угрюмо прикрытыми ставнями,— от безумного страха. Это пир нашим душам без начала и конца. Уже колеблются все троны Европы. В Берлине паника. Меттерних скрылся. Австрия прогонит Габсбургов, в Мадриде раскрыт республиканский заговор. Итальянцы обретут свободу. Революция охватит Польшу и докатится до России.
Бакунин, охмеленный радостью, схватился за голову, Он задыхался от счастья.
— Да, вы правы, Бакунин. Революции — это праздники истории,— сказала Женни радостно.— Какое ликование!..
Маркс взял Бакунина под руку, и все трое пошли по бульварам.
— Кто бы мог подумать, что вы, русские, еще более темпераментны, чем французы и мы, рейнландцы,— сказал Маркс.— Казалось бы, снега и льды охлаждают ваши порывы. А в действительности у вас пылкие сердца и горячие головы. Сегодня у нас поистине русский день. Мы виделись уже с Павлом Анненковым. Всегда столь сдержанный, он стал теперь неистов и красноречив, как Сен-Жюст.
— Разверзлось небо! — вскричал Бакунин.— Никто не может остаться теперь равнодушным. И что всего удивительнее, с первого дня достигнута кульминационная точка. Кто бы мог думать! Стихийная революция, почти что мгновенно увенчавшаяся республикой. Французские работники точно на сказочных крыльях взлетели на вершину самых недосягаемых желаний. Прощайте, друзья, спешу в клуб якобинцев. Есть уже и такой, он находится на улице Сены. В Париже свыше семидесяти клубов. Имеются и женские,— обратился Бакунин особо к Женни.— Советую записаться. Революция победила и движется на восток.
— Вы неисправимый мечтатель. Революция не веселый карнавал, она, увы, противоречива и начинена ворохом,— сказал Карл раздумчиво.
Бакунин нахмурился, покраснел.
— Ваш скепсис, Маркс, убийствен.
Попрощавшись, Бакунин быстро двинулся по улице. Маркс, улыбаясь, смотрел ему вслед.
— Гражданин Маркс! — обернувшись, крикнул Бакунин.— Я надеюсь свидеться с вами у Гервега.
— Обязательно, гражданин Бакунин,— помахав шляпой, весело ответил Маркс.
Карл с раннего утра до поздней ночи был на ногах. Он отыскал немало прежних друзей, побывал на улице Вожирар, посетил рабочий клуб и присоединился к демонстрации, идущей к зданию Временного правительства с петицией о немедленном повышении заработной платы и борьбе с безработицей. Его закружил вихрь свободы. Невероятное действительно стало обыденным. «Но что будет дальше? — задавал себе вопрос Карл.— Как развернутся события?»
Каждый день приносил важную новизну. Маркс участвовал в заседаниях парижской коммунистической общины и стал одним из основателей Клуба немецких рабочих, для которого выработал устав.
В Париж был перенесен Центральный комитет Союза коммунистов, Маркс стал его председателем. Заочно в члены Центрального комитета был избран Энгельс. Тысяча экземпляров «Манифеста Коммунистической партии», присланная из Лондона, разошлась чрезвычайно быстро, и рабочие зачитывались этой огненной книгой.
После бурных февральских дней французская армия труда, выходя из конур и подвалов, устраивала свой великий смотр. Как в годы средневековья, воскресли в Париже своеобразные цеховые корпорации. Столяры, водовозы, каретники, портные п их подмастерья, кучера почтовых карет, извозчики, мастера седельные, ткачи, железнодорожники, рабочие сахарных, химических заводов и газовых компаний объединялись в союзы. Поело бурных заседаний они нередко шествовали с приветствиями и требованиями туда, где заседало Временное правительство.
Они шли с песнями, которые рвались из переполненных ликованием сердец и сопровождали отныне каждый шаг, каждое действие революции. Яркие знамена и ленты, белые статуи Свободы, фригийские колпаки, вздернутые на острия пик, символические фигуры санкюлотов первой революции придавали особый колорит этим шествиям. Могучее четвертое сословие грозно заявляло о себе, внушая трепет буржуазии.
Монархия Луи-Филиппа не имела своей черной Вандеи — опоры во французской провинции. Революция победоносно продвигалась по всей стране. В Лионе — рабочей столице Франции — впервые после кровавых восстаний тридцатых годов развевались снова красные знамена. Рабочие навсегда разрушили в этом прославленном героическом городе ткачей крепостную стену, с которой их столько раз расстреливали королевские пушки. Ратушу, где когда-то их подло обманул, прикинувшись другом, префект Бувье Дюмолар, и улицы города охраняли рабочие патрули. Порядок был восстановлен, и рабочие принялись за организацию мастерских, чтобы уничтожить безработицу. Тем, кто не имел еще заработка, выдавались бесплатные боны на хлеб. Так было в марте во всех даже самых отдаленных уголках Франции.
По всей стране, как и в Париже, происходили праздничные народные банкеты. Духовенство служило панихиды по расстрелянным на бульваре Капуцинов в первые дни февральской революции, и священнослужители вместе с прихожанами, заканчивая службу, пели в храмах «Марсельезу».
Солнечная весна. Разливались реки, неслись с гор ручьи. По всей Франции народ сажал деревья свободы, украшая их красными лентами. Это стало традицией революционной поры.
«Народы для нас братья, тираны— враги»,— раздавался на парижских улицах припев новой, полюбившейся народу песенки.
Маркс изучал все революции, которые когда бы то ни было сотрясали Европу. Греция, Рим дали ему бесчисленные примеры того, как боролся угнетенный человек в рабовладельческом обществе. Он изучал восстания и революции в Англии. История для него была ключом к будущему.
События первой великой революции во Франции были известны Марксу до мельчайших подробностей, и то, что казалось Марату, Робеспьеру загадкой или неодолимой силой судьбы, для Маркса было исторической необходимостью. Он знал, в чем причина падения якобинцев и как случилось, что Луи-Филипп Орлеанский стал монархом.
Как и Энгельс, Карл не удивился революции во Франции. Они предвидели ее, как астроном предвидит появление кометы. Маркс понимал, что эти дни накладывают на каждого революционера небывалую ответственность. Нельзя было терять ни одного часа.
Карл и Женни отправились к Гервегам. В квартире поэта, которую его жена, дочь банкира, обставила с показной роскошью, в эти дни господствовал хаос. Эмме пришлось примириться с тем, что ее обшитые турецкими коврами диваны заменяли отныне постели нескольким приехавшим из Бельгии немецким изгнанникам. В столовой в стиле ампир со стола но исчезала ни днем, ни ночью посуда, и какие-то казавшиеся ей подозрительными и совершенно невоспитанными бедняки располагались в гостиной и кабинете Георга, как у себя дома. Эмма не могла скрыть своего недовольства, между ней и мужем возникали частые споры.
Но ранее покорный и вялый Георг совершенно преобразился. Он стал говорлив. Былого сплина и томного выражения глаз как не бывало.
— Рабочий,— любил повторять он восторженно,— отверженный и нищий,— вот герой, вот истинный суверен Франции сегодня. Долой шляпу перед картузом, как поют на улицах, на колени перед пролетарием. Он истинно храбр в битве и великодушен, когда побеждает.
Эмме казалось, что муж издевается над ней. Ее пугало, что он не нуждается больше в ее заботах.
— Всегда, когда Георг такой, он делает одни только глупости, влюбляется и заводит себе любовницу,— говорила она, округляя свои редко мигающие совиные глаза и до шепота понижая грубый, неприятный голос.
Нередко она пробовала жаловаться на Георга его давнишнему другу Бакунину. Но тот отвечал ей неумеренными похвалами поэту, и Эмма, досадливо пожав плечами, умолкала.
Зачастил в их дом и подружился с Гервегом приехавший из Брюсселя Адальберт фон Борнштедт. Он еще более высох и посерел. Скрытый недуг подтачивал этого безукоризненно выдрессированного человека. Эмма нашла в Борнштедте, как ей казалось, полное понимание, и она не уставала восхвалять его:
— Вы, подлинный аристократ, отдали всего себя неблагодарному делу — осчастливить тружеников. Они не поймут вашей жертвы.
В ответ Борнштедт низко кланялся и многозначительно качал круглой головой.
Борнштедт, Бакунин и Гервег обсуждали положение в разных странах Европы. Они решили сделать все возможное, чтобы ускорить революцию в Пруссии и Польше.
Насколько искренни были Гервег и Бакунин, настолько же уклончив Борнштедт.
За несколько лет до февральской революции этот опытный провокатор рассорился с прусской тайной полицией и остался на службе только у австрийцев. Однако, когда началась революция, он порвал и о Веной. С этого времени Борнштедт потерял навсегда покой, так как считал, что революционный поток разольется по всей Европе, тайное станет явным и его ждет суровое возмездие. В поисках спасения он решил совершить какой-нибудь героический подвиг, рассчитывая таким образом привлечь к себе симпатии и заслужить доверие немецких революционеров. Воинственный план Гервега как нельзя более соответствовал его расчетам.
— Итак, решено,— заявил Борнштедт,— соберем в кулак всех немецких изгнанников-революционеров, создадим мощный легион, вооружимся и двинемся на германскую границу. И монархия падет!
— Французские братья нам помогут! — вскричал Гервег.— Мы с вами, Адальберт, поведем легион. Победа или смерть!
— Превосходно,— поддерживал Гервега Бакунин,— ты не только великий поэт, но и настоящий революционер. Ваш план поможет и мне наконец осуществить заветную мечту. Революция должна начаться также и в Польше. Восстание тысяча восемьсот тридцать первого года научило поляков борьбе за независимость и свободу. В Париже находятся тысячи польских повстанцев. Я уже установил связь с Польской централизацией. Впрочем, если они будут медлить, я сам выеду в Прагу и в Познань. Я отдам все силы тому, чтобы поднять восстание в Польше. А к польской революции присоединятся все славяне. И, обрастая как снежный ком, превращаясь в грозную лавину, славянские революционные войска двинутся на Николая Романова. Это единственная возможность навсегда разделаться с кровавым русским самодержавием. Все славянские племена и народы создадут тогда единую республику, подобно тому как галлы осуществляют теперь мечты великого Брута. Но славянская революция должна быть свершена руками славян! — Бакунин повысил голос.— Я вижу, друзья, также вольную Италию, Испанию. Не удивлюсь, если и на небе господь бог объявит вскоре вселенскую республику.
— Браво! — зааплодировал фон Борнштедт.— За вами, несомненно, пойдут народы. Я полностью разделяю вашу тактику. Необходимо, дорогой Гервег, скорое собрать всех немецких революционеров, создать боевой легион и двинуться через границу. Мы поведем его вместе. Перед всезажигающим энтузиазмом наших бойцов не устоять ни юнкерскому правительству, ни самому королю. Пришел последний час тиранов!
— Да будет так! — обрадовался Георг.
— Осанна! — сказал Бакунин и сложил комически пальцы крестом.
В это время в кабинет Гервега ворвалась Эмма. Крупные неправильные черты ее лица стали еще безобразнее от искажавшей их злости.
— Умоляю вас, господа, воздействуйте на Георга. Только что к нам снова ввалился с багажом какой-то немецкий бродяга, приехавший из Брюсселя. Это, видимо, ткач или портняжный подмастерье. От его одежды пахнет потом. Меня тошнит от запаха этого блузника в картузе, в скрипучих сапогах. И Георг пригласил его к нам. Они, видите ли, отправятся вместе делать революцию в Германии!
Гервег рассвирепел.
— Эмма, это человек, у которого ты должна учиться благородству. Он будет жить у нас, даже если ты из-за этого переедешь в гостиницу, — закричал поэт, наступая на растерявшуюся жену.
Эмма притихла и, пятясь, исчезла за портьерой.
Бакунин взглянул на часы и стал прощаться.
— Поверите ли, друзья мои,— сказал он,— нынче я встал в четыре часа поутру. За этот подлинно безумный день перевидел уйму народу, но никого не запомнил. Говорил, говорил, говорил со всеми, но не удержал в памяти ни одного сказанного мною или услышанного слова. В этом нет, однако, ничего удивительного. Всеми чувствами, всеми норами впитывал я революционную атмосферу и терял отдельные черты происходящего передо мной. На каждом шагу новые предметы, новые известия и надежды без конца и края.
Уже стоя у двери, Бакунин вдруг хлопнул себя по лбу.
— Кстати, чуть не запамятовал. Нынче видел Маркса и сговорился встретиться с ним здесь. Мне кажется, немецкий философ все еще не понимает, что главное сейчас — это разрушение. А созиданием пусть занимаются потомки. Слов нет, он многое постиг в материалистических науках, а вот не понял до сих пор, что главное — это стихия... Не по сердцу мне этот немец. Пожалуй, мне лучше уйти. Побегу в студенческий клуб. Там Ламартин, отлично прозванный кем-то большой шарманкой революции, будет удивлять парод фейерверком красноречия.
— Да, Ламартин — оратор искусный, — заметил Гервег,— на днях он начал речь так: «Мы творим сегодня высшую поэзию...» Сей певец жирондистов, католицизма, Луи-Филиппа и, наконец,— кто мог бы подумать — республики взлетит высоко.
— Власть заманчива, и на ее огне сгорают, как в аду, души честолюбцев,— скрипучим глуховатым голосом, без малейшей улыбки на мертвенном лице сказал фон Борнштедт.
Вскоре после ухода Бакунина раздался удар молоточка по входной двери. Вошли Карл и Женни Маркс. Их радостно встретили хозяева и несколько немецких изгнанников, недавно прибывших в революционный Париж. Завязалась шумная беседа. Эмма с удивлением смотрела на Женни. Видимо, Женни чувствовала себя отлично среди бородатых людей, более чем скромно одетых, в стоптанной обуви, которые бесцеремонно расположились в квартире Гервегов.
— Вы стали чрезмерно демократичны, дорогая Женни. Признаюсь, коммунизм, когда его олицетворяют пусть честные и несчастные, но столь грубые простолюдины, пугает меня. Я перестала спать и худею, когда думаю о будущем.
Женни от души рассмеялась.
— Напрасно, Эмма. Я никогда не была такой счастливой, как теперь.
В это время Борнштедт в самых изысканных выражениях пригласил обеих женщин, а затем Гервега и Маркса поехать вместе с ним в театр. Ои достал ложу в Комеди Франсез. Сама Рашель, лучшая актриса Франции, должна была выступать в этот вечер.
Вскоре все пятеро вышли из дому. Стемнело. Зажглись фонари. Будничный вечер казался праздником. Никогда так громко и весело не смеялись на улицах Парижа. Смех, беспечный, безудержный, счастливый, вызывающий, дерзкий, несся над толпой. Смягчались лица и голоса людей. Исчезли накрахмаленные банты и тугие цилиндры. Появились простые шляпы и свободно повязанные галстуки. Продавцы газет заглушали уличный шум, выкрикивая последние известия:
— Заговоры в Вене — Меттерних исчез из замка Иоганнисберг!
— Луи-Филипп высадился в Дувре!
— Всеобщая революция приближается!
Маркс и Гервег остановились у киоска и купили вечерние выпуски газет.
— Земля минирована, пороховой шнур прокладывает себе дорогу под царские дворцы,— сказал Гервег.— Наше дело — поднести огонь.
В газетах перечислялись делегации иностранцев, побывавшие в этот день на заседании Временного правительства.
— Вот это уже подлинный церемониальный марш демократов Европы,— заметил Гервег. — Прочти сообщение, как через своих сынов, живущих в Париже, приветствовали победу революции норвежцы, англичане, греки, болгары, итальянцы, румыны, ирландцы, поляки.
У самого здания театра улицу запрудило шествие пожарных. Вслед за ними со знаменами и песнями прошли, возвращаясь с торжественного заседания в одной из секций клуба Парижской коммуны, рабочие сахарного завода.
Наконец можно было снова продолжать путь. Борнштедт пожаловался Эмме и Женни на болезнь горла, которая, по мнению врачей, угрожает ему вскоре потерей голоса.
— Все это очень досадно,— говорил он хрипло,— голос — это тоже оружие в дни революции.
— Не правда ли, Георг — врожденный трибун? Он превосходный оратор,— заметила Эмма.
— Конечно. Я безмерно рад, что Гервег внял моим уговорам и согласен стать во главе вооруженного немецкого отряда. Он докажет, что поэт может быть и революционным полководцем. Не волнуйтесь,— добавил Борнштедт,— я буду с ним рядом.
Георг и Карл шли поодаль и тихо разговаривали.
— Борнштедт разработал удивительный план, который поддерживаю я и Бакунин,— начал Георг.
Но по мере того как он рассказывал о затее с вторжением в Германию вооруженного отряда, лицо Маркса мрачнело.
Поэт заметил это и вспыхнул!
— Ты не согласен с тем, что это единственный способ вызвать революционный взрыв в Германии? — спросил он запальчиво.
— Здесь не место и не время для такого разговора,— сумрачно ответил Карл. Они подходили к зданию Комеди Франсез, переименованной теперь в театр Республики.
— Нет, скажи мне сейчас же, что ты думаешь об этом,— настаивал поэт.
~ Ваш план в корне порочен. Нельзя импортировать революцию, Вы с Борнштедтом обрекаете людей на бессмысленную гибель. Что могут сделать несколько сот человек, даже если они хорошо вооружены, против регулярных армий германских королевств и княжеств?
— Ты всегда боялся риска, Карл. Нельзя жить только головой, иногда надо слушать голос сердца,-- твердил Георг, задерживая Маркса у входа.
— Сердце — плохой советчик, если нет головы,— пытался отшутиться Карл.
Они вошли в фойе театра, где их поджидали Женни, Эмма и Борнштедт.
— Умоляю, оставьте политические споры,— схватив под руку мужа, твердила госпожа Гервег. —Это ужасно. Я больна от этой вашей революции. Мои нервы не могут ее выдерживать дольше. Она убьет не только меня, но и великого немецкого поэта.
Театр был переполнен. Сощурив утомленные от постоянной ночной работы глаза, Маркс с интересом разглядывал зрителей. Рабочие в широких блузах и их жени в дешевых шалях поверх простых платьев восхищенно и вместе с тем с едва уловимой робостью оглядывали нарядный театр. Женщины прятали натруженные руки и смущенно улыбались. Мужчины нарочитой развязностью старались прикрыть неуверенность. Рядом с пролетариями сидели люди, одетые в такие же блузы из хлопковой или грубой шерстяной ткани. Из-под воротников, из широких манжет предательски вылезало тончайшее нижнее шелковое белье, а из грубых башмаков — пестрый дорогой чулок. Еще разительнее выглядели богатые женщины. Исчезли великолепные прически и накладные локоны, украшения, меха и кружева. Не только одежда, но и манеры изменились у переодетых богачей. В то время как рабочие переговаривались шепотом, буржуа старались шуметь и бесцеремонно толкаться в проходах, щеголяя растрепанными головами и давно не бритыми лицами, стремились замаскироваться в этой разнородной толпе, сойти за тех, кто, поднявшись с житейского дна, с поражающей легкостью опрокинул королевский трон, изменил образ правления в стране и создал республику.
— Ах, посмотрите,— громко восклицала Эмма, долго и жадно разглядывавшая в бинокль партер и ложи,— это же владелец самого большого ювелирного магазина в Париже господин Поль. Его жена имеет такие же жемчуга, как госпожа Ротшильд. Представьте, каждая жемчужина величиной с вишню. Господин Поль, очевидно, взял напрокат костюм у своего привратника. А вот и сама мадам, его супруга. Взгляни, Георг, на ней грубые башмаки и юбка судомойки! — Эмма смеялась гулким басом.— Тут подлинный маскарад,— продолжала она и принялась перечислять всем известные фамилии парижских богачей.— Напрасные старания, их выдают выхоленные руки и длинные ногти,— злорадствовала жена Гервега.
Впервые Эмма Гервег испытывала удовлетворение, что ей, жене изгнанника-революционера, нечего бояться. Значит, могущество не только в деньгах, которые она принесла в приданое поэту. Более того, в такие дни но стоило вовсе вспоминать о том, что отец Эммы был видным банкиром. Теперь не она спасала Георга, а он ее. Эта дикая, по мнению жены Гервега, мысль была столь неожиданной, что она не заметила, как тихо пополз занавес. На большой сцене, убранной красным бархатом, стояла огромная гипсовая статуя Свободы. Ее охраняли Спартак, Брут и несколько статистов в костюмах солдат революционной армии 1789 года.
На сцене появилась знаменитая актриса Франции Рашель. Аплодисменты заглушили барабанный бой и оркестре. Задрапированная в складки трехцветного знамени, простирая вверх руки, Рашель начала декламировать. Ее голос то падал, волнуя на самых низких нотах, как виолончель, то взлетал вверх и становился певучим, как флейта.
Рашель металась по сцене. Ее тонко очерченный профиль напоминал камею. Локоны, собранные узлом, рассыпались.
Вступая в битву мировую, Мы памятью отцов горды. Они уже не существуют, Пред нами славы их следы. Сиротской доли нам не надо, Одна лишь нам знакома страсть. Отмстить за них иль рядом пасть — Вот наша высшая награда.И вслед за Рашелью весь театр повторял, точно клятву перед боем:
К оружью, граждане! Равняй военный строй! Вперед, вперед, чтоб вражья кровь Была в земле сырой.Простирая руки перед собой, как сомнамбула, Рашель подошла к рампе. Ее замечательный голос теперь был полон металла. Звуки его заполняют зал, проникают в человеческие сердца и ускоряют ток крови. Она произносила знакомые всем слова, но, быть может, только в 1793 году, когда их пел Руже де Лиль, создатель гимна марсельцев, они вызывали такой ураган чувств.
Вперед, плечом к плечу шагая! Священна к Родине любовь. Вперед, свобода дорогая, Одушевляй нас вновь и вновь. Мы за тобой проходим следом, Знамена славные неся. Узнает нас Европа вся По нашим завтрашним победам!Марксу предстоял поединок с тем, кого много лот он считал другом. Сколько раз черпал Георг Гервег из щедро открытой для него сокровищницы ума и сердца, как часто легко терявший уверенность в своих силах поэт опирался на непреклонную, последовательную волю Карла.
Нервный, взбалмошный Гервег был способен на любое безрассудство. Воля его, точно парус, то выпрямлялась и крепла, то никла.
Вскоре после возвращения из Бельгии Маркс был приглашен на собрание немецких эмигрантов, где Гервег и Борнштедт собирались огласить свой план создания вооруженного вольного легиона, чтобы вторгнуться в Германию.
«Борнштедт — личность сомнительная,—думал Маркс, направляясь к месту собрания,— от него можно ждать любой подлости. Но Георг...»
Карл остановился, чтобы достать коробок спичек и зажечь сигару. Ему стало тяжело и вместе досадно. Перед собранием он еще раз, с глазу на глаз, попытался образумить поэта. Однако тот оскорбил его, обвинив в зависти. Георг похвалялся своей отвагой. Он жаждал воинской славы, потому что с детства всегда слышал о себе, что женствен и слаб.
В день собрания в Париж из Германии пришли волнующие вести. В Мюнхене восстали рабочие, к ним присоединились студенты, художники, скульпторы, которых много было в этой «германской Флоренции» — городе величественных памятников, богатейших музеев, просторных дворцов, превращенных в картинные галереи. На улицах Нассау шли революционные бои. Король Фридрих-Вильгельм IV, храбрый, когда не было опасности, и откровенно трусливый, когда она появлялась, ежечасно менял решения. Прусскую столицу охватила растерянность. В Западной Германии правительство, предвидя народные волнения, поспешило объявить свободу печати и сбор отрядов Национальной гвардии.
Энгельс прислал Марксу из Брюсселя исполненное бодрости письмо: «Пусть только Фридрих-Вильгельм IV продолжает упираться! Тогда дело выиграно, и через несколько месяцев произойдет германская революция,— писал он,— пусть только он крепко держится за свои феодальные формы! Но ни один черт не угадает, как поступит этот взбалмошный сумасброд!»
Когда Маркс вошел в зал собрания, Борнштедт уже выступал с речью, стоя у деревянной кафедры, принесенной из церкви. В черном сюртуке, в белом тугом воротничке, подпиравшем голову, худой, с лицом будто густо посыпанным пылью, он напоминал протестантского проповедника. Тщетно старался Борнштедт усилить свой похожий на шипение змеи голос.
— Французское Временное правительство,— говорил он в этот момент,— не только горячо поддерживает наш план установления республики в Германии, но и жертвует вольному легиону, кроме оружия и снаряжения, деньги и предоставляет этапное помещение. Каждый легионер будет получать по пятидесяти сантимов в сутки до тех пор, покуда мы не покинем гостеприимную Францию. Это превосходно. Мы уничтожим германский деспотизм.
Возмущение Карла нарастало. Итак, чудовищная, бессмысленная, кровавая затея осуществлялась. Подходя к кафедре после пылкой и бессвязной речи Гервега, Маркс едва подавлял в себе чувство гнева и негодования. Он знал, что ему нужно взять себя в руки и преодолеть раздражение, иначе ему не уверить слушателей. Только полное спокойствие на трибуне может убедить аудиторию. Он остановился, чтобы окончательно овладеть собой, и невольно бросил уничтожающий взгляд на сидевших перед ним Гервега и Борнштедта. Поэт передернул узкими плечами, нервно пригладил изнеженной, в перстнях, рукой волосы. Оливковые щеки его внезапно стали багровыми, и на лице на мгновение появилось выражение испугавшегося своей проказливости ребенка. Он резко откинулся на спинку стула и постарался принять вызывающую позу. «Что ж, история скоро скажет, что я прав»,— хотелось ему крикнуть.
Карл все это заметил и с облегчением ощутил полное безразличие к бывшему другу. Георг Гервег больше не существовал в его сердце. Борнштедт оседлал утиный нос большими очками, скрывшими воспаленные, слегка косившие глаза.
Судьба сотен немецких революционеров, находившихся сейчас в этом зале, наполняла тревогой сердце Карла. Надо было предупредить их об опасности. Он принял вызов Борнштедта и Гервега и вступил в бой.
Голос Карла гремел и наполнял собой зал. Он шел и от разума, и от большого, доброго сердца. Карл лишился еще одного дорогого ему друга ради того, чтобы не дать смутить и подвергнуть бессмысленной гибели своих соотечественников-революционеров. Немало дней провел Маркс с Гервегом. Много раз в семье поэта Карл и Женни чувствовали себя, как в родном доме. В стихах, мыслях, поступках Гервега было много частиц души Маркса. Но дело борьбы за революцию решало. Гервег вольно или невольно вредил, изменил. И дружба обернулась враждой.
— Борнштедт и Гервег призывают к тому, чтобы импортировать революцию из Франции в Гермапию. Революция не парфюмерия, не предметы роскоши! — гневно заявлял Маркс.
Он объяснил, почему министры французского Временного правительства, особенно такие, как Ламартин, весьма рады избавиться от многих тысяч немецких ремесленников и рабочих. Во Франции свирепствовала жестокая безработица. Избавиться от конкурентов-тружеников и одновременно от бесстрашных и опытных революционеров — мечта многих буржуа в Париже. Это стоит не пятьдесят сантимов...
— Но главное не в этом,— продолжал Маркс.— Что сможет противопоставить один легион, состоящий из самых мужественных борцов-революционеров, регулярной армии тридцати с лишним немецких королевств и княжеств? Геройство и смерть. Авантюристическая игра в революцию будет стоить жизни лучшим нашим людям. В угоду чему пойдут они на гибель? Интригам одних,— Карл отыскал глазами Борнштедта,— и мальчишескому тщеславию и эгоизму других...— Он вытянул руку в сторону Гервега.
Бывший агент прусского и австрийского правительств дрожащими пальцами протирал очки. «Если б я мог его убить!» — думал Борнштедт.
— Как я ненавижу его! — шептал Георг, ерзая на стуле.
— Революция во всей Германии наступит очень скоро. В этом не может быть сомнения,— продолжал Маркс.
Гадаете на кофейной гуще. Пророчествуете,— взвизгнул Гервег.
— Нет. Это историческая неизбежность,— строго ответил Маркс.
Его волнение давно улеглось. Спокойно, убежденно, просто, как недавно в Брюсселе, когда он читал лекции в «Рабочем просветительном обществе», Карл объяснял собравшимся то, что происходило изо дня в день в экономической и политической жизни их родины.
Борнштедт зорко вглядывался в притихший зал. Слова Маркса разрушали чары, которыми пытались околдовать слушателей он и Гервег. «Маркс сорвет все, что мне удалось сколотить с немалым трудом»,— бесился Борнштедт. Не поворачивая головы и лишь скосив глаза, он взглянул на лицо Гервега и уловил на нем плаксивую гримасу. «Этот славолюбивый болван, пожалуй, сейчас бросится просить у Маркса прощения». Нельзя было медлить. Игра, так ловко придуманная им, грозила проигрышем.
— Братья немцы!..— воскликнул Борнштедт.
Видя, что слова его не слышны, он замахал протестующе руками. Такая необычная вспышка человека, известного своей невозмутимостью, произвела некоторое впечатление. Мгновенно очнулся и Гервег, которого охватили было сомнения и нечто похожее на угрызения совести.
— Не слушайте Маркса. Никогда еще отвага и героизм не вредили революции! — звонко крикнул поэт, сорвался с места и стал рядом с Марксом.— Пусть не пугает нас, пусть лучше скажет, что же противопоставляет он вольному легиону немецких республиканцев,— кричал Гервег, пытаясь заглушить поднявшийся шум.
Борнштедт поспешно вышел из зала.
— Маркс, говори! Не мешайте нам слушать Карла Маркса! — раздавалось со всех сторон.
— Мы должны, мы обязаны вернуться в Германию,— продолжал Маркс.— И мы сделаем это поодиночке, а не в отряде, который будет разгромлен и уничтожен, едва переступит границу.
— А льготы? — несмело возразил кто-то.
— Льготы? — слегка насмешливо переспросил Карл.— Временное правительство из тех же соображений окажет помощь и тем, кто отправится один на родину.
В это время в зал под бой барабана вошел снова Борнштедт. Вытянувшись по-военному, маршевым шагом двигался он к трибуне, держа в руках перед собой древко с черно-красно-золотым знаменем.
Нервически дрожа, Гервег снова закричал:
— Вызываю добровольцев! Да здравствует Германская республика и вольный легион, который ее установит!
В зале все зашумели, задвигали стульями. Кто-то вытащил стол и предлагал записываться в отряд.
«Какой, однако, прохвост этот Борнштедт, да и Гервег не лучше»,— думал Маркс. Через несколько дней Борнштедта исключили из Союза коммунистов.
Генрих Гейне был обречен. Врачи установили прогрессивный паралич. Исход болезни был предопределен, и не было средств облегчить страдания умирающего поэта. Агония, по мнению друга Гейне, весьма опытного врача Ротрие, могла продолжаться еще несколько лет...
Свет ясного солнечного дня, яркой лампы, стук молота, шуршание рубанков в руках рабочих, восстанавливающих послереволюционный Париж, причиняли поэту острые физические страдания. И все-таки, когда вдали на улице гремел барабан и раздавались звуки воинственного революционного гимна, он собирал последние силы и, опираясь о стены, если никого не было рядом, пробираясь от кресла к креслу, плелся к окну. Его полуослепшие глаза жадно искали пестрые знамена, трясущиеся руки посылали приветствия демонстрантам.
— Несчастье в такое время быть совершенно бессильным. Все сознавать и не участвовать в революции, которую я воспевал всю жизнь. Лучше смерть, нежели прозябание,— шептал поэт, и слезы катились по его худому лицу.
Вот уже год, как ценой неслыханной жертвы Генрих Гейне добыл себе постоянный кусок хлеба — ежегодную ренту в четыре тысячи восемьсот франков. Ради этого он, по требованию богатого хитрого родственника-банкира, согласился уничтожить четыре тома неизданных «Мемуаров». Брат поэта собственноручно уничтожал рукописи. Лежа в «матрасной могиле», как называл Генрих Гейне опостылевшую ему кровать,— а в ней он провел почти недвижимым уже несколько лет,— смотрел он из-под непроизвольно опускавшихся полупарализованных век, как догорали лучшие и самые дорогие страницы истории всей его жизни, духовного роста, падений и возвышений, дум.
Отныне гамбургские банкиры были спокойны. Убийственное перо, разоблачавшее перед всем миром их скаредность, пошлость и лицемерие, было наконец сломано, а «Мемуары» исчезли в огне.
Однако в неподвижном теле Генриха Гейне заключена была неутомимая, дерзкая душа. Ясное сознание его не меркло.
Часто по узкой крутой лестнице дома, где он жил, поднималась тучная женщина под густой вуалью, в высокой шляпе — верный друг поэта, Аврора Дюдеван, издавшая много книг под псевдонимом Жорж Санд. Гейне оживал, когда она появлялась в его квартирке, заставленной старой мебелью, заваленной книгами и пропахшей микстурами.
Матильда Гейне — порочная, легкомысленная женщина — тотчас же оставляла Генриха наедине с гостьей, весьма довольная тем, что получает возможность заняться своими делами. Эту лукавую женщину больше беспокоила болезнь любимого попугая, нежели мужа. Она не могла понять, чем замечателен Генрих Гейне, и никогда не прочла ничего им написанного. Матильда предпочла бы выйти замуж за владельца лавки или биржевого маклера, но, кроме Гейне, не нашлось никого, кто повел бы ее под венец. Впрочем, по ее мнению, браки заключались на небесах.
Здоровый цвет лица, аппетит, крепкий сон, округлые формы, раскатистый смех, довольство собой и окружающим успокаивали Гейне, который старался не замечать измен, эгоизма и ничтожества этой женщины.
Встречаясь с Жорж Санд, которую Гейне знал в годы своего здоровья и творческого половодья, он как бы снова возвращался к жизни. Парализованный, немощный поэт при виде Жорж Санд выздоравливал. С этой выдающейся женщиной его некогда связывало чувство большее, нежели дружба.
Давно ли Гейне живо взбирался вверх по гористой улочке Пигаль к подножию Монмартра, к дому Авроры, расположенному в глубине большого сада? Казалось, Париж остался далеко позади. Зеленая трава пробивалась сквозь неровный булыжник мостовой, пели птицы, и гудели колокола маленького храма. Навстречу шли в живописных плащах и шляпах художники, поэты со своими подружками, точно выхваченные из романов о богеме. Гейне любил Монпарнас, эту обитель детей искусства. Здесь не было и следа чопорности и блеска Больших бульваров, роскошной улицы Лафит или Сен-Жерменского предместья. В доме Жорж Санд его весело встречали, как желанного гостя, слуги, сын писательницы Морис и пухленькая белокурая дочь ее Соланж. Шопен, кутаясь в плед, поднимался навстречу Гейне с радостным приветствием. В нарядной гостиной с большим портретом предка Жорж Санд, славного своей отвагой в боях и успехом у женщин, полководца Мориса Саксонского, постоянно бывали Бальзак, аббат Ламенне, поэт Мицкевич, известный актер Бокаж, композитор Лист. Гейне, входя в дом Жорж Санд, ощущал прилив душевных сил, как бы творческий порыв. Начинался невидимый турнир, когда под взглядом мечтательных темных глаз хозяйки соревновались в метком слове, глубокой мысли, ярком сравнении ее друзья. В этом пиру разума принимала участие и сама Жорж Санд. Молчаливый Шопен вносил свою лепту, усаживаясь за рояль. Здесь впервые зазвучали некоторые из его бессмертных прелюдов, мазурок. В пылких спорах и дружеских беседах зарождалось немало выдающихся творческих замыслов.
Бальзак увлеченно рассказывал о России и Италии, Бокаж читал монологи Мольера, аббат Ламенне ровным голосом, не смущаясь шутками Гейне, проповедовал вору в разумного, нм созданного бога и свободу личности. Мицкевич со слезами на глазах декламировал отрывки из своей бессмертной поэмы «Дзяды». Доходила очередь до Гейне. Превосходный рассказчик и острослов, он умел быть трогательно лиричным и увлекать сердца нежной, ласкающей поэзией.
И теперь, когда перед ним появлялась Жорж Санд, она мгновенно как бы переносила его, умирающего, в беззаботно счастливое прошлое. Мысли снова набегали, опережая одна другую, и меткие слова, полные то разрушительного, то созидательного юмора, сыпались с уст воскресавшего Гейне. В тусклых глазах его зажигался вновь огонь, и веки не походили больше на два опавших лепестка.
Жорж Санд, прозванная в Париже «женщиной с сумрачными глазами», отвечала добродушным, веселым смехом на каждую шутку умирающего. Природа дала ей прекрасную улыбку, молодившую и украшавшую большое смуглое лицо с отяжелевшим подбородком. Гейне все в ней нравилось — и иссиня-черные густые волосы, рассыпавшиеся по плечам, и умные глубокие глаза, смотревшие прямо в лицо людям, никогда но боявшиеся опасности и упорно искавшие правду в любви, жизни и смерти.
Писательница обычно рассказывала Гейне об их общих друзьях.
— Бальзак пишет лихорадочно,— говорила она низким голосом, ласковым и красивым.— Я боюсь за него. Мне кажется, он очень болен.
Гейне с сомнением качал головой.
— Вы ошибаетесь, Аврора. С его здоровьем можно прожить еще полсотни лет. Этот талантливейший толстяк очень крепок.
— Конечно, его талант молод. Писатель не может состариться, иначе он станет бесплодной смоковницей. Но Бальзак, несомненно, очень болен. Он отекает, как стеариновая свеча. Его губит не только переутомление — он работает днем и ночью,— но и госпожа Ганская! Эта полячка красива столько же, сколь бездушна и коварна. Она не ценит гения Бальзака и его любви.
— Разве она не собирается выйти за него замуж? — спросил Гейне однажды у Жорж Санд, когда снова зашел разговор о Ганской.
— Да, собирается. Но я опасаюсь, что она скоро станет его вдовой.
Разговор зашел о Мериме, чей строгий талант завоевал признание, о Стендале, чьи книги не имели успеха, о смелых стихах Гюго.
Вдруг в прихожей раздался громкий мужской голос, и следом за улыбчивой, нарядной Матильдой в комнату, где лежал больной Гейне, вошел Маркс.
Он несколько смутился, увидев незнакомую пожилую женщину в коричневом скромном платье. Маленький рот, крупный породистый нос с горбинкой, смелый взгляд тотчас же бросились в глаза Карлу. Он узнал Жорж Санд и поклонился ей сердечно и почтительно.
— Карл, дорогой друг, как я рад тебе! — Гейне хотел приподняться, но едва смог оторвать голову от подушек.
Жорж Санд и Маркс поддержали его. Матильда подложила валик под сутулые бессильные плечи больного.
— Как видишь, женщины все еще носят меня на руках,— пытался острить Гейне.
Карл знал от Энгельса о безнадежном положении поэта. Однако вид Гейне, которого несколько лет назад Маркс оставил сравнительно бодрым, потряс его. Он не представлял себе, как далеко зашли разрушения в этом хрупком теле. Глубокое сострадание охватило чуткое, впечатлительное сердце Маркса, и, пока поэта усаживали в постели, он отошел к окну, чтобы скрыть свое волнение.
— Я ждал тебя, Карл, вместе с женой. Мне хотелось прочесть ей кое-что. Признаюсь, тонкой иронии этой чудесной женщины я немного побаиваюсь. Такого сочетания ума и совершенной красоты, как в ней, я не встречал никогда. Жаль, что, создав Женни, природа тотчас же разбила уникальную форму, как скульптор, который хочет, чтобы его произведение не повторялось больше. И все же сегодня у меня истинно праздник,— продолжал Гейне оживленно.— Возле меня два лучших друга. Хорошо с вами. Но, быть может, еще одна женщина — смерть — уже идет ко мне.
— Читайте Дюма,— нахмурилась Жорж Санд,— Его книги лечат нервы лучше всех лекарств. Я это испытала на себе. Если же не подействует, я привезу вам доброго Ламенне. Он тоже лекарство.
— О нет, прошу вас, избавьте меня от этого попа. Я предпочитаю атеизм доктора Маркса,— по крайней мере, хоть на том свете мне не будут угрожать черти. Да, кстати, знаете ли вы, дорогая Аврора, что свою книгу о Прудоне Маркс заканчивает вашими словами: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса».
— Я много слышала о «Нищете философии» доктора Маркса, но еще не видала этой книги. Мне очень хотелось бы ее прочесть, тем более что Прудон и его теории кажутся мне неубедительными,— сказала Жорж Санд.
— Я с удовольствием преподнесу вам свою новую книгу. Но боюсь, что она утомит вас...
Гейне живо прервал Маркса:
— Нет, нет, не верьте ему, Аврора; это блестящее сочинение не только по мыслям, но и по стилю. Никогда не следует ничего откладывать. У меня две твои книги, Карл. Располагай одной из них.
Карл с готовностью встал, подошел к рабочему столу Гейне, надписал книгу и подал ее Жорж Санд.
Аврора Дюдеван, дружески улыбаясь автору, прочла скромную надпись: «Госпоже Жорж Санд. Карл Маркс. 1848 г.».
— Благодарю вас, доктор Маркс. Философия, конечно, привилегия немцев. Французы слишком порывисты, чтобы терпеливо искать смысл жизни. Впрочем, у нас и нет времени для большой философии, мы все время бунтуем...
— Скажите, Аврора, это верно, что вас выдвигают кандидатом в Национальное собрание? — перебил писательницу Гейне.— Вы, несомненно, получите больше голосов, нежели все Ламартины, Ледрю-Роллены и прочие Луи Бланы.
— Да, но я решительно отвергаю все попытки разных лиц вовлечь меня в политическую игру. Мое место — Ноган. Там, в тиши долин и лесов, я сделаю гораздо больше полезного, чем в суете сует, называемой в наши дни политикой...
Жорж Санд начала прощаться. Она осторожно обняла Гейне и, крепко, по-дружески пожав руку Марксу, еще раз поблагодарила его за книгу. У двери она обернулась, чтобы снова сказать несколько ободряющих слов больному поэту. Проводить ее вышла Матильда, не принимавшая участия в разговоре.
Карл и Генрих остались одни. Лицо поэта потемнело, он глубоко погрузился в подушки и полузакрыл глаза. На мгновение Карлу показалось, что Гейне скончался. Он обеспокоенно прикоснулся к руке больного, она была потная и теплая.
— Я жив, жив еще,— углом рта попытался улыбнуться Гейне. Болезнь сделала его необыкновенно чувствительным и восприимчивым. — И кроме того, у меня большие неприятности, дружище! Я давно хотел тебе сказать о денежной помощи от...
— Гизо...— прервал его Карл настороженно и тут же пожалел о том, что проговорился: Гейне вздрогнул, еще больше осунулся. Судороги прошли по его лицу.
— Так ты уже слышал? Негодяи пытаются оговорить меня, объявляют платным агентом этого человека.
— Но я убежден, что это не так. Главное для тебя — сохранять спокойствие,— строго потребовал Карл.
— Маркс, веришь ли ты мне? Или успокаиваешь, считая приговоренным к смерти? Мне не надо сострадания ни от кого, даже от тебя. Я не подлец, моя совесть чиста в этом деле. Однако моя честь в руках первого попавшегося корреспондента. Я не хочу, чтобы бульварные газеты стали моим трибуналом.— Гейне снова попытался приподняться, глаза его широко открылись.— Меня может судить только суд присяжных истории литературы, и никто другой. Пособие, которое я действительно получал от министерства Гизо, не было никогда данью, это была милостыня. Я не боюсь называть вещи своими именами.
Маркс сидел, подперев рукой большую красивую голову. Четко очерченные брови его скорбно приподнялись.
— Как давно начал ты получать эту злосчастную пенсию и почему именно обратился за ней к Гизо? — тихо и строго спросил он поэта.
— Я голодал и был подлинно на краю бездны. Декретом бундестага меня, как запевалу «Молодой Германии», решили погубить. Не только на все написанное мною, но и на будущие сочинения был наложен запрет в Германии. Меня лишали всякого заработка по произволу, без следствия, суда и приговора.
— Но почему ты получал это пособие Гизо тайно? — снова задал вопрос Маркс, не поднимая глаз на Гейне.
— Мне платили пособие через кассу министерства иностранных дел. Из пенсионного фонда, который не подлежал общественному контролю. Я не задавался вопросом, удобно ли, чтобы мне платили из этой кассы, а не из другой. Меня не могли поддерживать открыто. Я был бельмом на глазу немецких посольств. Ты знаешь, как часто мои королевско-прусские враги надоедали французскому правительству, настаивая на моей высылке.
Карл встал и принялся шагать из угла в угол небольшой, заставленной мебелью комнаты с полузатянутыми, чтобы свет не раздражал больные глаза поэта, шторами. На его лице застыло выражение скорби, недоумения и жалости. Если бы Гейне был здоров, Карл сказал бы ему все, что думал об этом. Не было оправдания тому, что Гейне брал подачку королевского правительства. Но поэт был при смерти. Маркс молчал.
Болезненно впечатлительный Гейне следил за каждым его движением. Худые, серые руки поэта с длинными узловатыми пальцами конвульсивно перебирали края пледа. Карл заметил эти страшные, неспокойные руки и мгновенно овладел собой.
Лицо Гейне как-то посинело от прилившей к щекам крови. Он схватил руку Карла и благодарно пожал ее.
— Гизо отказывался выслать меня из Парижа. Да, он платил мне пособие регулярно. Но никогда, запомни,— мне ведь недолго жить, а перед смертью ложь бесцельна,— никогда он не потребовал от меня за это ни малейшей услуги, ничего, что делает человека подлецом. Он ценил мой поэтический дар, и роль мецената ему льстила. Вскоре после того, как он принял портфель министра иностранных дел, я нанес ему визит, чтобы поблагодарить за спасение от нищеты. В разговоре я выразил удивление, что он помогает мне, человеку, чьи радикальные взгляды совершенно противоположны его воззрениям. Гизо ответил мне с меланхолической благосклонностью: «Я не тот человек, который способен отказать в куске хлеба поэту, живущему в изгнании». Затем мы говорили о поэзии, и он, оказалось, знал многие мои стихи наизусть. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я виделся и говорил с ним.
Гейне откинулся на подушку и закрыл глаза. Он был очень утомлен и слаб. Пот покрыл лицо поэта. Руки неподвижно вытянулись на одеяле. Маркс молчал. Внезапно гримаса, как судорога, искривила лицо Гейне. Он мучительно застонал.
— Я ненавижу королей и всю жизнь воевал с ними. И что же? Теперь я между двух огней. Друзья и враги могут поверить тому, что я продал свое перо французскому королевскому правительству.
— Я убежден, что нет ни одного написанного тобой слова, позорящего тебя и подтверждающего это,— пытался успокоить Маркс отчаявшегося поэта. Но тот, казалось, ничего не слыхал.
— Гиены будут визжать, считая меня политическим трупом. Я никогда, слышишь, Маркс, никогда не был угодливым писателем, который берет плату не только за навязанные ему кем-либо мысли, но и за молчание. Этому порука — вся моя жизнь. Не низменные расчеты, а высшие интересы побуждают меня сражаться за свою честь. Я никого и ничего не боюсь. И повторяю: моим судом да будет история. Все отрекутся от меня, когда будут опубликованы архивы Гизо. Но ты, Маркс, зная истину, не отвернешься от меня.
Маркс ничего не ответил.
Разговор о положении во Франции и Германии, о действиях Гервега, Борнштедта и Бакунина, разговор, который был очень важен для Маркса, не мог уже в этот раз состояться. Гейне был сражен не только своей болезнью, но и тем, что многие уже знали о получении им пенсии от Гизо. Карл вышел от Гейне крайне подавленный. В передней он услышал игривый, возбужденный смех Матильды. Ей вторил какой-то мужчина. Карл нахмурился.
А она все танцевала, Пила вино и хохотала, —вспомнил он стихи Гейне, думая с отвращением о его жене.
Нетерпеливо ждал Маркс приезда Энгельса в Париж. Была уже половина марта, а дела все еще задерживали Фридриха в Брюсселе. Карл и Женни, вынужденные вместе с верной Ленхен и тремя маленькими детьми спешно покинуть Бельгию, не смогли захватить с собой даже самого необходимого. Фридрих Энгельс привел в порядок все их дела, собрал, чтобы отвезти в Париж, скромное имущество, расплатился с долгами.
Друзья обменивались частыми подробными письмами. Маркс писал Фридриху: «Здесь буржуазия становится опять отвратительно наглою и реакционной, но ей еще влетит».
Одновременно он сообщал о том, что Борнштедт будет исключен из союза. Двумя днями позже Энгельс, следивший по газетам за всем происходящим во Франции, ответил:
«Очень хорошо, что вы выбрасываете Борнштедта. Этот субъект оказался таким ненадежным, что его, действительно, необходимо исключить из Союза...
Ламартин становится с каждым днем все более и более отвратительным... Во всех своих речах этот человек обращается только к буржуа и старается их успокоить. Прокламация временного правительства по поводу выборов тоже целиком обращена к буржуа, для их успокоения. Неудивительно, что эти подлецы наглеют».
В эти же дни Яков Николаевич Толстой не знал ни одного часа отдыха. Он с раннего утра до полуночи был занят: принимал доверенных людей, посещал министерства и салоны, зорко приглядываясь ко всему происходящему и не пропуская ни одного слова, если оно касалось внутренней или внешней политики новой французской республики. Поздней ночью, запершись в кабинете и подкрепляясь вином, он писал обо всем виденном и слышанном пространные донесения в Петербург. Их читал сам Николай I, так как Яков Николаевич заслужил славу человека, весьма знающего Францию и всякие бунтарские идеи. Ему особо покровительствовал приближенный государя, граф Орлов.
Ежедневно по утрам к Толстому являлся его агент и помощник Анри Мюрже, которого он некогда обучил правописанию и сделал своим переписчиком. Это был невысокий, чрезвычайно благообразный, подвижной и жадный, как воробей, молодой человек с живыми птичьими глазами, удивительно быстро менявшими выражение. Анри Мюрже выглядел то угодливым и смущенным, то дерзким или рассеянным. Мелкие расплывчатые черты ого лица совершенно не запоминались, что и было наиболее примечательным в наружности молодого француза. Мюрже был сыном привратника того дома, где много лет проживал Толстой.
Знаток людей, Яков Николаевич приметил ничем не замечательного юношу, бесшумно двигавшегося по лестнице. Шустрые глаза Анри обнаруживали его наблюдательность и хитрость. Он умел замечать каждую мелочь и молчать. Толстой приласкал сына портье, занялся его образованием и выучил не только каллиграфически переписывать его рукописи, но и собирать нужные ему сведения с легкостью и быстротой воробья, на которого тот был так похож. Пронырливый Мюрже старательно выполнял поручения Толстого и получал по сто франков в месяц. Он сумел завязать нужные русскому резиденту знакомства, втерся в доверие к Виктору Гюго и другим литературным знаменитостям и с их помощью сразу же после февральской революции устроился работать в двух редакциях газет. Это было очень нужно Толстому.
Ровно в девять часов крепостной лакей Иван, прозванный в доме «луной всмятку», поднимал Якова Николаевича настойчивым: «Пора, барин!»
Покуда Иван одевал и обувал своего господина, Толстой то жаловался ему на нездоровье и старость, то принимался читать различные вирши, как он называл стихотворения. С годами Иван выучил наизусть оды Державина и особенно стансы, посвященные Якову Николаевичу Толстому Пушкиным.
— Тебе, наверно, невдомек, что я был некогда стоиком, аскетом,— говорил Толстой, глядя на старого лакея злыми маленькими глазами.— Что уставился на меня? Я не икона. Ты поди и не слыхивал, что это за слова такие замысловатые. Вот с кем приходится старость коротать. Вон отсюда, старое полено! — внезапно свирепея, кричал Яков Николаевич.
С годами характер графа становился все более гнетущим, деспотическим. Оставаясь один за завтраком в ожидании прихода Анри Мюрже, Толстой любил перечитывать записные тетради в сафьяновом переплете с золотыми инициалами или рассматривать свои изображения. В комнате было много дагерротипов и портрет, писанный маслом. В углу на цоколе стоял бюст Якова Николаевича в псевдоримском стиле.
«Да-с, настоящий патриций,— думал Толстой, тонким батистовым платком стирая пыль с мраморной кудрявой головы, полного лица и атлетически крепкой шеи.— Пушкин звал меня философом. Я был, пожалуй, самым воздержанным из эпикурейцев, собиравшихся под зеленой лампой».
Но вот Иван докладывал о приходе Анри Мюрже. Молодой француз входил бочком, выставив вперед правое плечо, хотя огромная дверь была открыта настежь.
«Эко ходит,— думал Толстой,— в любую щель протиснется. Ловок. Очень полезный и, надо думать, преданный мне молодец».
Мюрже между тем несколько раз кланялся — до тех пор, пока Яков Николаевич не предлагал ему позавтракать вместе.
— Как Николетта? — спрашивал он, обычно игриво рассмеявшись.
Анри притворялся пристыженным.
— Не смущайся, мой мальчик. Поэт, которого ты не знаешь, Пушкин, один из моих друзей, посвятил мне такие строки...
— Месье Пушкин сейчас в Париже? — спросил Мюрже.
Толстой не ответил на этот вопрос и начал читать стансы, произвольно переставляя четверостишия!
До капли наслажденье пей, Живи беспечен, равнодушен! Мгновенью жизни будь послушен! Будь молод в юности твоей. Ах, младость не приходит вновь! Зови же сладкое безделье, И легкокрылую любовь, И легкокрылое похмелье.— Вы, месье Толстой, верно, были донжуаном и бонвиваном.
— Увы, нет. Выслушай начало стансов Пушкина, и ты поймешь, как много потерял я сладких мгновений в своей юности. Не повторяй моих ошибок! «Философ ранний, ты бежишь... пиров и наслаждений жизни...» Вот каков я был.
— Что же он еще сочинил? — угодливо спросил Анри Мюря?е, доедая пулярку, покуда Толстой вспоминал молодость п обращенные к нему стихи Пушкина:
Поверь, мой друг, она придет, Пора унылых сожалений, Холодной истины забот И бесполезных размышлений.— Пришла эта пора! — угрюмо сказал граф и вдруг, подобрав углы губ, добавил: — Не будем терять времени в бесполезных размышлениях. Нет, я — в трудах. Я нужен и ни о чем не сожалею. Что нового, мой мальчик?
— Я видел сына редактора газеты «Друг народа» господина Распайля-младшего. Болтунишка, чтобы похвалиться своей осведомленностью, готов выдать все секреты, какие только удается ему подслушать. Он сообщил мне множество фактов о том, что члены Временного правительства уже ссорятся между собой и полны ненависти друг к другу.
— Отлично, раздоры в правительстве всегда опасны для страны и выгодны ее врагам. Я ждал раскола, но, признаюсь, не так скоро. Не прошел еще и медовый месяц. Что за причина разлада?
— Спор о том, как устранить безработицу, и вопросы организации труда. Французский демос требует работы и открытия мастерских немедленно.
— Ого, ты знаешь греческий. Почему же ты так напыщенно зовешь демосом чернь?
— Слово плебс известно тем, к кому оно относится, я и отыскал в греческом словаре подобное же.
— Ладно, ладно. Что дальше?
— Скандалом сопровождалось принятие декрета, предложенного крайними республиканцами, об уничтожении дворянского звания. Многие республиканцы находят, что это несправедливо и ожесточит аристократов.
— Бог дал нам дворянство и титулы, и он же один, а не люди, властен отобрать их, — сказал Толстой возмущенно.
Мюрже достал из папки секретный циркуляр министра иностранных дел к дипломатическим агентам французской республики. Яков Николаевич жадно схватил важный документ, надел очки и начал внимательно просматривать текст, перечитывая некоторые места:
«...Французская республика не намеревается затевать с кем-либо войну... Она не будет вести никакой революционной пропаганды в соседних странах. Она знает, что устойчивой бывает только та свобода, которая имеет свои собственные корни в жизни данной страны; но она заставит себя уважать и заслужит симпатии светом своих идей, картиной порядка и мира, которую она надеется дать человечеству...»
Толстой улыбнулся. Лицо его от этого стало еще более старым и хищным.
— Никто из просвещенных монархов в это не поверит, потому что во Временном правительстве собрались лебедь, рак да щука. Невозможно понять, кто же из этих господ действительно управляет Францией. Временное правительство — это сущая окрошка из крайних террористов и самых умеренных буржуа. Ламартин, сидя на нескольких стульях, вещает, как птица феникс. Одно несомненно: он хочет быть президентом республики, хотя еще вчера сочинял оды Луи-Филиппу. Кем же, однако, они хотят казаться перед Европою?
Анри взял циркуляр и стал читать его вслух:
— «Республика произнесла три слова, раскрывшие ее душу и призвавшие к ее колыбели благословение бога и народов: Свобода, Равенство, Братство... Если Франция обладает сознанием выпавшей на ее долю в наш век освободительной и цивилизаторской миссии, тогда для нее не существует слова, которое обозначает войну. Если Европа благоразумна и справедлива, у нее нет слова, которое не означало бы мира».
Толстой разгневался.
— Довольно, все ясно! Это замаскированный язык якобинцев. Того и гляди, появится во Франции какой-нибудь новоявленный Марат. Впрочем, Огюст Бланки — тот же неистовый трибун черни. А Ламартин и Ледрю-Роллен — эти трусливые краснобаи — нам не страшны. Однако их демагогия приводит к тому, что чернь может снова попытаться, как в тысяча семьсот девяносто третьем году, захватить власть. Что ж, инженер Гильотен придумал когда-то «бритву», чтобы отсекать головы баранам. Есть еще бог и русский царь! Наша метла не раз уже чистила французские конюшни.
Мюрже льстиво улыбался.
— Ну, что еще нового? — грубо буркнул раздраженный Толстой.
— Есть и другие происшествия. На днях и ратуше направились торговцы и капиталисты. Тысячи три, не меньше, пошли прямо с Биржи и требовали от правительства отсрочки платежей. Грозились, если им откажут, закрыть предприятия, выбросить рабочих на мостовую и лишить их куска хлеба.
— Я уже слыхал об этом бунте черных сюртуков,— ответил Яков Николаевич.
— Это, конечно, мелочь,— оживился Мюрже. А вот шествие благородных граждан, к которому присоединились кой-какие отряды Национальной гвардии, было куда более импозантно. «Долой коммунистов!» — кричали демонстранты и требовали вернуть им знаки отличия и дворянское звание.
— Слыхал и об этом. Там было много женщин. Не люблю я бабьего визга, даже если он направлен против коммунистов.
— Да, это была манифестация дамских муфт и меховых гвардейских шапок. Они ворвались в женский республиканский клуб и затеяли пресмешную потасовку.
— В этом есть кое-что отрадное: среди национальных гвардейцев нашлись смелые сторонники порядка. Надеюсь, мой друг Мюрже, что здравомыслящие члены правительства учтут это и сумеют использовать их в борьбе с чернью. А канальи с окраин требуют повышения заработной платы и короткого рабочего дня,— добавил Яков Николаевич и быстро записал что-то в свою тетрадь. Затем он поднялся, давая этим знать, что аудиенция окончена.
Молодой француз стоял, ожидая дальнейших распоряжений.
— Изучайте настроения литераторов и влиятельных лиц. Впрочем, во время революции силой являются не они, а политические деятели. Постарайтесь познакомиться с Луи Бланом и особенно с этим помешавшимся на фанатическом коммунизме и терроре Огюстом Бланки. По-видимому, сей политический каторжник не успокоится, пока его снова не закуют в кандалы.
— И не обезглавят,— добавил Мюрже.
— Доживем и до этого. Прощайте, мой верный юный ДРУГ.
До вечера, когда Яков Николаевич должен был собираться на прием к министру Ламартину, он работал в своем кабинете. Слугам было запрещено тревожить барина. Посетителям отвечали, что его нет дома.
На листы веленевой бумаги Толстой списывал с черновиков составленный им в течение предыдущих дней обзор французской армии. Он был убежден в том, что революция может быть подавлена только извне и только русским самодержавием, а собранные о французской армии и ее дислокации сведения подтверждали неоднократно высказанную им мысль, что момент для вторжения благоприятен. И действительно, все его агенты и информаторы доносили, что войска Франции сосредоточены главным образом в центре страны, а северная и восточная границы республики никак не защищены.
Крупными четкими буквами он писал, что состоящий на жаловании состав армии исчисляется в 548 тысяч человек.
Толстому удалось собрать не только официальные данные о составе французской армии, но и представить в Петербург разбор боеспособности частей и отчет об умонастроениях офицеров и солдат.
С большим знанием того, о чем писал, Толстой отмечал сильные и слабые стороны французской армии, указывал месторасположение и оснащение частей.
Донесение было столь секретным, сведения такой высокой государственной важности, что даже Иван не смел входить в кабинет графа. Через каждые три часа лакей стучал в его дверь со словами «Пожалуйте, барин, кофий», и Толстой с порога забирал у него чашку и снова запирался.
Он писал!
«Один из представителей, член военной комиссии собрания, аккуратно посещающий ее заседания, и другой представитель, г. Ларабит, человек с некоторыми странностями, но добросовестно и успешно занимающийся вопросами, относящимися к армии, дали мне указания относительно действительного наличного состава военных сил Франции; указания эти отличаются достоверностью.
Прикомандированный к военному министерству офицер генерального штаба, сын бывшего генерала времен Империи и Реставрации, подтвердил мне и до некоторой степени разъяснил с большей точностью эти указания. Из них явствует, что, если принять во внимание отсутствующих по болезни, исключить департаментскую жандармерию, роты ветеранов и роты дисциплинарные, а также обучаемых рекрутов, которые в случае войны не могли бы быть использованы в походе,— хорошая, боеспособная часть армии может исчисляться в 380—385 тысяч человек.
Парижский гарнизон состоит из двадцати армейских пехотных полков, девяти полков легкой пехоты, двух полков кавалерии, одного полка артиллерии.
Поражает прежде всего количество войск всех родов оружия, собранных в Париже или сконцентрированных и окрестностях столицы. Войска эти, включая и Национальную гвардию, представляют наличный состав в 85 тысяч человек, которых можно собрать в течение пяти или шести часов.
На границах войск так мало, что при настоящем положении они не могли бы оказать серьезного сопротивления нападению.
В случае войны в Италии правительство, двинув Альпийскую армию, было бы вынуждено заменить стоящую в Лионе дивизию корпусом в 18 или 20 тысяч человек. Рабочее население Лиона — одно из самых опасных в Европе. Об этом свидетельствует выдержанная им в течение семнадцати лет вооруженная борьба. Для того чтобы сдерживать это зараженное коммунистическими доктринами, буйное и воинственное население, королевское правительство было вынуждено окружить Лион отдельными фортами прежде, чем применить ту же самую меру к Парижу. Эта рабочая масса только что проявила одушевляющее ее настроение, дружно голосовав за Распайля, точно так же как и парижские коммунисты. За Распайля было подано более 30 тысяч голосов — людьми, из которых каждый имеет ружье.
Разрушающая общество анархия проникла в армию, в последней имеются сторонники самых противоречивых принципов...
Создание мобильной Национальной гвардии было одним из первых действий Временного правительства. В этот день, вернувшись к себе очень поздно вечером, г. Ламартин сообщил находившимся в его гостиной лицам об истинных мотивах, вызывающих решение правительства принять соответствующий декрет. Привожу дословно его слова: «Мы решили, что будет сформировано 24 батальона мобильной Национальной гвардии, по 700 человек каждый, и что желающие поступить в ее ряды будут получать по 30 су в день. Через два часа уже было значительное число записавшихся. На них мы можем положиться, и если террористы опять сделают на нас нападение, наши «мобильные» встретят их выстрелами».
Эти слова вполне объясняют мысль, которой руководилось правительство ратуши. Едва оно заняло свое место, как сейчас же увидело, что власть у него оспаривается теми, кто взял красный флаг как эмблему своих доктрин. Ламартин ораторствовал перед чернью, которая вопила на площади Грев, но так как его речи не всегда могли иметь успех, а к тому же можно было легко предвидеть, что требования самодержавного народа из предместий будут все возрастать, Временному правительству нужно было организовать около себя в целях своей защиты преданное ему войско.
...Мобильная гвардия набиралась среди праздного люда, которым изобилует Париж; туда приняли также и бродяг, и очень молодых людей, желавших ускользнуть от надзора семьи, и тех погибших детей улицы, которых народ называет тити и гамены. Все кварталы доставили свой контингент, главную же массу батальонов дали предместья. Молодые люди из хороших семей, хорошо воспитанные, иногда знатного рода, вступили тоже в ряды мобильной гвардии, потому ли, что, вступая в ее ряды, они хотели избежать возможных преследований, или, скорее, они хотели смешаться с вооруженным народом с целью руководить движением и настроением умов, когда настанет момент что-либо предпринять...»
Толстой откинулся в кресле. Он устал. Однако не в его привычках было что-либо откладывать. Он достал большой голубой плотный конверт, тщательно проверил его целость, вложил донесение и запечатал его пятью большими сургучными печатями. Затем в ожидании курьера положил пакет в потайной ящик. Он встал, довольный тем, что завершил важное дело, и посмотрел на календарь. Вспомнив что-то, позвал Ивана и велел дать выходной костюм.
Была суббота — приемный день у госпожи Ламартин, Толстой с помощью Ивана облачился в скромный черный длиннополый сюртук. Парикмахер долго приглаживал его жидкие волосы, стараясь придать прическе модную небрежность.
— В Париже,— говорил брадобрей, проведя мокрой щеткой по бороде Якова Николаевича,— господа требуют, чтобы я причесывал их так, как столяров и ткачей. Для этого не нужно ничего, кроме пятерни.— Он выразительно растрепал свои волосы.— Никто с двадцать четвертого февраля больше не завивает шевелюру. Дамы спрятали в шкатулки до лучших времен свои накладные локоны. Парикмахерам грозит безработица.
— Что ж, Луи Блан и его коллеги откроют для вас мастерские,— тая улыбку в уголках опущенных губ, ответил Толстой.
Окончив туалет, он приказал вызвать наемный фаэтон и с неизменной палкой в руке вышел. До Университетской улицы, где жил Ламартин, было далеко. Хмурое небо усугубило дурное настроение графа. Он думал о том, что Франция склонилась над бездной и для спасения ее необходим решительный военный в большом чине. Если бы такой человек нашелся и стал во главе войск, затем двинулся на Париж, предавая все огню и мечу, может быть, ему удалось бы уничтожить ужасное ярмо, каким казалось Толстому господство тех, кого он называл проклятыми якобинцами. А тут еще известие о том, что Вена охвачена революционным мятежом. В Пруссии тоже было неспокойно... Только Россия избегла пока брожения. А что, если...
Толстой гнал от себя тревожные мысли, но страх исподволь мучил его. Иван Гаврилович Головин, русский политический эмигрант и писатель, недавно перешедший в английское подданство, снова опубликовал в газете статью о том, что Яков Николаевич — давнишний провокатор, агент Третьего отделения. Однако ему не поверили. Даже Бакунин выступил в защиту Толстого. Но как знать, что будет дальше? Революция — великая разоблачительница.
Погруженный в невеселые думы, Яков Николаевич не заметил, как экипаж въехал в узкую темную улицу, где находился клуб Парижской коммуны. Из открытых окон доносились шум и аплодисменты. Толстой сошел с фаэтона и направился в переполненное людьми здание. Вход в клуб был свободный. Остановившись у двери, граф сложил ковшиком руку и, приложив ее к уху, принялся вслушиваться в то, что говорил дюжий парень в блузе навыпуск, в холщовых брюках и грубых башмаках. Речь его вызывала бурное одобрение присутствующих.
— Нас обмануло Временное правительство,— услышал Яков Николаевич.— Флокон, Луи Блан и Ледрю-Роллен бессильны помочь рабочим. Огюст Бланки и Барбес не у власти. Мы по-прежнему трудимся по десять — одиннадцать часов в сутки, живем в лачугах, получаем гроши. Я заявляю от имени пролетариев: война капиталу, война дворцам и особнякам, война аристократам, война буржуа!
— Правильно! Говори, говори! — закричали в зале.
— Нужно провести чистку в правительстве, иначе нас, как в тысяча восемьсот тридцатом году, совсем околпачат. Нам снова навяжут короля.
— Но сначала нас всех перебьют,— раздались голоса.
Возбуждение нарастало. Присутствующие подняли кулаки.
— Надо заменить членов правительства,— продолжал, все более повышая голос, оратор.— Выбрать испытанных патриотов, не знающих колебаний. Если с нами не сговорятся подобру, откажемся немедленно от работы — будем бастовать, выйдем на улицу, вооружимся. Нас много, мы сила.
Толстой не стал дальше слушать, вышел, поднял воротник шинели. Его охватило бешенство. Невольно он оглянулся вокруг, выискивая глазами полицейских. Их не было.
— Еще бы,— процедил он сквозь зубы,—чего ждать?! Коссидьер — глава полиции — тоже из подонков общества, как и вся шайка в клубе Коммуны. Он наверняка рьяный сообщник всех вожаков черни.
Толстой свернул на бульвары. Между воротами Сен-Мартен и Сен-Дени он остановился, пораженный движущейся ему навстречу процессией. Нарядно одетые люди с лорнетами и моноклями, в огромных белоснежных галстуках шли по мостовой. Юноша в блестящем мундире с тросточкой в руке нес белоснежное знамя с огромной, золотом вышитой лилией Бурбонов.
— Да здравствует монархия! — кричали демонстранты.— Долой республику!
Толстой с необычной легкостью бросился в проезжавший мимо фиакр и велел кучеру мчаться галопом. Тот безжалостно стегнул лошадей. Обернувшись назад, Яков Николаевич увидел, как из окружающих переулков бежали навстречу легитимистам республиканцы.
— Долой белое знамя! Да сгинут враги народа и тираны! Да здравствует республика!
Начался жестокий рукопашный бой. Когда фиакр сворачивал за угол, Толстой услышал пение «Карманьолы» и, привстав, увидел белые знамена валявшимися на грязной мостовой.
Бледный, как монархический флаг, Яков Николаевич, стараясь унять бушующее сердце, прижал пухлые руки к груди.
— Черт побрал бы всех этих карманьолыциков! — шептал он.— Впору уезжать из этого пекла.— Кровь, отхлынувшая было от головы, вдруг прилила к затылку с пугающей силой. Почувствовав звон в ушах и головокружение, Толстой грузно привалился к спинке сиденья .
«Пора просить у царя и Орлова отставку. Меттерних отошел от дела, настала и моя очередь»,— пронеслось в воспаленном мозгу русского сановника.
Но в этот день ему пришлось пережить еще одно потрясение. С Елисейских полей в сторону Тюильри навстречу фиакру двигались толпы народа, казавшиеся графу несметными. Они шли тесно сомкнутыми рядами к ратуше. Грозные плакаты в их руках призывали Временное правительство одуматься и принять срочные меры к улучшению жизни простого народа. Надев очки, Толстой прочел, что демонстранты требовали покончить с изменниками и умеренными и выполнить обещания, данные труженикам в первые дни революции.
«Свобода печати в продажных руках есть орудие лжи».
«Уничтожьте безработицу, дайте рабочим заработок, достаточный для жизни».
«Укоротите рабочий день. Рабочие изнемогли от непосильного труда».
Народ заполнял тротуары и мостовые. Ехать в экипаже стало невозможно, и Толстой покорно побрел на Университетскую улицу пешком. Никогда, даже во времена Конвента, казалось ему, окрестности. Тюильри не видали такого скопления людей. «Их не менее двухсот тысяч,— прикинул Толстой.— Эти оборванцы расплодились в чудовищном количестве. Они несметны».
Навстречу Толстому непрерывно двигались грозные, как лавина, толпы. Над ними в сером небе колыхались знамена, тысячи флагов, украшенных девизами, патриотическими надписями и эмблемами. Он увидел зеленое полотнище с изображением арфы и надписью: «Ирландия», черно-красно-золотое — немцев и, наконец, ярко-малиновое с рвущимся вверх орлом.
«Поляки!» — встрепенулся Толстой и пробормотал:
— Вот подлые твари! Необходимо убедить царя в том, что они на все способны. Враги, неуемные, стоглавые, как гидра. Душишь одну — вырастает сотня.
Сделав большой крюк, отдаленными переулками добрался наконец Яков Николаевич до дома министра иностранных дел. Ламартин внушал Толстому одно только презрение. Но, поднимаясь по широкой лестнице, он старался придать своему лицу мягкое и даже льстивое выражение.
«Что этот болтунишка, изменивший королю и богу, говорил на днях? Надо бы вспомнить для разговора. Ах, да, что-то вроде: «Я посвятил себя общему делу,— умирают лишь однажды». Не бог весть как радостно смотрит господин министр на свое будущее, но сказано пышно».
Молоденькая служанка взяла у Толстого шинель и указала на одну из дверей, ведущих из прихожей в жилые покои.
«А где же лакей, чтоб доложить?» — чуть не спросил Яков Николаевич, но, сообразив, что этикет ныне не в моде и можно входить без доклада, с неудовольствием открыл дверь в салон госпожи Ламартин. Это была большая комната, заставленная столиками, креслами, турецкими диванами, жардиньерками с цветами и этажерками с книгами и газетами. Стены были сплошь увешаны свежими литографиями, изображавшими народные шествия и статую Свободы, карандашными и акварельными портретами самого Ламартина с гордо запрокинутой головой. Люстры не были зажжены, и только свечи в канделябрах скупо освещали комнату.
Госпожа Ламартин, женщина неопределенного возраста и внешности, в пышном платье цвета бордоского вина, кивнув приветливо Толстому, снова обратилась к нескольким дамам, сидевшим вокруг нее. Все они курили, громко смеялись, перебивали друг друга и вели себя, по мнению Толстого, крайне бесцеремонно и даже неприлично. Он терпеть не мог женщин, которые чувствовали себя равными с мужчинами.
Было в салоне также несколько журналистов, споривших о том, кто будет президентом. Какой-то юноша о взлохмаченной прической сообщил Якову Николаевичу, что пишет стихи, и тут же начал читать их приглушенным голосом. Стихи начинались и кончались словами) «Свобода, равенство и братство».
Толстой, найдя их про себя бездарными, все же принялся расхваливать поэта.
Госпожа Ламартин сказала, что министр опаздывает, и, меланхолически закатив глаза, добавила:
— Мой муж жертвует собой ради блага родины. Он укротил, как мог, ураган опасных народных страстей. Но вчера он сказал мне, что заготовил завещание. Увы, завтрашний день в тумане. Каждая минута его жизни — подвиг и может оказаться последней...
— Какой героизм! - произнес глухо поэт.
— Достойное служение долгу,— добавил кто-то из журналистов.
— К несчастью, поэзия первых дней свободы сменилась жестокой прозой,— добавила госпожа Ламартин, опустив глаза.
В салоне воцарилось приличествующее сказанному молчание. В это время в комнату вошли двое мужчин. В высоком сухощавом человеке с презрительным взглядом и узким ртом Толстой узнал Ламартина. Коренастого военного он видел в первый раз.
— Разреши представить тебе,— обратился Ламартин к жене, а затем к гостям,— и всем вам надежду правительства — генерала Эжена Кавеньяка.
Услыхав это, журналисты всполошились.
— Скажите, гражданин Кавеньяк, возьмете ли вы портфель военного министра? — наперебой стали спрашивать они алжирского генерал-губернатора.
— Положение поенного министра — одно из самых ложных в современной Франции,— уклончиво ответил Кавеньяк.— На словах он располагает всей армией, в действительности у него нет под рукой ни одного батальона. Что сможет он сделать в случае беспорядков и волнений, которые грозят со всех сторон нашей родине? Бонапартисты, карлисты, республиканцы, наконец, бешеные коммунисты готовы схватиться не на живот, а на смерть друг с другом. Если Временное правительство вернет войска в Париж и гарнизон столицы будет достаточно силен, можно будет решать вопрос, который вас интересует. Я человек военный. Не рассуждать, а действовать, во имя порядка и процветания нации — мое правило. Мои зуавы, может быть, еще понадобятся. А пока пусть безобразничают горе-командиры Национальной гвардии и префект полиции Коссидьер.
Одна из дам, услыхав имя Коссидьера, живо сказала:
— Этот опасный демагог носит за поясом два пистолета.
— Вы правы,— заметил Ламартин,— на днях в таком виде он явился ко мне на прием. Я спросил гражданина Коссидьера: «Зачем вы носите при себе пистолеты? Разве вы боитесь за себя?» — «Нет,— ответил Коссидьер,— но я хочу быть наготове, чтобы ответить тому, кто окажется достаточно смелым и потребует моей отставки».— «Никто не думает требовать ее от вас, но когда мы захотим вас сместить, то ношлем отрешение от должности по почте»,— «Я этого не боюсь,— сказал начальник полиции,— ни один почтальон не осмелится мне его принести, а если бы такой нашелся, он был бы так встречен, что уж другой не посмел бы явиться». Как вам нравится такой разговор, гражданин Кавеньяк?
— Значит, я более чем прав,— ответил надменно генерал.— Мои алжирские войска действительно нужны в Париже.
— Ужасно! — патетически произнесла госпожа Ламартин,— День ото дня жизнь становится невыносимее. Мэр Парижа восстановил систему гражданских карточек, какие были в первую революцию. Я, жена министра, не могу войти в ратушу к мужу, не предъявив такой карточки. Еще одна пародия на тысяча семьсот девяносто третий год. Какие-то оборванцы часовые останавливают меня на лестнице раз десять подряд и кричат: «Твоя карточка, гражданка!» Я показываю ее всюду: в кулуарах, в залах, вплоть до самого кабинета. А бываю я у мужа зачастую лишь несколько минут в неделю. Он так занят, что ночует в ратуше. Представьте, на днях, когда я поднималась по лестнице, какой-то часовой в отрепьях крикнул снизу другому: «Пропустите временную жену Ламартина».
Все весело рассмеялись.
— Итак, никто из видных генералов не желает принять портфель военного министра? — спросил Толстой.
— Да, и пока профессор Араго, едва различающий виды оружия, вынужден руководить военным министерством.
— Сегодня был бурный день в столице,— снова начал Толстой, обратившись к Ламартину.— Не думаете ли вы, что красные повторят девяносто третий год, с той только разницей, что победят, а не погибнут под ножом заслуженной ими гильотины? Каковы ваши взгляды на этот счет, господин министр?
— Убеждения политика подобны волнам, гонимым ветром,— чуть улыбнулся Ламартин.— Если они несут его к берегу, он может порой сесть на мель, но только на время. Движение вод снова вынесет его на простор океана.
— Однако вы скептик!
— Я больше нежели скептик, в политике я атеист.
— Это свойство важно также и для дипломата.
— Ваш царь — последовательнейший из людей.
— Да, надеюсь, среди разбушевавшейся революционной стихии великая Россия будет единственным оплотом порядка!
Толстой склонил голову. Когда он поднял ее, на лице его снова застыло благоговейное восхищение Ламартином, которое с первой минуты пленило честолюбивого и самодовольного министра.
— Но как все-таки удается вам ладить с крайними демагогами, этими красными бешеными, которые готовы взорвать ратушу и, может быть, даже обезглавить кое-кого из членов Временного правительства? — спросил, немного помолчав, вкрадчиво Толстой.
— О, это — отношения между громоотводом и электрической искрой,— очень громко произнес Ламартин.
Журналисты, все как один, вписали это удивительное признание в свои записные книжки.
Генерал Кавеньяк, сославшись на скорый отъезд в Алжир, сделал общий поклон и покинул дом министра иностранных дел.
— Скажите, вы не знаете, кто такой Кавеньяк? Я имею в виду его происхождение,— спросил Толстой поэта, который, помимо того что писал стихи, имел бакалейную лавку.
— Извольте, я кое-что знаю. Ему уже сорок шесть лет, хотя он, как все военные, выглядит моложе. У него репутация весьма посредственного командира. Более того, его считают трусом. Скажу вам по секрету, когда узнали, что он назначен генерал-губернатором Алжира, какие-то шутники из города Орана прислали ему ящик, в котором лежало женское платье и веретено. О нем говорят, что это корова в львиной шкуре, хотя он сын террориста и брат заговорщика. Вы, верно, помните покойного Годфруа Кавеньяка? Он умер в сорок пятом году. Благодаря имени отца и брата, республиканца, боровшегося с Карлом Десятым и Луи-Филиппом, генерал Кавеньяк приобрел доверие нынешнего правительства.
— Мне кажется, однако, этот Кавеньяк еще покажет себя скорее львом в обличье коровы. Я не заметил, чтобы он сочувствовал красным,— тихо произнес Толстой.
Госпожа Ламартин пригласила гостей в столовую.
— Субботний вечер,— говорила она радостно,— и воскресное утро — единственные часы, когда муж находится дома.
За скромным ужином завязалась общая беседа, и Ламартин принялся рассказывать о тех заботах, которые постоянно причиняют ему иноземцы-изгнанники. Толстой тотчас же завел разговор о поляках.
— Они, как и ирландцы и немцы, очень назойливы,— согласился хозяин дома и сообщил, что утром ему пришлось принять их депутацию. Поляки требовали, чтобы республиканское правительство дало им средства для эмиграции из Франции и проезда через Германию в Польшу, а также снабдило их оружием из государственного арсенала.— Я ответил,— сказал Ламартин, глядя прямо в лицо Толстому,— что мы дадим им денег и не станем вмешиваться в то, на что они их потратят. Но снабдить их оружием не можем, так как это противоречило бы нашему манифесту о невмешательстве в дела других государств. Будьте уверены, я не отступил от своего решения даже тогда, когда они разразились бранью и утверждали, что я продолжаю политику унижения народов, которая уже восемнадцать лет позорит Францию. Эти буяны грозили мне,— гневно воскликнул Ламартин,— что, если правительство республики не поступит должным образом, они присоединятся к тем, кого считают честными патриотами, кто смотрит на поляков как на братьев, и свергнут пас.
Вспомнив угрозу поляков, Ламартин еще более повысил голос и встал, раздраженно жестикулируя. Однако все это было напускное. Министр иностранных дел Франции отлично знал, что Толстой сообщит в Петербург то, что сейчас услышал о польских изгнанниках. Поэтому Ламартин сводил все к общим фразам о человеколюбии, справедливости, в то время как подлинными мотивами помощи польским деятелям было желание ущемить интересы царской России. Помогая польскому национально-освободительному движению, французское правительство хотело тем самым ослабить политические и военные позиции Николая I.
— Я человек большой выдержки и доброжелательности к людям,— продолжал Ламартин, снова прямо глядя в глаза Толстого,— но, однако, потерял терпение и ответил им дословно так: «Если мы уступим требованиям тех, кому оказали гостеприимство, тех, кто обязан нам всем, вплоть до хлеба насущного, то мы докажем, что Франция пала еще ниже, чем сама Польша».
— Превосходный ответ,— заметил Толстой.
Но вдруг один из журналистов подошел к министру и, не стесняясь тем, что находится в его доме, резко заявил:
— Вы не правы, господин Ламартин. Трактаты тысяча восемьсот пятнадцатого года уничтожены. Воюющая Франция обязана помочь полякам получить самостоятельность. Это наш республиканский долг.
На мгновение в столовой наступила тишина, затем по залу прошел шум замешательства.
— Я понимаю,— воскликнула госпожа Ламартин возбужденно,— вы подосланы каким-нибудь потомком Марата, жаждущим человеческой крови. Я но могу допустить, чтобы гостиная министра иностранных дел превратилась в говорильню, достойную кафе якобинцев или их клубов.
Журналист, весьма довольный произведенным нм эффектом, не кланяясь, направился к выходу, однако Ламартин в полном спокойствии остановил его у двери. Он очень побаивался газет и заискивал перед литераторами.
— Преиышо всего ценю я откровенное мнение и уверен, что оно вызвано только расположением ко мне, иначе вы бы не переступили порога этого дома. Здесь все друзья республики и порядка. Разрешите мне поблагодарить вас за правдивость. Я неуклонно верю в свое будущее, а это значит — и в преуспеяние Временного правительства.
Поздно вечером Толстой вернулся домой. Он был удручен всем, что видел и слышал в этот день. Долго сидел он в халате, уставившись мутными глазами в едва теплившийся камин. Мысли его были мрачны. Революция казалась ему страшнее смерти. Она грозила разоблачением, позором. Что если эпидемия беспорядков, как мысленно называл Толстой революцию, перебросится в иные страны, охватит Россию? Революционный поток уже достиг Вены и затопляет Берлин. Французская буржуазия начала бороться с республиканским режимом. Толстой надеялся на быструю победу реакции. Но теперь революция в Пруссии и Австрии укрепила демагогов. Пожар, который затухал, снова разгорается от искр пламени вспыхнувшего рядом здания. «Как все это обернется для меня? Необходимо доказать Петербургу и царю, что время более не терпит. Вмешательство России необходимо. Скорее бы началась война! Нужно послать хоть несколько русских корпусов для усмирения здешней черни!» С этими мыслями Толстой до утра просидел в кресле у потухшего камина.
В марте из Парижа на родину уезжали праздные русские баре. Собрался в Россию и знатный вельможа богач Нарышкин. Проститься с ним зашел его старый знакомый, ученый, помещик Головин. Вот уже несколько лет живя в Париже, изобличал он двойственную и предательскую натуру Толстого. Увлеченный этим, он не удержался, чтобы снова не заговорить с хозяином дома на столь волновавшую его тему.
Нарышкин поморщился:
— Что это ты, Иван Гаврилович, словно охотничий пес, носишься по болоту. Какой тебе прок в том, благороден или нет Яшка Толстой? Ведь, по совести говоря, он верой и правдой служит российскому престолу и идее самодержавия. Как ныпче говорят — монархист. И но плохо бы, как он того жаждет, двинуть войска с Востока на Запад и раздавить здешнюю якобинскую мерзость. Толстой что Меттерних! Ему бы министром быть. Он Киселева давно за пояс заткнул. Истинно государственный ум. Л ты его опорочить хочешь? За что? Для чего тебе-то?
— Но какими средствами Толстой пользуется! — гневался Головин.
— Пустяки. Цель всегда оправдывает средства.
— Эка, да ты прямо иезуит. Уж не член ли ордена Игнатия Лойолы?
— Нельзя не согласиться иной раз и с иезуитами. С ними мы не рисковали бы нынче головами и поместьями. А то плохо совсем получается — в феврале меня, Нарышкина, с экипажа сволокли и заставили строить для черни баррикады. Вот тебе порядок! Нет, я уважаю в Толстом его ярую ненависть к революции. Он великий патриот. Обличив Якова Николаевича, ты тем поможешь красным. А может, ты с ними заодно? — Нарышкин даже привстал, сделав это предположение, и впился прямо в глаза Головина.
— Я просто ученый,— ответил тот смиренно.— Наблюдаю за всем происходящим и молю со слезами господа, да пошлет он счастье людям.— Голос Головина вдруг окреп и глаза зажглись.— Но мой долг — изобличить подлеца Толстого, и от этого я не отступлю.
Расставшись недружелюбно с Нарышкиным, Головин вернулся к себе и взялся за письмо к брату в Россию. Писал Головин медленно, обдумывая каждое слово, тщательно выводя крупные буквы.
«Тридцать тысяч иностранцев уехали из Парижа,— сообщал он между прочим.— Бедное человечество! Оно предпочитает резаться, нежели довольствоваться малым. Ламартин все ораторствует. Наполеона пока у французов нет, но война может его вызвать. Мне так противна вся эта борьба, что я хочу жениться и поселиться в глуши».
Есть в истории дни, значение которых неизмеримо во времени. Любое мгновение тогда полно новизны и несет в себе перемены для многих тысяч людей. Такие великие дни щедро дарят революции.
Париж жил напряженно и деятельно. Дни и ночи подле городской ратуши, где заседало Временное правительство, толпился народ. Окно, через которое 9 термидора, узнав о поражении якобинцев, выбросился на мостовую Робеспьер-младший, было затянуто траурным крепом. Народ забросал нечистотами памятник деспотичнейшему из королей — Людовику XIV. На голову статуи этого дорого стоившего Франции монарха кто-то нацепил шутовской колпак.
Каждый день у ратуши выстраивались безработные. Им выдавали там вдоволь хлеба, сыра, мяса. Правительство торопилось устраивать всевозможные мастерские, надеясь, что они станут его оплотом, подобно мобильной гвардии.
Иоганн Сток с семьей вернулся в Париж. На улице Вожирар вдова каретного мастера снова сдала ему комнату. В одном из открывшихся клубов он встретил старого друга — прядильщика Кабьена. От него он узнал, что Пьетро Диверолли уехал в Италию, где, вероятно, вступил в повстанческую часть. Этьен Кабьен с гордостью показал Стоку свежий рубец от раны, которую получил, сражаясь на баррикаде на улице Сент-Оноре.
— Ты опытный баррикадный боец, Сток. Жаль, что тебя не было с нами в эти дни в Париже. Ты глотнул бы изрядно пороху, старина. Это были дни, за которые не жаль отдать и самое жизнь.
Сток жалел, что опоздал и, как ему казалось, явился «на готовенькое». Но очень скоро, приглядевшись к окружающему, он сказал Кабьену:
— Боюсь, что парижские улицы еще недостаточно политы нашей кровью.
Иоганну очень хотелось повидать Огюста Бланки, но прежде надо было подыскать работу. Женевьева прихварывала, сын Иоганн нянчил сестренку и заменял по дому мать. Деньги, привезенные из Брюсселя, быстро были истрачены. Следовало прежде всего подумать о куске хлеба для жены и детей.
Сток узнал, что в помещении упраздненной с февраля долговой тюрьмы в Клиши была открыта первая мастерская товарищества портных. Рано утром он пошел туда просить работы.
Портняжная мастерская в Клиши была необычна. В больших помещениях, бывших камерах, между изгрызенными временем и сыростью колоннами, прямо на полу шили портные и их подмастерья. Столов и табуретов не было. С окон сорваны решетки. Свет и воздух беспрепятственно проникали внутрь бывшей тюрьмы, изгоняя затхлый запах плесени и аммиака.
У Стока было много рекомендаций, лучшей из которых являлась его принадлежность к «Обществу времен года» Бланки в 1839 году. Среди портных он нашел немало давнишних знакомых.
Рабочие сами избирали из своей среды руководителей мастерской. Один из них, почтенного вида бородатый старик в фригийском колпаке, с лицом библейского патриарха — его все звали «папаша Поль»,— долго рассказывал Стоку о порядках в портняжьем товариществе. От каждого рабочего, кроме знания ремесла, требовались хорошее поведение и отменное прилежание. Все в мастерской было устроено на новый лад. Имелся особый фонд для вспомоществования вдовам, сиротам и больным. Часть прибыли оставалась для накопления общего капитала, который должен был упрочить и расширить основу товарищества в будущем.
— Портные и их подмастерья,— сказал «папаша Поль»,— мечтают возвести для себя жилой дом, где были бы читальня, школа и баня для всех жильцов. Ради этих будущих благ мы работаем, не считаясь со временем и силами.
Стоку показалось, что все это сон, лучший в его Жизни.
Хотя условия труда в мастерской были крайне трудны, портные чувствовали себя превосходно и товарищество их не только быстро разрасталось, но и приносило большие доходы.
В тот же день Сток получил работу и, усевшись у грязной серой стены, принялся шить.
Он был счастлив. Улыбка не сходила с его до этих дней обычно угрюмого лица. Впервые он трудился не на хозяина.
Работа в мастерской в Клиши не мешала песням. Сток незаметно для себя стал подпевать простенькому мотиву, сложенному любимцем революционного Парижа Пьером Дюпоном. В песнях Пьера Дюпона и его друга Пьера Лашамбоди в простых и задушевных словах возвещалась свобода обездоленным и рассказывалось о нищете и мучениях страдающего класса тружеников.
Иоганн Сток пел. Голос его, окрепший и звучный, выражал радость раскрепощенной и возрожденной души.
Стены и колонны бывшей тюрьмы были густо увешаны яркими плакатами о правах и обязанностях свободного гражданина Франции. Несколько свернутых красных знамен стояло наготове, по углам. В любой момент они могли понадобиться для шествия по столице.
В Париже было много безработных. Получив паек и немного денег в ратуше, они обычно шли в поисках работы в Люксембургский дворец в государственное бюро для приискания занятий. Там всегда было очень шумно и многолюдно. Измученные долгими тщетными поисками работы, люди были раздражены и легко вступали в споры. В зале, где заседала конфликтная правительственная комиссия, грубо пререкались хозяева предприятий с рабочими. Нередко тут же, на ходу, разбирались и причины возникшей стачки.
Вслед за портными вскоре создали свои рабочие товарищества седельники и ткачи. Но трудно было этим кооперативам ручного труда соперничать с крупными заводами и фабриками, хозяева которых были очень богаты. Не все мастерские давали достаточное пропитание работавшим в них.
Революция не много дала трудовому люду Франции. Рабочий день сократился всего на час. В Париже он стал десятичасовым, а в провинции по-прежнему работали не менее одиннадцати часов. Женщины и дети получали за свою работу значительно меньше мужчин. По-прежнему народ ютился в лачугах, хотя и приносил великие жертвы ради революции, защищая ее, голодал.
Как-то Сток с разрешения «папаши Поля» отправился в бывший Люксембургский дворец, где заседала конфликтная комиссия. Надо было поддержать справедливые требования рабочих забастовавшего завода, на котором работал Этьен Кабьен.
Первый, кого увидел Иоганн Сток, войдя в зал конфликтной комиссии, был Луи Блан. Закидывая назад изящную голову, он пытался успокоить разбушевавшихся участников стачки. Он говорил о социальной революции и желательности безболезненного, мирного конца капиталистического строя. Он пытался как бы убаюкать тех, кто едва держался на ногах от переутомления и недоедания, кто ничего не жалел ради победы революции!
Чуть покачиваясь на непомерно высоких каблуках, Луи Блан прохаживался по залу между кресел, где сидели усталые, хмурые люди, и говорил, говорил без конца:
— Необходимо учредить правительственную рабочую комиссию... Нужно с помощью выпуска государственной ренты скупить железные дороги и рудники у богачей. Терпение, граждане! Мы учредим государственное страхование. Мы построим вам, подлинным хозяевам страны, таким, как я сам, пролетариям, превосходные дома и больницы. Мы создадим рабочим человеческое существование и выведем их из нищеты к богатству, от тьмы — к свету.
Лун Блан красочно описывал зачарованным слушателям, пришедшим из сырых и темных подвалов, их будущие отдельные светлые квартиры и, увлеченный своим красноречием, закончил так:
— Идите и работайте. Верьте нам. Вот какие будут у вас сады.— Приподнявшись на цыпочках, Луи Блан открыл окно, и неповторимый аромат Люксембургского сада, где несколько столетий подряд выращивались дворцовыми садовниками редкостные кусты и растения, ворвался в сумрачный зал с грязным полом, с полинявшими обоями. Вместе с ароматом цветов Люксембургского сада донеслось пение птиц. В зале воцарилось молчание. Улыбались в бороды буржуа, вызванные в конфликтную комиссию. Сговор с непокорными тружениками казался им теперь делом решенным.
Но вдруг чей-то голос из толпы рабочих-жалобщиков нарушил тишину этого идиллического мгновения.
— Вы призываете нас, гражданин Луи Блан: «Идите и работайте!» — громко сказал Этьен Кабьен.— А подумали ли вы о том, что советуете нам делать? Все это обман, вольный или невольный, кто вас разберет! Вы помогаете надувать нас! Разве не знает гражданин Луи Блан, что нет у нас ни поля, чтобы вспахать его, ни леса, чтобы строить дома, ни железа, чтобы ковать. Нам не дозволено собирать плоды в садах, брать воду из колодцев, охотиться на лесных зверей или наслаждаться лесной прохладой! На нашу долю не хватает ни работы, ни жизненных благ. Когда мы появились на свет, все вокруг уже имело собственников. Без нас были созданы законы, жестоко выбрасывающие нас на произвол судьбы. Что же нам петь красивые песни о будущем? Мы хотим жить уже сегодня и разделить то, что сделано руками отцов наших и нашими. Зачем возводить дома, когда они будут не для нас. Мы живем в лачугах, а в построенных нами жилищах, подчас в огромных домах, прохлаждаются два-три человека. Ведь все даровано землею для равного пользования людей — так вы писали сами в своих книгах. А на деле все средства производства забраны у большинства и стали достоянием лишь немногих избранных.
— Правильно,— не растерявшись, сказал в ответ Луи Блан.— И вот, чтобы положить конец этому, я предлагаю вместо национальных мастерских, которые буржуа бросают вам как милостыню, лишь бы не озлобить и выиграть время, иные, социальные мастерские. Там рабочие будут не только сыты, но и смогут распоряжаться всем, что сделают своими руками.
Но Луи Блан давно уже не внушал прежнего доверия. Он оттолкнул сердца народа неустойчивостью и переметчивостью, путаницей взглядов, и рабочие на этот раз досадливо качали головами. Лучше получить хоть какую-либо работу и кусок хлеба в уже существующей мастерской, чем ждать, пока Луи Блан перейдет от слов к делу.
В то время как в ратуше и Люксембургской рабочей комиссии обсуждались вопросы о том, как же быть с безработицей и все еще нищенствующим рабочим классом, в Париже и провинции начались выборы полковников и офицеров Национальной гвардии. Прежний соратник Огюста Бланки по «Обществу времен года» Барбес был большинством голосов избран в полковники Двенадцатого легиона, куда проникло много буржуазных сынков, скрывавших под военной формой солдат республики реакционные взгляды и выжидавших черного часа для сведения счетов с революцией.
Иоганн Сток был удивлен и опечален, узнав, что Огюст Бланки, которого он глубоко чтил, вынужден был порвать со своим другом и соратником по борьбе с Июльской монархией Барбосом. Портной помнил, как Барбес ввел его в тайное «Общество времен года», как вместо сражались они на баррикадах и оба были ранены.
Барбес и Бланки были в то время членами центрального комитета этого республиканского заговора. Бланки называли головой, а Барбеса руками всего движения. И, однако, в 1848 году вражда разъединила навсегда двух отважнейших борцов.
За львиную отвагу, представительную внешность любили французские простолюдины Барбеса, но всегда доверяли больше Бланки. Рабочие ценили в нем энергию и дальновидный ум.
Силе характера и неукротимому мужеству не всегда сопутствуют мощный разум и глубина мышления. Барбес не обладал ясным пониманием расстановки сил в революции. Кроме того, он легко поддавался влиянию льстецов, любил первенствовать и часто становился орудием в руках опытных интриганов.
Барбес отстаивал позицию Временного правительства. Но, помимо идейных разногласий, его развело с Бланки самое неодолимое и позорное из чувств, которое он испытывал к другу,— зависть.
В один из свободных вечеров в начале апреля Сток вместе с Кабьеном отправились на улицу Бержер в здание республиканского центрального клуба, которым руководил Огюст Бланки.
У здания бывшего театра, где разместились бланкисты, стояла толпа. Попасть на заседание оказалось очень трудно. Но Сток и Кабьен тотчас же отыскали друзей среди членов клуба и протиснулись в переполненное здание.
Не только рабочие, ученые, художники, артисты, но и буржуа стремились увидеть и послушать человека, чье имя звучало для одних как святыня, а для других — как революционный набат и смертельная угроза.
В Париже было несколько сот клубов, объединенных единой центральной организацией — «Клубом клубов». Но ни один из них, да и все вместе не могли равняться по силе влияния среди трудового народа с клубом — центром организации сторонников Бланки.
Ожидая начала заседания, Сток и Кабьен прогуливались в фойе бывшего театра. К ним подошел коренастый, широкоскулый рабочий с веселыми глазами, в широченной блузе навыпуск.
— Здорово, дружище Марш,— обрадовался Кабьен,— давно мы не виделись.— И, обернувшись к Стоку, пояснил: — Это мой старый приятель. Мы вместе с ним шлепали по лужам, когда были сопливыми мальчуганами. Наши отцы работали в одной кузнице. Он дрался лучше всех ребят на нашей улице, и я получил от него не одну затрещину.
— Помнишь, как мы пугали богомольных старушек, влезая на деревья церковного сада?
Сток уже много раз слышал о Марше, одном из героев февральской революции.
Марш принялся подробно рассказывать о событии очень значительном, незабываемом и дорогом в его жизни — участии в рабочей делегации, требовавшей прав для своего класса у правительства.
— Ламартин, этот петух в павлиньих перьях, действительно вообразил, что мы, как дети, заслушаемся его красивыми сказками. Не тут-то было. Я сказал Ламартину: «У меня самого имеется язык, который проникает поглубже вашего и пробивает насквозь. Вот мой огненный язык». При этом я показал министру ствол своего ружья. Таков наш рабочий язык, иного в наших переговорах с буржуазией быть не может.
— И что же Ламартин? — с большим интересом спросил Сток.
— Сначала было растерялся, но быстро опомнился. Хитер. Начал уговаривать. Обождите, мол, граждане рабочие, дайте срок. Нельзя за час решить столь важные вопросы. Пока мы говорили с Ламартином, Луи Блан, Флокон, Ледрю-Роллен и кое-кто из рабочих, отойдя к окну, набросали текст декрета, какой мы примерно требовали. Я помню каждое слово: правительство Французской республики обязуется обеспечить работой существование трудящихся, берет на себя обязательство предоставить занятие всем гражданам государства.
— Ты забыл, Марш, что мы добились и еще одного пункта,— добавил Кабьен и скромно пояснил Стоку: — Я ведь тоже был делегатом, но, не будь Марша, господа министры околпачили бы нас.
— Какой же еще пункт вытребовали вы у правительства?
— Правительство признает, что рабочим необходимо организоваться в ассоциации, чтобы получать надлежащее вознаграждение за свой труд,— отвечал Марш.
— Хитро они вас обставили, хотя как будто и уважили ваши требования,— подумав, заметил Иоганн Сток.— Все только вокруг да около.
— Это мы и сами поняли потом, но рады были, что без драки кое-чего все-таки добились,— помрачнев, проговорил Марш.— Что было нам делать? Мы ведь приучены к терпению.
— Да,— покачал головой Сток,— народ как голодал, так и голодает. На своей шкуре, горьким опытом наш брат рабочий только и может уразуметь, как трудно жить ему в девятнадцатом веке.
— Правильно, старина,— одновременно сказали Марш и Кабьен.
— Кстати, признавайся, Этьен,— снова повеселев и хитро подмигивая другу, спросил Марш,— ведь это ты тогда срезал с дивана в ратуше бархат и соорудил из него красное знамя, которое мы затем бросили из окна демонстрантам?
— Хоть бы и так,— чуть улыбнулся Кабьен.— Мы сражались на баррикадах под красными знаменами. Алые стяги должны и дальше увенчивать наши победы и устрашать наших врагов.
Разговор трех товарищей оборвался. По всему театру призывно зазвенели звонки. Начиналось заседание. Все устремились в зал, чтобы поскорее занять места. На сцене театра появился Огюст Бланки.
Иоганн Сток содрогнулся, увидев изможденное, изрезанное бесчисленными морщинами лицо, седые волосы, хилую, сутулую фигуру человека, который олицетворял для него могучий дух, непреклонную волю и мужество. Портной закрыл глаза, и множество видений пронеслось перед ним. Сколько должен был выстрадать этот железный революционер! Почти два десятилетия мук в тюрьме, потеря семьи, разочарование в самых близких друзьях... Борьба во всех ее проявлениях. Но разрушалось только тело, не дух этого необыкновенного борца. И чем более сдавала плоть, тем крепче и неукротимее становилась воля Бланки.
— Известно ли вам,— начал вождь французских рабочих, — что в меня пущена отравленная ядом стрела? Меня, семнадцать лет проведшего в заточении, обвиняют в том, что я подкупленный предатель. Слуги Луи-Филиппа, превратившиеся теперь в блестящих республиканских мотыльков, с гордостью расхаживают по коврам ратуши и с высоты своей добродетели, нажитой раболепством, бесчестят Иова, вырвавшегося из темницы. Исподтишка, со всей низостью пытаются они в своей продажной прессе под видом безымянных «показаний на допросе» обвинить меня в предательстве по отношению к «Обществу времен года», руководителями которого были я и Барбес. Я вызываю клеветников на эту или любую иную трибуну с открытым забралом. Покажите гнусный, вами состряпанный «протокол допроса» мне и пароду. Поступок ваш внушен вам ненавистью и страхом. Вы не брезгаете никакими средствами, чтобы избавиться от соперников. Вам нужен был этот документ, вот вы и «нашли» его... Подлые увертки при его опубликовании выдают его позорное происхождение. Реакционеры, какие вы трусы! Я вызываю вас. Пусть суд народа, которому я служил, служу и буду служить до конца жизни, сам решит это дело. Я не хочу больше говорить о подлом ударе из-за угла. Оправдываться для меня унизительно.
Стоку казалось, что все это во сне. Когда же портной уяснил себе происходящее, на трибуне уже стоял один из его друзей — участник восстания 12 мая 1839 года. Он говорил от имени своих единомышленников, бывших членов тайного «Общества времен года», также отбывавших тюремное заключение. Он заявил, что все, о чем будто бы на допросе сообщил жандармам Бланки, в действительности выдал изменник революционного движения Дюретр. Все, о чем говорилось в этом тайном доносе, было и вообще давно всем известно.
— Мы требуем, чтобы Ташро, издатель «Исторического обозрения», бросивший тень на незапятнанное, достойное удивления имя непреклонного Огюста Бланки, появился наконец и был судим народом за клевету. Этот прислужник реакции, продавший свое перо, конечно, боится предстать перед нами. Позор ему! Не раз уже удавалось врагам народа схватить Бланки, пытать его, обрекать на смерть и держать за решеткой, но никогда не признал он себя побежденным.
«Нельзя молчать! — проносилось в разгоряченном мозгу Стока.— Тут дело не в Бланки, а во всем революционно-коммунистическом движении». Возмущение и порыв борца, бросающегося в самое опасное место боя, подняли и заставили Стока говорить. Он выступал с места, удивляясь звучности своего голоса и тому, что слова рвутся наружу с такой легкостью.
Сток говорил, что удар наносится реакционерами не столько по Бланки, сколько по всей революции. Бланкисты сильны. Они отвергают малодушные компромиссы. Их боятся. И чтобы парализовать влияние их вожака, правящая клика прибегла к самому близкому ее душе средству — к клевете. Разве это впервые?
— Вспомните, граждане,— обращался Сток к затихшим слушателям,— Бланки уже объявляли агентом легитимистской партии. Враги революции считают, что лишняя бочка грязи, опрокинутая на наших людей, но помешает — что-нибудь да прилипнет. Не поверят их клевете — попытаются действовать подкупом либо предложат сговориться. Только и этому не быть! Не таков Огюст Бланки. Ледрю-Роллен, как ни притворяется чуть ли не самим Маратом, в душе лицемер и трус. Луи Блан — смешная карикатура на Робеспьера. Оба они готовы пресмыкаться перед буржуазией. Им с Бланки не по пути. Они это хорошо знают, и ненависть их к нему беспредельна. Не удивительно, что и они обрадовались случаю, чтобы сокрушить силу, не поддающуюся ни подкупу, ни обещаниям. На всякие низости способны из партийной вражды мелкие и крупные буржуа. Бланки и на этот раз выйдет победителем.
Сток говорил с воодушевлением, все больше увлекая своей безыскусственной речью народ, заполнивший театр-клуб.
Двадцать третьего апреля предстояли выборы в Учредительное собрание. Реакция, потерпев поражение п уличных схватках, пустила в ход все средства, чтобы получить большинство в парламенте. В деревнях ей деятельно помогала церковь. В небольших городах, где почетом все еще пользовались богачи, они стремились привлечь на свою сторону бедное население. Республиканцы были окружены со всех сторон хитроумными врагами. Бонапартисты, легитимисты, орлеанисты мечтали о том, чтобы возвести на престол своих ставленников, и но жалели на это денег. Попытка подорвать доверие к Бланки была еще одним средством борьбы в предвыборные дни.
Собрание подходило к концу. По предложению Марша и Кабьена было решено, что рабочие организации соберутся 16 апреля на Марсовом поле, чтобы выбрать четырнадцать офицеров в штаб Национальной гвардии. Затем должно было состояться торжественное шествие к ратуше для вручения Временному правительству петиции следующего содержания: «Граждане! Реакция поднимает голову! Клевета, орудие людей бесчестных и беспринципных. поражает ядом своим истинных друзей народа. Нам, деятельным и преданным представителям революции, надлежит объявить Временному правительству, что народ требует демократической республики, организации труда на началах товарищества, уничтожения эксплуатации человека человеком. Да здравствует республика!»
Огюст Бланки закрыл собрание своего общества, призвав всех к спокойствию и выдержке.
Иоганн Сток дождался Бланки у бокового выхода из старого театра. Была звездная прохладная ночь. Тихо разговаривая, они добрались до маленькой таверны в доме, где жил Бланки, и зашли в зал. Сидя за дубовым столом, они ворошили далекое прошлое. Бланки отдался воспоминаниям о семье.
— Можно один раз любить, как только однажды мы живем,— сказал он сумрачно.— Никто не заменит нам мать и ту единственную женщину, которая послана нам судьбой. Изменить ей, живой или мертвой, для меня было бы равносильно тому, чтобы предать идею, которой я верен до гроба.
— Вы кремень, Огюст Бланки,— заметил Сток, и ему стало безмерно жаль этого человека. Ведь ему не было еще и сорока пяти лет! Героическая душа в изможденном, больном теле...
Бланки уловил что-то в выражении лица Иоганна Стока своими зоркими, смотрящими точно из самого сердца глазами и, не в силах скрыть, как устал он от непрерывно сыпавшихся на него ударов, произнес тихо:
— Меня, дряхлую развалину, влачащую изношенное тело в изношенном платье, потерявшего все дорогое, трусливые реакционеры осмеливаются клеймить, обзывать продажным.
Сток взял в свои руки сухонькую, узкую, жесткую руку Бланки и крепко пожал ее.
— Вы заняли единственно правильную позицию, бросив обвинение в лицо обвинителей.
Бланки, как бы устыдясь проявленной слабости, встряхнул прямыми белыми волосами и улыбнулся. Но глаза его оставались настороженными и печальными.
— Будем бороться до последнего вздоха. Победа в конце концов всегда за теми, кто прав.
Эмма Гервег с нетерпением ждала отбытия легиона, возглавляемого Георгом. В глубине души ей очень хотелось быть женой не только поэта, но и министра Германской республики. Она завидовала поэту Ламартину. У Гервега, по ее мнению, имелось больше достоинств, чтобы руководить государством. Георг жил долго в изгнании и писал революционные стихи. Ламартин же был монархистом до революции и воспевал королей и католицизм.
Салон, который Эмма надеялась открыть в Берлине, несомненно, должен был во всем превзойти тот, который имела госпожа Ламартин. Жена министра иностранных дел Франции, несмотря на внезапно обнаружившиеся республиканские взгляды мужа, везде кичилась тем, что она незаконнорожденная дочь короля. У Эммы Гервег и тут было преимущество — ведь она плоть от плоти буржуазии, дочь богатого банкира. Это куда больше соответствует современным понятиям. Да и кто такой Ламартин по сравнению с Гервегом? Это станет всем ясно очень скоро, когда имя немецкого поэта обовьют лавры великого революционного полководца. Тщеславные надежды не оставляли Эмму Гервег. Она твердо уверовала в удачу похода. Мечтая о славном будущем, она радовалась, что увидит, как посрамлен будет Карл Маркс, возражавший против плана Гервега насадить в Германии республику с помощью одного военного отряда, созданного возвращавшимися изгнанниками.
«В крайнем случае,— думала Эмма,— я помогу бедняжке Женни, когда мы будем уже в Берлине и у власти. Она все-таки по рождению баронесса. Зря только она возится со всякими подонками общества».
Был апрель. Эмма смотрела, как напротив ее дома, перед церковью, под бравурные звуки оркестра народ торжественно собирался на праздник. Принесли дерево свободы — тополь, уже покрывшийся зелеными ночками. Обливаясь потом, но радостно улыбаясь, двое рабочих в широких фартуках ломами выбили камни на мостовой, очистили и вскопали сухую землю. Под громкие крики толпы и звуки фанфар дерево было посажено. Принаряженные женщины, гордясь своим участием в церемонии, щедро поливали землю водой. Затем из церкви, благословляя толпу, торжественно вышел священник. За ним чинно двигались два мальчика — служки в белых с золотом облачениях. Произнося молитву по-латыни, священник благословил дерево и окропил ствол. Тотчас же восторженно загудела толпа и украсила тополь знаменами, венками и лентами. Оркестр сыграл «Марсельезу». Церемония была окончена.
Эмма уселась на диван и размечталась о том, как будут венчать лаврами ее мужа в Берлине. И снова с возмущением и даже ненавистью вспомнила она о Марксе и Энгельсе. Как приятно будет увидеть растерянность этих неблагодарных людей, не оценивших должным образом ни революционного гения Гервега, ни ее, Эммы, доброты.
«Женни Маркс жила у нас перед отъездом в Брюссель,—думала жена Гервега, — и надо сказать, аппетит у ее прислуги Ленхен был очень велик. Пребывание Женни с ребенком, как ни была она щепетильна, обошлось нам достаточно дорого. Но я всегда так бескорыстна и ничего об этом ей никогда не сказала...»
Эмма стала прикидывать в уме, за все ли ей заплатила Женни, и с разочарованием установила, что придраться было не к чему.
В дни сияющего апреля Гервег и Борнштедт закончили сборы немецкого легиона. Ранним утром легионеры выстроились с ружьями на плече и двинулись по пыльным улицам Парижа к вокзалу. Отряд был немногочислен; сотни немецких революционеров отказались от этой авантюристической затеи и остались с Марксом и вернувшимся из Бельгии Энгельсом, чтобы вскоре поодиночке перейти границу родины.
Жена Гервега сопровождала мужа, который был выбран начальником легиона. Она заказала себе для похода военную амазонку из трех национальных цветов: черного, красного и золотого — и водрузила на свою мужеподобную голову берет с большой кокардой тех же цветов. Прежнего беспокойства о судьбе мужа у нее как не бывало.
— Я буду твоим оруженосцем, денщиком,— шептала Эмма мужу,— и как жена разделю затем твой триумф.
За исключением Гервега, который вдохновенно предрекал себе и своему «войску» победу, и нескольких молодых людей, жаждущих славы и сильных ощущений, все легионеры чувствовали себя растерянными. Каждого терзали сомнения. Многие осудили план кампании, повторяя здравые слова Маркса и Энгельса. Не было единства в отряде, и оттого насупились брови, пригнулись плечи тех, кто поддался уговорам честолюбца Гервега и Борнштедта. Горсточка вооруженных люден с национальными и красными флагами двигалась с песнями по улицам французской столицы. Рабочие-парижане, недавно проводившие поляков, итальянцев, бельгийцев, поклонявшиеся всякому проявлению храбрости, громко приветствовали их и желали победы. Женщины кидали воинам весенние цветы. Немцы отвечали им, размахивая мягкими шляпами, украшенными птичьими перьями, и салютовали ружьями. Особенно возбужденно вел себя Гервег. Он кланялся прохожим, читал стихи и выкрикивал призывы на немецком и французском языках, прижимая к груди букет алых роз, привезенных из Ниццы,— их поднесли ему на прощание.
Адальберт фон Борнштедт, еще более похудевший, тонконосый, похожий на стервятника, шел важно, оборачиваясь, зорко и злобно вглядываясь в тех, чьи хмурые лица отражали обуревавшие их сомнения. Борнштедт отлично понимал колебания этих смелых людей. Но Гервег был ему нестерпимо мерзок.
«Самонадеянность — дочь глупости»,— цедил сквозь зубы Борнштедт, ускоряя шаг и стараясь не слушать больше Георга, вызывавшего восхищение французов, особенно женщин. Наконец отряд дошел до вокзала, разместился в приготовленные французским правительством вагоны и отбыл к границе.
В те же дни три вооруженных польских отряда оставили Париж и но Страсбургской дороге двинулись к Рейну, чтобы затем идти к берегам Вислы. Генералы Рыбинский и Дверницкий — доблестные воины, неустрашимо сражавшиеся в начале тридцатых годов с русским самодержавием на подступах к Варшаве,— остались во французской столице, готовя новые легионы из земляков-повстанцев. Князь Чарторыйский собирал для поляков оружие и средства в Германии. Там ему, подчас по совершенно противоречивым политическим соображениям, охотно помогали...
Тем временем готовились в путь на родину также Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Женни уже уехала с детьми в Трир к матери.
Энгельс, как и Маркс, вернувшись из Брюсселя, был поглощен работой в Центральном комитете Союза коммунистов, куда его избрали заочно.
Оба друга решили, что, перебравшись на родину, они первым делом займутся там созданием ежедневной революционной газеты. Перед отъездом в течение одной недели они подготовили политическую платформу Союза коммунистов в германской революции и издали ее в виде листовки. Ее вручали вместе с «Коммунистическим манифестом» всем едущим в Германию революционерам. Платформа называлась: «Требования коммунистической партии в Германии». Она начиналась последними словами «Манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
И дальше:
«1. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой.
2. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию.
3. Народные представители получают вознаграждение, для того чтобы и немецкий рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа.
4. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребляло, как это было прежде, но и производило бы больше, чем составляют расходы на его содержание. Это является, кроме того, одним из способов организации труда.
5. Судопроизводство является бесплатным.
6. Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.
7. Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все рудники, шахты и т. д. обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов.
8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью государства. Проценты по этим ипотекам уплачиваются крестьянами государству.
9. В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога.
Все меры, указанные в пунктах 6, 7, 8 и 9, проводятся с той целью, чтобы уменьшить общественные и прочие повинности крестьян и мелких арендаторов, не уменьшая средств, необходимых для покрытия государственных расходов, и не нанося ущерба самому производству.
Земельный собственник, как таковой, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — это просто злоупотребление.
10. Вместо всех частных банков учреждается государственный банк, бумаги которого имеют указанный курс. Эта мера делает возможным регулирование кредитного дела в интересах всего народа и подрывает, таким образом, господство крупных финансистов. Заменяя мало-помалу золото и серебро бумажными деньгами, она удешевляет необходимое орудие буржуазного обращения, всеобщее средство обмена и позволяет использовать золото и серебро во внешних сношениях. Эта мера, наконец, необходима для того, чтобы приковать к правительству интересы консервативных буржуа.
11. Государство берет в свои руки все средства транспорта: железные дороги, каналы, пароходы, дороги, почтовые станции и т. д. Они обращаются в государственную собственность и безвозмездно предоставляются в распоряжение неимущего класса.
12. В жалованье всех государственных чиновников не будет никаких иных расчетов, кроме того, что семейные, т. е. лица с большими потребностями, будут получать и больший оклад, чем остальные.
13. Полное отделение церкви от государства. Духовенство всех вероисповеданий будет получать плату исключительно от своих добровольных общин.
14. Ограничение права наследования.
15. Введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на предметы потребления.
16. Учреждение национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим средства к существованию и берет на себя попечение о неспособных к труду.
17. Всеобщее бесплатное народное образование.
В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и мелкого крестьянства — со всей энергией добиваться проведения в жизнь указанных выше мероприятий. Ибо только с их осуществлением миллионы, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых будут пытаться и впредь держать и угнетении, смогут добиться своих прав и тон власти, какая подобает им, как производителям всех богатств.
Комитет:
Карл Маркс, Карл Шаппер, Г. Бауэр, Ф. Энгельс, И. Молль, Б. Вольф».Иоганн Сток, узнав о намерении Маркса и Энгельса уехать из Парижа на родину, пришел к ним. Накануне он провел вечер с Огюстом Бланки и подробно рассказал об этом.
— Ты правильно выступил в клубе, Бланки — подлинный вождь пролетариата,— сказал Маркс.— Только слабодушный может усомниться в этом человеке, только враг революции может верить клевете на него.
Затем разговор перешел на выборы офицеров Национальной гвардии. Они были назначены в будничный день, чтобы рабочие не смогли принять в них участия. Буржуазия одержала верх. Это было дурным предзнаменованием. Сток сообщил о том, что бланкисты хотят собрать рабочих на Марсовом поле для выборов офицеров из своей среды.
— Послушай, Иоганн,— сказал Маркс,— ты остаешься пока в Париже. Предлагаю тебе быть корреспондентом газеты, которую мы обязательно начнем издавать в Германии.
Сток растерялся от этого лестного предложения и не знал, что ответить. Он считал себя недостаточно грамотным. Но Маркс, а за ним и Энгельс убеждали его не отказываться.
— Ты прошел такую школу обучения, которой могут позавидовать многие знающие кое-что о жизни лишь по книгам, не всегда к тому же достоверным.
— Ну что ж, попробую. Кое-чему я действительно выучился за свою жизнь и особенно в Брюсселе,— подумав, согласился Сток.
— Вот и отлично. Пиши просто, все, как думаешь сам.
Когда Сток собрался уходить, Карл дал ему несколько листовок «Требований коммунистической партии в Германии». Портной заинтересовался неизвестным ему еще документом, сел у стола подле лампы и принялся читать. Когда он кончил, лицо его пылало.
— Эти требования смогут лечь в основу революции не только в одной Германии, если она будет истинно пролетарской,— сказал Сток.— Это маяк для рабочих, он будет освещать им путь еще сотни лет. Тут все, что может потребоваться для создания нового государства. Спасибо вам.
Он не мог скрыть охватившего его волнения. Наступило молчание. Маркс смотрел из окна на ночной Париж, но мысли его были далеко. Сток напряженно следил за его сосредоточенным и вместе рассеянным взглядом и думал: «Этот человек, такой доступный и простой с нами, тем не менее таинствен. В далекой древности люди преклонялись бы перед ним, как перед пророком».
И такая огромная нежность поднялась в душе всегда сдержанного Стока, что он, тихо приблизившись, крепко обнял на прощание Маркса.
— До свидания в Кёльне, Иоганн.
— Прощай, Маркс.
Сток вышел и, прихрамывая, стал спускаться с лестницы. Внезапно луч света упал на ступеньки. Обернувшись, Иоганн увидел Маркса с лампой в руке на площадке.
— Береги себя, Сток,— раздался сверху голос.
— Прощай! — ответил портной. Он сам не знал, отчего ему так тяжело было на этот раз расставаться с Марксом.
«Может, не увижу его никогда больше? — пронеслось в его мозгу.— Время такое. Тюрьма или пуля...»
Он внутренне запротестовал против тягостных и казавшихся ему нелепыми предчувствий.
«Нет, я здоров! Только воля немного ослабла. Подтянись, Сток!»
В первых числах апреля Карл Маркс и Фридрих Энгельс выехали в Германию.
Глава девятая Предтечи
Бакунин искал встреч с Лизой. В Брюсселе он чувствовал себя одиноким и охотно делился с ней сокровенными мыслями и надеждами. Он умел быть обаятельным и легко, сам не желая того, разжег старое чувство, которое Лизе удалось уже однажды почти совсем погасить.
Любовь к Мишелю вспыхнула с новой силой в сердце замкнутой, строгой девушки. Тщетно она пыталась противиться, отдавая себе ясный отчет в том, что Бакунин дорожит не ею, а тем чувством, которое он в ней вызвал. Оно ему льстило. Как коллекционер, он собирал проявления ее любви, сам оставаясь рассудочно-холодным.
Однажды, когда он привлек к себе Лизу и поцеловал ее смолисто-черные волосы, она сказала печально:
— В каждом, даже таком недюжинном человеке, как вы, Мишель, скрывается рабовладелец. Вы подлинный рыцарь свободы, а нуждаетесь в преданной и покорной рабе. Что же, вы нашли ее во мне.
Бакунину стало не по себе. Он попробовал отшутиться, но вдруг перешел на серьезный тон:
— Поймите же, Лиза, с детских лет я посвятил себя борьбе за благо всех людей на земле. Это определило мою судьбу странника и борца. Но не скрою, что в последние дни я во сне и наяву вижу ваши прекрасные глаза и с радостью читаю в них нежность. Спасибо. Но запомните: себе я не принадлежу.
Лиза тихо ответила!
— Пусть так и будет. Я ничего от вас не требую взамен своей любви. Любить ведь тоже счастье. Мне даже жаль вас за то, что вы, любя всех, не любите одной. Я богаче вас.
— Хорошо, что вы так глубоко умны. Обычно женщины ревновали меня к великой цели, которая настолько значительнее всего и, конечно, отдельной человеческой жизни. Но немногое, что остается в моем сердце от великой любви к страдающему славянскому племени, я хотел бы отдать вам.
Лиза подошла к Бакунину и, взяв в свои руки большую кудрявую его голову, прижала к груди.
Через несколько дней, самых счастливых в жизни Лизы, началась революция во Франции. Бакунин стал неузнаваем. С горечью увидела беззаветно полюбившая его женщина, как он попытался отдалиться от нее, охваченный иными стремлениями. Революционная стихия ведь была ему дороже всего на свете. Ей оставалось смириться, чтобы не потерять его навсегда.
Но едва Бакунин оставил Брюссель, отчаяние так овладело Лизой, что она захворала. Хотя Мишель, рассеянно прощаясь с нею на только что отстроенном нарядном Брюссельском вокзале, не позвал ее с собой в Париж, она все же решила отправиться следом за ним. Ее успокаивала мысль, что он не любил ни одной другой женщины и был совершенно свободен. Он казался Лизе большим, необычайным ребенком, всегда нуждавшимся в чьей-нибудь заботе.
И поэтому она думала о нем с захлестывающим душу материнским беспокойством. Ее большое чувство давно уже включало в себя все разновидности человеческой любви. Иногда ей хотелось быть его сестрой, чтобы ничто не могло их разлучить. Больше всего Лиза боялась остаться покинутой и забытой.
Зная о материальной неустроенности Бакунина, она посылала ему почти все деньги, которые с таким трудом зарабатывала уроками и переводами, и писала каждый день письма. В этом находила она утешение.
«Михаил Александрович,— Лиза не решалась называть его по имени,— пожалейте обо мне хоть один раз в жизни. У меня ведь никого нет на свете, обо мне никто не сожалеет. Я никогда не говорю окружающим о своих горестях: это внутреннее достоинство осталось единственным проявлением моей гордости. Когда в последний раз, перед том как ехать в Париж, вы были у меня, то говорили, что ваша внутренняя борьба так сильна, что вы даже от этого сделались больны, что у вас лихорадка. Значит, вам была страшна разлука, как и мне. Я и сейчас в таком же состоянии болезни. Сегодня мне так грустно, что невольно льются слезы, а не в моем характере плакать понапрасну. Не обижайте же, не огорчайте меня больше, право, я и так довольно несчастна. Напишите мне поскорее хоть несколько строчек. Жизнь наша так быстро проходит. Зачем же своевольно наполнять ее горечью для себя и для других?»
Не получив ответа ни на одно свое письмо, Лиза поехала в Париж на поиски Бакунина. Но прибыла она туда через два дня после того, как он отправился в Познань. Ехать дальше у Лизы не было ни средств, ни сил. Сломленная горем неразделенной любви, она нашла приют у стареющей, больной Марии Львовны Огаревой. Не желая слушать ее наставлений и сетований, Лиза ни словом не обмолвилась обо всем, что пережила, и ни разу не произнесла имени Бакунина.
В апреле тетка из России прислала Лизе немного денег на дорогу домой. Вскоре, совсем уже нежданное, пришло письмо от Бакунина в ответ на многочисленные письма, которыми Лиза забрасывала их общих знакомых. Это было суровое наставление. Мишель писал, что будущее его грозно, полно опасностей и что они расстались навсегда. Неизмеримая пропасть легла между ним и Лизой, и он просит забыть о том, что было.
Но любовь не боится слов, даже самых жестоких, если нет за ними действий и фактов. Лиза отвечала Бакунину письмом с той решительностью, которую родит великое отчаяние:
«Нет пропасти, через которую твердая воля не проложила бы дорогу: скажите слово — и где бы вы ни были, я найду средство увидеться с вами. Только сегодня, получив наконец ваше письмо, вздохнула я свободно. До сих пор в Париже я не знала, что существует время, дни и ночи. Мысленно я беспрестанно говорила с вами, старалась пересказать вам все, что я чувствовала и думала с тех пор, как мы познакомились, хотела убедить вас в том, как я страдаю. Все силы сердца и души тратила я на то, чтобы найти вас. Вы должны понять, как тяжело мне потерять вас навсегда, не имея даже возможности писать к вам, ни слышать о вас что-нибудь верное. Надобно испытать все, что я испытала, чтобы понять меня.
Я всегда готова разделить с каждым горе, но редко сама встречаю участие в людях. Но даже если самые живые порывы души моей будут отвергнуты, я за то благодарю бога, что но теряю силы любить, а до тех пор, пока не оставит меня это чувство, не говорю, что несчастна.
Я решила ехать в Берлин, где, верно, смогу не только услышать что-либо о вас, но и свидеться с вами. От вас одного зависит приехать ко мне или позвать меня в Познань. Если имеете ко мне хоть немного дружбы, так ради бога — пишите».
Письмо Лизы тронуло Бакунина. Он обещал встретиться с нею в Берлине.
Легион Гервега и Борнштедта был наголову разбит нюрнбергскими регулярными войсками на территории Бадена возле селения Нидердоссенбах. Легионеры попали в ловушку, подстроенную немецким и французским правительствами, для которых было весьма выгодно уничтожить их всех одним ударом. Гервег и весь отряд волонтеров мужественно сражались, но исход боя был предрешен.
В трудные часы Эмма проявила необычайное хладнокровие и находчивость. Вместе с Гервегом она укрылась в деревне, где упросила крестьянина спрятать неудачливого полководца в бочку и прикрыть его там соломой. Переодевшись в мужское платье, Эмма вывезла бочку на крестьянской телеге снова во Францию.
Адальберту фон Борнштедту так и не удалось загладить свое прошлое победой в бою и доказать, что он честный революционер. Он едва спасся после битвы при Нидердоссенбахе. Появляться там, где шумели революционные волны, ему больше было нельзя. Даже в Берлине и Вене, где было неспокойно, Борнштедт боялся, что его может призвать к ответу суд народа. К тому же застарелая болезнь, которую в течение многих лет он тщетно пытался излечить серными водами и ртутными втираниями, начала быстро развиваться. Борнштедта охватила мания преследования. Изнуренный постоянной бессонницей и ожиданием возмездия, он переезжал из города в город. Худой, похожий на скелет, он пугал окружающих внезапными приступами безумия, воплями о спасении. Галлюцинации не оставляли его, и он видел снова и снова, как падали, обливаясь кровью, и умирали смелые, самоотверженные люди, которых он повел на бесславную гибель.
«Если бы можно было начать жить сначала,— думал он иногда, терзаясь.— Если бы все забыть!» Но воспаленный мозг с новой силой воскрешал перед ним его прошлое.
Опасения Борнштедта все же сбылись: он был арестован. В тюрьме Адальберт бесновался как одержимый, и однажды, когда он особенно бушевал в камере, то отдавая воинскую команду, то вопя о пощаде, то грозя кому-то, его связали и силой увезли в тюремную психиатрическую больницу Илленау. Там в буйном отделении Борнштедт скончался.
По дороге в Кёльн Маркс и Энгельс ненадолго задержались в Майнце, городе, прославленном осадами и героической борьбой с врагами во времена средневековья. Оба друга встретились там с членами Союза коммунистов и обсудили, как совместно вести революционную работу и теснее объединить рабочих.
Карл снова ступил на немецкую землю и слышал вокруг родную речь. Еще несколько месяцев назад возвращение в Германию означало бы для него тюремное заключение и, может быть, казнь. Но он знал всегда, что будет по-иному и он увидит свою родину.
Неурожай на протяжении последних нескольких лет и жестокий экономический кризис закончились в Германии, как и во Франции, народными восстаниями. В марте в Берлине, после двухдневной уличной борьбы, народные повстанцы одержали победу над королевскими войсками.
В Пруссии и других германских королевствах и княжествах были образованы буржуазно-либеральные правительства. Они, однако, ограничили свою деятельность проведением половинчатых реформ. Ничего, например, не было сделано для освобождения крестьян от феодального гнета. Положение трудового народа оставалось все таким же тяжелым, и у власти в полиции и армии находились те же лица, происходившие из дворянских родов. Германские буржуазные правительства оказались неспособными осуществить и объединение раздробленной на тридцать шесть частей-государств Германии.
Около четырехсот рабочих-немцев, большинство членов Союза коммунистов, уже переправились поодиночке через границу и прибыли в разные города Германии. Все они сразу же включились в революционную борьбу. Снова действительность доказала правоту тактики Маркса и Энгельса. Союз коммунистов выковал из революционных передовых рабочих и интеллигентов непоколебимых борцов.
Из Майнца в Кёльн Карл и Фридрих добирались в дилижансе. Была теплая весенняя ночь. Пассажиры пугливо озирались. Худой чиновник, в застегнутом на все пуговицы мундире и теплом шарфе на шее, с лицом болотной птицы, мрачно рассказывал пассажирам:
— Крестьяне, эти дикари в образе человеческом, как в проклятом тысяча пятьсот двадцать пятом году, вооружились косами, вилами и топорами. Они нападают на усадьбы и жгут их, как хворост, который отныне таскают безнаказанно из помещичьих лесов.
Женщины охали, мужчины поспешно закуривали, чтобы преодолеть страх и осветить хоть немного темноту весенней ночи.
— То, что мы переживаем, предсказано библейскими пророками,— изрек сидевший в углу пастор и достал корзину с провизией.— Когда страх гложет душу, обгладывай гуся,— добавил он, желая развеселить паству.
— Крестьяне не только жгут кабальные бумаги, конторы и дома землевладельцев, они грозятся вскоре приняться за всех господ,— продолжал чиновник.
Вдруг кучер резко сдержал лошадей. От толчка на головы пассажиров повалились свертки и баулы. Раздался женский визг.
— Вот они, вот! — крикнул кто-то.
Карл и Фридрих прильнули к окнам. На черном небе полыхало зарево, яркое, как солнечный восход.
— Горит чье-то поместье! — закричали со всех сторон.
— Скоро в Германии не останется больше ни одного замка. А потом мужичье примется за нас. Вот она, анархия!
Но никто не остановил дилижанс...
Одиннадцатого апреля Карл и Фридрих приехали в Кёльн.
Город внешне мало изменился с той поры, когда Маркс покинул его несколько лет тому назад.
Так же возвышался над готическими крышами домов громоздкий ларь — собор. На улицах степенно прохаживались рослые светловолосые рейнландцы, похожие на героев из «Песни о Нибелунгах». Превосходную колбасу подавали в трактирах вокруг Сенного рынка, где когда-то Маркс и Рутенберг спорили за кружкой пива или рейнского вина о грядущих судьбах разрозненной Германии.
Прусский город Кёльн, расположенный на левом берегу Рейна, был некогда Colonia Agrippina римлян. Население его испокон веков занималось промыслами и торговлей. Издавна здесь шла торговля зерном, кожевенными товарами, табаком, рисом, вином, тканями. Для перевозки товаров пользовались многочисленными мелкими и крупными судами на Рейне. Улицы Кёльна располагались по дуге, хорду которой составляла река.
Кёльн — живописный город. В нем много храмов, площадей, мостов и богатых предместий.
Основная достопримечательность города — Кёльнский собор. Это одно из прекраснейших зданий мира, самая большая постройка готической архитектуры. Внутри собора взгляд поражают сто воздушно-легких колонн, поддерживающих неф.
Но наряду с замечательными строениями здесь же лабиринты грязных извилистых улочек, узких и темноватых, заполненных пешеходами, телегами и каретами.
Долгое время Кёльн был третьим по величине и народонаселению после Берлина и Гамбурга городом Германии. Значение его то вырастало, то падало в связи с войнами и сменой правителей.
В 1848 году, когда подули революционные ветры, в городе стало особенно шумно. Под светлым небом на площадях собирались, чтобы поспорить, рабочие и лавочники, крестьяне и студенты. Казалось им, что можно с помощью лишь слов перекроить на свой лад Германию, изменить ее общественный строй, добиться конституции.
Надеялись на воссоединение Германии. Ведь когда-то на Венском конгрессе австрийскому канцлеру Меттерниху Удалось создать на территории бывшей Германской империи хотя и чахлый, но все же союз тридцати четырех маленьких государств. Австрия должна была играть роль их защитника против сильной Пруссии. Но значительная часть подвластных Пруссии и Австрии земель оставалась вне союза. Единственным органом, объединяющим все немецкие государства и четыре вольных немецких города — Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Любек и Бремен,— был Союзный сейм, находившийся во Франкфурте-на-Майне. Он состоял из уполномоченных отдельных немецких государств.
Едва прибыв в Кёльн, Маркс и Энгельс сразу же принялись за работу. Еще до февральской революции они не раз обсуждали возможность создания в Германии самостоятельной партии пролетариата. Но время для этого еще не приспело.
Положение в Пруссии и во всех немецких королевствах и княжествах становилось все более сложным. После пронесшихся по всей Германии кровопролитных восстаний рабочих в марте 1848 года, поддержанных крестьянами в деревнях, владельцами маленьких мастерских и лавок, прусский король и многочисленные князья вынуждены были пойти на некоторые уступки. Удар по феодально-самодержавному строю был нанесен. Однако плоды нелегко добытой победы стали собирать богачи, промышленники, банкиры, хозяева больших магазинов и фабрик. В Берлине растерявшийся прусский король призвал на помощь в новое правительство богатейших магнатов — Кампгаузена и Ганземана. Эти ловкие дельцы больше всего боялись пролетариев и предпочли сговор с помещиками и князьями. В результате предательства буржуазии в полиции, армии и государственных учреждениях остались люди, верно служившие монархии, абсолютизму.
Во всем этом еще во Франции отлично разобрались Маркс и Энгельс. Не случайно именно Кёльн, город передовой рейнской провинции, где пролетариат уже пробудился к политической жизни и осознал свои возможности, избрали они местом жительства и работы. Кроме того, в Кёльне были более благоприятные условия для издания большой революционной газеты. Там все еще действовал Кодекс Наполеона, дававший несколько большие гражданские свободы, нежели прусское право, прочно утвердившееся в Берлине.
Карл не мог оставаться долго без Женни. Хотя он был очень занят, сознание, что семья далеко, угнетало его. Как ни сложно и неясно было будущее, он все же решил вызвать Женни с детьми. Вскоре вместе с Ленхен они приехали в Кёльн.
Создать новую газету было нелегко. Не хватало денег. Маркс занялся вербовкой акционеров в Кёльне. Энгельс поспешил в родной Бармен, надеясь уговорить отца, хотя бы ради его коммерческой выгоды, помочь в этом трудном деле. Вупперталь доставил ему много хлопот и разочарований, о которых он написал Марксу. Многие из тех, кого некогда Фридрих считал коммунистами, стали настоящими буржуа с тех пор, как обзавелись собственными предприятиями. Эти люди боялись как чумы обсуждения общественных вопросов; они называли это подстрекательством...
«Через два-три дня ты получишь определенное сообщение о том, как все это кончилось,— писал Карлу Энгельс.— Суть дела в том, что даже эти радикальные буржуа в Бармене видят в нас своих главных врагов в будущем и не хотят давать нам в руки оружие, которое мы могли бы очень скоро повернуть против них самих.
От моего старика совершенно ничего нельзя добиться. Для него даже «Kölnische Zeitung» является средоточием всякой крамолы, и вместо тысячи талеров он охотнее послал бы в нас тысячу картечных пуль».
Только необычайная энергия Фридриха, его ум и убедительные доводы преодолели препятствия. Он объездил много городов вокруг Бармена и весьма дипломатично уговаривал сочувствующих коммунистам состоятельных граждан вступить акционерами-пайщиками в дело издания газеты. В конце концов в придачу к тем, которых удалось уговорить в Кёльне Марксу, он нашел еще четырнадцать акционеров.
И вот уже первого июня вышел в свет долгожданный номер ежедневной «Новой Рейнской газеты». Главным редактором ее был Маркс. В состав редакции вошли Энгельс, Г. Веерт, Г. Бюргере, Э. Дронке, Вильгельм и Фердинанд Вольфы. В подзаголовке значилось: «Орган демократии».
Маркс и Энгельс вынуждены были считаться с положением, которое было в каждом из больших или малых немецких княжеств, а также в королевской Пруссии. Немецкий трудовой парод состоял в большинстве своем из ремесленников. Промышленность значительно отстала от французской и особенно английской.
В политически раздробленной Германии не было еще возможности для создания массовой пролетарской партии. Зная это, несколько сот членов Союза коммунистов, прибывших, как Маркс и Энгельс, на родину, работали не покладая рук. Однако и они не могли сразу привести в движение полную предрассудков, подчас доверявшую хозяевам массу тружеников.
Акционеры «Новой Рейнской газеты», давая деньги на ее издание, настаивали на том, чтобы основой политики газеты было пленившее и успокаивавшее их слово «демократия». Учитывая все это, Маркс, Энгельс и их сторонники вошли в «Кёльнское демократическое общество».
За несколько месяцев, прошедших после мартовских революционных схваток в Берлине и Вене, бурлящая река снова вошла в берега. У кормила власти всюду оказались люди, отличавшиеся от своих феодальных предшественников только умением произносить напыщенные речи о необходимости свободы, справедливости и улучшения жизни рабочих. Чем больше было слов, тем меньше дела. Национальное собрание во Франкфурте должно было внести значительные изменения в законодательство и объединить Германию. Но в море фраз и добрых пожеланий пошли ко дну все предполагаемые свершения, и все оставалось по-старому.
Восемнадцатого мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне открылось общегерманское собрание, на которое все демократы возлагали немалые надежды.
Депутатам предстояло выработать параграфы конституции будущего единого германского государства. Но очень скоро стало ясно, что Франкфуртское собрание лишено какой бы то ни было решающей политической власти и не стремится приобрести ее.
Не только либералы, которых было большинство, но и депутаты, представлявшие мелкую буржуазию, отличались чрезвычайной говорливостью. Словами они прикрывали трусость, безволие и явное нежелание возглавить народное движение против быстрорастущей контрреволюции.
Первый же номер «Новой Рейнской газеты» прозвучал как взрыв бомбы. Статьи против Франкфуртского парламента — бессовестной говорильни, объяснявшие, как обманут пролетариат, одержавший в Берлине победу во время мартовской революции 1848 года, испугали прежде всего господ акционеров. Они осаждали в эти дни скромный кабинет Маркса в редакции и выражали свое возмущение газетой.
— Позвольте,— горячился один из купивших акции газеты буржуа,— вы подкладываете под мой матрац адскую машину. И это за мои же деньги. Какая тут, к дьяволу, линия добропорядочной демократической политики? Это же чистейший коммунизм! Я не хочу сидеть вместе с вами на скамье подсудимых.
Маркс сдержанно успокаивал акционеров, не давая им, впрочем, никаких обещаний изменить курс газеты.
И «Новая Рейнская газета» стала единственным, подлинно революционным рупором пролетариата Германии.
Редакция газеты, заменив, по сути, прежний Центральный комитет Союза коммунистов, направляла также деятельность членов союза, которые в эту пору возглавляли многие германские рабочие союзы. Маркс и Энгельс создали революционный боевой штаб коммунистов, где работали лучшие, даровитейшие журналисты, писатели, поэты. С сумерек и до глубокой ночи не закрывались для них двери кабинета Маркса. Веерт то и дело врывался, чтобы поделиться с главным редактором блеснувшей у него мыслью или прочесть своим глуховатым голосом новые, пылающие, как его глаза, стихи.
Именно здесь, в накуренной шумной комнате с узким диванчиком, на котором часто проводил короткие часы ночного сна Маркс, Веерт чувствовал себя наиболее счастливым. И не он один. Отсюда, с этой командной высоты, открывалась не только вся Германия, но и весь мир. Из этой простой комнатки с несколькими столами и стульями, с множеством окурков вокруг чернильниц, на папках и на полу, гремел набат.
Каждый, пробывший хоть немного времени среди этих вдохновенных, необыкновенных, излучающих искры воли, ума, добра, знаний, целеустремленных, веселых людей, точно восходил на самую высокую вершину и, ошеломленный, взирал на открывшуюся ему панораму.
Ежедневная газета была начинена порохом. Слова стали гранатами. Но в них была не только разрушительная, но и созидательная сила. Энгельс оказался превосходным воином в газете. Его перо стоило многих батарей и неизменно обеспечивало победу. Болезненный, но неутомимый Веерт, сдержанный Фрейлиграт, весельчак и балагур Фердинанд Вольф, прозванный «Красным»; торопливый, горячий «Малыш» — Дронке; трудолюбивый, самоотверженный Вильгельм Вольф — никто по мог состязаться с многогранным Энгельсом, хотя каждый из них тоже хорошо работал, писал очерки, статьи, фельетоны.
— Я читал у Плутарха, что Ганнибал побеждал оттого, что мог не спать по нескольку суток, терпеливо переносил невзгоды, голод, холод и был упорен в любом деле. Несомненно, наш Фред из той же породы великих полководцев,— говорил Веерт.
Н действительно, никто не мог превзойти Энгельса в блеске и неповторимости, ясности и глубине его публицистических выступлений. Не было темы, которую, подчас в последнюю минуту, перед самой отправкой газеты в набор, он не превратил бы в полную глубочайшего ума и знаний или уничтожающей иронии статью. Для газеты он был сущий клад и не раз помогал Марксу, который нес всю тяжесть общего политического руководства и множества организационных дел. Большинство передовиц создавал Энгельс почти что на ходу, и, как Юлий Цезарь, он мог одновременно писать, говорить и просматривать подоспевший редакционный материал.
— Ты подлинно ходячая энциклопедия! — восторгался Карл другом.— Все знаешь, до самого корня, сообразителен как черт, способен работать в любое время дня и ночи, после еды и натощак.
Во всем Маркс и Энгельс превосходно дополняли друг друга.
«Новая Рейнская газета» жестоко бичевала измену буржуазии, предавшей рабочих и крестьян. В своих статьях ее авторы-коммунисты разрушали ложное представление, утвердившееся в народе, что мартовские бои 1848 года завершили революцию и несут с собой будущие блага.
«Ты думаешь, что покончил с полицейским государством? — писал Энгельс в одной из своих статей.— Заблуждение! Ты думаешь, что теперь тебе уже обеспечены право свободного объединения, свобода печати, вооружение народа и прочие красивые слова, которые доносились к тебе через мартовские баррикады? Заблуждение, чистейшее заблуждение!
Когда прошел приятный хмель, Очнулся ты в недоуменье...»Сражаясь против реакционных сил, Маркс и Энгельс в своей газете стремились утвердить самосознание рабочих, так же как и забитых немецких крестьян, расковать их энергию, призвать на завершение буржуазной демократической революции. Тогда, по их мнению, откроется широкая дорога к последующей борьбе — за революцию социалистическую. Это давалось нелегко. Приходилось преодолевать сопротивление не только одной государственной власти. Стефан Борн, член Союза коммунистов, давнишний знакомый Карла и Фридриха, создал в Берлине организацию, назвав ее «Братством рабочих». Он попытался, приспособляясь к самым отсталым ремесленникам, убедить их в том, что важны не общеполитические задачи всего германского народа, а чисто экономическое устройство самих рабочих. Борн сводил революционную борьбу к вопросам продолжительности рабочего дня и заработку. «А об этом,— говорил он,— можно сговориться с предпринимателями».
Руководитель кёльнского «Рабочего союза» врач Андреас Готшальк и вернувшийся в Германию из Америки Вейтлинг, не понимая чисто буржуазного характера революции, наоборот, требовали немедленного развязывания гражданской войны и провозглашения рабочей республики. Вейтлинг на собраниях нападал на «Новую Рейнскую газету», обвиняя ее в стремлении объединить все демократические силы в ущерб рабочим.
Невежественные в политике, крайне самонадеянные, сектанты соединяли в себе демагогическую фразеологию с трусостью, когда доходило до дела. Их выступления вносили путаницу в умы, что волновало Маркса и Энгельса, так как нельзя было допустить раскола в опаснейший момент наступления германской и мировой контрреволюции. Как никогда, нужно было сохранять единство и волю к победе, чтобы спасти то немногое, что оставалось у рабочих и крестьян от мартовских побед.
Вспыльчивый, горячий, Маркс умел быть хладнокровным в минуты наибольшего напряжения и опасности. Таким он был в редакторском кресле «Новой Рейнской газеты», на трибуне собрания коммунистов, «Демократического общества» и «Рабочего союза». Самообладание его не знало тогда предела и он твердостью, смелостью, уверенностью и ясностью мысли побеждал противников.
Ничто важное для судеб человечества, происходившее в мире, не ускользало от внимания «Новой Рейнской газеты». События в Польше находили отражение на ее страницах в такой же степени, как и вопросы необходимости революционного объединения Германии. Энгельс в статье «Новый раздел Польши» горячо поддерживал национально-освободительное движение польского народа. Он неопровержимо доказывал, что создание демократической Польши является непременным условием создания демократической Германии. Все страны мира — звенья одной цепи.
Маленькая таверна «У Марианны», недалеко от площади Бастилии, на вывеске которой тотчас же после революции хозяин собственноручно нарисовал пику, напоминавшую кочергу, и фригийский колпак, похожий на треугольную сахарную голову, состояла всего из одной низенькой комнаты с очагом посередине. Запах превосходно поджаренного мяса и яблочного сидра, который приготовляла хозяйка, уроженка бургундской деревни, постоянно наполнял таверну и вызывал бурный аппетит у посетителей.
На стенах ее со времен объявления Второй республики висели портреты Робеспьера и Марата и яркие литографии, изображавшие взятие Бастилии, заседания Конвента л шествия 1793 года. Хозяин состоял членом возродившегося Клуба якобинцев и объявлял себя сторонником самых крайних революционных взглядов. Он читал газету «Друг народа» Распайля и похвалялся, что в таверне часто ужинает Огюст Бланки.
Иоганн Сток и Кабьен после работы бывали «У Марианны». где обычно собиралось так много посетителей, что приходилось примащиваться по двое на табуретах.
Как-то в сумерки, подойдя к таверне, портной и прядильщик остановились у настежь открытой двери.
—. Ба, да здесь сам Беранже,— сказал радостно Кабьен и указал Стоку на старика с лысой головой. Только на затылке поэта венчиком вились длинные седые волосы.
Иоганн жадно вглядывался в дряблое лицо великого песенника. Несколько выпуклые, покрасневшие глаза Беранже плохо видели. Он щурил их. Запоминался его добродушный нос с утолщенными ноздрями.
Беранже казался растерянным. Его засыпали вопросами собравшиеся в таверне рабочие и ремесленники.
— Ты упорно отказываешься от участия в Учредительном собрании. Почему? Ведь все лучшие люди, весь рабочий люд Франции отдают тебе свои голоса.
— Мы пели твои песни на баррикадах. Ты всегда жалел бедных и знаешь наши нужды.
Сток услыхал, как Пьер-Жан Беранже ответил на эти вопросы, не повышая слабого голоса:
— Вы забыли, что мне уже около семидесяти. Я теряюсь среди множества людей. Мой бедный ум смущен даже сейчас. Вас слишком много. Я отказывался не только от парламентской скамьи, но и от кресла в академии. А это ли не честь для писателя! Поймите же и пощадите старого и немощного своего друга. Разве на протяжении тридцати с лишним лет не был я эхом ваших печалей и надежд? Но эхо родится в тиши лесов, полей и вод. Не извлекайте же меня из моего уединения. Там я во много раз полезнее вам, друзья мои.
— Что же, ты бежишь! — крикнул молодой рабочий с металлургического завода.
Сток прорвался к нему и схватил за руку.
— Молчи, юнец. Взгляни на седины, на дрожащие старческие руки Беранже. Пусть служит он пролетариату своим пером там, где ему спокойнее.
Рядом со Стоком стал стройный мужчина с длинными волосами в широкой темной блузе.
— Я рабочий, как вы. И, подобно многим поэтам, обязан Беранже тем, что пишу песни. Мое имя Дюпон.
Восторженные возгласы прервали любимейшего песенника революционных окраин.
— Говори, Пьер. Мы умеем ценить песни и стихи больше, нежели толсторылые буржуа.
Но Дюпон, как бы не слыша, подошел прямо к Беранже и, откинув руку жестом средневекового менестреля или трубадура, поклонился.
— О Беранже! Наш предводитель старый, мы каждою строкой тебе должны!
Затем он принялся рассказывать, как со всей Франции стекаются к Беранже вдохновенные, но часто беспомощные поэмы и стихи начинающих поэтов из рабочего класса. С терпением и любовью читает и правит эти первые творения пролетариев старый Беранже.
— Кто из нас, пролетарских поэтов, — продолжал Дюпон,— не получал совета от него? — И снова он изящно поклонился патриарху поэзии.— Беранже, ты не раз учил нас не бросать иглы, наковальни, рубанка и молота, прежде чем не появится уверенность в успехе. Ты предупреждал, что нищета и горе в наши дни настигают писателей и ввергают их в пропасть бедствий. Тяжелое ремесло быть поэтом и воспевать правду среди хищников буржуа. Ты, Беранже, не только друг и певец рабочих, но и учитель тех, кто рвется к поэзии. Кто еще, как ты, стал бы настраивать с такой заботливостью лиру тружеников? Слава тебе в веках!
Старый поэт растроганно обнял Дюпона и затем обратился к многочисленным блузникам, которые словами, взглядами, жестами наперебой высказывали ему свое почтение и преданность.
— Спасибо, братья! Скажу вам словами своей песни:
О, сделай так, чтоб говорили Они при имени моем: «Хвала ему, ведь он впервые Привел поэзию к нам в дом!»Когда Беранже ушел, Сток и Кабьен еще долго молчали, поглощенные своими думами. Вспомнив что-то, портной сказал:
— А ведь и Маркс, лучший и умнейший из всех людей, которых я знавал, назвал Беранже бессмертным. Вот какая сила в песне, если от колыбели до гроба сопровождает она парод.
— Пора бы тебе показать мне этого Маркса. Не так-то часто хвалишь ты кого-либо.
— Да, брат, такие, как он, родятся только раз в тысячу лет. Но познакомить тебя с ним пока не могу. Он в Германии.
Сток долго еще говорил о Марксе и Союзе коммунистов. Он был необычайно возбужден и весел в этот вечер.
А дома ждало его несчастье. Пока портной был на работе, а потом в таверне «У Марианны», занемогла Женевьева. Обычно она умела скрывать от мужа и детей свои недуги. Но в этот раз болезнь оказалась такой тяжелой, что ей это не удалось. Приступы тошноты, рези, внезапно начавшись, все усиливались. Еле-еле дотащилась она до ветхой постели, впервые за всю жизнь легла днем и, не выдержав боли, громко застонала. Владелица дома прибежала узнать, что стряслось у постояльцев. Женевьева, судорожно вздрагивая, попросила ее увести прочь детей.
— Присмотри за маленькой Катриной, Иоганн,— сказала она жалобно сыну.— Не знаю, встану ли я. Очень мне трудно.
Девочку едва оторвали от матери, а перепуганный мальчик не смог сдержать слез. Он впервые видел мать такой слабой. Добрая вдова каретного мастера увела к себе детей, и Женевьева до прихода мужа осталась одна. Поздно вечером Сток нашел жену в судорогах. Вся в поту, она металась по постели. Портной окликнул ее, по не получил ответа. Тогда он поднял ее голову. На него глянули чужие, измученные предельным физическим страданием, полные ужаса глаза. Они смотрели сквозь него куда-то далеко.
— Милая, голубка, женушка, хозяюшка,— причитал Сток.
Откуда только брались у него эти ласковые слова? Как мало дарил он их Женевьеве за восемнадцать лет пх совместной жизни! Как мечтала она о такой ласке! А теперь глаза ее смотрели, выражая только глубокое страдание и недоумение.
Иоганн поднял Женевьеву на руки и ужаснулся тому, как легко было ее тело. Она казалась ему такой же, как в Лионе, когда он нес ее с берега Роны. Он прижал ее к себе, точно мог этим отогнать духов зла, пробравшихся к ним. Судороги опять свели тело больной. Она застонала. Охваченный отчаянием бессилия, Иоганн достал небольшие сбережения и, завязав деньги в платок, выбежал из дому. Как помочь жене? Он смутно помнил, что на улицах, где жили богатые люди, видел металлические вывески врачей. Ему пришлось долго идти до центра Парижа. Там, неподалеку от красивого, величественного темно-серого храма Сен-Сюльпис, среди нарядных домов, он наконец отыскал один, в котором жил доктор. Сток постучал молотком по двери. Служанка удивленно взглянула на рабочего в шерстяной фуфайке поверх грубой блузы. Она не решилась впустить его в приемную и задержала в темной передней.
— Господин доктор выйдет к вам сам,— сказала она, не скрывая презрения.
Стоку все было безразлично. Единственно, чего он не мог вынести, это промедления, а время, как назло, тянулось томительно медленно, пока врач доедал свой ужин. Портной едва удерживал проклятия, но не решался войти в комнату, чтобы не рассердить того, кто единственный мог, как ему казалось, еще спасти Женевьеву. Наконец, недовольный вызовом в неурочный час, доктор с белоснежной салфеткой, заткнутой за ворот сюртука, вышел в переднюю.
— Вы больны? — спросил он брезгливо.— А, это ваша жена больна! Это ложь! Ну хорошо. Где ваш экипаж? Я не хожу пешком к пациентам. К тому же прошу учесть, что я такой же труженик, как вы, и должен иметь заработок. Лечить бесплатно я не могу. Если у вас нет денег, обратитесь, пожалуйста, к моему соседу...
Сток протянул врачу большую часть всех своих денег. Затем, сильно прихрамывая, побежал за наемным фиакром.
Доктор брюзжал всю дорогу по поводу того, что бедняки обычно преувеличивают опасность недуга и на самом деле здоровы.
Сток молчал. Про себя он надеялся, что Женевьеве, пока его не было, стало лучше. Но едва он вошел в комнату, надежды его рухнули. Очевидно, больная встала, желая как-то облегчить страдания, но приступ болей свалил ее снова. Ползком добираясь до кровати, она опрокинула табурет и разлила воду. Подушка в пестрой наволочке валялась в ногах, и голова больной беспомощно свисала с тюфяка. Гримаса боли перекосила ее исхудавшее, ставшее неузнаваемым лицо. Врач брезгливо осмотрелся, затем раскрыл кожаный чемоданчик, который привез с собой, и достал огромный градусник.
— Я уверен, что мог бы не тащиться в это логово,— сказал он раздраженно.
Вдруг у Женевьевы начались конвульсии. Врач побледнел и, сутулясь, приблизился к кровати.
Женевьева извивалась, прижимая руки к впавшему животу. Глаза ее широко раскрылись. Она была в полном сознании, но не имела сил говорить. Из пересохшего горла вырывались неясные звуки. Врач встретился с ней взглядом, и страх, который был на лице больной, передался ему с удвоенной силой. Сток увидел все это и внезапно понял, что нет надежды.
— Спасите ее, умоляю вас. Пожалейте нас. Помогите! — закричал он истошным голосом, какой никогда в жизни до этой минуты не вырывался из его горла.— Помогите, сжальтесь, господин доктор! У нас дети!
— Куриный бульон, котлетки телячьи, миндальное молоко,— говорил врач, пятясь от постели больной.— Еще хорош в таких случаях ромашковый настой. Мои коллеги добивались с его помощью отличных результатов. Теплая ванна облегчает боли.
Дрожащими руками он выписал за столом несколько рецептов и протянул их портному.
Когда врач, прикрыв руку фуляровым платком, взялся за ручку двери, Сток загородил ему дорогу:
— Вы не можете так уйти. Она ведь умирает. Я достану вам еще денег. Эта женщина для меня дороже жизни. Я однажды уже считал ее мертвой, но она вернулась ко мне, нашлась. С тех пор она была со мной всегда. Она никогда не жаловалась. Это святая женщина. Спасите же ее! Вы ведь учились.
— Увы, друг,— сказал врач мягко,— я не бог. Медицина тут бессильна. Берегитесь заразы сами. Вы, кажется, тоже нездоровы.
— Но что с Женевьевой? Что это за болезнь?
— Холера.
Каждый день в Париже и других городах Франции и всей Европы в это время умирали тысячи людей от чудовищной болезни. Холера была страшна, как чума в средние века. Сток слыхал и читал об этом, но болезнь казалась ему такой же далекой, как желтая лихорадка в Кайенне. И вот она заползла в его дом и убивала Женевьеву.
Две ночи и день боролся портной, как умел, за жизнь жены. Согревал холодеющее тело своим дыханием, укутывал тряпьем, собранным среди жалкого домашнего скарба, носил на руках, отмечая с все нарастающим отчаянием, как легче и легче становится его ноша. Он звал ее, молил по уходить, не оставлять одного.
Болезнь была подобна зверским пыткам. Чувствуя свою полнейшую беспомощность и не зная, как облегчить страдания любимой женщины, Иоганн то впадал в ярость и грозил судьбе, то готов был униженно вымаливать у бога, в которого не верил, пощаду. Он представлял себе всю несложную и горемычную жизнь жены и чувствовал, что не был ни достаточно добр, ни внимателен к ней. Запоздалые сожаления, непоправимость свершившегося терзали его. Когда жена погладила его исхудавшей рукой, он заплакал, как в детстве.
— Болей хоть многие годы, но только не исчезай совсем. Живи ради меня. Не умирай! — молил он.
Когда-то в течение нескольких лет он считал себя вдовцом и привык к этой мысли. Но затем внезапно обрел жену снова. Десять лет они несли вместе огромную тяжесть, называемую жизнью пролетариев. Заботы друг о друге и детях, горести и немногие радости, ночи и дни соединили их, спаяли. Сток чувствовал, что умирает но одна Женевьева, но и большая часть его самого. Он не смыкал глаз, боясь проспать мгновение смерти, и, однако, оно застало его неожиданно. Женевьева отстрадала. Смерть ее была не менее тяжелой, нежели жизнь. И так же безропотно, как несла она тяготы и лишения, так же покорно и тихо она скончалась. В гробу Женевьева лежала настолько изменившаяся, точно за три дня болезни стремительно прошла через те не прожитые еще годы, которые привели бы ее к глубокой старости. В действительности ей не было еще и сорока лет.
Долгое время Сток не мог поверить, что Женевьевы больше не существует. Он старался оживить холодное тело слезами, словами, прикосновениями и не давал хоронить ее, как бы надеясь на чудо воскрешения. В эти скорбные дни мир, люди, даже дети не интересовали его.
«Это сон, надо же наконец проснуться!»— думал он упрямо. Но физическая боль только подтверждала реальность окружающего.
Друг Кабьен говорил ему:
— Выпей-ка лучше вина, Сток. Зачем растравлять себе раны? Мертвых не воротишь.
Иоганн впадал в ярость:
— Я не хочу забывать ее. Почему должен я успокаиваться? Она никогда не жалела себя и не бежала прочь от меня. Мы с ней одно.
— Но ведь ее нет,— увещевал Иоганна добродушный прядильщик.— Пора взяться за ум, старина. Не береди себе душу.
— Как так ее нет? А я, а прожитые наши годы?
Окружающие сокрушенно качали головами. Из фонда помощи мастерской Клиши ему выдали пособие, но оно приходило к концу. Голод угрожал всей семье. Иоганн-младший пошел работать на фабрику. Он был здоровый, рослый подросток.
Сток никак не мог преодолеть тоски. Каждый день, ища Женевьеву, он отправлялся на кладбище, сидел возле обложенного дерном бугорка и мысленно звал жену. Он отныне был единственным свидетелем исчезнувшего своего и ее прошлого, известного и понятного только ему одному. Смерть больше не страшила портного. Постепенно глубокий покой охватывал его душу.
Однажды, когда он возвращался с кладбища, прижимая к сердцу пучок травы, сорванной там, где, казалось ему, лежит сердце Женевьевы, какой-то прохожий сунул ему листовку.
«Именем суверенного народа!
Граждане! На февральских баррикадах люди, которым мы дали титул членов Временного правительства, обещали нам демократическую и социальную республику; они нам дали торжественные обещания, и мы, веря их словам, покинули наши баррикады. Что же они сделали за три месяца? Они не выполнили того, что обещали.
Мы, граждане поста мэрии 8-го округа, требуем:
Демократическую и социальную республику!
Свободное объединение труда с помощью государства!
Требуем удаления войск из Парижа.
Граждане, вспомните, что вы властители. Помните наш лозунг: Свобода, Равенство, Братство!»
В середине апреля Иоганн Сток шел рядом с Бланки в грандиозной демонстрации рабочих, направлявшейся к Марсову полю и в ратушу, чтобы вручить правительству патриотический дар и петицию. Прошло почти два месяца, а народ, терпеливо дожидавшийся реформ и голодавший, чтобы дать время молодой республике окрепнуть, все еще ничего не добился от нового правительства. У Бланки и его сторонников возникло подозрение о предательстве Ледрю-Роллена и других министров.
Когда демонстранты подошли к Гревской площади, самые худшие их опасения оправдались. Они очутились между двух шпалер войск, направивших на них штыки и дула ружей. Солдаты хранили угрожающее молчание. По сотни расфранченных господ и дам бесновались за стеной солдат на тротуарах. Размахивая тростями и зонтиками, буржуа вопили:
— Долой коммунистов! Долой Бланки!
Ратуша, к которой подошли пораженные неожиданностью рабочие, выглядела как крепость. Министр внутренних дел Ледрю-Роллен, вняв советам Ламартина, объявил Париж в опасности и созвал легионы Национальной гвардии, состоявшие преимущественно из крупных и мелких буржуа. Эти гвардейцы горели желанием свести счеты с бойцами февраля.
Вооруженные до зубов, они заняли двор и все залы ратуши.
Несколько делегатов прошли внутрь здания, чтобы вручить требования народа правительству. Под ликующие крики, раздавшиеся из окон ратуши, навстречу демонстрации вышел Двенадцатый легион Национальной гвардии. Во главе его, с обнаженной шпагой, шагал могучего сложения высокий человек. Сток узнал в нем Барбеса. Из группы рабочих ему навстречу вышел щупленький, низкорослый Огюст Бланки. Гробовое молчание сопровождало эту встречу двух борцов, двух знаменитых революционеров, двух членов Центрального комитета «Общества времен года».
Рука Барбеса дрогнула под уничтожающим взглядом бывшего соратника, и он опустил шпагу.
— Ты против народа, против пролетариев! — вне себя от стыда за Барбеса воскликнул Бланки и повернулся спиной к тому, кто не заслуживал в эту минуту даже его укора.
Вскоре к народу из ратуши вернулись делегаты и сообщили, что Ламартин отказался говорить с ними. Из рядов Национальной гвардии и толпы собравшихся контрреволюционеров все громче раздавались крики:
— Долой коммунистов! Долой Бланки!
Бланки и его единомышленники вынуждены были покинуть ратушу. Преследуемый по пятам врагами, Бланки скрывался у верных друзей.
Иоганн Сток вместе с Кабьеном составлял листовки и распространял их. В одной из прокламаций говорилось:
«К оружию!
Мы хотим демократическую и социальную республику.
Мы хотим верховной власти народа.
Все граждане республики не должны и не могут желать иного.
Для защиты республики нужно участие всех. Многочисленные демократы, которые уже поняли это, борются за права трудового народа.
Тревога, граждане! Пусть каждый из вас откликнется на этот призыв!»
По четвергам, после работы, Сток встречался со своими соотечественниками на квартире суетливого, самоуверенного празднослова врача Германа Эвербека. Этот низенький, проворный, будто краб, человек вызывал у Иоганна чувство раздражения. Они часто ссорились.
Обычно Эвербек к вечеру заканчивал прием пациентов. Но в кабинете его все еще господствовал невообразимый беспорядок. Сток спотыкался о ведра с водой и тазы с грязными тампонами ваты. Запах сулемы, серных втираний действовал на него так же неприятно, как и неумолкавший визгливый голос хозяина.
Фердинанд Вольф и приезжавший время от времени из Кёльна Эрнст Дронке приходили обычно вместе. Сток всякий раз удивлялся тому, что Фердинанд подражает повадкам богемы Монмартра. Вольф носил широкую красную блузу и повязывал шею пунцовым бантом.
«Художник и уж конечно не немец, а француз с виду этот «Красный Вольф»,— думал о нем портной.
Друг Фердинанда, Дронке, по прозвищу «Гном» и «Малыш», был очень симпатичен. С лица его не исчезала улыбка, она только перемещалась, задерживаясь то в глазах, то в углах губ.
— Ну вот, все четыре парижских корреспондента «Новой Рейнской газеты» налицо,— говорил Фердинанд Вольф.— Как успехи, Сток? Я вчера отправил кое-что в Кёльн. Прочти. Мой опознавательный знак на полосах газеты — квадрат.
— Это ты перенял у меня. Я первый выбрал для себя опрокинутый треугольник. Им я обозначаю в прессе мои сообщения из Франции. Конспирация необходима. Все может еще случиться,— важно изрек Эвербек.
«Я всегда считал его трусом»,— подумал Сток.
— Жаль только,— говорил между тем Эвербек,— что Маркс слишком уж подружился с этим отчаянным и легкомысленным острословом из Бармена, который хотя и заикается на двадцати языках, а вот общего языка с людьми не находит. Энгельс не умеет ладить ни с кем. Он Марксу не пара.
— Послушайте, Эвербек,— прервал его Сток,— вы всегда интригуете. Энгельс — замечательный журналист, глубокий теоретик и знает толк в людях.
— Что этот портпой болтает? Сравнить Маркса — Аристотеля девятнадцатого века — с задирой Энгельсом, который посмел как-то критиковать даже меня! — вскричал Эвербек.
— Уймись ты, шумный лекарь,— пробасил Фердинанд Вольф,— сам хотел бы быть таким, как Фридрих. Исцели себя от зависти.
— Меня обвинять в интриганстве, меня, руководителя коммунистических общин! Увы, нет больше ничего святого на свете! — Эвербек вскочил и принялся бегать по комнате, вытянув вверх короткие руки.
— Довольно, пошумели, и ладно,— вмешался Дронке.
— Гном прав, давайте-ка прекратим споры, поговорим о том, что делается в Париже. Сток, рассказывай.
— Ну что ж, я-то всегда за братство,— заявил Эвербек как ни в чем не бывало и уселся в свое врачебное кресло.— Хорошо говорится в песне: «Здесь нет врагов, здесь все друзья»,— запел он высоким надтреснутым тенором.
В этот вечер корреспонденты «Новой Рейнской газеты» долго говорили о тревожном положении в Париже.
Вскоре Сток выехал в Лион. Лионские рабочие были во много раз лучше организованы, нежели парижские. Они сохранили созданные после ряда поражений тайныо революционные общества, разбитые на пятерки, десятки и сотни, тесно связанные со всей городской массой тружеников. После революции пролетарии текстильной столицы создали свои кассы взаимопомощи и клубы. Сток был рад увидеть город, где на баррикадах предместья Круа-Русс получил некогда первое боевое крещение.
Кабьен долго гулял с Жаннеттой по извилистым, плохо мощенным улицам Латинского квартала, прежде чем решился наконец предложить:
— Выходи за меня замуж.
Девушка выпятила пухлую нижнюю губку и сделала смешную гримасу:
— Ведь у тебя старики родители. Чем будешь ты кормить меня? Но дури. Мы люди бедные. Что за радость плодить на свет таких же?
Жаннетта с двенадцати лет служила прислугой. Очень хорошенькая, жизнерадостная и смышленая, она рано узнала жизнь с самой неприглядной стороны, отбиваясь от приставаний мужчин. Незадолго до февральской революции Жаннетта едва не вышла замуж за торговца скобяным товаром. Но раздумала. Он оказался не только скаредным ханжой, но п открыто высказывался против республики. Жаннетта же после февральского переворота стала рьяной республиканкой. Она познакомилась с Кабьеном весной, когда они шли рядом, распевая «Марсельезу» во время демонстрации. Какие счастливые это были дни в жизни обоих!
Убеждая девушку стать его женой, Этьен говорил:
— Мой отец щетинщик, и его руки, хоть и порядочно изуродованы, все еще пригодны для работы. А мать,— он тяжело вздохнул,— умерла на прошлой неделе от холеры...
Жаннетта перестала мило гримасничать. Лицо ее отразило искреннее сострадание.
— Бедный. Я сама сирота с детства и знаю, каково потерять мать. Это большое горе. Если бы мы поженились, я, наверно, любила бы ее. Добрая старушка — это, право, благословение неба,— добавила она грустно.
— Моя мать была такая работящая. Такая хорошая. Похожих на нее я не видывал. Какой суп стряпала она пам с отцом. Она могла бы отлично нянчить наших детей!
— Вот куда ты уже замахнулся. Может, я не хочу выходить за тебя замуж, люблю другого,— пошутила Жаннетта.
Но Этьен уже твердо знал, что она станет его женой.
Чем эта пухленькая девушка его прельстила? Он не думал об этом. Ему даже казалось святотатством судить о ее внешности, как это делали другие. Сначала ему захотелось всегда слышать ее нежных смех, напоминавший птичье пение. Потом он заметил веснушки на тонком задорном носу, и они умилили его сердце.
«Точно перчиком посыпано ее лицо,— думал Этьен. И когда смотрел на лица других девушек, сожалел о них: — Может, и хороши, да кожа бесцветна, ни одного пятнышка, ни одной веснушки».
Подметив, что Этьен полюбил в ней также и то, что она считала своим изъяном, Жаннетта прониклась к нему не только нежностью, но и своеобразной благодарностью.
«Ведь молоденькие и красивые мы недолго,— размышляла рассудительная девушка.— Потом появятся морщины, немощи. Не на один год выйду я замуж. Такой человек, как Этьен, будет любить меня и неказистую и старую».
— Вдвоем легче и бедовать,— уговаривал ее Кабьен.
— Ты бы о радости, о счастье говорил. А то все о печали! — воскликнула Жаннетта.
— Ты не дала мне досказать. Нам теперь идти не под гору, а вверх... На приступ лучшей жизни.
— Вот этого я и боюсь. Как бы не быть мне вдовой. Сколько их теперь развелось. Чуть раздастся набат, побежишь и ты на баррикады.
— Ну, это не женское дело, тебя не касается,— помрачнел молодой прядильщик.
— Э, нет! Где ты, Этьен, там и я, Жаннетта.— Сама того не зная, девушка с чувством произнесла сакраментальную брачную формулу древних римлян: Ubi tu es, Gains, ibi ego, Gaia!
Через несколько дней Кабьен привел в дом к отцу жену. Она всем соседям пришлась по сердцу общительностью, трудолюбием, веселым нравом. После смерти Женевьевы она предложила взять на воспитание маленькую Катрину и Иоганна-младшего. Его назвала она Жаном.
— Где трое, там и пятеро поместятся,— сказала она твердо, заметив, что муж колеблется.— Кто поможет сиротам, ежели но мы? Как-нибудь перебьемся. Нам жалеть нечего — нищету разве что.— И, уже гневаясь, добавила: — Чего хмуришься, Этьен, ведь это дети твоего друга. Как же не поделиться последним грошом и лоскутом?
Кабьену стало стыдно, и он робко обнял осерчавшую жену.
— Твое дело. Но ведь лишняя работа. Своих детей еще нет, так чужими обзавелись. Впрочем, ты ведь всему голова.
Жан был не по летам серьезный, высокий парень. Никто но дал бы ему четырнадцати лет. В железнодорожном депо он работал вместе со взрослыми и с гордостью вручал Жаннетте заработанные деньги на прокорм себя и сестренки. Он хорошо знал грамоту, свободно читал по-немецки и по-французски, что было большой редкостью среди рабочих, и все свободное время отдавал книгам. Жан не водил дружбы с одногодками и, возвращаясь затемно с работы, читал в углу все, что попадалось под руку.
Жаннетта относилась к нему по-матерински и но замечала, как, отрываясь от чтения, он следил за каждым ее движением. Все в Жаннетте вызывало в нем благоговение. Закрывая глаза, он видел ее подвижную фигурку, миловидное свежее лицо,выпуклую нижнюю губку,слышал детский голос и переливчатый смех. Иногда она ловила его взгляд и говорила, притворно сердясь:
— Ну, чего только ты уставился на меня? Экий соглядатай! Я ведь почти на десять лет старше и гожусь тебе в матери, мальчуган. Ты должен меня бояться и слушаться.
— Какая там мать? — отвечал вяло Жан. И добавлял смущенно: — Матери старые бывают, а ты, Жаннетта, как в книгах пишут, самая красивая на свете. Таких только в театре показывают.
Кабьен часто слышал эти наивные слова восхищения. Он был доволен. Но про себя думал, что мальчуган слишком уж поддался воздействию книг, где все выдумано и нисколько не схоже с действительностью.
Как ни любил Кабьен Жаннетту и ни рвался к ней сердцем в этот медовый месяц их брака, он все реже бывал дома. Жизнь становилась с каждым днем непереносимее для рабочего.
Правительство вернуло в Париж войска накануне выборов в Учредительное собрание. Тщетно клуб Бланки протестовал против этой угрозы народу. Землевладельцы, аристократы, реакционное духовенство и чиновники бешено боролись за то, чтобы собрать голоса для своих депутатов среди темной, невежественной массы крестьян, составлявшей огромное большинство избирателей. Они распространяли хитроумно придуманные сказки о кровожадности республиканцев и создали чудовищную, пугающую легенду о страшном парижанине по имени «Отец Коммунизм». Политическая отсталость крестьян, контрреволюционная агитация анархистов и буржуа привели к тому, что на выборах в Национальное учредительное собрание демократы потерпели большое поражение. Среди восьмисот восемнадцати депутатов — буржуазных интеллигентов, чиновников, землевладельцев, крупных и мелких капиталистов и священников — было только восемнадцать рабочих и шесть мастеров.
Во время торжественного открытия Национального учредительного собрания депутаты стоя провозгласили: «Да здравствует республика!» Семнадцать раз повторен был этот клич. Депутаты вышли к народу, заполнившему площадь перед Бурбонским дворцом, чтобы снова объявить, что республика, завоеванная февральским восстанием парижского пролетариата, есть и будет впредь.
Но это была лишь ширма. С первых же дней деятельность Учредительного собрания подтвердила самые мрачные предположения революционных рабочих. Сразу началось уничтожение всего того, чего добились рабочие после февраля. Чтобы осуществить этот коварный и страшный план, соединились буржуазные республиканцы и монархисты, будь то легитимисты, орлеанисты или бонапартисты.
Когда текстильщики Руана, измученные безработицей и низкой заработной платой, узнали, что их кандидаты в Учредительное собрание не прошли, а вместо них избраны богатейшие фабриканты и эксплуататоры, ярость их не знала предела. Они обвинили власть в фальсификации выборов и устроили шествие протеста у городской ратуши. Прокурор, буржуазный республиканец Сенар, вызвал войска и приказал избивать безоружных рабочих. Началась бойня. Рабочие защищались камнями. Расправа с народом была зверской и кровопролитной. Около ста рабочих были ранены и убиты. Не довольствуясь этим, буржуазия судила повстанцев, и сорок восемь из них, объявленные главарями, были приговорены к каторжным работам и тюремному заключению.
Бланки выпустил грозное воззвание, обвиняя реакционеров в нарочно подстроенной Варфоломеевской ночи для трудящихся Руана. Парижская газета Луи Блана и Флокона «Реформа» писала, что «борьба между пролетариатом и буржуазией начинается сызнова».
Так начался новый период реакции во Франции.
В начале мая Национальное собрание приняло постановление, запрещающее публично зачитывать в его стенах петиции. Просьбы и жалобы разрешалось подавать только в письменном виде через соответствующие бюро. Поводом к такому решению было намерение некоторых революционных клубов организовать шествие к Учредительному собранию с требованием немедленной помощи героической Польше, сражающейся за свободу.
В древнем польском Кракове австрийцы жестоко расправились с героями-повстанцами. В провинции Познань не прекращалась борьба, и прусские войска, пользуясь перевесом сил, громили города и села свободолюбивых, храбрых поляков. Ламартин, хотя и говорил, что имя Польши олицетворяет для французского народа угнетенно одной из человеческих рас и отмщение за тиранию, делал все возможное, чтобы Франция не помогала повстанцам.
Делегации от национальных комитетов Галиции и Познани привезли обращение к французскому народу, содержащее призыв о помощи делу их национального освобождения. Сигизмунд Красоцкий был одним из делегатов от Национального польского комитета в Познани.
Учредительное собрание вынуждено было согласиться на обсуждение польского вопроса.
Парижане, особенно трудящиеся, рвались поддержать борющийся польский народ. Организатором демонстрации перед Учредительным собранием в день обсуждения петиции Польши был Централизаторский комитет, созданный взамен только что распущенного «Клуба клубов». 15 мая к Бурбонскому дворцу с требованием немедленного выступления Франции в защиту восставших поляков двинулось мирное шествие. Оно возникло стихийно, неудержимо.
Старые друзья — Этьен Кабьен и Сигизмунд Красоцкий — ранним утром отправились прямо на площадь Бастилии. Там уже бушевало необозримое людское море. Сигизмунд Красоцкий развернул принесенное знамя. На малиновом шелке с вышитым белым орлом, расправившим крылья для полета, крупными буквами было выведено: «Да здравствует вольная Польша!» Рядом развевались флаги объединенной Германии и свободной Италии. На зеленом, как весенняя трава, фоне вздрагивала поодаль ирландская арфа.
Полчища людей, украсивших грудь значками и кокардами, размахивали зелеными ветками, букетами цветов и полевых трав. Все было так празднично, ликующе прекрасно, точно люди собирались на прогулку, чтобы танцевать и наслаждаться природой и жизнью. Смех, песни, шутки, сливаясь, звучали как симфония радости, братства и полной доверчивости. Ничто не предвещало, что может на ясном майском небе появиться туча и омрачить торжество.
— Мы идем с визитом к нашим приказчикам и ждем их гостеприимства,— острили в народе.
— Это не приказчики, а наши слуги. Так они сами себя величают.
— Да здравствует всеобщая республика!
— Да здравствует сестра Франции — Польша!
Более ста пятидесяти тысяч людей медленно двигались к дворцу Бурбонов, где находилось отныне Национальное собрание. Они решили высказать свою волю. Многие из демократов и социалистов надеялись на то, что будет создано революционное правительство, и готовились к этому. Их план гласил следующее: распустить Национальное собрание; учредить Комитет народного спасения из девяти человек; удалить всех чиновников, заведующих общественными функциями, за исключением только мэров; назначить и утвердить городские комитеты из семи членов, из которых пять должны быть рабочие; создать оборону из рабочих, распустить Национальную гвардию и выслать тех ее членов, которые будут носить мундир и оружие; ввести прогрессивный налог, соответствующий четвертой или даже третьей части дохода капиталистов; недвижимое имущество тех, кто откажется платить этот налог, объявить общественной собственностью; в течение трех недель урегулировать законом условия труда в интересах рабочего класса.
Тщетно опытный политик Огюст Бланки, помня о предательстве в ратуше всего месяц тому назад, предостерегал членов своего клуба от преждевременного выступления. Он говорил:
— Воздержимся. Еще не приспело наше время, чтобы бросить вызов реакционерам и победить. Надо беречь силы тружеников. Сейчас враги сильнее нас. Потерпим же, друзья, всего пять-шесть недель. Ветер изменит свое направление и подует в нашу сторону.
Этьен Кабьен и другие рабочие поддержали Бланки. Но 15 мая ничто не могло удержать народ. Революционный водоворот закружил всех. Тогда Бланки возглавил выступление. Даже всегда колеблющийся, не имевший твердой цели Барбес вышел на улицу с членами своего клуба.
За шутками, громким смехом толпы скрывалось глубокое недовольство, разочарование, беспокойство за революцию. У церкви святой Магдалины демонстрация задержалась. Стихийно возник митинг. Цепляясь за острые прутья ограды, ораторы взбирались на каменные выступы стены, чтобы произнести речь. Они грозили кулаками в сторону расположенного неподалеку Бурбопского дворца.
И тогда настроение слушателей резко изменилось. Нахмурились лица, раздались возгласы недовольства. Точно налетел шквал — и вспенилось людское море.
Ораторы, члены различных клубов Парижа, возмущались правительством. Оно не помогало Польше сбросить иго деспотизма. Иные напоминали об Италии, борющейся с Австрией, третьи требовали роспуска Национального собрания, обманувшего чаяния народа.
Выступил и Сигизмунд Красоцкий. От волнения он слегка заикался.
— Когда моя родная Польша была еще жива, еще свободна, она была светочем европейской культуры. Пусть не думают поработители, что им удалось ее убить; она не умерла, она только заснула.
— Да здравствует Польша! — отвечали демонстранты.— Говори, поляк, дальше!
И Красоцкий, все более овладевая собой, продолжал:
— Я не хочу оскорбить кого-либо подозрением, что он не предан делу Польши искренне и всецело, как мы, ее сыны, однажды уже доказавшие силу своей любви к родине. Весь вопрос в том, какие средства должны быть избраны для быстрейшего восстановления независимости Польши. Франция очень сильна. В ее распоряжении пол-миллиона солдат регулярной армии и Национальная гвардия. Она может, если захочет, диктовать свои взгляды и идеи другим государствам, не прибегая к крайнему средству царей и королей — к войне. Пусть же Франция поможет Польше обрести свободу! Мы ждем, мы надеемся.
И снова крики «Да здравствует свободная Польша!» были ему ответом.
Внезапно на каменных ступенях церкви святой Магдалины появился Бланки. Возгласы радости и восхищения, как всегда, встретили его.
— Народ,— начал он резким, сильным голосом, простирая вперед худую жилистую руку. И толпа, столь возбужденная, умолкла. Люди стремились лучше видеть и не проронить ни одного слова, сказанного этим овеянным легендами, загадочно сильным оракулом революции.— Я думаю, что выражу чаяния всех, если скажу: народ Франции предлагает Национальному собранию тотчас же торжественно обещать, что мы не сложим оружия, пока не будет восстановлена Польша тысяча семьсот девяносто второго года, пока она не станет свободной. Мы, униженные и оскорбленные французы, требуем также искупления за те преступления, что совершило правительство в провинции. Все вы знаете: недавно в Руане пролилась невинная кровь сынов и дочерей нашего народа. Позор! Во времена революции творятся страшные злодеяния в республиканской Франции. К ответу преступников!
Затем Бланки потребовал, чтобы Национальное собрание занялось законом об охране труда. Он принялся жестоко бичевать буржуазию, порождающую нищету и неравенство.
— Вперед! Да здравствует республика! — раздались возгласы, как гул морского прибоя в бурю. Десятки рук бережно сняли хилого, иссиня-бледного народного трибуна. Он возглавил демонстрацию, направлявшуюся к дворцу.
— Вперед!
Миновав площадь Согласия, демонстранты подошли к дворцу Бурбонов и заняли все входы. Первый, кто вышел им навстречу, был Ламартин. Он все еще рассчитывал на воздействие своего мелодичного голоса и гладких, красивых слов. Но на этот раз его не стали слушать.
— Прочь! — раздалось из толпы. — Довольно повторять свои старые песни. Хватит фраз!
Ламартин поспешно удалился. Народ ворвался в огромный зал заседания Национального собрания. Люди в синих блузах, красных галстуках, обросшие, пыльные, потные, вызвали среди занимавших ложи и галереи светских дам, являвшихся на заседания, как на спектакли, переполох и смятение. Роняя шарфы, веера, бинокли, они бросились прочь по просторным галереям. Если бы стая хищных животных ворвалась в эту пышно разряженную ассамблею, паника не могла бы быть большей. Грохоча, падали сломанные кресла и скамьи. Умевшие подмечать все смешное, люди из предместий весело смеялись.
— Бегите штопать разорвавшиеся чулки и оборки! — кричали они вслед бегущим.
Неe меньший ужас обуял дипломатов и их жен, занимавших лучшие места в зале. Выбраться из переполненной) людьми здания было не легко. Потерявшие самообладание господа в сюртуках и рединготах прыгали через перила галерей или по колоннам спускались в зал. Там творилось не меньшее столпотворение. Трибуна французского парламента превратилась в арену ожесточенных схваток. Барбес, считавший, что победа обеспечена и что ему предстоит возглавить новое правительство, теснил со своими приверженцами депутатов Национального собрания, представителей крупной буржуазии. Совершенно растерявшийся Луи Блан, надрываясь из последних сил, умолял парод сохранять спокойствие. У подножия трибуны уже началась драка. Противники падали друг на друга, задние теснили передних, при этом все бранились и кричали.
Депутат Распайль тщетно пытался взобраться на трибуну, чтобы прочесть петицию народа. Внезапно кто-то крикнул:
— Бланки, пусть говорит Бланки! Мы хотим слушать Бланки!
Рабочие подняли Бланки на плечах, п он сказал еще одну чудесную, зажигательную речь о воле народа. Едва он кончил, к трибуне подняли штык, на кончике которого был наколот лист бумаги со словами: «От имени народа: Национальное собрание считается распущенным».
Председателя собрания тотчас же бесцеремонно столкнули с его кресла. Раздались призывы: «К оружию, братья! В ратушу!» Кабьен, призвав к тишине, огласил список кандидатов нового правительства. В нем значились первыми Бланки, Кабе, Барбес.
Духота в зале между тем становилась угрожающей. Задыхавшиеся, утомленные демонстранты, считая свою победу несомненной, направились к выходам из дворца. Кое-кто собирался пойти в ратушу. Искали Ледрю-Роллена, чтобы заставить и его пойти туда же. Но, прикинув, что победители скоро будут побеждены, юркий и приспосабливавшийся только к сильным министр спрятался под столом в одной из канцелярий дворца. Барбес же, сначала не доверявший исходу дела, наоборот, вообразил, что может вскоре получить столь желанное место в правительстве, и отправился в ратушу, чтобы не упустить представившейся возможности. Он просчитался, в то время как подленький Ледрю-Роллен оказался в выигрыше.
В Бурбонский дворец ворвались национальные и мобильные гвардейцы. Демонстранты вынуждены были отступить. Заседание Национального собрания возобновилось. Вылезший из-под стола Ледрю-Роллен и откуда-то вынырнувший Ламартин под охраной гвардейцев верхом направились в ратушу.
Там Барбес подписывал декрет о роспуске Национальной гвардии. Национальные гвардейцы с Ламартином и Ледрю-Ролленом во главе арестовали Барбеса и отправили в крепость Венсенн. Так было покончено с «мятежом против республики». И снова, как в дни разгрома восстания «Общества времен года», реакционеры бросили лозунг: «Долой Бланки! Долой Барбеса!» Несмотря на отход Барбеса от своего бывшего соратника, враги революции соединили его имя с именем Бланки.
Неудачная попытка переворота послужила еще одним сигналом к свирепому террору реакции. Опьяненные вином и бесконтрольностью, мобильные и национальные гвардейцы громили под видом обысков квартиры демократов и социалистов, опустошали редакции их газет, закрывали народные клубы.
Расправились они и с «Центральным республиканским обществом». Его председателю Бланки пришлось отныне вести в Париже жизнь, полную опасностей.
Одно время Бланки скрывался у надежных друзей на улице Монтолон. Он носил форму офицера Национальной гвардии и имел при себе подложные документы. Бланки был бодр и деятелен, как всегда, и напряженно работал над созданием новой революционной организации, сохраняя обычное самообладание. Кабьеи был поражен его удивительной выдержкой и силой духа. Этьен Кабьен, за которым тоже неусыпно следила полиция, все-таки нашел способ незамеченным посетить Огюста Бланки.
— Я пришел к тебе, старик, чтобы от имени друзей не только в Париже, но и во всей Франции настаивать, просить тебя уехать отсюда,— сказал Кабьен решительно. — Беги в Англию или Америку немедленно. Все готово для этого. Верные люди ждут тебя. По твоим следам идет стая полицейских. Ты рискуешь головой. Тебя прикончат. А ты нужен всем истинным республиканцам на свободе. Сохрани себя для революции, для нас, рабочих.
— Никогда я не бежал с поля битвы. Бой только еще начинается,— ответил Бланки.— Мое место во Франции и именно в Париже. Тут подлинная арена борьбы. Кто убедил тебя, Этьен, в том, что умереть на тюфяке почетнее и приятнее, нежели в схватке или даже в крепостном рву? Где бы я ни был, остаюсь всегда воином революции, следовательно, могу ждать пули в лоб либо в затылок. Право, лучшая из смертей, по-моему, на баррикаде и от руки врага. Ведь это означает — в борьбе.
— Знаешь ли ты, Бланки, что наш общий друг смелый Марш вчера схвачен и заточен в Венсеннский замок? Я никогда не забуду его слов двадцать пятого февраля: «Рабочие согласны пожертвовать для республики тремя месяцами нищеты». И что же, мы получили три месяца измены. Подумать, что такой силач, такая голова, как Марш, связан, брошен в тюрьму, чтобы кормить там вшей.
Кабьен не мог скрыть, как ему тяжело. Бланки нахмурился. У него нервно задрожали сухие серые веки.
— Марш отточит на тюремных камнях свой ум. Этот парень — настоящий борец. А рабочие нищенствуют три месяца, и не видно, чтобы их ждало что-либо другое. Не только солью, но и кровью окроплен их черствый хлеб.— Бланки встряхнул головой.— Надо готовиться к действию. Что еще слышно в городе, Кабьен?
— Реакционеры свирепствуют. Они кричат: «Долой республику».
— Все понятно! Правые и те, что называют себя центром, открыто высказывают свои симпатии монархическому образу правления. Стыд и страх, сдерживавшие их порывы, исчезли отныне. Буржуа и богатые крестьяне хотят королевской власти.
— Ледрю-Роллен,— сказал Кабьен,— несмотря на то что ползает перед буржуазией на брюхе, да и всеобщий примиритель Луи Блан вскоре будут отброшены с позором прочь от порога власти. Ламартин тоже кажется подозрительным господам реакционерам. Они ему еще припомнят, как он вначале пел народу любовные песни.
— Несомненно, это уже политические мертвецы, хотя и стараются выслужиться. Не все живые действительно живы,— сказал Бланки и, пронизывающе взглянув на Кабьена, спросил: — А ты, друг, готов ли к боям?
— Я рабочий. Был и буду до смерти с такими же блузниками, как я сам,— твердо ответил прядильщик.
— Спасибо, брат. Не унывай. Будущее за тружениками. И если нам придется умереть, нас утешит сознание, что победа все же будет за нами. А где Иоганн Сток?
— Он в Лионе. Там у нас много дела.
— Да, рабочий Лион не так легко сломить. Вот где Национальная гвардия заслуживает своего громкого названия. Она почти вся состоит в Лионе из рабочих и по поддерживает реакцию.
Долго говорили еще два соратника. Заканчивая беседу, Бланки сказал:
— Запомни, Этьен, впереди предстоят жестокие бои, смертельные схватки. Будь храбр. Не бояться смерти — значит перестать быть животным и стать человеком. Подавить инстинкт страха то же, что добыть себе непроницаемую броню. Реакционеры толкают Францию в бездну. Остановиться они не смогут. Дело народа — пресечь их гнусный заговор, иначе на много лет на нашу родину опустится мрак.
Бланки задумался. Серое лицо его казалось высеченным из гранита, и только глаза горели, как факелы.
— Может найтись и диктатор, который превзойдет в деспотизме презренное ничтожество, каким был Луи-Филипп. Желая разделаться с нами, богачи изберут себе в правители любого палача. Но мы не сдадимся ни в каком случае и, верю, победим. Неиссякаема сила народа, борющегося за свои права. Вот, кстати, мое письмо тем, кто мечтает видеть Бланки висящим на фонаре: «Терпение, господа, ваша Национальная гвардия еще но сумела поднять меня на свои штыки, я свободен и скоро снова смогу обратиться к народу».
— Я хотел спросить тебя,— сказал, собравшись уходить, Кабьен, — как быть рабочим и ремесленникам, если правительство закроет мастерские? Их ждет тогда голод. А нищета и так измучила нас и наши семьи. Что сказать мне тогда безработным?
Бланки досадливо поморщился.
— Это, право, не самое главное. Нужно прежде победить. Потом будем думать, чем помочь нуждающимся.
— Словами, даже самыми хорошими, не накормить и не одеть детей. Скажи, Бланки, как нам быть?
— Нужно отобрать самых испытанных и отважных и создавать тайные общества действия. Тогда мы победим и осуществятся наши желания,— упрямо заявил Бланки.
Тщетно Кабьен добивался от него ответа на свой вопрос, как помочь голодающим и предотвратить безработицу. Прощаясь с Этьеном, Бланки назначил ему встречу через несколько недель, когда, по его мнению, можно будет начать открытую борьбу.
Оставшись один, Кабьен почувствовал недовольство.
«Бланки не смог мне ответить. Что же я скажу труженикам? Как нам быть, как жить?»
Кабьен вспомнил рассказ Стока о Марксе. Неужели этот ученый немец ответил бы на его вопрос, помог бы советом? «Но разве не французы учат весь мир борьбе за революцию? Это не дело немцев»,— решил он, однако.
В последних числах мая Огюста Бланки подстерегла и схватила полиция. Для него начались снова бесконечное мученичество и пытки тюрьмы. К семнадцати потерянным годам, проведенным до этого в заточении, прибавились еще двадцать лет погребения заживо.
В двадцатых числах ветреного, жаркого, пыльного июня рабочим национальных мастерских в возрасте от 18 до 25 лет правительственная исполнительная комиссия, заседавшая в Люксембургском дворце, предоставила на выбор либо немедленно вступить в ряды армии, снова введенной в Париж, либо готовиться к отъезду в департаменты, какие им будут указаны, и заняться там земляными работами с подряда.
Чаша терпения пролетариев оказалась переполненной до краев.
— Мы не пойдем! Нас хотят уморить лихорадкой в нездоровых местностях. Наш поденный заработок будет равняться отныне пятнадцати су. Что будет с нашими семьями? Нас посылают в изгнание, приговаривают к смерти. Наши дети, жены и старики обречены на гибель. Мы не пойдем!
По всей столице на улицах, в переулках толпились люди, охваченные тем отчаянием, которое предвещает восстание.
— Мы не пойдем! — раздавалось со всех сторон.
На одной из площадей собралось более ста тысяч рабочих, чтобы избрать делегацию и послать ее в Люксембургский дворец в исполнительную комиссию. Кабьен, избранный делегатом, выступил с речью.
— Мы говорим властителям Франции: нет силы на земле, которая может лишить нас права на труд.— Кабьен дрожал от негодования.— Мы добыли республику кровью своей и не дадим сделать нас снова рабами. Мы требуем справедливости, а в ответ нам показывают штыки! Мы просим работы, а получаем свинец. Соединимся же и, провозгласив, что права труженика нарушены, мощным натиском раздавим всех хищников и эксплуататоров.
В Люксембургском дворце в исполнительной комиссии делегации рабочих, возглавляемой Кабьеном и Пюжолем, ответили кратко:
— Если рабочие не хотят отправиться добровольно в провинцию, мы принудим их к этому силой.
Кабьен и Пюжоль вернулись на мрачную площадь Сен-Сюльпис.
— Граждане,— начал Пюжоль,— верны ли вы знамени республики?
Тысячи голосов ответили:
— Да!
— Слава вам, сыны Парижа! Всей Франции вы даете пример мужества и патриотизма. Горе тем, кто остается глух к голосу народа. Соединимся же все, и пусть наш клич «Работы и хлеба!» прозвучит из края в край нашей родины. Идемте вновь сражаться за республиканские права! Вперед!
— Мы верили обещаниям, но нас обманули, нас подло предали. Клянемся же все отомстить за измену! —крикнул Кабьен.
— Клянемся! — единым дыханием отвечали десятки тысяч людей.— Клянемся!
Наступала ночь. Вздрагивая, запылали багровые факелы.
Восстание началось.
На улицах предместья Дю-Тампль, Ла-Вилетт и Сент-Антуан с молниеносной быстротой возникли баррикады.
Огромный Париж загудел.
— К оружию! На баррикады!
Перепуганная буржуазия бросилась искать спасения у командующего армией генерала Кавеньяка, нетерпеливо ждавшего часа, когда он сможет разделаться с революционными рабочими и стать фактическим диктатором.
Он сознательно медлил, выжидая, чтобы отчаявшийся парод вышел на улицы и построил побольше баррикад. Ему хотелось кровопролитной бойней раз и навсегда покончить с тем, кого он считал неукротимой постоянной опасностью,— с пролетариатом Парижа. Лишь убедившись, что все предместья заняты восставшими, он приказал стянуть свои войска на равнину Сен-Дени.
Алжирский генерал не скрывал своей радости от предстоявшей победы в столь неравной борьбе. Прохаживаясь по своему кабинету, Кавеньяк испытывал опьяняющее наслаждение палача. Наступало время действовать. Он дал приказ одному из подчиненных двигаться со своей бригадой по Большим бульварам и разбить повстанцев в районе заставы Сен-Дени, не жалея пороха и пуль, другому — укрепиться в ратуше. Третий отряд войск должен был двигаться от дворца Люксембург к пантеону. Ни старикам, ни детям, ни женщинам не должно быть пощады, если они принадлежат к пролетариату. Разрешалось убивать их на месте, где бы они ни появлялись — в окнах домов, в подворотнях, на улицах.
...Выглянув из-за баррикады, Кабьен заметил, что солнечные часы на бульваре показывали около часа дня. В это время гвардейцы и солдаты Кавеньяка открыли убийственный огонь по укрытию рабочих. Скрывшись за опрокинутой телегой, водруженной на гребне баррикады, Кабьен приказал своему отряду выжидать. Под четкий барабанный бой шли по улице национальные гвардейцы. Когда они приблизились, Кабьен, командовавший баррикадой, крикнул:
— Стреляй!
Тотчас же из-за прикрытия высотой с двухэтажный дом посыпался град пуль. Мостовая покрылась убитыми и ранеными гвардейцами. На помощь им, застигнутым врасплох, поспешил новый батальон. Свинцовый град снова посыпался на гвардейцев с крыш окружающих домов, из окон и с террасы соседнего кафе. Кабьен дал знать на ближайшую баррикаду, что есть возможность ударить по противнику с тыла. Он послал туда для подкрепления нескольких повстанцев и ружья. Баррикада Кабьена была построена весьма искусно и сообщалась переходами с двумя другими через пролом в стенах домов.
Очутившись под перекрестным огнем, войска Кавеньяка отступили. Тогда рабочие выбежали на улицу и бросились в рукопашный бой. С красным знаменем в руке на верху баррикады появился Кабьен.
— Да здравствует социальная республика! — резким, сильным голосом крикнул он.
— Работу или свинец! — раздался за ним женский голос.
Оглянувшись, Кабьен увидел Жаннетту, которую оставил дома, в безопасности. Впервые за этот кровавый день на лице его отразился ужас.
— Зачем ты здесь? Сейчас же беги домой!
— Где ты, Этьен, там и я, твоя Жаннетта.
В это мгновение Кабьен увидел в переулке подходившее свежее подкрепление мобильной гвардии. Позабыв обо всем, он соскочил вниз, чтобы предупредить свой отряд об опасности. Защитники баррикады, отстреливаясь, вернулись под прикрытие. Гвардейцы бросились на новый приступ. Разгорелся ожесточенный бой.
— Ни шагу назад, победа должна быть за нами! — подбадривал Кабьен с вершины баррикады. Заметив некоторую растерянность среди рабочих, он снова высоко поднял знамя.
В этот момент вражеская пуля свалила его. Уронив древко с красным полотнищем, он поскользнулся и упал на штыки озверевших гвардейцев.
Пурпурное знамя подхватила Жаннетта. Маленькая безоружная юная женщина с развевающимися светлыми волосами остановила солдат. Кто-то из них знаками приказывал ей скрыться. Но офицер взял ружье, прицелился и выстрелил. Без стона упала Жаннетта на руки юного Жана Стока. Тотчас же из-за баррикады показалась еще одна женская фигурка и подхватила залитое кровью Жаннетты знамя. Сраженная насмерть пулей, упала вскоро и она. Но защитники баррикады с силой отчаяния и жажды мести продолжали сражаться еще долго. Только через два дня пала баррикада Кабьена. На ней не осталось в живых ни одного человека. Лишь раздробив камни артиллерийскими снарядами, решились гвардейцы подойти к баррикаде вплотную.
Восстание охватило весь город. Более четырехсот укреплений рабочих закрывали проходы в предместья, на многие бульвары и улицы. Париж был объявлен на осадном положении, а вся исполнительная власть по решению Национального собрания перешла к Кавеньяку.
Наконец-то он стал диктатором. Как упорно и страстно добивался он этого! Париж сотрясала беспрерывная канонада. Осажденные повстанцы сражались как львы, насмерть. Они предпочитали умереть за нагромождениями из камней и щебня, нежели сдаться. Погибших сменяли живые. Многие в эти последние дни приводили к себе на баррикады жен и детей.
— Мы не можем их кормить, пусть же умрут вместо с нами.
Женщины бросались навстречу штыкам.
— Вы убили наших мужей, сыновей и братьев, — убейте же и нас!
Дольше всех сопротивлялось Сент-Антуанское предместье.
Рабочие вывесили на баррикаде плакат:
«Граждане!
К оружию! Мы хотим социальной и демократической республики. Мы хотим самодержавия народа. Иного желания не может и не должно быть у граждан республики. Но для защиты республики необходимо содействие всех... Это святое дело защиты насчитывает уже много жертв; мы все, как один человек, решили отомстить за павших мучеников или умереть. Вперед же, в бой! Пусть ни одни из нас, граждан, не отвернется от этого призыва. Если в слепой закоснелости вы останетесь равнодушными при виде этого моря пролитой крови, то мы ляжем костьми под развалинами Сент-Антуанского предместья. Подумайте о ваших женах, о ваших детях и станьте в наши ряды!»
Кавеньяк предложил сент-антуанцам под страхом свирепой кары сдаться. Они ответили, что капитулируют, только если будут приняты их условия: 1) Национальное собрание должно быть распущено, 2) армия отведена на 40 миль от Парижа, 3) все пленники Венсеннской тюрьмы немедленно освобождены, 4) народ сам выработает конституцию, 5) постановление о роспуске национальных мастерских должно быть отменено, 6) Национальное собрание обязуется издать закон о праве на труд.
Начались переговоры менаду рабочими и представителями Кавеньяка.
— Мы не бунтовщики. Мы защитники республики, борющиеся за свои принципы,— говорили рабочие трем генералам — делегатам правительства.
Кавеньяк через своих парламентеров угрожал, что не оставит камня на камне от всего предместья, если баррикады не будут разобраны немедленно и повстанцы не сдадутся без всяких условии. Тогда рабочие потребовали за капитуляцию еще несколько дополнительных гарантий: пленные революционеры будут освобождены, оружие у них но будет отобрано и никаких преследований за июньское восстание не последует. Кавеньяк отверг все требования рабочих и дал несколько часов для размышления, с тем чтобы затем возобновить наступление на героические баррикады.
С тяжелым чувством вернулись к повстанцам делегаты народа после переговоров. Надежды больше не было. С высоты баррикады, запиравшей вход в предместье, выступили они с отчетом перед стойкими защитниками прав трудового народа. Выбора не было: либо без всяких условий сдаться, либо сражаться до последнего патрона и человека. Рабочие выбрали последнее. Нападение солдат Кавеньяка было бешеным и неудержимым. Баррикады окутал густой пороховой дым от разрывающихся снарядов. Смерч пыли кружился над крышами, скрывая солнечный свет. Падали камни, горели дома. Слышались людские крики, адский гул канонады.
Регулярные войска обошли Сент-Антуанское предместье и ударили по рабочим с тыла. Началась расправа с мужественными героями.
Женщины молили солдат не расстреливать пленников. Но по всему городу шли массовые казни. Городская ратуша, пантеон, Монмартрские каменоломни предместий Дю-Тампль и Сент-Антуан превратились в места боен. Кровь ручьями лилась по мостовой. Но те, кто, пережив мгновение ужаса, нашел затем покой смерти, оказались счастливее десятков тысяч попавших в погреба и подвалы в качество заложников и арестантов. Их сбрасывали ударами прикладов в смрадные подземелья и ямы, без воздуха и света, полные гнилостной воды и крови. Когда эти темницы ужасов переполнялись до отказа людьми, которых ничем не кормили и не поили, стража выволакивала часть полуживых узников наверх. Очутиться на воздухе значило быть немедленно убитым, и многие из мучеников предпочитали это. Трупы сбрасывали в Сену, и течением их уносило в море.
Много дней и ночей на площади Карусель непрерывно раздавались залпы. Париж знал, что каждый выстрел нес с собой смерть героям июньского восстания. В городской ратуше гвардейцы потехи ради встали захваченных рабочих на дверных крюках и оконных переплетах. Они развлекались тем, что сталкивали их с набережной в воду и затем расстреливали. Каждый блузник казался им повстанцем, и многие были зарублены только за то, что носили такую одежду.
В эти дни русский царь Николай I прислал Кавеньяку поздравление по поводу подавления июньского восстания парижских рабочих.
Жаннетта была тяжело ранена и долго не приходила в сознание. Сын Иоганна Стока Жан принес ее на руках домой и выхаживал, как самая лучшая сиделка. Когда Жаннетта пришла в себя, отчаяние, овладевшее ею, было тяжелее самого ранения.
— Зачем осталась я на этом уродливом свете?! — причитала она, срывая повязки с заживающих ран, и заливалась слезами.— Зачем вы меня вылечили? Не хочу я жить! Не хочу! Мое место с Этьеном в сырой земле. Люди хуже волков, те не пожирают друг друга. Будь проклята эта земля, раз на ней нет ни добра, ни жалости, ни правды.
Жан не знал что ответить, а маленькая Катрина испуганно всхлипывала.
Иоганн Сток, узнав по слухам о восстании рабочих в Париже, немедленно выехал из Лиона. Семафорный телеграф бездействовал, и никаких сообщений не передавалось. На полпути до столицы поезд остановился. Почтовые кареты из-за осадного положения задержались в нескольких десятках лье от Парижа. Иогаин попытался пойти пешком, но нога разболелась с такой силой, что он свалился и пролежал более суток на почтовой станции. Сток был в полном отчаянии от того, что не принимает участия в баррикадных боях. Но он надеялся, что успеет добраться к друзьям до решительной схватки. Множество случайностей мешало ему и не давало возможности быстро попасть в Париж.
После трех дней бесплодных попыток портной наконец уговорил одного крестьянина довезти его до окрестностей столицы. Однако внезапно в пути пала лошадь, а у самого городского шлагбаума, куда доплелся Сток, его арестовали, как подозрительного блузника, чуть не расстреляли и выпустили через несколько дней, уже после разгрома героического восстания.
Десятки тысяч рабочих были убиты в бою или расстреляны и замучены. Парижская буржуазия давала бесчеловечный урок ненавистным ей пролетариям.
Иоганн Сток не нашел ни одного из многочисленных своих друзей. Одни были убиты карательными отрядами Кавеньяка, других заточили в тюрьмы или выслали на погибель в заморские колонии. Непосильная работа и желтая лихорадка — эта бескровная гильотина ~ в течение первого же года изгнания освобождали высланных от бремени, каким для них стала жизнь.
У Стока не было больше своего домашнего очага. Дети жили у Жаннетты. Он отправился туда. Отец Кабьена, арестованный за сына, погиб в подземной тюрьме Тюильрийского сада. Без воздуха, без воды и еды, в темноте отвратительной ямы сидел он несколько дней среди многих себе подобных. Однажды, задыхаясь от зловония, подполз он к решетке узкого окна, чтобы подышать свежим воздухом. Голод терзал старика, и, увидев проходящего солдата, он попросил хлеба. «Вот тебе хлеб!» —ответил тот, смеясь, и пустил ему пулю в лоб.
— Просторно стало у нас, — с горькой усмешкой сказала Жаннетта Стоку. — Я да твои дети.— Глаза ее казались Стоку в эту минуту безумными.— Неужели не будет убийцам отмщения? — вдруг закричала она.— Что нам делать? Как отомстить? Камни пропитаны кровью. Кровь везде. Ты слышишь выстрелы? Это до сих пор расстреливают наших братьев.— Она зажала ладонями уши, и гримаса ужаса исказила ее лицо.— Кто же будет отныне строить их дома, мосты и железные дороги, прясть и шить убийцам платья и обувь, ковать их лошадей, добывать им металлы и уголь, рубить дрова? Они не успокоятся, пока не отправят нас всех на кладбище. Но зачем пас хоронить, когда можно топить в реках? Вода омоет наши раны. — Жаннетта вдруг разразилась смехом, от которого Стоку стало не по себе. Он усомнился в ее рассудке. Но она сказала, как-то сразу окаменев:— Я в своем уме, Иоганн! Скажи, что же произошло? Я была женой Кабьена целый месяц. Знаешь ли ты, что значит не хоронить самых дорогих тебе людей? Все они уходят, исчезают... Может, они вовсе и не умерли? А? Где их искать? Мой отец ушел из деревни в город и не вернулся. Говорили потом, что он умер. Но я не видела его в гробу, не целовала его лба, не провожала в могилу, не лежала на траве, под которой покоится его тело. Моя мать умерла, когда я служила в прислугах. Мы были бедны, самые бедные в Сен-Дени, и никто не запомнил, где ее зарыли. Теперь не стало Кабьена и его отца. Я видела, как упал Этьен, и подхватила знамя, чтобы над ним не надругались враги. Но умер ли он, где его тело? Я не хоронила мужа, а все зовут меня вдовой Кабьена... Ушел и пропал старик свекор.
Жалость все более овладевала Стоком.
— Они погибли, как и многие тысячи других героев. Память об Этьене Кабьене не исчезнет, а разве это не важнее бугорка земли, под которым истлевают его кости?
— Я не верю, что их всех нет. Может быть, они вернутся. Если б я своей рукой закрыла дорогие мне глаза, поцеловала милые руки, омыла бы слезами его тело, ходила бы на могилу, как в родимый отчий дом...
Она заплакала, и Сток тоже едва сдерживал слезы. Разве не целовал и он на могиле Женевьевы траву, разве в шелесте кладбищенских деревьев не находил успокоения?
Жан, молча слушавший разговор отца и Жаннетты, сказал своим ломающимся отроческим голосом:
— Нечего хныкать. Мы отомстим убийцам. И как отомстим! Мы рассчитаемся с ними за каждую пролитую каплю крови! — Он потряс кулаком.
— Отлично, парень,— ответил Сток, оправившись и как бы даже устыдившись только что выказанной слабости. — Тебе будет легче. Ты будешь бороться с буржуазией, когда пролетарии будут иметь опыт этой борьбы. Сейчас нам, рабочим, видно, это еще не по силам. Не всегда баррикады решают исход борьбы.— Помолчав, Сток добавил:— Подрастешь — поймешь. Я в твои годы был совсем еще несмышленым, хоть и крепким дубком. А вот выучился кое-чему и опален порохом, как дуло ружья.
Жаннетта подошла к Стоку.
— Отец,— сказала она, сама не замечая, что называет его так. Совсем седой, сутулый, хромой портной выглядел по сравнению с нею очень старым.— Отец, неужели революция кончилась? А как счастливы были мы весной...
— Да,— помолчав, ответил портной,— лучшие, самые смелые из пролетариев погибли. Наши клубы закрыты. Национальные мастерские уничтожены. Не сразу вырастут наши сыновья-мстители. Наступил теперь праздник для денежных тузов и промышленников, и Кавеньяк сейчас могущественнее Бонапарта после победы под Аустерлицем. Он спас власть и имущество буржуазии. Алжирский палач стал подлинным диктатором.
Шли месяцы зловещей осени 1848 года. Сток томился. Он думал было отправиться в Кёльн к Марксу, с которым непрерывно переписывался, отсылая в «Новую Рейнскую газету» подробную информацию и корреспонденции. Но болезнь дочери, а затем сына, будто чудом выздоровевшего от холеры, задержала его в Париже.
В двадцатых числах июня 1848 года «Новая Рейнская газета» сообщала:
«...Известия, только что полученные из Парижа, занимают так много места, что мы вынуждены опустить все статьи комментирующего характера.
Поэтому всего несколько слов нашим читателям. Ледрю-Роллен и Ламартин, а также их министры — в отставке; военная диктатура Кавеньяка перенесена из Алжира в Париж... Париж залит кровью...»
Днем позже Энгельс писал о страшном 23 июня:
«Июньская революция — революция отчаяния, и она протекает в молчаливом гневе, в мрачном хладнокровии отчаяния. Рабочие знают, что они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть, и перед грозной суровостью этой борьбы умолкает даже веселое остроумие французов.
В истории известны только дна момента, подобные той борьбе, которая, вероятно, в настоящее время еще происходит в Париже: это война рабов в Риме и Лионское восстание 1834 года. Старый лионский лозунг «Жить работая или умереть сражаясь» внезапно ожил вновь через четырнадцать лет и теперь начертан на знаменах... Исчезло единение февральской революции — то поэтическое единение, полное ослепительных иллюзий и обольстительной лжи, достойным воплощением которого был сладкоречивый предатель Ламартин».
Подробности трагедии, разыгравшейся в Париже, Энгельс гневно описывал день за днем в «Новой Рейнской газете», горя негодованием против буржуазии.
Печать германской буржуазии прославляла палачей генерала Кавеньяка. Клевета и ложь обрушивались на героев, которые четыре дня сражались на баррикадах французской столицы с превосходящими их во много раз силами противника.
Маркс и Энгельс, зорко следя за маневрами реакции, давно ожидали неизбежного столкновения между пролетариатом и буржуазией Парижа. И все же кровопролитная гражданская война глубоко потрясла их души.
Не покидая ни на час редакции, они ждали депеш из Франции но семафорному телеграфу и, главное, курьеров из залитого кровью города. За столом Маркса обсуждали привозимые известия, нетерпеливой рукой вскрывали пакеты и просматривали документы и последние французские газеты.
Маркс и Энгельс работали неустанно. Дело, за которое сражались французские пролетарии, было их кровным делом. Каждый из них мысленно сражался на баррикадах Парижа.
«Храбрость, с которой сражались рабочие, поистине изумительна,— писал Энгельс,— От тридцати до сорока тысяч рабочих целых три дня держались против более восьмидесяти тысяч солдат и ста тысяч национальных гвардейцев, против картечи, гранат и зажигательных ракет... Рабочие разбиты, и значительная часть их зверски уничтожена... Но история отведет им совершенно особое место, как жертвам первой решительной битвы пролетариата».
Июньская революция парижских рабочих потерпела поражение. Снова торжествовала международная реакция. Карл Маркс, следивший за всеми перипетиями борьбы, в своей статье «Июньская революция» подвел итоги чудовищным событиям, происшедшим в столице Франции.
Карл не покидал редакции. Иногда он вставал из-за стола и подходил к окну. Небо было зловещим, предгрозовым, пунцово-серым. Город изнемогал от зноя и духоты. Солнца не было, не было и дождя. Ночь не приносила облегчения. Воздух казался неподвижным и окутывал, как густая пыль.
На рассвете в кабинет Карла зашел Энгельс. Маркс протянул ему исписанные листы.
— Уже готово? Это так не похоже на тебя, Карл! И ты не задержишь своей статьи и, как обычно, но захочешь что-то дополнить, выправить, изменить в написанном?
— Время не терпит, Фридрих,— ответил Маркс псе еще во власти мыслей, которые излагал в своей статье.— Обрати внимание — ни одного известного республиканца, будь то из «National» или из «Reforme», не было на стороне народа! Не имея других вождей, других средств, кроме самого восстания, народ оказывал сопротивление объединенным силам буржуазии и военщины дольше, чем какая-либо французская династия... Питомцы медицинского факультета отказывали раненым плебеям в помощи науки. Наука не для плебея, который совершил неслыханное, небывалое преступление — вступил на этот раз в бой за свое собственное существование, вместо того чтобы проливать кровь за Луи-Филиппа... Итак, фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Кавеньяка.
— Это сказано отлично,— прервал Энгельс.
— Вот оно — fraternité противостоящих друг другу классов, из которых один эксплуатирует другой. Братство, возвещенное в феврале, огромными буквами начертанное на фронтонах Парижа, на каждой тюрьме, на каждой казарме. Его истинным, неподдельным, его прозаическим выражением является гражданская война в своем самом страшном обличии — воина труда и капитала. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа два дня тому назад, когда Париж буржуазии устроил иллюминацию, и какую, в то время как Париж пролетариата сгорал в огне, истекал кровью, оглашался стонами. Все это я изложил в своей статье.
— Ты писал ее чернилами, смешанными с кровыо,— тихо заметил Энгельс. — Я прочту статью сам, ты, верно, очень устал, передохни немного.
— В такие дни не должно быть усталости,— отозвался Маркс.— Кажется, я сказал то, что чувствуем и думаем мы все сегодня.
Двадцать восьмого июня в «Новой Рейнской газете» появилась статья Маркса:
«Парижские рабочие подавлены превосходящими силами врагов, но не сдались им. Они разбиты, но их враги побеждены. Минутный триумф грубой силы куплен ценой крушения всех обольщений и иллюзий февральской революции... ценой раскола французской нации на две нации — нацию имущих и нацию рабочих. Трехцветная республика отныне носит только один цвет — цвет побежденных, цвет крови. Она стала красной республикой...
... Февральская революция была красивой революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно, рядышком, находясь в неразвитом виде, ибо социальная борьба, составлявшая нх подоплеку, достигла пока лишь призрачного существования, существования фразы, слова. Июньская революция, напротив,— революция отвратительная, отталкивающая, потому что на место фразы выступило дело, потому что республика обнажила голову самого чудовища, сбив с него защищавшую и скрывавшую его корону...
...При временном правительстве было признаком хорошего тона, более того, было необходимостью внушать великодушным рабочим, тем самым рабочим, которые, как это было напечатано в тысячах официальных плакатов, «предоставили в распоряжение республики три месяца нужды»,— было одновременно политикой и фантазерством внушать им, что февральская революция совершена якобы в их собственных интересах и что в февральской революции речь идет прежде всего об интересах рабочих. С открытием Национального собрания наступили прозаические времена. Речь шла уже только о том, чтобы, как выразился министр Трела, вернуть труд в его прежние условия. Итак, рабочие сражались в феврале для того, чтобы быть ввергнутыми в пучину промышленного кризиса...
...Парижских рабочих от 17 до 25 лет оно либо вынуждает поступать в армию, либо выбрасывает на мостовую; иногородних рабочих оно высылает из Парижа в Солонь, не уплатив даже причитающихся им при расчете денег; взрослым парижанам оно временно предлагает милостыню в организованных на военный манер мастерских, при условии отказа от участия в каких бы то ни было народных собраниях, т. е. при условии, что они перестанут быть республиканцами. Но ни сентиментальная риторика после февраля, ни жестокое законодательство после 15 мая не достигли цели. Надо было решить вопрос на деле, на практике. Для кого же вы, канальи, совершили февральскую революцию, для себя или для нас? Буржуазия поставила вопрос так, что должен был последовать ответ июнем — картечью и баррикадами...
...Конфликты, возникающие из самих условий буржуазного общества, должны быть преодолены в борьбе, их нельзя устранить с помощью фантазии. Лучшая форма государства — та, в которой общественные противоречия не затушевываются, не сковываются насильственно, следовательно, только искусственно, только по видимости. .Лучшая форма государства — та, в которой эти противоречия доходят до открытой борьбы и тем самым находят свое разрешение...
...Но плебеи истерзаны голодом, оплеваны прессой, покинуты врачами, по милости «порядочных», ославлены норами, поджигателями и каторжниками; их жены и дети ввергнуты в еще более безграничную нищету; их лучшие представители из оставшихся в живых сосланы за морс. Обвить лавровым венком их грозно-мрачное чело — это привилегия, это право демократической печати».
«Новая Рейнская газета» была во всем мире первым печатным органом, поднявшим залитое кровью знамя парижских рабочих.
Зажигательные статьи, связанные с июньским восстанием, привели в бешенство и панический страх немногих из оставшихся акционеров газеты. Они решительно отказались иметь какое бы то ни было к ней отношение. Но Маркс и Энгельс, выслушав их негодующие либо испуганные речи на собрании акционеров, не отступили ни на шаг от взятой линии. Ничто не могло уже прекратить в то время существования известной всей Германии и полюбившейся труженикам газеты. «Новая Рейнская газета» смело приняла бой, который ей открыто объявила окрепшая после разгрома рабочих во Франции международная реакция.
В самом начале июля того же бурного 1848 года часовщик Иосиф Молль, честнейший из честных, «настоящий человек», по мнению Маркса и Энгельса, некогда приезжавший к ним в Брюссель, был избран председателем «Кёльнского рабочего союза». А несколькими месяцами позже его сменил на этом посту Карл Маркс.
Каким бы делом ни руководил Маркс, он точно наэлектризовывал окружающих его людей и будил дремлющую в них энергию и творческое разумение. Самые вялые из сто соратников обретали неожиданную устремленность и страстно отдавались работе, которая приобретала для них особую значительность и волнующий смысл. Марксу удалось оживить работу союза. Маркс и Энгельс, будучи людьми внутренне мощными и несокрушимыми, умели уважать человеческое достоинство и ценить дарования других. Они много помогали своим сотоварищам. И в значительной мере поэтому все, что писали в газете Вольф, фрейлиграт, Веерт и остальные сотрудники «Новой Рейнской газеты», обычно сверкало, искрилось, поражало обилием новых мыслей, иронией, заразительным вдохновением.
Улица Шапочников — одна из многих улиц Кёльна. Ничем не отличался внешне от сотен других и дом номер семнадцать. В нем находилось издательство Дица и редакция «Новой Рейнской газеты». За простым столом, в комнате без особых примет, обычно работал редактор Вильгельм Вольф. Казалось, он никогда не оставлял этого места, разве только чтобы побывать в типографии. Настойчивый, трудолюбивый, он отдавал газете всего себя, свое время и досуг.
— Послушай, дружище Люпус,— как-то обратился к Вольфу Веерт,— сегодня опьяняющий вечер, я слышу с Рейна зов Лорелеи.
— Говори проще, Георг. Очевидно, ты хочешь, чтобы я выпустил за тебя завтрашний номер? Как зовут твою Лорелею: Амалией, Луизой или Гретхен?
— Ты величайший из магов и читаешь мои мысли, как гранки,— засмеялся поэт.— Но тайну се имени я унесу в могилу.
— Ну, это уже Шиллер,— шутливо поморщился Вольф.
За исключением Люпуса, все редакторы «Новой Рейнской газеты» не достигли еще и тридцати пяти лет. Они были молоды, жизнерадостны, любили развлечения, шутки, стакан вина в доброй веселой компании.
Стояло яркое лето. В окна дома редакции врывались волнующие запахи свежего сена и цветущих лип. Веерт и Энгельс нередко приходили в редакцию с берега Рейна после купания или гребли, оживленные и радостные. Ночью в редакции к ароматам, доносившимся извне, примешивался едкий, горький запах сигар и нежной «Кёльнской воды» — духов, прославивших во всем миро имя их создателя, уроженца Кёльна — дистиллятора Жана-Марии Фарина.
Энгельс тщательно изучал в это время особенности июньских событий в Париже. Перевес сил в правительственных войсках в значительной степени предрешал исход поражения рабочих, считал Энгельс. Разбирая уличные сражения с военной точки зрения, Энгельс открыл важнейшую ошибку, совершенную восставшими. «Народ был слишком великодушен,— писал он.— На ракеты и гаубицы правительственных войск Кавеньяка следовало ответить массовыми поджогами зданий». Энгельса всегда интересовали военные проблемы. Июньская трагедия учила его тактике и стратегии классовых войн и борьбы во время вооруженного восстания.
Прусское правительство понимало, какой угрозой его господству был подъем рабочего движения в Рейнской провинции. В главном городе ее, в Кёльне, находился штаб Союза коммунистов во главе с Марксом и Энгельсом, имевший могучее оружие — популярнейшую из газет, такую, каких никогда не бывало еще на свете.
«Новая Рейнская газета» была многогранна и умна. Маркс и Энгельс знали, какой несокрушимой силой обладает сарказм и веселый смех. Голос газеты был то очень серьезен, то презрителен, то насмешлив. Сатирические фельетоны в стихах и прозе перемежались с глубоким научным разбором происходящих во всем мире, и особенно в Германии, событий. Стихи Фрейлиграта и Веерта украшали «Новую Рейнскую газету», как и глубокие статьи Маркса, Энгельса, Вольфа, других сотрудников и многочисленных корреспондентов из разных городов.
Георг Веерт писал для газеты сатирическую поэму об аристократическом врале и карьеристе фон Шнапганском, приключения которого очень потешали читателей. Веерт без промаха разил исконных врагов революции: юнкеров, националистов, либеральствующих буржуа и реакционных филистеров. В герое поэмы читатели скоро узнали князя Лихновского, правого депутата Франкфуртского собрания.
Как-то Веерт прочел, примостившись, по обыкновению, на подоконнике, стихи, которые понравились редколлегии и тут же пошли в очередной номер:
Сегодня ехал я в Дюссельдорф. Сосед мой — советник почтенный. О «Новой Рейнской» начав разговор, Бранился весьма откровенно: «Редакторы этой газеты дрянной — Чертей опасная свора: Совсем не боятся ни бога они, Ни Цвейфеля — прокурора! Как средство от всех неурядиц земных Хотят они первым делом Республику красную провозгласить С имущества полным разделом. На части мельчайшие разделен Весь мир будет ими вскоре: На горсти земли и песку — вся твердь, На малые волны — море. Получит каждый на радость себе Кусочек нашей планеты: Достанется лучшее —редакторам Из «Новой Рейнской газеты»... Но тут господин советник умолк. И полон я был раздумья: Каким вы мудрым казались мне В наш век сплошного безумья. Меня ваша речь в восторг привела, А если нужны ответы, Скажу, что я-то редактор и есть из «Новой Рейнской газеты»...«Новая Рейнская газета» казалась властям столь опасной революционной крепостью, что уже в июле против нее возбудили судебное преследование. Прошло менее полутора месяцев со времени выхода первого номера. В Кёльне начались аресты. Газета тотчас же оповестила об этом своих читателей. Полиция ответила обыском в здании редакции. Жандармы вскрыли все шкафы и ящики столов. Тысячи бумажных листков, как снежный буран, завертелись по комнатам.
В ворохе запечатленных мыслей, отчетов, стихов, передовиц полицейские отрыли статью «Аресты», которая показалась им оскорбительной. Она была без подписи, и следователи силились, сопоставляя почерки, найти ее автора. Были допрошены Маркс, Энгельс, Дронке, а также издатель газеты Корф. Все они наотрез отказались назвать автора статьи. Тогда в качестве свидетелей были вызваны в полицию одиннадцать наборщиков.
Через несколько дней, выступая со статьей о судебном следствии против «Новой Рейнской газеты», Маркс писал: «...обращаем внимание читателей на то, что одни и те же преследования начались одновременно в разных местах — в Кёльне, в Дюссельдорфе, в Кобленце. Странная цепь случайностей!»
Спустя несколько дней Маркса снова допрашивали по поводу статьи «Аресты».
Женни с детьми и Ленхен жили в Кёльне в дешевой меблированной квартирке, будто на бивуаке, готовые немедленно, если понадобится, пуститься снова в путь. Скарб семьи так и не выгружался из корзин. Даже многочисленные книги и бумаги лежали неразобранными.
Карлу не часто удавалось вырваться домой. Бывал он и в разъездах. Тем большей радостью сопровождалось его появление. Дети, ревниво отталкивая друг друга, взбирались на его колени или неотступно ходили за ним, а когда наступал вечер, отказывались идти спать и капризничали до тех пор, покуда он сам не укладывал их в кроватки, рассказывая сказку.
Ленхен хлопотала, приготовляя любимые Карлом блюда: мясо под острой подливкой, пирожное со сливками и крепкий кофе. Женни обстоятельно сообщала мужу обо всем происшедшем в семье за время его отсутствия.
Mo Карл обычно торопился в редакцию или по другим делам, и Женни неизменно провожала его. Они шли рядом, поглощенные друг другом, влюбленные, как в ранней юности в Трире, и каждый, кто видел их вместе, невольно думал: «Как они счастливы».
В августе в Кёльне происходил первый рейнский конгресс демократов, на который съехались делегаты семнадцати организаций. В перерыве между заседаниями к Марксу подошел высокий, красивый молодой человек с маленькими холеными усиками на чисто выбритом лице.
— Я давно ждал счастливой возможности пожать вам руку, доктор Маркс,— начал он, заметно любуясь собой и своей четкой дикцией.— Вы, вероятно, слыхали обо мне. Я руковожу дюссельдорфским «Демократическим союзом». Меня зовут Фердинанд Лассаль.
Карл не скрыл своей заинтересованности и ответил крепким рукопожатием.
— Вы еще очень молоды,— сказал он удивленно.
— Мне двадцать три года.
— Что ж, прекрасный возраст для борца. Рад познакомиться. Насколько я осведомлен, в Дюссельдорфе вы не теряете времени даром. И хорошо делаете, что опираетесь в революционно-демократической деятельности на рабочих, а не на буржуазию. Она была бы плохой опорой. Вспомните Париж!
Лассалю не терпелось рассказать Марксу о том, как много времени он тратит на бракоразводную тяжбу графини Гацфельд.
— В «Новой Рейнской газете» мы писали о том, с какой настойчивостью вы ведете это дело,— отозвался Маркс.
— Деятельность моя весьма разносторонняя. Помимо общественных и социальных дел, а также юриспруденции, я намерен в ближайшие годы писать также книгу о Гераклите. Моя работа только начата, но не в моих привычках останавливаться на полпути в чем бы то ни было. II хочу написать о мыслителе древности, который сумел первым высказать революционную мысль о том, что все в мире постоянно подвержено изменениям.
Маркс прищурился и бросил на Лассаля испытующий взгляд.
— Что ж, все это очень похвально. Подобная тема требует мужества.
Откинув красивым жестом завитые волосы, Лассаль принялся в цветистых выражениях превозносить духовную мощь Маркса. Лицо Маркса изменилось. Две морщинки, столь излюбленные Рембрандтом, отражающие суровую волю и проницательность, четко обозначившиеся за последние годы на переносице Карла, углубились, и глаза досадливо сощурились. Маркс не любил похвал, подозревая в них примесь лести и неискренности — свойств, которые он считал особо отвратительными. Лассаль тотчас же уловил недовольство Карла и умно перевел разговор на дела демократического общества в Дюссельдорфе.
В течение нескольких дней, которые Фердинанд Лассаль провел в Кёльне, он постоянно искал возможности видеться с Марксом, но у Карла, однако, все время оставалось возникшее с первого дня знакомства двойственное чувство к нему — расположение и вместе с тем острая антипатия.
Чрезвычайно подвижной, разговорчивый, заражающе деятельный, отлично образованный, остроумный, Лассаль производил впечатление весьма недюжинного человека. Он был хорошо известен в Германии из-за нашумевшего бракоразводного процесса графини Софи фон Гацфельд, который успешно вел вот уже два года.
Лассаль встретил графиню в Берлине, когда она была в отчаянном положении. Оставленная почти без средств деспотом мужем, забравшим у нее ребенка, она тщетно искала помощи. Обращение в суд женщины в среде феодального дворянства означало не только преследование, но и безусловный проигрыш. Судьба одинокой, оскорбляемой всеми Софи фон Гацфельд поразила юношу, едва достигшего двадцати одного года. Он не был юристом, но мысль сразиться с кастой, которую Лассаль ненавидел с детства, увлекла его. В его глазах графиня являлась жертвой не только мужа, но и всей придворной аристократии, хотя она и принадлежала к ней по рождению. Процесс добивавшейся свободы и материнских прав графини должен был стать политическим событием.
Лассаль был честолюбив и склонен к преувеличениям. С отроческих лет он мечтал о борьбе и славе. В четырнадцать лет Фердинанд, отвечая отцу, возмущавшемуся, что сын тянется к революционной деятельности и хочет стать мучеником, в то время как может жить в богатстве вместе с родителями, писал:
«... Если бы все так рассуждали, если бы все были так трусливы, то откуда взялся бы борец? Почему я должен сделаться мучеником? Потому, что божественный голос во мне призывает меня на борьбу, потому, что я могу бороться и страдать за благородную цель, словом, потому, что я но могу иначе...»
Юный Лассаль с самых ранних лет мечтал также и о другом:
«... Хотя я настроен революционно-демократически, республикански, но чувствую, что на месте Лаваньи из «Фиеско» Шиллера я поступил бы так же и не удовольствовался бы только ролью первого гражданина Генуи, а из этого следует, если рассмотреть дело получше, что я просто эгоист. Родись я принцем или князем, я был бы и душой и телом аристократ, но так как я сын простого буржуа, то буду в свое время демократом... Из Парижа, этого приюта свободы, я, как Берне, обращусь ко всем народам, и все князья затрепещут от страха и поймут, что пришел их час. Но каких только препятствий не поставил я сам себе на пути! Как будут издеваться мои враги над сбежавшим торговцем... Приказчик! «Рыцарь аршина»! — зашипят изо всех углов. Но с троном придет конец и барышам, и приказчик заговорит с ними таким языком, что они умолкнут».
Обрадованный возможностью показать и проявить себя, не считаясь ни с чем, Лассаль начал добиваться в суде развода для графини Гацфельд. Он быстро усвоил все тонкости и хитросплетения прусской юриспруденции и с величайшей ловкостью вызвал на бой могущественного богача графа Гацфельда. Но хотя ему и казалось, что защита прав обиженной аристократки имела какое-то революционное значение, он вел, по существу, обыкновенный, весьма к тому же нечистоплотный бракоразводный имущественный процесс, сопровождавшийся то великосветскими скандалами, то выгодными сделками. Особенно много разговоров вызвало похищение у любовницы графа Гацфельда шкатулки, в которой хранилась дарственная запись в ее пользу. Эта история произошла в дни мартовской революции, и несколько участников кражи шкатулки избегли наказания. Однако граф не захотел отступить. Обвинив Лассаля в подстрекательстве к похищению и подкупив его слугу, фон Гацфельд начал новую тяжбу.
В августе 1848 года состоялся суд по этому обвинению, Лассаль защищался сам. Его речь длилась шесть часов, Он был оправдан, Процесс принес ему широкую известность. В своем выступлении Лассаль не без присущего ему преувеличения сравнивал бедствия графини с угнетением пролетариата. Когда из зала суда он возвращался домой, толпы народа приветствовали его восторженными криками.
Часто Лассаль приезжал в Кёльн. Он сумел сблизиться с Карлом, старался оказывать всяческие услуги и, проникнувшись к нему глубоким почтением, добился, что они перешли на «ты». Но друзьями в подлинном, большом смысле этого слова они не стали, да и не могли быть.
Маркс при виде Лассаля невольно настораживался и старался держать его на неуловимой внешне, но значительной дистанции. Ему претили в молодом человеке отсутствие скромности, хвастливость, мелкое, подчас недостойное честолюбие и неразборчивость в средствах для достижения цели. Карл вспоминал оценку, которую дал Лассалю как-то Гейне, Она казалась ему очень меткой. «Основательнейшую ученость, обширнейшие знания и величайшее остроумие, какое я когда-либо встречал,— писал поэт,— он соединяет с такой силой воли, такой практической ловкостью, что я невольно изумляюсь ему... Лассаль является истым сыном нового времени, которое ничего не хочет знать о том самоотречении и скромности, какими мы в свое время, с большей или меньшей искренностью, пробавлялись и щеголяли. Это новое поколение людей хочет наслаждаться, оно хочет въявь заявить о себе».
Поэт Фердинанд Фрейлиграт прибыл и Лондон. До февральской революции он служил там клерком в торговом доме и едва сводил концы с концами. Не в силах далее влачить с семьей столь жалкое существование, он решил отправиться в Америку. Туда его настойчиво призывал давнишний друг, заокеанский гений Лонгфелло. Однако революционный взрыв в Париже изменил все намерения Фрейлиграта. Он вернулся в Германию. Настала и для него долгожданная пора непрерывного творческого действия. Талант его, давно созревший, проявился с новой, небывалой силой.
Поэт, который некогда отстаивал идеи аполитичности искусства, теперь открыто выступал, подняв забрало, как солдат и бард революции. Политическая направленность его стихов усиливала их художественную значимость.
В том же 1848 году Фрейлиграт был обвинен в призыве К вооруженному восстанию против королевской власти. Его судили в Дюссельдорфе. С невозмутимостью героя держался он во время процесса. Суд присяжных под ликующие крики собравшихся в зале вынес ему оправдательный приговор.
Маркс нелегко вступал в дружбу с кем-либо. Лишь очень немногие могли гордиться его полным доверием и привязанностью. Но подлинной дружбе он был верен и предан до конца. Не признавая пустозвонной словесной дружбы без общего дела и целей, Маркс считал себя ответственным не только за себя, по и за своих друзей. Он делил с ними все, радовался их успехам, бросался за них в бой. Как никто, гордился Карл Фрейлигратом, чье поэтическое творчество и революционная деятельность приносили неоценимую пользу демократическому движению.
«Он настоящий революционер и вполне честный человек,— похвала, которой я могу удостоить лишь немногих»,— писал Карл Вейдемейеру и просил приласкать Фрейлиграта, так как поэты, как дети, нуждаются в ободрении, чтобы слагать стихи.
В конце августа Маркс решил побывать в Берлине и в Вене. Необходимо было укрепить связи с демократическими и рабочими обществами и добиться от их руководителей решительной борьбы с крепнущей контрреволюцией.
Берлин произвел на Карла, как и много лет назад, когда юношей он прибыл туда из Трира, отталкивающее, мрачное впечатление. По улицам, высоко вскидывая ноги, шагали исполненные самодовольства вооруженные отряды реакционеров. Серые, однообразные, как спички, дома вызывали непреодолимую скуку.
В ресторане Спарганапани, знакомом Марксу с университетских лет, за чашкой кофе со сливками он просмотрел газеты, особое внимание уделил «Новой Прусской газете».
Незадолго до приезда Карла в Берлин здесь происходил съезд крупнейших землевладельцев. В течение нескольких дней они произносили бурные речи в защиту интересов дворянства. «Новая Прусская газета» стала органом этого «юнкерского парламента», который, не жалея средств, поддерживали и лютеранская церковь, и королевская чета, и даже царское правительство России, видевшие в нем желанный оплот контрреволюции.
На первой странице газеты Маркс прочел статью, призывавшую начать крестовый поход против революционных идей и революционеров. Автором ее был молодой преуспевающий военный по фамилии Бисмарк, один из влиятельнейших членов «прусского кружка», могущественной партии, имевшей в своем распоряжении основные контрреволюционные организации.
Маркс знал, что вождь старопрусской придворной группы, сам генерал Герлах, и предприимчивая хитрая королева Елизавета благоволили к светловолосому гиганту, представителю старинного богатого дворянского рода. Он во всем выказывал преданность прусской короне и юнкерству, ненависть ко всякого рода реформам, бычье упорство и к тому же имел истинно тевтонскую представительную внешность. В своих статьях и речах обычно фон Бисмарк не только призывал к крестовым походам, но и поучал, как надобно создавать новые организации прусских юнкеров, опоры монархии и порядка.
Такие взгляды были приятны и королю Фридриху-Вильгельму, отличавшемуся вообще крайней неуравновешенностью, но твердо стремившемуся не уступать ни в чем народу. Он оказался вынужденным после мартовской революции поступиться некоторыми привилегиями и потом делал все, чтобы их вернуть. Король мечтал о государственном перевороте и возлагал отныне все свои надежды на прусское юнкерство.
Во время пребывания в Берлине Маркс перевидал много нужных ему людей, выясняя, в частности, возможности получения денег для «Новой Рейнской газеты».
Со времени панического и предательского бегства акционеров газета жила за счет тиража. Одного этого дохода не всегда было достаточно. Маркс вложил в издание все свои личные сбережения.
В Берлине Карл встретился с Бакуниным. Они разговорились.
— Кстати,— помрачнев, сказал вдруг Бакунин,— царское правительство продолжает оговаривать меня. Опровержение вашей газеты не всех убедило.
Бакунин имел в виду провокационную клевету, пущенную о нем царским послом в Париже Киселевым.
Однажды в «Новую Рейнскую газету» поступили сообщения, вызвавшие смятение, печаль и бурное возмущение. Информационное бюро Гавас, а за ним и парижский корреспондент газеты Эвербек сообщали о полученных ими данных, будто Михаил Бакунин является тайным агентом русского царского правительства. Ссылка на то, что у Жорж Санд имеются подтверждающие документы, придала известию правдоподобность. Однако уже через несколько дней «Новая Рейнская газета», получив письмо писательницы, отвергшей этот подлый вымысел, напечатала опровержение.
— Я вам разъясню некоторые детали этой истории,— продолжал Бакунин. — Мне хорошо известно, что единственным источником клеветы является русское правительство. После того, как пять лет назад я был заочно приговорен к каторжным работам в сибирских рудниках, меня ни на час не оставляли в покое, где бы я ни жил как беглец. Царское правительство дошло до того, что принялось распространять слух, что я бежал из Петербурга не по политическим причинам, а потому, что украл значительную сумму денег. Но и этого было мало. Меня обвиняли в намерении убить Николая Первого. Для этой цели я будто бы отправил в Россию двух мятежных поляков. А теперь — вот эта клевета... Фантазия русского правительства работает неутомимо, и я не могу даже предвидеть, какая еще падет на меня вина.
— Вы сильно досадили русскому самодержавию. Вот оно и пытается вам мстить жалким и подлым образом,— подтвердил Карл.
— Да, я действительно стараюсь разрушить упорно создаваемую легенду о единении царя с русским народом. В публичных речах я не раз говорил о творящихся в России беззакониях и одновременно бессилии правительства улучшить жизнь народа. Я обнаружил отделяющую власть от народа пропасть и доказал, что царское правительство скоро рухнет со всеми своими низостями и ложью. Я предсказал Николаю близкую гибель и возрождение освобожденной русской нации из-под обломков русского государства. Я предложил от имени революционных партий России, от всех волнующихся сил народных, стремящихся к свету и свободе, революционный союз с польским народом против императора Николая и его злодеяний. Конечно, царскому правительству не за что быть мне благодарным!
— Но что это за революционные партии в России и кто в них состоит? Вы уже много лет как оттуда. Имеете ли вы связь с кем-либо на родине? Меня чрезвычайно интересует Россия. У нее, несомненно, великое будущее!
— В России много пороха в крестьянстве. Оно и есть тот народ, который надо поднять на свержение самодержавия. Фабричных работников у нас мало. Это бедняки, они оторваны от земли, и не в них сила. К сожалению, Европа почти ничего не знает о русском народе. Николай и его клика пытаются окружить Россию китайской стеной так, чтобы оттуда не доносился ни единый звук: будь то стон страдания или вопль возмущения.
— Этого никакой царь больше не добьется! Время наше несется быстро, революции ломают преграды между государствами,— замены Маркс.
— Европа должна думать, что русский народ глуп, что оп любит и боготворит царя! — воскликнул Бакунин. — И царь и его правительство все делают, чтобы убедить мир в своей силе и единении с народом.
Сидя за столом друг против друга, Маркс и Бакунин напоминали двух бойцов на коротком привале в трудном походе.
Бакунин, ошеломленный, но не растерявшийся после июньского поражения французских рабочих, вернулся недавно из Бреславля. До этого он побывал в Праге на славянском конгрессе и все еще надеялся на единение всех славян в борьбе с русским самодержавием. Он высказал это в беседе с Карлом. Маркс пробовал доказать, что славяне покуда стоят по обеим сторонам баррикад.
— Многие австрийские славяне,— говорил он,— помогают врагам, и не принадлежность к тому или иному племени, а к классу решает все в революции.
Споря и не чувствуя полного единства, они не хотели, однако, раздоров. Каждый невольно думал о том, когда и как придется встретиться опять. Их ждали жестокие бои и опасности. В данное время для обоих цель жизни была в защите революционных завоеваний. Это сближало Маркса с Бакуниным, хотя они шли разными путями к осуществлению своих идеалов.
Было уже поздно. Желая закончить вечер чашкой крепкого кофе, Маркс и Бакунин зашли в чопорную кондитерскую Кранцлера. Не успели они усесться за столик, как громкий низкий голос позвал Маркса. К ним подошел мужчина с бакенбардами, весьма внушительной комплекции, в расстегнутом длинном сюртуке.
— Не узнаешь? Да вглядись же в меня, Карльхен! Не мы ли с тобой бегали по берегу незабвенного Мозеля? Наши отцы и матери имели не мало огорчений от маленьких сорванцов. А помнишь, как почтенный Виттенбах напутствовал нас в гимназии Фридриха-Вильгельма? Признаться, я все забыл из того, чем так упорно начиняли наши головы.
— Шлейг?! — удивился Маркс. В первый момент он обрадовался встрече, перенесшей его в Трир, в пору детства. Но затем, внимательно вглядевшись в бывшего товарища по школе, в его сытую, пошлую, лоснящуюся рожу, холодно и насмешливо добавил: — Что же, твой божок Меркурий покровительствует тебе по-прежнему?
— Еще бы,— подняв вверх унизанные кольцами жирные руки, важно изрек Фриц Шлейг.— Я компаньон самого Кампгаузена. Не скрою, мои капиталы уже равны...
— Ладно, Шлейг. Вижу, ты все тот же, каким я знал тебя в Ober-prima. Помнится, мы прозвали тебя Растиньяком с мозельских берегов. Боги, видно, тебе благоприятствовали!
— Не скрою, не скрою! Мои три сына и две дочери унаследуют солидное состояние. И, надеюсь, послужат на пользу людям и прогрессу, как и их отец,— не замечая иронии Маркса, сказал напыщенно Шлейг и грузно опустился в обитое зеленым бархатом кресло, которое угодливо подставил ему кельнер.
— Ищу гувернантку,— сказал Шлейг, отдышавшись.— Их в Берлине нехватка. Редкий товар.
Бакунин, с полнейшим пренебрежением поглядывавший на бесцеремонно усевшегося за стол господина, вдруг заметно оживился.
— Я не представлен вам, но это не помеха.
Шлейг церемонно ответил на поклон Бакунина.
— У меня есть протеже, молодая русская дама, знающая три языка — немецкий, французский, английский — в совершенстве,— сказал Бакунин.— К тому же она отличного воспитания, дворянка, из хорошей семьи. Вы знаете ее, Маркс? — И он назвал имя Лизы.
— Серьезная и симпатичная девушка,— подтвердил Карл.
Шлейг обрадовался.
— Я очень благодарен вам! — воскликнул он.— Воспитанием своих детей я занимаюсь сам. Это не дело матери. Женщины ведь глупы, и, может быть, в этом их прелесть.— Он зычно захохотал.
Записав адрес пруссака, Бакунин встал и, распрощавшись дружески с Марксом, откланялся Шлейгу.
Бакунин был в ту пору одинок и растерян. Встреча с Марксом ободрила его. Теперь он не ощущал досадного двойственного чувства, которое испытывал прежде,— раздражения и вместе тяготения к удивительному немцу.
«Это могучий теоретик»,— проносилось в мозгу Бакунина. Он отчетливо представил себе лицо Маркса.
«Красота этого человека какая-то особая,—подумал Бакунин.— Она происходит не от правильности черт, а от постоянного горения сердца, которое прорывается наружу во взгляде, имеете, слове. Однако он стоит на неверном пути. Не в немецких теоретиках и философствовании теперь сила, а в действии, в разрушении. Наше дело взрывать старые устои. Пусть будущие поколения созидают на их руинах».
Покуда Карл был в Берлине, Шлейг настойчиво искал с ним встреч. Как некогда в детские годы, он и теперь не мог преодолеть преклонения перед Марксом и страстного желания поразить его хоть чем-нибудь. II чем больше избегал, открыто презирая его, Маркс, тем назойливее становился этот грубый хищник, самоуверенный и наглый благодаря огромному, нажитому всякими сомнительными спекуляциями состоянию.
— Послушай, Карльхен, я мог бы сделать для тебя очень многое. Почему ты бежишь от старого друга? — начинал он разговор, врываясь утром в номер дешевой гостиницы, где остановился Маркс,— Я, право, не могу оставаться равнодушным к твоей судьбе. Ты издаешь газету, которая доведет тебя, человека с такими дарованиями, до каторги. Подумай о своей бедной матери и семье. Еще не поздно. Мои друзья, господа Кампгаузен, Ганземан и многие другие весьма порядочные и богатые люди, охотно тебе помогут. Мы можем сделать тебя директором банка, даже своим компаньоном. У тебя светлая голова. Ты знаешь, откуда берутся ценности, как делаются деньги. Кто из нас не дерзал и не кидался к крайностям в молодости. Теперь, после всех этих бунтов и революций, ты должен одуматься, а мы могли бы сделать тебя в конце концов даже министром. Я слыхал, что в своем злосчастном увлечении ты вкладываешь в газету последние денежки. Но ведь ты обанкротишься. Заверяю тебя, хуже нельзя использовать своих денег. Ты мог бы стать величайшим дельцом, правителем...
Длинный монолог Шлейга не возымел на Маркса никакого действия.
Тогда, видя, что уговоры бесполезны, Шлейг, сложив руки на выпуклом животе, сказал умильным голосом:
— Хорошо, сходи с ума как хочешь! Я умываю руки. Но у меня к тебе есть просьба. Брат твоей жены господин Фердинанд фон Вестфален весьма влиятелен при прусском дворе. Король ему особенно доверяет. Портфель министра для него давно готов. Раз ты ничего не хочешь для себя, ты помоги в моих делах. Дай мне письмо к нему с рекомендацией.
Шлейг растерялся, услышав, как весело, неудержимо расхохотался в ответ Маркс.
— Изволь, если хочешь быть выгнанным за дверь и заподозренным во всякой ереси, я направлю тебя к этому блестящему столпу, подпирающему гнилые балки прусской монархии!
После этой встречи Шлейг уж больше не преследовал своей «любовью» Карла Маркса.
Двадцать седьмого августа Карл приехал в кипучую столицу Австрии. Насколько отталкивающе бездушен, безлик был чопорный Берлин, настолько обаятельной казалась Вена, прославленный город музыки, зеленых лужаек, общительных людей. Венгры, чехи, хорваты, итальянцы, поляки, подпавшие под власть феодальной империи Габсбургов, передавали немцам многое из своей культуры и национальных особенностей. Издавна в Вену являлись художники и музыканты. Из бесчисленных кофеен этого немецкого Парижа, невзирая на политические события или войны, доносились игра венгерских и румынских оркестров, пение, смех, спорящие голоса.
Но за внешней беспечностью невозможно все же было не увидеть, что положение в городе очень тревожное. С мартовских дней, когда народ избавился от ига Меттерниха и потребовал от короля уничтожения феодальных повинностей, многое изменилось. В порабощенных Австрией многочисленных странах начались восстания за независимость и свободу.
Всего за четыре дня до приезда Маркса на улицах самой Вены произошли кровопролитные бои. После июньского выступления парижских рабочих напуганная австрийская буржуазия предпочла монархию республике. Это и вызвало возмущение демократических слоев населения Вены.
Ширились национальные движения словаков, сербов, хорватов, трансильванских румын. Они усложняли и так тяжелое положение в Венгрии, где не затихала революционная буря.
На первом же заседании венского «Демократического союза», где обсуждался вопрос о положении в столице Австрии после недавних уличных боев, Маркс говорил о том, что события эти не следствие смены кабинета и распрей в правительстве, а, как и восстание рабочих в Париже, порождены классовой борьбой между буржуазией и пролетариатом.
Знакомясь с чрезвычайно сложными перипетиями борьбы немецкого, венгерского и других народов, входивших в состав австрийского государства, Карл встречался в Вене с рабочими, студентами, посещал клубы, вел переговоры с руководителями демократических обществ.
В то время основной целью германской революции было объединение, а в Австро-Венгрии демократы, наоборот, стремились к разрушению разноплеменной империи Габсбургов. Многонациональная страна походила на огромное полотнище из разноцветных лоскутьев.
Очень скоро Маркс своими необъятными знаниями и простотой обращения завоевал симпатии тех, с кем познакомился.
— Точно он всю жизнь был в пашей шкуре,— говорили австрийские рабочие с удивлением и почтением.
— Что же это за человек? Знает наше прошлое, настоящее и будущее, точно пророк в старой Библии! — слышались перешептывания, когда Маркс выступал на заседании первого венского «Рабочего союза» с подробным докладом о наемном труде и капитале.
В среде рабочих, единомышленников, он отдыхал. Его не знавшая страха душа вбирала в себя тепло благодарности, любви, полного доверия. Не дрогнув, он повел бы их на бой. Но время еще не пришло, и Карл знал это. Он рассказывал труженикам о неумолимом законе возникновения и гибели класса угнетателей, о социальных отношениях в Европе и о значении пролетариата в революционной борьбе.
В то время, когда Карл устанавливал тесные связи с соратниками в Вене и хлопотал о деньгах для «Новой Рейнской газеты», Энгельса вызвали к кёльнскому судебному следователю уже не как свидетеля, а как соответчика по делу, возбужденному из-за статьи «Аресты».
Политическая обстановка в Пруссии обострялась с каждым днем, и Маркс вынужден был поторопиться с отъездом из Вены. По дороге в Кёльн он снова остановился в Берлине. Здесь в течение нескольких дней он сумел довести до конца переговоры с руководителями демократического движения и побывать на заседании прусского Национального собрания.
Все в Берлине знали, что король и его клика хотят вернуть в Берлин войска и с их помощью расправиться с буржуазной оппозицией. Маркс был на заседании Национального собрания, когда депутаты потребовали от военного министра приказа, который вменял бы офицерам в долг чести отставку, если их политические взгляды не совпадают с конституционным правлением. Это была жалкая попытка предотвратить надвигающийся разгром.
Карл внимательно слушал прения. «Новая Рейнская газета» давно уже предсказала гибель «мудрствующего, брюзжащего, неспособного к решениям» берлинского Национального собрания, если оно не изменит своей увертливой и трусливой соглашательской политики.
Перед самым отъездом Карл наконец добыл некоторые средства для «Новой Рейнской газеты». Польские демократы согласились дать для дальнейшего издания газеты, наиболее последовательно защищавшей дело освобождения польского народа, две тысячи талеров. Маркс поспешил в Кёльн.
Прирейнские провинции особенно беспокоили короля и его ставленников. Чтобы предотвратить там восстание, почти треть прусской армии была расквартирована в районах, где находилась наиболее мощная индустрия и был сильный рабочий класс. Действительно, в Рейнландии в последние годы ширилось революционное движение. Кроме «Демократического общества», во главе которого был Маркс, в Кёльне действовал также «Рабочий союз», руководимый коммунистами, бывшими эмигрантами,— Иосифом Моллем и Карлом Шаннером.
Имя главного редактора «Новой Рейнской газеты» было известно далеко за пределами Германии. Оно становилось все более и более опасным для прусского правительства. Не только среди рабочих, ремесленников, интеллигенции, но и в армии «Новая Рейнская газета» пользовалась любовью и уважением.
Однажды в редакцию боевого кёльнского органа пришло письмо, обращенное к редакторам газеты и руководителям «Рабочего союза»:
«Мы, солдаты 34-го пехотного полка, не можем не выразить многоуважаемой редакции «Новой Рейнской газеты» нашу искреннюю и глубокую благодарность... Поверьте, что имена Маркса, Шаппера, Энгельса, Вольфа никогда не изгладятся из нашей памяти. Более того, мы надеемся, что придет время, когда мы сможем выразить этим господам нашу благодарность».
Под этим письмом стояло 1700 подписей.
В те же дни на жалобу Маркса по поводу отказа принять его в германское подданство министр внутренних дел ответил, что считает вполне законным и окончательным решение кёльнских властей, отказавшихся вернуть Карлу право быть прусским гражданином. Так Маркс остался вне гражданства.
Фриц Шлейг нанял Лизу без долгих разговоров. Иметь гувернантку аристократического происхождения ему льстило. Вместе с увеличивающимся состоянием возрастало и тщеславие этого ловкого дельца. Желая быть поближе к Бакунину, Лиза отказалась от мысли ехать в Россию на хлеба к тетке и осталась в Берлине. Отец Лизы умер. Ничто не влекло ее на родину. А Бакунин был неподалеку, и в нем была отныне вся ее жизнь.
Хозяин дома встретил ее радушно в темной гостиной, заставленной множеством дорогих вещей. Лиза растерялась от такого количества зеркал, этажерок, столиков и диванов. Не легко было пройти по комнате, напоминавшей плохой антикварный магазин, и не уронить какой-нибудь вазы или нуфа, предназначенных только для того, чтобы поразить воображение посетителей. Шлейг с удовольствием подметил смущение вошедшей. Он объяснил его по-своему.
— Очень рад, фрейлейн, вашему прибытию,— произнес он важно. — Все, что вы видите здесь, право, безделица. По природе я собиратель всего прекрасного, чего бы это мне ни стоило. Отныне я украсил свой дом еще одним бесценным сокровищем.
Лиза не сразу поняла этот замысловатый комплимент и, вспомнив, как некогда граф домогался ее любви, ответила Шлейгу недовольным взглядом.
— Мы, кажется, не поняли друг друга,— быстро нашелся Шлейг,— я имел в виду это великолепное, украшенное амурами зеркало. В нашу тревожную эпоху многие аристократы спешат продать свои ценности и покинуть объятые пламенем раздоров страны. Попросту они бегут в Англию, например. Я тоже не зеваю. Деньги, так учит нас история, во время бунтов и прочих неприятностей падают в цене. Есть смысл своевременно превращать их в золото и предметы вечной стоимости. Как видите, я не забываю этого драгоценного правила и не теряю времени даром.
Лиза не могла не улыбнуться цинической простоте этого толстого багрово-румяного человека.
— Да, ваши апартаменты,— заметила она,— действительно похожи на склад.
— Зачем выражаться столь прозаически. Если бы вы только знали, чего мне стоили и за сколько со временем можно будет продать эти картины, ковры и мебель! Но перейдем к делу. У меня пятеро детей. Заранее сообщаю вам, что моя жена, добродетельная и почтенная матрона, их не воспитывает. Женщины, женщины, ничтожество вам имя, кто это сказал, не помню, но, несомненно, он знал, что говорит. Мадемуазель, я вижу, вы удивлены. Вам непонятно, кто перед вами. Вы знаете Маркса. Это мой приятель детских лет. Если вы его спросите обо мне, он отмахнется, как от комара. Он меня презирает. Да, именно так! Не все же родятся философами, мудрецами, как он. Я тоже не последний человек на свете, а не могу попять Карла. Каждый промышленник в Берлине вам скажет, что Фриц Шлейг знает отлично людей. Мой земляк Маркс— единственная загадка, которой я не разгадал. Но вернемся к нашим с вами делам. Итак, я хочу, чтобы хотя бы один из моих сыновей был так же образован, как Маркс. Второй из них будет продолжать мои дела. Я уже создал компанию «Фриц Шлейг и сын». Как вы думаете, такие умы, как Маркс, порождение природы или воспитания?
— То и другое,— ответила Лиза.
— Отныне я доверяю вам моих детей, потому что вас рекомендовал мне этот гений или чудак — я еще не решил, кто он. Мы не видались много лет, и, представьте, я снова растерялся в его присутствии, как и тогда, когда был так же беден, как он теперь. Почему?
После первого разговора с Шлейгом Лиза не видала его очень долго. Слуги говорили, что хозяин «делает деньги» и ездит по делам. Дети оказались вымуштрованными отцом и одновременно избалованными матерью. Это была женщина, состоящая из огромного количества жира, в котором исчезли крошечные глазки, носик и ротик. Она проводила время, безудержно отдаваясь чревоугодию, за которое расплачивалась множеством болезней. Разговоры о еде, одышке, коликах и других недомоганиях очень скоро измучили Лизу не меньше, нежели в свое время поучающие монологи графини.
В доме Шлейга была огромная библиотека. Лиза предвкушала счастливые часы занятий чтением в большой комнате со стенами, сплошь уставленными книжными шкафами. Сызмала Лиза находила наибольшее наслаждение наедине с книгой.
Каково же было ее изумление, когда она выяснила, что библиотека Шлейга состоит сплошь из неразрезанных книг. Она обратилась к хозяину с просьбой разрешить ей взять одно из сокровищ, переполнявших полки, и разрезать страницы.
— Увы, сожалею, фрейлейн,— ответил Шлейг.— Но я не могу обесценить все, что здесь собиралось мною с большим трудом и тщанием. Дело в том, что моя библиотека тем и драгоценна, что состоит из новеньких томов, к которым никто не прикасался. Я собиратель неразрезанных книг. Это капитал, которому завидуют все коллекционеры из нашего общества. У меня несколько соперников, но я их превзошел, купив недавно по случаю у разорившейся вдовы букиниста несколько шедевров в совершенно неприкосновенном виде.
— Вы хотите сказать — с неразрезанными страницами?— с трудом скрывая иронию, спросила Лиза.
— Конечно. Иначе я не заплатил бы за них ни одного талера...
Однажды, проходя по большому, душному от невероятного количества портьер, гардин и вещей дому, Лиза заметила под лестницей дверь и услышала чье-то бормотание и вздохи. Сквозь щель виден был свет. Лиза, думая, что здесь нуждаются в помощи, вошла и очутилась в маленькой, чрезвычайно убогой комнатенке без окна. Ссохшаяся старушонка в заплатанном шлафроке сидела на стареньком дешевом стульчике и жадно доедала суп из миски с отбитыми краями. Свеча скупо освещала нищенскую кровать, большой таз, кувшин и еще какую-то утварь.
— Простите,— сказала Лиза, стараясь сообразить, к кому же она попала.
Шлейг терпеть не мог стариков, считая их неспособными к труду. И слуги в доме были только молодые и физически сильные люди. Шамкая беззубым ртом, старушка гостеприимно предложила Лизе сесть в кресло с обшарпанной дырявой обивкой, такое же древнее и жалкое, как она сама.
— Я так редко вижу у себя кого-либо. А чтобы выходить на улицу, слишком стара,— заговорила она.
Лиза села. Старость всегда вызывала в ней сострадание и почтение.
— Кто же вы? — спросила она, все больше удивляясь, что раньше не видала и не слыхала об этой беспомощной жилице в каморке под лестницей.
— Я мать госпожи Шлейг.
У Лизы перехватило дыхание. Она представила себе огромный дом с множеством светлых комнат, наполненный дорогими вещами. В нем не нашлось, однако, места для старой матери хозяйки!
— Фриц, да и моя дочь терпеть не могут старух. И я их понимаю. Старость, моя дорогая, никого не красит. Зажилась на свете. Это большое несчастье для человека.
— Но ведь они богаты.
— О, конечно. Я сама отдала Фрицу все состояние, завещанное мне добрым господином Шварцем, посудным коммерсантом. Но видите ли, каждый капитал,— так мне объяснили мои дети,— должен приносить проценты. Я же ничего больше не могу дать. Старуха, подобная мне,— статья расхода, и только! — Госпожа Шварц грустно улыбнулась. А Лиза не находила слов от возмущения. Она негодовала. Ей захотелось убежать прочь из дома преуспевающего прусского буржуа. Но мысль о том, что Бакунин еще раз заедет повидаться с ней в Берлин, вынудила Лизу оставаться внешне безучастной ко всему, что было столь отвратительно в доме господина Шлейга.
Бакунин между тем скитался но Германии из государства в государство. Прусское правительство не давало ему визы на выезд в Познань. Он был совершенно без денег, без друзей, без связей. Лиза помогала ему из своего скудного заработка, стремилась своей любовью, заботой ободрить его, успокоить. Когда изредка они встречались, Бакунин принимался жаловаться на свое отчаянное, безвыходное положение.
— Я пригвожден к Берлину безденежьем. Будь у меня средства, я поехал бы в революционную Венгрию либо в Польшу и принялся бы там за подготовку восстания. Осень на исходе, а я все еще бездействую. Сижу и жду у моря погоды. И к тому же объявлен на весь мир шпионом. Я удаляюсь от людей, боюсь, что мне не верят.
Он возбужденно вскакивал и принимался ходить по комнате.
— Никогда мне не было еще так тяжело, мне всюду чудятся косые взгляды, подозрения.
Лиза принималась успокаивать его, хотя ее уставшая душа изнывала от горя и одиночества.
— Все знают, Мишель, что вы честнейший из честных. Вам верят. Будьте же мужественны,— уговаривала его Лиза.— Очень скоро придет и столь желаемый вами час действия!
— Нет и нет. «Новая Рейнская газета» стала любимейшим чтением немецких демократов.
— Тем лучше, ведь именно эта газета напечатала, что подлые сплетни о вас были клеветой.
— Да, но пятно остается на ткани, даже если жирный суп разлит был нечаянно. Меня теснят с обеих сторон: в глазах русского правительства я злодей, во мнении публики — мерзкий шпион. Я обязан доказать народу, что честен, хотя бы ценой гибели своей. Моя участь безвозвратно определена. Клянусь, что не отступлю от своей цели, не собьюсь с дороги, раз начатой, и пойду вперед, покуда не докажу усомнившимся во мне полякам и немцам, что я не предатель. К тому же, как демократ, я глубоко поражен июньскими событиями в Европе. Нет сомнения, что они омрачат еще больше европейский горизонт. И здесь, в Германии, правительство втихомолку собирает силы и ожидает только удобного часа для того, чтобы нанести демократии губительный удар.
— Ах, Мишель, все будет хорошо. С вашими способностями и волей вы победите в любом деле. Ваши планы столь удивительны. Ваше «Воззвание к славянам» потрясает умы и сердца.
— Я весь охвачен одним желанием. Я жажду революции,— говорил Бакунин, воодушевляясь восторженным отношением к нему Лизы. — И уж верно — среди всех червленых республиканцев и демократов я червленейший. Может быть, я так раздражен и разъярен из-за предыдущих неудач, нетерпимости и странности моего положения. К тому же реакция в Европе достигает теперь кульминационной точки. Время более не терпит. Вот каков мой последний план. Выслушай меня. Я все обдумал.
Лиза знала, что Бакунину безразлично ее мнение о чем бы то ни было. Однако он нуждался в слушателе.
— Славянская революция должна начаться в Богемии! Перекинуться в Моравию и австрийскую Шлезию и охватить затем весь славянский мир. А потом — немецкие земли. Тогда и германская революция — до сих пор это восстание городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов — превратится в общенародную! В Праге будет заседать революционное правительство с неограниченной диктаторской властью. Изгнав дворянство, противоборствующее духовенство, чиновников, мы уничтожим также все клубы, журналы, все проявления болтливой вредной анархии, мы превратим все в действенную, полезную анархию, покорив всех одной диктаторской силе.
У Лизы закружилась голова от путаного многословия Бакунина. Она не решалась, однако, оспаривать что-либо, зная нетерпимость Бакунина к возражениям.
Оставшись одна, Лиза долго бродила по Тиргартену, поглощенная мыслями о минувшей встрече.
«Бедный Мишель,— думала она.— Как разрывают его противоречивые стремления. Как много хочет он свершить и как мало знает, что именно следует делать. Мозг его вмещает столько идей, но все действия свершаются только в одной его голове. Он истинно предан добру и народу. Но как этого, однако, мало, чтобы действительно осуществить святые идеалы. А его замыслы не прожектерство ли одно? Не бредни ли горячечные?»
Лиза невольно представила себе Вильгельма Вольфа, Маркса и их друзей в Брюсселе. Ей случалось также читать их статьи в «Новой Рейнской газете». И сейчас она с неуловимым чувством зависти и досады думала о них. Мишель был одинок, как орел, и не способен создать вокруг себя постоянного круга верных единомышленников. Его дальнейшая судьба вызывала у Лизы тревогу и тяжелые предчувствия.
Двадцать шестого сентября «Новая Рейнская газета» крупным шрифтом вместо передовицы поместила следующее сообщение:
«Осадное положение в Кёльне. Сегодня мы снова печатаем номер без оглавления. Мы спешим выпустить газету. Из достоверных источников нам стало известно, что в ближайшие часы город будет объявлен на осадном положении, гражданское ополчение распущено и разоружено, выпуск «Новой Рейнской газеты»... приостановлен, учреждены военные суды и ликвидированы все завоеванные в марте права. Ходят слухи, что гражданское ополчение не намерено допустить, чтобы его разоружили».
За день до этого кёльнская прокуратура возбудила судебное следствие против Энгельса и Вильгельма Вольфа. Их обвинили в заговоре против существующего строя.
Несколько раньше, в мае, произошло восстание во Франкфурте-на-Майне.
Покуда Франкфуртское собрание занималось досужими разговорами о том или ином пункте параграфа конституции, король Шлезвиг-Гольштинии попытался объединить свои владения с Данией. Это вызвало отпор немецкого населения герцогства. Оно обратилось к Союзному сейму за помощью, но в ответ на это прусские войска заняли восставшие города.
Во Франкфурте вспыхнули уличные бои. Один из реакционных членов Франкфуртского собрания, князь Лихновский, стрелял в толпу и был растерзан ею. Рабочих и ремесленников поддержали крестьяне окрестных деревень. «Новая Рейнская газета» писала по этому поводу: «И все же, признаться, у нас мало надежды на победу храбрых повстанцев. Франкфурт слишком небольшой город, а несоразмерная сила войск и всем известные контрреволюционные симпатии франкфуртских мещан создают слитком большой перевес, чтобы мы могли питать преувеличенные надежды».
Во Франкфурте было объявлено осадное положение, и каждый захваченный с оружием в руках немедленно предавался военному суду. Железная дорога была во многих местах разобрана и почтовая связь нарушена. Кёльн ответил на поражение тружеников Франкфурта массовыми народными собраниями.
Выступая перед рабочими, Энгельс объяснял им причины поражения франкфуртских собратьев.
— Несомненно,— говорил он,— именно артиллерия решила исход уличных боев, открыв войскам пути к баррикадам. Франкфуртские лавочники и буржуа открыли двери своих домов солдатам, предоставляя им все преимущества в борьбе, когда каждое окно становилось бойницей. Покуда крестьяне двигались по проселочным дорогам на помощь рабочим, правительственные войска быстро подтягивались к городу по железной дороге...
Прирейнская провинция бурлила. Каждый день в Кёльне, то в манеже, то на площадях, то в больших, похожих на лабазы, помещениях, предназначенных для народных празднеств, собирались рабочие и ремесленники.
— Почему,— кричали они, завидя оратора,— наше правое революционное дело терпит поражение? Мы только и читаем, только и слышим что о разгроме рабочих в Неаполе, Праге, Париже, Вене. Вот то же произошло во Франкфурте.
На это с исчерпывающей полнотой ответил им Энгельс.
«Объясняется это тем,— писал оп,— что все партии знают, насколько борьба, подготовляющаяся во всех цивилизованных странах, имеет совершенно иной, неизмеримо более значительный характер, чем все происходившие до сих пор революции. Ибо в Вене, как и в Париже, в Берлине, как и во Франкфурте, в Лионе, как и в Милане, дело идет о свержении политического господства буржуазии — о таком перевороте, даже ближайшие последствия которого наполняют ужасом всех солидных и занимающихся спекуляцией буржуа.
Разве есть еще в мире какой-нибудь революционный центр, где бы в течение последних пяти месяцев не развевалось на баррикадах красное знамя, боевой символ связанного братскими узами европейского пролетариата?
И во Франкфурте борьба против парламента объединенных юнкеров и буржуа велась под красным знаменем.
Именно потому, что каждое происходящее сейчас восстание прямо угрожает политическому положению буржуазии и косвенно — ее общественному положению, именно поэтому происходят все эти поражения. Безоружный в большинстве своем народ должен бороться не только против перешедшей в руки буржуазии силы организованного чиновничьего и военного государства, — он должен также бороться и против самой вооруженной буржуазии. Против неорганизованного и плохо вооруженного народа стоят все остальные классы общества, хорошо организованные и хорошо вооруженные. Вот чем объясняется, что народ до сих пор терпел поражения и будет терпеть поражения до тех пор, пока его противники не будут ослаблены либо вследствие участия армии в войне, либо вследствие раскола в их рядах, или же пока какое-нибудь крупное событие не толкнет народ на отчаянную борьбу и не деморализует его противников».
Желая вызвать провокациями восстание в Кёльне, чтобы затем зверски расправиться с его участниками, полиция начала аресты руководителей кёльнских рабочих союзов и демократических обществ. В тюрьме оказались Шаппер и Беккер. Угроза заключения нависла над особо чтимым рабочим людом Иосифом Моллем. Атмосфера в городе накалилась. Возмущенные бесчинством властей, рабочие вышли на улицы и принялись строить баррикады.
Маркс на митинге «Рабочего союза», стихийно возникшем на Старом рынке утром 25 сентября, выступил с настойчивым призывом не поддаваться провокации. Он уговаривал возбужденных до крайности, рвавшихся в бой тружеников помнить о коварстве противника и беречь силы для великих назревающих событий.
— Преждевременное восстание бесцельно и пагубно,— говорил Маркс. — Королевско-юнкерская власть повсеместно начинает наступление. Нужно помнить об этом и не ослаблять свои силы. Буржуа, как везде в последнее время, поддержат контрреволюцию...
Каждый раз, когда с губ Маркса срывалось слово «буржуа», он точно выплевывал его, как нечисть, и голос его приобретал презрительные интонации.
После окончания собрания на Старом рынке, понимая, что время не терпит и победа за теми, у кого больше мужества и выдержки, Маркс и его многочисленные сторонники отправились на совместное заседание «Демократического общества» и «Рабочего союза» в огромный зал Эйзера. Обычно там давались великолепные симфонические концерты и звучала, потрясая сердца слушателей, музыка Глюка, Бетховена, Баха. Там же нередко устраивались богатые балы.
Было всего три часа пополудни, и нежные осенние лучи солнца врывались в многочисленные окна, скользили по разгоряченным лицам собравшихся в зале людей. Возбуждение и гнев народа грозили восстанием.
Но снова раздался мощный голос Маркса, властно предостерегающего собравшихся от преждевременных, обреченных на неудачу уличных выступлений. Здравый смысл полководца революции одержал верх, рабочие убедились, что строить баррикады пока что не следует, что нужны спокойствие, выдержка и сплоченность...
Однако комендант Кёльна ввел осадное положение, запретил «Новую Рейнскую газету» и издал приказ об аресте Энгельса и других членов редакции. Не желая оказаться в лапах прусской военщины, Энгельс, Дронке и оба Вольфа покинули город. В распоряжении об аресте Энгельса было сообщено:
«Лица, приметы коих описаны ниже, бежали, чтобы скрыться от следствия, начатого по поводу преступлений, предусмотренных статьями 87, 91 и 102 Уголовного кодекса. На основании распоряжения судебного следователя города Кёльна о приводе этих лиц настоятельно прошу все учреждения и чиновников, которых это касается, принять меры к розыску указанных лиц и в случае поимки арестовать и доставить их ко мне.
За обер-прокурора государственный прокурор Геккер. Кёльн, 3 октября 1848 г.Имя и фамилия — Фридрих Энгельс; сословие — купец; место рождения и жительства — Бармен; религия— евангелическая; возраст — 27 лет; рост — 5 футов 8 дюймов; волосы и брови — темно-русые; лоб — обычный; глаза — серые; нос и рот — пропорциональные; зубы — хорошие; борода — каштановая; подбородок и лицо — овальное; цвет лица — здоровый; фигура — стройная».
В Бармене, куда направился Энгельс, он прятался в пустом старинном особняке деда. Тщетно полиция искала его.
Потом Фридрих бежал в Бельгию. Там его ждали арест и тюрьма. В арестантском фургоне, как «бродяга без должных документов», Энгельс был препровожден на французскую границу. Оттуда добрался он наконец до Парижа.
Бежал из Кёльна также преследуемый по пятам полицией друг Энгельса «Малыш» — Дронке.
Маркс оставался в Кёльне. Вскоре, несмотря на опасность, он добился возобновления выхода «Новой Рейнской газеты». Однако финансовая ее основа оказалась полностью разрушенной. Денег на издание больше не было. Тогда, желая во что бы то ни стало возобновить выпуск газеты, Маркс решился на крайнее средство. В Трире у матери хранились принадлежащие ему несколько тысяч талеров из наследства отца. Это было все, что оставалось на крайний случай, который всегда подстерегает борца и его семью. И, однако, Карл решился израсходовать последние свои деньги на боевой бастион, каким была газета. Он сказал об этом Женни, вопросительно взглянул в ее не умевшие ни хитрить, ни лгать глаза. Была ночь. В соседней, очень скромно обставленной комнате спали трое их детей. Они оба подумали о них в эту минуту. Но в глазах Женни, прямо ответившей на взгляд мужа, не промелькнуло ни малейшего удивления, сомнения или сожаления.
— Революция — дело нашей жизни,— сказала Женни просто.— Хорошо, что деньги найдут себе правильное применение. Я нахожу, что лучше нельзя было бы их использовать. — И положила руку на крепкое плечо Карла.
Итак, Маркс снова не сдался. Он продолжал воевать.
В октябре издание «Новой Рейнской газеты» возобновилось. Редакционный комитет пополнился Фердинандом Фрейлигратом. Вскоре вернулся Вольф.
Не было только Энгельса. Париж, где торжествовала черная контрреволюция, тяжело поразил его. Сравнивая столицу Франции в медовый месяц республики с тем городом, какой он увидел в октябре, Энгельс писал в своих путевых записках:
«Между тогдашним и нынешним Парижем было 15 мая и 25 июня, была жесточайшая борьба, когда-либо виданная миром, было море крови, было пятнадцать тысяч трупов. Гранаты Кавеньяка не оставили и следа от неукротимой веселости парижан. Умолкли звуки «Марсельезы»... Рабочие же, без куска хлеба и без оружия, с затаенной ненавистью скрежетали зубами... Париж был мертв — это не был уже Париж...
Я не мог выдержать дольше в этом мертвом Париже. Я должен был уйти прочь — все равно куда».
Энгельс направился о Швейцарию. Денег у него было немного, и пришлось идти пешком... В эту пору Маркс посылал ему средства на жизнь и категорически настаивал, чтобы он не торопился возвращаться в Кёльн, где его ждала тюрьма.
Кёльнский «Рабочий союз» направил к Марксу делегацию с просьбой руководить всей организацией. Карл к огромному количеству дел, которыми занят был круглые сутки, присоединил временно и руководство «Рабочим союзом».
Когда гонения на «Новую Рейнскую газету» немного ослабли, вернулся Веерт и тотчас же вооружился пером. В одном из первых номеров, вышедших после временного запрещения газеты, была напечатана его лирико-сатирическая поэма:
Я радости большей не знал никогда, Чем больно врага ужалить, Да парня нескладного шуткой задеть И весело позубоскалить. Так думал я, лиру настроив мою, Но струн прекратил движение: Забавам конец! Кёльн святой угодил В осадное положение... Весь город покрылся щетиной штыков И сходен стал с дикобразом. Архангелов прусских рать заняла Все рынки и площади разом... К нам в дверь с патрулем заглянул лейтенант И грозно изрек при этом Под бой барабана смертный вердикт: Запрет «Новой Рейнской газеты»...Вскоре Веерт был привлечен к суду за обличительный роман о рыцаре Шнапганском. За свою поэму, будто бы явившуюся подстрекательством к убийству реакционера князя Лихновского во время Франкфуртского восстания, Веерт был приговорен к тюремному заключению.
Осень несла с собой дожди и холод. Золотая листва деревьев, которых так много в Кёльне, потемнела и осыпалась. Помрачнел веселый Рейн. В редакции «Новой Рейнской газеты» круглые сутки не прекращались гул голосов, топот ног, сутолока. Типографские рабочие, наборщики, курьеры работали самоотверженно, наряду с членами редакции и корреспондентами. По ярко-красным якобинским колпакам горожане узнавали типографских рабочих «Новой Рейнской газеты». Ничто не могло повергнуть их в уныние. Это были неустрашимые, умеющие без устали трудиться и от души посмеяться люди, готовые, если нужно, с оружием в руках отстаивать газету. Их не смущали тревожные вести со всех концов Европы...
Второй демократический конгресс в Берлине — а на него возлагали столько надежд германские революционеры — вместо действенных мер против контрреволюции занялся пререканиями и сочинительством никчемных резолюций.
Рабочие Вены, которых во время восстания поддержали только студенты и предали крестьяне и буржуазия, после долгого сопротивления вынуждены были сдаться штурмующим войскам. Черно-желтые знамена Габсбургской династии снова раскачивал суровый ноябрьский ветер в примолкшей, оробевшей австрийской столице.
В Берлине прусский король объявил о роспуске Национального собрания.
Европейская революция завершала свой круговорот. Начавшись в Париже, она приняла европейский характер.
Контрреволюция нанесла свой первый удар в Париже в июньские дни и также стала всеевропейской.
Фердинанд Лассаль вступил в гражданскую милицию Дюссельдорфа и принялся готовить вооруженное сопротивление силам контрреволюции. Он послал в Берлин членам агонизирующего Национального собрания адрес от имени ополченцев Дюссельдорфского округа:
«Пассивное сопротивление уже исчерпано. Мы заклинаем Национальное собрание: призывайте к оружию, призывайте к делу!»
Одновременно Лассаль уговаривал народ не платить налогов в знак протеста и призывал вооружаться.
На собрании в Нейсе, близ Дюссельдорфа, один из его друзей-рабочих крикнул: «Смерть королю!»
Лассаль был арестован. «Новая Рейнская газета» немедленно выступила со статьями в его защиту.
Маркс оставлял редакционный стол, чтобы вести рабочее собрание, произнести речь, но поздно ночью снова возвращался просмотреть очередной номер и прочесть поступившую информацию. Огромным напором воли он преодолевал нечеловеческую усталость. В его иссиня-черных волосах появились белые нити. Суровым стало его смуглое лицо. А работы становилось все больше и больше.
На одном из многолюдных собраний Маркса избрали в члены Народного комитета Кёльна. Народный комитет должен был попытаться спасти завоевания революции.
Все это время не оставлял в покое Маркса и судебный следователь. Полицейские придирки становились назойливее. Газету и ее редактора обвиняли в подстрекательстве к восстанию, в оскорблении полиции и чиновников, в призыве к низвержению королевской власти. Однажды, когда Маркс вышел из здания суда, его встретила встревоженная толпа. Народ собрался, чтобы в случае надобности защитить своего вождя.
Фридрих Энгельс в дорожном костюме и крепких сапогах, с палкой в руке, не чувствуя усталости, шел горными тропами к франко-швейцарской границе. На вершинах Альп, переливаясь всеми цветами радуги, сиял снег. От ледников веяло прохладой. Воздух был пропитан пряным ароматом вянущих трав и поздних цветов. Горы вокруг казались опрокинутыми наискось и напоминали геометрические фигуры.
На альпийских лугах пастухи на глиняных окаринах наигрывали заунывные мелодии. Им вторили колокольчики, подвязанные к ошейникам потучневших за лето коров. Вдоль извилистых, то взбирающихся вверх, то круто срывающихся в ущелье, дорог редко встречались трактиры. Сыр, кусок хлеба и фляга с водой вполне устраивали путника.
Фридрих любил природу и умел видеть и слышать ее, как никто другой. Изредка присаживаясь у дороги, он. мог подолгу наблюдать жизнь крошечных обитателей трав. Мошка или жучок привлекали его внимание. Иногда он срывал незнакомый цветок или растение и, продолжая путь, с терпением и пытливостью ученого старался определить его вид. Окружающая природа не оставляла его равнодушным. После многих месяцев напряжения, бессонницы, непрерывного общения с людьми тишина гор, неповторимый запах ранней осени сначала чем-то раздражали его. Но постепенно нервы Энгельса успокоились. Ночлег на траве, когда стрекочут кузнечики, а над головой мигают звезды, ранние сумерки и поздние восходы солнца, медленно выползающего из-за остроконечных вершин, укрепляли его физические силы.
«Бродить по альпийским дорогам в такое время. Какая бессмыслица, какая глупость! — иной раз думал он. — Я точно выброшен за борт. Эдак, пожалуй, можно скоро дойти до мысли, что тюремное заключение лучше, нежели подобная «хромая свобода».
Энгельс успокаивал себя мыслью, что очень скоро снова вернется к работе, к борьбе.
Швейцария показалась Фридриху невыносимой. После бурных событий в недавнем прошлом, разыгравшихся в этой стране, она превратилась в сытое, покойное болото, где самодовольные буржуа чувствовали себя превосходно, будто жабы под дождем. Кальвинизм — лицемернейшая из религий — железной паутиной оплел сознание мещан. Наслаждаясь покоем, они скорее смогли бы стать палачами революции любой страны, нежели вступиться за права какого-нибудь народа.
Прогуливаясь по набережной чистенькой, приглаженной Женевы, глядя на вяло катящее свои ясные волны озеро Леман, Энгельс томился изгнанием. Его все больше раздражала невозмутимость этой окруженной горами страны, где в кантонах всем заправляли владельцы сыроварен, часовых заводов и шоколадных фабрик.
Вскоре Энгельс горячо возненавидел тишину благообразной и богобоязненной Лозанны и Берна с его красивыми пейзажами, окрещенного «швейцарскими Афинами». Все же Энгельс не терял времени даром. Он разыскал революционных рабочих и близко сошелся с ними.
В Лозанне его содержательные, полные ума и насмешек над буржуа речи снискали ему доверие и уважение тружеников города. Он был избран делегатом от лозаннского «Рабочего союза» на конгресс рабочих в Берне. В мандате союза двадцативосьмилетний революционер был назван «старым борцом за дело пролетариата».
Во время вынужденного пребывания в Швейцарии Энгельс не терял связи с «Новой Рейнской газетой» и посылал Марксу статьи и корреспонденции.
Только в середине января 1849 года, когда обстановка в Рейнской Пруссии несколько изменилась и опасность ареста отпала, он снова очутился среди друзей и единомышленников в Кёльне.
В обычный час за столом Маркса собрались все редакторы «Новой Рейнской газеты». Энгельс, взволнованный и счастливый, вглядывался в дорогие ему лица. Точно прошли десятилетия, так много изменений произошло в мире за короткие несколько месяцев.
В Париже президентом республики был избран Луи-Наполеон Бонапарт. Он и его клика энергично расчищали путь к империи. В тисках контрреволюции оказались Вена и Берлин. Последней крепостью, над которой все еще гордо реяло красное знамя, был Кёльн, но и этому свободолюбивому городу угрожала осада.
Несколько новых, ранее неведомых Энгельсу морщин, как рубцы от ран, пролегли на выпуклом, могучем лбу Маркса. Еще ярче и проницательнее стал взгляд его черных глаз с голубыми белками. Похудел и возмужал Веерт, и иное выражение появилось в его небольших, крепко сомкнутых губах, более суровым казалось всегда немного печальное лицо Вильгельма Вольфа. Невозмутимым, хотя и заметно утомленным, выглядел Фрейлиграт. Еще подвижнее и хлопотливее были «Малыш» Дронке и Фердинанд Вольф.
Но ни малейшей растерянности и тем более уныния не было среди редакторов «Новой Рейнской газеты». Наоборот. Приближающиеся бои как-то воодушевляли их, придавали торжественность их словам и действиям.
Дронке сообщил Энгельсу, что в редакции имеется восемь ружей и несколько сот патронов.
— Наш гарнизон в боевой готовности,— пошутил он при этом.
— Ты имеешь в виду типографских и редакционных работников? — спросил Энгельс.
— Конечно, но нам не хватало командира! Теперь ты вернулся, отлично. Будешь командовать!
В феврале Маркс и Энгельс предстали перед судом присяжных. Их обвинили в оскорблении властей. Но какое жалкое зрелище являл собой прокурор, когда один за другим к решетке подошли и заговорили обвиняемые. Каждое слово Маркса и Энгельса чудодейственно превращало мнивших себя великанами судейских чиновников в крошечных лилипутов. Обвинители превратились в обвиняемых.
Присяжные оправдали Маркса и Энгельса. Спустя два месяца «Рабочий союз» и его руководители порвали с мелкобуржуазными демократами. Колебания и предательство этих недавних союзников были слишком опасны в дни революционных боев.
Когда из Берлина пришел указ ввести в Кёльне осадное положение, комендант крепости, зная, что это грозит бунтом, не решился его выполнить. Тогда начались сложные закулисные интриги полицейского управления, ищущего средства избавиться от Маркса и выслать его из Кёльна. Директор полиции обратился за помощью в Берлин к министру внутренних дел. Он сообщал, что меры принуждения против главного редактора «Новой Рейнской газеты» повлекут за собой опасное возмущение всех революционеров свободолюбивого города.
Министр, в свою очередь, не решился действовать сам и запросил совета у обер-президента Рейнской провинции.
Около двух месяцев в министерстве внутренних дел раздумывали, как разделаться с Марксом и газетой, которая, согласно полицейским донесениям, разрушает все устои, подстрекает к ниспровержению существующих государственных учреждений, издевается и высмеивает все, что король считает священным. А тираж газеты между тем все возрастал!
Десятого мая Карл Маркс был за городом и вел переговоры с отставным лейтенантом Генце, преследуемым за революционные взгляды, об основании большого коммунистического издательства. Вернувшись на другой день в Кёльн, Маркс получил предписание покинуть пределы Германии. Одновременно была решена и участь «Новой Рейнской газеты».
Девятнадцатого мая вышел последний, отпечатанный алой краской, пылающий, как факел, номер. Под багряным названием газеты были напечатаны стихи Фрейлиграта:
ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО «НОВОЙ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
Не удар открытый в открытом бою, А лукавые козни, коварство, Сломило, подкравшись, силу мою Варваров западных царство! И выстрел из мрака меня сразил. Умертвить мятежницу рады, И вот лежу я в расцвете сил, Убитая из засады! В усмешке презренье к врагам затая И крепко сжимая шпагу, «Восстанье!» — кричала пред смертью я, Не сломили мою отвагу. Охотно бы царь и прусский король Могилу мне солью покрыли, Но венгры и пфальцы, затая в себе боль, Салютуют моей могиле! И в одежде рваной рабочий-бедняк В могилу меня провожает И мне на гроб, как участия знак, Прощальные комья бросает. Из березовых листьев и майских цветов Принес он, полон печали, Венок, который после трудов Жена и дочь сплетали. Так прощай же, прощай, грохочущий бой! Так прощайте, ряды боевые, И поле в копоти пороховой, И мечи, и копья стальные! Так прощайте! Но только не навсегда! Не убьют они дух наш, о братья! И час пробьет, и, воскреснув тогда, Вернусь к вам живая опять я! И когда последний трои упадет, И когда беспощадное слово На суде «виновны» скажет народ,— Тогда я вернусь к вам снова. На Дунае, на Рейне словом, мечом Народу восставшему всюду Соратницей верной в строю боевом, Бунтовщица гонимая, буду!После этих волнующих, пророческих стихов Фрейлиграта следовало обращение редакторов газеты к кёльнским рабочим:
«На прощание мы предостерегаем вас против какого бы то ни было путча в Кёльне. При военном положении в Кёльне вы потерпели бы жестокое поражение. На примере Эльберфельда вы видели, как буржуазия посылает рабочих в огонь, а потом самым подлым образом предает их. Осадное положение в Кёльне деморализовало бы всю Рейнскую провинцию, а осадное положение явилось бы необходимым следствием всякого восстания с нашей стороны в данный момент. Ваше спокойствие приведет пруссаков в отчаяние.
Редакторы «Neue Rheinische Zeitung», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет: освобождение рабочего класса!
Редакция «Новой Рейнской газеты».
Карл Маркс последним сошел с боевого корабля.
У него не было ни гроша денег. Женни отправила в ломбард единственное ценное, что у нее оставалось,— серебряную посуду с гербом Вестфаленов. На вырученные деньги можно было тронуться в путь. Ввиду полнейшей неопределенности будущего, Женни, дети и Ленхен поехали в Трир. Старая баронесса Вестфален всегда была рада дочери и внукам.
Карл и Фридрих направились в Баден.
...Бакунин метался в поисках действия. Один план сменялся в его разгоряченном мозгу другим. Он бросался от одной крайности в другую.
В Праге, куда Бакунин прибыл, чтобы возглавить богемскую революцию, у него не было знакомых. В тайное общество, которое он мысленно подготовил и начал организовывать, не вступил никто, кроме двух чехов, братьев Густава и Адольфа Страка. Бакунин произвел на этих доверчивых студентов богословского факультета, случайно встреченных им в Лейпциге, неотразимое впечатление своим зажигательным, патетическим красноречием. Они доверились ему как своему руководителю и согласились выполнять все его поручения.
Хаос в голове Бакунина, противоречивость его взглядов дошли до абсурда. Сперва, видя, как прусские и австрийские государства поработили многие славянские племена, он разразился гневным «Воззванием к славянам», направленным против русского царизма и Николая I, затем вдруг решил написать письмо русскому самодержцу, призывая его самого возглавить славянские народы и стать их царем во всем мире! В своем письме он пытался убедить русского царя поднять общеславянское знамя. Он писал: «Если бы вы, государь, сделали это, объединили всех, кто только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, они с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья Российского орла и устремились бы с яростью на всю Западную Европу».
Так он колебался между идеей панславизма и братства всех рас и народов, отрицал всякую теорию, мечтал о всеобщем разрушении, об отмене всех законов и вдруг жаждал власти, диктатуры сильной личности. Бакунин был одинок и жалок.
Оставаясь один, он ощущал свое полное бессилие и, впадая в крайности, снова писал письма царю Николаю, чтобы затем порвать их. Письма получались многословные, похожие на исповедь, необдуманные. Но писались они с жаром, искренне и всегда отражали душевный беспорядок и бесчисленные противоречия его ума.
Наконец мятущаяся, страстная натура привела Бакунина на баррикады Дрездена во время майского восстания.
Храбрость и хладнокровие Бакунина сделали его во время самых тяжелых и безнадежных боев подлинным предводителем восставших. Его полнейшее презрение к опасности и смерти, забота о соратниках снискали ему наконец любовь, уважение и признательность революционеров. Львиная растрепанная голова, могучая атлетическая фигура Бакунина, возвышавшаяся на баррикадах, зычный голос, неустрашимость ободряли сражавшихся повстанцев. Он один возглавлял до последней минуты отряды защитников баррикад, когда уже все официальные руководители временного правительства и восстания позорно бежали. Бакунин оставался не потому, что надеялся на успех. Горсточка храбрецов из рабочих не могла изменить общего хода истории. Бакунин, конечно, был бессилен спасти обреченную революцию. Но он боролся до конца, но спал, не ел, но пил, даже не курил, чего с ним не бывало уже много лет.
Когда поражение стало неизбежным, Бакунин предложил оставшимся в живых повстанцам взорвать себя вместе с ратушей, чтобы не сдаваться врагу. Он сохранил для этого достаточное количество пороха. Но члены временного правительства отказались. Тогда, собрав самых смелых из защитников баррикад, Бакунин вывел их из горящего Дрездена. Отряд повстанцев направился к Фрейбургу. Бакунин не оставлял мечты ввести этот отряд в Богемию и начать там давно желанное восстание. Но его соратники были сильно утомлены, измучены, подавлены поражением, плохо вооружены. В Хемнице вместо помощи они нашли предательство. Реакционные бюргеры встретили отряд крайне враждебно, ночью схватили повстанцев в кроватях и передали прусским властям. Бакунин был в это время снова так подавлен и измучен нравственно, что, хотя неоднократно мог бежать, остался безучастным к своей судьбе. Он надеялся, что его расстреляют на месте, и боялся только одного — выдачи русскому правительству. Прусское военное командование заточило его в старинную крепость Кёнигштейн. Вскоре его дважды судили, сначала прусским, затем австрийским военным судом, и приговорили к смертной казни.
Приговор гласил: «Михаил Бакунин из Торжка Тверской губернии в России, родившийся в 1814 году, греческой церкви, холостой, расследованием, произведенным военно-судебным порядком вследствие объявленного от 10 мая 1848 года в Праге и окрестностях осадного положения, на основании законно установленных фактов и его признания, удовлетворяющего всем требованиям закона, уличен в государственной измене против австрийской империи и за это преступление подлежит смертной казни через повешение».
Затем случилось то, чего Бакунин боялся превыше всего: его выдали русскому царю.
В то время Лиза переживала мучительные, лихорадочные дни. Отчаяние сменялось надеждой или растерянностью. Сначала до нес дошли вести о поражении дрезденских повстанцев, затем о том, что Мишель убит. Оглушенная неожиданно свалившимся горем, она не видела вокруг себя ничего, кроме тумана, каким всегда представляла себе смерть. Фриц Шлейг, которому она поведала все, сообщил ей, что слухи о гибели Бакунина неверны, но что он был арестован в Хемнице, судим и приговорен к смертной казни. Саксонский король заменил ее пожизненным заключением и тотчас же передал Бакунина австрийскому имперскому суду в Праге. Здесь его обвинили в том, что он руководил антигосударственными выступлениями в Богемии, и тоже приговорили к смерти...
— Помогите ему,— умоляла Шлейга Лиза,— я отплачу вам верной службой до конца своих дней.
Польщенный тем, что его считают столь могущественным, Шлейг обещал дать Лизе денег на поездку к Бакунину. Однако он предупредил ее, что помочь узнику никто не в силах.
— Видите ли, фрейлейн,— сказал он, отсчитывая заработанные ею деньги,— ваш соотечественник — большой преступник. Поговаривают, что сам русский царь вмешался в его дело. Это может изменить его судьбу только в том смысле, что вместо того, чтобы быть повешенным в Праге, он будет вздернут на виселицу на своей родине.
Увидев, как побледнела Лиза, Шлейг назидательно добавил:
— Я знаю, что в австрийском уголовном уложении сказано, что если иностранец совершил за границей преступление, направленное против основных законов,государственных кредитных билетов или монетной системы этого государства, то его следует судить по сему закону наравне с жителями этой страны. Господин Бакунин будет, следовательно, снова судим, в этот раз австрийцами. Вы можете гордиться, не всякому в жизни суждено быть приговоренным к смерти в нескольких государствах. Скажу вам откровенно, я предпочел бы лучше умереть от холеры, но это дело вкуса. История показывает, что всякий, кто пытается сотрясать троны, может рассчитывать на веревку или кандалы.
Кёнигштейн — красивейший городок в Таунусе. С холмов открываются веселые зеленые просторы. Мягкие полукруглые очертания лиственных рощ, убегающих за горизонт, умиротворяют душу. Но Лиза с ненавистью смотрела на окружающее.
Над горизонтом возвышалась серая, похожая на острую скалу крепость. Плющ и вьюны ползли по каменным выступам, и тюрьма казалась от этого обезлюдевшим средневековым замком. И только крики невидимых часовых за готическими стенами да тусклый свет сторожевых фонарей разрушали эту иллюзию.
Лиза металась у подножия холма, где находилась крепость. Она была женой, сестрой, другом Бакунина, но формально совершенно посторонним ему человеком.
Сухопарый офицер с рыбьими глазами и треугольным подбородком долго выслушивал ее путаный монолог. Ни о каком свидании либо передаче письма и денег не могло быть и речи. Лиза поняла, что судьба Бакунина предрешена.
Как лунатик, бродила она вокруг тюрьмы, мечтая устроить побег Мишелю, подкупить стражу, судей. Все это было больным бредом. Без денег, связей она чувствовала полное бессилие. Как пробить эти страшные степы мыслью, словом, чувством и донести до узника надежду, вдохнуть в него свою любовь и сострадание? Одиночество Бакунина и Лизы, разделенных грудой камней, было таким же непреодолимым, как пропасть вселенной между двух звезд.
Потеряв всякую надежду, изможденная, так же как прикованный к стене железной цепью, закованный в кандалы Бакунин в тюремной камере, Лиза ждала исхода суда.
В это время ей попался номер петербургской газеты «Русский инвалид». То, что она прочла там, привело ее в содрогание:
«Пагубные учения, народившие смуты и мятежи во всей Западной Европе,— писала газета,— и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве.
Но в России,— где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах парода и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого,— только горсть людей, совершенно ничтожных, большей частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие нрава религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы бдительность правительства не открыла зла в самом начале.
По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий. Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц — вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей. В конце 1848 года он приступил к образованию независимо от своих собраний тайного общества, действуя заодно с поручиком лейб-гвардии Московского полка Момбелли, штабс-капитаном лейб-гвардии Егерского полка Львовым 2-м и неслужащим дворянином Спешневым. Из них: Момбелли предложил учреждение тайного общества под названием «Тайного товарищества» или «Братства взаимной помощи и людей превратных мнений»; Львов определил состав общества, а Спешнев написал план для произведения общего восстания в государстве.
У двух из сообщников Петрашевского: титулярного советника Кашкина и коллежского асессора Дурова — были также назначены в известные дни собрания в том же преступном духе.
Для раскрытия всех соучастников в этом деле государю императору благоугодно было учредить особенную секретную следственную комиссию.
По предъявленному его величеству, после пятимесячных самых тщательных разысканий, докладу комиссии, все лица, кои оказались вовлеченными в преступные замыслы или случайно, или по легкомыслию, посредством других, были но высочайшему повелению освобождены от всякого дальнейшего преследования законом.
Затем признаны подлежащими окончательному судебному разбору 23 человека, коих высочайше повелено предать суду по полевому уголовному уложению в особой военно-судной комиссии, учрежденной под председательством генерал-адъютанта Перовского.
Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судной комиссией, признал, что 21 подсудимый, в большой или меньшей степени, все виновны: в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка,— а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием; остальных же двух: отставного поручика Черносвитова, к обвинению которого юридических доказательств не оказалось, но обнаружившего самый вредный образ мыслей, оставить в сильном подозрении и сослать на жительство в одно из отдаленных мест империи, а сына почетного гражданина Катенина, по случаю помешательства в уме, оставить в настоящее время без произнесения над ним приговора, но по выздоровлении вновь предать военному суду.
Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и, по совершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их различным наказаниям».
Дождавшись вторичного разбора дела Бакунина, который был снова осужден на смерть и затем выдан русскому царю, Лиза поехала в Петербург. В пышных черных волосах ее появились седые пряди, трагически раскрылись черные суровые глаза молодой женщины и нервно подергивались губы.
Думая о своем детстве, Женни как бы наклонялась над ним, подобно тому как широкие ветви наклоняются к корням. Все в маленьком городе Трире, где она родилась и родился Карл, полно было для нее особого смысла, все воскрешало прошлое, даже самый воздух.
Мало что изменилось в Трире за годы ее странствий с Марксом. Те же башенные часы важно и гулко отсчитывали время на площади Главного рынка. Журчал фонтан, украшенный фигурой святого, и те же львиные головы по углам пьедестала статуи вяло выплевывали воду.
Вот и платан недалеко от Римской улицы, где когда-то жили Вестфалены и где так часто в светлые, душные вечера стояли и не могли наговориться Карл и Женни.
Дом на Брюккенгассе под номером шестьсот шестьдесят четыре тоже не изменился. Фасад его ничем не выделялся среди сотни подобных городских домов.
Дом этот давно исчез бы, разрушившись, прослужив нескольким поколениям и уступив место более совершенному сооружению иного века. Но зимой 1818 года дом взял в долгосрочную аренду адвокат Маркс.
Как хорошо знала Женни большой диван карельской березы с нарядной обивкой, на котором появился на свет се муж. Часто сидела она в юности на нем вместе со своей подругой Софи, сестрой Карла. Девушки занимались рукоделием, рисованием или слушали чтение.
Каждый уголок в доме Марксов был дорог Женни. В прилегающем к дому саду всегда было много цветов. Их разводила Софи. Сирень, розы, тюльпаны, настурции и резеда все лето наполняли воздух пряным ароматом.
Мощеный дворик, по обе стороны которого тянулись раскрашенные розовой и зеленой краской резные балкончики, соединявшие главную часть дома с флигельком, был совершенно необычен и напоминал архитектуру Алжира и Туниса.
Из передней первая дверь вела в невысокий просторный кабинет Генриха Маркса. Много счастливых вечеров в задушевных беседах с отцом провел там в отрочестве Карл. Когда сын уехал учиться в Бонн и позднее в Берлин, здесь за большим столом отец писал ему свои обширные эпистолярные поучения, делился сомнениями, заботами и честолюбивыми надеждами.
«Я надеюсь, мой сын, дожить до того дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя».
Как никто другой, сумел Генрих Маркс внушить доверие Женни. Она ничего от него не таила.
В этом же кабинете Карл и Женни оплакивали своего старшего друга — Генриха Маркса.
Женни медленно уходит из дома, где родилась ее большая любовь к Карлу.
Приветливо улыбаясь, здороваются с Женни Маркс горожане. Те, кого она знала детьми, за годы ее отсутствия стали матерями и отцами семейств, подруги ее матери, перед которыми Женни некогда учтиво приседала, состарились.
Женни любила бродить по родному городу. Она всегда задерживалась на мощеном дворике гимназии Фридриха-Вильгельма, где учились Карл и ее брат Эдгар, и смотрела на дом, обвитый плющом, похожий на прусскую казарму, цвета незрелых помидоров. У стены его — несколько деревьев с запыленной листвой, почти не дающие тени.
Посещала она и кладбище под горой. Там были две дорогие ее сердцу могилы. Отец, Людвиг фон Вестфален, воскресал в ее памяти: жизнерадостный, благожелательный к людям, жадный к знаниям, слегка насмешливый.
Под скромным надгробным памятником покоился отец Карла. Его с дочерней нежностью любила Женни. С сыновней преданностью и уважением относился и Карл к отцу своей жены.
Эти два человека резко выделялись среди своих сограждан. Оба взрослыми людьми пережили нашествие французов, возвышение и падение Наполеона, бурные годы европейской истории после Великой французской революции. Хорошо образованные, подлинно гуманные, они передали Карлу и Женни опыт пережитого и подняли их дух и мысль над душным маленьким Триром.
Гений Маркса нашел в этих двух людях первое признание. Так не раз думала Женни, склоняясь над каменными плитами с золотыми буквами имен и цифрами дат...
В главном городе Бадена Мангейме, куда приехали Маркс и Энгельс, готовилось восстание. Во время встречи с руководителями восстания они настаивали на том, чтобы был осуществлен военный план, разработанный Энгельсом.
— Прежде всего,— требовал Фридрих,— следует не допустить частных мятежей в крепостях и гарнизонных городах. Это лишь бессмысленная трата сил. Но совершенно необходимы диверсии в маленьких городах, в фабричных районах и сельских местностях, которые задерживали бы продвижение правительственных войск. А все свободные силы нужно собрать в хорошо защищенном, наиболее удобном округе и создать там ядро революционной армии.
Баденские вожди восстания но имели ни достаточного мужества, ни способности предвидения. Они пришли в ужас от плана столь смелых действий и отвергли советы Маркса и Энгельса. И это вскоре привело к гибели восстания.
Из Бадена Маркс и Энгельс поехали в Кайзерслаутерн. Здесь они встретились с членами пфальцского временного правительства. С помощью испытанного кёльнского соратника коммуниста д’Эстера Маркс получил мандат демократического Центрального комитета для поездки в Париж к «монтаньярам», как называла там себя социал-демократическая партия, объединявшая рабочих и мелких буржуа. Громкое и бессмертное название партии 1793 года — Гора — само по себе вызывало ярость правящих кругов Третьей республики во главе с президентом Франции Луи-Наполеоном Бонапартом и свирепым усмирителем июньского восстания генералом Кавеньяком.
Маркс и Энгельс направились во Францию. По дороге в Париж в Гессенском княжество Карла и Фридриха арестовали как участников восстания. Судьба их в эти дни зависела от многих обстоятельств. В то смутное время, после разгрома революции в Германии, они могли равно стать перед военным судом и быть расстрелянными, как и случайно сразу выйти на свободу. Из Дармштадта под усиленным конвоем Маркса и Энгельса привезли во Франкфурт-на-Майне и освободили так же неожиданно, как ранее схватили и везли, считая опаснейшими преступниками. Карл, понимавший, что в Германии при создавшейся обстановке нечего ждать новых значительных революционных событий, прямо поехал в Париж.
Энгельс вернулся в Кайзерслаутерн, чтобы помочь повстанческим отрядам в их отступлении. По ого вполне оправдавшемуся предсказанию самые решительные коммунисты были также и самыми решительными солдатами. Энгельс — один из них — вступил в добровольческий отряд, которым командовал отставной прусский лейтенант Виллих.
Отряд этот успешно блокировал прусскую крепость Ландау. Она легко могла бы быть взята повстанцами, если бы у них была артиллерия. Энгельс с присущим ему темпераментом и волей участвовал в боях и одновременно осаждал штаб восстания в Кайзерслаутерне, требуя гаубиц для Виллиха. Руководителям временного правительства Бадена не понравилась критика Энгельса, и он был арестован в одном из пограничных пфальцских городков.
Со связанными руками, пешком его погнали в Кайзерслаутерн и затем посадили в тюрьму. Узнав об этом, рейнские рабочие и солдаты добровольческого отряда заявили, что покинут позиции, если Энгельс не будет немедленно освобожден. Протест и возмущение среди повстанческих частей были так грозны, что распоряжением временного правительства Энгельс через двадцать четыре часа был освобожден со всевозможными извинениями.
Вскоре разведчики доставили известие, что на провинцию наступают контрреволюционные прусские .войска. Фридрих снова взялся за оружие.
До момента интернирования пфальцско-баденской армии в Швейцарии он принимал участие во всех походах и боях добровольческого, прославившегося своей дисциплиной и отвагой отряда лейтенанта Виллиха. Солдатам этой части пришлось принять на себя удары наступавших пруссаков и прикрывать отступление всей баденской армии.
В середине июля 1849 года восстание в южной и западной Германии было окончательно подавлено, чем и определился исход германской революции. Все было кончено. Энгельс с оставшимися в живых бойцами перешел на швейцарскую территорию.
Около двух месяцев Фридрих и Карл ничего не знали друг о друге. Крайне взволнованный слухами о том, что Маркс арестован, Энгельс писал из кантона Веве в конце июля Женни Маркс:
«Дорогая г-жа Маркс!
И Вы и Маркс, вероятно, удивляетесь, что я так долго не подавал о себе вестей... В тот самый день, когда я написал Марксу (из Кайзерслаутерна), пришло известие, что Хомбург занят пруссаками и, таким образом, сообщение с Парижем прервано. Отослать письмо было уже невозможно, и я отправился к Виллиху... Я участвовал в четырех сражениях, из которых два — особенно при Раштатте — были довольно серьезными. Я убедился, что хваленое мужество в атаке — самое заурядное качество, которым может обладать человек. Свист пуль — сущие пустяки, и, хотя мне пришлось наблюдать немало трусости, я за всю кампанию не видел и дюжины людей, которые держали бы себя трусливо в бою. Зато сколько «храброй глупости»!
...После того как наш отряд прикрыл отступление баденской армии, мы перешли в Швейцарию на сутки позже всех остальных и вчера прибыли сюда, в Веве. Во время кампании и пока мы шли по Швейцарии, у меня не было никакой возможности написать ни строчки. Зато теперь я спешу подать весть о себе и скорее написать Вам, тем более, что где-то в Бадене я слышал, будто Маркс арестован в Париже. Мы совершенно не видели газет и потому ничего не смогли узнать. Я так и не смог проверить, правда это или нет. Вы представляете себе поэтому, как я встревожен; я очень прошу Вас как можно скорее успокоить меня, сообщив о судьбе Маркса. Я не слышал, чтобы слух об аресте Маркса подтвердился, а потому все еще надеюсь, что это неправда...
Если бы только у меня была уверенность, что Маркс на свободе! Я часто думал о том, что под прусскими пулями я подвергался гораздо меньшей опасности, чем наши в Германии и, в особенности, Маркс в Париже. Избавьте же меня скорее от этой неизвестности».
Маркс со всей своей семьей находился в это время уже в Париже. В свою очередь обеспокоенный судьбой Энгельса, он очень обрадовался письму друга.
В Париже Маркс стал свидетелем все более и более яростных нападок наглеющей реакции на революционную демократию.
В первый же день по приезде, когда ou шел по улице Пуатье, его остановила старушка с четками в руке и, осенив себя крестным знамением, прошептала «Аве Мариа» и подала маленькую книжечку. Это была одна из тридцати брошюр, изданных «партией порядка» для народа, чтобы вызвать страх и отвращение к социализму. Карл знал о группе контрреволюционеров, называвшей себя «партией порядка». Она состояла из орлеанистов, бонапартистов, легитимистов, католиков и даже нескольких республиканцев, объявивших экономические реформы порождением сатаны. Продажные борзописцы без совести и сердца за большие деньги составляли для издания гнусные проповеди, которые богатые старушки навязывали прохожим бесплатно, если те не соглашались заплатить за них пять сантимов.
Карл наугад раскрыл поданную ему брошюрку. Тираж ее достигал полумиллиона. Маркс прочел:
«Красный это не человек, это красный... Лицо у него забитое, огрубевшее, без выражения; мутные бегающие глаза, никогда не смотрящие в лицо, избегающие взгляда, как глаза свиньи; грубые негармоничные черты лица; низкий, холодный, сдавленный и плоский лоб; немой, невыразительный, как у осла, рот; крупные выдающиеся губы — признак низких страстей; толстый широкий, неподвижный, без тонкости очертаний и крепко посаженный нос; вот общие характерные черты, которые вы найдете у большинства коммунистов. На их лицах начертана глупость учений и идей, которыми они живут».
Маркс швырнул брошюру в мусорный ящик возле бакалейной лавки.
«Как, однако, распух желчный пузырь у господ контрреволюционеров,— внутренне улыбаясь, подумал он.— Здорово их пугает народ, хоть и мнят они себя победителями».
В реакционных писаниях особенно изощрялись Вал--лон и Теодор Мюре, известные своими кутежами и продажностью купеческие сынки, и крючконосый наглый полицейский агент Шеню. Эти типы писали и издавали многотысячным тиражом ядовитые пасквили, изобличавшие, впрочем, самую мерзостную сущность душ самих авторов. На обложке брошюрок для приманки они изображали сельского священника, проповедующего детям, или голубей среди цветов. Названия их тоже должны были вводить в заблуждение. Например, были брошюры, названные: «Катехизис рабочего или слово трудящегося», «Как крестьянину быть счастливым», «Вечера в вандейской хижине», «Работы и хлеба».
Иной раз среди авторов, взявшихся за перо, чтобы бороться с социализмом, встречались люди со знатными именами или видным положением. Депутат Национального собрания Луи Вельо, маршал Бюжо изощрялись в описаниях крестьянских семей, отказавшихся от социалистических химер. «Смиритесь и помните, богатые только попечители и правители для бедных, и сам бог пожелал, чтобы они выполняли эту миссию на земле!» — убеждали они.
Тьер также появился снова на политической арене. Не обладая никакими познаниями в экономике, бывший министр короля Луи-Филиппа написал книгу «О коммунизме», при котором, по его словам, «работать, радоваться и жить придется сообща».
Благодарная буржуазия, усмотрев в его брошюре защиту ее собственности, снабдила Тьера большими деньгами на борьбу с французской плебейской революцией. Тьер создал на средства банкиров и фабрикантов издательство, которое стало выпускать очень дешевые, а подчас и раздаваемые бесплатно книжки. Они назывались «Мелкие сочинения Академии моральных и политических наук».
Впрочем, народ чаще пользовался бумагой тьеровских изданий для совсем других, весьма прозаических целей.
В ответ на брошюры, трактаты, пасквили контрреволюционеров еще более дерзко, вызывающе и громко звучали куплеты любимого народного певца Парижа, молодого и задорного Пьера Дюпона:
У социализма два крыла — Студент и рабочий. Полет его не знает предела, Не знает конца!Им вторили волнующие и жгучие стихи Беранже. Потрясал своей разоблачительной прозой Гюго. Идеи социализма владели по-прежнему умами людей парижских предместий.
Они отвечали агитаторам реакции:
— Прочь! Нам нужно бесплатное образование для наших детей, больницы для хворых и увечных, посильный рабочий день. Мы хотим жить по-человечески. Прочь, летучие мыши в сутанах и мундирах и пауки в сюртуках! Долой дворян, попов и богачей!
В городе свирепствовала холера, врачи не знали, как и чем лечить смертоносную болезнь. Народ, охваченный отчаянием, становился все более бесстрашным. Знойное лето, пыль, окутавшая дома, деревья, самое небо, внезапные вспышки ярости усталого трудового люда, угрозы победителей создавали особо тягостную атмосферу неопределенности и беспокойства в столице.
Французские войска, вопреки пятой статье конституции, гласившей, что республика никогда не употребляет своей силы на подавление национальных интересов народа и не вмешивается в дела чужих государств, подошли к Риму и осадили «вечный город».
Тысячи и тысячи впечатлительных, легко загорающихся французов, узнав об этом, до утра не покидали площади и бульвары. Они требовали, чтобы правительство и президент Бонапарт действовали согласно конституции и призвали армию к исполнению законов. Но на петиции и требования, вынесенные на многолюдных собраниях, ответа не было. Народ был безоружен, ослаблен после июньской бойни, руководители-революционеры погибли, сидели в тюрьмах или скрывались. Гора в эти годы не сумела возглавить рабочее движение.
Правительство искало повода для повторения прошлогодней кровавой расправы. Оно считало, что армия и полиция обеспечат контрреволюции победу над трудящимися.
В то время как все враги трудового народа объединились, народ не имел подлинно революционного руководства.
Партия Горы была оторвана от народа. Она подвергалась преследованиям со стороны правительственной «партии порядка», исподволь готовившей заговор против республики.
Маркс познакомился с монтаньярами ближе и понял, что они ничего не могут серьезно противопоставить силам контрреволюции. Многоречивые и напыщенные в стенах Национального собрания, они становились жалкими болтунами, когда оказывались среди народа.
Монтаньяры призывали к гражданскому миру, в то время как спасение революции было только в оружии.
Тотчас же после июньской трагедии Национальное собрание начало расследование происшедших событий. Оно создало следственную комиссию, во главе которой стал полулиберал, полупалач, всегда ничтожный и расчетливый карьерист Одилон Барро. Он был одним из тех, кто должен был помочь Луи-Филиппу предотвратить февральскую революцию, но не сумел этого сделать. Он мечтал быть главой королевского правительства, но, так как монархия пала, приспособился к республике, чтобы ускорить ее падение. Комиссия Барро, имевшая чрезвычайные полномочия, оказалась на деле полицейским застенком. Она стала ловить всех, кто избежал июньской расправы и ареста, и передавала их в руки палача или посылала в тюрьму. Оговоры, случайное письмо, смелое поведение на допросах были для комиссии вполне достаточным поводом, чтобы вынести приговор. Даже народные представители — члены Национального собрания не были защищены от преследований комиссии. Такие уклончивые и безвольные депутаты, как Луи Блан и Коссидьер, оказались в конце концов под особым надзором.
Служивший «партии порядка» генерал Кавеньяк, чье слово имело решающее значение, откровенно заявил, что не будет препятствовать «ходу правосудия». На партию Горы обрушились непрерывные полицейские удары. Ее ряды таяли день ото дня. .
Третьего августа прокурор заявил Национальному собранию, что начинает судебное преследование против депутатов, членов Горы. Ответом ему был шум и сумятица. Все монтаньяры вскочили со своих мест и закричали:
— Доказательства! Представьте доказательства нашей вины!
Ледрю-Роллен и Луи Блан бросились к трибуне, опрокидывая скамьи. Председатель собрания заглушил их речь звонком. Обвиняемым так и не дали возможности произнести ни одного слова. Прокурор тем временем готовил поддельные улики и лживые свидетельские показания против колеблющихся депутатов, не принадлежащих к какой-либо партии.
Уже в июле министр внутренних дел Франции через префекта полиции предписал Карлу Марксу поселиться в департаменте Морбиан в Бретани. Климат этой малярийной местности был чрезвычайно вреден для здоровья.
— Это то же,-что гильотина или Кайенна! Ехать туда невозможно,— сказала решительно Женни, узнав о предписании.
Она в то время была беременна и вскоре ждала четвертого ребенка. А семья находилась в жесточайшей нужде. «Новая Рейнская газета» поглотила все до последнего гроша. Марксу пришлось обратиться за помощью к Фрейлиграту и Лассалю, который вышел из тюрьмы после шестимесячного заключения.
Оказавшись на свободе, Лассаль тотчас же принялся за неоконченное дело о разводе графини Софи фон Гацфельд. Это вызвало чувство досады и отвращения у его сторонников. Особенно негодовал на него за это поэт Фрейлиграт.
— Охота Лассалю копаться в семейном графском навозе,— говорил он раздраженно.
Узнав из письма Маркса о его лишениях и материальных невзгодах, Лассаль обрадовался, что может выставить себя в наивыгоднейшем свете. Он был от природы довольно щедрый человек, но выхваль. Желание показать, что он помогает людям и особенно самому рейнскому громовержцу Карлу Марксу, превозмогло былые обиды за критику. Со свойственной ему живостью он стал обходить знакомых и .незнакомых сограждан, рассказывая о положении изгнанника, и показывал его письмо. Так он собрал некоторую сумму денег. Совсем иначе поступил Фрейлиграт. С душевным тактом и деликатностью он поделился с другом всем, чем мог, хотя сам был в очень стесненных обстоятельствах.
Узнав о шумихе, поднятой вокруг его просьбы Лассалем, Маркс не смог скрыть своей обиды и досады.
— Лучше злейшая нужда, нежели публичное попрошайничество,— сквозь зубы, скорбно и сердито хмуря брови, говорил он Женни.— Лассаль рад случаю, пользуясь моим доверием, похваляться своей отзывчивостью перед первым встречным. Зачем только обратился я к этому тщеславному дельцу? Право, эта история злит меня.
Женни не менее мужа была уязвлена гласностью, которой предал Лассаль их нужду и тяготы.
А Ленхен, посвященная во все житейские затруднения семьи, где она была своим человеком, добавила поучительно:
— Как сказано еще в Писании, не то важно, что даешь, а то, как даешь. У господина Лассаля правая рука знает хорошо, что делает левая.
После долгих колебаний и сомнений Маркс отказался ехать в Бретань и решил переселиться с семьей в Лондон. Состояние здоровья Женни, ожидавшей скорых родов, затрудняло переезд всей семьи. Карл должен был поехать один, чтобы найти жилье. Это было очень трудно. Средств на жизнь почти не было.
В конце августа Маркс писал Энгельсу:
«Дорогой Энгельс!
Меня высылают в департамент Морбиан, в Понтийские болота Бретани. Ты понимаешь, что я не соглашусь на эту замаскированную попытку убийства. Поэтому я покидаю Францию.
В Швейцарии мне но дают паспорта, я должен, таким образом, ехать в Лондон, и не позже, чем завтра. Швейцария и без того скоро будет герметически закупорена, и мыши будут пойманы одним ударом.
Кроме того: в Лондоне у меня имеются положительные виды на создание немецкого журнала. Часть денег мне обеспечена.
Ты должен поэтому немедленно отправиться в Лондон. К тому же этого требует твоя безопасность. Пруссаки тебя дважды расстреляли бы: 1) за Баден; 2) за Эльберфельд. И зачем тебе эта Швейцария, где ты ничего не можешь делать?
Тебе ничего не мешает приехать в Лондон...
Я положительно рассчитываю на это. Ты не можешь оставаться в Швейцарии...
Моя жена остается пока здесь...
Твой К. М.»Зловеще и сурово начиналось третье изгнание Карла Маркса.
Двадцать четвертого августа маленькое утлое суденышко отплыло от берегов неспокойной Франции. Опершись о борт, Маркс пытливо смотрел вдаль. Бурливо катил свои темно-серые воды Ла-Манш.
Маркс напряженно думал о причинах поражения французской революции. Через несколько часов ему предстояло снова ступить на землю самой могущественной индустриальной державы мира. Богатейший из французских фабрикантов был всего лишь мелкий буржуа в сравнении с крупным английским промышленником. В Англии преобладает промышленность, во Франции — земледелие. Карл вынул записную книжку и набросал мысли, которые родились в этот час как итог пережитого и продуманного за последние месяцы. Он твердо решил по приезде в Лондон заняться исследованием причин, приведших к поражению революции. Ему уже становилось понятным, что Франция, как и полуфеодальная Германия, экономически еще не была достаточно подготовлена для победы рабочего класса.
С волнением и грустью вспоминал Маркс о том, как много коммунистов и рабочих пало в неравной борьбе с контрреволюцией во Франции и Германии. В глубоком печальном раздумье он незаметно для себя снял шляпу перед их безвестными могилами. Морской ветер растрепал копну его седеющих волос.
«Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню,— записал Маркс.— Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира».
Корабль приближался к порту. Показались неясные контуры прибрежных белых скал Дувра. Остров, на котором предстояло жить Карлу Марксу, был окутан густым туманом.
Прекрасна молодая поросль леса. Деревца тянутся ветвями и кроной к небесам. Но идут годы, и одни из них повалены бурею, другие покривились от ветров, третьи подгнили или ослабели, и над бором высятся немногие могучие, несокрушимые великаны. Им не страшны ураганы. Выше и выше поднимаются их ветви к солнцу и звездам.
Марксу было немногим более тридцати одного года, когда он высадился на берег Великобритании.
Денег у него почти не было. Прежде всего нужно было подыскать квартиру для беременной Женни, троих детей и Ленхен. Еще раз предстояло начать жизнь сызнова. Как все чрезвычайно сильные люди, он испытывал невозмутимое спокойствие и прилив энергии именно потому, что трудностей на жизненном пути стало больше.
Шел дождь, столь обычный в Англии. День точно начался не с рассвета, а с мрачных, серых сумерек. Когда поезд подходил к окутанному плотным туманом Лондону, Марксу внезапно припомнились строки из «Божественной комедии» Данте:
На полпути земного бытия Вошел я в лес, угрюмый, темный...Иоганн Сток после смерти жены, а затем июньского поражения, когда исчезли почти все его друзья, чувствовал себя не менее одиноким, нежели когда-то в каменном мешке крепостной тюрьмы. Как это случилось, что ему не хотелось больше никого видеть? Он с трудом старался приобщиться к тому, что считал бессмысленной сутолокой. Ему подчас казалось, что он потерял все пять чувств, а сердцем как бы выключился из жизни. Удары были так сильны, что Сток словно оглох и одеревенел. Был ли это инстинкт самосохранения или, наоборот, значительная часть его души навсегда отмерла? Он часто задавал себе этот вопрос, сидя с иглой в руке над шитьем, и радовался, когда нечаянно прокалывал палец и ощущал острую физическую боль.
— Я все же еще чувствую что-то...— мысленно говорил он тогда.
В окраинной захудалой мастерской, куда портной устроился на работу, было грязно. По углам ютились большие мрачные пауки. Иоганну нравилось наблюдать за ними. Пауки казались ему такими же нелюдимыми и одинокими, как он. Поднимая усталые от работы глаза, портной с уважением и нежностью следил за этими трудолюбивыми ткачами. Одиночество всегда окружало их, как паутина. Сжавшись в комочек, проводили они часы и дни в одиночку. Сток внутренне содрогался. Камера в тюрьме казалась ему отныне не самой страшной формой одиночества. Со времени поражения революции он познал его во всем многообразии оттенков цвета, звука и предметности.
Теперь Сток ловил себя на том, что часто смотрит на людей с удивлением. Особенно если они шумели, хохотали, казались довольными, веселыми.
«Не знают, что творят,— думал портной, пробираясь в толпе.— Когда и как неоспоримая истина о том, что счастье всех людей, а не горсточки — единственная правда жизни, дойдет до них? Они в крови уже потому, что остались равнодушными».
Его мучила мысль, что он обречен. Родиться, чтобы всю жизнь знать одни только поражения? Он не мог примириться с этим. Родиться слишком рано, не добиться намеченной цели и понимать это?
Обманывать себя портной уже больше не умел, он слишком многое пережил, познал и понял. Часто он уходил на могилу Женевьевы, где свято берег каждую травинку. Усевшись у изголовья, Сток перечислял про себя всех, кого уже не существовало.
— Их уже значительно больше там, чем на земле,— шептал он грустно. Портной не верил в загробную жизнь и под словом «там» видел перед собой огромную черную яму, где не было ни света, ни ощущений, ни мыслей.
Вспоминая Женевьеву, он не мог удержать слез.
«Пока я жив, жива во мне и она. Скоро исчезну я. Даже маленькая Катрина не будет помнить, как нежно улыбалась ее мать. Память о нас и та живет не дольше трех поколений. Вечны только те, что делают душу человека лучше и жизнь его счастливее».
Сток попытался искать членов Союза коммунистов. Однажды он встретил нескольких сторонников Виллиха, Шаппера и Бартелеми и поспорил с ними. Он написал письма Марксу и узнал о том, что Центральный комитет союза обосновался отныне в Кёльне. В Майнце жил дальний родственник Стока, молодой портняжный подмастерье Фридрих Лесснер. Иоганн решил отправиться к нему, чтобы наладить прочные связи с коммунистами, придерживавшимися программы действий Маркса и Энгельса. Однако следовало сначала позаботиться о детях и накопить денег на дорогу.
Сын Стока Жан, по по летам высокий, сильный, развитой юноша, работал кочегаром на локомотиве. Он категорически отказался покинуть Францию, и главной причиной этого была Жаннетта.
С отроческих лет он самозабвенно полюбил молодую женщину. Тщетно ссылалась она на десять лот разницы в возрасте и требовала от него только сыновней привязанности. Жан не мог обходиться без нее ни одного дня, сам не отдавая себе отчета, что будет дальше.
Вдова Кабьена тоже крепко привязалась и к нему и к Катрине, которую воспитывала, как родную дочь. Ради нее она отказалась от выгодной должности у прилавка магазина и, чтобы не оставлять без надзора ребенка, стирала и чинила на дому белье. Верная памяти Кабьена, она решительно отклоняла брачные предложения, которые часто сулили ей безбедную жизнь.
Когда Жан узнавал о сватовстве, его лицо не предвещало ничего хорошего.
— Ты не посмеешь выйти замуж. Подожди немного, никто не будет любить тебя, как я,— шептал он, задыхаясь от гнева и нежности.
— С каких пор щенята осмеливаются вмешиваться в мои дела? — смеялась Жаннетта, но сердце ее начинало биться сильнее.— Тебя еще не было на свете, когда я нянчила соседских детей в деревне. Это, верно, ты держался за мой палец, когда впервые встал на ножки, и я вытирала твой мокрый нос, а ты ревел и кричал мне: «Не надо, няня!»
Если Жан пытался взять Жаннетту за руку, она отдергивала ее с ужасом, точно это было недопустимо, как кровосмешение. Но расстаться с юношей было для нее уже невозможно. К тому же любовь к маленькой сестре Жана все усиливалась в сердце красивой вдовы.
После ужина Жаннетта обычно принималась за починку или глажку белья, Катрина засыпала, а Жан, когда был свободен, вытаскивал книгу.
— Если в твоей книге есть что-либо про любовь, почитай-ка вслух. Только чтобы все хорошо кончалось,— просила она.
Особенно нравились ей романы Александра Дюма и Эжена Сю. Жан читал далеко за полночь. Покончив с работой, Жаннетта укладывалась рядом со спящей Катриной. Опершись локтями на подушку, она внимательно слушала Жана, то вдруг разражаясь веселым смехом, то негодуя.
Иоганн Сток возвращался обычно очень поздно. Он был крайне взыскательный критик и, слушая чтение сына, нередко говорил:
— Ну и враль твой писатель. Видно, я состарился, чтобы пробовать эдакую слюну в сахаре.— И, брюзжа, он укладывался спать.
Весной, накопив немного денег и поручив детей заботам доброй Жаннетты, Иоганн Сток отправился в Германию в Майнц к Фридриху Лесснеру.
Портняжному подмастерью Лесснеру было всего двадцать семь лет, но у него было уже славное прошлое. Иоганну все нравилось в молодом коммунисте: и его живой, несколько восторженный склад мыслей, и упорство, с каким он рвался к науке.
Лесснер хорошо знал Маркса и Энгельса. Он встретился с ними еще в Лондоне в 1847 году на конгрессе, превратившем «Союз справедливых» в Коммунистический. В дни революции 1848 года немецкий эмигрант приехал в Кёльн. Жил он там нелегально и тем не менее быстро приобрел известность на окраинах под именем Картенса. Он деятельно помогал «Рабочему союзу», часто выступал в «Демократическом обществе» и постоянно заходил в эти напряженные, незабываемые дни в редакцию «Новой Рейнской газеты». Вскоре здесь он стал своим человеком.
— Быстро миновало светлое, золотое времечко,— рассказывал он Стоку.— Тогда я верил, что весь немецкий народ немедленно восстанет и, как один человек, завершит революцию. Кто бы мог подумать, что выйдет по-другому и бургомистры будут ползать на брюхе и целовать руки тиранов, обагренные в крови наших лучших братьев.
Сток жадно расспрашивал Лесснера, как шла борьба за свободу в Кёльне.
Подмастерье рад был говорить об этом часами. Оба коммуниста, один пожилой, усталый, другой здоровый, молодой, полный сил, старались понять причины, приведшие столь хорошо начавшуюся в феврале 1848 года революцию к поражению.
— Я читал новые статьи Маркса и Энгельса, как откровенье,— признавался Сток.— Маркс и Энгельс помогли мне разобраться во всей заварухе, охватившей Европу. Тут и опытному следопыту не мудрено было сбиться с дороги. Жаба Луи Блан во Франции да индюки вроде Вейтлинга, Руге и других могли задурить нам голову. Но с Марксом не заплутаешься.
— Это верно. Он и Энгельс слепого и того выведут на свет божий. Честь им и хвала,— ответил Лесснер.— Мне довелось также часто встречаться с Вильгельмом Вольфом и Фердинандом Фрейлигратом. Поэт — видно, это профессия такая — молчалив и замкнут, все где-то витает, к нему трудно подступиться, а вот Вольф — душа человек, весь нараспашку. Когда он, бывало, выступал в «Демократическом обществе», зал бывал битком набит. Слушать Вольфа — истинное наслаждение, он и рассмешит, и объяснит все простым словом. Никогда он, точно как Маркс и Энгельс, за словом в карман не лезет.
— Я думаю, что, когда в башке много мыслей, всегда будешь хорошим оратором. Иной лезет на трибуну с пустой головой и только машет руками, встряхивает головой и пускает словесную струю на слушателей. Сколько ни старается, а в лучшем случае в сон вгонит. А таким, как Маркс, Энгельс или Вольф, всегда есть чего сказать рабочему человеку.
— Ты прав, Сток. Сколько я их ни слушал, а всегда дивился, откуда столько мыслей в одной человеческой голове берется. Мозг у них, как веретено из сказки, ткет и ткет нить дум.
— Когда ты слышал Маркса в последний раз? — как-то особенно тепло спросил Сток.
— Это было на собрании «Демократического общества» в ноябре тысяча восемьсот сорок восьмого года,— начал рассказывать Лесснер.— Маркс сообщил нам о казни в Вене демократа Роберта Блюма. Ты, верно, знаешь эту подлую провокацию австрийского правительства. Блюм был делегатом немецкого народа. Приговор военно-полевого королевского суда был прямым вызовом всем нам, демократам и социалистам. Никогда не забуду я Маркса в этот горький час на трибуне. Он был суров и грозен. Как сейчас вижу — поднимает он высоко руку, в которой депеша о расстреле Блюма. В зале — могильное молчание. Мы все онемели от возмущения. Ни за что ни про что убили нашего представителя. Маркс заговорил. Если б он сказал: «Идите за мной, сразитесь с деспотами и умрите все до последнего человека»,— мы, как один, не пожалели бы живота своего.— Лесснер помолчал.— Нельзя не довериться такому человеку, как Маркс,— продолжал он.— Такие не подводят. Это скала.
Сток курил и смотрел перед собой.
— За время революции рабочие не только многое осознали, вынесли на своих плечах, поняли, но, главное, выяснили, кто чего стоит,— сказал он задумчиво.— Многие освободились наконец из-под влияния мелкобуржуазных крикунов. Маркс и Энгельс нашу кровушку жалеют, как спою собственную, и не дадут ей пролиться зря. Не то что Виллих и Шапнер.
— И я тоже полностью согласен с большинством Центрального комитета. Виллих и другие вредные болтуны меня не сбили с пути истинного. В Майнце мы, коммунисты, печатаем и распространяем листовки. Дело это наладили так, что в течение часа, если понадобится выступить, наводним ими весь город. Мы стараемся разъяснить по-рабочему, по-простому, как вести себя труженикам в это тяжелое время, каковы наши цели, ну и что вообще происходит на свете. Кстати, а ты читал обращение Бланки, напечатанное вместо с пояснениями Маркса и Энгельса? Вообрази — Виллих, Шаппер и вся их шайка хотели было присвоить себе этот пламенный привет старого бойца из тюрьмы Бель-Иль!
— Вот это новость! — воскликнул Иоганн.— Давай-ка сюда обращение. У тебя оно, наверное, есть!
— Есть, конечно,— ответил Лесснер.
Когда Лесснер ушел, Сток взобрался на деревянный топчан, служивший кроватью, и приоткрыл занавеску. Узкое оконце выходило на горбатую крышу и упиралось краем в длинную трубу. Ничего, кроме множества крыш, крытых черепицей, точно рыбьей чешуей, не было видно. Сток залпом прочел обращение Бланки. Предисловие к немецкому переводу было без подписи, по, как ему ужо было известно, принадлежало перу. Маркса и Энгельса.
«Несколько жалких обманщиков народа, так называемый Центральный комитет европейского центрального сброда, под руководством гг. Виллиха, Шаппера и т. д., праздновали в Лондоне годовщину февральской революции».
Сток широко улыбнулся. «Вот пишут, точно кнутом стегают негодяев!» — подумал он и, весьма заинтересованный, принялся читать дальше.
«Луи Блан — представитель сентиментального фразерствующего социализма, интригуя против другого предателя народа, Ледрю-Роллена, присоединился к этой клико второсортных претендентов. Они зачитали на своем банкете различные адреса, которые якобы были посланы им. Из Германии, несмотря на все усилия, им не удалось выклянчить никакого послания. Благоприятный симптом развития немецкого пролетариата!
Они написали также Бланки, благородному мученику революционного коммунизма, с просьбой прислать адрес. Он ответил им следующим тостом:
«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НАРОДУ»
Какой подводный камень угрожает будущей революции? Тот же, о который разбилась вчерашняя революция: плачевная популярность буржуа, переодетых в трибунов.
Ледрю-Роллен, Луи Блан, Ламартин, Флокон.
Мрачный список! Зловещие имена, начертанные кровавыми буквами на всех мостовых демократической Европы.
Временное правительство убило революцию. На его голову падет ответственность за все несчастья и за кровь стольких тысяч жертв.
Умерщвляя демократию, реакция только занималась своим ремеслом. Преступление совершили те изменники, которых доверчивый народ согласился считать своими руководителями и которые предали народ реакции.
Презренное правительство! Не слушая криков и просьб народа, оно назначает налог в 45 сантимов, который возмущает охваченных отчаянием крестьян.
Оно сохраняет монархические главные штабы, монархических судей, монархические законы. Измена!..
...На него, на него одного ложится ужасная вина за все бедствия, уничтожившие революцию 1848 года.
О, бывают большие преступники, но худшие из них это те люди, в которых обманутый их ораторскими фразами парод увидел свой меч и свой щит; те, которых он с энтузиазмом провозгласил властителями своего будущего.
Горе нам, если в день грядущего торжества народа забывчивость и снисходительность масс допустят к власти хоть одного из этих людей, изменивших своему мандату! Второй раз с революцией было бы покончено!
Пусть рабочие всегда помнят список этих проклятых имен; и если хотя бы одно, да, хотя бы одно когда-нибудь окажется в революционном правительстве, пусть все они в один голос крикнут: «Измена!»
Речи, клятвы, программы снова были бы только плутовством и обманом; те же жонглеры вернулись бы для того, чтобы проделывать те же фокусы; это было бы первое звено в новой цепи деяний еще более бешеной реакции! Проклятие и месть им, если они посмеют когда-либо вновь появиться! Будет стыдно за глупую толпу и жалко се, если она еще раз попадется в их сети!
Мало того, что февральские фокусники навсегда изгнаны из городской ратуши, необходимо предохранять себя от новых изменников.
Изменниками будут те правительства, которые, поднявшись на плечах пролетариата, не проведут немедленно же:
1) общее разоружение буржуазных гвардий;
2) вооружение всех рабочих и их военную организацию; конечно, необходимо будет провести еще много других мероприятий, но они, естественно, будут вытекать из этого первого акта, являющегося предварительной гарантией, единственным залогом безопасности народа.
Ни одно ружье не доляшо оставаться в руках буржуазии; иначе нет спасения.
Сторонники разных учений, оспаривающие теперь друг у друга симпатии масс, сумеют когда-нибудь осуществить свои обещания, провести реформы и добиться благосостояния народа, но при условии, если они не бросят добычу ради ее тени. Они добьются лишь печальной неудачи, если народ, в своем крайнем увлечении теориями, но будет радеть об единственном практическом, надежном элементе — о силе!
Оружие и организация — вот главное орудие прогресса, решительное средство покончить с нищетой.
У кого меч, у того и хлеб! Перед оружием падают ниц, безоружную толпу разгоняют. Франция, ощетинившаяся штыками рабочих,— вот пришествие социализма.
Для вооруженных пролетариев не будет ничего невозможного, исчезнут все препятствия, всякое сопротивление.
Но пролетарии, которые дают себя забавлять смешными прогулками по улицам, посадкой деревьев свободы, звонкими фразами адвокатов, получат сначала святую водицу, потом оскорбления, наконец — картечь, и нищету всегда.
Пусть же народ сделает выбор!»
Окончив чтение, Сток где-то в глубине души ощутил легкое разочарование.
«Замечательно написал старик,— подумал он,— а чего-то все же не досказал и не постиг».
И вдруг Иоганн, старый боец, последователь Маркса и Энгельса, нашел объяснение своему недовольству.
«Бланки не разобрался в том, что сама жизнь делает из нас, рабочих, наиболее революционный класс на земле. К тому же он в одну кучу валит и рабочих, и просто бедноту, и крестьян. Он не понял, кто же такие пролетарии! Бот отчего нет четкости в словах Бланки! Нет, не создать ему такого союза, как наш. Мужественный он революционер, не чета путанику и хвастуну Барбесу. Но до Маркса и Энгельса ему далеко, как до звезд».
Сток недолго пробыл в Майнце. Ему не терпелось вернуться во Францию. Он понял, что там нужнее. Умный и наблюдательный Лесснер не задерживал его.
«В деле быстрее оправится»,— решил он. В день отъезда старый ветеран и молодой подмастерье за кружкой пива говорили, как два равных друга.
— Ты моложе меня лет на пятнадцать! Может быть, ты и увидишь еще счастье нашего брата. А мне за сорок. Это и есть наш рабочий век,— сказал Иоганн Сток.
— Для революционера нет возраста,— возразил Лесснер.— Каждый день борьба для него начинается сначала. Вот мое дело теперь листовки. Когда отпечатаешь их, точно лучи солнца завернул в бумагу и раздаешь их людям. Время, правда, трудное, но тебе, старик, не пристало ныть.
Сток потемнел было, но вдруг схватил Лесспера за руку:
— Сначала я хотел тебе дать оплеуху, но потом понял, что, может, ты и прав. Устал я бороться за будущее, так сказать, в кредит. Неужели ты и впрямь заглянул в мою душу? Нет, Лесснер, не лавочник я, не ноющая волынка.
Вернувшись в Париж, Сток все же долго не мог отделаться от сомнений в самом себе, но больше старался уже не впадать в отчаяние. По вечерам у него собирались рабочие. Жаннетте пришлось отныне слушать не увлекательные выдумки романистов, а книги Маркса и Энгельса и других коммунистов. Сначала она заявляла, что ей скучно, но постепенно мысли о жизни трудового народа, изложенные просто и ясно, стали захватывать и ее. Так человек, впервые слушающий сложную симфоническую музыку, бывает обычно оглушен и раздражен, и лишь после проникновения в ее сущность для него внезапно открывается новый мир звуков и ощущений, о котором он, не сознавая того, мечтал всегда. В том, что вначале казалось Жаннетте только шумным хаосом, она различала теперь чудесную музыку, голоса отдельных инструментов.
Спальня Марии Дерук была точной копией опочивальни, устроенной некогда в имении Мальмезон Жозефиной Бонапарт для своего венценосного мужа.
Шатер из бледно-голубого шелка должен был изображать походную палатку. Правда, несколько огромных меховых шкур покрывали не землю — паркетный пол. Кровать Марии Дерук тоже мало походила на койку солдата. Совсем уж некстати свисали в изголовье разноцветные знамена.
Голубая шелковая палатка стояла в огромном зале и казалась прихотливой игрушкой. Несмотря на духоту и едва проникающий свет, Мария с некоторых пор спала только в ней.
В это утро она получила, как это теперь довольно часто бывало, корзину фиалок.
— От президента республики, мадам,— сообщническим тоном доложила горничная. Фиалки и пчелы были эмблемой Бонапартов, подобно тому как лилии украшали герб Бурбонов.
Мария прикрепила к корсажу свежий букетик лиловых цветов и вышла из палатки.
Вместе с президентом Луи-Наполеоном и его братом графом Морни она отправилась в этот день в закрытом экипаже, под эскортом национальных гвардейцев, в Мальмезон, бывший пригородный дворец Бонапартов. Президент республики решил купить дворец своей бабушки.
— Вы мне поможете, дорогая Мария,— сказал Луи-Наполеон капризным голосом, поглаживая пальцами в перстнях холеную узкую бородку.— Мы восстановим культ императрицы Жозефины. Ведь она совмещала красоту и деятельный ум, она содействовала возвышению моего великого дяди в той же мере, в какой Мария-Луиза помогла его падению!
— Не преувеличиваете ли вы значение этих двух женщин в судьбе императора? — поджав хитро губки и опустив глаза, сказала Мария.— Что мы, женщины, такое? В лучшем случае игрушки, в худшем — груз в жизни мужчины!
— Верно, что мужчины правят миром,— заявил убежденно граф Морни.
— А женщины нередко правят ими,— вызывающе бросила Мария.— Но это, конечно, не относится к коронованным особам,— добавила она, увидев, что Луи-Наполеон слегка нахмурился. Она знала, что Луи человек слабовольный, и опасалась, как бы он не заподозрил в этих словах намека на него самого.
— Кстати,— сказал Морни,— я слыхал, что вы, Луп, доказывали недавно на одном из званых обедов невозможность управлять французами посредством кротости. Это может повредить вам во мнении буржуа. Плеть, с моей точки зрения, нужна только для плебеев.
— Я имел в виду другое! — оживился президент.— Энергия и воля подготовили великие события, они доставили славу моему дяде, и нация ему признательна. Если бы он действовал робко и ощупью, то был бы не коронован, а изгнан.
— У вас, брат мой, другие обстоятельства. Несколько месяцев на посту президента недостаточны, чтобы укрепить власть. Тем более что Национальное собрание ревниво оберегает свои права и ставит вам всяческие рогатки.
— Я не намерен довольствоваться несколькими месяцами правления,— сказал Луи-Наполеон.
— Браво! — воскликнула Мария, аплодируя.—Ничего другого я не жду от вашего высочества. Вам власть дана не людьми, а богом.
— Тише,— забеспокоился Жозеф.— Женщина всегда выдает сокровенные замыслы мужчины.
— Я слуга Бонапартов. Это подтверждает все мое прошлое.
— Вы, Мария, действительно героиня и заслуживаете поклонения!
— Я никогда но взял бы власть на короткий срок,— начал снова Луи-Наполеон,— я убежден, что продлю ее до бесконечности. Эфемерное могущество вовсе не согласуется с моим французским характером.
— Благодарю вас, ваше высочество,— восторженно сказала Мария,— игра не стоила бы иначе свеч! Ваше имя уже произносят с благоговением в самых дальних деревнях нашей родины. На вас устремлено столько взоров. Вы — наша надежда.
— Позвольте,— сказал Морни,— я весьма заинтересован в продвижении моего брата к престолу. Но мне кажется, нарушить закон республики — значит вызвать в стране анархию. Ведь революционный сброд не дремлет. Впрочем, на выборах вы получили более шести миллионов голосов. С этим можно продержаться не меньше шести лет! Не правда ли?
— Ерунда, Жозеф. Вы рассуждаете не как политик. Заявляю вам, что я хочу править до самой смерти,— сказал Луи-Наполеон.
Экипаж остановился у каменной ограды Мальмезона. Несколько единомышленников из «елисейской братии», сняв шляпы, ждали президента. По дорожкам, усыпанным гравием, Луи-Наполеон, его близкие и охрана прошли в небольшой дворец, где подолгу жила и умерла императрица Жозефина.
— Здесь все напоминает моих великих предков,— сказал президент республики своей свите, изобразив на лице почтительную грусть. Учтиво кланяясь, дворецкий проводил его в комнату, где все сохранялось в том же виде, как при Наполеоне Первом. Большой круглый резной стол был украшен миниатюрами на эмали всех маршалов империи. На стене висел портрет Жозефииы с прядью ее волос иод стеклом.
— В этой комнате маршалов мой дядя любил проводить часы досуга,— мечтательно сказал Луи-Наполеон и уселся в кресло, где обычно сиживал император.— Я должен купить этот дом как можно скорее. Он принадлежит истории,—сказал президент, вставая.—Граф Морни, поручаю вам оформить купчую.
Лицо Жозефа вытянулось, и глаза беспокойно забегали.
Когда в зимнем саду, где некогда цвели редкие растения, привезенные с острова Мартиники, братья остались одни, Луи-Наполеон сказал:
— Я очень нуждаюсь в деньгах. Собрание прескверно содержит президента Франции. Впрочем, это гнусное положение скоро кончится. Прошу тебя, Жозеф, ссуди меня необходимой суммой на покупку Мальмезона. Я верну тебе втрое. Обратись к Жерому Бонапарту и всем моим родственникам, если у тебя не хватит золота.
— Увы, мой дорогой Луи! Наши кошельки опустели. Мы все буквально без гроша с того времени, как впряглись в вашу колесницу. Еще немного, и я банкрот,— ответил Морни, разводя руками.
— Поймите же наконец,— нетерпеливо, с обычными капризными интонациями в голосе заговорил Бонапарт.— Еще небольшое усилие, и я буду на троне! Но расходы, естественно, все возрастают. Ручаюсь, что скоро государственный банк будет выпускать кредитные билеты с моим профилем, ты будешь министром, а Жером Бонапарт моим наследником. У вас обоих блистательные перспективы. Ты меня знаешь, я никого из вас не забуду. Но сейчас, пойми, необходимо пустить пыль в глаза всем этим денежным мешкам, а также солдатам и офицерам. Их надо ловить на золотой крючок — так советует мой верный Флери.
Морни долго не отвечал и мысленно что-то подсчитывал. Затем он спросил:
— А что же наш новый приверженец, банкир Фульд? Он ведь как будто окончательно превратился из ярого орлеаниста в еще более рьяного бонапартиста! Это человек с носом, созданным не для того, чтобы нюхать цветы, а ориентироваться в окружающем! Раз он с вами, вы, уважаемый братец, несомненно, идете в гору и приближаетесь к цели.
— Он одолжил мне около миллиона. Я действительно несколько улучшил свои денежные дела. Это, кстати, врожденный министр финансов. Но его помощи мне мало. Ведь я беру последнюю дистанцию на пути к трону. Например, я покупаю Мальмезон. Зачем? Потому что это произведет внушительное впечатление на всех. Учти, Жозеф, что акции, на которые ставит Фульд, поднимутся на один франк тридцать пять сантимов. И он положит в карман без труда до трех миллионов франков. Однако торопись — после взлета курс на них обязательно полетит вниз, и никакие телеграфные измышления и шумиха не спасут спекулянтов от поражения.
— Поздравляю вас. Вы не только глава государства, по и великолепный биржевой игрок.
— Вообще Фульд не дурак. Если с его помощью я получу престол, он, пожалуй, лопнет от денег и почета, которого добивается. Мария легко нащупала его ахиллесову пяту — этой женщине, право, нет цены!
В зимний сад, где они находились, вошли сопровождавшие президента лица. Сыновья Гортензии Богарне заговорили о капризах погоды и предстоящих увеселениях.
Тем же вечером, прежде чем отправиться на свидание к президенту в маленькую «избушку» — особнячок на Елисейских полях, Мария посетила госпожу Матильду Демидову, племянницу Наполеона I. Эта не слишком привлекательная, но молодая и безмерно богатая дама была дочерью бывшего вестфальского короля Жерома Бонапарта и приходилась кузиной Луи-Наполеону. Как и Мария, она принимала весьма деятельное участие в заговоре бонапартистов.
После нежных объятий и восклицаний обе дамы уселись наконец на пуфики в будуаре хозяйки дома. Стены, иолы, мебель будуара были покрыты шерстяными и шелковыми вытканными и вышитыми кусками материи и походили на выставку тканей. Задрапированные окна и двери не пропускали свежего воздуха, и Мария, вдыхая запах мускуса и вербены, почувствовала легкое удушье. Но госпожа Демидова боялась свежего воздуха и яркого света. Она чувствовала себя великолепно среди ковров, гардин и покрывал.
— С тех пор как я стала русской, мне нравится все восточное, в то время как мой муж и его родные стараются во всем походить на нас, французов,— быстро заговорила хозяйка дома.— Скажу вам, дорогая Мария, по секрету: только в России можно спокойно наслаждаться богатством и знатностью рода. Я боялась, что попаду в курную избу или терем, как это называется у северных варваров. В действительности же русские аристократы оказались такими же изысканными, как и Людовик Четырнадцатый! Я имею все, о чем может мечтать женщина! И даже, представьте, рабов. Но не негров, как в Америке, а таких же светлокожих, как мы с вами. Хотите, я покажу вам своего лакея? Это великолепный экземпляр.
Матильда позвонила. Вошел красавец среднего роста с необыкновенными глазами, подернутыми поволокой, и волосами цвета вянущих листьев клена.
— Петр, никого не пускать. Меня нет дома,— сказала госпожа Демидова ласково и не без кокетства.
— Да, хорош! Вылитый принц Воргезе,— согласилась Мария.—Берегитесь, Матильда, нельзя постоянно подвергать себя такому соблазну. Впрочем, если русские рабыни так же хороши, то и ваш муж находится не в меньшей опасности!
— Я не держу возле себя молодых служанок,— ответила, скривив губы, Демидова.— Это грех — подобным образом испытывать верность мужчин.
Обе дамы расхохотались. Мария сказала, что президенту снова требуются деньги. Госпожа Демидова закурила тоненькую пахитоску.
— Поймите, дорогая, я ужо заложила ради кузена Луи все свои драгоценности и серебро,— сказала она с холодком в голосе.— Нет ничего, чем бы я не пожертвовала для нашего общего дела. Но во Франции, к сожалению, нельзя продавать рабов. А муж не шлет мне больше денег из Петербурга. Представьте, сегодня агент торговой фирмы осмелился потребовать от меня шестьсот франков за какие-то вина. Я ответила ему, что не имею ни одного лиарда. Он, право, был крайне обескуражен! Тогда я ободрила его, сказав: будьте спокойны, месье, вы ничего не потеряете. Обещаю вам, что вы будете скоро поставщиком императора.
— Как вы неосторожны! — воскликнула Мария.— Шпионы Кавеньяка и Национального собрания шныряют вокруг. Луи имеет столько врагов.
— Пустяки, дорогая! «Партия порядка» и алжирский зверь уже вышли из моды. Кавеньяк так груб! Представьте, он даже не умеет танцевать. Сразу видно, что в его жилах не течет голубая кровь. Палач сделал свое дело, и ему пора убираться. Однако отчего кузен Луи так неосмотрительно транжирит деньги?
Мария принялась перечислять самые неотложные расходы президента. Одна только тайная полиция и телохранители-корсиканцы обходятся ему более ста пятидесяти тысяч. Деньги, подкуп решают теперь все. Глупый, низложенный Луи-Филипп Орлеанский не догадался спасти корону с помощью этого верного средства, хотя имел двадцать четыре миллиона дохода. А жалованье президента Франции всего шестьсот тысяч в год.
— Его высочество,— горячилась Мария,— потомок Наполеона Первого. Он должен швырять деньгами. Драгоценности, гобелены, севрский фарфор и кредитные билеты необходимы, чтобы расположить к нему сердца офицеров, членов собрания, дипломатов и, особенно, журналистов. Пресса сейчас иной раз важнее картечи и мушкетов. Наша газета «Pouvoir» должна соответствовать своему названию и быть действительно мощью. А для этого нужны деньги. Я подсказала президенту, что солдатам Елисейского дворца следует выдавать дополнительное жалованье. Будет время, и их ружья пригодятся. Ничего не поделаешь, надо платить. Французский сброд, разные лавочники, попы, дикие крестьяне, которые кричат «Да здравствует Наполеон Третий», корыстолюбивы, это копеечники. Впрочем, благодарение богу, их можно купить. Куда труднее справиться с честными людьми, всей этой шайкой истинных республиканцев, потомков Бабёфа.
Мария достала веер, ей стало душно. Госпожа Демидова покорно сняла с себя жемчуг, несколько браслетов с крупными бриллиантами и протянула их приятельнице.
— Вы так красноречивы! Я уверена, Мария, вы будете прославлены, как одна из замечательнейших подруг императора. Вы не просто метресса, вы современная госпожа де Ментенон.
— Нет, нет, дорогая Матильда. Я не хочу славы. Госпожа де Сталь, которую я однажды еще ребенком видела на альпийском перевале, писала в своем бессмертном романе «Коринна», что слава для женщины является могилой ее счастья.
— Что ж, она права! Место женщины только в сердце мужчины,— согласилась госпожа Демидова и добавила многозначительно: — А вы, Мария, свили прочное гнездо в сердце первого из потомков Бонапарта.
Мария ничего не ответила и скрыла глаза под длинными ресницами. Ее накрашенный рот больше, чем обычно, напоминал серп.
Вскоре, отпустив карету на углу безлюдной улицы, она пошла пешком и остановилась у маленького, похожего на улей особнячка, открыла своим ключом дверь и вошла. Президент опаздывал. Мария переоделась в спальне, где все до последней булавки было куплено ею. В столовой был накрыт ужин на две персоны. Она спокойно ждала своего возлюбленного, хотя знала, что у нее бывают соперницы: то юная англичанка, которую Луи привез из Лондона, то быстро исчезавшие проститутки, доставляемые ему из парижских притонов услужливыми собутыльниками. Марии все это было безразлично.
Честолюбивые планы, заговорщицкие тайны соединили этих двух людей и связали крепче, нежели самая пылкая любовь. Луи-Наполеон, трусливый и безвольный, ценил в Марии неутомимого, ловкого, надежного сообщника. Она была тем зарядом воли и целеустремленности, в которых ему отказала природа. Когда что-либо ему не удавалось, он принимался обвинять и оскорблять ее, зная, что она только крепче сомкнет губы и не скажет ни слова. Если же успех ему сопутствовал, он мгновенно забывал, чем обязан этой хитрой и смелой женщине, и начинал бахвалиться и превозносить самого себя. И снова Мария, опустив глаза, молчала. Но когда надо было действовать и поддержать его дела, она становилась настойчива и убедительно красноречива и почти всегда добивалась успеха.
Луи-Наполеон приехал на Свидание раздраженным. Мария мгновенно поняла это, взглянув в большое грубое лицо сына Гортензии Богарне и адмирала Веруэла. Узкая бородка лопаточкой, которой президент старался скрыть отсутствие четкого подбородка, как-то сердито топорщилась. Сонные глаза смотрели еще более бездумно, нежели обычно. Снимая шарф, он свернул набок тугой стоячий воротничок и окончательно рассердился.
— Сколько времени я должен ждать? Только что толпа набросилась на двух бравых юношей, которые крикнули, узнав меня: «Да здравствует император!» Это черт знает что такое! Министр юстиции Руэр должен преследовать по закону тех, кто травит преданных мне людей.
— Время вашего торжества у порога, мой любимый,— сказала Мария.— Барро сделает все, что надо.
Президент холодно отстранил ее, сел к столу и быстро осушил маленький бокал с приторной густой коричневой влагой.
— Отцы бенедиктинцы знают толк в хмельных напитках. Ничто не может сравниться с их ликерами. Я хотел бы быть папой римским,— сразу приходя в хорошее расположение духа, сказал Луи-Наполеон и грубо привлек к себе Марию.— В свое время вы долго ждали взаимности, Лисичка! — сказал он спустя некоторое время.— Пожалуй, столько же, сколько я жду короны.
— Но никогда поражения не ослабляли меня! Напротив,— улыбнулась хищным маленьким ртом Мария, поправляя прическу.— Я говорила себе, подожду, прошло много времени, остается меньше.
Но Луи-Наполеон уже думал о другом.
— То, что я высказал в моей книжке «История пушки», остается и сейчас моей программой.
— Издание этой брошюры было неудачной вылазкой, мой друг,— прервала Мария, наливая вино в два бокала.— После того как тупица Кавеньяк употребил для подавления июньского мятежа пушки, говорить об этом было неуместно. В доме повешенного молчат о веревке.
— Собственно, до финиша остается один шаг. Восстание против меня, пожалуй, уж невозможно. Теперь мы знаем, на что следует опираться при мятежах: если чернь построит баррикады, мы также будем воздвигать баррикаду против баррикады. Шайкам плохо организованных рабочих мы противопоставим дисциплинированные войска. И я не стану спасаться из моего дворца через черный ход при виде нескольких тысяч уличных мальчишек и негодяев, как это сделал Луи-Филипп.
Луи-Наполеон закурил гаванскую сигару и развалился в кресле у камина. Мария подошла к роялю.
— Сыграйте песню, которую моя мать сочинила в Арененберге. Когда я буду императором, она станет официальным гимном французов.
Мария спела песню, слова и музыку которой написала некогда Гортензия Богарне. Луи-Наполеон, дирижируя рукой, подтягивал припев. Он выпил еще несколько рюмок ликера и заметно охмелел.
— По правде говоря, история моей жизни мало подходит для императора! Я не знаю даже точно, кто был моим отцом.
— Замолчите, Луи,— взмолилась Мария.— Никогда, нигде не говорите этого. Вы — император по крови и по божьему велению. Клянитесь, что забудете обо всем, кроме этого.
— Как не идет вам патетика,— усмехнулся Бонапарт.
В это время по улице мимо «избушки», купленной Марией для свиданий с любовником, случайно проходил Иоганн Сток. Погруженный в думы, как это бывало с ним все чаще, он не замечал окружающего. Вдруг громкий окрик пробудил его.
— Эй, сворачивай! Здесь проходить не разрешается!
Осмотревшись, портной увидел, что находится возле высокой железной ограды. Два могучих великана, одетые в военную форму, судя по произношению корсиканцы, сторожили калитку.
— С каких это пор по парижским улицам запрещен проход? — обозлившись, крикнул Сток.— Какие еще темные дела вы здесь прикрываете?
— Молчи и убирайся, если не хочешь объесться свинцовыми клецками,— огрызнулся телохранитель и двинулся навстречу Стоку. В это время двери особняка с шумом открылись, и на дорожке, ведущей к ограде, появились дна человека — мужчина в цилиндре и дама с лицом, плотно закрытым черной вуалью. Корсиканцы набросились на щупленького портного и, прежде чем он успел опомниться, скрутили ему назад руки.
— Что все это значит? Неужели злоумышленник? — спросил явно заинтересованный и польщенный президент.
— На вас готовилось покушение, но вы спасены,— крикнула Мария.— Это все козни Кавеньяка.
— Обыщите его,— скомандовал Луи-Наполеон.
В одно мгновение Стока повалили и обшарили.
— Он безоружен,— сказали, не скрывая огорчения, оба корсиканца и, встряхнув портного, потащили его к Луи-Наполеону.
— Странно,— пробормотал тот с досадой. Свет фонаря упал на лицо задержанного.— Ба, да этот блузник мне знаком. Должен сказать, что у меня удивительная память на лица. Мы уже где-то виделись, не правда ли?
— Я шил вам заглазно костюм в Брюсселе, а затем пригонял его на вас в Остенде,— зло вымолвил Сток, в свою очередь узнав племянника Наполеона.
— Вспомнил. Это были превосходные фрак и охотничий костюм. Даже такие снобы, как лорд Дерби, восхищались их фасоном. Если бы вы сшили мою одежду хуже, я, может быть, вздернул бы вас на виселицу. Но запомните!— Президент Франции не забывает услуг. Отпустите этого портного...
— Не надо, может быть, он член шайки бланкистов. Он похож на Марата. Отправьте его в тюрьму, прошу вас!—шептала между тем Мария.
— Нет. Слово Бонапарта неизменно. Кстати, недавно мой портной заузил редингот. Вы бы этого не сделали. Идите же, гражданин, расскажите рабочим, что я их друг и защитник, и служите впредь Луи-Наполеону, который вас освободил.
Президент и Мария вошли в закрытую карету. Лошади тронулись, и все стихло на маленькой улице.
Сток долго не мог опомниться. Второй раз судьба свела его с претендентом на французский трон.
«В чем его сила? Кто поднял на своих плечах эту гадкую козявку, воображающую себя великаном?» — думал портной, не двигаясь с места.
Долго Сток вспоминал все, что знал о Луп Бонапарте. Президент республики участвовал в заговоре братьев Бандьера, затем служил полицейским чиновником в Англии и в погоне за наживой занимался темными махинациями, не брезгая подкупом и расправой с неугодными. Различные человеческие подонки сопутствовали ему на протяжении многих лет. Два раза Луи Бонапарт был арестован за попытки устроить государственный переворот, и оба раза он вел себя на суде малодушно и постыдно. Теперь он стал президентом Франции и вместе с кровавой «партией порядка» провозглашает себя сторонником защиты собственности и религии.
И вдруг Иоганн припомнил однажды высказанную Марксом мысль: Бурбоны были династией крупной земельной собственности, Орлеаны — королями банкиров. Бонапарты опираются на крестьян— отсталых, забитых, консервативных. Избранником темных, ведомых церковью жителей деревень может явиться не тот Бонапарт, который подчиняется буржуазному парламенту, а тот, который сумеет разогнать его.
Портной долго обдумывал это предсказание и решил: у Маркса глаза орла. Он видит далеко вперед.
Затем Сток медленно пошел к площади Согласия.
По всей Франции крепко спаянная партия бонапартистов начала готовиться к государственному перевороту. Со всех важнейших постов в армии были устранены «африканские генералы», как звали в обществе ставленников Кавеньяка. Они были умело заменены приверженцами бонапартистов. К полному удовольствию Ватикана, школы были переданы в руки духовенства. Это черное дело подготовил неутомимый и ловкий враг демократии и социализма Адольф Тьер, председатель комиссии по пересмотру системы образования. Нисколько не маскируясь, Тьер заявлял, что обязательное обучение — это коммунизм и школа для народа — излишний предмет роскоши.
— Массы,— говорил он,— нуждаются в предустановленных свыше истинах, и их единственной философией должна быть религия.
Когда католическая церковь и филантропические религиозные организации стали хозяевами народных школ, многие сельские учителя были изгнаны. Их заменили черные сутаны. Гонениям подверглись также демократы — профессора университетов, чиновники, офицеры и унтер-офицеры. Многих перевели в Африку и другие колонии.
Правительство Луи Бонапарта прозвали «министерством приказчиков», хотя оно значительно больше походило на министерство полицейских. Страна задыхалась в жандармской петле, наброшенной на нее. Неустойчивые честолюбцы в среде чиновников и офицеров устремлялись в бонапартистский лагерь, чтобы из преследуемых стать преследователями. Исполнительная власть Франции располагала полумиллионной армией чиновников. Государство надзирало над всеми гражданами, вторгаясь не только в самые значительные, но и в ничтожные проявления их повседневной жизни.
В то время как сельское хозяйство испытывало большие трудности, промышленность и торговля продолжали процветать.
Великосветский сезон 1851 года был в разгаре. После балов в Елисейском дворце у Фульда и Ротшильда предстоял великолепный прием у Марии Дерук. По замыслу бонапартистов, в этот вечер должен был произойти смотр руководителей заговора.
Марию окрыляли успехи Луи-Наполеона.
«Как знать,— думала она,— может быть, за все, что я сделала для его возвышения, он в подражание дяде женится на мне. Муж не будет помехой. Его можно убрать в любой момент. Жозефина Богарне была не более знатна, нежели я, и, уж во всяком случае, во много раз глупее. Да и репутация моя в свете несравненно лучше».
Граф Мории стал с недавнего времени наиболее доверенным другом любовницы президента.
Он имел доступ к ней в любое время.
В день бала, когда парикмахер уложил последний локон и приладил диадему на рыжих волосах Лисички, Жозеф Морни вошел в ее будуар.
— Все отлично, сударыня! — сказал он и широкой маленькой рукой потрепал щечку проходившей мимо прехорошенькой горничной.
— Вчера в Гранд-опера я зашел в ложу Кавеньяка. Этот старый верблюд посмотрел на меня так, точно я его погонщик. Но я наговорил ему столько похвал и комплиментов, что он стал благосклоннее. Пусть я обанкрочусь на железнодорожных акциях, если я не сумел усыпить его подозрительность и не промыл ему враньем вспухший было желчный пузырь.
— Какие выражения, Жозеф, вы ведь не на собрании рыботорговцев,— поморщилась Мария.
— Одна из дам,— продолжал Морни,— усерднейшая пропагандистка Орлеанского дома, спросила меня ехидно: что стал бы я делать, если бы мой великий братец задумал разогнать Национальное собрание? Кстати — между нами говоря — хорошая идея! «Не знаю,— ответил я этой дуре.— Но если дойдет до того, то смею уверить вас, сударыня, я всегда буду с теми, в чьих руках находится метла».
Мария хитро улыбнулась только одними глазами. Она боялась, что сложный грим, наложенный на ее лицо и делавший кожу алебастрово-белой, может осыпаться. Затем она сказала, осторожно разжав губы:
— Знаете, Жозеф, этот ответ не только хорош и умен, но в нем отразились и ваш характер, и мораль, и принципы.
— Я не раз говорил вам, что давно уже стал честным буржуа.
— И ваш девиз отныне — нажива.
— А что еще дает нам возможность наслаждаться? Вся наша «елисейская братия» поклоняется той же богине. Без пас Луи Бонапарт пропал бы, как в Страсбурге и Булони.
Бал начался. Луи-Наполеон с видом полководца, обозревающего свои лучшие воинские части, проходил по освещенным сотнями свечей и огромными газовыми шарами залам. Перед ним угодливо, заискивающе склонялись все приглашенные. Молочная сестра Бонапарта госпожа Корню сказала хозяйке дома, задыхаясь от чрезмерной полноты и восхищения:
— Луи-Наполеон величествен, как и надлежит императору Франции! Я нахожу, что высокий рост вполне восполняет то, чего он не унаследовал от великого Наполеона Первого.
Мария ответила словами Гортензии Богарне:
— У президента есть большое преимущество перед Наполеоном Первым: тот восемнадцатого брюмера захватил корону, а Луи-Наполеон может потребовать ее как законный наследник.
Оркестр грянул попурри из «Риголетто». Несколько коммерсантов отправились в курительную комнату, чтобы за низкими мозаичными алжирскими столиками поговорить о красной опасности, подползающей к Парижу. Их особенно тревожил недавно заседавший военный трибунал в Лионе. Судили членов «Молодой Горы», будто бы пытавшихся подготовить восстание в пятнадцати департаментах.
— Я не очень-то верю, чтобы эта голытьба, ослабленная кровопусканьями, могла нам угрожать! — сказал один из лионских текстильных магнатов, виконт Дюваль. Недавно он унаследовал от умершего тестя крупнейшие мануфактуры в департаменте Роны.— Покуда существует полиция, будут также и заговоры. Кажется, так говорил великий Фуше великому императору. Я отнюдь не сторонник «Молодой Горы», но не люблю провокаций.
— Дорогой Дюваль,— ответил один из богатейших банкиров столицы,— я не ожидал от вас такого легкомыслия. Насколько помню, именно вы пулями подавили Лионское восстание. И я думаю, что нас еще ждут страшные дни! Я но поручусь, что мы не погибнем под топорами восставших хамов! Нет ничего чудовищнее разъяренного простолюдина. Ясно одно — Франция накануне кровавой жакерии. Разрешите, господа, познакомить вас с сочинением господина Ромье.— Банкир достал маленькую книжечку в смятой обложке и, вынув бисерную закладку, прочел выразительно, медленно, как проповедь: — «Везде уже дан пароль, нет ни одного дерева, ни одного куста, за которым не скрывался бы враг, приготовившийся к великой социальной битве...»
Курильщики собрались вокруг него. Одни вяло, другие нервно и злобно откусывали и сплевывали в пепельницы коричневые толстые окурки или раздували в них пламя. Вспыхивая, прессованные палочки душистого гаванского табака освещали на мгновение разнообразные выхоленные, расчесанные бороды, короткие и длинные усы и гладкие или завитые бакенбарды.
— В чем же спасенье? — спросил кто-то из курильщиков, затянулся и выпустил удивительно ровный столбик дыма.
— В военной диктатуре,— ответил финансист.— Весьма здравомыслящий Ромье говорит, что только пушка может разрешить вопросы нашего столетия. Хотя бы ее пришлось привезти из России!
— Из России! Теперь не тысяча восемьсот четырнадцатый год! У нас хватит и своей картечи! — воскликнул кто-то.
— А на какой именно день назначает Ромье восстание черни? Этот писака, видно, хорошо изучил отбросы общества!
— Все должно произойти второго мая тысяча восемьсот пятьдесят второго года, в день переизбрания президента,— значительно произнес банкир.
Синий плотный табачный дым уже заволок комнату. Нее продолжали молча курить. Вдруг тишину нарушил высокий насмешливый голос:
— Кто здесь хоронит меня?
В дверях стоял в бравой позе Луи-Наполеон.
Дюваль вынул красивым жестом чуть тлеющую сигару изо рта и ответил, вызывающе глядя в бесцветные глаза Бонапарта:
— Увы, в паше время ничто не вечно, а особенно президенты. Их величие и самое бытие в Елисейском дворце, согласно конституции, исчисляется всего лишь четырьмя годами. В день выборов они начинают недолгий путь к концу, подобно тому как новорожденный постоянно движется навстречу зрелости и смерти.
— Великолепный ответ, однако виконт явно на кого-то зол. Юпитер, ты сердишься,— значит, ты неправ,— ответил Бонапарт.— Я объясню вам, в чем дело. Господин Дюваль — член «партии порядка», которая недовольна тем, что я отстаиваю для моей страны возвращение всеобщего избирательного права. Я всегда был честным республиканцем и готов принять любой бой за права народа, доверившегося мне как президенту.
— Смею напомнить, что закон о всеобщем избирательном праве был недавно изменен не без вашего участия,— сказал Дюваль. Его пустые, как у хищной птицы, глаза посветлели от злости.
— Не будем ссориться, дорогой виконт. Политика — скверное ремесло. Но я служу народу, и его благо для меня превыше всего. Должен, однако, сказать, что уважаю прямоту суждений. Вы имеете во мне друга.
Вероломство было одной из наиболее четко выраженных черт в расплывчатом и вялом характере Луи-Наполеона.
Бал в доме Марии внешне ничем особенным не отличался от тех, которые давали в эти дни все богатые и влиятельные парижане. Было очень много военных, к которым весьма благоволил глава правительства, банкиров, биржевых заправил, промышленников. Республиканцы и демократы держались особняком и чувствовали себя неуверенно среди торжествующих бонапартистов.
Обильный ужин, сотни бутылок шампанского и дорогих бургундских вин не смогли развязать языки и объединить общество. Хозяйку дома, однако, нисколько не тревожили скучающие лица дам и колкости по поводу неудавшегося веселья на этом разноликом сборище. Когда начались танцы и картежная игра, она шепнула несколько слов графу Морни и вскоре вместе с ним исчезла из зала.
— Боги! — всплеснул толстыми короткопалыми руками граф Морни.— Вы таки загнали нас в Аид, так, кажется, греки называли преисподнюю. Здесь повсюду одни только урны. Что за пристрастие у такой прелестной женщины ко всякой мертвечине!
— Тише, Жозеф,— умоляюще прошептала Мария,— не святотатствуйте.
Посередине комнаты находилось мраморное изваяние Наполеона I в большой короне. Несмотря на позднюю осень, садовники Марии вырастили в оранжерее фиалки, и сейчас они увядали у подножия памятника. Запах цветов и сырости в не проветривавшемся годами зале был тошнотворен и неприятен. Свечи в старинных канделябрах скупо освещали множество портретов на стенах. Несколько человек в военных мундирах и бальных фраках столпились возле президента.
— Итак, послезавтра, друзья мои, второе декабря, великая годовщина битвы при Аустерлице. Прошло сорок шесть лет, но слава этого дня радует сердце каждого француза,— начал Луи Бонапарт.— Вы знаете, что заговорщики всех видов — коммунисты, социалисты, демократы, легитимисты и орлеанисты — замышляют уничтожить подлинную власть народа, посягнуть на его права. Судьба начертала мне стоять на страже интересов великой и свободной Франции. Но если мы будем медлить, вероломные враги поднимутся и уничтожат все завоевания народа. Наше дело предупредить угрозу, растоптать мятежников, спасти родину. Смерть или победа. Не правда ли, господа?
Луи-Наполеон, вначале говоривший с пафосом и силой, заметно начал выдыхаться. Он озирался и всматривался в лица обступивших его единомышленников. Мария наблюдала за каждым его движением, повторяя чуть слышно заклинание:
— Будь сильным! Не робей! Будь смелым!
И Луи Бонапарт точно снова набрался мужества.
— Откладывать дело нельзя! Национальное собранно стало центром заговора против республики. Все эти Кавеньяки, Дювали, Шангарнье, Тьер и особенно канальи с окраин должны быть захвачены врасплох и обезврежены. Будем беспощадны!
— Да здравствует император! — шепотом, хотя музыка и топот танцующих в соседних залах всё заглушали, провозгласили заговорщики.
Здесь были все его сподвижники. Полковник Флери, промотавший в притонах деньги, доставшиеся в наследство от отца — богатого купца. Прошумев затем дебошами и кутежами в африканской армии, он стал адъютантом и доверенным лицом президента и главным вербовщиком его сторонников среди военных. Он снова мог сорить деньгами, которые предоставлялись для его миссии бонапартистами, спаивая, подкупая и уламывая офицеров всех рангов. Несколько раз с этой целью Бонапарт отправлял его в Африку, где он быстро сколотил бесшабашную банду на все готовых заговорщиков.
Совсем недавно в распоряжение главнокомандующего парижским гарнизоном генерала Маиьяна прибыли войска из Африки, на которые в случае переворота бонапартисты могли положиться. Сам Маньян, кутила и мот, был но уши опутан долгами. Ему грозила долговая тюрьма. Бонапарт спас его, одолжив миллион франков. В случае удачи переворота Маньян надеялся выбраться из трясины, в которой барахтался.
Покуда Бонапарт продолжал ораторствовать перед теми, кто должен был добыть ему корону, а себе состояние и выгодные места, Мария отвела в сторону давнишнего своего друга но Арененбергу и соучастника Луи-Наполеона по страсбургской и булонской авантюрам — де Персиньи. Он был казначеем предстоящего переворота и его душой.
— Прошу вас, бесценный друг,— прошептала Мария, просительно заглядывая в тяжелое, темное лицо господина де Персиньи,— не оставляйте его высочество ни на минуту. Он так впечатлителен, легко теряет в себя веру. Вы одни можете предотвратить катастрофу, если он падет духом. Это так ему свойственно.
— А вы, мадам, разве ретируетесь? — насмешливо спросил де Персиньи.
— О нет! Но я только слабая женщина. Здесь, в присутствии всех этих героев,— она указала на блестящие мундиры заговорщиков,— я предпочитаю молчать. Кроме того, нельзя, чтобы пошли толки, что император держится за бабью юбку.
— Все наши друзья преклоняются перед вамп, Мария! За вас можно, не раздумывая, отдать многих из тех, кто носит сапоги, и даже со шпорами,— улыбнулся де Персиньи.
— К несчастью, вы правы в том, что под словом баба подчас можно подразумевать мужчину.
— Итак, сударыня, не упускайте случая укрепить волю вашего избранника. Я уже имел случай видеть его охваченным слабостью тогда, когда следовало скрывать страх и явить мужество.
Заправилой предстоящего переворота был генерал Леруа де Сент-Арно. В число заговорщиков его завербовал Флерн, умевший безошибочно отбирать себе подобных, растленных и на все пригодных авантюристов. Сент-Арно сумел создать в армии, особенно после того, как Бонапарт назначил его военным министром, серьезную оппозицию Кавеиьяку и его генералам. Хищиик, картежник и бессовестный грабитель, обескровивший беззащитную африканскую колонию Константина, он был достойным соперником властолюбивого палача Кавеньяка. Также опутанный с головы до ног долгами, он мог осуществить свои планы только с помощью государственного переворота в пользу Бонапарта, обещавшего власть и деньги.
Еще одним среди многих других мотов, игроков, честолюбцев был префект парижской полиции Мопа. Ему было всего тридцать два года, когда он обратил на себя благосклонное внимание президента усердием, с которым преследовал и арестовывал в провинции республиканцев-социалистов. Правда, судьи не оказывали ему желанной поддержки: он собирал недостаточно улик! Впоследствии Мопа усовершенствовал методы своей работы. С помощью провокаторов и хулиганов он начал подбрасывать в квартиры своих жертв оружие, бомбы, поддельные документы. Эти низкие действия Мопа и его префектуры были обнаружены, разыгрался шумный скандал. Но Бонапарту такие люди были особенно нужны, и он перевел Мопа из провинции в столицу и повысил в чине. Таким образом, армия и полиция были полностью к услугам заговорщиков.
— Здесь, перед лицом всех моих предков и великого императора, которому я наследую, я призываю вас еще раз принести присягу нашему общему делу во имя процветания Франции! — сказал Луи-Наполеон.
Бонапартисты упали на колени перед изваянием Наполеона I, несколько смущенные чрезмерной патетичностью разыгравшейся сцены.
— К делу! — сказал Луи-Наполеон,— Прошу господ Морни, Персиньи, Сент-Арно и Мона быть завтра ночью в моем рабочем кабинете. А теперь — к гостям.
Мария подошла к двери и приоткрыла портьеру. Заговорщики поодиночке покинули ее «храм». Оставшись одна, она, охватив руками голову, распростерлась на ковре. Она плакала от счастья. Наконец-то свершалась мечта всей ее жизни. Она выполнила клятву, данную у постели своей умирающей благодетельницы Гортензии Богарне.
— Чтобы испытать этот блаженный миг, стоило жить,— шептала Мария.
На другой день у Бонапарта собрались заговорщики. Морни, как ни старался, не мог скрыть своего страха.
— Да-с, дельце мы затеяли. Никогда я не шел на такой риск, хотя и приобрел репутацию отчаянного биржевика. Тут можно, господа, не то что остаться нищим, но к тому же потерять такую немаловажную принадлежность, как голова,— пытался он острить.
Изрядно выпивший Сент-Арно, как умел, вселял бодрость в сообщников.
— Успех этого сражения обеспечен. Должен сообщить, что даже в провинции Константина, сражаясь с кабилами, я был менее уверен в победе, а между нами говоря, эти почти безоружные африканцы ничего не значили по сравнению с нашей отличной артиллерией и многочисленной пехотой.
В полночь явился и сам Луи-Наполеон. Он старался казаться спокойным. Из потайного ящика он вынул пакет. На нем было написано только одно слово: «Рубикон». В конверте находились прокламации, декреты, воззвания, которые следовало сейчас же напечатать и распространить.
— Дорогой Жозеф,— заявил Бонапарт, повернувшись к Морни,— среди этих бумаг находится ваше назначение. Отныне вы министр внутренних дел. Итак, друзья, мы начинаем выступление на рассвете. Когда-то мой гениальный дядя, Наполеон Первый, в незабываемый исторический день восемнадцатого брюмера встал на защиту Свободы и гражданских прав и разогнал узурпаторов. Сейчас нам предстоит сделать то же. Ступайте и действуйте! Рубикон перейден!
Адъютант президента с ротой жандармов ночью занял типографию и предложил печатать документы бонапартистов. Чтобы не вызвать подозрений наборщиков, рукописи были разрезаны на мелкие полоски. Однако рабочие почуяли недоброе и отказались приступить к работе. Тогда около каждого из них поставили по два солдата с ружьями. Жандармы объявили, что будут убивать на месте каждого, кто попытается покинуть типографию. К трем часам утра все прокламации были готовы и под руководством Мопа розданы для расклейки особо доверенным лицам. Ночью же префект полиции приступил к излюбленному своему занятию — арестам. В проскрипционных списках, где были главным образом социалисты и видные республиканцы, оказались также Кавеньяк и Тьер.
Друг династии Орлеанов Тьер крепко спал, когда за ним пришли полицейские. Ничто не могло особенно поразить этого циника. На месте Луи-Наполеона он поступил бы точно так же. Снимая белый ночной колпак и длинную рубаху, он обдумывал, как себя вести, и пришел к выводу, что ничего серьезного ему не угрожает. С обычной развязностью Тьер вошел в тюремную камеру и потребовал, чтобы ему немедленно подали горячий кофе с молоком. Он сумел доказать полицейской администрации, что не намерен нарушать режим питания даже в угоду Бонапарту и что здоровье его еще не раз пригодится Франции.
Иоганн Сток узнал о совершившемся перевороте утром, когда шел в свою мастерскую. На углу улицы он прочел извещение, что президент республики постановляет распустить Национальное собрание и весь округ объявляется на осадном положении. В длинной прокламации говорилось, что раскрыт злостный заговор большинства депутатов собрания, который грозил Франции гражданской войной.
«Конституция, как вам известно, была установлена так, что она должна была заранее подрывать ту власть, которую доверили вы мне»,— заявлял Бонапарт и требовал фактической диктатуры, опираясь на пять параграфов конституции своего дяди Наполеона I, действовавшей в 1799 году, когда тот стал первым консулом.
Под призывом к населению было приклеено грозное предупреждение полицейского префекта Мопа против сборищ на улицах и какого бы то ни было противодействия новой власти.
Сток побежал к Бурбонскому дворцу. Он увидел, как из здания собрания, уронив на пороге шарф — должностной знак, выбежал испуганный председатель собрания Дюпен и за ним несколько депутатов. Солдаты с гиканьем гнали их пинками и ударами шашек в ножнах.
— Право за нами, но сила в руках противника! — крикнул один из народных представителей, бросаясь со всех ног в близлежащий переулок.
Сток пошел по предместью Сен-Жермен, богатейшей части Парижа. Ничто в этот час не напоминало о случившемся. Только на окраинах портной заметил зловещее оживление.
Жаннетта встретила Иоганна на пороге. Она подошла к нему вплотную и заглянула прямо в лицо. Худшие опасения ее подтвердились.
— Ты пришел, чтобы уйти. Останься дома, отец. Чем будете вы сражаться? Кулаками? В предместье нет больше ни одного ружья. Тьер, Кавеньяк или Бонапарт — какая разница для рабочего человека? Все они враги наши, все кровопийцы.
— Где Жан? — резко прервал портной.
Узнав, что сын не возвращался из поездки, он взял на руки Катрину и долго прижимал свежее, счастливое от неведения детское личико к своей обросшей щеке.
— Ты всегда была добра к нам, Жаннетта, не оставляй и впредь моих детей. Вам троим легче будет на свете,— сказал он.
— Что за проповеди, Иоганн! Не думаешь ли ты сложить голову за конституцию? — чуть не плача, сказала Жаннетта.— Пожалей своих детей. Останься! От конституции давно остались только хвост да уши. Не ищи же смерти зря!
Но Сток ушел. На одной из окраинных улиц, где толпились возбужденные событиями рабочие, он увидел тюремную карету, везшую узников из Венсенна.
— Депутатов везут! — раздавалось в толпе.
— За мной! Освободим их! — крикнул портной и схватил под уздцы лошадей. За ним к карете бросились остальные рабочие. Но на освободителей смотрели посеревшие от страха лица. Смертельно перепуганные депутаты принялись умолять толпу не освобождать их.
— Уйдите! Оставьте нас! Иначе мы из-за вас поплатимся жизнью,— кричали арестованные.
Сток обернулся к отступившей было страже.
— Везите дальше ваш груз,— сказал он с презрением,— нам он не нужен. Идемте, братья, вы видели, что это за люди.
Сток пошел бродить по Парижу, не отдавая себе ясного отчета, почему он не возвращается домой. На Больших бульварах горсточка парижан с присущей французам горячностью обсуждала происшедшие события. Однако появившиеся военные разогнали собравшихся.
Растерянность и недоумение повисли над окраинами. Сток понимал все. Но возле него не было ни одного друга, который выслушал бы то, что его томило, помог бы решить» как быть. Маркс, Энгельс были далеко, Кабьен и Женевьева не существовали. Сын и Жаннетта не понимали его.
«Все кончено. Даже тень февральской революции отныне исчезла. Вор, авантюрист стал отныне диктатором. Снова украдена свобода, надежды рабочего класса. Штыки и рясы, которым уже отданы школы, будут править нами. И это все, что выросло на крови героев февральской революции. Маркс говорит, что надо взращивать семена победы. Однако нужны не только люди, но и почва. Он прав. Но я не доживу до этих дней».
Военный патруль проходил вдоль набережной. Париж был на осадном положении. Портной вошел в подъезд и переждал, пока солдаты скрылись вдали.
Память Стока была в эту ночь подобна чистому небосклону, усеянному звездами. Он перебирал всех, с кем сводила его судьба. Каждый человек несет в себе свою вселенную.
«Может быть, вернуться к детям и успокоить Жаннетту?» — подумал портной. Он знал, что она мечется в ожидании его, и повернул домой. Стока уже не трогало малодушие, охватившее Париж. И в это именно время на одной из улиц в предместье Сент-Антуан он встретил депутата Национального собрания Бодена.
— Постой-ка, брат! — окликнул Боден портного.— Я видывал тебя в портняжной мастерской и рад, что ты жив.
Так в эту декабрьскую ночь решилась судьба Стока. Утром с возгласами «К оружию! На баррикады! Да здравствует конституция!» Сток, Боден и несколько сот рабочих обезоружили сторожевые посты и бросились строить баррикаду. Несколько задержанных телег оказались недостаточным строительным материалом для возведения уличного бастиона. Вскоре прибыли войска, чтобы усмирить восставших. Видя всю бесполезность борьбы, некоторые защитники баррикады, не ожидая боя, собрались уходить. Тщетно Боден и Сток уговаривали их остаться.
— Это не баррикады, а решето! Мы не хотим подставлять свои головы только для того, чтобы сохранить за собой заработок в несколько франков в день,— сказал худой ткач и бросил ружье.
В это время рота солдат двинулась на рабочих.
— Стойте, братья! Вы увидите, как люди умирают за гроши на хлеб! — вскричал в отчаянии Боден, взбираясь на баррикаду.
Раздался оглушительный залп. Пораженный тремя пулями в голову, он упал бездыханным на руки Стока.
Весть о смерти одного из самых честных, твердых и уважаемых среди рабочих членов партии Горы мгновенно облетела рабочие окраины. Она действовала как электрическая искра! Город ожил, стал рокотать. Вскоре появились другие очаги сопротивления цезаристской власти. Стены домов покрылись рукописными листовками, призывавшими сражаться с узурпатором. Сторонники орлеанистов и либеральной буржуазии открыто высмеивали Бонапарта, вспоминая жалкий исход его былых авантюр в Страсбурге и Булони. Однако Сент-Арно и его шайка не растерялись. На основании осадного положения военный министр известил парижан, что всякий, кто будет захвачен при постройке и обороне баррикад или же с оружием в руках, будет расстрелян на месте.
И все же в Елисейском дворце в ночь с 3 на 4 декабря никто не ложился. Префект Мопа до такой степени был охвачен страхом, что закаленный неудачами на бирже новый министр внутренних дел Морни послал подчиненному депешу: «Ложитесь скорее спать, пока не замарали штанов».
Около полуночи генерал Маньян издал приказ войскам не показываться на улицах города. Таково было указание Жозефа Морни. Этот розовощекий лысый делец превзошел всю «елисейскую братию» в кровожадности и коварстве. Собрав заговорщиков, он сказал:
— Пусть бунтовщики соберут свои силы и понастроят баррикады, а мы потом одним ударом раздавим их. Мы ведь в тридцать, если не больше раз сильнее их! Не будем утомлять войска мелкими стычками. Надо, чтобы они были наготове в решительный момент. Нам нельзя растягивать борьбу, иначе успех может обернуться поражением.
Четвертого декабря генерал Маньян дал приказ войскам выйти на улицы и полить картечью безо всякого предупреждения не только по баррикадам, но и расстреливать толпы гуляющих на улицах. И зверское избиение парижан началось. Охмелевшие солдаты палили из пушек по бульварам, садам и домам, кавалеристы верхом врывались в кафе и рубили шашками случайных посетителей, кто бы они ни были.
Когда все баррикады были разметаны в щепы артиллерийским огнем и оставшиеся случайно в живых их защитники застрелены на месте, Бонапарт решил проехаться по своей столице. Его сопровождал эскорт с факелами. Мария упросила императора, как отныне она называла Лун Бонапарта, разрешить и ей сопровождать его в этой прогулке.
На бульварах в этот вечер были расставлены столы, и бочки с вином непрерывно доставлялись победившему войску. Горели костры. Огонь их поддерживался щепками, оставшимися от разрушенных баррикад. Музыка военных оркестров заглушала залпы, доносившиеся с Марсова ноля,— там все еще расстреливали рабочих. В полицейской префектуре, чтобы избежать шума, захваченных защитников баррикад убивали ударом толстой дубины по виску. Оправившись от страха, префект Мопа сам руководил экзекуцией и учил своих агентов бить насмерть.
— Ты не смотри, что это человек, бей его, как быка. Сегодня у нас сущая бойня,— приговаривал он.
Бонапарт со своей свитой долго разъезжал по Парижу. Всюду его встречало гробовое молчание. Только там, где неистовствовала пьяная солдатня, кое-кто кричал ему приветствия. Город снова судорогой свел террор.
Иоганн Сток был тяжело ранен на баррикаде, перегородившей улицу Святой Маргариты. Войска оцепили ее со всех сторон и расстреливали из пушек. Сток лежал под кузовом кареты, медленно истекая кровью. Он остался всеми незамеченным. Ушли солдаты, увели пленников, а он все еще плавал в светлом бездумном тумане. Когда вместе с острой физической болью и слабостью к нему вернулось сознание, он сделал попытку приподняться, но кузов кареты прижал его, как гробовая крышка. Тщетно пытаясь освободиться, Иоганн опять потерял ощущение бытия. Затем снова вернулись боль и мысль. Силы исчезали вместе с вытекающей из ран кровью. Иоганн осознал, что часы его сочтены, и удивился своему спокойствию. Умирать вовсе не было страшно. Он почему-то вспомнил траву на могиле Женевьевы и то, как неприметно и спокойно увядают зеленые хрупкие стебельки. Что-то похожее на сожаление о жизни возникло в его сознании.
«Спасите»,— захотелось ему крикнуть. С чувством отвращения к себе он плотно сжал сухие губы. «Сток, разве ты жалкий трус?»
— Единственно, что мне остается,— это умереть по-человечески,— шептал он едва слышно.
Вдруг ему стало легче. Иоганн открыл глаза. Необъяснимое любопытство, какое испытывает ребенок, стремящийся поймать мгновение, когда его поглотит сон, охватило умирающего.
Тем временем лошадиный топот, голоса людей внезапно полоснули тишину, принесшую мир в душу Стока. Какие-то люди с факелами в руках подняли кузов, увидели и вытащили его.
— Заговорщик, блузник! — раздались крики,— Сир, не омрачайте торжества зрелищем этого презренного анархиста.
Два офицера подняли Иоганна на ноги и, поддерживая, скрутили назад бессильные руки.
— Этот негодяй притворяется тяжело раненным,— услышал Сток надменный женский голос.
С огромным трудом он приоткрыл глаза. Свет огней ослеплял. Телохранители подтащили его к карете. Сток увидел знакомое лицо Бонапарта.
— Да здравствует коммунизм! — собрав последние силы, крикнул Иоганн.
Луи-Наполеон побагровел, выхватил пистолет и, подавшись всем корпусом вперед, выстрелил в большой выпуклый лоб портного.
— Однажды я убил плебея и меня пытались судить за это! Отныне это невозможно! — воскликнул он.
— Особа императора неприкосновенна и священна. Вы подлинный герой, мой обожаемый,— сказала Мария.
Карета императора и сопровождавший ее кортеж помчались дальше.
Иоганн Сток лежал на мостовой с потемневшим, опаленным лицом, глядя в небо открытыми, ничего более на видящими глазами.
Государственное издательство художественной литературы ■
МОСКВА ■ 196З
Галина Серебрякова
ПРОМЕТЕЙ
Романтическая трилогия
ЮНОСТЬ МАРКСА
*
ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ
в двух книгах
*
ВЕРШИНЫ ЖИЗНИ
Галина Серебрякова
ПРОМЕТЕЙ
ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ
Роман
КНИГА ПЕРВАЯ
Р 2
С-3 2
Оформление художника К. ГАННУШКИНА
Галина Иосифовна Серебрякова
Прометей
ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ
Книга первая
Редактор Л. Полосина. Художественный редактор Ю. Васильев. Технический редактор М. Позднякова. Корректор В. Патина.
Сдано в набор 14/V 1963 г. Подписано в печать 11 /IX 1963 г. Бумага 84X1081/32 — 14,5 печ. л. = 23,78 усл. печ. л. 25,07 уч.-изд. л. Тираж 200 000(1—100 000). Заказ 478. Цена 95 коп. Гослитиздат, Москва, В-66, Ново-Басманная, 19.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Московского городского совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.
Примечания
1
«Зимняя сказка» Г. Гейне.
(обратно)2
Стройте батальоны! К оружию, граждане! (франц.)
(обратно)3
Республика! Республика!
Да здравствует республика! (франц.)
(обратно)


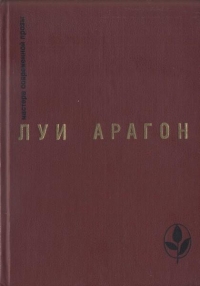
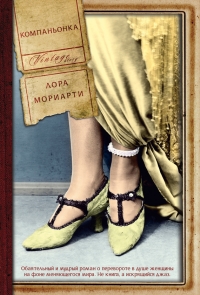
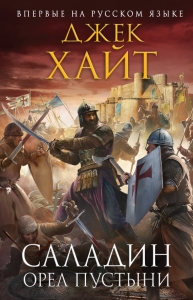
Комментарии к книге «Похищение огня. Книга 1», Галина Иосифовна Серебрякова
Всего 0 комментариев