Артур Кёстлер Гладиаторы
События, вошедшие в историю как Великое восстание рабов, или Гладиаторская война, происходили в 73–71 гг. до Рождества Христова
Пролог Дельфины
Проходя мимо ворот, я надвинул шляпу на глаза и зарыдал, но никто этого не увидел.
Сильвио ПелликоНа дворе ночь, еще не прокричал петух.
Но Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, привык, что служивый человек должен вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном дощатом полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками! День едва начался, а уже издевка. То ли еще будет!
Он бредет к окну и смотрит во двор — в провал, окруженный пятиэтажными постройками. Вверх по пожарной лестнице ковыляет костлявая старуха Помпония, его экономка и единственная рабыня. Она несет ему завтрак и ведро с водой. Она все делает вовремя, этого у нее не отнимешь. Но до чего стара и костлява…
Вода чуть теплая, завтрак тошнотворный: второе оскорбление с утра пораньше. Но настроение улучшается, стоит ему подумать о дельфинах, украшении предстоящего дня. Помпония беспрестанно ворчит, шныряя по его комнате. Она смахивает пыль с его вещей, приводит в порядок сложное одеяние чиновника. Волнуясь и изображая достоинство, он сходит по той же шаткой пожарной лестнице, подбирая длинные полы; он знает, что Помпония наблюдает за ним из окна.
Светает. Брезгливо задирая полу, он пробирается вдоль стен, едва не обтирая их спиной. По узкому проходу тянется бесконечная вереница повозок, запряженных лошадьми и быками. В дневное время закон строго запрещает движение повозок по улицам Капуи.
Несколько рабов шагают ему навстречу по улочке, служащей границей между лавками, торгующими благовониями и маслами, и рыбными рядами. Это городские рабы, нагло таращащиеся небритые негодяи. Он неприязненно прижимается к стене, подбирает плащ, негодующе бормочет себе под нос. Двое рабов задевают его, проходя мимо, но не испытывают никакого раскаяния. Писец корчится от злости, но не смеет высказаться. Эти звери расхаживают без кандалов — что за легкомыслие! — а их надсмотрщики безалаберно отстали.
Пропустив нечистую стаю, Апроний может продолжать путь. Но день непоправимо испорчен. Жизнь становится все более опасной. После смерти великого диктатора Суллы минуло уже пять лет, и мир снова сорвался с шарниров. Сулла — вот кто умел поддерживать порядок, вот кто никогда не медлил и давил любой беспорядок железной пятой! До него страну целое столетие сотрясали смуты: то Гракхи с их безумными планами реформ, то ужасное восстание рабов на Сицилии, то толпы вооруженных рабов, выпущенные Марием и Цинной на улицы Рима, чтобы запугать аристократов… Под угрозой оказались сами основы цивилизации: рабы, бессмысленная, зловонная толпа, вот-вот могли взять власть и уже мнили себя всемогущими! Но тут явился спаситель Сулла и взял в свои руки бразды правления. Он заткнул рты народным трибунам, отрубил головы наиболее зарвавшимся из бунтовщиков, а главарей популяров отправил в ссылку, в Испанию, покончил с бесплатной раздачей зерна, плодившей бездельников, зато подарил народу новый, суровый закон, рассчитанный на тысячи лет, до скончания времен. Но увы, даже великий Сулла оказался бессилен перед вульгарной лобковой вошью…
С тех пор прошло всего пять лет — но какими далекими уже кажутся те благословенные времена! Мир снова под угрозой, лентяи и бродяги снова могут прокормиться, не прилагая усилий; народные трибуны и просто болтуны опять произносят речи, от которых стынет в жилах кровь. Знать, лишившаяся вождя, колеблется и идет на компромиссы, а отсюда недалеко и до нового бунта.
Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, понимает, что день для него испорчен окончательно; даже мысль о дельфинах не способна его ободрить. Его внимание привлекает деревянный щит, на котором малюют новое объявление, украшенное алым солнцем с простертыми во все стороны лучами. Лентул Батуат, владелец крупнейшей в городе школы гладиаторов, приглашает капуанскую публику на захватывающее представление. Оно будет устроено послезавтра при любой погоде, ибо Батуат не поскупится на навес, чтобы спасти зрителей и от солнца, и от дождя, если он хлынет. В перерывах на трибунах будут разбрызгиваться благовония.
«Торопитесь же, любители празднеств, досточтимые граждане Капуи! Вы, свидетели торжества Пасидеана, победившего в ста шести боях, вы, восхищавшиеся непобедимым Карпофором, не пропустите редкостную возможность лицезреть битву не на жизнь, а на смерть воинов школы Лентула Батуата…»
И пространный список участников. Главная приманка — единоборство галльского гладиатора Крикса и фракийца Спартака. 150 новичков будут драться ad gladium — друг с другом, еще 150 ad bestiarum — со зверями. В полуденный перерыв, во время дезинфекции арены, шуточные сражения разыграют карлики, калеки, женщины и клоуны. Билеты стоимостью от трех ассов до пятидесяти сестерциев можно заранее купить в пекарне Тита, в открытых банях Гермиоса и у продавцов при входе в храм Минервы.
Квинт Апроний презрительно кривит рот; в Риме давно перестали брать с посетителей игр деньги: там тщеславные политики используют зрелища как средство вербовать себе сторонников. Но в провинциальной Капуе людям все еще приходится расплачиваться за удовольствие. Апроний думает: надо будет попросить у Лентула Батуата бесплатный билетик. Лентул, один из самых уважаемых граждан Капуи, тоже часто заглядывает к дельфинам; Апроний уже несколько раз порывался там с ним познакомиться, но все как-то не выходило.
Немного приободренный этим решением, Апроний ускоряет шаг; совсем скоро он достигает цели — зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд.
Встает солнце, сходятся коллеги. Первыми появляются сонные мелкие клерки, корчащие из себя невесть что. Истцы и ответчики тоже тут как тут — торговцы рыбой, не поделившие прилавок. Им велят подождать снаружи, пока их вызовет пристав. Чиновники неспешно расхаживают по залу, расставляют скамьи, раскладывают документы на столе у председателя. Квинта Антония коллеги уважают: как-никак 17 лет службы, да еще почетное секретарство в «Обществе взаимопомощи и похорон».
Даже сейчас он не теряет даром времени, а пытается заманить в свой клуб, называющийся «Почитатели Дианы и Антония», очередного молодого коллегу, снисходительно растолковывая ему правила членства. Каждый новый член должен уплатить сто сестерциев; 15 сестерциев годового взноса платятся помесячно, по пять ассов. Зато при кончине члена клуба, если только он не покончил с собой, на его кремацию клуб расходует целых триста сестерциев. Участники похоронной процессии получают по прибытии к погребальному костру 50 сестерциев на круг.
Если кто затеет ссору с другим членом клуба, на него наложат штраф в 4 сестерция; драка стоит 12 сестерциев, оскорбление председателя — 20. Каждый год новая четверка членов клуба несет ответственность за пиршества: обеспечивают подушки для сидений, горячую воду и посуду, а также 4 амфоры пристойного вина, по одному хлебу за два асса и по четыре сардины на каждого члена… Квинт Апроний так увлекся, расписывая достоинства членства, что сильно раскраснелся, но все напрасно: коллега вместо благодарности за предложенную честь всего лишь обещает подумать. Разочарованный и разозленный, Апроний отворачивается от безмозглого юнца.
Чиновники поважнее приходят позже других; последним появляется муниципальный советник, исполняющий судейские обязанности. Он отпускает свою свиту и величаво кивает Апронию, подставляющему ему кресло и подкладывающему документы. В зал впускают судящихся соперников и публику. Начинается заседание. Апроний выполняет свои обязанности, одновременно это его любимое занятие: он пишет. Его узкое лицо озаряется радостью, он с наслаждением и нежностью выводит на девственном пергаменте одно слово за другим. Никто не делает это так изящно, никто так не поспевает за говорящими, как Апроний, завоевавший за 17 лет безупречной службы полное доверие начальства. Соперники пытаются вывести друг друга на чистую воду, их защитники упражняются в красноречии, свидетели подвергаются расспросам, эксперты делятся квалифицированным мнением, растет кипа документов, зачитываются законы и подзаконные акты — но все это всего лишь предлоги для того, чтобы Апроний в очередной раз поупражнялся в искусстве каллиграфии. Это он — главное действующее лицо, герой, тогда как остальные — всего лишь толпа, массовка. К полудню, когда пристав объявляет, наконец, заседание закрытым, Апроний успевает забыть суть иска. Зато не может отвести взгляд от прекрасных строк, которыми запечатлел речь ответчика.
Он аккуратно складывает записи и документы, почтительно приветствует советника, небрежно — коллег, прижимает складки тоги к бедрам и покидает суд. Путь его лежит в Оскский квартал, в таверну «Волки-близнецы», где для «Почитателей Дианы и Аполлона» всегда оставляют столик. Вот уже семь лет, со дня назначения первым писцом Рыночного суда, он обедает только там: ему там готовят специальные диетические блюда, потому что у него больной желудок, но дополнительной платы не взимают.
Насытившись, Апроний наблюдает, как моют его личную миску, стряхивает с одеяния крошки и шествует из таверны «Волки-близнецы» в Новые бани. Там он тоже постоянный посетитель, имеющий право на почтительное приветствие и ключ от личного шкафчика. Служитель получает от него, как водится, чаевые — два асса. Просторные мраморные купальни заполнены, как, всегда: мужчины судачат группками, обмениваются новостями и лестными замечаниями; ораторы, тщеславные поэты и вообще все, кому не лень, дают под сводами бань волю своему красноречию, прерываемые то смехом, то аплодисментами публики. Ум Апрония заранее возбужден предвкушением банных услад. Он подходит сначала к одной кучке краснобаев, потом к другой, ловит обрывок фразы, клеймящей аборты и падение рождаемости; чей-то неприличный анекдот заставляет его гневно отвернуться. Подобрав полу повыше, он подходит к третьей группе. Ее вниманием владеет толстый торговец домами. Он держит подозрительный банк где-то в Оскском квартале, да еще пытается всучить легковерным акции новой смолокурни в Бруттии. Якобы из чистой филантропии он уговаривает своих слушателей немедленно совершить покупку: смола — это будущее! Апроний закатывает глаза, негромко бранится и семенит дальше.
Разумеется, больше всего народу снова собрал вокруг себя сутяга и писака Фульвий, опасный смутьян. Апроний наслышан об этом плюгавом с виду человечишке с лысым шишковатым черепом. Говорят, он отличился среди тех, кто называл себя демократами, но даже те выгнали его за излишний радикализм. С тех пор он и обретается в Капуе, кочует по нищим чердакам и знай себе подстрекает людей против порядка, завещанного великим Суллой. Маленький стряпчий говорит сухо и самодовольно, словно зачитывает кулинарные рецепты, но дурням, развесившим уши, и этого довольно — глотают, не поморщившись. Апроний, полный негодования, ввинчивается во внимающую болтуну толпу. Им движет не любопытство, а уверенность, что злость полезна ему для пищеварения.
— Римская республика обречена! — вещает лысый в своей обычной манере, словно констатируя всем известный факт. — Некогда Рим был страной земледельцев, но теперь крестьян выжали досуха, а с ними и государство.
Границы мира расширились, зерно привозят из других краев, так что крестьянам приходится продавать землю за бесценок и жить на подаяние. Из других краев привозят и дешевую рабочую силу, а наши умельцы голодают и нищенствуют. Рим завален зерном, гниющим в амбарах, а у бедных нет хлеба. В Риме было полно рабочих рук, но они оказались никому не нужными. Рим не сумел приспособиться к жизни в новом, расширившемся мире, и постепенно загнивает. Необходимость в кардинальных переменах очевидна всем думающим людям уже на протяжении столетия. Но всякая мудрость, как и ее носители, неизменно истреблялась на корню.
Фульвий гладит по очереди все шишки на своем черепе.
— Мы живем в век мертворожденных революций, — заключает он.
С судебного писца Апрония довольно. Так можно зайти слишком далеко. Подобные речи подрывают сами основы цивилизации! Трясясь от ярости и скрывая от окружающих удовлетворение — ибо ярость уже начала делать работу, которая от нее требовалась, — Квинт Апроний направляется, наконец, туда, куда так давно стремился, — в Зал дельфинов.
Помещение хорошо освещено, оно приятно на вид и сурово одновременно. Вдоль мраморных стен стоят высокие мраморные стульчаки, подлокотники которых вырезаны в форме дельфинов. Вот где царит истинная мудрость! Ибо когда же обмениваться плодами озарения ума, как ни при освобождении кишечника! Именно для сочетания обеих высоких видов человеческой деятельности и задуман Зал дельфинов.
Только что писец Квинт Апроний пребывал в раздражении, а теперь он ликует. Радость его возрастает многократно при виде хорошо ему знакомой, откормленной фигуры, уже поместившейся между двумя дельфинами: это Лентул Батуат, владелец гладиаторской школы, у которого Апроний как раз собрался поклянчить бесплатный билетик. Мраморное сиденье рядом с ним только что освободилось; Апроний церемонно задирает полы тоги, усаживается со счастливым кряхтеньем и любовно гладит ладонью дельфинью голову.
Лысый бунтарь так прогневил писца, что такие нужные последствия не заставляют себя ждать. Апроний, переполненный чувствами, отдает должное дельфинам слева и справа и при этом умудряется наблюдать краем глаза за соседом. Чело хозяина школы, увы, затуманено: видимо, его усилия не приносят желаемых плодов. Апроний тужится и не забывает сочувственно вздыхать: главное в жизни — хорошее пищеварение! Давно уже он вынашивает теорию, согласно которой все бунтарские побуждения и выходки, не говоря уж о революционном фанатизме, проистекают из дурного пищеварения или, если точнее, вызваны хроническим запором. Сейчас он вслух делится с соседом-страдальцем своими умозаключениями и признается, что близок к написанию философского сочинения. Остается только выкроить для этого время.
Лентул обращает на него благосклонное внимание, кивает и удостаивает ответом: мол, вполне возможно…
— Более того, это установленный факт! — подхватывает с горячностью Апроний. — При помощи этой теории легко объяснить многие исторические события, раздутые до невероятных масштабов историками-подстрекателями.
Однако пыл соседа оставляет Лентула равнодушным. Владелец гладиаторской школы ворчит, что всегда досыта кормил своих людей и прибегает к услугам лучших врачей, наблюдающих за их здоровьем и питанием. А эти твари ответили на всю его заботу самой подлой неблагодарностью!
Апроний, воплощение сочувствия, осведомляется, что за тревоги гложут соседа. Он понимает, конечно, что в такой момент клянчить бесплатный билетик не подобает, просто старается соблюсти приличия.
— Что толку скрывать то, что вот-вот будет знать каждый встречный! — взрывается Лентул. — Семьдесят лучших моих гладиаторов сбежали этой ночью. Полиция сбилась с ног, но их и след простыл.
Начав жаловаться, толстяк уже не в силах остановиться. Достается и временам — хуже не бывает, и делам — идут из рук вон плохо!
Писец Апроний почтительно внимает излияниям, сильно наклонившись вперед — поза крайнего внимания; пальцы комкают собранный на коленях подол. Он знает, что Лентул не только стяжал всеобщее уважение своими успехами в делах, но и сделал заметную политическую карьеру в Риме. В Капуе он объявился всего два года назад и основал гладиаторскую школу, уже завоевавшую хорошую репутацию. Его деловые связи оплели наподобие паутины всю Италию и заморские провинции; его агенты закупают двуногое сырье на всех невольничьих рынках и сбывают его, превратив годовыми тренировками в образцовых гладиаторов, в Испании, на Сицилии, азиатским владыкам. Лентул добился такого успеха верностью принципам: он прибегает к услугам только известных учителей и врачей. Но главное — его способность подчинить гладиаторов железной дисциплине: побежденные, они никогда не просят пощады, принимают перед смертью изящные позы и ничем не раздражают зрителей.
«Жить может любой, — твердит он своим гладиаторам, — а вот смерть — это искусство, которым приходится овладевать». Благодаря своему умению умирать благородно и красиво гладиаторы Лентула приносили доход на добрые пятьдесят процентов больше, чем ученики любой другой школы.
Но, выходит, дурные времена не обошли стороной даже счастливчика Лентула. Писцу это как бальзам на душу, он даже готов сострадать великому человеку. Тот откровенничает:
— Видишь ли, добрый человек, все устроители игр сейчас в затруднении, а виновата в этом публика. Она больше не ценит умелых, выдрессированных борцов. Получается, что все траты на их подготовку — напрасный расход. Ныне количество подменяет собой качество, публике хочется, чтобы всякое представление походило на разрывание людей дикими зверями. Представляешь ли ты, что это означает для моей профессии? Очень просто: в классической дуэли двух борцов падеж равен, как ты догадываешься, одному участнику из двух, или пятидесяти процентам. Накинь еще десяток процентов на смертельно раненых — и мы получаем шестьдесят процентов потерь на каждом выступлении! С такими издержками впору ноги протянуть! А публике подавай еще зверей! Ей хочется щекотки для нервов, и плевать, что в этом случае потери вырастают до восьмидесяти пяти — девяноста процентов. Третьего дня наставник моего сына, очень способный математик, подсчитал, что шанс гладиатора проработать три года равен одному из двадцати пяти. Логика подсказывает, что хозяин должен возмещать за полтора-два представления все свои затраты на этого гладиатора.
— Все вы, сторонние люди, публика, воображаете, будто арена — это золотая жила, — продолжает Лентул с горькой усмешкой. — Так приготовься, я тебя удивлю. Если заниматься нашим делом добросовестно, прибыль составит не больше десяти процентов в год. Иногда я даже спрашиваю себя, почему бы не вложить деньги в землю и не заняться сельским хозяйством. Ведь даже самое захудалое поле приносит свои шесть процентов годовых…
Апроний уже расстался с надеждой на бесплатный билетик, но чувствует, что от него ждут слов утешения.
— Не сомневаюсь, — выдавливает он, — вы сумеете возместить эту потерю — пятьдесят с чем-то человек.
— Семьдесят! — сердито поправляет его сосед. — Причем самых лучших! Взять хоть галла Крикса, учителя гладиаторов: ты наверняка видал его за работой. Мрачный с виду, тяжеловесный, с головой тюленя, с медленными, но опасными движениями. Чистый убыток! А Каст? Маленький, верткий, хитрый, как шакал. И другие не хуже: хоть гигант Урс, хоть Спартак — спокойный, умеет нравиться, не снимает с плеч шкуру зверя. Или Эномай, многообещающий дебютант… И другие этим под стать. Уверяю тебя, материал первоклассный, любо-дорого было глядеть!
Это уже не ворчанье, а настоящая эпитафия, слезы по утраченным родным людям.
— Теперь мне придется на пятьдесят процентов сократить входную плату. А ведь я уже раздал сотни бесплатных пропусков!
Апроний торопится свернуть в общефилософскую колею и делится собственным соображением: странно, как гладиаторы мирятся со своей участью, жизнью от представления до представления, в вечной тени смерти? Лично ему, Апронию, нелегко представить себя в их шкуре.
Лентул улыбается: к этому вопросу он всегда готов.
— Все дело в привычке. Ты чиновник, тебе не понять, как быстро люди осваиваются с самыми невероятными условиями существования. Это как на войне; к тому же все мы каждый день ходим под судьбой. А у этих крыша над головой, обильная здоровая пища… Да им куда лучше, чем мне: меня придавливает к земле непосильная ноша ответственности, каждодневных забот. Поверь, иногда я даже завидую своим подопечным.
Апроний подтверждает кивком, что в гладиаторской жизни действительно есть свои плюсы.
— Но, видишь ли, человек никогда не бывает удовлетворен, такова уж его натура. — Лентул разошелся. — Перед каждым выходом на арену мои люди проявляют недовольство, ведут разные глупые разговоры. В этот раз до них каким-то образом дошло, что я, подчинившись публике, был вынужден выгнать выживавших в последнем человеческом бою на схватку со зверями. Разумеется, им это не понравилось. Последовали неприятные сцены, а этой ночью, пока еще непонятно, каким образом, произошло то, о чем тебе уже известно…
Конечно, он, Лентул Батуат, — лицо заинтересованное, но даже он разделяет до некоторой степени возмущение своих людей. Нравы публики печалят его еще больше, чем убытки. Взять хотя бы недавно появившееся суеверие, что свежепролитая гладиаторская кровь — якобы хорошее лекарство от некоторых женских недомоганий. Лучше не повторять самому и не огорчать слушателя описанием возмутительных сцен, разворачивающихся теперь на арене… Все эти невзгоды подорвали его, Лентула, здоровье, так что его уже тошнит от одного слова «кровь», а врачи всерьез рекомендует ему как можно скорее побывать на водах в Байе или Помпеях.
Лентул вздыхает и завершает описание своих печалей обреченным жестом, который можно понять и как признание бесполезности его потуг в окружении дельфинов, и как приговор печальному состоянию дел вокруг.
Апроний окончательно приходит к выводу, что нынче из этого человека ничего не выжмешь. Он разочарованно поднимается с мраморного сидения, приводит в порядок складки тоги и степенно прощается. За ужином во все той же таверне «Волки-близнецы» он озабочен и молчалив, даже забывает проследить, чтобы вымыли его персональную миску.
Домой он бредет в сумерках, уже начавших окутывать узкие кривые улочки Оскского квартала. Его не покидает грустная мысль о том, что надежда на бесплатный билетик не сбылась. Он тяжело поднимается по узкой лестнице в свое жилище. Семнадцать лет безупречной службы — а что толку? Все равно для него недоступен праздник жизни, да что там праздник — даже крошки со стола веселящихся!
Он машинально сбрасывает одежду, аккуратно складывает ее, кладет на шаткую полку, гасит свет. С улицы доносятся дружные ритмичные шаги: городские рабы-строители возвращаются с работы. Он вспоминает их болезненные физиономии и снова злится: утром они заставили его прижиматься к стене и даже не извинились!
Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, грустно смотрит в темноту. Вот она, плата за все его труды, горести и лишения! Разве в таком мире есть место богам?
Никогда еще, с самого детства, Апроний не был так близок к слезам. Тщетно он ждет сна, заранее боясь кошмаров. Он знает по опыту, что ночных кошмаров не избежать.
Книга первая Начало
І. Трактир на Аппиевой дороге
Аппиева дорога уходила на юг, превращаясь вдали в острие из сходящихся каменных вех, деревьев, скамей. Дорога была выложена большими каменными квадратами; чуть в стороне ее окаймляли изгороди из кактусов, покрытые, как и камни, толстым слоем пыли. Было тихо и нестерпимо жарко.
У второй по счету вехи к югу от Капуи стоял трактир Фанния. Был самый суетный сезон в году, однако трактир пустовал. Нехорошие, опасные настали времена; в путь пускался только тот, кому совсем уж нельзя было усидеть на месте. Путешествиям и торговле препятствовали вездесущие шайки грабителей. Дорога оставалась пуста с полудня. Два отряда, направлявшихся в Байю, были не в счет: для этих аристократов заведения Фанния не существовало.
Фанний стоял за прилавком и слушал, как его счетовод оглашает убытки. Помещение было затянуто удушливым дымом с запахом тимьяна и лука. Две накрашенные подавальщицы кидали на столе кости, решая, кому обслуживать следующего посетителя. Слуги-мужчины, силачи с бычьими шеями, были ребята хоть куда и ничего не боялись: одни возились в этот час в конюшне, другие спали в тенистом дворике, не обращая внимания на тучи мух.
Внезапно из-за ворот донеслись голоса. Не успел Фанний полюбопытствовать, в чем дело, как двери распахнулись, и внутрь ввалилась шумная толпа, человек пятьдесят-шестьдесят, сразу заполнившая весь трактир. В руках у них были странные предметы, какие увидишь разве что в цирке. Большинство робело и хохотало, скорее, для самоуспокоения. На одном вместо пристойной одежды была шкура зверя. Все вместе неуверенно оглядывались и скалились, глядя на подавальщиц. Один потребовал накрыть во дворе общий стол на всех.
Фанний оглядел посетителей и степенно приказал слугам расставить во дворе скамьи и табуреты. Широкие столы там стояли и так, образуя подкову. Подавальщицы быстро накрасили брови и стали резво накрывать столы, подмигивая друг дружке. Посетители уселись и примолкли. Среди них было несколько женщин. Во главе стола оказался толстый мужчина с длинными свисающими усами и рыбьим взглядом; на шее у него сверкало серебряное ожерелье, а голова была точь-в-точь как у тюленя. Подавальщицы сбивались с ног, расставляя кувшины и кружки. Толстый неожиданно смахнул кувшины на землю.
— Уберите! — приказал он. — Бочку!
Глиняная посуда покатилась по булыжному двору; за столом дружно расхохотались. Одна из женщин, худая и черноволосая, замолотила по столу детскими кулачками.
Фанний грозно придвинулся к толстяку, охраняемый своими слугами с бычьими шеями. Когда он дотронулся до руки буяна, все притихли. Трактирщик тоже был не из робкого десятка: одноглазый, широкоплечий и коренастый, как пень. Он грозно оглядел нежданных гостей.
— С какой арены вас отпустили? — спросил он, обращаясь сразу ко всем.
Толстяк сбросил руку Фанния со своей руки и ответил:
— Не задавай лишних вопросов. Сказано, ставь бочку!
Фанний еще постоял, изучая посетителей. Те молча взирали на Фанния. Молчание затянулось; потом трактирщик мигнул глазом, и слуги подкатили к столу бочку. Пробка была вынута, после чего Фанний предпочел удалиться. Служанки хотели наполнить гостям чашки, но те, не дожидаясь их, наливали себе сами, толпясь у бочки. Потом они потребовали еды. Служанки забегали с мисками, гости стали жадно утолять голод. Теперь им было весело. Здоровяки-слуги стояли плечом к плечу у стены и наблюдали за происходящим.
Когда стало темнеть, толстяк позвал хозяина. Фанний увидел, что несколько человек спят прямо на столе, несколько усадили себе на колени хохочущих подавальщиц.
Толстяк, такой же скорбный, как и вначале, потребовал, чтобы Фанний приготовил ночлег для всей оравы. Некоторые из оравы возразили, что лучше продолжить путь. Толстяк сказал, что это место не хуже для ночлега, чем любое другое. Трактирщик помалкивал. Худая брюнетка крикнула, что толстяк прав, нужно только поставить ко всем дверям охрану. Толстяк сказал: довольно болтовни. Пусть трактирщик готовит места для ночлега. Трактирщик возразил, что у него нет ни кроватей, ни постелей, так что гостям следует расплатиться и отправляться подобру-поздорову.
Гости молчали. Потом заговорил человек в звериных шкурах — он сказал, что Фаннию нечего бояться: у них хватит денег, чтобы расплатиться. У человека в шкурах было широкое добродушное лицо, усыпанное веснушками; был он угловатый, корявый, сидел, упираясь тяжелыми локтями в колени, и напоминал дровосека, спустившегося с гор. Фанний перевел на него свой тяжелый взгляд, но он не отвел глаз, и это пришлось сделать Фаннию. Один из гостей, тощий и мелкий, противно засмеялся и бросил Фаннию кошелек. Фанний подобрал кошелек с земли и повторил, что гостям лучше уйти. Гости не двигались. Фанний немного подождал и подмигнул своим силачам-слугам. Толстяк поднялся из-за стола, и Фанний невольно попятился. Они стояли, упираясь друг в друга животами. Трактирщик, не отводя взгляд, сказал, что ему доводилось расправляться со всякими недобрыми людьми. Потом он схватил толстяка, но тот двинул его в брюхо коленом, и Фанний отлетел к стене со щенячьим визгом.
Один из силачей-слуг махнул рукой, и все они разом набросились на толстяка. Спящие гости тут же очнулись, служанки завизжали, столы повалились, звон бьющейся посуды смешался с хрустом ломаемых костей. Но странное оружие посетителей оказалось сильнее трактирных дубинок, так что побоище длилось недолго.
Сначала двор представлял собой людское месиво, потом слуги отступили и сгрудились у сарая. Служанки перевязали раненых, но двоим уже не могли помочь бинты: их безжизненные тела уволокли прочь. Гости бродили по двору, не зная, чем заняться, шутили и обзывали побежденных слуг. Те проглотили языки. Некоторые поглядывали на Фанния, стонущего у стены.
Тощий и мелкий шустро, как мышь, подскочил к Фаннию и наклонился к нему. Фанний отвернулся и сплюнул. Мелкий лягнул его в пах. Фанния вырвало.
— Сначала ты лишился глаза, а теперь кое-чего еще, — объяснил мелкий с насмешливым сочувствием. — Вот она, участь тех, кто напрашивается на неприятности! Да еще перечит Криксу!
Он с угодливым смешком похлопал толстяка Крикса по брюху, но тот смолчал. Он стал еще больше похож на грустного тюленя со свисающими усами и потухшим взором.
Силачи-слуги молча стояли у сарая, охраняемые вооруженными гостями. Человек в шкурах пересек двор и остановился перед слугами. Те затаили дыхание.
— Что же нам с вами делать? — обратился человек в шкурах к слугам. Те молча таращили глаза. Человек в шкурах был спокоен и рассудителен, и это не могло им не понравиться.
— Кто вы вообще-то такие? — спросил, наконец, один из них.
— Догадайся! — тявкнул мелкий. — Может, римские сенаторы?
— Мы не возражаем, ночуйте здесь, — проговорил один из силачей-слуг. — Главное, чтобы утром вы убрались.
— Вот спасибо! — откликнулся человек в шкурах, улыбаясь. Его товарищи засмеялись, к ним присоединились некоторые из слуг.
— Придется запереть вас на ночь в хлеву, — предупредил человек в шкурах.
— Правильнее было бы всех вас прикончить, — проворчал толстый Крикс. — Знайте, тому, кто попытается выбраться, точно не жить!
Слуг заперли в коровнике, задвинув железные засовы. Двое гостей остались их стеречь, еще двое встали караулить ворота.
Служанки отправились стелить постели и готовиться к бессонной ночи.
Сотня наемников из Капуи маршировала по дороге. Посланные днем вдогонку за беглецами, они четыре часа без всякого толку прочесывали округу. Высланные во все стороны патрули вернулись и доложили, что крестьяне видели беглецов. Увы, эти сообщения не помогли: никто не мог сказать, куда подевалась шайка. Возможно, негодники сознательно утаивали правду, но времени разбираться с ними не было.
Роту сопровождали несколько рабов Лентула, которые должны были опознать беглецов. Они находились в сильном возбуждении, так как на них лежала ответственность за успех погони. Что касается наемников, то у них задание не вызывало энтузиазма. Им было приказано поймать беглых, желательно живыми — так распорядились городские советники, сидя в уютной бане. Ни наград, ни славы не предвиделось, а кому улыбается драться с гладиаторами ни за грош? Все знали, с кем предстоит иметь дело: с животными в людском обличье, с дрессированным зверьем, которому к тому же нечего терять. Да еще это их оружие, не вписывающееся в правила приличного боя: сети, петли, трезубцы, метательные копья!
В сумерках рота остановилась в таверне у шестой дорожной вехи, сразу за ответвлением дороги, уводящим в Калатию. Походило на то, что придется возвращаться ни с чем; что ж, солдаты против такого исхода не возражали. Большинство были люди в летах: обедневшие ремесленники, торговцы, работники, разорившиеся фермеры. Наемными военными они стали ради кормежки, регулярных выплат и пенсии по старости. По всему это было, скорее, деревенское ополчение, чем грозные римские легионеры.
Потратив на еду и питье два часа, они повернули обратно. Было новолуние, темень, хоть глаз выколи. Внезапно их нагнал конный разведчик в сопровождении незнакомца, задыхающегося и хромающего. Незнакомец был сильно избит; он сказал, что его зовут Фанний и что беглецы вломились в его трактир, поубивали слуг и все разгромили. Сейчас они спят со служанками, так что самое время окружить дом и захватить их, как крыс, забившихся в нору. Еще раненого интересовало, ждет ли его награда.
Солдаты были готовы убить его за такие речи и вообще за появление, так они устали и такие тяжелые у них были головы от вина. Но командир стремился выслужиться, поэтому развернул свою горе-роту. В миле от перекрестка находилась ферма, разбуженные слуги которой снабдили солдат факелами. Через двадцать минут рота достигла трактира Фанния.
Дом казался пустым, факелы не столько горели, сколько дымили. Командир приказал своим людям окружить дом, потом постучал рукояткой меча в ворота. Ворота были сколочены на славу. Изнутри никто не ответил.
— Может, их там уже нет? — предположил один из солдат. Ему и всем остальным очень не хотелось драться.
Десяток человек послали на ферму за топорами, чтобы рубить ворота. Шло время. В окруженном доме было только два внешних окошка в верхнем этаже — одно с фасада, другое с видом в поле. Все остальные окна выходили во внутренний двор. Ожидание топоров затянулось.
Наемники сели на землю, некоторые уснули. Время от времени кто-нибудь подходил к воротам, стучал, бранился и отходил. Внутри все словно вымерло. Может, беглецы и впрямь ушли? Все полагали, что сторожат пустую нору.
По прошествии часа топоры, наконец, появились. Ворота и впрямь оказались толстыми. Когда их разнесли, двор встретил разгоряченных рубщиков полной тишиной. Первому полагалось идти Фаннию, но он предпочел пропустить вперед командира. Остальные сгрудились за ними. Квадратный двор выглядел в свете факелов угрожающе. Во всех окнах верхнего этажа стояли, глядя вниз, гладиаторы.
Командир — звали его Мамий, он был молод и храбр — крикнул, хотя повышать голос не было необходимости:
— Довольно бесчинств! — Он никак не мог решить, к кому обращаться, и растерянно крутил головой. — Спускайтесь, сопротивление бессмысленно!
Когда его крик стих, во дворе снова стало неестественно тихо.
— Покажи нам лестницу, — приказал командир Фаннию. Тот указал в сторону кухни. Командир направился к лестнице.
— Лучше ступайте, откуда пришли, — посоветовали сверху. Командир остановился.
— Вы согласны спуститься добровольно? — спросил он, повернувшись на голос.
— Смотрите, старикан Никос! — крикнули из другого окна. — Хочешь передать нам привет от хозяина?
Никос, старый раб Лентула, задрал голову.
— Возьмитесь за ум и возвращайтесь, — прокряхтел он. — Хозяин страсть как зол.
Ответом ему был смех.
Наемники, окружившие дом, не сводили глаз с окон.
— Где Спартак? — спросил Никос, глядя туда же.
Человек в шкурах, высунувшись из дальнего окна, дружелюбно улыбнулся старику.
— Привет тебе, Никос!
— Хотя бы ты их надоумил! Ты всегда был такой рассудительный.
Факелы солдат давали все меньше света и все больше дымили.
— Ну так как, спускаетесь вы или нет? — спросил командир и снова подступил к лестнице. Сверху на него обрушилось что-то непонятное, бесформенное, и он упал, отчаянно бранясь; чем больше он барахтался в сети, тем больше запутывался. Люди в окнах радостно гоготали.
— Тащите его наверх! — прозвучал приказ, перекрывший гогот.
Командир уже охрип от брани. Несколько наемников боязливо подкрались к углу дома с мыслью помочь своему командиру, но в следующую секунду один рухнул, как подкошенный, издав истошный крик, остальные беспомощно замерли. И тут в них полетело все, что оказалось у осажденных в руках и под рукой: кинжалы, копья, камни, обломки мебели.
Солдаты разбежались, прикрывая головы щитами и побросав факелы; однако в щитах было очень мало толку, смертоносные снаряды летели отовсюду. Некоторые солдаты пытались метать копья в окна, но это были для осажденных желанные подарки, немедленно возвращавшиеся дарителям с гораздо большим толком. Факелы окончательно потухли, и в темноте солдаты почувствовали себя не в пример хуже. Жуткий рев, доносившийся сверху, вселял в них растерянность. Они бросились было к воротам, но ворота оказались на засове, и те, кто пытался вырваться, получали удар меча или дубины. Гладиаторы хлынули вниз по лестнице во двор и зажали солдат в угол. В окнах загорелись новые факелы, и злополучная наемная братия превратилась в одну освещенную мишень, не способную сопротивляться. Тот же голос, который прежде приказал тащить наверх римлянина, теперь крикнул:
— Бросайте оружие!
После этого воцарилась зловещая тишина.
Некоторые солдаты отшвырнули мечи и сели на землю, некоторые остались стоять. Кто-то крикнул, чтобы никто ничего не бросал. Крикс вышел в центр двора и попросил кричавшего шагнуть ему навстречу, но тот не шелохнулся. Крикс повторил свое предложение, объяснив, что поединок лучше кровавой бани. Солдаты сочли это хорошей идеей и расступились, чтобы пропустить несчастного, вспомнившего в недобрый час про свой воинский долг. Тот застыл, как вкопанный. Тогда вся оставшаяся в живых рота побросала оружие и села в углу двора.
Гладиаторы собрали оружие и потащили его наверх, обмениваясь веселыми шутками. Убитых и раненых отнесли в сарай; Фанний был мертв, командир солдат тоже — он случайно удавился в сети. Каст, хилый и вертлявый человечек, окрестил сарай споларием — так называлось место, куда убирали с арены тела убитых. Его шутка была встречена громовым смехом. Слуг, выведенных из коровника, толкнули к солдатам. Слуги были перепуганы: они поняли по звукам, что происходило во дворе, и предпочли бы остаться с коровами.
На высунувшихся наружу служанок никто не обратил внимания. Некоторые из гладиаторов вернулись в дом, досыпать. Старик Никос сидел среди солдат, привалясь к стене. Человек в шкурах подошел к нему.
— Ты плохо кончишь, — предупредил его Никос.
— Послушай, Никос, — медленно проговорил человек в шкурах, — разве смерть на арене — это, по-твоему, хороший конец?
Все во дворе навострили уши.
— Вы пошли наперекор заведенному порядку, — сказал Никос. — К чему это может привести?
— К дьяволу все порядки! — откликнулся вертлявый Каст. В этот раз никто не засмеялся.
— Что скажет хозяин, когда мы вернемся без вас? — молвил Никос.
— Сомнительно, что вы вообще вернетесь, — подсказал Каст. Все ждали продолжения.
— Ты мог бы уйти с нами, Никос, — предложил человек в шкурах.
— Не для того я сорок лет честно прослужил, — возразил Никос, — чтобы теперь превратиться в убийцу и головореза.
Постепенно вокруг него образовался круг из гладиаторов.
— Как вы поступите со всеми ними? — спросил Никос, указывая кивком головы на солдат, многие из которых растянулись на земле, в большинстве пожилых людей.
Гладиаторы молчали. Стоя группками по три-четыре человека, они поглядывали на солдат в углу двора. Некоторые солдаты храпели, некоторые беседовали между собой.
— Когда мы вернемся, — заговорил один немолодой солдат, — нас выгонят из полка, а может, и того хуже. Может быть, нас всех повесят на крестах.
— Поделом вам, — сказал один из гладиаторов.
— Почему? — удивился солдат.
— Вопрос в том, вернетесь ли вы вообще, — повторил свою мысль Каст.
— Вы всех нас перебьете? — подал голос другой солдат.
— Тебя в первую очередь, подонок! — огрызнулся Каст.
— Спокойно! — призвал всех человек в шкурах.
Каст умолк. У него на шее, как у остальных галлов, сверкало серебряное ожерелье.
Гладиаторы неуверенно переминались в ноги на ногу, поглядывая на солдат.
— Самое разумное, что бы вы все могли сейчас сделать, — это вернуться с нами, — сказал Никос.
— Ты лучше хорошенько подумай, Никос, — тихо сказал ему человек в шкурах. — Сначала думай, потом говори.
Никос промолчал.
— Поставь себя в наше положение, Никос, — заговорил Эномай, молодой стройный гладиатор, робкий на вид. — Представь, что тебе и мне дают по копью и велят нам друг друга проткнуть на забаву зевакам.
— Никогда не смотрел так на то, чем вы занимаетесь, — признался Никос.
— А ведь так оно и есть, — подтвердил человек в шкурах. — Ты подумай.
Никос подумал и ничего не ответил.
— Хватит болтать! — рявкнул на них опершийся на стену Крикс.
— Что вы будете теперь делать? — спросил Никос.
Гладиаторы молчали.
— Пусть избирают нас в сенат, — сказал Каст. Никто не засмеялся.
— Лукания — страна холмов и лесов, — проговорил Эномай и робко глянул на человека в шкурах.
— Мир велик, — сказал тот. — Идем с нами, Никос.
— Лукания? — переспросил один из солдат, бывший пастух с широкими скулами и желтыми лошадиными зубами.
— Вот уж где можно затеряться! — подхватил другой солдат. — Там пасутся целые табуны диких коней. Все пастухи Лукании — конокрады. Хозяева не платят им ни гроша, вот им и приходится выкручиваться.
— Там много дичи, а ручьи так и кишат рыбой, — продолжал пастух. — Я бы не возражал отправиться с вами в Луканию…
— И я! — поддержал его второй солдат. — Все равно того, что нам платят, хватает разве что на кукурузную кашу да салат.
— Вас всех повесят, слышите? — гнул свое старый Никос. — У вас даже нет вожаков.
— Довольно болтовни! — повторил Крикс, отделяясь от стены. — Мы изберем вожака и отправимся в путь.
— Крикс будет трибуном! — крикнул кто-то из гладиаторов, вызвав общий смех.
— Вы возьмете меня с собой? — спросил пастух.
— Все равно вас всех повесят, — предрек солдат постарше.
Близилась заря, небо над двором трактира серело. Факелы были потушены. Двор сделался просторнее, вообще выглядел другим, не таким, как раньше.
— Я с ними, а ты? — сказал один силач-слуга другому.
— А как же трактир?
— Очень может статься, что из-за Фанния нас всех повесят, — сказал первый слуга. — Или, того хуже, сошлют в рудники…
Силачи сгрудились и стали шептаться. Через некоторое время все они встали и направились к гладиаторам.
— Назад! — крикнул им мелкий Каст.
— Мы все как один уйдем с вами, — сказал один из слуг, — если вы нас примите.
Гладиаторы смотрели на них с сомнением.
— Учтите, для вас у нас нет оружия, — предупредил Каст.
Слуги еще посовещались.
— Они говорят, что сами раздобудут оружие, — сказал парламентер. — Еще они говорят, что вожаком должен стать вот этот. — И он указал на Спартака.
Спартак спокойно выдержал его взгляд, потом с усмешкой бросил Криксу:
— Ты среди нас самый толстый.
Взгляд Крикса остался скорбным, но остальные гладиаторы повеселели. Галлы хотели видеть вожаком Крикса, остальные предпочитали Спартака. Наконец, остановились на двоевластии.
Тишина воцарилась вновь. Гладиаторы расхаживали по двору в смущении оттого, что выбрали себе главных. Слуги принесли из амбара дубинки и топоры. Вооружившись, они вытянулись в цепочку вдоль стены. Гладиаторы молча ждали продолжения. Человек в шкурах отошел в угол двора, к солдатам.
— Как нам быть с вами? — обратился он к ним.
— Возьмите и нас с собой! — взмолился пастух с лошадиными зубами. — Я знаю леса Лукании.
— У нас нет для них оружия, — напомнил Крикс. — И потом, они староваты.
— Откуда ты знаешь, что мы тоже хотим идти с ними? — обратился к пастуху другой солдат. — Вас всех поймают и повесят, попомните мои слова.
Солдаты, пребывая в сомнении, долго переговаривались. Наконец, вперед выступили несколько из них, в том числе пастух.
— Тебя мы принимаем, — сказал Спартак пастуху. Тот от радости подпрыгнул и ринулся к гладиаторам. Гладиаторы посторонились.
— Опомнись! — угрожающе сказал ему Крикс.
Пастух виновато вобрал голову в плечи и перешел к слугам. Кто-то из слуг сунул ему в руки дубинку. Пастух оскалил лошадиные зубы и помахал дубинкой в воздухе.
Человек в шкурах стал спрашивать у других солдат, пожелавших примкнуть к гладиаторам, сколько им лет и чем они занимались до воинской службы. Судьбу каждого гладиаторы решали голосованием. За некоторых голосовали единогласно, по поводу других голоса разделились. В конце концов приняты были только те, кто помоложе; присоединившись к слугам, они тоже получили кто дубинку, кто меч, кто трезубец. Отвергнутые вернулись к своим и снова уселись на булыжники.
Солнце уже было готово высунуться из-за горизонта и окрашивало небеса в цвет крови. Слюдяные окна трактира поблескивали. Крикс и гладиатор в шкурах слушали несвязные речи своих людей. Наконец, Крикс сказал Спартаку, презрительно пофыркивая:
— Если бы мы с тобой ушли сейчас вдвоем, нас никогда бы не поймали. Отправились бы в Александрию. Женщин в Александрии хоть отбавляй.
Человек в шкурах внимательно его слушал.
— Верно, скрыться вдвоем куда легче, — подтвердил он. — Но в порту Путеолы есть разные люди.
— Если у тебя водятся денежки, на борт корабля тебя пустят без лишних вопросов, — сказал Крикс.
— Нет, — сказал Спартак. Крикс молча ждал продолжения. — Сейчас так нельзя, — прозвучало из-под шкур. — Возможно, позже…
— Ну да, позже, — пробурчал Крикс. — Когда нас повесят.
Гладиатор в шкурах размышлял, глядя на остальных, радостно суетящихся во дворе.
— Сейчас нельзя, — повторил он. — Может быть, ты хочешь уйти сам, один? — спросил он после паузы, пристально глядя на Крикса.
Тот ничего не ответил. Отойдя от Спартака, он остановился у стены. Гладиаторы шумно спорили, решая, как быть дальше. Всеми владело радостное возбуждение. Неожиданно человек в шкурах запрыгнул на стол и высоко поднял руки, словно собрался обламывать ветки на деревьях.
— Уходим! — крикнул он изо всех сил. — В Луканию! — Его веснушчатое лицо расплылось в улыбке.
Гладиаторы дружно издали одобрительный крик и стали собираться в путь. Слуги и те из солдат, которым разрешили примкнуть к гладиаторам, по-прежнему подпирали стену.
— А вы? — обратился к ним Спартак.
— Мы же сказали, что идем с вами, — важно ответствовал парламентер с бычьей шеей.
Остальные солдаты наблюдали за суетой сидя; некоторые спали. Гладиаторы отобрали у них деньги, кинжалы, ножи. Один из солдат попытался воспротивиться этому и был убит. Другие не оказали сопротивления. Все это были люди в летах, знавшие, что их в лучшем случае уволят, в худшем — отправят в рудники.
Во дворе появились женщины, прежде наблюдавшие за событиями из окон. Худенькая брюнетка остановилась перед Спартаком, спрыгнувшим со стола. Здоровяки-слуги взирали на него с изумлением: только что он был погружен в задумчивость, а теперь проявлял юношескую прыть. Впрочем, его горячность пришлась им по душе.
— Что теперь? — спросила черноволосая, глядя на него.
— Мы уходим в Луканию, — ответил он.
— В лесу будет весело, — сказала она.
— Еще как весело! — улыбнулся он. — Ведь всех нас повесят.
Подойдя к старому Никосу, Спартак спросил:
— Ты пойдешь с нами?
— Нет, — ответил Никос. Он сидел, привалившись к стене, и выглядел совсем дряхлым.
— Тогда прощай, отец, — сказал гладиатор в шкурах.
— Прощай.
Гладиаторы вывалились толпой из ворот. За ними шли слуги и солдаты. Замыкали шествие три женщины.
Теперь их набралось более сотни.
Наступило утро.
II. Разбойники
Они собирались двинуться в Луканию, но, оказавшись в суровой горной стране, где было меньше полей и беднее добыча, повернули назад. Ибо Кампания, воспетая, благословенная земля, не выпустит из своих объятий никого, даже самого отпетого грабителя. В черной почве этой причудливой страны урожай созревает трижды в год, а розы здесь зацветают еще до того, как наступает время сеять. Пьянящий ветер ее садов проникает в кровь, а на горе Везувий растут, как известно, травы, отвар из которых превращает девственниц в буйных вакханок. По весне кобылы взбираются на скалы, поворачиваются задами к морю и зачинают от одного горячего ветра.
Здесь, в благословенной Кампании, раскинулась чудеснейшая на свете преисподняя. Главные черти — большие горы — носят белоснежные ниспадающие одеяния, а услужливые дьяволята — горы поменьше — пытаются до них дотянуться, втайне мечтая их низвергнуть. И таким же, древним, как сами горы, был извечный конфликт между людьми, боровшимися за владычество над Кампанией, этой житницей римских легионов, ценнейшим национальным достоянием. Со времен Тиберия Гракха не прекращались попытки освободить страну из тисков, в которые ее зажали землевладельцы, и разделить эти плодородные земли между теми, кто не имел наделов. Но любого, замахивавшегося на эту святыню, топили или забивали до смерти камнями; торжествовали ростовщики и спекулянты. Аристократы пили из мелких землевладельцев кровь, изгоняли их, скупали их земли за бесценок; тем некуда было податься. Вместо свободных крестьян на земле утвердились крупные хозяева, а работники, рожденные свободными, вытеснялись рабами, которых становилось с каждым годом все больше благодаря непрерывным войнам; им, работникам, тоже некуда было податься. Шайки обездоленных кампанских фермеров, занявшихся от отчаяния грабежом, прятались среди гор. Участь их была незавидной.
По Кампании ползли слухи.
Невиданно дерзкие разбойники нападали на трактиры и постоялые дворы, обирали путников, угоняли подводы с добром, сжигали дотла дома благородных римлян, уводили волов из-под ярма, коней из конюшен. Они были повсюду и одновременно нигде. Сегодня они стоят лагерем в болотах на реке Кланий, завтра — в лесах на горе Вергилия. На их поимку посылали солдат, наскоро сколоченные отряды из маленьких городков, но солдаты либо разбегались, либо присоединялись к разбойникам. Число последних росло день ото дня; одним они внушали тревогу, другим восхищение, ибо не ценили жизнь и презирали смерть.
Слухи заполнили Кампанию. Рабы и батраки, садясь кружком, судачили про разбойников, пока надсмотрщики, сморенные полуденным зноем, видели дурные сны. У разбойников было два вожака: один — толстый галл, мрачный и жестокий, другой — фракиец с лучистыми глазами, не снимавший звериных шкур. Еще рассказывали о женщине, темноволосой и стройной, совсем девчонке с виду, а на самом деле — фракийской жрице, умевшей читать звезды и предсказывать будущее. Она принадлежала мужчине в шкурах, но спала и с другими, и на всех ей хватало пыла.
То были не простые злодеи, а гладиаторы. Никогда еще в Кампании не бывало таких разбойников: ведь гладиаторы — не вполне люди, их участь — гибнуть на арене. С другой стороны, эти оказались такими же людьми, как все остальные; кто их осудит за нежелание умирать? Они резали овец, украденных у пастухов, пожирали виноград в тучных виноградниках, забирали из конюшен самых резвых скакунов, самую сильную тягловую скотину. Там, где они проходили, больше не росла трава, не оставалось дев, зияли пустотой амбары. Любого, кто смел им воспротивиться, ждала смерть, беглецов — поимка; зато всякий, кто полагался на их снисхождение, мог идти с ними, а находились и такие, и немало, кто просился к ним. Такими были эти гладиаторы.
Слухи, заполнившие Кампанию, сплетались в легенды. Женщины рассказывали их, когда доили коров, старики спасались легендами от бессонницы, когда, сходясь вместе, думали вслух свои думы о скоте, погоде и смерти.
Вот что плели, скажем, о скотнике Насоне.
Раз заболели сразу все три вола в имении Статия близ Суэссулы. Животы у них раздулись, из носов потекло, глаза загноились, стали они слабы и пугливы, отказывались и от корма, и от питья. Казалось, на скотину навели порчу, а на самом деле виноват был управляющий имения, закупавший плохой корм и в недостаточном количестве. В самом имении осталось мало пастбищ, и корм приходилось прикупать на стороне, а управляющий откладывал денежки для себя, обрекая скотину на голод. Насон давно твердил, что от такой кормежки волы захворают, и умолял управляющего кормить их лучше, но получал за свою заботу одни пинки. Когда же волы всерьез заболели и не смогли больше работать, Насон принялся лечить их проверенными средствами: инжирное семя с кипарисовой зеленью и голубиные яйца внутрь, вино с чесночным соком в ноздри; он ставил им клизму с соленым медом, миррой и кровью улиток, пускал кровь из-под хвоста и бинтовал надрез папирусным волокном. Все Насон делал правильно.
А когда его заботы не помогли, воровство управляющего вылезло наружу. Тот, желая снять с себя вину, возвел на Насона напраслину: будто бы тот впустил в коровник свинью и курицу, чей помет попал в корм волов и стал причиной их болезни. Напрасно доказывал скотник Насон свою невиновность: его заковали в цепи, заклеймили каленым тавром и отправили на мельницу.
А работа на мельнице, как любому известно, — самое страшное наказание, хуже его только казнь, да еще ссылка в рудники и каменоломни. Несчастный, закованный в кандалы, бесконечно описывает круги вокруг жернова. Мало-помалу глаза его слепнут от пыли и пара, а на шею его надето железное ярмо, чтобы он не мог поднести руку ко рту и вытереть муку.
И ждала бы Насона скорая гибель, хотя повинен в падеже был управляющий, а вовсе не он, если бы не разбойники, напавшие как-то ночью на имение Статия и все там сокрушившие. Добрались они и до мельницы, чтобы унести все до одного мешки с мукой, и там услыхали про участь злосчастного скотника Насона.
Тогда человек в шкурах велел привести к нему управляющего имения и приковать его к жернову. Насона расковали и дали ему бич, чтобы он заставил своего обидчика бегать вокруг жернова, как раньше сам бегал, подгоняемый ударами. Уходя, гладиаторы предупредили управляющего, что вернутся и забьют его до смерти, если узнают, что он перестал крутить жернов. Но управляющий подвинулся умом и бегал кругами два дня и две ночи без остановок, пока на третье утро не упал и не испустил дух.
Кампанию заполонили слухи, страшные и трогательные. Нынче разбойники здесь, завтра уже там, они могут нагрянуть невесть откуда в любое мгновение. Путешественники пускались в путь только с вооруженной охраной, но случалось, что и охрана не спасала. Одна знатная дама, которой требовалось добраться до Солернума, выехала из Капуи через Альбанские ворота в окружении пятидесяти нубийских всадников и с пятью битком набитыми фургонами, а в Суэссулу прибыла одна-одинешенька, в телеге, запряженной мулами, и без единой нитки одежды на теле.
Или взять странный случай, происшедший в поместье вблизи Асерре. Рабы, работавшие там в поле, подвергались жестокому обращению; их сковывали по десять человек. Когда же на это поместье напали разбойники, рабы встали стеной, словно в землю вросли, готовые сопротивляться. Разбойники уже были готовы наброситься на них и перебить всех до одного, но фракиец остановил их звонким голосом, велев обождать, после чего произнес речь, всех несказанно удивившую.
— Истинно, — сказал он, обращаясь к рабам, — цепи наши должны быть очень дороги вашим сердцам и оказывать целебное действие на тела. Ибо ничего иного не вижу я в этом поместье, что вы могли бы назвать своим и защищать, не щадя жизней. Или меня обманули, и эта птица несет яйца вам на завтрак, коровы эти льнут к быкам, чтобы увеличить ваши стада, а пчелы летят в улья с нектаром, чтобы слаще были ваши пироги?
На это рабам нечего было ответить. Человек в шкурах приказал тому из разбойников, кто был большим мастером по замкам, расковать несчастных. Некоторые воспротивились этому, сказав, что если и получить свободу, то только из рук хозяина. Упрямцев пришлось убить, остальные ушли с разбойниками.
Много таких легенд облетело Кампанию, подобно жаркому ветру сирокко, дующему с моря и горячащему умы двуногих и четвероногих.
Смятение охватило хозяев и их управляющих, надсмотрщиков, счетоводов и десятников. Осторожность была удвоена, охрана утроена. Но простые рабы — пахари, полольщики, копатели, косари в полях, скотники, конюхи, пастухи и погонщики в хлевах и на пастбищах тут же обленились пуще прежнего, стали проявлять бунтарский дух, ломать свой инвентарь и заниматься членовредительством, симулировать недомогание, отлынивать от работы; все они словно ждали чего-то. Что ни утро, повсюду недосчитывались по несколько человек, как ни тяжелы были засовы, как ни высоки окна, до которых не мог дотянуться даже верзила, вставший на цыпочки. Беглецы присоединялись к разбойному войску; некоторые уводили и жен своих, и детей.
Вся Кампания теперь не находила себе места. Городки, защищаемые малочисленными и слабосильными гарнизонами, беспомощно наблюдали, как распространяется зараза, слали в Рим испуганные донесения и усиливали караулы на городских стенах. Знать, перебравшаяся было на время летнего зноя в кампанские особняки, заторопилась назад в Рим, чтобы жаловаться там в сенате, как недопустимо складываются дела.
Но у сената были заботы поважнее. Не давала покоя шествовавшая по Галлии армия Сертория. В случае победы Сертория Риму грозил переворот, победа римского полководца Помпея предвещала новую диктатуру. В Азии сидела вечная заноза — царь Митридат. Его победа означала утрату провинции, победа Рима привела бы к падению цены зерна. А тут еще пираты, властвующие на морях, народ и его трибуны, ударившиеся в неслыханную прежде демагогию; экономический упадок и необходимость чеканить плохую монету…
Так что нелады в Кампании казались мелочью, недостойной включения в список главных римских проблем.
III. Остров
Теперь разбойное полчище насчитывало более трехсот мужчин и тридцати женщин.
Головной отряд был весь посажен на коней, скарб тащили мулы, для сна имелись палатки, каждый второй был хорошо вооружен. И с каждым днем отряд увеличивался.
Приток новых людей вызывал разногласия. Гладиаторы были недоверчивы. Они бы предпочли действовать сами и сомневались, что рост численности пойдет во благо. Люди, примыкавшие к ним, приходили с дарами: кто с мешком муки, кто с ягненком, а кто и с парой коней. Те, кого отвергали, не уходили далеко, а ждали, пробавляясь принесенной провизией. Некоторых убивали, чтобы забрать принесенное. Но перебить всех уже не было возможности.
Нередко приходилось брести несколько дней и ночей, прежде чем появлялось пригодное для лагеря места. Гладиаторы проявляли осторожность и лукавство, спрашивая любого встречного, безопасна ли дорога и где в последний раз видели разбойников. Беглых рабов часто ловили и возвращали хозяевам, что грозило им смертью, а то и мучениями, в сравнении с которыми смерть предпочтительнее; однако массовые побеги было уже не остановить.
К гладиаторам прибивались батраки и пастухи, рабы и свободные люди. Погонщики скота из Гирпинии, нищие и разбойники из Самния, рабы греческого, азиатского, фракийского, галльского происхождения, военнопленные и родившиеся на каторге, умельцы и бездельники, не умеющие связать двух слов и болтуны-философы.
Секст Ливаний был жителем Капуи, потомком старого ремесленного рода; его дед, Квинт Ливаний, высекал статуи. Ремесло все сильнее ветвилось; отец Секста изготовлял уже только головы, а сам Секст вставлял им глаза: синие, зеленые, красные, желтые глаза из цветного камня. Человек он был здоровый, хоть и в летах, уважаемый соседями, противник любой смуты. Но в годы упадка и гражданской войны никто уже не хотел покупать статуи. Мастерскую пришлось закрыть, и Секст Ливаний примкнул к разбойникам.
Проктор батрачил в поместье среднего размера на юге Италии. Его хозяин изображал из себя римлянина прежних благословенных времен, дышащего луком и чесноком, рассудительного и справедливого. Со слугами он обращался, следуя вошедшим в поговорку словам Катона Старшего: рабы должны либо трудиться, либо спать. Он строго следовал закону, согласно которому плуг должен отдыхать по праздникам; а пока плуг отдыхал, он заставлял рабов чинить крыши сараев и выгребать навоз из свинарников — занятия, не оговоренные в законе. Так что Проктору пришлось в конце концов отрубить себе косой три пальца. Отпущенный за бесполезностью, он прибился к разбойникам.
Зосим был грамотеем и ритором. Начинал он как посыльный в городском совете, а потом уговорил начальника взять его учителем к детям, оброс связями и открыл собственную школу, где обучалось два десятка детей разного происхождения, родителям которых пришелся по душе учитель. Зосим недурно зарабатывал, но его сгубил успех: он вообразил себя оратором, закрыл школу, начал сочинять стихи, но славы на этом поприще не стяжал, стал голодать и счел за благо попроситься к разбойникам. Попав к ним, он первым делом разразился яркой речью, вызвав у слушателей хохот и желание хорошенько его отдубасить. Тем не менее прогонять его не стали: он мог объяснить то, что казалось им непонятным, и они полюбили его слушать.
Приходили к гладиаторам и женщины. У служанки Летиции лицо было из одних морщин, а груди, как пустые винные меха. Десятью годами раньше хозяин пообещал, что освободит ее от работы, если она родит трех сыновей. За эти годы Летиция произвела на свет десяток детей, из которых восемь оказались девочками и только двое — мальчиками. А теперь ее чрево сделалось бесплодным. Потому служанка Летиция и пришла к разбойникам.
Цинтия была колдуньей из горной деревни. Пятьдесят лет подряд она занималась самыми разными, но тесно связанными одно с другим делами, взимая за них твердую плату. За прием родов она брала два асса, за оплакивание умершего — четыре, за раскапывание могил — пять ассов, за угадывание будущего по требухе, полету птиц или форме молнии в небе — пять сестерциев. Она лечила недуги, торговала снадобьями и приворотными зельями по раз и навсегда установленным ценам: дешевле всего было воспрепятствовать беременности, дороже всего — вызвать выкидыш. Но однажды в деревню забрел лекарь-грек, последователь Эрисистрата, утверждавший, что кровь в сосудах течет вверх-вниз, и прочие чудеса. Клиентура Цинтии перетекла к греку, а сама она оказалась у разбойников.
Молодые женщины, прибивавшиеся к разбойникам, были шлюхами и брошенными невестами, распутницами и праведницами; большинство были уродливыми, меньшинство красавицами. Сначала мужчины ссорились из-за них и убивали друг друга, но постепенно их присутствие сделалось привычным; у каждой появился свой мужчина, у некоторых — по двое.
Поток беглецов не иссякал, стал обычным делом; по вечерам люди узнавали, сколько за день прибавилось новичков, и заключали пари, что назавтра объявится знахарь, чьи пациенты мерли, как мухи, или проститутка, поссорившаяся с хозяйкой, у которой снимала угол. На марше это была толпа, больше похожая на процессию в День Минервы, чем на отряд гладиаторов. Раньше им легко удавалось покрывать за день по тридцать миль, теперь же они едва преодолевали двенадцать.
Настало время разбить постоянный лагерь. Подходящее местечко нашлось к западу от Асерре: то был островок на болотах в долине Клания.
Островок был заброшенным клочком суши, окруженным с трех сторон камышом. Ночью над ним медленно всходила луна, исполосованная стеблями. Единственным звуком, нарушавшим ночную тишь, было лягушачье кваканье; иногда над густой желтой водой реки бесшумно скользила ночная птица. Ткань палаток впитывала тяжкое сырое дыхание болота, и на рассвете многие, завернувшись в одеяла, выползали наружу, чтобы урвать немного сна не в духоте. По утрам люди с трудом передвигали ноги, но на солнце пот, покрывший за ночь тела, быстро высыхал.
Многих била лихорадка. Ведьма Цинтия продавала недужным травы и горькие отвары. Все ее боялись, но никто не отказывался от ее услуг. Умерших сжигали на кострах, сложенных из сухого тростника.
Но по вечерам в лагере обязательно происходило что-нибудь любопытное.
Потянуло прохладой, над камышом повис рыжий туман. Утолив голод и жажду, люди сидели на берегу, свесив ноги в воду и наблюдая за плывущими по течению былинками. Некоторые удили рыбу. Здоровяки, служившие прежде в трактире Фанния, выстроились в две шеренги и соревновались в метании камней, соблюдая серьезность и строго следуя правилам ими же изобретенной игры.
Несколько молодых людей обоих полов внимали лютнистке, устроившись в тростнике. Она, откинув голову и зажмурив глаза с накрашенными веками, хрипло повторяла припев заунывной песни.
Желавшим уединиться попарно достаточно было зайти недалеко в камыш, чтобы шум лагеря превратился в плохо различимый шелест. Откуда-то раздавалось ржание пасущегося табуна.
Вокруг новичков, пришедших в лагерь за минувший день, собралось немало народу. В этот раз новичками оказались старик с негнущейся ногой и молодой парень с сильной шеей и глазами навыкате. Старик был сдержан и неразговорчив, парень слишком напуган, чтобы произнести хоть слово. Сломать лед никак не удавалось, пришлось кликнуть Каста. Вертлявый Каст явился на зов со стайкой прихлебателей. Эту компанию, окрещенную «гиенами», все побаивались, и не зря.
— Они пришли из виноградников под Себетом, — сообщил кто-то. — Убежали, не выдержав скудной кормежки. За помол зерна для каши с них же требовали платы.
— Вдруг это вранье? — пролязгал Каст. — Вдруг они решили, что здесь их станут кормить за красивые глаза? Только лишних ртов нам не хватало!
Старик ничего не сказал, парень не сводил с Каста испуганный взгляд. У него были толстые мокрые губы и маленькие серьги в обоих ушах. Зрители уже посмеивались, предвкушая развлечение.
— Зачем пожаловали? — обратился Каст к старику. — Наверняка вбили себе в головы, что мы воруем овец, насилуем девушек, вообще безобразничаем почем зря. Кстати, как тебя звать?
— Вибий, — сказал старик. — А это мой сын.
— А твое имя? — спросил Каст у парня.
— Вибий, — ответил тот негромко и от смущения стал теребить серьгу.
Раздался дружный смех. Каст смеялся со всеми; у него был красивый девичий рот, облезлый нос, белая незагорелая полоска кожи под ожерельем на шее.
— Вибий, — повторил он. — Просто и без затей, в честь папаши. То ли дело я: разрешите представиться, Каст Ретиарий Тирон.
Это заявление не могло не произвести впечатления. Парень смотрел на него восхищенно.
— Обычное дело, — продолжал Каст. — У всякого знатного человека по три имени.
— Так ты знатен? — пролепетал парень под гогот зрителей.
— Бывшие гладиаторы — это здешняя аристократия, — объяснил Каст. — Ну, а новички, вроде вас, — презренная чернь.
— Ты тоже гладиатор? — осведомился парень почтительно.
— А как же!
Вибий Младший поразмыслил, пожевал губами.
— Тот человек в звериной шкуре — тоже из аристократов?
— Конечно, Вибий, — ответил Каст, — ведь все гладиаторы — люди знатные, отпрыски крупных вельмож. Спартак — так зовут молодца в шкурах — потомок фракийского княжеского рода.
Зеваки покатились со смеху.
Мимо семенил Зосим, наставник и ритор.
— Правду я говорю, Зосим? — крикнул ему Каст.
— Все, что может быть облачено в слова, — правда, — откликнулся Зосим, взявший за правило не перечить Касту и его приспешникам. — Ведь все, что можно выразить словами, возможно, а возможное в один прекрасный день способно осуществиться.
— Выходит, корова может взять и произвести на свет поросят? — осведомился какой-то шутник под общий хохот.
— Присядь с нами и расскажи что-нибудь занятное, — попросил Зосима Гермий, луканский пастух с лошадиными зубами.
— Лучше я постою, — возразил Зосим. — Прямая спина — разве не благородно звучит?
— Рассказывай! — потребовал пастух, зная, что отказа не будет.
— Ну, так слушайте, — начал Зосим. — Сто лет назад у греков была республика. Прежде чем приступить к своим обязанностям, их консул должен был произнести такую клятву: «Я буду врагом народа и буду всячески пытаться ему навредить».
— Что же отвечали остальные? — спросил Каст.
— Остальные? Народ, хочешь ты сказать? То же самое, что слышно от него сейчас — ибо вы заметили, наверное, что у нас нынче дела обстоят точно так же, разве что наши сенаторы не дают больше такой клятвы во всеуслышанье.
Зеваки притихли. Рассказ их разочаровал.
— Ну да, так оно и есть, — согласился пастух Гермий не очень уверенно. — Было и есть. — Он вздохнул, для чего обнажил большие зубы.
— Зосим, — произнес Каст, — ты нас заморил. Раз не можешь придумать ничего веселее, ступай, куда шел.
— Придется повиноваться, — был ответ. — Господин отсылает меня в наказание за бунтарские взгляды. Честно говоря, я рассчитывал на большее понимание. Не скрою, ты меня расстроил, Каст.
На треугольной опушке были вырыты круглые ямы, в которых разводили дымные костры, чтобы отгонять комаров. У каждой группы был собственный костер, всегда зажигавшийся в одном и том же месте, была и собственная история.
Свой костер был у женщин, свой у бывших слуг злосчастного Фанния, был костер кельтов, костер фракийцев. Кельты и фракийцы были наиболее многочисленны и презирали друг друга. Вожаком кельтов, к которым относился и вертлявый Каст со своими «гиенами», был Крикс. У фракийцев вожаком был Спартак.
Кельты были угрюмы и вспыльчивы; почти все они родились в римском рабстве и о родине знали только понаслышке. Отцы большинства из них были слугами, матери проститутками. Они цветисто клялись, еще цветистее бранились и кидались драться по малейшему поводу; выжившие рыдали, заключив друг друга в объятия.
В отличие от них, фракийцы попали в Италию всего несколько лет назад, захваченные в плен во время кампании Аппия Клавдия. Мрачные и крепко сбитые, с маленькими синими татуировками на лбу и на плечах, они были очень задумчивы, много пили, но не делались во хмелю шумными и драчливыми. Раздобытый неизвестно где огромный рог чинно передавали у их костра из рук в руки; если кто-нибудь позволял себе повысить голос, на него взирали с удивлением и не проявляли интереса к его речам. В их компании из двадцати человек никогда не возникало раздоров, что делало их похожими на слуг из трактира Фанния, с которыми их уже связывала крепкая, хоть и молчаливая дружба. Подобно тому, как ходил у них по рукам рог с вином, ходили по рукам и три женщины. Для них это было привычным делом, ибо женщин в горах всегда недостает.
У них сохранились туманные, похожие на сны воспоминания о родных горах, о тучных стадах, о палатках из черных козьих шкур, о засухе, смертельной и для людей, и для зверей, о неизбывной нужде и о вечной распре между племенами из соседствующих долин: бастарнами, трибаллами и певкинами. Жизнь в горах была трудной. Далеко внизу лежали большие города: Узедома и Томой, Коллатис и Одесс, роскошные и жирующие; над ними, в горах, царствовала бедность, там паслись стада и жили древние обряды. При рождении ребенка поднимался горестный вой, ибо жизнь принесет новорожденному одни страдания; смерть же встречалась радостно, ведь умершего ждет красочное царство безвременья. Были у них и праздники: раз в год из леса появлялись Бромий Гуляка и Бахус Зовущий, для встречи которых объединялись мужчины и женщины. А еще приходилось умиротворять грозного Ареса, как ни обременительно плясать для его услады нагишом, извиваясь, ярко раскрасив лица и тела. Трудна была жизнь в горах: вечно голодные стада, не ведающие иных забот, кроме еды. Но при том в горах было хорошо, жизнь там оставалась правильной, пока в леса не вломились римляне, трубя в трубы, голося и охотясь на двуногую дичь. Натыкаясь на этих безволосых крикунов, горцы убивали их и забирались все выше в скалы; но римляне не прекращали погони. Так продолжалось много лет, пока не были пленены пастухи и их стада, много тысяч людей и еще больше овец.
Только тогда они узнали, что преступили закон и подлежат кто продаже, кто осуждению, ибо в Апулианском законе четко обозначены их преступления: деяния, направленные против безопасности и величия Римской республики.
Такими были фракийцы — люди смирные и мрачноватые, числом в два десятка. Человек, не снимавший звериных шкур, был одним из них и одновременно особенным: он дольше прожил в Италии, лучше понимал здешний язык и правила; и никто не знал толком, что у него на уме.
На двенадцатый день после того, как был разбит лагерь на болоте, и на двадцатый после бегства из Капуи на дороге из Суэсуллы в Нолу был перехвачен конный гонец. Он оказался городским рабом из Капуи, которому было поручено передать послание в совет Нолы.
Каст и его приятели отправились со скуки на прогулку и остановили гонца из чистого озорства, а также потому, что им приглянулась его лошадь. Но гонец с испугу наболтал такого, что его стали расспрашивать, заподозрив в недобрых намерениях. У Каста с приятелями были свои методы дознания, так что не прошло и четверти часа, а они уже все выведали. Сущность послания заключалась в том, что три тысячи отборных наемников под командованием претора Клодия Глабера выступят в ближайшие дни из Рима в Кампанию, чтобы покончить с царящим там разбоем. Совету Нолы надлежало обеспечить войску жилье и собрать надежные сведения о численности разбойников и их местонахождении.
Каст и его присные повесили труп посланца на суку у дороги, оставив на нем приветственное письмо, адресованное претору Клодию Глаберу, и молча поскакали назад в лагерь.
Там все было, как обычно. «Гиен» тотчас окружили и стали выведывать, чем им удалось поживиться. Те отвечали, что прогулка оказалась бесплодной. Каст приказал своим людям держать язык за зубами, и приказание было выполнено.
Каст сам отправился в палатку Крикса. Тот сидел на подстилке и возился со своей обувью, пострадавшей от сырости. На вошедшего Каста он даже не взглянул.
— Началось, — сказал ему Каст. — Из Рима выступают три тысячи солдат. Мы задержали гонца.
Тогда позвали человека в шкурах и еще нескольких главных гладиаторов. В палатке Каста стало душно. Разговор вышел долгим. Каст предложил разбежаться: пусть, мол, каждый ищет удачи сам по себе. Остальным это предложение не понравилось, и они принялись спорить, обильно потея. Привлеченные возбужденными голосами, люди собрались вокруг палатки Крикса, не осмеливаясь туда заглянуть. Крикс хмуро смотрел перед собой, вытирал пот со лба и помалкивал. Человек в шкурах тоже молчал, разглядывая всех говорящих одного за другим, словно впервые в жизни их видел. И те по очереди обращались к нему.
Когда, наконец, все устали говорить, он поведал им о высокой горе недалеко от морского берега, называемой Везувий, до которой рукой подать. Люди, пришедшие в лагерь из тех мест, в один голос утверждают, что подземный огонь выжег в той горе дыру; еще до того, как на земле появились люди, все горы были такими раскаленными, что сквозь них можно было смотреть, а звери, видевшие это чудо, слепли от сияния. Но тот адский огонь давным-давно потух, вот только у этой горы вместо вершины теперь провал-воронка глубиной в добрую милю и шириной в два амфитеатра…
Гладиаторы никак не могли сообразить, куда он клонит, хоть и слушали, разинув рты. Он сидел, опустив плечи и подпирая кулаком скуластую щеку, словно плел байки дровосекам, собравшимся вечером у костра.
А подножие у горы, продолжал он, лесистое, там же хорошие виноградники и города Помпеи, Геркуланум и Оплонтий. Сама же гора голая и крутая, с острыми скалами. Говорят, несколько лет назад на дне дыры прятались воры, которых так и не смогли поймать, потому что к краю кратера ведет через скалы единственная тропа, которую легко оборонять.
Постепенно до гладиаторов дошло, на что он намекает; предложение поселиться внутри пустой горы показалась им сначала забавным, потом привлекательным. Они одобрили услышанное радостными криками и смехом. Любителя шкур хвалили за то, что в его голове всегда заводятся удачные мысли, а он по-прежнему сидел, упираюсь локтями в колени, и переводил задумчивый взгляд с одного на другого. Толпа снаружи, недавно волновавшаяся, тоже успокоилась; вскоре по лагерю разнеслась весть, что они покидают остров, где их косит лихорадка, чтобы переселиться на гору, вернее, в крепость во чреве горы.
В ту ночь на острове пели и танцевали, бурдюки с вином были осушены, а люди не сидели у своих костров, а наносили визиты компаниям у других костров, где их радушно встречали.
Утром разбойники свернули палатки и вместе с конным авангардом, вьючной скотиной, подводами и обозом из женщин и детей устремились к горе Везувий.
Теперь мужчин было больше пятисот, а женщин под сотню.
IV. Кратер
Претор Клодий Глабер неуклюже повернулся в седле и приказал своим солдатам запевать. Солдаты запели. Голоса захрипели из облака пыли, окутывавшего их вот уже не первый час, не первую милю; не очень-то приятный звук. Походная песня представляла собой частушки насчет лучезарной лысины претора, день и ночь освещающей его верной рати путь. Тексту недоставало глубины, но ведь любому настоящему полководцу и любой настоящей армии не обойтись без собственной шуточной песни. Разве он не настоящий полководец, разве армия у него не настоящая? Горе тому, кто в этом усомнится! Конечно, их ждет сражение не с царем Митридатом и не с Боиориксом, вождем кимбров. Он мог бы рассчитывать на силу погрознее, раз уж дожидался целых пятнадцать лет, пока ему доверят командование.
О, как нетерпеливо он ждал своего часа! Печальное ожидание для честного сердца Клодия Глабера; что делать, раз путь к славе вымощен уже не геройскими деяниями, а взятками и интригами, а на придорожных кустах развеваются, как флаги, женские юбки! Его современники оказывались на самых лакомых местах одним могучим прыжком, перескакивая сразу через несколько этапов, он же, простофиля, трудился и переползал, как червь, от одной должности к другой, ни одной не минуя: сначала армейская служба, потом он квестор, претор; эдилом — и тем пришлось побывать, хотя, казалось бы, это уж совсем лишнее. И все это при том, что отец его побывал консулом, а самому Клодию Глаберу с самого начала как будто пророчили яркую карьеру…
Почему чертовы солдаты так лениво дерут глотки? Вдали уже показался некрополь Капуи, народ Кампании ждет его, своего спасителя. А что за торжественное вступление в город, если не под радостную песню? Он грозно оглянулся, и солдаты с новой силой грянули гимн его лысине.
Взять для примера Марка Красса. Вот уж кто не покрыл себя ратной славой, однако заставил склониться перед Суллой несколько десятков противников диктатуры и прикарманил их имения, заложив основы головокружительного богатства. Теперь половина сената ходит у него в должниках, самые важные люди в государстве пляшут под его дудку. Стал туг на ухо, подслеповат и жирен — где ему заметить и вспомнить Клодия Глабера, соратника юных дней! Недавно его уличили в распущенности, то есть поймали с весталкой, но тут же было неопровержимо доказано, что его ночные отлучки к деве были всего-навсего переговорами по поводу продажи ее загородной виллы; весь Рим потешался над этой историей.
Претор повеселел. Скоро он въедет в Капую этаким спасителем Кампании верхом на стройном иноходце. Лихая песня — вот чего недостает для торжественного вступления в город! Он оборачивается и улыбается, в третий раз заставляя солдат затягивать постылый гимн. Претору это в радость, он похлопывает ладонью коня.
А толстяк Помпей? Многие видят в нем следующего диктатора. Его покойный папаша был косоглаз и погиб от удара молнии — что за недостойная смерть для аристократа! Самого юного Помпея на самой заре его карьеры привлекали к суду за похищение птичьих силков и книг — части добычи, захваченной в Аскулуме. Силки и книги! Но пока тянулся суд, он породнился с уродливой дочкой председателя и был, разумеется, оправдан. При оглашении приговора публика орала: «Поздравления молодоженам!» вместо: «Слава невиновному!» Вскоре после этого молодец развелся и женился на приемной дочери диктатора Суллы, уже родившей ребенка неизвестно от кого. Вернувшись из Африки, он валялся у тестя в ногах, чтобы тот предоставил ему право на триумф. Добившись своего, он запряг в колесницу четырех слонов, но триумфальная арка оказалась маловата для слонов, пришлось их выпрячь. Все видели, как Помпей истерически рыдал, а поди ж ты — обожают его, несмотря на этот позор и на все остальное.
Народ… Если бы народ знал о своих «героях» то, что знает о них он, Клодий Глабер, то пришлось бы искать этих героев днем с огнем. Разве не вырос он среди них, разве не был достойнейшим из всех — а что толку? Все они его обскакали: Лукулл того и гляди разобьет Митридата и потопит свою славу в безумном разгуле; Помпей командует легионами в Испании и называет себя «Помпеем Великим»; Марк Красс сидит дома, не дотрагиваясь до меча, но перед ним все ходят как шелковые; даже недомерок Цезарь, исполнивший свою посольскую миссию в постели царя Вифинии и рассмешивший этим весь Рим, — даже тот находится на пути к славе, помогая себе красноречием. А что получил он, Клодий Глабер, за сорок лет беспорочной службы? В награду за все труды он отправлен на усмирение шайки разбойников и цирковых шутов во главе этого смехотворного сброда — спешно собранных рекрутов и ветеранов, даже песню толком не способных исполнить!
— Запевай! — рычит претор, багровый от злости, на свою усталую, охрипшую рать. До городских ворот остаются считанные шаги, скоро их встретит с распростертыми объятиями городской совет Капуи. Песню!
«Гимн лысине» возносится к небесам, преторский конь вытанцовывает то ли от радости, то ли с испугу. Клодий Глабер со слезами ярости на глазах внимает немного удивленному и сдержанному приветствию старейшины городского совета.
Шел десятый день осады.
Претору Клодию Глаберу мнилось, что он спит и видит дурной сон. Ни разу еще во всей истории Рима не бывало такой дурацкой осады. Ведь они окружили не город, а гору, и даже не саму гору, а дыру в горе, к которой вела одна-единственная проходимая тропа. Осаждающие не могли по ней подняться, осажденные не надеялись спуститься. Тропа была очень узкая и такая крутая, что вьючный мул мог бы по ней вскарабкаться, только если его тянуть спереди и подталкивать сзади. Раз так, зачем нужен мул?
Ежедневно Клодий Глабер получал по несколько бурдюков вина, каковые осушал в компании своих офицеров; все это были ветераны, скрученные ревматизмом, но не стесняющиеся воинственных кличей. Но лучше так, чем пьянствовать в одиночку.
Лагерь претора был разбит, не столько из любви к изяществу, сколько из практических соображений, в лощине в форме полумесяца, прозванной местными жителями «адской преисподней». Пришлось поломать голову, чтобы защититься от копий и камней, которыми осажденные забрасывали их сверху. Расстояние было слишком велико, чтобы метательные снаряды представляли серьезную опасность, однако палатки были разбиты либо под скалами, либо в специально отрытых рвах. К унынию Клодия Глабера, поклонника красоты и симметрии, классическими правилами устройства военного лагеря пришлось в этот раз пренебречь.
Лощина пролегла по одну стороны от вершины Везувия, отделяя ее от горы Соммы. Другая сторона Везувия, обращенная к морю, представляла собой колоссальную отвесную скалу, под которой рос лес. О бегстве разбойники не могли и помыслить: спасительная тропа пересекала лощину, где встал лагерем Клодий Глабер.
В первый и во второй день солдаты неоднократно пытались штурмовать край кратера. Попытки, разумеется, были заранее обречены на провал. Там, наверху, достаточно было поставить одного-единственного человека — и он мог голыми руками удерживать оборону; к тому же единоборство с гладиаторами всех пугало. Но войску следовало отдать должное: два десятка человек бросались на штурм и полтора уже поплатились за это жизнями, а пятеро были захвачены живыми и через некоторое время сброшены мертвыми вниз. Это, конечно, не обнадежило остальных, и претор понимал, что не может их за это винить.
Отчасти неудачи первых дней были вызваны попытками солдат карабкаться по голым скалам. Одни упали сами, так как были несильны в скалолазаньи, другие оказались легкими мишенями для гладиаторов с копьями и камнями, третьи спустились несолоно хлебавши.
И вот теперь стало понятно, что единственный выход — как говорится, задушить осажденных костлявой рукой голода и тем самым заставить выбраться из норы. Считалось, что их там засело человек пятьсот-шестьсот; даже если у них были кони и мулы — а то, что они у них были, подтверждали звуки, доносившиеся тихими ночами из чрева горы, — и если эта скотина будет зарезана и съедена, прежде чем сама околеет с голодухи, то и в этом случае воды в кратере хватит от силы еще на несколько дней. Так что либо сдача, либо смерть от жажды — других результатов ожидать не приходилось, так как дожди в это время года не выпадают никогда.
Все взвесив, претор решил не идти больше на ненужные жертвы и стал выжидать.
Третий день прошел мирно. Вид из лощины открывался захватывающий: тенистые каштаны и стройные сосны, словно нарисованные на плавно сбегающих вниз склонах. Солдаты расслаблено бродили среди деревьев и довольно бормотали себе под нос гимн лысине великодушного претора. Разбойники не показывались — забились, небось, со страху на самое дно своей каменной норы; впрочем, изредка на краю кратера появлялись крохотные фигурки их часовых.
Четвертый день получился похожим на третий. По подсчетам Глабера, не позднее чем назавтра у разбойников должна была иссякнуть питьевая вода. Он уже сочинял мысленно победное донесение в Рим — простое и короткое, по образцу, заданному славным Суллой: «Триста разбойников казнены, двести захвачены живыми. Потери: один римлянин». В действительности потери среди своих достигнут полусотни, но об этом можно и умолчать — не поступал ли так сам Сулла в отношении сотен тысяч погибших?
В первый день стояла страшная жара. Люди претора потребляли чудовищное количество воды и вина, подстегиваемые мыслью о подыхающих от жажды разбойниках. При появлении вверху, на краю кратера, кукольных фигурок часовых и дозорных солдаты нарочно лили вино на землю, хотя трудно было ручаться, что там, наверху, поймут смысл их действий.
Но, видимо, жажда не притупляет сообразительность: уже следующей ночью появились первые дезертиры, две женщины и мужчина, наполовину слезшие, наполовину скатившиеся вниз по скале. Лагеря они достигли еще живыми, с распухшими языками, судорожно сглатывающими вязкую слюну. Солдаты дали им напиться, после чего распяли на грубо сколоченных перекладинах таким образом, чтобы их было хорошо видно сверху. Дезертиры не просили пощады, только к утру взмолились о питье. Солдаты сунули им мокрые губки и оставили висеть.
Шестой день был отмечен мертвой тишиной там, наверху. Часовые и дозорные больше не показывались. Устав ждать, претор вызвал добровольцев и послал их наверх по тропе с заданием обсудить условия сдачи. Но, несмотря на сигналы, обозначавшие перемирие, все пятеро добровольцев были убиты. Претор решил подождать еще: пять лишних трупов еще можно было утаить, не испортив победного донесения.
В эту ночь из кратера пожаловали еще пятьдесят отчаявшихся мужчин и две женщины. Они стискивали зубами кинжалы и не разжимали ртов даже при падении, так что лагеря достигли с изрезанными лицами. Все они были убиты, но несколько солдат претора получили кинжальные ранения, от которых двое скончались.
На седьмой день разразилась катастрофа.
Сперва она имела вид темного пятнышка в небе со стороны моря. Пятнышко быстро увеличивалось в размерах и превратилось в огромную тучу. Некоторое время было трудно понять, куда ее отнесет. Из кратера Везувия донесся рев: разбойники молили богов пролить на них дождь. Потом солнце вмиг померкло, и на край кратера высыпали человеческие фигурки: размахивая руками, они показывали туче, куда лететь. Стоя с задранной головой, Клодий Глабер тоже, к собственному изумлению, мечтал о дожде, хотя дождь, конечно, стал бы концом его политической карьеры. Солдаты тем временем заключали пари: три против одного, что дождя не будет. Но туча все наползала, нависая над лощиной, как огромное брюхо беременной, окутывая лес рваными фалдами тумана. Потом вершина горы оказалась проглоченной, и вниз хлынули потоки воды.
Солдаты смеялись, закрывали головы капюшонами и шлемами, ловили дождь ртами и орали вразнобой полюбившийся уже гимн ненаглядной преторской плеши, омываемой ливнем. Один из троих распятых дезертиров, доживший до этой благодатной минуты, но перед тем бесчувственный, вздрогнул и попытался поднять голову, чтобы направить распухшим языком себе в рот хотя бы каплю-другую влаги. Солдаты на радостях устроили пляску среди луж, потом сняли дезертира с перекладины и лили ему в рот вино до тех пор, пока не обнаружили, что он мертв. Дождь постепенно ослаб, потом прекратился. И тотчас выглянуло солнце.
Претор знал, что противник запасся водой как минимум на три дня, так что ему опять придется выжидать. Выжидать, пока там, в норе, языки снова не станут раздуваться от жажды, пока самые нетерпеливые снова не ринутся вниз по склону, чтобы выпить воды и умереть. Кошмар!
Немолодой низкорослый претор напился допьяна и стал молить позабытых богов своего детства поберечь дождь, не затягивать до бесконечности и не превращать в посмешище победную кампанию, которой он дожидался полтора десятка лет.
Так прошел восьмой день, и девятый, и десятый.
На десятый день старый Вибий коротал время на краю кратера в обществе пастуха Гермия. Негнущаяся нога старика торчала над пропастью, как флагшток.
— Вон там Виа Попилия, — говорил пастух. — Если приглядишься, то увидишь акведук за Капуей, спускающийся с горы Тифата. — Он говорил медленно, трогая языком раздувшиеся за последние дни, начавшие кровоточить десны.
— Ничего не вижу, — отвечал старый Вибий. — Слишком далеко.
Оба умолкли. Искривленный горизонт за их спинами сиял морской голубизной. Пастух вытянул шею, пытаясь разглядеть внизу палатки претора, белеющие в изогнутой лощине.
— Тишина, — сказал он, помолчал, обнажил десны в неуместной ухмылке. — Небось, обедают.
— Рановато для обеда, — возразил старик.
Гермий сам был не рад, что заговорил о еде. Он глупо улыбался. Не хочешь, а заговоришь, словно от болтовни что-то изменится. Как будто мало им болтовни там, на дне кратера, — и так вянут уши! И для того ли они сбежали, залезли на такую высоту, чтобы и здесь препираться? Когда все это кончится? И чем?
— До чего мы дойдем? — спросил Гермий, хотя секунду назад не собирался облекать свои мысли в слова.
— Лучше уж так, — туманно ответил старик.
Ему виднее, подумал пастух, он много жил и много видел, он как старое трухлявое дерево: кажется, стоит отрубить ему руку — и на землю посыплются древоточцы.
Но старик помалкивал. Он жмурился, потому что ему нравилось пропускать солнечный свет сквозь морщинистые веки.
— Думаешь, из этой затеи с веревкой выйдет толк? — спросил пастух.
— Возможно, — ответил старик.
— А я сомневаюсь, — сказал пастух.
Оба помолчали.
— А вот и Эномай, — сказал Гермий. — Рады тебя видеть!
Молодой фракиец присел с ними рядом.
— Как дела? — обратился к нему старик.
Эномай пожал плечами, разглядывая пейзаж. Равнина Кампании тянулась вдаль, насколько хватало глаз. Тучные плодородные земли, нарезанные ножами рек на ломти, сеть дорог, вьющихся во все стороны по изумрудным пастбищам, пропитанные сладкими соками сады. Сам воздух, разлившийся над долиной, нес жизнь.
Но пастуха мучили мысли о смерти.
— Не могу смотреть на лошадей, — простонал он. — Это скелеты, обтянутые шкурой. — И он показал зубы.
— Ты сам похож на лошадь, — добродушно пробурчал старик.
— Пастухи и скотина понимают друг друга, — подхватил Гермий. — К примеру, прошлой ночью я почувствовал в ухе что-то теплое, все равно, что жаркий ветер. Что это, по-вашему, было? Просыпаюсь и вижу: стоит надо мной мул, храпит и лижет мне голову. Хотел спросить, должно быть, почему ему негде попастись.
— Как же ты ему объяснил положение? — поинтересовался Эномай.
— Никак. Отогнал и снова завалился спать. — Он потрогал кончиком языка десны и поморщился. — Нам тоже негде пастись. Почему, хотел бы я знать? Нет ответа.
Старый Вибий молча щурился на солнце. Потом внезапно заговорил:
— А вот у меня есть ответ. Как-то раз я видел на ярмарке акробата — грязного, оборванного, но страсть до чего ловкого. Он мог зажать себе коленями голову и помочиться сверху себе на лицо. Вот и людские законы и порядки такие же.
Пастух озадаченно показал зубы.
— Это как?
Старик не соизволил ответить.
К ним приближался ритор Зосим. Его длинный острый нос еще сильнее заострился, но складки тоги были, как всегда, безупречно аккуратны. Он опустился на камень, подобный большой тощей птице.
— Снова споры, — сообщил он.
Гермий неодобрительно покачал головой, остальные двое никак не прореагировали.
— И снова из-за воды, — продолжил Зосим. — Теперь у фракийцев свой сосуд, у кельтов свой, есть и третий — для всех остальных. Только кельтский сосуд почти пуст, потому что они не умеют сдерживаться. Вот и требуют поделить всю оставшуюся воду на всех.
— Всегда они так, — проворчал пастух, недолюбливавший Каста, Крикса и остальных галлов.
— Спартак не возражает пойти им навстречу, но его же фракийцы резко против.
— Правильно делают, — одобрил пастух.
— Разве можно допустить, чтобы люди умерли от жажды? — спросил Эномай.
— В том-то и дело! — подхватил Зосим. — Закон должен отступать перед необходимостью. Увы, так происходит нечасто.
— До чего же они там договорились? — спросил пастух.
— Устроить один резервуар на всех и строго следить за пьющими, — ответил Зосим. — Одна кружка в день на каждого. Охранять воду будут слуги Фанния.
Трое слушателей не торопились высказывать свое мнение. Они думали об одном и том же и знали мысли друг друга. «Что за глупость! — думали они. — Что может быть проще, чем мирно спуститься с горы? Очень может статься, что претор гораздо милостивее, чем мы про него решили: все-таки образованный человек, лысый к тому же… „Пожалуйста, дайте нам напиться, — скажут они ему попросту, дружески. — И вернемся к прежней жизни, каждый на свое прежнее место. Там всем было не так уж плохо“». Солдаты сжалятся над ними, принесут прохладного вина, хлеба, свинины и кукурузной каши. Все будут счастливы, что недоразумения преодолены, что мучения позади.
— Ох! — не выдержал пастух и сглотнул. Он ломал голову над тем, что только что услышал. — Делить воду на три части было глупо. Раньше, когда все было хорошо, никто не вспоминал, кто ты — галл или фракиец.
— У каждого народа свой нрав, — возразил ритор. — Кельты отважны, но заносчивы, вспыльчивы, непокорны. Фракийцы великодушны, синеглазы, рыжеволосы. И делят своих женщин между собой.
— Одно дело книжки, другое — жизнь, — молвил старик Вибий. — Голодный фракиец под стать кельту, подыхающему от жажды.
Четверка молча посмотрела с горы вниз. Из лагеря претора к ним поднимался высокомерный белый дым. Там уже принялись готовить обед. По всей кампанской равнине, от Волтурна до гор Соррентума, крестьяне, пастухи, батраки и рабы усаживались за полуденную трапезу: кукурузная каша, салат, копченая свинина, вареная репа.
— Из Спартака получился бы великий полководец, — проговорил ритор. — Окажись он на месте Ганнибала, Рим не устоял бы.
— Ганнибал… — протянул пастух. — Я слыхал, что он привязывал к рогам коров солому, поджигал ее и гнал коров на римский лагерь. А римляне тушили огонь и наедались говядины. — Он через силу улыбнулся.
— Не болтай глупости, — отмахнулся Зосим.
— Ты знаешь историю наизусть, а я ее познал, можно сказать, брюхом, — высказался пастух. Он почему-то воспрянул духом и желтел своими здоровенными зубами, сверкая глазами.
— Он что, взаправду был князем? — спросил он поспешно и как-то рассеянно.
— Кто, Ганнибал? — спросил Зосим.
— Я о Спартаке.
— Этого никто точно не знает, — сказал Зосим. — Разве что ты, — обратился он к Эномаю.
Эномай ответил не сразу, потому что был погружен в собственные мысли. У него был высокий лоб, где напрягся под тонкой кожей синий желвак.
— Я тоже не знаю, — ответил он.
— Был бы он князем, — крикнул Гермий, — ел бы дроздов! Все князья едят дроздов! — Он повторил свое странное заявление несколько раз, и глаза его наполнились слезами.
— Вот обжора! — сконфуженно откликнулся Зосим. Сам он всегда находил способы подкрепиться сверх общего скудного рациона.
— Ничего, все равно я его люблю, — сказал успокоившийся пастух. — А люблю я его потому, что никто из нас не знает, зачем нам все это, один он знает.
— Что он знает? — оживился Зосим.
Пастух сперва молчал, а потом опять завелся:
— У него всегда пухнет от мыслей голова. Взять хоть эту его новую идею — веревки.
— Сумасшествие! — отрезал Зосим. — Уверен, что из этого ничего не выйдет.
— Я тоже сомневаюсь, — признался пастух. — Но хорошо то, что у него заводятся хоть какие-то мысли…
И снова четверка стала молча наблюдать, что происходит внизу. Клубы пыли, появлявшиеся то здесь то там на дорогах, означали, что едет упряжка или всадник; там внизу, люди разъезжали, как хотели, не ведая преград.
Сзади, из кратера, раздался шорох и стук падающих вниз камней. Любопытный Зосим оглянулся.
— Это твой сын, — сказал он старику. — Весь мокрый от усердия. Небось, его распирают новости.
Вибий-младший с трудом перевел дух; его пухлые губы пересохли и растрескались, глаза стали еще более вылупленными, чем обычно.
— Спускайтесь! — крикнул он. — Все должны помогать вязать веревки. Вечером начнется забава.
— Какая еще забава? — спросил пастух, вскидывая голову.
— Спускайтесь, вам говорят! — опять крикнул юный Вибий. — Все должны рвать свою одежду, чтобы получилось больше веревок. Такое принято решение. Всем вниз!
Пастух встал и замахнулся в пустоту посохом.
— Вот видишь! — сказал он Зосиму с упреком и стал проворно спускаться вниз.
— Безумная затея! — проворчал ритор, резво вскакивая. — Где это слыхано — спускаться с горы по веревкам?
Посыпавшиеся вниз камешки заглушили слова. Старик поднялся последним, бросил взгляд на лагерь претора Клодия Глабера, сплюнул вниз и сказал:
— Надеюсь, вы славно наедитесь.
— Ты так сильно их ненавидишь? — спросил его Эномай по пути в жерло.
— Иногда, — был ответ. — А вот они ненавидят нас всегда. В этом их преимущество.
Армия претора Клодия Глабера была разгромлена в ночь после десятого дня осады горы.
Гора нависала над римским лагерем крутой, но не совсем уж неприступной скалой. Дезертиры неоднократно предпринимали попытки по ней спуститься; часть склона они преодолевали кувырком, но все же достигали лагеря живыми и гибли уже внизу, от рук солдат. Предусмотрительный претор, памятуя об этом, выставил часовых по всему изгибающемуся, как серп, внутреннему краю лощины, именуемой «адская преисподняя».
С другой стороны, обращенной к морю, гора представляла собой почти вертикальную стену, под которой стоял лес. Здесь разбойников стерегла сама Природа, облегчая Клодию Глаберу задачу. Здесь гладиаторы и решили спуститься по одному на веревках, выждав два часа после заката, чтобы обогнуть гору и напасть со спины на ничего не подозревающего претора.
Спуск занял часа три и происходил почти бесшумно. С горы свесились две самодельные веревки и одна веревочная лестница, ступеньками в которой служили ветви дикого винограда — единственной растительности, осмелившейся произрастать внутри кратера. По ней спускали оружие и наименее проворных. Луна — и та помогла своим светом успеху предприятия.
Первыми спустились гладиаторы, за ними — слуги Фанния, потом наемники из роты Мамия, дальше — остальные мужчины, способные пользоваться оружием. Достигшие ровной поверхности ложились в траву и ждали. Некоторые тихонько переговаривались.
После полуночи одна из веревок лопнула, двое упали вниз и переломали кости. Но и они старались не стонать, чтобы не подвести остальных. Помочь им было невозможно, пришлось убить; они умерли беззвучно.
На пятый час после заката двести человек, вооруженных до зубов, и еще сотня с дубинками, топорами и кое-чем, заимствованным у гладиаторов, собрались у подножия скалы. Спустились и несколько женщин, пожелавших увидеть все собственными глазами. Все остальные, в том числе старики и скотина, остались в кратере.
Отряд двинулся вперед. Предстояло обойти гору с юга, по опушке леса. Шли целый час, стараясь ступать бесшумно; проводниками были кампанские пастухи, знающие горные тропы.
Дойдя до южной оконечности изогнутой лощины, прозванной «адской преисподней», они убили первого римского часового, не успевшего вскрикнуть. Следующие часовые подняли тревогу, но их уже заглушил боевой клич гладиаторов, нарушивший сон лагеря и наполнивший его причудливым эхом, заметавшимся среди камней. Резня началась еще до того, как обреченные сообразили, что происходит, так что сопротивление оказали только немногие ветераны. Однако произвольная, невоенная организация лагеря и смертельная неразбериха подсказали даже самым закаленным солдатам, что драться бессмысленно, надо спасаться бегством.
Гладиаторы готовились к бою, а очутились в роли мясников. Покорность врага вызывала у них слепую ярость, но жажда крови оставалась неудовлетворенной. Жертвы, напрасно молившие о пощаде и лежа принимавшие смерть, догадывались, прежде чем испустить последний вздох, что враги, которых они так и не увидели и которые выскочили из темноты с безумным воплем, — не люди, а демоны, сорвавшиеся с цепи.
Так завершился десятый день. За бойней последовал пир. Но успокоение пришло только вместе со сном, сморившим победителей на мягких римских одеялах, — сном без сновидений усталых людей, исполнивших свой долг.
Пешком — конь был захвачен разбойниками — лысый претор Клодий Глабер достиг долины. Он разминулся с беглецами-солдатами и в одиночестве блуждал в ночи. Тропинка привела его к каменной ограде виноградника. Он стал испуганно озираться. Виноградник, утыканный острыми подпорками, походил при свете звезд на кладбище. Было совершенно тихо; разбойники и Везувий уже казались выдумкой, Рим и сенат — тоже. И все же претор был обязан совершить ответственный поступок. Он распахнул плащ, нащупал на теле нужное место, приставил к нему острие меча.
Поступка было не избежать, но только сейчас он осознал все его значение. Острие медленно войдет в тело, медленно разорвет кожу, ткани, сухожилия и мышцы, сокрушит ребра, потом достигнет легкого — нежного, в слизи, пронизанного тонкими сосудами. А дальше наступит черед самого сердца, мешочка с кровью, в котором и заключена трепетная жизнь… Неужели кто-то уже делал это до него? Наверное, одним ударом, не раздумывая, это еще можно сделать; но зная, что представляет собой весь процесс, этап за этапом, человек поневоле опускает руки.
«Смерть», до этого мгновения слово не лучше и не хуже других, теперь отлетело на недосягаемое расстояние. Все славные родичи Смерти — вроде Чести, Позора и Долга — существуют только для того, кто оторван от грубой реальности. Ибо реальность — такая живая, несказанно хрупкая материя, вся в тончайших прожилках надобностей и условностей — дана не для того, чтобы покончить с ней одним ударом острого предмета. Теперь претор Клодий Глабер знал, что умереть — непростительная глупость, оставляющая позади даже такое смехотворное явление, как сама жизнь.
А тут еще камешки в обуви. Он садится на камень и высыпает камешки. Тут же становится ясно, что неудобство от камешков в обуви было важной составной частью его отчаяния. А ведь в сравнении с бесславным концом его войска эти мелкие острые камешки, всего семь, должны бы съежиться и вообще исчезнуть. Но как отделить важное от неважного, когда то и другое одинаково громко взывает к чувствам? На языке и небе претора еще сохранился неприятный привкус прерванного сна. На лозе он видит несколько неснятых виноградин. Он срывает их, кладет в рот и озирается. Причудливая последовательность его поступков видна одним звездам, а таким очевидцам его не спугнуть.
Ему стыдно, но при этом он считает свои поступки осмысленными: сколько ни философствуй, а ягоды существуют для того, чтобы их есть, с этим не поспоришь. И потом, никогда еще виноград не доставлял ему такого наслаждения. Сок смешивается со слезами, вызванными чувством, не имеющим названия. С вызовом, забыв про стыд, он облизывает губы.
Ночь и безразличное сияние звезд в ночи научили претора Клодия Глабера новой мудрости: любая услада, даже та, для которой не придумано имени, в том числе сама Жизнь, проистекает из старого, как мир, потайного бесстыдства.
V. Круглоголовый
Подпирая тяжелую голову левой рукой, Крикс возлежал на циновке; на его голых бицепсах выпирали красные и синие вены. Спартак лежал на спине, заложив руки за голову. В крыше палатки зияла дыра, в нее был виден край кратера и три звезды над ним. Их циновки разделял стол; ни для чего больше в палатке претора Клодия Глабера не нашлось места.
Крикс продолжал утолять голод. Время от времени он шарил правой рукой на столе, чтобы зацепить жирный кусок мяса и запить его большим глотком вина. Со стола стекали жирные струйки.
Снаружи уже перестали шуметь. Редко, реже, чем требовалось, часовые выкрикивали слова пароля. Дикая орда забавлялось игрой в солдат.
Крикс навострил уши, но не услышал ничего, кроме тишины. Он почмокал, медленно вытер жирные пальцы о циновку. Спартак повернулся и уставился на его грузное лицо. Крикс щурился и доставал кончиком языка волокна мяса, застрявшие между зубами. Взгляд Спартака смущал его. Он отвел глаза.
— Надо зарыть тела, — сказал Спартак. — Вон их сколько валяется — то ли шестьсот, то ли все восемьсот. Они смердят.
— Ну и зарой, — вяло отозвался Крикс.
В наступившем молчании он выпил еще вина. Спартак снова вытянулся, подложив руки под голову. В дыру в потолке виднелись и горы, и небо.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал он. — О женщинах Александрии.
— Глабер отправится прямиком в Рим, — отозвался Крикс. — Сенат очнется и пошлет против нас легионы.
Над головой Спартака чернела дыра. От усталости его взгляд утратил обычную пристальность.
— Что тогда? — спросил он.
— Мы их перемелем, — сказал Крикс.
— А потом?
— Новые легионы.
— А после? — спросил Спартак, глядя в дыру.
— Они перемелют нас.
— Что дальше?
Крикс зевнул и сложил ладонь в кулак, указывая большим пальцем в землю.
— Видал? Что же еще? Ты хочешь этого дождаться?
Снова этот знак, от которого зависит участь гладиатора. От него не убережешься. Морщинистый палец, унизанный кольцами, рано или поздно указывал вниз, перечеркивая жизнь и низводя смерть до уровня низменного зрелища. Этот знак снился гладиаторам во сне.
Крикс лег. В дыру в крыше лился лунный свет. Голоса часовых звучали все реже.
— Кто сказал, что я останусь? — пробормотал Спартак. Казалось, он разговаривает во сне, так его придавила усталость. — Кто говорит, что я остаюсь с тобой? Когда за человеком гонятся, он бежит, а отбежав далеко, останавливается, чтобы отдышаться, а потом идет себе по своим делам. Только глупец бежит, пока не свалится от изнеможения…
Крикс слушал молча.
— Только глупец бежит до тех пор, пока изо рта не повалит пена, пока им не овладевает злой дух, заставляющий уничтожать все на его пути. Видел я одного такого…
— Где? — спросил Крикс.
— В наших лесах. Кривоногий, как младенец, уши торчком, свинячьи глазки. Мы дразнили его «кабан», заставляли опускаться на четвереньки и по-свинячьи хрюкать. А он в один прекрасный день рванулся и побежал, сметая все на своем пути. Так его и не поймали.
— И что с ним стало?
— Это никому неизвестно. Может быть, так до сих пор и бежит.
— Скорее всего, он издох в лесу, — решил Крикс. — А может, его поймали и повесили на кресте.
— Говорю тебе, этого никто не знает, — сказал Спартак. — Вдруг он куда-нибудь добрался? Всякое бывает… Куда-нибудь, куда угодно…
— А потом — прямиком на крест, — бросил Крикс, помолчав.
— Может, и на крест, — согласился Спартак. — Почему бы тебе не выбрать Александрию? Я никогда там не был. Наверное, красивое место. Однажды я спал с девушкой, и она пела. Должно быть, так и в Александрии. Так что давай, Крикс, побалуй свой фаллос. Кто тебе сказал, что я останусь?
— Как она пела? — спросил Крикс. — Дико или тихонько?
— Тихонько.
Крикс долго молчал, а потом проговорил:
— Может быть, завтра будет уже поздно.
— Завтра, завтра… — пробормотал Спартак. — Возможно, завтра мы уйдем. — Он зевнул. — Возьмем и отправимся в Александрию.
Оба умолкли. Крикс задремал. Его дыхание стало мерным. Потом он захрапел, уронив голову на голый левый бицепс, испещренный толстыми венами.
Спартак по-прежнему смотрел в дыру. Потом глаза устали, он зажмурился. Отдохнув, оторвал себе кусок мяса, долго жевал, запил мясо вином из высокой кружки. Пары вина сделали свое дело, взгляд затуманился. Часовые совсем притихли. Он выпил еще вина и вышел из палатки.
Кромка морского берега была затянута белыми облаками. На фоне звездного неба чернела гора. В долине топорщились обрубленными ветвями оливы.
Он прошел мимо спящих часовых и побрел в сторону от лагеря. Достигнув скалы, он стал карабкаться вверх, то и дело шумно соскальзывая вниз по камням. Наконец, он достиг крохотной площадки, где среди пучков высохшей травы и пеньков лежал человек, завернувшийся в одеяло. Наружу торчала только его гладко обритая круглая голова, фигура источала покой. Брови человека были высоко подняты, словно он был сильно изумлен собственными мыслями. У него были тонкие губы аскета, зато нос мясистый и сморщенный во сне, как у веселого фавна.
Спартак какое-то время смотрел на спящего, потом тронул его носком сандалии. Глаза человека в одеяле распахнулись. В них не было ни капли испуга. Они были темны, лунный свет превращал глазницы в безжизненные провалы.
— Ты кто?
— Я из твоего лагеря, — ответил человек и медленно сел.
— Ты меня знаешь?
— Ты Зпардокос, князь Фракии, освободитель рабов, предводитель обездоленных. Мир и благословение тебе, Зпардокос. Присядь на мое одеяло.
— Глупец! — отозвался Спартак и в нерешительности тронул сидящего ногой. — Спи дальше. Завтра римляне вернутся и повесят на кресте тебя и всех остальных. Ты умеешь читать по звездам?
— Не умею, — признался круглоголовый. — Зато могу по глазам и в книгах.
— Раз ты грамотный, значит, беглый учитель, — решил Спартак. — Одиннадцатый по счету. Теперь у нас одиннадцать учителей, семеро счетоводов, шестеро лекарей, три поэта. Если сенат дарует нам жизнь, мы создадим на Везувии новый университет.
— Я не учитель, я массажист.
— Массажист? — удивленно повторил за ним Спартак. — Обычно грамотеев заставляют учить; а не мять другим спины.
— Еще три дня назад я трудился в четвертой общественной бане в Стабиях. Когда меня продали в первый раз, я скрыл, что владею грамотой.
— Зачем было это скрывать?
— Иначе меня заставили бы учить людей неправде, — объяснил круглоголовый.
— Ты не один такой, — проговорил Спартак, желая скрыть смущение. — У нас и без тебя хватает сумасшедших. Например, Зосим, тоже бывший учитель, только и делает, что произносит политические речи. Раньше я не знал, что в мире столько безумия.
— А знал ли ты про печаль? — спросил круглоголовый. — Тоже, наверное, нет.
Спартак смолчал, смутившись еще сильнее. О таких вещах лучше не говорить. «Печаль мира»! В последнее время вокруг него так и вились поэты и кандидаты в реформаторы, твердившие слова, которые лучше не произносить вслух. Ему хотелось уйти, но не было настроения оставаться одному.
Круглоголовый, дрожа от ночного холода, поплотнее завернулся в одеяло: с приближением рассвета склоны затягивало промозглым белым туманом. Спартак стоял над непрошеным собеседником в нерешительности — огромный и бесформенный в своих звериных шкурах. От устремленного на него взгляда массажиста-грамотея ему становилось все больше не по себе. Все они такие, эти знатоки и болтуны: любому встречному готовы сбыть за бесценок свои чувства, выставить напоказ самую сердцевину, как улитки, смело покидающие свои раковины.
— Вчера я тебя не видел, — грозно сказал Спартак. — Где ты был во время боя?
— Врачевал твоих героев, — бесстрашно ответил круглоголовый, морща нос.
— Трус ты, вот кто! — сказал Спартак с усмешкой.
Прежде чем ответить, собеседник в одеяле поразмыслил.
— Я не считаю себя трусом. Просто когда меня хотят проткнуть копьем, мне становится не по себе.
Спартак не выдержал и присел с ним рядом, упершись локтями в колени. Круглоголовый предложил ему больше одеяла, но он жестом отказался.
— Глупец! — повторил Спартак. — Зачем эти глупые слова: «освободитель рабов», «предводитель обездоленных»?
Вопрос бы задан небрежным тоном, но глаза спрашивающего смотрели с присущей ему внимательностью.
— Зачем? — переспросил круглоголовый. — А вот послушай, что написано: «Сила Четырех Зверей иссякла, зато моя подобна силе Сына человеческого, вышедшего из облаков на небе, от Старца старцев, и были даны Ему власть, и слава, и царство, и могущество до скончания времен…»
— Что за бессмыслица? — разочарованно бросил Спартак.
— «Четыре Зверя» — это сенат, богатые землевладельцы, легионы и управляющие имениями, — наставительно произнес круглоголовый, для верности загибая пальцы.
— Звери бегают по аренам, — возразил Спартак.
— Это в переносном смысле.
— Смысл есть разве что в этих облаках на небе, — сказал Спартак, имея в виду сгущающийся туман. — Что ты там плел о Старце старцев, дарующем силу?
— Это поэзия, — молвил круглоголовый. — Но речь в ней о Боге.
— Богов много, — возразил заскучавший Спартак.
— И еще написано: «Разит Он силой Своею гордецов, низвергает могущественных с тронов, возвышает униженных и бессловесных, дает голодным насытиться, а богатых обрекает на голод», И дальше написано: «Дух Божий на мне, ибо помазал Он меня нести убогим благую весть, послал Он меня исцелять слабые сердца, утешать плененных, открывать очи слепцам, освобождать угнетенных».
— Это другое дело, — сказал Спартак. — Ты веришь в пророчества?
— Не очень, — признался круглоголовый, снова морща нос. Но сколько он ни гримасничал, рот его оставался тонок и суров.
— И я не верю, — подхватил Спартак. — Все предсказатели и авгуры — мошенники.
— Кого только ни встретишь на свете! Есть такие, кто нашептывает приятное сильным мира сего, но есть другие, кричащие в ночи о своей беде и печали.
— Их речи всегда неприятны и опасны.
— Никуда не денешься, такова особенность ремесла. Это как у портного, чьи изделия впору сразу многим.
Спартак задумался. Он хотел задать какой-то вопрос, но вопрос получался неуклюжий, и ему было стыдно заговорить. В конце концов он преодолел смущение.
— Раз ты не веришь в предсказания, почему назвал меня тем, чье появление предсказано, «Сыном человеческим»?
— Разве? — встрепенулся круглоголовый. — Нет, я тебя так не называл. Просто сказал: написано, что Он явится… — Он поежился, плотнее завернулся в свое одеяло. — Пророчества — что одежда. Одежда тоже висит в мастерской портного. Многие проходят мимо, многим она впору. Потом кто-то приходит и забирает ее. Значит, для него ее и шили, раз он ее надел… Главное, чтобы она соответствовала моде, своей эпохе. Она должна отвечать вкусу времени, то есть желаниям сразу многих людей, их потребностям, их вожделению…
Он по привычке сморщил нос и отвернулся. Спартак молчал, глядя то на луну и звезды, то на край кратера, то на свои ногти. А потом произнес с невесть откуда взявшейся враждебностью:
— Только что ты сам утверждал, что не веришь в пророчества.
— Да, я совершенно не верю в произнесенное слово, — ответил круглоголовый. — Зато я верю в его результат. Слова — это воздух, но воздух становится ветром, подгоняющим корабли на море.
Спартак молчал, сидя на одеяле с расставленными ногами, подпертой кулаками головой, закрытыми глазами. Луна светила ему в лицо. Свет луны был так ярок, что проникал сквозь веки.
Он сам не знал, как долго просидел в одной позе. Возможно, он задремал. Потом потянулся, зевнул и почувствовал, что замерз.
— Ты еще здесь? — окликнул он круглоголового. — Давай одеяло.
Круглоголовый встал, встряхнул оделяло и подал его Спартаку. Он оказался на голову ниже гладиатора, тощим и слабосильным.
— Тебе бы быть учителем, а не массажистом, — сказал Спартак сквозь зевок, ложась и укутываясь в одеяло. — Останься, поболтай со мной.
Круглоголовый поежился от холода и уселся на камень в двух шагах от головы Спартака.
— Ты бы лучше поспал, — посоветовал он ему.
— То-то и оно, что мне не спится, — сказал Спартак. — Словно рой мух жужжит в голове.
— Это усталость, — сказал круглоголовый. — Хочешь, я сделаю тебе массаж?
— Расскажи что-нибудь, — попросил Спартак. — Судя по выговору, ты либо сириец, либо еврей.
— Я эссен.
— Что это значит?
— Долго рассказывать, — предупредил круглоголовый.
— Ничего, я потерплю.
— Хорошо, — согласился эссен. — Написано: «Существуют четыре сорта людей. Одни говорят: то, что мое, то мое, а то, что твое, то твое. Это племя среднего сословия, еще его называют Содомом. Другие говорят: что мое, то твое, а то, что твое, — мое. Это люди простые, смиренные. Третьи говорят: то, что мое — твое, и то, что твое — тоже твое. Они добродетельны. А четвертые говорят: что мое, то мое, а что твое — тоже мое. Эти люди порочны». Так гласит писание. Мудрецы так говорят об этом: первым среди людей, кто повел себя по правилу «мое — мое, твое — твое» был Каин, убивший брата своего Авеля и основавший первый город. Потому правило это отвергается, хотя им в наше время руководствуются очень часто, и именуется путем Содома. Третье правило, закон добродетели, тоже отвергается. Ибо люди эти не обладают никаким земным добром и расстаются даже с тем немногим, что у них есть, дабы доказать свое благочестие. Сие есть особое лицемерие, которое еще можно назвать высокомерием слабости и, главное, глупостью. Четвертым путем идут богатые землевладельцы и ростовщики. Он отвратителен и тоже отвергается. Остается второй путь: «что мое, то твое, а то, что твое, — мое». Этим путем следуем мы.
— Значит, у вас все общее?
— Да, все.
— И рабы общие?
— Рабов у нас нет.
Обдумав этот ответ, Спартак молвил:
— Понимаю, вы — племя охотников и пастухов.
— Нет, мы крестьянствуем и занимаемся ремеслами. У нас все работают и делят заработанное поровну.
— Забавно! — Спартак растянул губы в улыбке. — Раз вы, свободные люди, должны работать, значит, вы рабы у самих себя. Никогда ничего похожего не слыхал!
— Очень может быть, — согласился эссен. — В твоих словах есть резон.
— Вот видишь! — оживился Спартак. — Ты болтаешь, болтаешь и сам вязнешь в собственных топких словах. Быть рабом у самого себя — это как если бы мужчина был своей собственной женой. Охотники и пастухи не нуждаются в рабах, потому что не работают. Но раз вы сеете и жнете, делаете разные предметы и продаете их, то у вас должны быть рабы, иначе нельзя. Мужчина приказывает, женщина рожает, рабы работают — таков порядок вещей. А все остальное — вредная болтовня, противная разуму и порядку.
— Ты так считаешь? — Эссен покачал головой. — Разве ты сам не посеял в Кампании беспорядок?
— Успокойся, — сказал ему Спартак. — Преследуемый не может соблюдать порядок и повиноваться закону. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем болтаешь ты.
— Ты так считаешь? — С этими словами эссен нашарил камешек, взвесил его на ладони и бросил вниз. Камешек исчез из виду, проглоченный туманом, но стук его падения был слышен еще долго. Когда он, наконец, стих, эссен продолжил: — Если бы ты спросил у камня, почему он катится, он бы ответил, что его подтолкнули. По разумению камней, единственное, что имеет значение, — это то, что их толкают. А на самом деле они волей-неволей подчиняются всеобщему закону: все на свете падает вниз.
Спартак ничего не ответил. Он лежал на спине. Справа от него громоздилась темная стена горы, слева разверзлась пропасть. Он слишком утомился, чтобы следить за речами эссена, но чувствовал, что мозг его впитывает их, как губка.
А круглоголовый уже не обращал на него внимания. Казалось, он и думать забыл о Спартаке. Подобно боязливому, настороженному зверю, сидел он на своем камне, медленно поводя носом из стороны в сторону и обращаясь, скорее, к себе самому. Если судить по его тону, длинный нос морщился при каждом слове:
— Ни серебро, ни злато не спасет их в день гнева Всевышнего, когда вся земля будет охвачена огнем Его возмездия. Рыдайте, живущие трудами своими, ибо не стало торгующих, а все, кто копил деньги, истреблены. Горе пастырям, кормящим себя, а не стада свои. Горе тем, кто прибавляет к одному своему дому другой дом, к одному своему полю другое поле, пока не станут одни они хозяевами всех земель. Горе принимающим несправедливые законы и отнимающим права у нищих, превращая нищих в своих жертв. Горе вам, ибо старшины ваши корыстны, священники жадны, пророки алчут денег. Горе, ибо поют они под звуки арф, сочиняют музыку для самих себя, пьют вволю вино и ублажают себя, не горюя о страданиях людей.
И да обрушится на них праведный гнев Всевышнего, и да будет повергнут ниц всякий, кто горд и знатен, и да сотрясутся кедры ливанские и дубы башанские, и да убоятся торговцы на морях, заседающие в сенате, устроители кровавых игрищ, владельцы всех богатств; ибо сорвет Владыка одежды с дочерей Рима, отнимет у них драгоценности. Велик будет плач у Восточных врат и тревога у всех других врат, и громки стенания на всех семи холмах. Ибо явился Он, посланец Всевышнего с мечом, сетью и трезубцем, Он, кому Яхве, Владыка мира, повелел излечить безутешные сердца, пролить свет в глаза незрячих, сбить оковы с угнетенных…
— Это ты, впрочем, уже слышал, — заключил круглоголовый совсем другим тоном, сразу перестав качать головой, так что стало понятно, что он разговаривал не с самим собой.
— Дальше! — потребовал Спартак.
— Мне холодно, — пожаловался эссен. — Отдавай мое одеяло.
— Сейчас, — сказал Спартак и не шелохнулся. Он лежал с открытыми глазами.
Эссен тоже, казалось, забыл про одеяло. Спокойно сидя на камне, он наблюдал, как ползет вверх предутренний туман.
— Никогда не слыхал о Боге, который слал бы такие проклятия, как Яхве, о котором ты говоришь, — нарушил молчание Спартак. — Он так разгневан на богатеев, словно это бог рабов.
— Яхве мертв, — отозвался круглоголовый. — Он был не богом рабов, а богом пустыни и хорошо понимал пустынную жизнь: умел находить источники среди скал, учил печь хлеб из того, что дарит небо. Но ни в ремеслах, ни в обработке земли Он ничего не смыслил. Не мог заставить плодоносить ни виноградную лозу, ни оливу, не умел сделать так, чтобы колосилась пшеница. Он не был богом богатства, Он был суров, как сама пустыня. Вот почему Он проклинает теперешнюю ночь и теряется, сталкиваясь с ней.
— Вот видишь! — От разочарования Спартак приподнял голову. — Раз Он мертв, его пророчества уже ничего не значат.
— Пророчества вообще никогда ничего не значат, — сказал эссен. — Я уже пытался это объяснить, только ты спал и не слышал моих слов. Важны не сами пророчества, а тот, кто им внимает.
Спартак напряженно размышлял, забывая моргать.
— Человек, внявший пророчествам, навлечет на себя горе, — проговорил он немного погодя.
— Это верно, — вздохнул эссен. — Горе — еще мягко сказано. Человеку этому придется бежать без остановки, пока на губах у него не выступит пена, пока он не истребит в злости все, что лежит у него на пути. Но сколько бы он ни бежал, он останется во власти Знака, и демон гнева будет рвать на части его нутро…
Эссен закоченел и сидел, не спуская выразительного взгляда с одеяла. Спартак выдержал долгую паузу и заключил:
— А где он завершит свой бег, неведомо даже тебе.
— Ты о ком? — спросил его круглоголовый. Спартак не ответил. — Тогда я скажу тебе вот что. Многие уже знавали Знак и слышали Слово.
— Что же с ними приключилось?
— На это я могу ответить, ибо их прошло немало, и уже не вспомнить, кто был первым. Некогда Агис, царь Лаконии, услышал от своего наставника, что в древности в мире царила справедливость, когда все было общее. Те времена назывались «Золотым Веком». Агис захотел вернуть те времена. Но аристократы и богачи его страны, разумеется, были против. Тогда царь сам раздал простолюдинам свои богатства и возродил древние законы.
— Чем все это кончилось? — спросил Спартак.
— Повешением. Или взять человека по имени Гамбул, отправившегося с другом в долгое морское плавание. Посреди океана они нашли остров, на котором Золотой Век сохранился по сию пору. Жители острова вели такой праведный образ жизни, что и тела их были прекрасны. Все у них было общее — и еда, и кров, и даже женщины, так что ни один мужчина не знал, кто его дети. Благодаря этому они не ведали ни гордыни собственника, ни зова крови. Для искоренения доброго примера соотечественники Гамбула убили его, да будет благословенна его память, и ныне никто уже не ведает, где расположен тот остров.
Спартак молча наблюдал, как рассеивается тьма. Эссен, подобравшись к нему ближе, заговорил снова:
— И так случается всегда. Раз за разом появляются люди, узнающие Знак, внемлющие Слову и встающие на праведный путь, зная о тоске людей по древним временам, когда царила справедливость и доброта, по шатрам Израиля, по жизни в пустыне, на дружеской ноге с Яхве…
— Оставь в покое своего Яхве и продолжай свой рассказ.
— История повторяется без конца. Например, жил не так давно на Сицилии раб по имени Эвной. Был у него друг Клеон, тоже раб, родом из Македонии. Вдвоем они сбежали от хозяина, богатого землевладельца, выжимавшего из своих рабов все соки. Вместе с еще несколькими рабами они спрятались в лесу на холмах. Они сопротивлялись наемникам, сначала не ставя перед собой никаких целей…
Круглоголовый рассказчик прервался, чтобы отдышаться. Спартак уже сидел, побуждая его всем своим видом продолжать.
— Что ж… — пробормотал эссен. — Они собирали вокруг себя все больше людей, не ставя определенных целей. Но есть цель или ее нет, против фактов не поспоришь. Число их соратников росло быстрее, чем они могли мечтать. Сначала их было всего сто человек, потом тысяча, десять, семьдесят тысяч. Семьдесят тысяч — и все до одного рабы. Целая армия рабов! Все до одного рабы Сицилии примкнули к ним.
— А потом? — спросил Спартак.
— Сенат отправлял сражаться с ними легион за легионом, но рабы разбивали один легион за другим. Три года они владели почти всей Сицилией, надеясь, что Рим оставит их в покое, и тогда они создадут Государство Солнца, где будет царствовать справедливость и добрая воля…
— Что было дальше? — не давал ему передохнуть Спартак.
— Дальше они были побеждены, — тихо сказал эссен. — Двадцать тысяч распяли. Крестов в Сицилии стало больше, чем деревьев. И на каждом висел умирающий раб, проклинавший сирийца Эвноя и друга его, македонянина Клеона, ибо те были повинны в их смерти.
— Почему они были повинны? — удивленно спросил Спартак.
— Потому, что допустили поражение, — сказал круглоголовый.
— Продолжай! — хрипло потребовал Спартак.
— Продолжения пока что нет, — молвил рассказчик, мерно покачивая головой. — Ведь все это случилось всего несколько десятилетий назад. Видишь, как прав я был, говоря, что мечта людей вернуть утраченную справедливость никогда не умирает, и что снова и снова встает кто-нибудь, внемлющий Слову, и дает волю своему праведному гневу. Что с того, что власти Содома хватают его и вешают на кресте! Все равно скоро восстанет новый, за ним следующий. Великая ярость вскипает десятилетие за десятилетием. Это как гигантская эстафета, начавшаяся в тот день, когда похотливый бог горожан и земледельцев убил бога стад и пустынь.
Постепенно ритмические движения головы эссена передались всему его телу. Пока он раскачивался на своем камне, свет зари пробился сквозь туман, и Спартак обнаружил, что премудрый массажист стар: глубоко запавшие глаза, мохнатые вздернутые брови, нос фавна, тонкие губы. Старческое тело раскачивалось, словно утратило волю остановиться.
Спартак поднялся, поправил на спине шкуры и до хруста потянулся. Расставив ноги и раскинув руки, он долго стоял, огромный в своих ниспадающих шкурах. Потом нагнулся, чтобы отдать старику одеяло. Эссен тут же перестал раскачиваться и начал поспешно кутаться.
Спартак подошел к склону, не сводя взгляд с алеющего восточного края неба. Горы делались все величественнее с каждой секундой. Он не слышал прощальных слов старика и не ответил на них. Тяжело шагая и гремя при спуске камнями, он вернулся в лагерь.
Из палаток раздавались хриплые голоса: часть полчища уже проснулась. Над лагерем тяжело кружили черные птицы. Спартак вспомнил о необходимости не мешкая предать земле мертвые тела — шесть или восемь сотен, бывшее войско претора Клодия Глабера.
Книга вторая В обход
Интерлюдия Дельфины
В последнее время писец Квинт Апроний пребывает в дурном и ворчливом настроении. Его мучает нарушенное пищеварение и спазмы в желудке; к тому же он проспал, что случалось с ним за восемнадцать лет безупречной службы крайне редко. Подбирая полы тоги, он торопится по розовым от утреннего света улицам.
Там, где прилавки с благовониями смыкаются с рыбным рынком, вот уже несколько дней красуется новое объявление, намалеванное толстыми красными и синими буквами: импресарио Марк Корнелий Руф горд представить уважаемой капуанской публике лучшую свою актерскую труппу. Первое выступление состоится завтра: это будет пьеса «Крестьянин Букко». Разумно поступят те, кто приобретет билеты заранее.
Апроний уже выучил эту афишу наизусть: он останавливается перед ней ежедневно, изучая словно впервые и качая головой. Об этой пьесе много говорят. В связи с ней рассказывают о театральном скандале, якобы разразившемся при выступлении труппы в Помпеях. Поговаривают, что у скандала была политическая подоплека и что двое людей серьезно пострадали в потасовке. Но цена билета, конечно же, превосходит все приличия. Правда, директор зрелищ Лентул пообещал познакомить нынче судебного писца с импресарио в Зале дельфинов, так что надежда на бесплатный билетик еще теплится. Любопытно, сдержит ли Лентул слово?
Томясь в Рыночном суде и ведя протокол заседания, он ежеминутно морщится от болей в животе. С трудом дождавшись объявления о закрытии заседания, он бежит со всех ног в бани, на этот раз даже не заглянув в таверну «Волки-близнецы».
В вестибюле бань кипит жизнь, но Апронию нынче не до приветствий и не до забавных историй. Минуя кучки судачащих, он замечает, что писака Фульвий собрал вокруг себя больше, чем обычно, народу. Плюгавый человечишка с шишковатым черепом, видимо, снова выступает с подстрекательской, зажигательной речью. Что он нес в прошлый раз? «Мы живем в век мертворожденных революций». Теперь у него наверняка другая тема — разбойники, забравшиеся на Везувий и грозящие оттуда мирным жителям Кампании; с него, болтуна, станется призвать их быстрее спуститься…
Наконец, Апроний вбегает в мраморный Зал дельфинов, занимает свое привычное место и блаженно переводит дух. Увы, через некоторое время им опять овладевает уныние: снова все потуги тщетны. Он уже готов признать поражение, подняться и уйти, но вдруг появляется Лентул, увлеченно беседующий с полным мужчиной в красивом купальном одеянии. Импресарио Марк Корнелий Руф!
Оба садятся на мраморные троны с ограждениями в виде дельфинов справа от страдальца Апрония. В несколько презрительном тоне мелкого писца представляют заслуженному приезжему, который, обосновавшись на сиденье, слегка кивает и возобновляет беседу с Лентулом. Они вспоминают былое; судя по всему, они не виделись несколько лет. Из их слов Апроний заключает, что они знакомы еще с тех пор, когда Лентул занимался политической деятельностью в Риме, и что нарядный импресарио — человек высокопоставленный. Одни имена, которые они произносят, вызывают почтение: Сулла, Красс, Помпей… Они хорошо друг друга понимают и улыбаются намекам, понятным только им.
Нарядный импресарио, судя по внешности, родом из Греции, с небольшой примесью левантийской крови. До Апрония доходили слухи, что Руф входил в число десяти тысяч человек, освобожденных Суллой от рабства, получивших гражданские права и влившихся в когорту ярых сторонников диктатора. Благодаря своей пронырливости и сообразительности, а также изысканным манерам, он быстро пошел вверх, а после смерти Суллы прослыл будущим лидером демократов; но два года назад он внезапно исчез с политической сцены. Причиной оказалась предосудительная связь с весталкой. Но Руф не стал унывать, занялся ввозом зерна и иными торговыми операциями, а в последнее время ездил по провинциям с актерской труппой.
Руф — мастер светской беседы; изящно наклонившись вперед, он восседает между своими дельфинами. Его тренированное красноречие превращает простоватого директора игр в провинциала, которому лучше не открывать рта. В данный момент он рассказывает о том, как его труппа повергла в шок реакционных зрителей Помпеи; но Лентул допускает невежливость, прерывая его на полуслове: ему интересно, идет ли в пьесе речь и о разбойниках с Везувия, о которых только и болтают в Капуе. Апроний догадывается, что Лентул втайне горд тем, что прославившиеся разбойники взращены, так сказать, его заботливыми руками.
Руф отвечает отрицательно: театральная полиция, и так часто вмешивающаяся в сценическую жизнь, непременно запретила бы пьесу, если бы в ней обнаружились прямые упоминания Спартака и его головорезов. Однако косвенно они служат, конечно, лейтмотивом всего действия. В конце действия крестьянин Букко, главный герой, пройдя через всяческие приключения, решает присоединиться к разбойникам с Везувия, в чем уважаемые жители Капуи смогут убедиться сами. Впервые обращаясь непосредственно к Апронию, импресарио выражает надежду, что увидит его среди зрителей.
Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, знает, что настал решающий момент. Вот только политическое прошлое Руфа и его красочное одеяние пугают беднягу. Серый от усилий, сидит он рядом с двумя выдающимися людьми, почтительно им внимает, а сам напряженно соображает, с чего бы начать фразу, которая выльется в просьбу о бесплатном билете. Ему представилась редкая возможность осуществить мечту, а он бледнеет и теряет дар речи; неизвестно почему, даже не подумав, он выражает сожаление, что не сможет присутствовать, так как приглашен в другое место. Он еще не закрыл рот, а уже знает, что непоправимо свалял дурака.
Импресарио, безупречно вежливый и слегка озадаченный, тоже выражает сожаление, встает с сиденья и уходит рука об руку с Лентулом во внутренние бани. Апроний тащится за ними, немного приотстав. Помимо воли он становится свидетелем того, как они наслаждаются банными церемониями: сначала чуть теплой, потом горячей водой, потом паром и холодной водой, умелым массажем; смотрит, как они потеют, как урчат от удовольствия. От хорошего настроения они решают сыграть в мяч; повизгивая и шутя пререкаясь, два тучных римлянина, блестя голыми телами, возятся, как дети, всецело отдаются игре, искренне радуются, от всего отрешившись, — счастливчики, выдержавшие многие свирепые жизненные штормы.
Потом, когда они отдыхают бок о бок, устало раскинувшись на мягких одеялах, чиновник Квинт Апроний чувствует прилив отваги. Он вспоминает, что еще ни разу за все восемнадцать лет службы не оказывался так близко к людям со столь выразительным политическим прошлым. Его распирают чувства; великая печаль его жизни, тайна, не выданная никому, даже Помпонии, перекрывает ему дыхание. Лежа с ними рядом лицом кверху, он чувствует, что не сможет смолчать.
Он сбивчиво рассказывает импресарио, как имел в свое время немалые амбиции, как хотел уйти в отставку, уехать в чужие земли и там добиться признания, написав философский трактат о запоре как источнике всех революций. Для достижения заветной цели он вложил все свои сбережения, плоды десятилетнего кропотливого труда, в ценные бумаги компании по откупу налогов в провинции Азия. Но через три месяца Сулла закрыл компанию, ее акции стали в одночасье бросовыми клочками пергамента, а его, Квинта Апрония жизнь оказалась загублена.
Импресарио, чей монументальный живот служанка как раз в этот момент облепляла горячими полотенцами, поворачивает голову и пристально смотрит на чиновника. Его взгляд скользит по тощей фигуре, покатым плечам, колючим коленкам, запущенным ногтям на ногах. Апроний чувствует, что Руф знает о нем все: знает о нищенском месячном бюджете, комнатушке под крышей, тряской пожарной лестнице, старой костлявой Помпонии, вооруженной щеткой… Улыбка Руфа наполовину веселая, наполовину сочувственная.
— Знай, друг мой, — заговаривает он, — не ты один пострадал. История с Азиатской налоговой компаний весьма запутана, но притом поучительна. Хочешь ее узнать?
Апроний сглатывает слюну и кивает, не в силах вымолвить больше ни слова.
— Ну, так слушай. — Руф улыбается, словно обращается к ребенку. — Компания, купившая у государства подряд на сбор налогов в провинции Азия, которой ты доверил свои деньги, была вполне надежным предприятием. Увы, все ее руководство сплошь состояло из всадников, то есть было молодой финансовой аристократией, а Сулла питал неистребимое предпочтение к патрицианским родам. Финансовую аристократию он ненавидел; хочешь процветать — изволь вести свое происхождение от братцев, сосавших волчицу… Вот почему он объявил, что компания грабит налогоплательщиков, без предупреждения закрыл ее и постановил, что отныне налоги будет собирать само государство, руками наместника провинции. Естественно, последствия для всех заинтересованных лиц были катастрофические. Во-первых, плакали денежки мелких акционеров. Во-вторых, жизнь налогоплательщиков Азии стала еще хуже, ибо наместник — если помнишь, это был не кто иной, как молодой Лукулл, — не имел ни малейшего представления, с какого боку подойти к тонкому делу сбора налогов, и родословная, пусть даже самая завидная, как у него, никак не могла ему помочь.
Между прочим, для тебя станет, быть может, утешением, что одновременно с тобой пострадали и самые знатные римляне. Хочешь, чтобы я продолжил? Изволь. Например, молодой Цицерон, находившийся тогда на взлете карьеры. Ему было двадцать семь лет. Но вот беда, его любовница Церелия серьезно вложилась в Азиатскую компанию и, подобно тебе, лишилась половины состояния. Цицерон так расстроился, что чуть было не превратился в противника Суллы. «Защитите Вторую Аристократию! — взывал он на Форуме. — Защитите всадников, откопавших для нас богатства!» Бедняга чуть голову не потерял — и в переносном, и в прямом смысле.
Руф улыбается своим воспоминаниям. Чиновник Апроний ошеломленно качает головой. Он жаждал утешения, понимания, слов сочувствия; вместо этого великий человек морочит ему голову аферами, превосходящими его понимание и кажущимися заговором с единственной целью — украсть у него, Квинта Апрония, сбережения.
— Но и это еще не все, — продолжает разглагольствовать улыбчивый Руф. — Хочешь узнать больше? Следом за Лукуллом наместником стал некий Гней Корнелий Долабелла, гораздо более гибкий человек, снова начавший тихонько отдавать сбор налогов в аренду всадникам и их компаниям. Банкир Марк Красс и некий Хризогом, известный как фаворит Суллы, оказывали ему посреднические услуги. К грусти азиатских налогоплательщиков, им это нисколько не помогло, напротив, вместо прежних двадцати тысяч талантов они стали платить сорок, возмещая убытки компании. Пришлось закладывать храмовые драгоценности и продавать собственных детей на невольничьих рынках. Гордые спасались бегством, либо подавались пиратствовать. Долабелла немедленно по истечении его наместнического срока был обвинен в злоупотреблениях, однако Красс с дружками добился его оправдания. Обвинение выдвигал молодой аристократ, чьи приключения при дворе царя Вифинии рассмешили весь мир. Звали его Гай Юлий Цезарь.
Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, возвращается из бань один. Снова у него крутит живот. От только что услышанного у него идет кругом голова. За все восемнадцать лет службы он не узнал и половины того, что свалилось на него сейчас, о скрытых пружинах римской политики. Он качает головой и бранится себе под нос. Это же заросли, где сам дьявол поломает себе ноги, зловонная помойка, пропасть бесстыдства! Вот, оказывается, какие бессовестные людишки, выскочки и обманщики дергают исподтишка за ниточки, на которых висит Республика, строят заговоры и грабят добропорядочных граждан! Вот где источник всех бед! А он, Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, всегда вел себя в присутствии этих негодяев, как робкий школьник, взирал на них снизу вверх, в подобострастном ужасе!
Но ничего, теперь все будет по-другому. При следующей встрече с кем-нибудь из этой заевшейся шайки он выскажет все, что думает. На предстоящем ежегодном собрании «Почитателей Дианы и Антония» он произнесет яркую разоблачительную речь. Давно пора, провозгласит он, свергнуть эту продажную шайку! Пусть придет сильный человек и беспощадно вычистит авгиевы конюшни римского сената! Будет очень даже неплохо, если разбойники с Везувия нагрянут в Капую и хорошенько ее почистят. Пусть рухнут от их ударов и городская магистратура, и бани, и зал с дельфинами — только бы пришел конец всем тревогам, всем мукам!
Когда Апроний выползает из таверны «Волки-близнецы» и бредет домой, Оскский квартал уже окутан тьмой. Этим вечером он, изменив своим привычкам, приложился за ужином к доброму фалернскому вину, надеясь утопить в хмеле грусть и забыть про боль в животе. Теперь, не обращая внимания на то, что полы волочатся и пачкаются в пыли, он распевает дерзкую разбойничью песню.
Карабкаясь по проклятой пожарной лестнице, он поскальзывается и чуть было не падает вниз. Однако даже сидя на ступеньках между вторым и третьим этажом, он продолжает горланить во всю глотку, молотя от воодушевления по ступенькам тощими волосатыми ногами.
Приди, Спартак, вождь варваров, все развали, все порушь — дома, Дельфинов, Рыночный суд. Вершите справедливое возмездие, о боги! Такой мир не заслуживает жалости.
I. Собрание
Полчище разместилось в горной лощине, имеющей форму полумесяца, в палатках, поставленных солдатами Клодия Глабера, поглощали его провизию, пили его вино Тем временем в глубине кратера, во чреве горы, каждую ночь вспыхивало пламя, сполохи которого освещали окрестности далеко вокруг.
Походило на то, что Везувий снова оживал, как в древние времена; багровый дым, поднимавшийся по ночам из кратера, служил жителям долин напоминанием о блестящей победе, одержанной разбойничьей армией над римскими легионами.
Слухи, разбегавшиеся по стране проворнее, чем самые быстрые сенатские курьеры, несли весть о победе, и ни о чем сверх этого. Чем больше удаление от места события, тем красочнее и неправдоподобнее делались слухи. Подобно тому, как волна, накатившаяся на берег, не помнит, какой формы была скала, на которую она налетела на мелководье, легенда пренебрегала правдой о наскоро собранной армии лысого претора, не устоявшей перед сбродом из нищих и заскорузлых гладиаторов. Слухи несли лаконичную весть: Рим потерпел поражение, победители Рима — рабы. А сверх того все знали о возрастающей враждебности к Риму, о герое-гиганте, не признающем иной одежды, кроме звериных шкур, сколачивающем армию мстителей из бедных и угнетенных.
Казалось, светящаяся по ночам гора передает всей стране послание. Оно уже разнеслось по скалистым горным пастбищам Лукании, обетованной земле скотоводов и разбойников, достигло гордого некогда Самния, превращенного гневом Суллы в руины, привело в движение жителей самой Кампании.
Раньше они приходили по одному, по двое, теперь валили сотнями. Раньше пробирались потайными тропинками на остров посреди болота, теперь маршировали на гору колоннами, распевая бодрые песни.
Двести рабов из поместья сенатора под Кумами толпой заявились в лагерь — полуголые, босые, в лохмотьях. Шествовавшая впереди троица гордо несла, как штандарт легиона, длинный шест, на котором звякали ножные кандалы.
Длинной вереницей прибрели землекопы, рывшие для Лукулла рыбный пруд. Их авангард нес огромную мурену, сжимающую в челюстях человеческую голову.
Пришли свободные строители из Нуцерии, потерявшие работу из-за покупки городским советом большой партии сирийских рабов, которые разошлись по всем стройкам. Строители были аккуратно одеты и вели себя степенно; они прихватили с собой деньги, которые собирали сообща на свои дни рождения.
Начали приходить и пастухи из Лукании. У них были огромные злобные псы и узловатые посохи, способные заменить палицы. На головы их, как у воинов-варваров, были надеты шкуры кабанов и волков, лица заросли бородами, тела — густым волосом.
Прибрели двести слуг светского повесы из Помпеи, насмешив всех деревянным фаллосом с надписью: «Полюбуйтесь Гаем, нашим господином. Другие его части недостойны внимания».
Но большинство новеньких избрало в качестве эмблемы каменный рабский крест.
Каждая группа разбила в серпообразной лощине под названием «адская преисподняя» собственный лагерь. Все стряпали себе привычную еду, пели свои песни. В лощине звучала кельтская, фракийская, оскская, сирийская, латинская, кимбрийская, германская речь, царила племенная рознь. Но притом вовсю меняли мясо на палицы, вино на обувь, женщин на оружие, оружие на деньги.
Те, кто принадлежал к первоначальному составу, гладиаторы-беглецы, косо смотрели на новичков, помалкивали и тревожились. Они важничали, щеголяли в одежде римских офицеров; их можно было узнать с первого взгляда, на них первым делом указывали новичкам. Их, прошедших через капуанскую школу Лентула, оставалось полсотни, а всего разбойничье полчище, именовавшееся по привычке гладиаторским, насчитывало уже пять тысяч человек.
В лагере хватало ярких фигур, на которые оборачивались. Ритор Зосим переходил от толпы к толпе, шутил, произносил заумные тирады и получал в благодарность то аплодисменты, то смешки; во всем лагере лишь один он носил тогу. Пастух Гермий задирал нос перед земляками, неотесанными луканцами, показывал свои лошадиные зубы и хвастался службой в кампанской армии, якобы позволившей ему повидать свет. Вертлявый Каст высокомерно прохаживался мимо солагерников, рядом с некоторыми останавливался и, теребя ожерелье, разглагольствовал о былых подвигах в болотах. Им восхищались, но любви он не вызывал. Женщины засматривались на Эномая, плененные его изяществом; считалось, что у него еще никогда не было женщины и что, будучи гладиатором, он сочинял стихи. Крикс внушал всем смущение и почтение; когда он проходил по лагерю — жирный, апатичный, безразличный, с неподвижным взглядом — все разговоры смолкали, а молодежь старалась не встречаться с ним глазами. О нем болтали невесть что: например, что он спит и с мужчинами, и с женщинами, все время меняя партнеров; само по себе это не вызывало осуждения, просто не соответствовало его облику.
Что до Спартака, то многие новички сперва недоумевали, что же в нем особенного. Это было популярной темой вечерних пересудов. А болтали в лагере много, ибо больше заняться было почти нечем.
Некоторые утверждали, что у него особенные глаза, некоторые — что дело в его уме. Женщины обращали внимание на его голос и веснушки. Впрочем, глаза, как у Спартака, были у многих, умники тоже не были такой уж редкостью, не говоря уже о приятных голосах, тем более о веснушках.
Философы и грамотеи объясняли, что дело не в какой-то одной особенности, а в общем впечатлении, чем-то таком, что называется «личность». Такие объяснения звучали слишком сложно, как всякая ученая заумь, к тому же «личностью» хоть в чем-то был каждый, так что это ничего не объясняло.
Зосим прикладывал к носу палец и изрекал: «Дело в воле — она есть сила, дающая власть». Он мог без конца сочинять такие же удобные, округлые фразы. Увы, стоило хорошенько поразмыслить, как словесная шелуха опадала, а суть вызывала удивление: неужели дело и впрямь в воле? Коли так, то все до одного землевладельцы Италии должны были давным-давно перемереть от потакания своей воле, а все девицы давно стали бы брюхатыми.
Не в том дело, возражал на это Зосим: не в силе желания, а в воле действовать… Действовать? Интересно, что на это сказали бы братья Энеи из Беневентума! Они втроем убили хозяина и давай подстрекать остальных рабов: станем, мол, вольными разбойниками, довольно гнуть спину! И каков результат? Очень простой: повесили всех троих братцев, как миленьких, повесили рядышком, вместе с волей и действием, да и с личностью в придачу…
Одним словом, если приглядеться, то все люди одинаковые, разве что один потолще, другой поумнее, третий красноречивее, а у четвертого нос свернут набок. Все это никак не объясняет, что такого особенного есть в Спартаке. И, между прочим, если как следует поразмыслить да приглядеться, то получится, что ничего в нем особенного и нет. Спартак и Спартак: расхаживает по лагерю, ну, рослый, зато немного сутулый, как лесоруб; никогда не снимает своих шкур. Наблюдательный, но молчаливый. Зато если что скажет, сразу выясняется, что это же самое готовилось сорваться и с твоего языка; а если скажет наоборот — что ж, значит, и ты думал наоборот. Улыбается редко, а если все-таки заулыбается, то наверняка не без причины, и от его улыбки у тебя теплеет на душе. Времени у него мало, но если он к кому присядет — к слугам Фанния или к пастухам из Лукании, то те довольны, хоть и не показывают виду, потому что наконец-то начинают понимать, зачем убивают время на этой сумасшедшей горе, вместо того, чтобы зажить по-старому, соблюдая закон и порядок и зная свое место.
Когда приказывает Каст, волей-неволей приходится повиноваться: перечить «гиенам» дураков нет. Когда командует Крикс, все подчиняются: как же не подчиниться такому огромному и суровому человеку! А когда что-то говорит Спартак, у тебя попросту не возникает желания противоречить — ну, не возникает, и все, что тут сделаешь? Какой смысл хотеть другого, не того, чего хочет Спартак, когда он хочет ровно того же, чего и все?
При этом не следует, конечно, забывать, что все хотят разного. Один хочет до конца своих дней проторчать на одном месте, другой рвется в Путеоли, спалить дом хозяина, и обязательно вместе с самим хозяином. Третий спит и видит, как бы захватить скопом корабль и взять курс на Александрию, прославившуюся своими женщинами. Четвертому мечтается напасть на Капую, сровнять ее с землей и возвести на ее месте новый город. Пятый ждет войны с Римом. Шестому хочется домой, к скотине — зачем его сюда занесло? Седьмой стремится на Сицилию, рабы которой уже заставляли трястись от страха гордый Рим. Восьмой рвется к киликийским пиратам, девятый — к чужим женам, а десятый считает самым важным запретить употреблять в пищу рыбу. У каждого свои желания, только одни объявляют о них в голос, даже готовы отстаивать их кулаками, а другие помалкивают. Но любой знает и чувствует, что человек в шкурах, обычный вообще-то человек, хочет точно того же, что и он. Так что этот сутулый, в шкурах — просто общий знаменатель для противоречивых желаний и надежд.
Возможно, в этом и заключалась его уникальность.
Приближался период дождей.
Прошло полмесяца после победы над Клодием Глабером; а после бегства семидесяти гладиаторов из Капуи минуло уже три месяца.
На горе Везувий иссякало продовольствие. Набеги на окрестные долины приносили все меньше добычи: вся округа, включая Геркуланум, Нолу и Помпеи, уже была обобрана. На десять миль вокруг долина Кампании, земной рай, сделалась голой и нищей, словно после нашествия саранчи. Города закрыли свои ворота, гарнизоны усилились и ощетинились оружием, в защитных стенах срочно заделывались бреши.
И все же поток людей, текший, вопреки законам природы, вверх на гору, не ослабевал. Заросшие бородами, в лохмотьях, покрытые шрамами, с кровоточащими ногами, они шли и шли. По пути они грабили имения, города же обходили стороной. Оружием им служили косы и заступы, топоры и палки. То были отбросы благословенной страны, мусор, удобряющий поля; они издавали смрад, тела их разъедали болезни. Они заносили в лагерь заразу и дурные привычки, отравляли его голодом и смутными, несбыточными надеждами.
Их ждал суровый прием. Те, кто прожил в лагере десять дней, взирали свысока на тех, кто заявился только три дня назад, а прожившие три дня уже считали себя старожилами и обдавали высокомерием новичков. В лагере царствовала скука. Началось брожение, некоторые уходили восвояси. Уходящих никто не останавливал. Пять тысяч людей жили на горе, изъяснялись на разных языках, ели, спорили, беседовали, ссорились из-за добычи и женщин, дружили, пели, убивали друг друга. И все это в ожидании — неизвестно чего.
Даже среди гладиаторов не было согласия, как поступить дальше. Пятьдесят главных зачинщиков встречались в своем узком кругу. Встречам этим, созывавшимся внутри кратера, предшествовали загадочные приготовления. Слуги Фанния таскали бурдюки с вином, а гладиаторы напускали на себя важность, ни дать ни взять сенаторы. Однако решения не принимались: всякий раз, подступая к вопросу о дальнейших действиях, они страшились определенности, отвлекались на второстепенные темы, затевали ссоры, шутили и в конце концов забывали, зачем собрались.
Спартак никогда не примыкал к проектам, рождавшимся ежедневно. Он молча выслушивал каждого и только под конец, когда встреча грозила завершиться полной неразберихой, коротко высказывался по не самым важным вопросам, по которым требовалось тем не менее немедля принять решение: провизия, оружие, места для вновь прибывших. Ему никогда не перечили, настолько разумны и просты были его предложения. Однако всех охватывало разочарование, потому что от него ждали главного слова, а он, казалось, не замечал этого ожидания.
Вместо этого он мало-помалу перестроил разношерстные шайки в когорты и центурии, поставив во главе каждой по гладиатору. Потом подробно растолковал, как в горах его родной Фракии делают оружие: деревянные копья с закаленными на костре наконечниками, круглые плетеные щиты, обтянутые свежими шкурами. Наконец, разделил всех на группы: авангард, резерв, регулярная пехота, тяжелая кавалерия в доспехах и с оружием разбитых римлян, легкая кавалерия с мечами и рогатинами.
На все это требовалось время. День шел за днем, и не проходило дня, чтобы не вспыхивало ссор, не произошло убийство; запасы продовольствия таяли, со дня на день должны были зарядить дожди.
Зато по истечении двух месяцев после поражения Клодия Глабера он достиг цели: слепил из бесформенной кучи глины, образовавшейся на горе Везувий, подобие армии.
Как-то раз, ровно через два месяца после поражения Клодия Глабера, слуги Фанния прошли по всему лагерю, повторяя призыв: отправить выборных представителей от каждых десяти человек в кратер, где состоится совет.
Лагерь охватило лихорадочное возбуждение. Люди собрались кучками, заговорили, заспорили. Поползли слухи. Лагерь очнулся, как после тяжкого забытья, и энергично стряхнул с себя сон.
Бесконечная процессия потянулась вверх по склону, к краю кратера. На совет предполагали допустить только старейшин и выборных десятников, однако к кратеру двинулись все; большинство шло по тропе, самые отважные карабкались по голым скалам. Большинство впервые увидело внутренность кратера, обугленные камни и застывшую в невероятных фигурах породу. С кромки кратера люди хлынули вниз, в жерло, устроив оглушительный камнепад. Новички впервые любовались памятными символами осады: фракийским сосудом, кельтским сосудом, скелетами зарезанных с голодухи мулов. На дне кратера росла озаряемая безжалостными лучами солнца толпа, быстро превращавшаяся в плотное, потное скопище. Даже на стенках кратера угнездились люди: они сидели на черных скалах, цеплялись за дикую лозу. Те, кому не хватило места внутри, довольствовались галеркой — кромкой кратера. Из кратера, как из огромной раковины, вырывался в раскаленный воздух невнятный тревожный гул.
Первые слова Спартака потонули в гомоне. Одетый в шкуры, он стоял на естественной трибуне — выпирающем куске скалы высоко над дном кратера; рядом с ним были Крикс, несколько гладиаторов и слуг Фанния. Запах тысяч распаренных тел сливался в общий смрад, ожидания каждого сливались в одно, страшное своей неотвратимостью. Спартак неловко вскинул руку — и тут же гладиаторы и здоровяки с ним рядом повторили его жест, добившись тишины. Спартак начал говорить во второй раз; стены кратера усиливали его голос.
— Скоро зарядят дожди, — сказал он. — У нас все меньше еды. Пора переходить на зимние квартиры.
«Он прав, — подумал пастух Гермий, сидевший на груде камней напротив. — Меня как раз это и тревожит». Одобрительно скаля зубы, он любовался Спартаком, выглядевшим сейчас очень величественно. Говорил он немногим громче, чем обычно; можно было подумать, что он обращается к одному пастуху.
— Римляне могут послать против нас новую армию, — продолжил Спартак. — Зимой нам будет нужен город, окруженный стенами, наш собственный город.
Вообще-то он не собирался этого говорить. Защищенный город не взять, не имея осадных орудий. Огромный Крикс, стоявший рядом, повернул голову и бросил на него сумрачный взгляд. Он знал, что так, с разбегу, город не возьмешь, как знали это и все пять тысяч, набившиеся в кратер.
И все же пять тысяч слушали, затаив дыхание, дышали, как один человек, пахли, как один. Они знали, что Спартак прав, что возможно все, стоит только хорошенько захотеть.
— Город, — говорил Спартак, — город с домами, за прочными стенами, наш город! Пусть тогда приходят римляне — они разобьют себе головы о стены города, принадлежащего нам, — города гладиаторов, города рабов.
Только сейчас он услыхал тишину и свой голос, нарастающий при прыжках со скалы на скалу. Он услыхал общее дыхание, почувствовал общую надежду.
— И зваться этот город будет Городом Рабов. — Спартак уже не узнавал свой голос. — Помните, мы добьемся того, чего хотим! В нашем городе не будет слуг. Может быть, у нас будет не один, а много городов, целое братство Городов Рабов. Не думайте, что это пустые слова, такое уже бывало. Давным-давно существовало Государство Солнца…
При этом его не покидала мысль об осадных орудиях, которых у них не было. Он собирался говорить о них, а заговорил о Государстве Солнца. Перед его мысленным взором все время маячил тонкогубый носатый эссен, сидящий на камне и качающий круглой головой. Его взгляд прирос к пастуху Гермию, скалящему зубы и таращащему глаза. Ноздри наполнял тяжкий дух, поднимающийся от толпы.
— Почему сильные должны прислуживать слабым? — проревел он, невольно вскидывая обе руки. — Почему твердое должно подчиняться слизи, почему многое повинуется малому? Мы стережем их скот, тащим из коровьей утробы окровавленного теленка, но ему не ходить в нашем стаде. Мы складываем для них ванны, в которых нам не возлежать. Нас много, а нами помыкают немногие — почему так происходит, скажите, почему?!
Он уже перестал думать об осадных орудиях, он вслушивался в слова, бьющие из него, как из неведомого прежде источника; они превратились в поток, затоплявший людей в кратере, затягивавший их в водоворот. Слова пенились у них в ушах, глаза были прикованы к человеку в звериных шкурах, гордо выпрямившемуся на фоне голой скалы.
— Нас так много, — говорил Спартак, — а мы им служим, потому что слепы и не спрашиваем, зачем это. Но когда мы начнем спрашивать, они потеряют власть над нами. Говорю вам, когда мы начнем спрашивать, им придет конец, они сгниют, как тело с оторванными руками и ногами. Мы будем смеяться над ними. Если мы захотим, засмеется вся Италия, от Галлии до Тарентума и Африки. О, что это будет за смех, что за крики будут раздаваться за Восточными воротами, какие тревожные возгласы за остальными воротами, как будут стенать на семи холмах! Ибо тогда они будут перед нами ничем, и стены их городов рухнут сами по себе, без всяких осадных машин!
Он умолк, удивленно вслушиваясь в эхо собственных слов. И снова он видел не своих слушателей, а одного круглоголового эссена, сидящего на камне. Потом он опять вспомнил про проклятые осадные машины.
— Говорю вам: нам нужен город за стенами, наш собственный город, за стенами которого мы могли бы укрыться. Но у нас нет осадных машин…
Людское море встревоженно заколыхалось. Сгрудившиеся на дне кратера переминались с ноги на ногу, словно разминали члены, очнувшись от сна.
— …осадных машин у нас нет, и стены города сами по себе не рухнут. Но мы разобьем лагеря перед всеми воротами и через все ворота, через все лазейки в стене будем слать свои послания городским рабам, твердить и твердить им, пока не будем услышаны: «Гладиаторы Лентула Батуата из Капуи спрашивают вас, почему сильные должны быть в услужении у слабых, почему многие должны служить немногим». Вопрос этот станет для них, как дождь камней из катапульт. Городские рабы услышат наш призыв и возвысят свой голос, соединят свои силы с нашими. И с той минуты стен не станет.
Теперь Спартак различал в толпе женщин, не сводивших с него глаз. Они прерывисто дышали, их взволновал его голос. Он видел, что стоит ему приказать — и мужчины убьют Крикса; каждое его слово могло стать для них законом.
Он заговорил о прошлом своего полчища, о том, как пятьдесят стали пятью тысячами. Он говорил о раскалившей Италию ярости угнетенных, закованных в кандалы. Ярость эта мчит бурными потоками, подобно горным рекам, низвергающимся в долины. Они, пятьдесят гладиаторов Лентула, вырыли глубокий ров, единое русло, вбирающее в себя все потоки, и в этом рву захлебнулись Глабер и его армия. Теперь этот поток важно обуздать и направить в правильную сторону, ибо негоже растрачивать такие силы зря. А это значит, что надо захватить первый укрепленный город еще до того, как хлынут дожди, чтобы они оросили первый росток братства городов рабов, которое распространится на всю Италию. То будет великое сообщество справедливости и доброй воли, имя которому будет — и тут он во второй раз произнес эти слова — имя которому будет «Государство Солнца».
Но были в толпе и два немолодых чиновника из города Нолы, посланные старшим советником Авлом Эгнатом с тайным поручением выведать намерения разбойников. Они стояли, стиснутые толпой, и внимали вместе с ней речам человека в звериных шкурах. Люди пожившие и много повидавшие на своем веку, они поняли, что в эти минуты решается не только судьба их города, но и судьба всей Италии, всей Римской империи, а значит, и всего обитаемого мира.
II. Разрушение города Нолы
Импресарио Марк Корнелий Руф был полностью удовлетворен: ему удалось превратить первое выступление своей труппы в Ноле в громкое событие. У него были собственные представления о современных методах рекламы, и он постарался, чтобы слух о дерзком политическом послании пьесы вовремя облетел город.
На протяжении пяти дней город Нола оставался отрезан от остального мира: перед всеми его воротами расположилась армия рабов, бич Кампании. Городские рабы все больше волновались, каждую ночь происходили поджоги и грабежи. Если подкрепление, обещанное Римом, еще задержится, ситуация окончательно выйдет из-под контроля.
Несмотря на все это — а может, как раз благодаря всему этому — Руф сумел превратить свою премьеру в весьма примечательное событие. Театр под открытым небом был переполнен, на лучших местах сидели советники со своими дамами, гордые, в белых одеждах. Присутствовала вся городская знать, за исключением главного советника, престарелого Авла Эгната, для которого театр был новомодным и предосудительным развлечением. Стеснительные представители сельской местности сидели среди городских всадников и тщетно пытались завести с ними дружескую беседу; несколькими рядами дальше расположилась «золотая молодежь» Нолы — отпрыски хороших семейств с накрашенными щеками и намасленными волосами. Позади них, на стоячих местах, толпился плебс — шумный, потный, лузгающий горох.
Аудитория и сцена были защищены от солнца цветным брезентовым навесом. На сцене стояли горшки с пшеничными колосьями на фоне черного полотна, изображавшие поле. Ведь пьеса называлась «Букко-крестьянин».
Первым появился Букко в маске с малиновыми щеками и ярко-желтыми волосами. Он что-то невнятно бормотал и передвигался рывками, как будто его дергали за ниточки.
— Я крестьянин Букко, — начал он. — Я только что вернулся с войны в Азии, где убил семнадцать вражеских солдат и двоих слонов, за что получил от своего командира награду. «Букко, — сказал мне командир, — ты уже убил достаточно врагов и проявил достаточно геройства, чтобы честно вернуться домой и обрабатывать свое поле». Но где моя жена и дети, не говоря о работниках, где радостная встреча? Быстрее сюда, жена, дети, работники, Букко воротился домой с победой!
Он хлопнул в ладоши и несколько раз обернулся вокруг своей оси, но ничего не добился. Пока он вращал глазами и махал руками, на сцену с похоронной медлительностью поднялся Мак-Обжора. Он олицетворял лень и уродство и смешил публику тряпичным фаллосом, свисающим до колен. На ходу он грыз чудовищных размеров репу и подбирал из-под ног солому.
— Эй, ты, каппадокийское пугало, — крикнул Букко-крестьянин, — чищеная луковица, от которой на глаза наворачиваются слезы, мерзкая жаба, что ты делаешь на моем поле?
— Собираю урожай, — отвечал Мак, вгрызаясь в репу и подбирая очередной колосок.
— О боги! — вскричал Букко-крестьянин. — В мое отсутствие в поле появился новый работник! И, несомненно, мужчина, как всякому видно!
— Полагаю, в Азии тебя хватил солнечный удар, — ответствовал Мак неторопливо. — Наверное, мозги вытекли у тебя из ушей, раз ты воображаешь, что это поле твое. Так знай же: это поле принадлежит досточтимому Доссене.
Услышав это, Букко-крестьянин надолго запричитал. Но новость оказалась не единственной. Досточтимый Доссена не только отнял у него поле, но и прогнал его жену и ребенка; Доссене принадлежат все окрестные земли, а Мак-Обжора — его раб. Букко расхаживал, рыдая, по полю, переставшему быть его собственностью, осыпая проклятиями могущественных богов, ради которых он воевал и убил семнадцать человек, не считая двух слонов. Вот она, признательность отчизны!
Но одними проклятиями не проживешь; в поисках пропитания Букко решил наняться в работники на земле, принадлежавшей прежде ему. В связи с этим на сцене появился сам Доссена, горбатый, с крючковатым носом. Выслушав речь Букко, произнесенную на простонародном оскском наречье, Доссена, изъясняясь на нарочито грамотной латыни, отклонил его просьбу: на него трудятся одни рабы, а свободные работники ему не нужны, потому что они требовательны, хотят денег и даже хорошего обращения. Только этого не хватает! С этими словами Доссена покинул сцену.
Беспомощный Букко, оставшийся на сцене один, уже не мог даже браниться. На его счастье, рядом возник Папий, благожелательный мудрец, подсказавший выход: пусть Букко отправляется в Рим, где каждый, утративший средства к существованию, ежемесячно получает от властей бесплатное зерно.
— Ступай в столицу, сын мой, — посоветовал Папий, — и питайся пшеницей, которую ты будешь жать, не засевая.
Букко этот совет очень порадовал, и он с радостной песенкой отправился в Рим.
Со сцены были поспешно убраны горшки с колосьями, черная ткань, изображавшая поле, легла горизонтально, став улицей. Букко уже дивился на столичные масштабы, многолюдство, вонь. Но вскоре он проголодался и спросил у первого же прохожего, где раздают зерно неимущим.
Прохожего, тучного мужчину с документами под мышкой, от этого вопроса чуть не хватил удар. Откуда, спросил он, ты явился — не с Луны ли, не из германского ли захолустья? Разве ты не знаешь, что славный и неустрашимый диктатор Сулла, да будет благословенно его имя, отменил бесплатную раздачу хлеба, ибо деньги были нужны Риму на войны? И вообще, лучше Букко исчезнуть подобру-поздорову, чтобы не быть заподозренным в смутьянстве и измене и не попасть в проскрипционные списки…
Надежды Букко не сбылись, голод мучил его все сильнее. Из собравшейся неподалеку возбужденной толпы до него долетел вопрос, за кого он будет голосовать на выборах — за Гая или за Гнея. Букко-крестьянин ответил со всей искренностью, что это его ни в малой степени не волнует. Предводитель толпы посоветовал все же голосовать за Гнея и сунул ему монетку. Обрадованный Букко бросился в пекарню, купить хлеба; но пекарь объяснил, что эта монетка новая, из тех, которыми государство дурит народ: снаружи серебряная, а внутри медная, таких он не берет. Сел Букко на булыжник перед пекарней и зарыдал.
Проходивший мимо человек спросил, почему он плачет. Букко отвечал, что побывал на войне, убил семнадцать врагов и двух слонов, а в награду не может получить Даже двух хлебов. Человек назвал Букко героем, которому надлежит знать, что диктатор Сулла, да будет благословенно его имя, обещал ветеранам своих легионов землю. Всхлипывающий Букко ответил, что впервые об этом слышит, потому что не только не получил еще земли, но и лишился своей. Человек сказал, что это позор и что он постарается, чтобы Букко получил взамен новое поле, еще лучше прежнего.
Снова на сцене возникло поле, потому что Букко опять превратился в земледельца. Но истинные беды, как оказалось, начались только сейчас. Новое поле Букко оказалось слишком каменистым, и скудный урожай, полученный с него, он вынужден продать себе в убыток, потому что ввоз пшеницы из-за моря привел к падению цены. К тому же он вынужденно залез в долги к горбуну Доссене, иначе ему было бы не на что купить плуг и борону. После уборки урожая Доссена явился к нему с управляющим и с невнятным документом, согласно которому Букко снова лишался земли.
— Что за злодейство! — восклицал краснолицый и желтоволосый Букко в своем монологе, стоя один на сцене. — С каждым днем жить становится все тяжелее. Справедливость в нашем государстве — что коровий хвост: так и норовит хлестнуть тебя по лицу. Ни за что не поверю, что все это происходит по воле богов. Как же тебе дальше быть, бедный старый Букко? Все, что ты можешь, — это метаться, недоумевать и тревожиться, как мышь в мышеловке…
Но когда Доссена и управляющий явились снова, чтобы согнать Букко-крестьянина с земли, тот схватил палку и набросился на них, крича, что уйдет к разбойникам на гору Везувий, чтобы вместе с ними покончить с этой проклятой страной. Этим пьеса завершилась; актеры, как и положено, вышли кланяться и сорвали оглушительные аплодисменты.
Старый Авл Эгнат, главный советник Нолы и крупнейший в городе коллекционер произведений искусства, ждал после спектакля к себе на обед двоих гостей: популярного лидера прогрессистов Герия Мутила и импресарио Марка Корнелия Руфа.
Старик расхаживал по столовой, раздраженно поглядывая на накрытый для приема стол и то и дело поправляя подсвечник, который неправильно освещал новую вазу — предмет гордости хозяина.
Он предвкушал беседу с гостями — старым циником Руфом и молодым народным трибуном, хотя последний и принадлежал к течению, внушавшему старому Эгнату ужас. При этом его печалило, что он не может угостить их так, как следовало бы. Нола уже пять дней была отрезана от остальной Италии, так что о свежих овощах не приходилось мечтать; престарелому советнику пришлось даже отказаться от привычного утреннего выезда за городские ворота, а ведь он доставлял себе это удовольствие уже много лет, не пренебрегая им ни ради усмирения горячих голов в совете, ни ради молодой жены, подарившей ему молодого наследника, когда ему было уже больше шестидесяти лет.
Первым явился Мутил. Поскольку трибун оппозиции был гостем дома впервые, сенатор сам встречал его в саду, проявив сердечность, немного подпорченную церемонностью. Занимая гостя беседой — возможно, чуть более оживленной, чем следовало бы, но как иначе преодолеть смущение первых минут? — он сердился на жену, которая замешкалась с туалетами и заставляла их ждать. Одновременно он с любопытством отметил, что при свечах знаменитый говорун выглядит далеко не так величественно, как когда появляется перед своими сторонниками. Сейчас он казался приземистым, немного провинциальным; возможно, его одеяние было специально накрахмалено перед походом в гости. Даже прогрессистские принципы не помогли ему избавиться от замешательства, которое охватывало всякого, кто впервые входил в дом Эгната в Ноле; проезжие римские вельможи, навещавшие старого Эгната, и те не могли закрыть от удивления ртов, так что Эгнат обходился без модных слухов, которые те обыкновенно собирались поведать.
Сенатор похвастался гостю новой черной вазой и понял, что тот не понимает, какое это сокровище. Выходит, нынче можно стать знаменитым, ничего не смысля в вазах! Он попытался объяснить гостю разницу между древнеэтрусскими и критскими вазами с одной стороны и современным массовым производством, организованным на Самосе и в Ареццо, — с другой; он пространно рассказывал о законах формы и орнамента и о том, как преступно небрежно обходятся с материалом нынешние невежды-ремесленники. Его рука в синих венах скользила в воздухе над вазой, которая при своих немалых размерах казалась совсем невесомой. Трибуну было предложено полюбоваться уникальным изображением из красного лака на черной вазе — стройной обнаженной танцовщицей, будто парящей на двух крылах — разлетевшейся вуали. Чем яснее становилось равнодушие гостя, тем больше распалялся хозяин; унялся он лишь тогда, когда одновременно распахнулись двери в противоположных углах столовой, и Эгнат сразу увидел и второго гостя, и свою молодую жену. Хозяйка дома задержалась на мгновение в дверном проеме, а потом с театральным изяществом поприветствовала мужа и его гостей.
— Как я погляжу, — заговорил Руф, — наш друг снова признается в любви куску глины и готов заниматься этим весь вечер, моря гостей голодом. Ты сам, мой дорогой друг, — подлинное восьмое чудо света, стройный и моложавый, словно тебе опять двадцать лет, тогда как выскочки, вроде меня, становятся бесформенными уже в сорок, если не мокнут по четыре недели в году в горячих грязевых ваннах. Что толку в демократии, раз люди все равно делятся на две категории: одни с возрастом жиреют, другие, наоборот, делаются только стройнее?
Не прерывая своей изящной тирады, Руф направился к хозяйке дома и сказал комплимент ее платью, с легкостью вплетая в речь греческие слова. Не будучи церемонным, он ни на минуту не терял достоинства, даже некоей величественности. Старый Авл с улыбкой наблюдал, как Руф умудряется шествовать по скользкому мозаичному полу, не закрывая рта и при этом сохраняя горделивую осанку. Когда же он представил жене трибуна Герия Мутила, тот не мог не обратить внимание, что она выше его на целую голову.
Сначала они беседовали стоя, беря с поданного пожилым слугой подноса закуски и разноцветные наливки. Хозяйка с улыбкой предупредила, что на сей раз не несет ответственности за угощение: половина слуг покинула их в беде, примкнув к осадившим город разбойникам. Остановить их было невозможно.
— Почему ты не пьешь? — спросила она, заметив, что трибун отказывается от наливки, сопротивляясь бессловесной настойчивости оскорбленного слуги.
— Я пью только вино, — сказал трибун. — Прошлой ночью через стену перелезло человек двести. Люди Спартака встретили их с распростертыми объятиями. Между прочим, не все дезертиры были рабами: половина из них ремесленники, рабочие, огородники. В пригородах близ Регио Романа участились грабежи.
— Божественное время для твоей пьесы! — обратилась хозяйка к Руфу. — Я слыхала, что у вас дня не обходится без скандала. Очень хочется посмотреть, но Авл и близко не желает подходить к театру!
Все четверо уселись за стол.
— А ты видел спектакль? — спросил Руф трибуна, принимаясь за рыбу. — Это, конечно, весьма примитивно, можно сказать, импровизация в старинном стиле, но люди, как ни странно, сходят с ума от восхищения.
— Конечно, видел, — ответил трибун. — Большая часть соблазна проистекает именно из примитивности. Если бы я имел влияние на театральную полицию, — он бросил взгляд на сенатора, — то добился бы запрета пьесы.
Рыбья кость застряла у Руфа в горле. Хозяин с любопытством косился то на одного, то на другого.
— Как же твои демократические принципы, друг мой? — спросил он Мутила.
Трибун не улыбнулся в ответ.
— Тебе следует самому посмотреть пьесу, Эгнат. Она доказывает людям буквально на пальцах, что разумнее всего присоединиться к разбойникам.
— В своей последней речи, — сказал уязвленный Руф, — ты говорил что-то в этом же роде, только еще более подстрекательское. Твои слова звучали так соблазнительно, что запечатлелись у меня в памяти. — И он с саркастической ухмылкой процитировал: «Дикие звери Италии имеют пещеры, а люди, сражающиеся и умирающие за нее, лишены крова; бездомные, они вынуждены скитаться по стране с женами и детьми. Политики лгут, когда побуждают бедных защищать свои очаги от врага, ибо у тех нет ни дома, ни другого имущества, которое стоило бы защищать. Они именуются владыками мира, но при этом не владеют даже крупицей земли». Как это называть, если не подстрекательством?
— Остается заключить, — подытожила со смехом хозяйка, — что оба наши гостя полностью согласны с разбойниками.
— Я имел в виду всего лишь земельную реформу, — возразил трибун, сильно покраснев. — К тому же это была всего-навсего цитата из речи Гракха-старшего.
— Если бы я позволил своим актерам цитировать классиков, — подхватил Руф, — разных там Платонов и Фалесов Халкедонских, произносивших зажигательные речи о равенстве и обобществлении собственности, то давно был бы брошен в темницу.
— Ничего, если твоим тюремщиком окажется мой муж, я буду каждый день посылать тебе вкусную передачу.
— Ты очень добра, — пробормотал Руф. — Только я опасаюсь, что если Рим будет слать нам подкрепления с такой же скоростью, как до сих пор, то у нас здесь не останется ни тюремщиков, ни тех, кого сажать в тюрьму, ни даже тех, кому сочувствовать посаженным…
— Ты считаешь, что Спартак настолько опасен? — спросила хозяйка.
Руф пожал плечами.
— Вчерашние грабежи не были стихийными, — сказал трибун. — Чувствуется рука организатора. А дезертиров столько, что поневоле задумаешься… Люди Спартака определенно засылают сюда своих подстрекателей.
— Нет подстрекателя лучше, мой друг, — сказал Руф, — чем пустота желудка, одна на всех. Когда у кого-то урчит в брюхе от голода в Капуе, то это как камертон, заставляющий отзываться все голодные желудки Италии.
И тут же Руф почувствовал, что сидящие с ним за столом думают об одном и том же: сам Руф всего десять лет назад был рабом, потому и знает, наверное, так много об акустических свойствах некормленых желудков. Он перестал есть, вытер пальцы и посмотрел Эгнату в глаза.
— Мне ли этого не знать! — После этой фразы, произнесенной с нарочитым спокойствием, он снова проявил интерес к жареному мясу.
Молодая жена советника поспешно осушила свой бокал, четвертый или пятый по счету, и показала жестом, что его снова надо наполнить. Пожилой слуга у нее за спиной налил только половину, стараясь не смотреть на советника.
— Хотелось бы мне узнать, — сказала она, — что же такого особенного в этом Спартаке! Еще три месяца назад никто не знал о его существовании, а сегодня он — живая легенда. Не пойму, каким образом человек способен завоевать такую власть над людьми.
— И я не пойму, — сказал престарелый Эгнат. — Возможно, Руф объяснит это тем, что его брюхо урчит громче всех в Италии?
— Вряд ли будет достаточно одного этого объяснения, — возразил Руф.
Трибун откашлялся. Он определенно завидовал громкой репутации отсутствующего вожака разбойников.
— Говорят, он очень ловкий оратор. Если это так, то другого объяснения не нужно.
— Я с этим не согласна, — возразила хозяйка, снова протягивая слуге пустой бокал. — Он берет чем-то еще. Знаешь, — обратилась она к Руфу, трогая его за плечо, — каким я его представляю? Страшно волосатым, с голой грудью, с пронзительным взглядом. В прошлом году я присутствовала на казни негодяя, нападавшего в горах на маленьких детей. У того был как раз такой взгляд. — Она возбужденно засмеялась, и Руф подумал, что мужчине старше шестидесяти лет все-таки негоже жениться на такой молодой женщине. Возможно, Эгнат прочел его мысли по глазам, потому что тут же вмешался:
— А я представляю его совсем другим: лысым, толстым, потным, как носильщик из римской Субуры. В своих речах он то произносит пафосные слова, то допускает непристойности; не исключаю, что он сентиментален и окружил себя мальчиками.
— Враг пригвожден к позорному столбу! — сказал Руф со смехом. — Между прочим, я знаю его лично.
— Неужели? — воскликнула хозяйка. — Почему же ты молчал?
Руф был доволен произведенным впечатлением.
— Я видел его в школе гладиаторов моего друга Лентула в Капуе. Он водил меня по школе во время утренней разминки.
— Каков же он? Наверное, ты сразу обратил на него внимание? — спросила хозяйка.
— Увы, нет. Помню только, что на нем была звериная шкура, но варвары одеваются так сплошь и рядом.
— А каков он с лица? — не унималась молодая хозяйка.
— Боюсь, что разочарую тебя: не могу вспомнить точно. Как видишь, он не произвел на меня сильного впечатления. Я бы сказал, что лицо у него обычное — широкое и добродушное. Сам он ладный, разве что немного костлявый. Единственное, что я запомнил, — что передвигался он как-то задумчиво, тяжеловесно. Я еще мысленно сравнил его с дровосеком.
— Не почувствовал ли ты чего-то необычного, загадочного, какой-то волшебной силы?
— Нет, не припомню, — сказал Руф. Он был рад осадить молодую хозяйку из чувства солидарности со старым Эгнатом. — Должен признаться, что одно дело любоваться царем Эдипом на сцене и совсем другое — застать его за утренним туалетом.
— Все равно, в нем должна быть какая-то изюминка, иначе он не стал бы вожаком, — не отставала хозяйка.
— Согласен, — сказал Руф со вздохом. — Хотя лично я полагаю, что героев создают условия, а не наоборот. Условия сами указывают на правильного человека. Уж поверьте мне, у истории безошибочный инстинкт: это она открывает людей, о которых потом говорят, будто они «делают историю».
Разговор потерял остроту, все четверо налегли на еду и питье. За их спинами сновали слуги. Один из них наклонился к хозяйскому уху.
— Снова грабежи? — осведомился Руф, от которого никогда ничего не ускользало.
— Ничего особенно, опять пригороды, — отозвался старый Авл, украдкой поглядывая на жену. Ее новость о грабежах нисколько не взволновала, она продолжала пить и распаляться. Руф уже чувствовал, как она трется бедром об его колено.
— У нас в Ноле бывало и похуже, — сказал престарелый советник. — Достаточно вспомнить гражданскую войну… — Он смущенно глянул на трибуна и умолк.
— Ты не состоишь в родстве с Гаем Папием? — спросил Руф трибуна, отодвигая колено и по-отечески глядя на свою соседку.
— Он приходился мне дядей, — коротко и сердито ответил трибун.
Трибуну Герию Мутилу было двадцать лет, когда народы юга Италии — самниты, марсы и луканцы — восстали против Рима. Одним из вождей восстания был его дядя, Гай Папий Мутил. Нола, населенная одними самнитами, первой из городов присоединилась к восставшим, сломив сопротивление своих проримских аристократов. На протяжении шести лет римляне осаждали Нолу, но Нола держалась. Потом в самом Риме произошла революция вод руководством Мария и Цинны. Жители Нолы немедленно распахнули ворота города и побратались с недавним врагом, встав под знамена революции. Аристократия сопротивлялась, разом забыв про свой римский патриотизм и вступив на путь сепаратизма. Еще через три года наступила реставрация: Сулла завладел Римом, в Ноле снова произошли перемены. Аристократы заявили, будто всегда твердили, что спасение города — в союзе с Римом; тем не менее народ запер ворота и еще два года выдерживал осаду. В конце концов восставшим пришлось бежать, предварительно спалив дома аристократов; последний вожак южно-италийского восстания, Гай Папий Мутил, был убит во время бегства.
— Я хорошо знала твоего дядю, — сказала трибуну хозяйка. — Я была тогда малюткой, и он любил качать меня на колене. У него была чудесная борода — вот такая… — И она показала жестом, какую бороду носил национальный герой Самния.
— Он был убежденным патриотом, — важно проговорил Эгнат, словно боялся, как бы его жена не обидела трибуна. — Но при этом шовинистом и ненавистником римлян, — добавил он.
— Неправда, Авл! — взвился трибун. — Почему ты не кичишься шовинизмом, будучи представителем одного из старейших здешних родов? Да потому, что твои интересы и интересы твоих сторонников тесно связаны с интересами римской аристократии, постоянно откладывающей земельную реформу и защищающей крупных землевладельцев. Южно-италийское восстание было всего-навсего выступлением крестьян, пастухов и ремесленников против ростовщиков и богачей-землевладельцев. Его программа не была ни самнитской, ни марсийской, ни луканской, это была программа земельной реформы и гражданских прав. И вообще, последние сто лет внутренней жизни Рима можно обобщить одной фразой: отчаянная борьба между сельским средним классом и крупными землевладельцами. А все остальное — просто болтовня официальных историков.
— Хотите еще рыбы? — предложила гостям хозяйка.
— Нет, благодарю! — отрезал трибун, злясь на то, что она, сама того не зная, нащупала его слабое место: он не умел прилично обращаться с рыбой.
— Все эти новомодные теории весьма привлекательны, — откликнулся старый Авл, — только я в них не верю. По-моему, корень всех бед надлежит искать в моральном разложении римской аристократии, в ее привычке к роскоши и продажности. Еще Катон Старший…
— Только Катона Старшего осталось вспомнить! — не выдержал Руф. — Все эти вздохи праотцев и их заклинания о нравственности и добродетели никого больше не трогают. Ты не хуже меня знаешь, что Катона Старшего ровно сорок четыре раза уличали в шантаже.
— Готов согласиться, что вы оба весьма поднаторели в истории, — молвил старый Авл, которого спор все больше утомлял. Он встал, медленно прошелся по залу, рассеянно остановился перед своей черной вазой и нежно прикоснулся к ней пальцем.
— Что скажешь об этом шедевре, Руф?
— Чудесно, — отозвался Руф. — Весь вечер не свожу с нее глаз.
— У меня нет аргументов в споре с вами, — сказал главный советник, — и вы, наверное, сочтете это сентиментальностью, но все равно, мой аргумент — вот эта ваза, и это несравненно более сильный довод, чем любой, который способны привести вы оба.
— Ты хочешь сказать… — начал Руф.
— Ничего я не хочу сказать! — раздраженно оборвал его старик. — Не обязательно спорить по любому поводу.
— Я просто хотел напомнить, — спокойно закончил свою мысль Руф, — что даже эта ваза не италийского, а критского происхождения. Если я не прав, поправь меня.
— А я ее купил! — фыркнул старик. — Все, что лепится, рисуется, пишется, изобретается в мире, — все стекается к нам. Без нас, всеми осуждаемой римской аристократии, ничего это вообще не появилось бы.
— Возможно, — молвил Руф и слегка поклонился, тоже давая понять, что спор прекращен.
Возникла несколько смущенная пауза. Трибун презрительно улыбнулся. Сам он и то не знал, на кого сейчас обращено его презрение — на старого аристократа или на выскочку, бывшего раба.
— Не перейти ли нам в сад? — предложила хозяйка, нарочито глядя мимо Руфа. — Здесь для политики жарковато. — Она хлопнула в ладоши, и на ее зов немедленно явился пожилой слуга.
— Пусть принесут факелы, — распорядился советник. — Мы выйдем в сад.
— Я принесу факелы, Авл Эгнат, — ответил слуга.
— Не ты! Я сказал: «Пусть принесут». — Советник еще не поборол своего раздражения. Все стояли в открытых дверях, выходящих в сад. Снаружи было прохладно и очень темно, но над центром города горело багряное зарево.
Старый слуга замялся, не зная, как поступить.
— Пойми, — сказала хозяйка мужу с нервным смешком, — все слуги разбежались. Сейчас начнется самое интересное…
В ту ночь армия рабов, впущенная в город толпой грабителей, подвергла его полному опустошению. Командиры — Спартак, Крикс и юный Эномай — не сумели предотвратить убийства половины свободных жителей города. Среди убитых оказались главный советник Авл Эгнат с женой и народный трибун Герий Мутил.
Импресарио спасся по счастливой случайности. У него не осталось ни актерской труппы, ни вещей, ни денег; помимо самой жизни, ему удалось сберечь только черную вазу, которую он прихватил из подожженного дома Эгната. На вазе танцевала красная лаковая фигурка обнаженной танцовщицы, словно парящая на крыльях своей разлетающейся вуали.
III. Прямая дорога
Десять тысяч, конные и пешие, уходят по дороге на север.
Позади дождь тушит догорающие дома города Нолы. От пожарищ дождь кажется черным; по булыжным мостовым, разделяющим пепелища, текут черные потоки.
Город по-прежнему завален трупами, обмытыми дождем и похожими на тела утопленников. Они валяются среди руин разграбленных домов, среди ломаной мебели, расколоченных зеркал, остатков тарелок и кроватей, стульев и одежды. По развалинам ползают женщины, по уши забрызганные грязью, доставая то немногое, что уцелело; рядом обессилено сидят и молча рыдают мужчины. От храма остались тонущие в грязи золотые сосуды и серебряные подсвечники, но до них никто не дотрагивается. Нола безмолвна.
Нола безмолвна; прошлая ночь пронеслась по ней вихрем безумия, огласила предсмертными криками и ревом пламени, треском разрушаемым домов, мычанием скотины, пронзительным детским визгом. Но теперь здесь не слышно ни звука; разве что журчат бегущие по улице черные дождевые ручьи.
Убийцы ушли — но не вернутся ли они? Толпа людей, лишившихся всего, входит в устоявший верхний город, построенный из кирпича и камня. На телегах, запряженных мулами, они везут кто что: сломанные столы, размокшие прялки, музыкальные инструменты с лопнувшими струнами, сковороды, открытые детские гробики, мертвого теленка, деревянного идола с невидящими глазами. Их встречают первые добровольные помощники, самоотверженные молодые люди, подчиняющиеся воинской дисциплине. Происходит эвакуация трущоб.
Убийцы ушли? Ушли навсегда? Развалины разбирают и обыскивают, тела погибших складывают в амфитеатре. Как ни странно, верхний город пострадал мало: конечно, там разграблено и разрушено много богатых особняков, однако основные силы разбойников разгулялись во внутреннем городе; испугавшись тихих улиц и темных ухоженных садов, они взялись за хорошо знакомое: таверны, прилавки, бордели трущоб. Целые улицы вспыхивали здесь, подобно одному огромному факелу: внутренний город был сплошь деревянным.
Ушли? Навсегда? Дождю, кажется, не будет конца. Бездомных временно размещают на рынке и в общественных зданиях. В полудню в городском совете собираются уцелевшие советники. Сначала на заседании царит уныние, заместитель главного советника произносит траурную речь. Он говорит, что треть их соратников постигла страшная участь. Среди них сам Авл Эгнат, чье место он, заместитель, занимает нынче по печальной необходимости. Однако, продолжает заместитель, чья злобная зависть к главному советнику ни для кого не была секретом, все могло получиться еще хуже. К счастью, гнев нападавших обрушился, главным образом, на трущобы, больше всех пострадали такие же бедняки, как они сами, тогда как жилища имущих остались стоять. Пришло время предпринять все необходимые меры и, главное, запросить страхового возмещения убытков. Пафос отчаяния постепенно сменяется материальными соображениями. Быстрее договориться о займе, продать с торгов не затребованные площадки под застройку! Неизбежно резкое падение цен на землю, поэтому необходимы меры против спекуляции. На скамейках все больше пустых мест: советники покидают зал, чтобы потихоньку заключить в прихожей первые сделки по купле-продаже земли.
Ушли? Можно перевести дух?
Наступает ночь, дождь все льет и льет, бригада помощников-добровольцев, отважные молодые люди, строем покидает внутренний город. По пути им попадаются грабители в кандалах, валявшиеся пьяными в подвале одной из вилл и не успевшие унести ноги следом за своей уходящей ордой. Преступников отбивают у ополчения и на месте забивают до смерти. В здании городского совета замечены подозрительные личности — старые слуги и носильщики паланкинов, чьи хозяева совещаются внутри; их тоже окружают и убивают. После этого начинается охота на рабов, оставшихся в городе. Они защищали своих господ и не имеют никакого отношения к бунту, а теперь за это поплатятся. Убийства рабов продолжаются всю ночь. Дождь никак не прекратится. К утру помощники-добровольцы, отважные молодые люди, убивают больше рабов, чем пало людей при восстании.
Мало кто из рабов Нолы пережил эту ночь. Однако выжившие сочли, что убитые сами виноваты в своей участи, и прокляли Спартака, повинного во всех несчастьях.
Пятнадцать тысяч, конные и пешие, шли по дороге на север.
Позади остались развалины города Суэссулы; половина домов в городе сгорела, три тысячи людей были убиты — итоги одной ночи. В полдень, маршируя по оцепеневшему городу к Северным воротам, они любовались при ярком солнечном свете делом своих рук. Черные скелеты домов еще дымились, запах горелого мяса еще бил в ноздри. Улицы, по которым пришлось идти, были обрамлены трупами: их аккуратно сложили по обеим сторонам, убрав с мостовой. Человек в шкурах тоже видел трупы, медленно гарцуя впереди колонны; некоторые так и умерли с воздетыми руками и скрюченными пальцами, некоторые скалили зубы, некоторые были обожжены дочерна; мертвые женщины лежали на спине с развратно раскинутыми ногами, дети — ничком, с отрубленными конечностями. Настоящее Государство Солнца!
Он не знал, как это произошло, и не умел предотвратить. Он знал одно: виновен в случившемся Крикс. Толстяк сидел на коне мешком, словно под ним ленивый мул. и от скуки подремывал. После битвы на Везувии всякий раз повторялось одно и то же. Он, Спартак, разделил разношерстное полчище на когорты и полки, учил воинов-новичков обращению с оружием, создавал на пустом месте боеспособную армию. А Крикс лишь присутствовал при этом, угрюмо скучал, не помогал и не мешал, спал с кем попало — и с женщинами, и с мужчинами, а в остальное время все больше дремал, тяжелый и непроницаемый. А потом перед ними распахнулись ворота Нолы, и Крикс очнулся: пробил его час. Городу Ноле предстояло стать для них надежным приютом на зиму, но первая же ночь, которую они провели в его стенах, стала ночью Крикса, вертлявого недомерка Каста, его «гиен». Люди опьянели от безнаказанности, перестали слушаться приказов. Все увещевания мудреца-эссена, все разговоры о справедливости и снисхождении разлетелись по ветру, как солома, были унесены раскаленным ветром с запахом полыхающего города. Под дымящимися руинами было похоронено Государство Солнца.
Что он проглядел, что сделал неверно, почему люди ослушались его, почему его слова перестали до них доходить? Он упорно шел к цели, не совершал зла, не оступался. Неужели в этом и заключается его ошибка — в прямизне пути? Неужели правильнее было избрать обходные тропы?
Он развернул коня и поскакал назад, вдоль безмолвной колонны людей. Крикс проводил его ленивым взглядом и затрусил дальше, не отрывая тяжелый зад от седла, словно под ним мул, а не конь. Наверное, мечтал об Александрии.
Но колонна, невозмутимо мерившая шагами дорогу, видела, что Спартак, хоть и безупречно держится в седле, страшно исхудал лицом; глаза его запали и смотрели равнодушно. Рот превратился в узкую щелку, глаза сузились; это лицо никто уже не назвал бы добродушным. Оборачиваясь ему вслед, люди показывали на него пальцами и вздыхали — кто покаянно, кто горестно. Почему Спартак так упрям, так неразумен? Что он от них хочет? Они оскорбляют его тем, что сводят счеты с хозяевами, с рабовладельцами? Но если их не убивать, они сами устроят кровавую баню. Что касается рабов, вставших на сторону восставших, то их не только пощадили, но и приняли в свои ряды.
Так чего же надо Спартаку, почему он так зол? Кто они такие, в конце концов — разбойники или благочестивые пилигримы, секта странствующих глупцов?
Уже двадцать тысяч, конные и пешие, шли и шли по дороге на север.
Третий город, оставшийся позади, третий, превращенный в груду тлеющих головней, назывался Калатия. Город не оказал никакого сопротивления. Жители, словно околдованные, сами распахнули ворота, город, дрожа и стеная, сдался сам, подобно жизни, смиренно склоняющейся перед смертью. Горожане надеялись, что к ним на помощь подоспеют римские войска, но надежды не оправдались. Многие просили пощады, но их не щадили, ибо смерть не ведает ни пощады, ни жалости, ни справедливости, недаром имя ей — Смерть. Гибели избежали лишь те, кто, побратавшись с ней, сам стал сеять Смерть.
Кампанию заливало дождем, Аппиева дорога превратилась в речное русло. Струи, изливавшиеся из туч, напитывали почву влагой, стучали по крышам, обмывали окна — и шипели среди пожарищ, смешивались с пролитой кровью. То был конец благословенной Кампании: она принадлежала теперь беснующимся демонам числом во многие тысячи, затоптавшим ее душу и обрекавшим на гибель один ее город за другим.
Дождь поливал Аппиеву дорогу. По широким блестящим камням дороги и по склизким обочинам тащилось на север полчище, растянувшееся на многие мили. Впереди двигался авангард из гладиаторов, загородившийся широкими щитами, ощетинившийся копьями и мечами; во главе каждой когорты авангарда стоял командир. С флангов их прикрывала кавалерия — сирийцы и луканские пастухи, с тыла — бывшие слуги Фанния, воины в тяжелых латах, с кольчугой на руках и на ногах. А дальше раскинулась бесконечная, дикая людская масса, оружием которой служили дубины, топоры, косы. Люди эти были босы и оборваны, они хромали, бранились, пели. Еще у армии был обоз: мулы и запряженные быками подводы со скарбом и награбленной добычей, женщинами, детьми, калеками, нищими и шлюхами.
Замыкали чудовищную рабскую процессию злобные лохматые псы луканских пастухов — потомки волков, жиреющие на человечьем мясе.
Они спустились с горы Везувий, чтобы создать Государство Солнца. Они посеяли пламя и пожали пепел. Теперь их ждал город Капуя.
IV. Стойкая Капуя
Капуя вздумала сопротивляться.
Нола, Суэссула и Калатия сдались: послание Спартака сокрушило их оборону, рабы распахнули городские ворота — и стены рухнули без осады и без обстрела. Капуя надеялась выстоять.
Странные вещи происходили в городе Капуе.
Весть о падении Нолы принес в Капую импресарио Руф. Он прискакал один, без слуг и багажа, на взмыленной лошади; вид его был так плачевен, одежда в таком беспорядке, что городские стражники не сразу его пропустили. Он немедленно бросился в дом своего друга Лентула, где сперва принял ванну, а потом имел с хозяином дома обстоятельный разговор. Он на несколько часов опередил официальных курьеров римского сената и гонцов больших торговых компаний. Сообщение о падении Нолы было более тревожным известием, чем целая дюжина донесений о неудачах на азиатском фронте, потому что говорило о начале гражданской войны. Воистину, под вопросом оказалась судьба самой Римской Республики. В просторной бане Лентула подуло ветром Истории. Двое мужчин в банных халатах, обдуваемые этим безжалостным ветром, решили первым делом прикупить зерна, причем по любой цене.
Они предприняли необходимые для этого шаги, на что ушло несколько часов, а потом отправились к первому городскому советнику, чтобы сообщить ему о случившемся.
Тем временем слухи о разрушении Нолы сами достигли города. Чернь сгрудилась на рыбном рынке и на рынке ароматических масел; повсюду — в крытых торговых рядах, общественных зданиях, банях — только и судачили, что об этом. Люди сбивались в кучки, спорили и жестикулировали; некоторые не скрывали злорадства, некоторые горестно качали головами, но тоже не очень удачно скрывали свое удовлетворение. Чувство всеобщего довольства скоро вылилось в восклицания неприкрытого торжества; причины торжествовать у каждого были свои, но настроение радостного подъема было общее у всех высыпавших на улицы. Толпы завладели Капуей, когда армии рабов еще предстояло преодолеть немало миль до города.
Защитник и оратор Фульвий, прославившийся поджигательскими речами, которые он ежедневно произносил в вестибюле общественных бань, впоследствии сел за трактат, в котором обобщал причины этой вспышки общественного беспокойства. Название у трактата, так и оставшегося неопубликованным, было такое: «О причинах радости, с которой рабы и простые люди встретили новость о захвате гладиатором и вожаком разбойников Спартаком города Нолы».
Те, кому дано понять народные чувства, говорилось в трактате, способны угадать следующие причины ликования Капуи. Во-первых, злорадство, ибо города Капуя и Нола никогда не ладили. Во-вторых, местный патриотизм, ибо Спартак начинал свою, так сказать, карьеру именно в Капуе. В-третьих, в-четвертых и в-пятых, рабы и простонародье живут в благословенном городе Капуе в такой скандальной нищете из-за безостановочно растущих цен, отсутствия работы и эгоизма аристократии, что встретят аплодисментами любое событие, в каком разглядят возможность перемен, неважно, каких — ибо терять им нечего, разве что кандалы. Так почему бы — этим пассажем заканчивался неопубликованный трактат, автору которого самое место было в рядах разбойников, где он в итоге и оказался, чтобы без устали дискутировать с эссеном, поднаторевшем в божественном, а потом умереть бок о бок с ним на кресте еще до завершения дискуссии, — почему бы простым жителям Капуи не радоваться, более того, не торжествовать?
Когда Руф и Лентул прибежали к первому советнику, тот уже все знал. С ледяной вежливостью выслушал он импресарио, настоявшего, чтобы его впустили к первому советнику без предварительной договоренности, да еще в такой неурочный час, и которого, сверх того, сильно недолюбливал, памятуя вредный спектакль под названием «Букко-крестьянин».
Но когда Руф перегнул палку, предположив, что теперь опасность грозит самой Капуе, первый советник не удержался от снисходительной патрицианской улыбки и умерил пыл назойливого выскочки намеком, что магистратура сама разберется, когда и что делать. На этом аудиенция закончилась, и советник уже собрался выпроводить неудовлетворенного импресарио, сухо его поблагодарив (Лентул всего лишь безмолвно присутствовал при беседе, потому что испытывал рядом с аристократами понятное при его происхождении и положении смущение), когда с улицы донеслись неприятные голоса.
Сначала звучали отдельные крики, раздававшиеся где-то вдалеке, потом раздался шум приближающейся толпы; минута — и улицу заполнил народ, чей ропот ворвался во все окна.
Первый советник побледнел и прервал прощание с Руфом, чтобы подойти с ним и с Лентулом к окну. Толстый потный человек с эмблемой землекопа из Оскского квартала на одежде вскарабкался на деревянную бочку из-под вина — традиционный инвентарь любого бунта. Речь его, адресованная городскому совету, то и дело прерывалась аплодисментами. Оратор был краток: он заявил, что политики Капуи и нищета ее жителей вызывают не меньше возмущения, чем легион рабов. Иными словами, городскому совету предлагалось распахнуть ворота перед Спартаком.
Толпа одобрительно ревела. Старший советник благоразумно отошел от окна. В западных пригородах города тем временем уже начинались грабежи.
Спустя неделю армия рабов достигла Капуи, ворота которой оказались наглухо закрыты, а жители, как свободные граждане, так и рабы, горели энтузиазмом оказать достойный отпор неприятелю.
Странные события происходили в городе Капуя. Почему сменилось на противоположное мнение его жителей, всего несколько дней назад требовавших распахнуть ворота города перед Спартаком и называвших его освободителем? Как вышло, что ворота оказались плотно запертыми, а на стенах и под ними выстроились защитники города — рабы, защищающие свое рабство, униженные, защищающие свою нищету, голодные, рискующие жизнью ради того, чтобы урчание их пустых желудков стало еще громче?
Известный защитник и ритор, которого едва не прикончили за нежелание присоединиться к всплеску массового патриотизма — имя ему было Фульвий, а судьба готовила ему смерть на кресте, — вернувшись в тот день домой, взял гусиное перо с намерением описать события в Капуе и поразмыслить на пергаменте об их причинах. Он был не только писателем, но и юристом, знал, как коварна и противоречива душа человеческая, как она алчна и как при этом жаждет смысла. Писанию он предавался, как всегда, в тесной нише на пятом этаже дома около рыбного базара. Над его шатким столиком громоздилось деревянное стропило, поддерживающее крышу, так что писать ему приходилось в сгорбленной позе. Когда его посещала удачная мысль и он радостно вскидывал голову, неизменно происходил удар лбом о бревно, так что озарения Фульвия знаменовались шишками на голове. На чердаке было не продохнуть от зловония гниющей рыбы, лившегося в окошко вместе с шумом воинственной толпы на укреплениях и на улицах.
Первая часть трактата, повествующая о первоначальном энтузиазме в связи с приближением к городу армии Спартака, была завершена, так что теперь надо было приступать ко второй части и описывать внезапную враждебность капуанцев к армии рабов, а эта задача была не в пример сложнее. Начал Фульвий с заглавия второй части: «О причинах, побуждающих человека поступать вопреки собственным интересам». Но не успел он написать эти слова, как понял, что мысль неверна, потому что помнил многочисленные процессы, где выступал в роли защитника и где восхищался упорством и хитроумием, с какими его подзащитные отстаивают собственные интересы, стремясь засадить соседа в темницу, а лучше вздернуть в наказание за украденную козу.
Снизу раздался топот марширующего взвода. То были не солдаты, а рабы, вооруженные хозяевами для защиты от Спартака и готовые с искренним энтузиазмом сражаться с товарищами по несчастью за своих мучителей. Фульвий зачеркнул заголовок и написал новый: «О причинах, побуждающих человека поступать вопреки интересам других в одиночку и вопреки собственным интересам в группе или в толпе».
После этого он надолго задумался над первой фразой, но так и не набрел на удачные мысли. Он часто ломал голову, размышляя, что заставляет человека действовать в ущерб собственным интересам, когда решаются важные вопросы, и упорно, изворотливо защищать те же интересы, когда речь идет о сущей ерунде. Но сейчас доносящиеся с улицы воинственные шумы вселяли в его сердце печаль, энтузиазм несчастных глупцов, готовых обрушить на своих освободителей град копий и потоки кипящей смолы, возмущал его и лишал мысль ясности. Он отбросил перо и спустился на улицу. Пройдет много месяцев, насыщенных событиями, прежде чем он вернется к прерванному трактату, но так и не доведет его до конца.
Повсюду разглагольствовали ораторы; те, кто не ораторствовал, слушали болтунов и аплодировали им. В городе царила обстановка взаимопонимания и подъема; Фульвий мысленно отметил, что в такие моменты человека обуревает желание говорить и по много раз выслушивать одно и то же. Видимо, он не доверяет сам себе, подозревает, что чувства его недолговечны и нуждаются в беспрерывной подпиткой извне.
На всех углах ораторствовали друзья народа, люди с прогрессивным направлением мысли. Они вспоминали злодеяния, совершенные людьми Спартака, рассказывали, как убивали и грабили Каст и его подлые «гиены». Все это было правдой. Они восхваляли мир и порядок и не кривили душой. Они говорили о близящейся аграрной реформе и верили собственным словам. Они живописали пожарища на месте Нолы, Суэссулы и Калатии и сами содрогались. Они славили волю к сопротивлению, объединившую всю Капую — бедных и богатых, господ и рабов, — и сами испытывали воодушевление. Они не были ни аристократами, ни приверженцами Суллы, они были оппозиционерами, друзьями народа, не привыкшими лгать. Они предлагали свою аргументацию — такую округлую, привлекательную, — и люди верили им, не замечая, что от них скрывают главную, страшную истину: правду о человечестве, грубо поделенном на господ и рабов. Сейчас эту истину знал один Фульвий: он набил много шишек на голове, солнце утомляло его своим жаром, неразумность рода человеческого вселяла в его сердце печаль. Он владел великой правдой и носил ее в себе, потому что других желающих на нее не находилось.
Капуя передумала. Друзья народа твердили в один голос одно и то же на всех улицах, на всех рыночных площадях, во всех общественных местах. Их не уполномочивал на это сенат, они не получали за это платы от заинтересованных лиц, тем не менее они самоотверженно исполняли свой долг. Они источали патриотизм. Они предостерегали рабов и чернь от глупых и самоубийственных поступков — от бунта и гражданской войны. Они возрождали в людях веру в Республику и в великое сообщество римских граждан. Они завоевывали сердца рабов утверждениями, что городской совет вооружит их в знак полного к ним доверия. Таким образом, у раба появится возможность защитить своего хозяина и показать, что он заслуживает чести принадлежать к великой семье римлян. Неважно, где человек живет — во дворце или в лачуге, неважно, что носит — белую тогу или цепи, все вместе они — дети Римской Волчицы, все вскормлены ее молоком закона, порядка и гражданственности.
Простонародье и рабы испытывали воодушевление. Вчерашнее злорадство, низкие инстинкты, порожденные голодом и горечью нищеты, были забыты. Люди размахивали флагами и потрясали копьями. Особенно радовались городские рабы, так как совет уже раздал им оружие, придав им — пускай временно — статус свободных римских граждан, имеющих право сражаться.
Маленький стряпчий с шишковатым черепом, болтавшийся по улицам, никому не нужный со своей болью и правдой, записал позднее в дневнике: «Рабов разоружают, заставляя их брать мечи. Как же слепы те, кому дозволено видеть свет только из темноты!»
Однако настоящее не нуждалось в подобных афоризмах, так же как и слухах о том, что весь этот взрыв патриотизма спровоцирован смертельными врагами демократии — аристократами и членами городского совета по наущению некоего Лентула Батуата, устроителя гладиаторских боев, известного неблаговидными выборными махинациями в Риме. Распространителей таких слухов называли в лучшем случае занудами, в худшем — злокозненными агитаторами; некоторые были даже изобличены как агенты Спартака. Их стаскивали с возвышений и забивали до смерти.
V. Обходные пути
Нола, Суэссула и Калатия покорились Спартаку. Капуя решила выстоять.
Палатки разбойников взяли город в кольцо. В пропитанных влагой полях разбойники выглядели саранчой, покусившейся на благоденствие Кампании. Серые размокшие палатки усеяли склон горы Тифата, покрытый виноградниками, были разбросаны кучками между опустевшими виллами, на голых мраморных террасах, подступали с обеих сторон к берегам Волтурна, захлестнувшего дамбы и рвавшегося к морю грязным потоком. Над всем этим хаосом надменно высились стены Капуи, поливаемые дождем.
На вершине горы Тифата стоял храм Дианы, обнесенный величественными аркадами и беседками. В храме свяшеннодействовали пятьдесят девственных жриц. Они выращивали без посторонней помощи виноград, делали в сумрачных сводчатых погребах вино, пили его и совершали грех однополой любви; но ни один мужчина никогда не приближался к их священной обители. Теперь там заседали гладиаторы Спартак и Крикс, а также другие командиры легиона рабов. Сколько они ни совещались, сколько ни спорили, согласия все не было.
Осадных машин у них так и не появилось. Как и прежде, в город были засланы лазутчики с заданием вовлечь рабов в великое братство Государства Солнца. Увы, Государство Солнца лежало погребенное под обугленными руинами Нолы и Калатии, а подстрекателей без лишних разговоров казнили у стены. На крепостных стенах стояли рабы Капуи: они получили оружие внутри и были готовы обратить его против тех, кто находился снаружи. Они потрясали копьями и отказывались строить Государство Солнца.
В изящном храме Дианы, где еще реял оставшийся от жриц аромат благовоний и духов, спорили гладиаторы; молчали только Спартак и Крикс. Постепенно лагерь раскололся на две фракции: одна поддерживала Крикса и вертлявого Каста, другая, к которой относилось большинство, — Спартака. Большинство резонно полагало, что безумства «гиен» в захваченных городах — вот причина того, что от них отвернулись рабы Капуи. Полчищем завладело уныние: всем надоел дождь, протекающие палатки, постоянное чувство разочарования; перед ними раскинулся город — сухой, теплый, источающий запахи еды и специй с базаров, самый ароматный город Италии после Рима. Жестокий Каст и его «гиены» все испортили!
На двенадцатый день осады Капуи, когда дождь немного ослабел, в лагерь рабов явился парламентер из города. Сопровождаемый слугами Фанния, этот старик гордо вышагивал, опираясь на посох, вверх по склону горы Тифата. Он вызывал изумление и смех: наконец-то они дождались посланца из осажденного города! Значит, это настоящая война. Молчаливые слуги Фанния, здоровяки с бычьими шеями, вели старика по лагерю. Когда он останавливался, чтобы перевести дух, они тоже останавливались, не глядя на него, а потом возобновляли вместе с ним подъем, не обращая внимания на улюлюканье.
Спартак ждал парламентера, сидя на кушетке в святилище храма. Слуги Фанния ввели старика и удалились. Спартак поднялся навстречу гостю: он сразу узнал его и улыбнулся — впервые после взятия Нолы.
— Никос! — радостно воскликнул он. — Как поживает хозяин?
Старый слуга помолчал, откашлялся, чуть отступил.
— Я здесь по поручению городского совета Капуи.
— Конечно. — Спартак кивнул, не переставая улыбаться. — Понимаю, у тебя официальная миссия. Раньше мы и подумать о таком не могли.
Он умолк, спохватившись, что парламентер молчит и не отходит от двери. Самого Спартака захлестнули воспоминания: большой квадратный двор гладиаторской школы, душные спальни-конюшни, даже жизнь в обнимку со смертью — все казалось теперь дорогим сердцу.
— Ты теперь городской невольник? — спросил Спартак. — Хозяин продал тебя?
— Меня освободили, — сухо ответствовал Никос. — Я — официальное лицо совета Капуи, обладающее всеми гражданскими правами и получившее полномочия вести переговоры с бунтовщиками и их предводителем Спартаком о снятии осады.
«Болтает, как будто впал в детство, — подумал Спартак. — Выучил свою роль наизусть… Нет, это просто Никос, славный человек, которого я прежде звал отцом. Почему он так холоден? Как меняются люди!»
— Раньше ты говорил со мной по-другому. — С этими словами Спартак снова сел.
— Раньше и ты говорил со мной по-другому, — сказал Никос. — Ты изменился, я бы тебя не узнал. Ты встал на путь зла, и твои черты заострились, глаза тоже не такие, как раньше. Я пришел вести переговоры о снятии осады.
— Ну, так веди, — сказал Спартак с улыбкой.
Старик молчал.
— Путь зла… — снова заговорил Спартак. — Что ты об этом знаешь? Сорок лет ты трудился и ждал свободы, а теперь ты стар. Что ты знаешь о путях в жизни?
— Я знаю, что твой путь неправедный, это путь разрушения. Вот послушай… — Он опустился на кушетку рядом со Спартаком. — Я стар и добродетелен, но я усох. Сорок лет я трудился, добиваясь свободы, а теперь я стар, и моя свобода суха. Но когда ты спрашиваешь, что я знаю об этом, то я могу тебе сказать: больше, чем ты. Может быть, мы об этом потолкуем, но сейчас еще не время.
— Не знал, что ты философ, Никос, — сказал Спартак. — Когда мы виделись в последний раз там, в трактире на Аппиевой дороге, ты твердил одно: что всех нас повесят. Еще немного — и ты ушел бы с нами.
— Я заблуждался, но длилось это недолго, — сказал старик. — А не пошел я с вами потому, что знал, что вы встанете на путь зла и разрушения. Нола, Суэссула, Калатия — что сделали с этими городами ты и твои дружки? Вы залили кровью всю нашу прекрасную страну, предали ее огню, засыпали пеплом. Так все говорят.
— Рабы были за нас, — возразил Спартак. — Ворота Нолы, Суэссулы и Калатии открыли для нас они.
— В Капуе у вас нет ни одного сторонника, — предупредил старик. — Да, люди открывали вам ворота, а вы в ответ уничтожали их города. Больше никто не распахнет перед вами ворот. От вас исходит одно зло, об этом все знают, и все поднялись против вас.
Спартак молчал.
— Никос, — сказал он наконец, — пойми! Приказы были хороши, но многие не повинуются приказам. Есть среди нас такие. Как их вычислить? Как отделить зерна от плевел? Вот что я хотел бы от тебя услышать.
— Этого я не знаю, — покачал головой старик и повторил со старческим упрямством: — Твой путь — путь зла.
Спартак опять встал. Он уже не улыбался. В святилище было промозгло и мрачно.
— Помолчи, — молвил он. — Я лучше тебя разбираюсь в путях. Это открылось мне на Везувии, в проблеске между тучами. Там я повстречал человека мудрее тебя. Раньше я звал тебя отцом, а он назвал меня Сыном человеческим. Тот старик — вот кто знает праведный путь. Он сказал, куда этот путь ведет.
— Куда же? — спросил Никос.
— В Государство Солнца, — ответил Спартак, помолчав. — И путь носит то же название.
— Об этом мне ничего неизвестно, — сказал Никос. — Зато мне ведомо про Нолу, Суэссулу и Калатию.
— Все верно, — сказал Спартак, — но все это мелкие истины. Люди, признающие только мелкие истины, глупы. Ты сам только что преподал мне этот урок.
Старик не находил ответа. Он утомился и не понимал речей Спартака, ставшего ему чужим. Слуги Фанния принесли факелы. Стало светло, потолок святилища взмыл вверх, каменные стены расступились.
Старый Никос разогнул скрюченные подагрой члены и выпрямился перед сидящим гладиатором, которого он когда-то называл своим сыном и который теперь превратился в разбойника.
— Городской совет Капуи, — заговорил старый Никос, — предупреждает тебя: сними осаду. В закромах Капуи довольно зерна, а в погребах хватит вина, чтобы ждать долго, пока дожди не размягчат ваши кости и не смоют вас с лица земли. Наши воины стойки, а у вас нет осадных орудий. Прислушайтесь к голосу совета! Можете сколько угодно стоять лагерем за нашими стенами и вытаптывать наши поля — Риму хватает зерна из-за морей, а повышение спроса на зерно нам даже на руку. Тем не менее у совета есть резоны предпочесть, чтобы вы перешли в какое-нибудь другое место — хоть в Самний, хоть в Луканию. Мнение совета заключается в том, что это отвечает и вашим интересам.
— Какая бессмысленная болтовня! — не выдержал Спартак. — Ты ведь стар, как тебе не совестно? Я думал, ты подскажешь мне, как отделить зерна от плевел — вот какой совет нам более всего необходим. С нами люди двух сортов, которых пора отделить друг от друга. У одних великий, справедливый гнев в сердцах, а у других только ненасытное брюхо да жгучая алчность. Это они повинны в гибели Нолы, Суэссулы и Калатии. Пришло время проститься с ними. Это будет очень трудно: нам придется слукавить, найти окольные пути, чтобы от них избавиться. Раньше все это не было мне настолько ясно, но вот явился ты со своей болтовней — и я все понял. Ты хочешь сказать еще что-то?
— Да, хочу, — подтвердил Никос. — Главное впереди. Городской совет предупреждает тебя: римский сенат отправил для очистки Кампании от разбойничьей скверны два полноценных легиона под командованием претора Кая Вариния. Пройдет несколько дней — и на вас обрушится непобедимая армия. Тогда у вас не будет надежды на спасение.
Ворчливый старческий голос стих. Никос ждал, как откликнется на его слова Спартак. Тот поднял голову, его лицо, которое так любил старик, разгладившееся за время разговора, снова покрылось морщинами, стало суровым и неприступным. Значит, угроза не прошла даром. Впервые старый Никос подумал о выполняемом поручении как об обременительном, а о человеке в звериных шкурах перед ним — как о враге. «Он полководец, — решил Никос, подбираясь, — с ним надо говорить только от имени осажденного города».
— Повтори, и поподробнее, — попросил Спартак.
Факелы отбрасывали на его лицо глубокие тени, похожие на рвы, выражение утратило дружелюбие. Старик заморгал и стал смотреть в сторону. «Я стар, — думал он. — Что я о нем знаю? Они сильны и злы». Захотелось побыстрее выполнить поручение и уйти.
— Два сильных легиона под командованием претора Вариния, — повторил он. — Двенадцать тысяч человек. Его легаты — Косиний и Кай Фурий. Армия состоит из ветеранов Лукулловой кампании и свеженабранных рекрутов. Они не очень торопятся, но ждать осталось не больше недели, а может, и того меньше. Ты мне не веришь?
«Только бы он больше не молчал! — думал Никос. — Никогда его таким не видел. Он не так прост». Не сводя взгляд с лица старика, Спартак ответил:
— Если это правда, зачем тебе предупреждать меня о ней? Раз на нас наступает армия Рима, зачем меня предостерегать? Объясни.
— Охотно, — сразу сказал старик доверительным тоном. — Я уже говорил, что у городского совета есть собственные соображения. Совет Капуи не заинтересован в том, чтобы его опять спасали солдаты, присылаемые Римом. Всякий раз, когда Капую спасают римские солдаты, нам выставляют счет. Так было и в Пунических, и в Союзнической войнах. В этот раз совет Капуи хочет уклониться от этого удовольствия — спасения руками Рима.
Он удовлетворенно умолк: он сказал правду и видел, что полководец в шкурах ему поверил. Спартак долго размышлял, потом молвил:
— Ваши советники — умные люди. Они просят Рим прислать солдат, чтобы разбить нас, и одновременно предупреждают нас о намерениях Рима. Им хорошо знакомы окольные пути. Нам полезно у них поучиться.
Никос молча ждал. Человек в шкурах становился ему все более незнаком.
— Уже поздно, — сказал Спартак. — Что ты предпочтешь: переночевать у нас или вернуться?
— Вернуться, — сразу сказал старик.
Уже в дверях, окруженный молчаливыми молодцами с бычьими шеями, держащими факелы, он снова услышал голос Спартака. Он знал, что скорее всего никогда больше не услышит его голос.
— Лучше бы ты остался с нами, Никос. Ты устал, отец, а в Лукании густые леса.
Никос немного поколебался. Рядом с толстошеими силачами он выглядел карликом. Но оглядываться на голос он не стал.
— Нет, — произнес он, не оборачиваясь. — Нет. — И он зашагал, сопровождаемый слугами, высоко поднявшими факелы.
Его снова нагнал голос, в котором он расслышал смех.
— Это путь зла, отец?
На сей раз он не только не оглянулся, но и ничего не ответил, а ускорил шаг, уходя в темноту — старый, тщедушный. Свет высоко поднятых факелов почти не освещал ему путь.
— Прощай, отец, — прозвучало из храма ему вслед. Но этих слов он уже не мог разобрать.
И снова разговоры ничего не принесли. Снова они просиживали за длинным каменным столом час за часом и говорили, втайне ненавидя друг друга. Крикс сумрачно поглядывал на говорящих да подремывал; малявка Каст теребил свое ожерелье и визгливо твердил, что легионы Вариния — это сказки и что надо атаковать Рим. Делегат от слуг Фанния действовал всем на нервы своей толстошеей добродетельностью. Круглоголовый мудрец изрекал туманные цитаты, смысл которых оставался для всех неведомым. Эномай помалкивал и поглядывал на человека в звериных шкурах. О его волнении свидетельствовало только биение синего желвака на лбу; его робость и деликатность тоже злили собравшихся. Они повторяли то, что уже не раз говорили, отлично зная, что это уже никому неинтересно. Всех придавливала бессмысленная обязательность военного совета; они отлично знали друг друга, знали больше, чем хотели сказать и услышать за этим каменным столом. В обычных беседах между собой они выкладывали все, что думали, и отлично друг друга понимали; здесь же, на совете, высказаться начистоту было немыслимо, поэтому всех придавливала церемонная скука. Все это знали; известно было и то, как относится ко всему происходящему вожак в шкурах, пронзающий безжалостным взглядом каждого берущего слово. Они знали, что он держится особняком, что воспарил гораздо выше всех прочих, однако никак не могли дождаться от него слов облегчения. Вместо того, чтобы разрубить своим мудрым решением узел противоречий, он держал их всех в узде; в упряжке переминались с ноги на ногу еще десять, а может, все двадцать тысяч человек, увязших в грязи и стучащих зубами в мокрых палатках. Те, кому надлежало взбодрить их и повести за собой, тянули каждый в свою сторону, сознавая свое бессилие, но не видя способа обрести силы. Никто не мог сделать даже крохотного шажка вперед.
Каждый видел мысленным взором гордые крепостные стены Капуи, овеществленную насмешку. На стенах стояли рабы Капуи, направив на них свое оружие, ибо все их надежды превратились в пепел Нолы, Суэссулы, Калатии. Собравшиеся за длинным каменным столом знали все это и взирали в бессильной злобе на Каста и его «гиен». Но Каст только и делал, что теребил свое ожерелье; многие в лагере, не меньше тысячи, слушались одного его; вся эта орда жила отдельно, щеголяла в рубище и издавала смрад кровожадности и распутства.
Сидя вокруг длинного каменного стола, гладиаторы спорили до одури и пили до бесчувствия. Когда слова иссякли, они поднялись и разбрелись, спотыкаясь, так ничего и не решив.
Одного лишь человека задержал Спартак — круглоголового старика.
— Садись и слушай, — приказал он ему сурово.
Эссен покачал головой.
— Сейчас тебе бы подошли другие советчики, не я. — И он приподнял плечи, как от холода.
Но Спартак, не обращая внимания на возражения, заговорил:
— Рим шлет против нас Вариния с двенадцатью тысячами солдат. Мы должны уйти в Луканию, страну гор и пастухов, и жить там мирно, следуя нашим чаяниям. Но среди нас есть такие, кто отказывается подчиняться приказам. Это они загубили наше Государство Солнца. В Луканию они не хотят. Они рвутся вступить в бой с Варинием, который сотрет их в порошок, если мы их не поддержим.
Эссен пожимал плечами и по-черепашьи втягивал голову. Солнце било Спартаку в лицо, и он прищурился, отчего стал выглядеть еще суровее.
— Если мы их не поддержим… — повторил он. — Все зависит от нас. Сами они — дурачье. Если им позволить, то они бросятся навстречу своей гибели: Вариний перережет их, как телят. Таким образом мы бы от них избавились. Никто бы нам больше не мешал, не препятствовал бы нам строить наше Государство Солнца. Что же ты молчишь?
Эссен не разжимал рта, даже не качал головой. Казалось, он окаменел.
— Итак, ты молчишь. А ведь тогда, на горе, среди облаков, у тебя нашлось много слов. Сколько ты произнес тогда красивых, круглых фраз! Увы, дорога, которую ты указал, привела не в Государство Солнца, а в Нолу, Суэссулу и Калатию. Теперь тебе нечего сказать, но я уже не могу сойти с избранного пути. Слишком много среди нас тех, кто не слушается приказов; настало время толкнуть их на мечи Вариния, принести их в жертву, как агнцев, во имя твоего Государства Солнца. Все просто: либо мы их, либо они нас. Конечно, мы — зерно, они — плевелы, но те и другие выросли на одном стебле, поэтому то, что мы обязаны теперь совершить, противно законам природы…
Эссен упрямо молчал. Маленький, высохший, он сидел напротив Спартака и дивился, как раньше дивился старик Никос, насколько чужим стал ему этот человек. Как думал раньше старик Никос, эссен думал сейчас: «Они — гладиаторы, люди сильные и неистовые. Что я о них знаю?» Потом он по привычке покачал головой и, наконец, произнес:
— Бог создал мир за пять дней. Сам видишь, какая это была спешка. Из-за этого многое пошло вкривь и вкось. Когда на шестой день Он взялся лепить человека, Им владело раздражение и усталость, поэтому Он множество раз проклял человека. Худшее проклятие из всех состоит в том, что люди вынуждены следовать путем зла, ставя цели добра, они должны идти кружными путями, отклоняться от прямой для достижения поставленной цели. Вот я и говорю: чтобы принять такое решение, ты должен обратиться к другим советчикам.
Эссен побрел прочь, и Спартак не стал провожать его взглядом; широко расставив ноги, он жадно пил вино из бурдюка. Прежде чем исчезнуть за дверью, эссен оглянулся, вгляделся напоследок в широкое, скуластое лицо гладиатора, и ему показалось, что этим вечером он впервые увидел этого человека.
Спартак пил, не останавливаясь, пока не опустилась ночь. Вместе с темнотой появился Крикс. Разговор у них вышел недолгий: зная мысли друг друга, они были встревожены и без лишних слов. То, что им предстояло совершить, вызревало у них внутри, подобно тому, как поспевший сок поднимается под корой дерева от корней к ветвям; когда слова, наконец, прозвучали, они были как созревшие плоды, упавшие наземь. Теперь все было сказано, все решено; ночь вступила в свои права. Они утолили голод и улеглись на циновки по разные стороны стола, вспоминая ночь на Везувии после победой над претором Клодием Глабером, проведенную в палатке побежденного. Сейчас, как и тогда, Крикс пошарил на столе рукой, нащупал кусок мяса, положил его себе в рот, почмокал и вытер жирные пальцы о циновку. Оба знали, что думают об одном и том же, поэтому молчали. Спартак лежал на спине, заложив руки за голову. Крикс еще почмокал, глотнул из кувшина, вынул кончиком языка волокна мяса, застрявшие между зубами. Они не глядели друг на друга.
Чуть позже в святилище вошел вертлявый Каст и сообщил, что лагерь взволнован слухами о ссоре между гладиаторами и о предстоящем расколе в армии. Каст сказал это, оставаясь в дверях, щурясь в потемках и нехорошо улыбаясь. Ему не ответили; он остался стоять, теребя узкое ожерелье.
Крикс выпил еще глоток и сплюнул.
— Зачем ты приходишь с баснями? — спросил он у недомерка.
— Я подумал, что вам будет интересно, — ухмыльнулся тот.
— Нам неинтересно, — сказал Крикс и, повернувшись к Спартаку, спросил: — Тебе интересно?
— Нет, — ответил Спартак. — Мы уже решили, что часть из нас выступит завтра навстречу Варинию. — Эти слова, произнесенные небрежным тоном, были предназначены Касту.
— Вот как? — отозвался Каст. — Только часть?
— Да, — подтвердил Спартак. — Те, кто захочет.
Все трое помолчали. Каст по-прежнему стоял в дверях, не отваживаясь подойти ближе.
— А остальные? — спросил он наконец.
— Мы уйдем в Луканию. В горы, к пастухам, — ответил Спартак.
Теперь пауза продлилась дольше. Где-то заржал мул. Эхо его крика было долгим. Наконец, оно стихло. Недомерок спросил у темноты, глядя в направлении Крикса:
— Ты тоже уйдешь в Луканию?
Крикс не ответил, это сделал за него Спартак:
— Нет, он останется с вами.
Вертлявый облегченно улыбнулся и опять принялся за свое ожерелье.
— Значит, на Рим, мирмиллон? — донеслось из дверей. — Хвала богам, мы идем на Рим!
Крикс отхлебнул из кувшина еще вина.
— На Рим, — подтвердил он. — Или еще куда.
Даже не видя Крикса, Каст знал, что его рыбьи глаза тяжело смотрят на него с обрюзгшего тюленьего лица. Он поежился: поневоле подумалось о следующей ночи, когда ему опять придется делить с Криксом циновку.
VI. Приключения защитника Фульвия
Ночью стряпчий и писатель Фульвий успешно перелез через городскую стену и сбежал от глупых патриотов города Капуи. Чтобы преодолеть стену, требовались ухватки акробата, и маленький защитник с лысой шишковатой головой и близорукими глазками сомневался, что ему это удастся. Упав в липкую глину под стеной, он немного посидел, приходя в себя. Перед ним простиралось сжатое поле, широкая пустая полоса ничейной земли, за которой должен был находиться лагерь вражеской армии. Оттуда не доносилось ни звука, беглец слышал только шум дождя. Он даже не исключал, что разбойников, их лагеря, великого Спартака — предводителя угнетенных, освободителя униженных — вообще не существует. Сидя в хлюпающей глине, насквозь промокший, он прижимался спиной к мокрой, скользкой стене. Стена было очень высока: задирая голову, он ужасался ее величественности и не верил в только что совершенный подвиг. По стене расхаживал взад-вперед часовой — голый по пояс раб-парфянин, вооруженный копьем. Фульвий решил, что дальше сидеть так, с мокрым задом, немыслимо. Но стоило ему сделать несколько шагов, как его остановил хриплый окрик парфянина со стены. Фульвий замер и поднял голову. Часовой наклонился вперед, держа наизготовку копье. Казалось, в следующую секунду он его метнет — и акробатические усилия Фульвия окажутся бессмысленными…
— Ты куда? — крикнул парфянин.
— Туда! — крикнул защитник, изо всех сил изображая безразличие. Он сознавал, что этот дурацкий ответ не устроит воинственного стража, поэтому в следующую секунду бросился сквозь дождь наутек, напрягая все силы. Крик парфянина превратился в визг, потом беглец услышал полет копья и всплеск — копье упало в грязь почти у его ног.
«Вот ты и простился со своим оружием, — подумал защитник, стараясь преодолеть страх. — Что за бессмысленная профессия!»
Возможно, теперь в него пытались попасть из луков, но его уже поглотила мокрая тьма. Он наполовину сбежал, наполовину скатился по склону, утыканному оливами с кривыми ветвями, и, запыхавшись, привалился к стволу одной из них.
«Ради чего этот чужестранец мечет в меня копьями? — думал он. — Какой толк в его геройстве?»
Он решил, что обязательно разовьет эту тему, когда приступит к исполнению своего замысла — написанию великой хроники восстания рабов. Геройство — это, очевидно, следствие физической неспособности достичь идеала в борьбе с врагами и силами природы. Странно, когда раб отдает свое геройство на службу господину, когда ему никто не угрожает, а об идеале вообще нет речи…
Он определил наугад направление бегства и захлюпал дальше. Ночь была отвратительная — ни луны, ни звезд; стена дождя позволяла видеть не более чем на два десятка шагов вперед. Он непременно использует воспоминания об этих скитаниях в бескрайней топкой тьме при сочинении вступления к своей хронике.
Внезапно сквозь дождь донесся чей-то окрик. Фульвий остановился и стал близоруко озираться. Наверное, он добрался до часовых армии рабов, хотя сейчас трудно было представить, что таковая существует в природе. Дождь лил, не переставая; окрик прозвучал во второй раз. Лучше ответить, иначе его, чего доброго, убьют те самые люди, к которым он хочет примкнуть! У них наверняка есть пароль — Капуя, город глупцов, сделался непроходимым из-за паролей.
— Спартак! — хрипло завопил защитник, надеясь перекричать дождь. Это слово показалось ему сейчас наиболее подходящим. В следующую секунду он закашлялся.
Часовой в капюшоне, по которому сбегали дождевые струи, подошел ближе, буквально возникнув из потемок.
— Зачем ты орешь «Спартак»? — спросил часовой с луканским акцентом, показав в удивленной улыбке зубы.
Защитник никак не мог откашляться — не иначе, простудился.
— Я стряпчий и писатель Фульвий, из Капуи, — выдавил он наконец. — Где ваша армия?
— Где? — переспросил часовой с еще большим изумлением. — Как это «где»? Здесь, везде… Чего тебе надо?
Только сейчас защитник заметил смутные контуры палаток шагах в тридцати. Они выглядели покинутыми. И верно, чего ему понадобилось в этом заброшенном месте?
— Я писатель, — повторил он, надсадно кашляя. — Я хочу попасть к Спартаку. Мечтаю написать хронику вашей кампании.
— Написать нашу хронику? — У разбойника-часового были лошадиные зубы торчком, желтевшие в ночи. Выглядел он куда более мирно, чем парфянин на стене, чуть не проткнувший беглеца копьем. — Зачем это?
— Такие вещи всегда записывают, чтобы позже люди могли узнать, что происходило.
— Разве им это интересно? — спросил часовой. Казалось, он не испытывает неудобства от дождя и мрака и настроен на продолжительный разговор.
— Любому интересно, что происходило до его рождения.
— Это верно, — согласился пастух Гермий, — я сам иногда ломаю голову, что было да как. Только вот как это разузнать?
— Об этом написано в книгах.
— А ты пишешь книги?
— Собираюсь вот написать историю вашей кампании, — повторил защитник, давясь кашлем.
— Вот уж что неинтересно! — махнул рукой часовой. — Таскаешься от города к городу, от развалин к развалинам.
— Пройдет сто лет, — начал защитник, приготовившийся как раз к подобному разговору, — да что я говорю, тысяча лет! — а в мире все еще будут вспоминать Спартака, освободившего рабов Рима от… — Кашель не дал ему закончить; от дождя, стекающего по его одежде, под ногами разлились лужи.
— Надо же, какие мысли! — восхищенно воскликнул часовой. — Наверное, ты промок? Не хочешь горячего вина?
— Еще как хочу! — обрадовался защитник, косясь на пустые палатки. — Согреться бы!
— Тогда пойдем. — И часовой зачавкал по грязи. Фульвий заторопился за ним.
— Кто же заступит на пост вместо тебя? — спросил он на бегу.
— Кто-нибудь заступит, — отозвался пастух. — Хотя в такой дождь, знаешь ли, никому не захочется мокнуть.
Новость о расколе армии на две части вызвала в лагере сильный переполох. Не то, чтобы это стало неожиданностью — что-то в этом роде давно назревало. Разве не раздавалось в лагере поминутно: «Так дальше нельзя!», сопровождаемое бранью? А теперь, когда произошел разрыв и брешь стала стремительно расширяться, лагерь охватило недоумение пополам со страхом.
Весть разнесли слуги Фанния: они прокричали ее своими громовыми голосами, стоя в разных концах лагеря с непроницаемым видом. Армия рабов, кричали они заученно, разделяется на две части из-за противоположных мнений в лагере и согласно решению гладиаторского совета. Одна часть двинется на север, на Рим, как того хочет сама, и даст по пути сражение наступающим легионам. Предводителями этого отряда будут гладиаторы Крикс и Каст из капуанской школы Лентула Батуата. Всякий, кто согласен с их целями, должен присоединиться к ним.
Те же, кто считает иначе и намерен следовать за Спартаком, уйдет под его предводительством в Луканию, страну гор и пастухов. Воля и мнение Спартака заключаются в том, что дальнейших раздоров и грабежей следует избежать. Вместо этого ко всем рабам и пастухам юга Италии будет обращен призыв, который прозвучит в городах, в полях и в горах, — призыв объединиться в союз справедливости и добра, предсказанный от начала времен, со дней Сатурна, и имя этому союзу будет «Государство Солнца». Однако, предупреждали глашатаи, от всех, кто присоединится к нему в марше на юг, Спартак требует безоговорочного подчинения и согласия с его властью.
Вот какую весть провозгласили слуги Фанния сразу после захода солнца. Весь лагерь собрался в толпу, шумную и растерянную. Однако несмотря на смятение и различие во мнениях, великое тайное намерение Спартака начало осуществляться: пошло отделение зерен от плевел.
Когда защитник и писатель Фульвий и его провожатый, пастух Гермий, вошли в лагерь, мокрые до нитки, им сразу бросилось в глаза охватившее всех возбуждение. На них никто не обратил внимания.
— У вас всегда так? — поинтересовался Фульвий.
— Нет, — ответил Гермий, — это из-за разделения. — Он горестно вздохнул. — Плохо дело, братец! Мы — неразумное стадо, чисто овцы да ягнята. Одних тянет туда, других сюда, никак не удержаться вместе.
— В чем причина ссоры? — спросил защитник.
— Даже не смогу тебе объяснить, братец, — молвил пастух. — Так вышло с самого начала. Даже внутри Везувия, когда есть было нечего, у нас шли раздоры. Среди нас есть недобрые люди, которые жмутся к Касту и его «гиенам». Ничего, теперь мы, наверное, от них избавимся, а римляне всех их порубят. И тогда наступит мир.
Когда он произносил эти слова, с ними столкнулся ритор Зосим. На нем по-прежнему была сильно перепачканная тога. Он всплеснул руками, взмахнув широким рукавами.
— Что ты несешь? — Он схватил Гермия за руку, чтобы не отстать. — Наступит мир, говоришь? А в это время наших братьев, не ведающих о грозящей им опасности, обрекут на верную гибель. Очень хитроумно, но при этом подло. Отсюда и проистекает раскол. А это кто такой? — И Зосим недоверчиво прищурился, разглядывая дрожащего Фульвия.
— Он простудился, надо напоить его горячим вином, — отозвался Гермий. — Он сбежал из Капуи. Он пишет книги. — Последнее было добавлено таинственным шепотом.
— Философ Зосим приветствует тебя, коллега, — тут же сказал ритор с притворной радостью и сделал широкий приветственный жест, который из-за мокрой тоги выглядел потешно.
Фульвий не смог проявить почтительности, потому что опять раскашлялся. Напыщенный ритор вызвал у него презрение и одновременно жалость. При всех попытках выглядеть величественно он производил прискорбное впечатление, словно всю жизнь сносил побои.
— Идем, — сказал Гермий своему подопечному. — Здесь живет один мой друг, старик. Придется тебе пригнуться. Смотри, не испачкай колени.
Старый Вибий сидел, откинувшись на брезентовую стену палатки, неподвижный в свете масляного фитиля. Трудно было понять, спит он или размышляет. В палатке было уютно, дождь, хлеставший снаружи, отсюда не казался личным врагом.
— Вот, привел тебе гостя, — сказал Гермий громко, потому что старик стал в последнее время туг на ухо. — Из самой Капуи!
— Приветствую тебя! — отозвался Вибий и, увидев примостившегося в углу ритора, добавил: — И тебя, Зосим.
Защитник поклонился хозяину палатки и сел вместе со всеми на сухой брезентовый пол.
— Ему бы горячего вина, — попросил Гермий. — Он простужен.
Старый Вибий подал Фульвию обмотанный тряпкой кувшин. Фульвий сделал большой глоток, кашлянул, хлебнул еще. От крепкого фалернского, настоянного на корице и клевере, у него сразу пошла кругом голова. В этой палатке ему было очень хорошо. Он попал туда, куда стремился.
Некоторое время все молча передавали друг другу кувшин. Потом старик спросил:
— Что говорят в Капуе?
— Капуанцы, — начал Фульвий, потирая шишковатую голову, — очень глупы, отец. Они поступают вопреки собственным интересам, славят своих мучителей и преследуют освободителей, полные ненависти и размахивая острыми парфянскими копьями. Но, как ни странно, эта их глупость честна. Они стремятся быть униженными и искренне презирают все новое, незнакомое, возвышенное. Вы можете мне объяснить, почему это так? Раньше я знал ответ, но теперь забыл.
Он выпил еще и запрокинул голову, как делал всегда, ловя ускользающую мысль. Первая приятная неожиданность — отсутствие бруса над головой. Он потер голову, радуясь, что не набил свежую шишку. Но это была радость, смешанная с тревогой. Не понимая, что его тревожит, он пригубил еще вина. Печаль по поводу человеческой глупости — и та отступала в уюте палатки.
— Вопрос твой стар, как сам мир, — сказал старый Вибий.
— Причина — в отсутствии разума, — сказал ритор Зосим, — а также в неспособности вдохновляться возвышенным.
— Пустые слова, — возразил старик. — Никто не обходится совсем без вдохновения, иначе тело лишится всех соков, а душа завянет.
— Что верно, то верно, — подхватил защитник. — Ступайте в Капую и посмотрите, как они размахивают флагами и потрясают копьями! Трудно не заразиться их вдохновенным энтузиазмом.
— И я о том же, — сказал Зосим. — Их всегда обуревает ложное вдохновение.
— Что, если для них оно не ложное, а самое что ни на есть правильное? — вставил Гермий и смущенно показал зубы, напуганный собственной дерзостью.
— Нет, — сказал старик. — Это то самое порочное вдохновение, из-за которого теленок братается с мясником, раб — с господином.
Для поддержания сил он сделал из кувшина несколько маленьких глотков. Остальные тоже молчали. Дождь выбивал дробь по крыше палатки — добродушный дождь, уже не пытавшийся причинить людям зло. В голове защитника жужжал целый рой разнообразных мыслей, разбуженных красным фалернским вином на корице и клевере. Гермий задремал по-пастушьи — сидя, уронив голову. Старый Вибий тоже прикрыл глаза веками. Внешне он походил на замотанную бинтами египетскую мумию, но мозг его не ведал отдыха. Одного ритора не устроила тишина. Теребя края своей мокрой тоги, он повторил последние слова старого Вибия, чтобы не дать угаснуть беседе.
— Да, плохо, когда теленок братается с мясником. Но еще хуже, когда телята сами отправляют друг друга на бойню. А ведь сейчас наш Спартак делает именно это.
При упоминании этого имени пастух распахнул глаза.
— Снова его чернишь, Зосим? — пробормотал он, хмельной от сна и от вина.
— В последнее время Спартак слишком поумнел, — не унимался ритор. — Мне это не по душе. Тот, кто мечтает о Государстве Солнца и царстве доброй воли, не должен прибегать к подлым трюкам и явному обману.
Защитник вдруг протрезвел и вспомнил о хронике кампании, которую собрался писать.
— Закон обходных путей, — сказал он. — Ему нельзя не подчиниться. Всякий, поставивший перед собой цель, вынужден подчиняться его пагубной силе.
— Обходные пути, говоришь? — рассердился Зосим. — Он шлет их кратчайшим путем на верную смерть, а они знать ничего не знают. Конечно, Каст и его подручные совершали злодейства, но по своей ли вине? Не повинен тот, кого сделала грешным судьба, обрекая на нищету и алчность. Они не перестали быть нашими братьями. Ты спишь, Вибий?
Но нет, старик бодрствовал, погруженный в свои думы.
— Я слышу твои слова и не соглашаюсь с ними, — молвил он и допил из кувшина остаток вина. — Когда собираешься разбить сад, изволь перво-наперво заняться прополкой.
— Пусть так. — Судя по всему, Зосим был всерьез опечален расколом. — Все равно с людьми нельзя поступать так бездушно. — Хотел бы я знать, что бы случилось с твоей спокойной мудростью, если бы твоего собственного сына послали на убой просто потому, что у него слишком громко урчит в животе.
— Каждый сам выбирает, к кому примкнуть, — напомнил Гермий. — Слуги Фанния так надрывались об этом, что их даже мертвый услышал бы.
— Допустим, — сказал Зосим. — Но предупредили ли они, насколько сильна армия Вариния, с которой предстоит биться? Два полных легиона, двенадцать тысяч воинов — об этом-то молчок! Эти несчастные глупцы довольствуются одними слухами и воображают, что расправятся с Варинием так же легко, как с незадачливым Клодием Глабером. А ведь их, неразумных и жадных, всего-то три тысячи, а они еще собрались идти маршем на север, плохо вооруженные и презирающие дисциплину! Всех их ждет смерть, а Спартак подло подталкивает их к гибели, желая от них избавиться. Воистину, каждый выбирает сам!
— А эти их вожаки, Крикс и Каст или как их там, они-то, конечно, знают правду? — спросил защитник.
— Каст — всего лишь желторотый нахал и ничего не смыслит в войне, как и все остальные. А вот Крикс — другое дело… — Зосим доверительно понизил голос. — Он для всех загадка. Он, ясное дело, не хуже самого Спартака знает, насколько сильна римская армия, и понимает, чем все это кончится, — но при этом не знает и не понимает, вот какая штука! Он не расчетлив и сам не ведает, чего хочет. Спартака он ненавидит и одновременно любит, как брата. Говорят, в день бегства гладиаторов из капуанской школы Лентула этим двоим предстояло единоборство на арене. Один обязательно убил бы другого, и они всегда это знали, понимаете? И знают до сих пор. Это трудно объяснить. Они давно привыкли к мысли, что один должен убить другого, чтобы выжить. Наверное, еще не освоились с тем, что выжили оба. Уход, расставание со Спартаком, наверное, устраивает Крикса. Оба, наверное, считают, что так и должно быть, даже не зная, почему. Все это трудно объяснить…
— Надо же, какие мысли! — озадаченно пробормотал пастух.
Фульвий тоже глядел на напыщенного ритора в изумлении. Он сильно недооценил смешного человека в неуместной тоге. И это мученическое выражение, вызвавшее у него жалость… Как же трудно читать в человеческой душе! Сам он знавал лучшие деньки и, сколько ни старался, никак не мог представить, что творится в душе у того, кто страдал всю жизнь.
— Это так трусливо! — продолжал Зосим своим обычным сварливым тоном. — Ваш Спартак поступает, как отъявленный трус. Говоришь, к цели можно двигаться только окольными путями? На этих окольных путях можно утонуть в грязи! Там подстерегают страшные опасности. Никогда не знаешь, куда они заведут. Многие ступали на путь тирании, исповедуя сперва самые лучшие, светлые намерения, но со временем оказывалось, что путь диктует свои законы, которым нельзя не подчиниться. Вспомните диктатуру «друга народа» Мария и то, во что она выродилась. И подумайте…
— Причем тут диктатура и тирания? — оборвал Фульвий оратора, увлеченно машущего руками.
— Я толкую о законах обходных путей! — крикнул Зосим, уже не заботясь о приличиях. — У этих обходных путей, да будет тебе известно, собственные, весьма неприятные законы. Если я заговорил о диктатуре и тирании, то только потому, что они тоже выросли из желания двинуться в обход.
— Ну и ну! — пастух засмеялся, показывая зубы. — Думаешь, Спартак тоже превратится в тирана?
— Я действительно говорю о Спартаке, о, предводитель баранов и овец!
— Ты сам как блеющая овца, — ответил пастух с дружелюбной улыбкой и решил, что лучше еще подремать. В этот раз он устроился основательнее: улегся и подтянул к животу колени.
Фульвий устал спорить, к тому же материала набралось достаточно, чтобы приступить к хронике Рабской кампании. Раньше революция виделась ему более прямолинейной и простой; а ведь ему-то, знатоку, полагалось знать, что вблизи все обычно представляется по-новому. Следовало заранее подготовиться ко всей этой путанице. Он пожелал всем спокойной ночи и тоже растянулся на сухом брезенте, головой к грубым башмакам пастуха. От них исходил сильный, но не слишком неприятный запах. Дождь баюкал, барабаня по палатке. Неужели столько всего успело случиться всего за одну ночь, неужели он только что бежал под дождем и в него метнули со стены копье, чуть не вонзившееся ему промеж лопаток? Дивись же, как разбухают, вмещая очень многое, одни часы в человеческой жизни, и как другие, полые, вяло свисают с ожерелья Времени, опадают и гаснут во мраке прошлого.
VII. Хроника Фульвия
Хронике защитника Фульвия из Капуи была уготована причудливая судьба. Она так и не была закончена, как не имела конца история, которая в ней рассказывалась. Однако пергаментные свитки, которым она была доверена, были сохранены временем и вызывали к себе непонятное почтение, замешанное на страхе, замешательстве и ужасе. Хронику злонамеренно кромсали, пытались утопить в приложениях, забывали, но снова находили всякий раз, когда история пыталась завершить то, что начала в ту далекую эпоху.
Случилось так, что защитник Фульвий, сам того не ведая, изрек истину в ту ночь, обращаясь под дождем к пастуху и лязгая от озноба зубами: он сказал, что людям интересны события, происходившие до их рождения. Сам он верил в свои слова только наполовину, подобно всякому, с трудом верящему, что до его рождения и после его смерти на свете может хоть что-нибудь случиться. Люди, которым предстояло прочесть его книгу в грядущем, были для него лишь смутными силуэтами, как и он сам для них. Чтобы увериться в существовании друг друга, тем и другим требовалось сильное напряжение ума и способность к абстрактным размышлениям. Однако стоит поразмыслить — и становится ясно, что достаточно всего-навсего шестидесяти семи поколений, чтобы протянулась нить над пропастью времени, связав рассказчика и его слушателей; всего шестьдесят семь раз отцы должны были уступить место своим сыновьям и внести свой вклад в великую, хоть и призрачную реальность Прошлого.
Фульвий же с самого начала испытывал потребность подправлять записываемую правду. Своими поправками — когда намеренными, когда случайными — он вовсе не хотел приукрасить историю, ибо не был эстетом; будь он эстетом, ни за что не перелез бы через стену Капуи. Задача его была проще: представить историю удобочитаемой, разгладить складки и убрать пятна, случайно подпортившие страницы прошлого. Вдохновляемый этой целью, он относился к своему труду с непоколебимой серьезностью и не брезговал мельчайшими подробностями, проявляя дотошность истинного мастера, влюбленного в свое ремесло. Впрочем, сам смысл писательства вызывал у него такой же скептицизм, как и словоизлияния ритора Зосима. Увы, все эти торжественные упоминания грядущих веков были для него слабым утешением и не могли отвлечь от единственной осязаемой реальности: собственных невзгод на ветрах истории.
Странная судьба этих пергаментных свитков, исписывавшихся под аккомпанемент тяжких вздохов и чесания лысины, подтвердила правильность авторского подхода. Как уже говорилось, их то и дело извлекали из пропасти Прошлого, злокозненно снабжали дополнениями и заново прочитывали всякий раз, когда предпринималась попытка завершить на деле то, о чем было недоговорено на пергаменте. Хроника капуанского защитника Фульвия не содержала откровений; она лишь повторяла давнюю истину, повествуя о тоске простых людей по утраченной справедливости. Но свиток долго передавали потом из рук в руки, как эстафетную палочку из доисторической мглы, в которую кануло главное злодейство Истории — убийство богом земледелия и городов бога пустынь и пастухов.
ИЗ ХРОНИКИ ФУЛЬВИЯ, ЗАЩИТНИКА ИЗ КАПУИ
1. …и когда город Капуя воспротивился и отказался открыть перед Спартаком ворота, в лагере бунтовщиков вспыхнули раздоры. Спартак, убежденный, что дерзость не искупит неопытности и не сможет одолеть стратегию обученной армии, собирался избежать столкновения с приближающимся К.Варинием и его силами, уйдя с открытых полей Кампании в Луканию, горы которой станут прикрытием и приютом, а дружеское расположение тамошних пастухов обеспечит рабам безопасность и условия для осуществления их горделивых чаяний. Напротив, галлы и все прочие, чьими целями были одни убийства, грабежи и животные соблазны, выступили под командованием Каста и Крикса навстречу римлянам. Многим поступок последних покажется более мужественным, чем осторожность Спартака, но в заблуждение впадут только те, кто не ведает, что подлы бывают и трусливые и отважные. Итак, отступники числом в три тысячи оставили общий лагерь дождливым вечером, сразу после заката. Сохранившие верность Спартаку остались стоять у своих шатров, наблюдая за исходом неорганизованной толпы, шумной и самоуверенной. Насмешки и оскорбления адресовались также и остающимся, однако последние терпели их молча, хоть и не договаривались об этом заранее. Зрячие видели, что злодеев ждет суровая кара: оружия у них было мало, и выступать с таким против римских наемников, то есть профессиональных солдат, было чистым безумием. Одета уходящая толпа была в тряпки и свалявшиеся волчьи шкуры, словно и обликом своим заявляла об отличии от других восставших, ибо столь нарочитое безразличие к своему виду и телу свидетельствует об отсутствии человеческого достоинства.
Однако уходившие не знали уныния и, собравшись на краю лагеря, выступили оттуда под пронзительную музыку, извлекаемую из коротких дудок, похожих на свистки пастухов-этрусков. Была у них и литавра, неприятные и, по мнению некоторых, злобные звуки которой раздавались и тогда, когда сама колонна уже не была видна на болоте, окружающем в это время года реку Волтурн.
Когда же смолкли и эти звуки, оставшихся охватило сильное уныние.
2. Намерением Спартака тоже было сняться с места, чтобы повести оставшихся верными ему людей, числом примерно восемнадцать тысяч, в Луканию сразу после ухода несогласных, чью участь он, по всей вероятности, предвидел. Однако выступление было отложено на несколько дней, ибо подготовка к упорядоченному переходу такого количества людей требовала размышлений и принятия множества мер. К тому же восставших жгло желание узнать о судьбе прежних товарищей, прежде чем уходить на юг.
Весть пришла на утро третьего дня. В лагерь с разных сторон вошли две понурые фигуры, не знавшие друг о друге, но с одинаковым известием. Вскоре всем стало известно, что Каст и его соратники были атакованы римлянами немногим севернее Волтурна. Две тысячи полегли там же, а сам Каст был убит своими же людьми при совместном бегстве через болото. Римские легионеры, как того и следовало ожидать, не вышли на регулярную битву, а загнали своих разрозненных и отчаявшихся противников в болото, как поступают со зверями на арене, подгоняя их криками, тоже памятными по цирковым ристалищам. Там беглецов охватила такая ярость, что они сами перебили своих вожаков, считая тех повинными в неудаче, а после того набросились почти невооруженные на своих преследователей, одетых в доспехи, так что те еще больше уверились, что имеют дело не с опасным противником, а с диким зверьем. Около пяти сотен уцелевших, как утверждали оба беглеца, были пойманы и прибиты гвоздями к деревьям вдоль Аппиевой дороги — мучительная смерть в такое время года, когда дожди, словно в насмешку, понемногу утоляют жажду умирающих и отодвигают конец.
Известие об ужасной участи тех, кто ушел всего три дня назад под воинственное пение дудок, быстро разлетелась по лагерю, где до этой минуты хватало колеблющихся и сомневающихся. Теперь даже те, кто прежде упрекал Спартака кто за неспособность, кто за нежелание предотвратить разгром их недавних товарищей, придерживали языки. Строго выполняя его приказы, все двинулись к Апеннинским горам.
3. Спартак мечтал отказаться от оружия и побрататься со всеми пастухами, батраками и рабами на юге, а также создать конфедерацию городов в соответствии с идеями справедливости и добра. Этот его возвышенный план был, хоть и частично, осуществлен в городе Фуриях, но только после того, как он разбил сначала нескольких второстепенных римских военачальников, а потом и самого Вариния. Ведь римляне не могли не сознавать, что такое сообщество, какое замыслил Спартак, даже вполне миролюбивое, самим фактом своего существования обязательно будет представлять угрозу для стабильности их республики, зиждущейся на несправедливостях; это подобно тому, как в одном теле не ужиться здоровью и недугу, которые обязательно будут бороться и не уймутся, пока что-то одно не возобладает. Ибо недуг никогда не смирится со здоровьем — благим состоянием тела. Потому недуг не будет довольствоваться властью над одним пораженным органом и погонит по телу отравленные соки, целя в еще не пораженные органы.
Так и претор Вариний немедленно бросился вдогонку за восставшими, навязав им многомесячную военную кампанию. Пришлось Спартаку совершать зигзаги, противные поставленным целям.
4. За время кампании произошло немало нелепостей, вызванных когда случайностью, когда совпадением. Как известно, случай не заставляет себя ждать, стоит человеку, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть что-то недодумать; война же — столкновение сил, а не умов, поэтому в войне так важен случай. И потому было бы лишним описывать все мелкие столкновения, случившиеся за время той продолжительной кампании. Сам факт полной победы рабов является исчерпывающим доказательством стратегического гения Спартака.
Яркий пример своего дара явил он, когда, вскоре после начала кампании, восставшие оказались в крайне затруднительном положении и совсем было пали духом. Варинию удалось заманить их в бесплодную местность между горами и Тарантским заливом. В Лукании немало подобных мест с голыми скалами и белым мелом вместо почвы. Недаром греки, жившие там раньше, назвали страну Дуканией, что на их языке означает «Белая страна».
Восставшим, окруженным со всех сторон и прикончившим все запасы, уже казалось, что их судьба предрешена, поэтому ими овладело малодушное уныние. Многие вспоминали голод, испытанный в кратере Везувия, и дивились, как горазда судьба насылать одни и те же испытания и повторять уже пройденное, словно забыла в первый раз довести дело до конца, вот и надеется наверстать нынче. Но и тут Спартак нашел выход: сделал так, что все его люди смогли ускользнуть из лагеря в час второй ночной стражи. В лагере был оставлен один трубач с наказом подавать через установленные промежутки времени обычные сигналы, а трупы, привязанные к вбитым вокруг лагеря кольям, должны были изображать ночной караул. По всему лагерю были зажжены яркие костры, освещавшие этих мертвецов, а среди брошенных палаток мирно звучала труба. Так враг был обведен вокруг пальца, а Спартак под покровом тьмы провел свою армию узким ущельем, где их всех перебили бы, если бы обнаружили.
5. И все же было бы неверно приписать торжество необученного полчища над римскими легионами хитроумию одного-единственного человека. Своим успехом восстание было в равной мере обязано тому обстоятельству, что крестьяне и пастухи Южной Италии поддержали рабов, сочтя их дело правым.
То же беззаконие, из-за которого вспыхнуло восстание в Кампании, процветало в Бруттии и Лукании. Римская аристократия поделила между собой и горы, и разделяющие их долины, а каждый аристократ имел в собственности по несколько тысяч рабов, обязанных стеречь огромные стада. Рабам этим, отмеченным клеймом, было позволено свободно перемещаться по полям и горам. Там эти несчастные, которых их господа почти не одевали и не кормили, пытались раздобыть недостающее грабежом, что не только не наказывалось, но и поощрялось, так как позволяло не тратиться на содержание. Эти заклейменные рабы нападали ночами на крестьянские хижины, ничего не боясь, ели и пили вволю и творили, что хотели, так что в этих землях Италии жить было очень небезопасно. Люди они были сильные, привычные проводить дни и ночи без крыши над головой в любую погоду. Оружием им служили узловатые палки да рогатины, одежда ограничивалась волчьими и кабаньими шкурами, что придавало им сходство с воинами-варварами. К тому же их повсюду сопровождали огромные и до крайности свирепые псы.
Эти полудикие пастухи давно завладели горами. Никто не мог предъявить им обвинений в совершаемых преступлениях, так как хозяевами их были, главным образом, римские всадники, сами вершившие правосудие. Вот в каком состоянии пребывал в то время юг Италии. Поэтому, когда туда пришел Спартак со своим легионом рабов и разослал гонцов, бросивших клич ко всем простым людям присоединяться к Луканскому Братству, против римлян поднялась вся эта страна.
6. Вот что слышали от гонцов рабского легиона в Лукании.
Первым делом клеймились позором изнеженность и тиранство тех, кто разжирел на труде обездоленных, не ведя к ним жалости. «Что может быть проще, — кричали гонцы, — чем сокрушить этих неженок, променявших свои силы на роскошь, людей, хвастающихся на пирах золотой и серебряной посудой, место которой в храме? Что они могут без нас и против нас, если мы пустим в ход свое физическое превосходство? Кому, как не нам, братья, надлежит править, раз мы превосходим их силой и числом? От Природы люди получают не богатство или бедность, а силы и способности; ужасная пропасть между господином и рабом — не Ее закон; Она не желает, чтобы сильный прислуживал слабому, чтобы немногие помыкали множеством. Так подчинимся же Ее законам — единственным справедливым законам, верным во все времена, во всех землях. И да прославятся вовеки ваши имена, ибо вы вернете естественные права всем несчастным, стонущим под игом. Так отбросьте колебания, братья: чем дольше раздумываешь, тем меньше храбрости. Решительные и праведные завоюют мир!»
7. Претор Вариний уже оплакал гибель двоих легатов, Фурия и Косиния. Силы его серьезно убыли из-за этих потерь, солдаты утратили доверие к своему главнокомандующему, считая его виновным в поражениях. Часть армии страдала от обычных осенних недомоганий, остальные проявляли упрямство и трусость.
Теперь Спартак счел, что может дать римлянам открытый бой. До сих пор он ограничивался рейдами и засадами; и вот бунтовщики выступили навстречу Варинию стройно и по большей части хорошо вооруженные. Все оружие, которое у них было, попало к ним от разоруженного неприятеля или было изготовлено ими самими, и хватало его не на всех. Остальные были вооружены косами, рогатинами, граблями, молотами, топорами и другим сельскохозяйственным инвентарем, когда же не хватало и его, обходились острыми палками, шестами, дубинками и другими деревяшками, закаленными на огне и не уступающими твердостью железному оружию. Ненависть к постылым мучителям прибавляла восставшим изобретательности: многие, сбегая к Спартаку, прихватывали кандалы, чтобы выковать из них наконечники для стрел и мечи.
Римляне к этому времени тоже воспрянули духом. Римский сенат прислал Варинию подкрепление. В свежих войсках, презиравших вместе с Римом Спартака и его толпу, отзывались о них крайне презрительно, кричали, что их пора снова заковать в кандалы, и полагали, что нет ничего проще, чем рассеять всю эту шайку. Эта хвастливая самоуверенность новичков устыдила воинов, сражавшихся со Спартаком с самого начала, и вселила в них отвагу. Тем не менее воинственность новичков пошла на убыль, когда они лучше познакомились с противником. Сам претор проявлял больше осмотрительности, нежели храбрости, и не вел своих людей в бой, прежде чем они не привыкнут к зрелищу необычного, страшного врага.
8. Незадолго до вступления в бой у Спартака и его людей прибавилось сил: галльский гладиатор Крикс, считавшийся сгинувшим в болотах вместе со своими единомышленниками, неожиданно объявился в лагере. Это почти чудесное воскрешение могучего вожака, пользовавшегося у восставших почти таким же авторитетом, как сам Спартак, сильно всех воодушевило, тем более что вечно угрюмый галл не желал отвечать на вопросы о своих приключениях, так что многие укрепились во мнении, что это истинное чудо и, значит, доброе предзнаменование.
Битва произошла на крайней южной оконечности Апеннинского полуострова, в окрестностях города Фурии, на берегу реки Сибарис.
9. Перед вступлением в бой Спартак, не желая отличаться от настоящих военачальников, обратился к своему войску с призывом покрыть себя славой. Теперь, провозгласил он, начинается настоящая война, ход которой будет определен в первом же бою; либо они будут разбиты, либо выстоят и тем обеспечат себе последующие победы, ибо выбор прост: или торжество над врагом, или бесславная смерть. Ответом вождю были громкие крики согласия и поддержки.
Стоило римским когортам увидеть неприятеля, приближающегося к реке с другого берега, с ними произошла странная перемена. От удивления и под влиянием ужасных воинственных криков гладиаторов они замедлили шаг, а потом вовсе притихли и вступили в бой уже без того хвастливого воодушевления, с каким недавно требовали свернуть рабам шеи.
Незадолго до того, как передовой строй римлян пришел в соприкосновение с неприятелем, Крикс незаметно для римлян переправился через реку немного выше по течению и притаился в русле вместе со своими галлами, чтобы внезапно наброситься на второй римский строй. Бегство римлян было таким дружным, что их главнокомандующий остался брошенный, без охраны. Вдобавок он рухнул вместе с конем наземь и чуть было не угодил к гладиаторам в плен. Его белый скакун, пурпурная мантия, фасция — словом, все должностные регалии оказались в руках гладиатора-победителя, который потом торжественно преподнес их своему вождю.
С того дня Спартак сам щеголял с отличительными знаками римского императора; жители провинций взирали на него с почтением, когда ликторы несли впереди него почетную фасцию.[1]
10. Здесь уместно рассказать о происхождении и нраве этого необычного человека, судьба которого стала ключом к будущему. Спартак был выходцем из племени кочующих скотоводов и родился в маленькой фракийской деревушке, именем которой был назван. Образования он не получил, но по природной сметливости впитывал и претворял в дела все идеи, которые не миновали его благодаря прихотям судьбы. Как лучи света, бьющие с разных сторон, попадая в выпуклое стеклышко, выходят наружу единым, раскаленным лучом, так мысли и чаяния разных людей собирались в одном Спартаке. Тот же самый дар позволил ему взвалить на себя тяжкие задачи, предначертанные судьбой, а мощь его натуры прирастала вместе с накоплением задач.
11. Постоянно развиваясь, Спартак быстро перерос своих соратников и понял, что те ведут себя как слепцы или неразумная скотина, которой надо управлять, силой подталкивая на верный путь. Различные происшествия при осаде Капуи и опыт, накопленный в кампании против Вариния, вместе с ответственностью за тысячи жизней, лишили его былой приветливости и заставили принять меры с тем, чтобы выглядеть в глазах людей суровым и величественным.
Поводырь слепцов обречен на величие. Он обязан закалиться, чтобы не размякнуть при виде их страданий, он должен быть глух к их стенаниям. Ведь он вынужден защищать их интересы вопреки их же разумению, а значит, поступки его нередко кажутся своеволием, ибо далеко не всем понятны. Он совершает обходные маневры, о целях которых забывают те, кто находится вокруг него; ибо один он зрячий, тогда как прочие слепы.
12. Так закончилась первая кампания. Римляне увидели, что напрасно сочли восстание мелкой неприятностью, бесчинством горстки злоумышленников.
Весь юг Италии находился теперь в руках у братства восставших, готовившихся осуществить свой план и создать содружество справедливости и добра, названное ими «Государством Солнца».
Книга третья Государство Солнца
I. Гегион, гражданин города Фурии
Гегион, гражданин города Фурии, проснулся еще до рассвета с ощущением праздника. Дом предстояло украсить веточками и гирляндами в честь торжественного вступления в город князя Фракии, нового Ганнибала. Гегион решил сходить в виноградник за лозой и белой омелой. Покосившись на спящую жену, он сунул ноги в сандалии и поднялся на плоскую крышу своего дома.
Пока еще было темно и зябко, но море, занимавшее весь горизонт, уже начало менять цвет. Гегион очень любил этот ранний час, любил за особые цвета и запахи. Дыхание моря в солнечный полдень было не таким, как в ночи. Ночью от него плыл аромат хрустальной прохлады, оставляющий на языке привкус соли, а в глазах — блеск звезд; поутру от моря уже несло водорослями, в полдень — рыбой и разными неприятными запахами. Он понюхал морской воздух и оглянулся на горы — сначала те, что севере — луканские Апеннины, где, если его не обманывало зрение, уже белел на самых высоких пиках снег, хотя это мог быть и утренний туман; потом взгляд его устремился на юг, к сиреневым горам Силы, где действовала смолокурня, акционером которой он был. Долину реки Кратис обступали величественные горы, лишь на востоке раскинулось море, на дальнем краю которого уже пробивалось сияние пока еще невидимого солнечного диска.
Закричал первый петух, потом второй, потом все петухи Фурий, словно сговорившись, стали приветствовать проклевывающееся утро. Гегион подумал, что такой нестройный и самовлюбленный гвалт способны устроить только римские петухи. На родине Гегиона, в Аттике, петухи — и те имели больше понятия о гармонии.
Как груб для греческого уха, Латинский петушиный крик!Мгновенная импровизация была его коньком.
Римлян он недолюбливал. Это было не презрение, просто их грубое самомнение и напор вызывали у него улыбку. Из них так и перла вульгарная сноровка. И тем не менее он, Гегион, способный проследить своих предков до самых героев Трои, женился на римлянке. Сейчас она лежала внизу, на широком супружеском ложе, влажная от пота, как и положено удовлетворенной матроне, сморенной сладким предутренним сном. И причиной ее довольства была не радость по поводу предстоящего вступления в город Спартака, фракийского князя, второго Ганнибала, а то, что он, Гегион, потомок троянских героев, этой ночью впервые после долгого перерыва исполнил свой супружеский долг.
Море, уже вовсю засиявшее, наполнило его ноздри ни с чем не сравнимым ароматом; ночью он проявил столько рвения, что его можно было принять и за юнца, и за старца, впавшего в детство. А ведь ароматы, сопровождающие восход луны, он любил больше, чем запахи солнечного полдня, прохладные объятия молодых гречанок были ему милее, чем обязанности по продолжению рода и прелести собственной матроны.
Что толку? Все аттическое фамильное древо не стоит пяти плетей виноградной лозы и уж тем более — одной-единственной акции доходной смолокурни. У подножия бледной горы лежали руины легендарного Сибариса, сказочного города, основанного его предками в древние времена. Греческие колонисты, утонченные традиции, серебряные монеты, арфы, познания в геометрии… Они владели немалой частью южноиталийского побережья, когда латины еще носили медвежьи шкуры и не слезали с деревьев. Петухи закричали снова, на лестнице послышалось тяжелое дыхание. Это была матрона.
— Что тебе понадобилось на крыше в такую рань? — спросила она со смесью добродушия и строгости, с какой обращаются с очень юными и с очень старыми людьми.
— Смотрю, дорогая, всего лишь смотрю… — Он не возражал, чтобы с ним обращались как с юнцом или как со старцем. Он расправил стройные плечи, морщинистое лицо собралось в лукавые складки.
— На что здесь смотреть? — неодобрительно произнесла матрона, зевнула и встала с ним рядом на краю крыши, положив руку ему на плечо. Плечо было молодым, мускулистым; вспоминая услады ночи, она сладко поежилась от предрассветного холода.
Оба смотрели вниз, на город. Город еще спал. Правильнее было назвать его большой каменной деревней — белой деревней со множеством колонн, милой и очень грустной в утренней неподвижности. Улочки Фурий вились между стенами, как высохшие русла ручьев. Дома с плоскими крышами легкомысленно толпились на склонах, забыв про опасность оползней. Только на вершине холма деревня превращалась в правильный город с прямыми улицами, с рыночной площадью и фонтаном в центре. После разрушения Сибариса знаменитый архитектор Гипподам спланировал центр города, разработав подробный, красочный план. С тех пор и стояли между синими горами и синеющим морем белые дома. Так на месте Сибариса был создан город Фурии, тоже давно успевший состариться. Все семьи родоначальников греческой колонии были очень древними, предков у них было множество, а вот детей наперечет. Они говорили на более чистом греческом, чем сами греки, которых не оставалось теперь нигде, за исключением Александрии, и все были потомками воинов Трои, по крайней мере, Сминдирида, жаловавшегося, что постель не постель, если под простыню попал мятый лист розы…
Время от времени они женились на дочерях римских колонистов, которых им навязывал сенат в наказание за поддержку Ганнибала в последней Пунической войне. Такие колонисты, селившиеся обособленно, в северо-восточной части города, быстро размножались, усердно и хорошо трудились и вызывали ненависть; о них говорили, что они сморкаются себе в ладонь. Им хватило наглости переименовать город: римский квартал назвали «Копия» — слово, которому теперь полагалось обозначать все Фурии. Во всяком случае, они уже именовались так во всех официальных документах. Естественно, старые семейства упорно называли свой город прежним именем. Аттика оставалась Аттикой, Фурии Фуриями. Столь же естественным было и то, что теперь они собрались встать под знамена Спартака, этого новоявленного Ганнибала, пусть не карфагенского, а фракийского. Главное, он вышиб несколько зубов зарвавшимся римлянам. Весь благодарный ему город предвкушал его торжественное вступление с ликованием, какое впору не то детям, не то дряхлым старикам.
Город просыпался постепенно. Первыми погнали по улицам своих еще горячих со сна коз пастухи, неумытые ранние птахи. Козы норовили разбрестись и рассеянно звякали колокольчиками, пастухи пронзительно дули в свои свирели. Море обдувало крыши своими утренними испарениями: настал час водорослей и песка. Вдали, в полях среди холмов, паслись стада белых буйволов, тонувшие в тумане; быки, белые, как сама меловая Лукания, пристально смотрели в сторону Апеннин.
— Идем завтракать, — позвала матрона.
— Сначала я схожу на реку за ветками и листьями, — ответил Гегион с улыбкой. — Надо же украсить дом к торжественному вступлению триумфатора в город!
— Но не до завтрака же! — возразила матрона.
— Я возьму с собой мальчишек, — сказал Гегион. — Потом они помогут нам украсить дом.
— Мальчики останутся здесь, — сказала матрона. Она была дочерью колониста, а колонисты были противниками фракийского князя и расхаживали с мрачным выражением на враждебных патриотических лицах. Возможно, они испытывали страх.
— Значит, я пойду один, — решил Гегион.
— Прямо так, в белье? — удивилась матрона.
— Что-нибудь накину. Увидишь, как много веток я притащу.
Он стал спускаться. Матрона последовала за ним, раздраженно ворча. Внизу Публибор, единственный домашний раб, кормил собаку.
— Пойдешь со мной на реку, — приказал Гегион рабу. — Мы наберем веток и листьев. И ты с нами, — сказал он собаке, зверю ростом с теленка, с лаем рвавшемуся с цепи.
Так они и пошли: Гегион первым, в нескольких шагах за ним раб. Собака то забегала вперед, то отставала и тут же стремительно нагоняла людей. На краю города, где стена, окружавшая сады, была уже не из камней, а из глины и навоза, они повстречали зеленщика Тиндара, толкавшего в сторону города тележку со свежим салатом и травами.
— Куда в такую рань? — спросил зеленщик.
— Вот, веду раба и собаку за листвой и ветками, чтобы украсить дом в честь вступления в город фракийского князя, — объяснил Гегион.
— Между нами говоря, — сказал Тиндар, прислоняя тележку к ограде, — я слыхал, что на самом деле он не имеет права ни на какие титулы. Болтают, что он был гладиатором и разбойником, если не хуже.
— Чепуха! — отмахнулся Гегион. — О могущественных людях всегда ходят сплетни. Достаточно того, что он отвесил Риму хорошую оплеуху. Второй Ганнибал — вот кто он такой! Да и перемены давно назрели.
— Пожалуй, — согласился зеленщик, не любивший препирательств. — Но еще ведь поговаривают, что он дарует всем рабам гражданские права, отберет у людей деньги и дома, вообще все перевернет вверх дном…
— Чепуха! — повторил Гегион и обернулся к своему молодому рабу. — Вот ты хотел бы больше не служить мне, начать новую жизнь?
— Пожалуй, — ответил Публибор.
— Вот видишь! — сказал зеленщик, снова впрягаясь в свою тележку. — Опасная затея!
Гегион отнесся к ответу раба как к шутке.
— Вот нахал! Всего-то потому, что хозяйка строга? Мне самому от этого не сладко. Я ведь хорошо с тобой обращаюсь?
— Ты — хорошо. — Юноша был сосредоточен. Он ко всему относился серьезно и взирал на мир без улыбки. Гегион впервые обратил внимание на выражение его лица, вообще на то, что у него есть лицо. Это заставило его задуматься.
— Я ведь даже позволил тебе вступить в общество взаимной кремации!
— Верно.
— Мы с ним состоим в одном обществе, — подсказал зеленщик. — Позавчера у нас было собрание.
— Вот видишь! — удивленно воскликнул Гегион. — Совсем как свободный человек.
— Других привилегий у меня нет, — напомнил Публибор.
— Как это нет? — еще больше удивился Гегион. — Да, наверное, так велит закон… Но и это кое-что. В своем завещании я распоряжусь о твоем освобождении. Наверное, по-твоему, я зажился?
— Да, хозяин.
Гегион усмехнулся, зеленщик вздохнул.
— Что я тебе говорил? Все это опасно. Советую его выпороть.
— Значит, тебе так важна свобода? — не унимался Гегион. — А по-моему, это иллюзия. Разве ты не признался только что, что у меня тебе хорошо?
— Эта так.
— Ты накопил денег.
— Накопил.
— То-то и оно! — воскликнул зеленщик. — В прежние времена это было бы невозможно. Собственность разжигает аппетит. Лучше отними у него сбережения и вели выпороть.
— Хорошее предложение, — сказал Гегион на прощанье. — А пока что мы сходим за ветвями и листвой. Надо же как следует встретить фракийского князя!
Набрав много лозы и веток с листвой, они уселись неподалеку от пасущегося стада, у реки Кратис. Собака тоже устала и распласталась рядом, грациозно, как фиванский сфинкс, вытянув лапы.
— Послушай! — обратился Гегион к своему рабу. — Вот мы сидим с тобой вдвоем у реки, рядом — величественные горы. Ты действительно желаешь моей смерти?
Юноша посмотрел на него и ответил:
— Ты действительно мой господин, а я действительно твоя собственность?
— Боюсь, что да, — сказал Гегион. — Это факт, с какого боку на него ни взгляни. Даже сейчас, когда мы с тобой одни здесь, у реки, у подножия величественных гор, ты все равно чувствуешь, как дерзки твои слова, а я считаю свои слова полными благородной снисходительности. Скажи, разве это не так?
— Так, — согласился юноша, помолчав.
— Но продолжим. Все, что существует, реально, никуда от этого не уйдешь. Вот сижу я на солнышке, грею спину, а ты сидишь в теньке и мерзнешь. Верно, это несправедливо, но так уж оно есть, и боги о чем-то думали, когда так устраивали мир. Если бы они задумали его иначе, иначе и вышло бы. Реальность — сильный аргумент, не правда ли?
— Правда, — согласился раб. — Но стоит мне тебя толкнуть — и я сидел бы на солнышке, а ты очутился бы в реке, хозяин.
— Почему же ты этого не делаешь? — спросил Гегион с улыбкой. — Попробуй! Или ты страшишься кнута?
Впервые юноша спрятал глаза и ничего не ответил.
— Ну? Что же тебе мешает? Вот мы сидим у реки вдвоем, и ты сильнее меня. Если ты убьешь меня и сбежишь к фракийцу, то сможешь забыть о страхе наказания. Почему у тебя не поднимается рука?
Юноша молча рвал траву, пряча глаза.
— Наш земляк, великий Пифагор, учил, что господам полагается божественное поклонение, а слугам — скотское обращение. Ты с этим согласен?
— Не согласен, — вскинул глаза Публибор.
— Почему же тогда ты не столкнешь меня в реку, тем более, что тебе за это ничего не будет? Почему не пустишь в ход свою силу? Почему в твоей душе стыд, а в моей волнение и снисхождение? Или все это не так?
— Все так, — сказал раб и немного погодя добавил: — По привычке.
— Ты так считаешь? Думаешь, фракиец обучит нас новым привычкам? Если ему это удастся, то он заткнет за пояс самого Ганнибала. Нет ничего труднее и значительнее, чем изменить привычные мысли.
— Да, — сказал раб.
— Где же ты всего этого набрался? — спросил его Гегион. — Ты всегда усердно трудился и помалкивал. Я даже не замечал, что у тебя есть лицо, тем более, что ты умеешь улыбаться. Смеяться — может быть, но улыбка… Скажи, ты хоть знаешь, что такое улыбка?
Раб молчал. Гегион внимательно наблюдал за ним, улыбаясь улыбкой то ли дитя, то ли блаженного старца.
— Ты желаешь мне сейчас смерти? Желающий другому смерти не станет улыбаться. Взгляни на камешки на дне реки: вода такая прозрачная, что видны даже стебельки травы. Вода, протекая среди этих камешков и травинок, еле слышно журчит. Ты видишь и слышишь такие вещи?
— Нет, хозяин. У меня никогда не было времени поваляться в траве.
— Слепым, глухим и безрадостным проходишь ты по этой жизни, тем не менее хочешь моей смерти, хотя у меня есть глаза, чтобы видеть, я различаю бесчисленные ароматы моря. Вот почему тебе стыдно, вот в чем источник моего доброго снисхождения. Несчастье очень непривлекательно.
Раб все рвал пучки травы. Потом сказал:
— Ты сам говоришь, что я сильнее.
— Да, но давно ли это стало тебе известно? Это не такая уж очевидная мысль, как может показаться. Хозяйка частенько тебя поколачивает — верно, несильно, но все же поколачивает, но тебе ни разу не пришло в голову, что ты сильнее ее.
— Не пришло, — подтвердил раб и повторил после паузы: — По привычке.
— А теперь? Что, фракиец вдруг раскрыл тебе глаза на твою силу? Говорят, его лазутчики и посланцы кишат повсюду, подстрекая рабов на неповиновение. Это правда?
— Правда.
— Ты веришь в его учение?
— Верю.
— Все вы в это верите?
— Не все, но многие.
— Почему не все?
— Старые привычки слишком сильны.
— Каков он собой, этот твой Ганнибал для рабов?
— Он носит звериную шкуру и ездит на белом коне. Стража из силачей несет перед ним фасции.
— Как перед римским императором?
— Нет, его эмблемы — не серебряные орлы, а разорванные цепи.
— Остроумно! — похвалил Гегион. — Сдается мне, нас обоих ожидает вполне безопасное развлечение. Тебе так не кажется?
— Так и есть, хозяин, — ответил раб искренне.
Потом они молчали, лежа на траве и глядя на синие горы, величественно проступающие сквозь рассеивающийся утренний туман. Солнце оторвалось от моря, заскользило вверх, согрело воздух, покончило с утренней свежестью в полях. В оливковых и лимонных рощах люди уже гнули привычно спины.
Прежде чем отправиться домой, Гегион сказал своему молодому рабу:
— Странно сознавать, что фракиец вступит в город прямо сегодня и, возможно, все изменит. Мы с тобой по-настоящему в это не верим. Это как с войной: все о ней болтают, одни за войну, другие против, но никто искренне не верит, что война разразится; когда же это все-таки случается, они поражены, что, оказывается, угадали будущее. Сильнее всех удивляется пророк, когда сбывается его пророчество. Ибо в мыслях человеческих непреодолимая леность привычки, и добродушный голос не устает нашептывать нам, что завтра будет то же, что сегодня и вчера. И мы верим вопреки рассудку. Это есть благо, ибо иначе, зная, что смерть неминуема, человек не смог бы жить.
А теперь пойдем и займемся украшением дома веточками и листьями, чтобы достойно поприветствовать вступающего в наш город князя Фракии.
II. Торжественный въезд
Солнце поднялось высоко, город гудел деловитой радостью; жители Фурий украшали свои дома лозой и гирляндами из листьев. Дома были с плоскими крышами и белые, как меловая почва самой Лукании. Потомки троянских воинов предвкушали приятные перемены в монотонной повседневности, связанные с появлением фракийского князя в шкурах. Они толпились и давились на улицах, узких и извилистых, как каменистые русла высохших речушек. Римские колонисты держались в сторонке и патриотично хмурились. Возможно, ими владел страх.
Городской совет Фурий тоже не очень-то ликовал. Да, новоявленный император задал Риму чувствительную трепку, что не могло не порадовать советников. Но в остальном он их не слишком обольщал. Он называл себя «освободителем рабов, предводителем угнетенных». Можно, конечно, толковать эти слова символически, особенно если учитывать возможность союза с греческими городами италийского Юга, стонущими под римским игом. В Пунические войны Фурии и другие греческие города были союзниками Ганнибала. Однако Ганнибал был военачальником и князем у себя на родине; что же касается родословной Спартака, то об этом лучше не распространяться, иначе придется признать, что в князи его произвел сам совет Фурий, чтобы не уронить себя: не могли же потомки троянских воинов вступить в союз с бродячим гладиатором! А обойтись без такого союза было никак невозможно, иначе Фуриям настал бы конец; если уж совсем начистоту, совет Фурий радовался и одновременно удивлялся, что гладиатор вообще соизволил вступить с ним в переговоры. Переговоры эти приняли неожиданный оборот, но их итогом стало подписание соглашения.
По этому соглашению, за городской чертой Фурий, на равнине между реками Сибарис и Кратис, защищенной с одной стороны горами, с другой морем, армия рабов разобьет постоянный лагерь и заложит поселение под названием «Город Солнца». Корпорация Фурий уступит фракийскому князю все поля и пастбища в этом районе, а также возьмет на себя снабжение армии рабов, пока она не начнет кормиться со своих земель. Солдаты Спартака, со своей стороны, после церемонии вступления армии в город, которая будет чисто символической, перестанут ему угрожать и досаждать, а Спартак с момента создания союза прекратит подстрекать рабов Фурий к неповиновению.
Посланцы Спартака встретили последнее условие в штыки, но в конце концов уступили.
— Они появятся с минуты на минуту, — сказал зеленщик Тиндар Региону, стоявшему с ним плечо к плечу в толпе.
Ожидание длилось уже дольше часа. Праздничная толпа запрудила широкую улицу, ведущую к агоре. Белые фасады домов были украшены гирляндами и ветками; солнце жгло немилосердно, над плоскими крышами растекался полуденный морской запах, то рыбный, то с гнильцой. Граждане Фурий ждали, перешептывались, толкались и обильно потели.
Наконец, когда солнце ударило всем в макушки, настал решающий момент.
— Идут! — закричал маленький сын Гегиона. — Идут!
И действительно, на дальнем конце улицы поднялась густая пыль. Толпа загалдела, застонала, задвигалась, подалась вперед. Люди, следившие за порядками, выпрямили передние шеренги.
— Сколько их? — спросил зеленщик Тиндар, вытягивая шею.
— Сто тысяч! — крикнул хорошо информированный мальчуган. — Сто тысяч разбойников! То-то будет переполох!
— Такая орава здесь не пройдет, — рассудил Тиндар. — Такую ораву наш город не вместит.
— В торжественном прохождении будут участвовать только парадные когорты, — объяснил сосед слева. — Остальным придется остаться за чертой города. Так сказано в соглашении.
— Соглашение… — пробурчал Тиндар. — Думаешь, они будут его придерживаться?
Туча пыли приближалась. Граждане Фурий привстали на цыпочки. Большинство было в белом, на женщинах легкие, воздушные одеяния. Важные служители порядка сновали взад-вперед, заталкивая особенно нетерпеливых назад в толпу.
Первым из густой пыли показался передовой отряд рабской армии — две шеренги по десять коренастых толстошеих мужчин в тяжелых сапогах, поднимавшие пыль и сами же ее глотавшие. Они смотрели прямо перед собой, Фурии их не интересовали. Они несли фасции и разорванные стальные цепи вместо традиционных боевых топоров.
Из толпы раздались недружные приветственные выкрики, но большинство хранило молчание. Горожане были разочарованы невеселым, совсем не праздничным зрелищем.
Сразу за марширующими силачами шел белый конь, на котором восседал сам фракийский князь в звериной шкуре. Рядом с ним ехал толстяк с унылым лицом и отвислыми усами. Казалось, под ним обозный мул, а не боевой конь. Перед обоими несли пурпурное полотнище.
Граждане знали, что им полагается делать: они закричали, замахали руками, захлопали рукавами. Император приветствовал их в ответ, подняв руку; его конь пошел иноходью. Но сам он не улыбался, в глазах не было дружелюбия. Тем не менее горожанам он понравился, хоть и не сразил их наповал. Усатый толстяк вызвал гораздо меньше симпатии. Он даже не соизволил приветствовать толпу, а знай себе трусил вперед с ничего не выражающим взглядом. Толпа на его стороне улицы отпрянула, пропуская его. Его физиономия запечатлелась в памяти людей гораздо четче, чем лицо императора; пройдут годы — а они еще будет его вспоминать.
Спартака они будет называть «князем», «императором», «вторым Ганнибалом»; однако его внешность запомнилась им плохо. Многие даже сомневались потом, что он действительно проехал мимо них на белом скакуне.
Шествие к рыночной площади ускорилось, словно марширующие торопились побыстрее закончить прохождение. Всеобщего ликования не вышло.
За вождями шагала пехота, поднимая пыль и глупо моргая. Какими же сильными воинами должны быть эти истуканы с перепачканными лицами, если сумели дать отпор всемогущим римлянам! Перед их колонной несли невиданные, грозные символы: грубые деревянные кресты. Люди с крестами едва не падали под своими ношами, из последних сил прижимая их к себе. Сломанные кандалы и разорванные цепи издавали зловещий звон. Впереди отряда из отъявленных бандитов шел рябой детина, несший в руках гигантскую мурену, в челюстях которой красовалась человеческая голова из тряпок. Сын Гегиона привстал на цыпочки и спросил пронзительным детским голоском:
— Что это, папа? Рыба, пожирающая людей?
Гегион улыбнулся улыбкой дитя или блаженного старца, но зеленщик поспешил закрыть ладонью детский рот.
— Тихо, тихо! Не задавай вопросов, не зли солдат!
Толпа постепенно стихала. Горожанам расхотелось приветственно кричать и махать руками, лица их посерьезнели. Испуганный мальчишка проглотил язык. Теперь улицу оглашал только тяжелый солдатский топот; пыль покрывала все лица, застилала все глаза.
Теперь по улице двигалась кавалерия, всадники на низкорослых луканских лошадках. Не один сын Гегиона, знавший по игре в солдатики, как должны выглядеть регулярные профессиональные войска, изумлялся увиденному: даже миролюбивые граждане испытали потрясение, нет, ужас, убедившись, что заключили союз с дикой ордой, а не с серьезной армией. Ни всадники тяжелой кавалерии, ни их скакуны не были защищены серьезными доспехами — нельзя же счесть таковыми жалкие щитки на пеньковых веревках, болтавшиеся кое у кого на руках и на икрах; почти все копья этой «армии» были деревянными, щиты представляли собой камышовые каркасы, обтянутые шкурами; большинство было вооружено не мечами, а всего лишь косами, вилами и топорами. Хуже того, у них не было ни формы, ни сверкающих шлемов! Одни вообще брели с непокрытыми головами, другие щеголяли в черных войлочных шляпах, выгоревших и таких потрепанных, что поля закрывали бородатые лица; почти все рубахи были усеяны дырами, а добрая половина вообще бесстыдно поблескивала голыми торсами, чуть прикрытыми снизу кушаками, сверху косматыми бородами.
По толпе прокатился стон, многие мужчины Фурий отвернулись, чтобы не видеть этакого срама; женщины же вздыхали и сверкали глазами, одна даже упала от избытка чувств в обморок и была унесена в тень.
Дальше шли, поднимая пыль, отряды, сколоченные по национальному признаку: суровые галлы и германцы с длинными усами, высокие фракийцы с ясными взорами и пружинистой походкой, варвары из Нумидии и Азии с темной и сухой кожей, чернокожие люди с серьгами в ушах, толстыми губами и белоснежными зубами.
— Ну и ну! — шепотом сказал зеленщик на ухо Гегиону.
— А по-моему, это приятное разнообразие, — возразил улыбчивый Гегион и наклонился к своему мальчишке. — Тебе нравится? Правда, очень живописно?
— Да, — кивнул мальчик. — Как в цирке.
— Тихо! — Зеленщик поморщился. — Разве можно такое говорить?
Улицу окутала очередная туча густой пыли: это ехали запряженные волами повозки с больными и ранеными, лежавшими навзничь на грязных подстилках; одни спокойно смотрели в небо, другие стонали от боли, некоторые высовывали языки и корчили мерзкие рожи. По их лицам и глазам ползали мухи. Маленький сын Гегиона не выдержал отвратительного зрелища и разревелся.
— Зачем они все это нам показывают? — прошипел зеленщик. — Это что, тоже их парадные части?
— Нет, — покачал головой Гегион с неизменной улыбкой. — Зато какое необычное вступление в город!
Не все повозки производили такое ужасное впечатление. Три выглядели издали аккуратнее других; но оказалось, что на каждой лежит по трупу, на котором пируют несчетные мухи. У голов трупов, издающих невыносимое зловоние, громыхали разорванные цепи.
Повозки с трупами замыкали процессию.
Толпа немного поредела, но большая часть сгрудившихся горожан не смела расходиться. Люди приросли к месту от страха. Представление окончилось, а они еще оставались на улице, сплоченные ужасом.
III. Новый порядок
Жители Фурий успокоились: солдаты рабской армии не приближались к городским стенам. На равнине в междуречье Гратиса и Сибариса они строили свой лагерь, «Город Солнца».
Вступила в свои права весна, от земли тянуло головокружительными запахами, с моря дули сильные мартовские ветры. Рабы с топорами вырубали в горах лес, свозили его вниз в телегах, запряженных белыми буйволами, и строили первые зерновые склады и общие трапезные нового города. Кельты копали плотную глину не берегах Кратиса, лепили кирпичи и высушивали их на солнце; все кельты желали жить в кирпичных домах. Фракийцы кроили шатры из черных козьих шкур, вшивали в них ребра из веток, устилали полы мягкими коврами, чтобы в шатрах можно было вести тихие задушевные беседы с гостями. Луканцы и самниты мешали торф с навозом и камнями и строили из этой смеси конические хижины, полы которых посыпали соломой и мякиной, так что в жилищах этих пахло скотным двором. Чернокожие люди строили хижины из хвороста — игрушечные на вид, но выдерживающие и дожди, и ураганы.
Солнце сияло, от земли шел пар, на полях появлялись всходы. Город поднимался стремительно, как росток, тянущийся к солнцу из почвы, напитанной плодородной гнилью и пузырящихся соков. Строителей было семьдесят тысяч — клейменных, обойденных судьбой, рассеянных прежде по земле; и вот теперь они создавали свой собственный город. Они громоздили стены из древесных стволов, таскали каменные блоки, лупили молотками, орудовали пилами. Городу суждено было вырасти прекрасным — райским прибежищем отверженных, домом для бездомных, приютом для калечных. Каждый сам строил свой дом.
Город начинал походить на город. Все племена — кельты, фракийцы, сирийцы, африканцы — получали землю и могли строить, как им вздумается. Однако основной план был строг, основывался на римских правилах организации военных лагерей с прямыми стенами и прямыми параллельными улицами. Внешние укрепления и ров образовывали правильный квадрат на равнине между Кратисом и Сибарисом, у подножия голубых гор, отвесных и зазубренных. Суровый и вызывающий, город рабов распластался по равнине; все четыре въезда, закрытые воротами, охранялись неприступными часовыми, молчаливыми силачами. Перед всеми воротами красовались высоко поднятые и видные издалека эмблемы — разорванные цепи. на холме посреди города стоял большой императорский шатер под пурпурным полотнищем-стягом, где создавались новые законы, по которым должен был жить город. Вокруг жили офицеры-гладиаторы; дальше шел второй, более широкий круг общественных служб: сараи и кузни, амбары, хлева, общие трапезные. Свой дом на своем участке каждый мог строить, как ему вздумается, но зерно и скот, оружие и инструменты, урожай и все созданное коллективным трудом принадлежало всем сразу. Новые законы, изданные императором при основании города и записанные Фульвием, защитником из Капуи, гласили:
1. Человек не может более угнетать и подавлять соседа своего из алчности и в борьбе за жизненные блага, ибо Всеобщее Братство берет на себя заботу обо всех.
2. Отныне никто никому не служит, сильные не подчиняют слабых, а заполучивший мешок зерна не порабощает оставшегося без добычи; ибо все работают на Всеобщее Братство.
3. Потому никто не может ни набирать продовольствия более, чем на полдня, ни накапливать в доме своем иные изделия и товары, ибо все будут кормиться от общего котла в больших трапезных, как подобает братьям.
4. Так же и все потребности в материалах для строительства, для вооружения, благополучия жизни и здравия будут удовлетворяться в обмен на труд каждого по силам его на общее благо на строительстве домов, ковке мечей, возделывании земель и охране скота. Каждый да трудится не покладая сил и не отлынивая, а блага да будут всем дадены поровну.
5. И да будет устранена любая вероятность, чтобы один получал преимущество над другими при строительстве, торговле, в обладании собственностью сверх доли его или монетами. А потому Луканское Братство упраздняет золотые и серебряные монеты и монеты из неблагородных металлов; кого же уличат во владении таковыми, карой тому изгнание и смерть.
Таковы были продиктованные Спартаком законы, которым подчинялась жизнь в растущем Городе Солнца. То были невиданные законы, но при том они оказались стары, как сами горы. Когда только началось строительство лагеря и копание в земле, были найдены остатки мифического Сибариса — познавшие непогоду стены, глиняная посуда, разбитые вазы, видевшие век Сатурна, память о котором свято хранится в народе, — век, когда царила справедливость и добро. Открыты были надписи, в которых рассказывалось о герое Ликурге и о государстве спартанцев с общими складами и трапезными; и не были ли новые законы Спартака все равно как древний камень, помнящий прикосновение рук давно умерших людей и сохранивший пыл их отлетевших душ? Вдохновение предков теперешних жителей Фурий осталось жить в самой этой земле. И теперь жители эти, собираясь перед воротами, наблюдая, как растет новый город, качая головами и почесывая в затылках — все равно внутрь их никогда не пускали, — вспоминали давно позабытые легенды и сами оказывались под их властью: то были легенды о добром царе Агисе, острове Панхее, мечтах старика Платона о республике разума; все это изучалось, конечно, в школе, но тогда вызывало скуку и улыбки; классику снисходительно почитывали, подобно тому, как Сегодня снисходит к замшелому Прошлому. Эти легенды были прекрасны, но давно покрылись пылью и не имели никакого отношения к настоящему — так полагали жители Фурий. И вот какой-то самозванный фракийский князь, а в действительности, по слухам, всего-навсего презренный гладиатор из цирка, появился вдруг ниоткуда, разбил римлян и возвел город, где запросто осуществятся самые невероятные мечты… Разве на такую невидаль не стоило поглазеть?
А город рос. Рос за глухими стенами, разбегался прямыми улицами, громоздился складами и трапезными. Законы его были неслыханны, но справедливы и неумолимы. На холме в центре города стоял, охраняемый двумя шеренгами часовых, императорский шатер, откуда исходили законы. А в укромном месте, в углу, образованном стеной и Северными воротами, были воздвигнуты кресты для нарушителей законов. Не проходило дня, чтобы несколько нарушителей не издохли на крестах в интересах благоденствия всех остальных, служа всем остальным назиданием своими переломанными членами и вывалившимися черными языками. Содрогаясь в последней судороге, казненные проклинали шатер на холме и все Государство Солнца.
IV. Сеть
Переговоры, предшествовавшие заключению союза между императором и городом Фурии, велись не по правилам. Представителей городского совета ждали сюрпризы.
Сами делегаты, направленные императором в торжественный переговорный зал Фурийской корпорации, оказались людьми весьма своеобразными: сморщенный адвокатишка с лысой шишковатой головой и высокий робкий юноша, не смевший поднять глаза и то и дело красневший, с ходящим под тонкой кожей высокого лба синим желваком. Оба не производили серьезного впечатления, были одеты немыслимым образом и понятия не имели о дипломатическом протоколе. Два главных советника Фурий были неприятно удивлены обликом партнеров и не знали, как им быть. Когда один из них, старик с глазами чуть навыкате, произнес традиционную тираду о «вашем господине, славном победителе Рима, величественном императоре», лысый коротышка прервал его словами:
— Ты говоришь о Спартаке? Мы думали, вы знаете, кто он такой.
Достойный советник был совершено сбит с толку этими словами. Его коллега, толстый деляга, владелец крупнейших смолокурен Силы, пришел ему на помощь.
— Нам известно, — начал он, — что ваш предводитель гарцует на белом коне и владеет атрибутами, доставшимися от претора Вариния: перед ним носят фасции и топоры. Это императорские знаки отличия. Но, разумеется, дело не в формальностях.
— И все же позвольте кое-что уточнить порядка ради, — произнес стряпчий из Капуи. — Дело не в фасциях и боевых топорах, а в другой символике могущества. Хотя вы правы, формальностями можно пренебречь, — закончил он саркастически.
— Какова эта символика? — спросил пожилой советник, въедливый любитель точности.
— Как мы только что слышали, — бойко сказал деляга, — формальностями можно пренебречь.
Пожилой недовольно покачал головой, но продолжать не стал. Мысленно он отметил, что даже в этом разговоре о символах кроется подвох. И весь предполагаемый союз — сплошной подвох.
Начались конкретные переговоры. Защитник Фульвий, потирая лысину и покашливая, внес от имени своего императора следующие предложения.
Город Фурии заключит союз с армией Спартака и, таким образом, выйдет из-под власти Римской республики. Выплата Риму подушного налога, десятины и муниципальных отчислений будет прекращена. Все поля, пастбища и прочие плодородные земли возле города и вокруг него, принадлежавшие прежде Риму, становятся собственностью муниципалитета.
— А смолокурни? — спросил деляга.
— Те, что являются государственной собственностью, перейдут в собственность города. Договоры об аренде с частными лицами, не проживающими в городе, будут аннулированы.
— Отлично! — одобрил дородный. — Пока что все звучит разумно и достойно одобрения.
— Есть ли у вашего князя полномочия разрывать чужие контракты? — спросил старый советник, но на него никто не обратил внимания. Фульвий продолжал:
— Кроме того, мы предлагаем следующее. Город Фурии будет объявлен вольным портом. Римские пошлины на ввозимые и вывозимые товары более взиматься не будут. Это будет относиться к торговле как с заморскими, так и с римскими портами.
— Что это значит? — спросил старик. — Это тоже символ? Я не разбираюсь в правилах торговли, но мне казалось, что союзы заключаются в военных целях.
— Все очень просто, — вдохновенно ответил ему деляга. — Фурии превзойдут порты Брундизий, Тарент, Метапонт и другие и превратятся в важнейший порт италийского юга. А это — богатство города и — кто знает? — быть может, конец римской торговой и судоходной монополии.
— Море кишит пиратами, — напомнил старик. — В море неспокойно.
— С пиратами мы тоже заключим союз, — спокойно объяснил Фульвий.
— С пиратами?! — в ужасе вскричал старик. — С этими бандитами, убийцами, злодеями, недостойными доверия
Наступила неприятная тишина. На сей раз ошеломлен был и деляга, хотя на его лице ничего нельзя было прочесть. Участие в переговорах Эномая сводилось к приклеенной к его устам смущенной улыбке, поэтому фурийцам пришлось дождаться конца приступа кашля у Фульвия, чтобы услышать объяснение неслыханного союза с пиратами.
— Почему бы и нет? — начал тот. — Пиратство — такое же последствие римской торговой монополии на море, как грабежи на суше — последствие крупного землевладения. Разница лишь в том, что пираты Киликии, как вам известно, гораздо лучше организованы, чем жалкие бандитские шайки до появления Спартака. Это настоящее военно-морское государство с адмиралами и строгими законами. Царь Митридат заключил с ними союз, римские эмигранты из окружения Сертория — тоже. Рим называет это пиратством, а на самом деле это священная война угнетенных на море. Вот и мы заключим с пиратами союз и привлечем их в свое Луканское Братство.
— Почему бы тогда не с самим Митридатом? — насмешливо спросил деляга.
— Всему свое время, — парировал защитник. — Переговоры с ним впереди.
— И с эмигрантами в Испании?
— И с ними тоже, — отвечал защитник, пристально глядя на собеседника близорукими глазками.
Престарелый советник только качал головой, уже не пытаясь что-либо понять. Деляга изучал посланцев Спартака в непотребных одеяниях, совершенно не смыслящих в тонкостях дипломатии. Он еще не разобрался, присутствует ли при историческом событии или на позорном фарсе. Он бы многое дал, чтобы знать, как отнеслись бы к этим переговорам Красс, Помпей, любой другой выдающийся римский государственный деятель, окажись он их невидимым свидетелем. Скорее всего, он бы улыбался, забавляясь тем, каких послов прислал зазнавшийся гладиатор, возомнивший, что можно решить судьбу мира, ударив по рукам со старикашкой-греком и воротилой невысокого пошиба. Все это — чистое любительство и детство; взять хоть желание этих людей вести переговоры, а не войти в город и просто взять то, что приглянулось! Кто бы смог помешать победителям Вариния? У Фурий нет ни крепостных стен, ни мало-мальски приличного гарнизона, о чем Спартаку известно не хуже прочих. Один старикашка не мог взять в толк всех этих тонкостей и относился к происходящему всерьез. Тем не менее, раз эти люди желают вести переговоры, значит, надо попытаться выбить из них как можно больше. Таков был единственный разумный подход в столь безумной ситуации.
— Все это замыслил ваш предводитель, фракийский князь? — спросил деляга под конец.
— Эти замыслы давно носятся в воздухе, — сказал защитник. — Оставалось только захотеть их осуществить.
— Что ж, — молвил деляга, — это ваше дело, мы не уполномочены его обсуждать. Позвольте вернуться к теме переговоров. Меня интересует, какие обязанности будут на нас возложены в рамках этого союза или, если напрямик, что вы от нас хотите?
— Очень просто, — любезно ответствовал защитник. — Мы хотим, чтобы вы добровольно отдали нам все то, чем мы могли бы с легкостью завладеть силой.
Советник чуть не упал в обморок.
— Звучит слишком неопределенно, — пролепетал он. — Это чересчур односторонний подход.
Однако Фульвий сухо и не очень цивилизованно отмел возражения и изложил требования. Корпорация уступает территорию между реками Гратис и Сибарис армии рабов, которая будет строить на ней свой город; Корпорация берет на себя снабжение армии строительными материалами и продовольствием, пока армия не сможет обеспечить себя сама.
— Какова ваша численность? — осведомился деляга как ни в чем не бывало.
— Пока что нас семьдесят тысяч, — последовал ответ, — а скоро будет сто тысяч и больше.
— Тут и обсуждать нечего, — решительно заявил советник. — Наше население — пятьдесят тысяч, и мы не сможем содержать вдвое больше людей, чем насчитывается нас самих.
— У нас большое поголовье скота, — сказал Фульвий, — которое удовлетворяет около трети нашей потребности в мясе и молоке. Кроме того, вольный порт Фурии будет завозить извне еду, а также металлы и другие материалы, необходимые для изготовления оружия.
— Кто будет за это платить? — спросил деляга.
— Платить будем мы сами, — заверил Фульвий, отчего деляга во второй раз с начала переговоров утратил хладнокровие. Оно вернулось к нему, когда защитник добавил: — Мы сами установим цены — с согласия Корпорации, разумеется.
— Не можем же мы диктовать всем лавочникам цены, по каким им продавать вашим солдатам огурцы и селедку!
— В этом не будет необходимости, — заверил его Фульвий. — Мы будем закупать все, что необходимо для города целиком, ибо наше общество кооперативное. А деньги мы, между прочим, упраздним.
Выдержав длительную паузу, во время которой он боролся с желанием высказать все, что думает, о столь безумных проектах, деляга перевел дух и молвил:
— Вы сами решаете, как поступать у себя в лагере.
— Разумеется, — сказал Фульвий. — Но говорить больше престало не о лагере, а о городе, потому что мы сразу приступим к строительству нашего Города Солнца.
— Как возвышенно! — пробормотал деляга.
Снова возникла пауза.
В голове у него вертелись такие мысли: пусть эти дурни делают, что хотят. Он думал, что Фуриям уготована худшая судьба. Участок для строительства лагеря был раньше по большей части римской собственностью; Спартак отобрал его у римлян и подарил Корпорации, а она, в свою очередь, дарит его Спартаку. Все это можно было бы осуществить проще, без юридических сложностей, но раз этим людям так важны символы — что ж, пусть радуются. Другое дело, будут ли они следовать условиям договора. Увы, Фурии в их власти, и договор, пусть сомнительный, — это все же лучше, чем никакого договора… В целом деляга был очень доволен. Повернувшись к своему престарелому коллеге, он произнес:
— Условия нелегкие, но их можно принять к рассмотрению. Что скажешь?
Старик посмотрел на него своими выпуклыми глазами и сказал:
— Я почти ничего не понял. Прошу посла фракийского князя ответить на один вопрос. Я слыхал, будто вы собираетесь забрать все наши деньги, дома, жен, дочерей и слуг и вообще все поставить с ног на голову. Это правда?
— Уверен, все это досужие сплетни, — поспешно проговорил деляга. — Мало ли, что болтают? Нельзя же все понимать так буквально! — Он улыбнулся двум посланцам, выражая улыбкой полное понимание и желание сотрудничать.
Эномай зарделся от этой улыбки и опустил глаза. Ему не хотелось взаимопонимания с этим человеком; он предпочел бы оказаться за много миль отсюда. Он с тоской вспоминал кратер Везувия, где все было так просто.
Но Фульвий ждал подобного вопроса и приготовил точный, исчерпывающий ответ. Но сейчас в смятении понял, что позабыл свою заготовку. Ему было неудобно под взглядом старика, собравшегося выслушать ответ. Под выпуклыми глазами у старика были мешки, от глаз разбегались во все стороны морщины, но взгляд бы ясный, смышленый. Защитник и писатель Фульвий почему-то вспомнил сейчас своего отца, чего с ним не случалось много лет. Ему становилось все больше не по себе, он испытывал угрызения совести — отвратительное состояние! Наконец, он выдавил:
— Мы стремимся к законности и порядку. Только это будут новые законы и новый порядок. — Он закашлялся.
— Пустые речи, — заключил старик. — Ты произносишь просто слова, посол фракийского князя, и избегаешь точных ответов. Вот ты распространяешься о пошлинах, импорте, символах, а я спрашиваю, отберут ли у меня дом.
Деляга поперхнулся.
— Об этом нет речи. — Он снова бросил умоляющий взгляд на Эномая, но тот все не поднимал глаз.
— Неправда! — сказал упрямый старик. — Только об этом и стоит говорить всерьез. Если у одного есть дом, а другой хочет им завладеть, то никакого союза у них не получится, будет одно лицемерие.
Фульвий потерял дар речи. Старик все больше напоминал ему отца, давно забытого. То самое чувство, что заставило юного Эномая опустить ресницы, лишало его доводов, сразу превратившихся в бессмыслицу. Прямым и ясным был только путь насилия, а в глазах старика читалась ясная, величественная глупость. Хронист Фульвий только что сделал открытие, лишившее его красноречия, и открытие это гласило: бывает глупость, перед которой не устоит никакой ум. Бывают несправедливости, настолько вошедшие в кровь и плоть людей, что посрамят справедливость. Природное достоинство собственника делает нелепым и противоестественным желание неимущего завладеть его собственностью.
Защитник Фульвий принял решение и вскинул голову. В следующую секунду он инстинктивно пощупал свой череп, на котором, сидя дома, на чердаке, всегда набивал шишки, колотясь о стропило. Этого стропила ему теперь очень не хватало: к новой жизни он привыкал с большим трудом.
— Ты вправе задать этот вопрос, — сказал он старику и опять замолчал. Деляга облегченно перевел дух. Эномай устремил на него вопросительный взгляд, в глазах старика читалась детская доверчивость. Фульвий покашлял и продолжил: — Цели, преследуемые нашим движением и (он еще раз кашлянул) фракийским князем, ведут, конечно, к коренной смене системы и условий жизни во всей стране, однако достижение этих целей — дело далекого будущего. В настоящий момент мы хотим всего лишь обеспечить безопасность городу, который будем строить, и надежность нашим союзам. Так что союзникам нечего нас бояться.
— Никаких беспорядков? — спросил старик. — Вы не станете отбирать у нас дома и засылать в город своих людей, подстрекающих наших рабов к неповиновению?
Защитник снова подпрыгнул на месте, снова потер голову в том месте, где ее полагалось ушибить о несуществующее бревно. Отсутствие бревна всерьез его беспокоило: ему казалось, что под бревном, при постоянной угрозе удара, у него лучше варили мозги. Уж не сказалась ли отрицательно излишняя свобода на его мыслительных способностях? Орда рабов никогда не уразумеет, почему нельзя переманивать на свою сторону рабов из соседнего города. Тем не менее от возможности такого переманивания придется отказаться, иначе нечего и думать о мирном проведении эксперимента — строительства Города Солнца. Фульвий молчал, вспоминая беседу в его первую ночь в лагере Спартака: снова «закон обходных путей», неподъемный вес все новых требований и условий, отягощающих каждый шаг…
Фульвий охотно прервал бы переговоры. То, во что он всегда отказывался верить, оказывалось верным: единственным прямым путем остался путь чистоты. Но разве чище были пути Нолы, Суэссулы, Калатии? Чище ли проткнуть копьем брюхо благородного старого советника, чем?… Да, это правильнее, чем идти на сомнительные компромиссы, соглашаться на условия, которые не поймет никто и никогда.
— Мы не отберем у вас дома и не будем засылать подстрекателей, — выдавил он. — Ты удовлетворен?
— Я принимаю твой ответ, — звонко, с легкой дрожью в голосе, проговорил старик.
Слуги принесли прохладительные напитки. Договор был составлен в спешке и немедленно подписан. Обе стороны торопились и решили не обсуждать мелочей. В документе Спартак был назван всеми мыслимыми титулами иноземного князя; возражений против этой словесной мишуры более не последовало.
Такие вот и другие подобные им переговоры предшествовали основанию города. Ему предстояло стать Городом Солнца, и жизнь внутри его стен никак не должна была зависеть от жизни снаружи; горожане были свободны от соблюдения законов и порядков окружающего мира. Однако с момента основания город оказался связан с существующим порядком вещей тысячами нитей. Город угодил в невидимую сеть.
А тем временем приближалась весна. Город быстро рос на пустом месте; его планировали на семьдесят тысяч жителей, а в его стенах уже помещалось сто тысяч. Росли амбары, кузницы, общественные трапезные; в углу у Северных ворот прибавлялось крестов, на которых умирали те, чьи жизни были прерваны во благо всеобщего благополучия, то, кто не сумел подчиниться суровым законам свободы.
V. Новичок
Среди множества новичков, приходивших в город, оказался юноша по имени Публибор. Он сбежал от своего хозяина Гегиона, хотя у него ему жилось вовсе не плохо. Матрона — и та поколачивала его нечасто, когда у нее совсем уж портилось настроение, и в такие моменты другие страдали посильнее, чем он. Однако до его слуха донесся призыв Города Солнца — тогда еще не был заключен союз, запретивший посланцам Спартака вербовать рабов из Фурий. Призыв посеял в его душе семя нетерпения, семя дало росток, и вот молодой раб очутился в городе-лагере.
Там, среди десятков тысяч людей, он был незаметен. Он пришел с нетерпением в душе, с мысленными картинами новой жизни, расписанной гонцами Спартака в те дни, когда им еще можно было улавливать новые души. Он шагал по новым чистеньким улицам, чувствуя изумление и испуг; никто не обращал на него внимания. Все были очень заняты, всем было некогда: люди строили, стучали молотками, и не с кем было поделиться своей жгучей радостью: вот он, он пришел в Город Солнца!
Войти в ворота оказалось нелегким делом. Ворота охраняли суровые стражники, надменные, как все люди в форме. «Эй, парень, ты куда?» — окликнули они его презрительно.
Он честно ответил, что пришел жить вместе с ними по новым законам Луканского Братства, что до утра этого дня оставался рабом и вот сбежал из Фурий, от хозяина.
Однако его искренность не сделала надменных стражников дружелюбнее; они как были, так и остались враждебны. Неужели они не поняли его слов? Нет, кажется, они все поняли, но все равно сказали ему: вход воспрещен, возвращайся, откуда пришел, к своему хозяину, ибо ни один раб из Фурий не может быть допущен в город, так сказано в договоре, подписанном с советом Фурий; вот и ступай, покуда цел.
Однако Публибор отказывался уходить. Он все кричал, что они его не понимают, что это страшное недоразумение: ведь он раб и хочет жить в городе рабов, где правит справедливость и добро. Когда же солдаты, сперва смеявшиеся, а потом уставшие от его криков, попытались отогнать его силой, он уцепился за воротный столб и стал кричать, что было мочи: не смейте, хочу к Спартаку, он обязательно меня примет! И слезы из глаз. А был он юноша робкий и незлобивый, никогда в жизни не устраивавший такой кутерьмы, поэтому ему было ужасно стыдно собственных воплей. К воротам стекалось все больше людей, полюбопытствовать, в чем причина шума, так что в конце концов одному из стражников пришлось, сплюнув, тащить его в город, к командиру стражи.
Юному Публибору только того и надо было; он утер слезы и снова сделался робок и податлив. Далеко шагать не пришлось: хижина командира находилась всего в нескольких шагах от внутренних укреплений. Это была деревянная лачуга с матерчатой крышей, прожигаемой солнцем. Вокруг лачуги стояло и сидело плотной кучей немало народу; все они от усталости глядели в землю. Среди них были и дети, и кормящие матери; рядом бездельничала охрана. Часовой, приведший Публибора, поговорил с одним из солдат и ушел обратно на свой пост. Публибору было велено ждать вместе со всеми. Он уселся в пыль, довольный, что все-таки проник в город.
Время шло, солнце палило все сильнее, люди, сидевшие в пыли вокруг Публибора, переговаривались между собой и утоляли голод тем, что принесли с собой; мамаши кормили грудью надрывающихся младенцев. Здесь, под охраной солдат, собралось несколько сот человек; время от времени в хижину вызывали новую партию людей. Те, в кого тыкали пальцем, радостно торопились внутрь. Больше их не видели: они уходили в другом направлении.
— Это все новенькие? — обратился Публибор к мужчине, сидевшему с ним рядом. У того было заостренное птичье личико с длинным носом и близко посаженными стреляющими туда-сюда глазками; бродяга, решил Публибор. Остролицый жевал хлеб с луком и не обратил внимания на вопрос. Вместо него отозвалась женщина с болезненным желтым лицом.
— Ты не из каменоломни? — спросила она, покачивая на колене страшненького младенца, не выпускавшего из ротика ее дряблый сосок.
— Нет, — ответил Публибор, — я из Фурий.
Он с готовностью рассказал бы ей больше, но она сразу отвернулась и принялась усердно качать ребенка. Его ответ ее не интересовал.
Бродяга перестал есть.
— Раз ты из Фурий, значит, тебя отправят восвояси, — предупредил он. — Они здесь не хотят неприятностей с Магистратурой. Спартак нынче смирный.
— Нет, меня оставят, — уверенно сказал Публибор. — Спартак не прогоняет тех, кто хочет к нему присоединиться.
— У Спартака есть заботы поважнее тебя, — возразил бродяга, ни секунды не смотревший в одну точку. — Вчера он принимал послов Митридата, сегодня у него переговоры с людьми Сертория. Так до тебя ли ему? Эту тоже отправят, — шепотом закончил он, указывая на желтолицую женщину.
— Нечего болтать, — добродушно буркнул один из солдат охраны, вытирая пот под шлемом. — До каждого дойдет черед.
В хижину повели очередную партию. Женщина повернулась к Публибору.
— Тех, кто с каменоломен, они оставляют, — сообщила она как-то торопливо и снова отвернулась, не нуждаясь в ответе. Не переставая качать ребенка, она отняла у него левый сосок и сунула в ротик правый. Ребенок как будто спал, не обращая внимания на ползающих по лицу мух.
— Еще бы не оставлять тех, кто с каменоломен! — воодушевился бродяга, указывая на широкоплечих мужчин с блестящими от пота голыми торсами, сидящих спокойно в углу. — Уж для этаких молодцов дело всегда найдется! А такие, как я, для их Государства Солнца не годятся. Старые ведьмы и подавно. Смотри, у нее грудь, что у дряхлой козы вымя, молока в ней сто лет как не бывало.
Публибору стало так же тревожно, как до того перед воротами.
— Сюда стекается так много народу? — спросил он испуганно.
— Много — не то слово. — Бродяга обвел жестом всю окрестность — поля, горы, море. — Но троим из четырех приходится уходить несолоно хлебавши…
— Я думал, в Городе Солнца найдется место для всех бедных и униженных, — сказал Публибор.
Бродяга скорчил рожу.
— Шутки шутишь? — И снова стал жевать свой хлеб.
Однако все кончилось благополучно. К вечеру Публибор был вызван в хижину вместе с другими новенькими; солдаты забыли доложить, что он пришел из Фурий, и ему, молодому и сильному, разрешили остаться. Он был принят в Луканское Братство. Назавтра должно было начаться обучение военному делу, к тому же его записали в плотницкую бригаду, строившую курятники; но остаток дня оказался ничем не занят, так что новичок отправился бродить по улицам новорожденного Города Солнца.
Все люди здесь были ему братьями, но все до одного оказались ужасно заняты, и ни у кого не находилось для него времени. Он был слишком робок, чтобы самому завести разговор, но с радостью преодолел бы свою робость, если бы кто-нибудь его поощрил. Но поощрения не было. Он задержался у кузницы, где два перепачканных с ног до головы парня примерно его возраста раздували меха, третий, постарше, держал на наковальне раскаленную железку, а четвертый взмахивал над головой тяжелым молотом и со звоном опускал его. От звона можно было оглохнуть, от разлетающихся искр ослепнуть. Публибора радовала мысль, что и кузнецы — его братья. Он вглядывался в их лица, считая, что они должны быть озарены счастьем: ведь они свободны и живут по новому Закону! Но они косились на свою заготовку, как на врага, и помалкивали; кузнец с щипцами сплюнул и выругался. Неужели они не ценят перемену в своей жизни, неужели уже забыли, как жили раньше? Публибор несмело поприветствовал их, в ответ один из четверых оглянулся и безразлично сплюнул. Слюна была черной. Публибор заспешил дальше.
Жилые хижины и палатки по большей части пустовали: время было рабочее. Склады вытянулись по линейке — заостренные пирамиды, ослепительно белые и безрадостно серые на немилосердном солнце. Сараи, мастерские и трапезные были деревянные, из толстых бревен, привезенных на белых буйволах с гор; постройки еще пахли лесом, из стыков текла смола. Публибор свернул на широкую улицу, плавно поднимающуюся вверх по склону; на холме были видны просторные шатры из шкур, и среди них самый большой шатер, под пурпурным стягом на высоком шесте у входа. Публибор остановился, сердце его омыло горячей волной, глаза наполнились слезами. Но подходить ближе не хотелось из-за хмурых толстошеих стражников. Публибор побрел назад.
Снова шел он по улицам, между саманных домов и мастерских, снова заглядывал в лица, ища в них хотя бы лучик радостного возбуждения. В квартале африканцев — чернокожих гигантов с толстыми губами, короткими курчавыми волосами, круглыми незлобивыми глазами — ему улыбались, но хриплых звуков, издаваемых этими людьми, он понять не мог. Сколько же на свете разного люду! Неужто и эти — его братья? Неужто и они мечтают о Государстве Солнца? У них другие боги, другие тела, другие мозги… Один тащил на плече дерево с содранной корой, до того тяжелое, что даже три таких юнца, как Публибор, не сдвинули бы его с места. Гигант остановился, посмотрел на Публибора сверху вниз отчасти дружески, отчасти с опаской. Улица была пуста, солнце жгло по-прежнему.
— Тяжело, — сказал Публибор. — Тяжело?
Гигант величественно указал на горы — решил, наверное, что паренек спрашивает, где растут такие деревья.
— Тяжело, тяжело, — повторил Публибор смущенно и сделал вид, словно поднимает с земли тяжесть.
Гигант испуганно помотал головой: нет, дерево он ему не отдаст. Он издавал какие-то звериные звуки, скулил, казалось, вот-вот зарыдает. Боится, что у него отберут бревно, боится плюгавого Публибора? Юноша был поражен. Наверное, раньше с ним до того плохо обращались, что он опасается любого, кого ни встретит. Публибора посетила удачная мысль.
— Спартак! — крикнул он и, улыбаясь, показал пальцем в направлении шатра под флагом, уверенный, что это-то будет чернокожему понятно. Но тот ни с того ни с сего ударил его в грудь и пустился бежать. На бегу он оглядывался и испуганно вращал глазами.
Волна радости, несшая Публибора с самого момента бегства из дома Гегиона, постепенно схлынула. Он устал от бесцельного шатания по улицам и не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Нелегко было вырваться из паутины повседневности и привычек; всего за час до бегства ему еще казалось, что у него не хватит отваги для такого поступка. И потом, в решающие мгновения перед воротами, ощущение, что все происходит во сне, не покидало его, так что сцена со стражниками и его собственные пронзительные вопли мало его тронули. И только теперь, когда радость утихла, сменившись замешательством, он приготовился к неожиданностям. Он уже едва не валился от усталости, когда его окликнул женский голос.
Молодая женщина сидела на пороге длинного деревянного барака и обирала длинными худыми пальцами зерна с кукурузного початка. Внутри работали другие женщины, тоже не терявшие времени зря. Он оказался перед одной из больших общественных кухонь, стряпавших для трапезных.
Публибор не понял слов женщины, но его поразил тембр ее голоса — хрипловатый и одновременно приятный, звенящий, как прикосновение дорогой ткани. Он остановился, покраснел и сказал виновато:
— Я новенький.
— Вижу, — сказала девушка с улыбкой, не отрывая взгляд от початка. Она сидела, склонив голову, поэтому он не видел ее глаз, только ресницы, овал лица и растрепавшийся узел волос. Она обращалась к нему по-гречески.
— Как же ты видишь? — спросил он.
Вместо ответа она улыбнулась; зерна падали с очередного початка в миску. Бросив обобранный початок в ведро, она взяла следующий; о Публиборе она, казалось, забыла. Пришлось задать ей новый вопрос:
— Ты давно в Братстве?
— Что?
— Я говорю, ты в Братстве давно?
Она мелодично рассмеялась и откинула голову. Наконец-то он увидел — на долю секунды — ее глаза.
— После Нолы я в… Братстве.
Он не понимал, что тут смешного, поэтому задал вопрос, естественно вытекавший из предыдущего:
— Ты довольна?
Теперь она обошлась без смеха, отделавшись одной улыбкой.
— Дай-ка мне еще початок. Не этот, большой. — Она снова посерьезнела и стала быстро ссыпать зерна в миску.
Публибор чувствовал, что превращается в посмешище и что лучше продолжить путь. Но вместо этого он сказал:
— Наверное, ты сбежала от своего хозяина там, в Ноле?
— Его убили, — ответила она, не прерывая своего занятия.
— Ты радовалась, когда его убили?
— Чему тут радоваться?
— Ну как же, теперь ты свободна. Раньше хозяин мог сделать с тобой все, что ему вздумается.
Казалось, она сейчас снова рассмеется, но она всего лишь удивленно посмотрела на него.
— Это верно, мог.
— Мог, например, тебя выпороть, — продолжил Публибор.
— За что же меня пороть?
— Мог бы, если бы захотел, — упрямился Публибор.
— Разве это так ужасно?
Он задумался. Он сам не знал больше, что думает, чего хочет. Чтобы долго не молчать, он спросил:
— Свобода — разве это не чудесно?
— Какая разница? — проговорила она безразлично. — Мне ведь все равно приходится работать. Свободен тот, кому не надо работать.
— Раньше ты работала на хозяина, а теперь мы трудимся на себя. Разве это одно и то же?
Она взяла новый початок.
— Нет, не одно и то же, — буркнула она устало.
Он еще постоял перед ней, не находя, что бы еще сказать. Наконец, хмуро попрощался и побрел прочь. Она не подняла голову и не ответила на его прощание. Кукурузные зерна, повинуясь ее тонким пальцам, градом сыпались в миску.
Он все больше уставал, а потом и проголодался. Надо было спросить у девушки, как добраться до трапезной плотников; больше он ни к кому не смел обратиться со своим вопросом. Он забрел в кельтский квартал, состоящий из крытых соломой домиков, сложенных из грубых глиняных кирпичей; здесь было не слишком чисто. Он вспомнил белые веранды и сады на крышах Фурий, тени от колонн; казалось, все это было давным-давно, много лет назад. Сейчас его хозяин, старик Гегион, возвращается, наверное, с утренней прогулки, забавляется с собакой и по-детски отвечает на ворчание матроны по поводу его, Публибора, отсутствия. Здесь, на внешнем кольце, улицы были почти пусты: все либо работали, либо ели; встречались только потные толстяки в грубых блузах, с лохматыми усами и придирчивыми взглядами — варвары из Галлии. Публибор добрел до широкой открытой площади у внешней стены, недалеко от Северных ворот. Площадь была совершенно пуста; он решил пересечь ее и спросить у часового при Северных воротах, как пройти в трапезную, как вдруг у него замерло сердце. В левом углу площади, рядом со рвом, он увидел три деревянных шеста с поперечинами, на которых висели люди. Головы они уронили на грудь, ребра их выпирали, грозя прорвать кожу. Руки и ноги были противоестественно вывернуты, кисти рук привязаны к поперечинам, так что они походили на птиц, подвешенных за крылья. Никогда прежде Публибор не видал распятых и был всеобщим посмешищем, так как отказывался посещать казни. Сейчас он привалился к стене от испуга; в следующее мгновение его вывернуло. Когда он открыл глаза, один из распятых медленно поднял голову и посмотрел на него. Темный бесформенный язык выполз изо рта и медленно заскользил по зубам — сначала вправо, потом влево; взгляд прирос к Публибору. Тот царапал ногтями стену, в горле пересохло, он то ли давился, то ли хрипел, то ли рыдал. Потом лицо распятого, особенно кожа вокруг глаз и рта, покрылось морщинами — видимо, то была попытка улыбнуться. Он несколько раз сглотнул — об этом свидетельствовали судороги горла; потом закрыл глаза и опять уронил голову; сперва он попытался пристроить подбородок на плече, но голова быстро свесилась на грудь.
Кто-то дотронулся до руки Публибора. Он испуганно оглянулся и увидел не выходящего из тени стены стражника.
— Что ты тут делаешь?
Публибор не смог ответить. Он таращил глаза на стражника в форме римского солдата и в низко надвинутом шлеме.
— Небось, новичок? Ступай себе, нечего здесь болтаться.
— Почему? — выдавил Публибор, указывая подбородком на три шеста и дрожа всем телом. — Почему с ними так поступили?
Стражник пожал плечами и ничего не ответил. Его взгляд тоже был устремлен на распятых; через некоторое время он отвернулся и вытер с лица пот.
— Это ради дисциплины, для острастки других, — проговорил он. — Если дать им попить, они еще протянут. Так что ступай подобру-поздорову.
И снова Публибор побрел по улицам города. Он сам не знал, сколько времени слонялся — ему казалось, что это продолжалось вечность. Ему чудилось, что распятый все еще смотрит на него, снова и снова он видел распухший язык, елозящий по зубам — сначала вправо, потом влево. Но когда уставшие ноги окончательно отказались его держать, а желудок стало жечь голодным огнем, видение померкло. «Это ради дисциплины, для острастки других», — звучало в ушах объяснение стражника, человека, знающего, что к чему. Что ж, раз Спартак распинает людей, значит, у него есть на то свои причины. Постепенно Публибор успокоился и даже набрался храбрости, чтобы спросить дорогу к трапезной.
Так он оказался в только что сколоченном длинном деревянном бараке. Стыки свежих досок еще были покрыты смолой, как и во всех постройках города. Садясь на скамью, за бесконечно длинный неровный стол, становясь частичкой бесконечно длинного ряда утоляющих голод, касаясь локтями локтей своих соседей по обеим сторонам, он почувствовал, что снова все в порядке, что праздничная радость, охватившая его при входе в город, вот-вот вернется. Работников кормили густым супом из кукурузы и лука; на каждые шесть человек приходилось по большой миске, из которой они поспешно хлебали большими ложками.
Помещение было так велико, что одновременно суп могла хлебать сотня таких шестерок. Люди за длинным столом насыщались по большей части молча. Пот от дневных трудов высыхал на телах медленно, усталость не проходила; и все же в бараке стоял мерный гул голосов. Пятеро, с которыми Публибор делил миску, то и дело цепляли ложками его ложку, но воздерживались от брани. Публибор уже любил всех пятерых братской любовью, но не осмеливался к ним обращаться, чтобы не ляпнуть глупость, чем, судя по всему, занимался весь истекший день.
Человек, сидевший напротив него, резко отличался одеждой от остальных четырех: на нем была тряпка, в которой при некотором воображении еще можно было узнать тогу, обматывавшая его несколькими слоями; разлетающиеся рукава все время норовили оказаться в супе. У этого едока было изможденное птичье лицо, немного похожее на лицо бродяги у ворот, но выражавшее внутреннюю боль; его живые глаза резко контрастировали с общим впечатлением крайней изможденности. Он первым обратился к юному новичку.
— Ну, каков на вкус хлеб свободы? — спросил он, стуча ложкой о край миски.
— Отлично! — с готовностью откликнулся Публибор. Именно такими он и воображал беседы в Братстве; правда, его несколько насторожила напыщенность обращения.
— Вижу это по твоим глазам, — сказал Зосим. — Скоро ты объешься.
— Уже объелся, — с улыбкой молвил Публибор, откидываясь.
— Пока что это лишь телесное насыщение, — сказал Зосим. — Душа же твоя по-прежнему полна высоких чувств и больших ожиданий. Погоди, это пройдет.
Теперь лишь один Зосим продолжал есть, окуная ложку в суп с видом мученической алчности. Остальные праздно слушали.
— Душа забывчивее тела, — продолжил он, наставительно помахивая ложкой. — Оглянись, и ты увидишь людей, испытывающих глупое и напрасное удовлетворение после дня трудов; что им до голодных братьев по всей Италии? Увы, жажда их утолена первой же каплей из чаши свободы; они давно забыли, о чем мечтали, пока голодали на Везувии. Спартак — тот называет себя императором, якшается с сильными мира сего, вступает с ними в союзы. Подожди немножко, новичок, и глаза твои раскроются; пока же они склеены липкой жижей чувств.
Публибор не знал, что на это отвечать: он и вправду был новичком. Но его удивляло, что и остальные за столом помалкивают, не проявляя к разговору ни малейшего интереса. Сосед Публибора, рыжеволосый детина с выражением неизбывной тоски по родным фракийским горам в глазах, неуклюже встал со скамьи, дружелюбно кивнул сотрапезникам и побрел прочь. Барак постепенно пустел. Но Зосима несло:
— Вот уже два месяца мы торчим здесь, строим себе домишки, словно все проблемы человечества уже разрешены. Где же восстание наших италийских братьев? Они рассказывают друг дружке перед сном сказки про Спартака и гордятся, что в Италии появился город рабов. Когда хозяин отвешивает им пинки, они орут: погоди, вот придет Спартак, уж он тебе покажет! В этом они находят утешение, так что ничего больше не происходит. Увы, мы не одерживаем новых побед, а все потому, что человечество скудоумно и глухо. А мы строим себе домишки да хлебаем суп, забывая о горе других.
Для пущей убедительности Зосим отчаянно жестикулировал; закончив свою речь, он бессильно уронил руки. Ни от кого не дождавшись ответа, он вздохнул и доел из миски остатки супа. Юный Публибор находил его обжорство чрезвычайно забавным; при этом у него создалось впечатление, что речь ритора насыщена нешуточным страданием.
Барак окончательно опустел, не считая компании в углу, кидавшей кости из кожаного стаканчика. Публибор был сонным от усталости: никогда еще ему не выдавалось таких насыщенных дней. Когда ритор завел новую тираду на тему о Городе Солнца, он уже его не слушал. Точно так же девушка с кукурузными початками не слушала его, Публибора. Глаза его, склеенные, по выражению ритора, липкой жижей чувств, сами собой закрылись, и он уснул сидя.
VI. Мировая политика
Рабы Италии не вняли призыву.
На севере, в Этрурии и Умбрии, кое-кто из богатых землевладельцев расстался с жизнью. Их тела находили поутру с эмблемой — разорванными цепями — на груди. Но этим все и ограничивалось. В нескольких городах — Капуе, Метапонте — на рынках вспыхивали бунты, но их успешно подавляли. Ни великого восстания, о котором лепетал эссен на горе Везувий, ни выступления всех италийских рабов, предсказанного в банях защитником Фульвием, не случилось. Люди по-прежнему стекались издалека в город рабов; строили его семьдесят тысяч человек, приютил же он все сто. Однако Город Солнца так и остался единственным в своем роде. Суровый и одинокий, он стоял в междуречье Гратиса и Сибариса, у подножия горной гряды. Люди в городе жили по собственным законам, словно не остались в пределах римской ойкумены, а перенеслись на другую планету.
Сжимая под мышкой пергаментные свитки, хронист Фульвий торопливо семенил по городским улицам, поглаживая свою шишковатую лысину и усиленно ломая голову в поисках логической ошибки. В своих речах он снова и снова провозглашал гибель Рима. Ведь крестьян обобрали до нитки, свободных работников заменили рабами, люди, прежде самостоятельно зарабатывавшие на жизнь, вынужденно превратились в попрошаек и разбойников. В Риме переизбыток рабочих рук и дешевого зерна, гниющего в амбарах, однако бедные не имеют хлеба. Не прошло и десяти лет после последней революции, последней гражданской войны, а новый мир, новый порядок уже стучатся во все двери; ребенок — и тот не может не заметить этого. «Так где же кроется ошибка?» — размышлял умудренный защитник Фульвий. Сейчас очень кстати пришелся бы толстый деревянный брус, о который он когда-то с немалой пользой стукался затылком на родном чердаке. Почему же Город Солнца остается одинок, почему мир не откликается на его клич, словно стены его высятся на другой планете?
Последним уберечь прогнившие порядки попытался Сулла. Он увидел, в какую пропасть проваливается государство, услышал раздающиеся из бездны крики обездоленных и голодных и почувствовал приближение новой эры. Вот он и взял на себя смелость открутить колесо истории назад: была предпринята попытка возродить легендарный порядок давно ушедших времен, эпохи патриархов, когда не существовало ни мировой торговли, ни человеческих прав. Узкий, обреченный на поражение подход! Наступил век зла, умами людей завладели кровожадные боги. Только те, кто мог доказать, что в их жилах течет кровь легендарной Волчицы, получали право вершить судьбы государства, а всем остальным приходилось перед ними склониться. Но при первой же попытке возродить героическое прошлое, на первый же горделивый призыв откликнулся тысячеголосый хор клеветников, шантажистов, авантюристов и шпионов. Радостно плещась, наподобие акул, в море пролитой крови, они жирели на трупах жертв, находя убежище среди рифов фаворитизма. Лучшие люди страны отправились в изгнание.
Диктатор этот ходил по земле словно бы в трансе, утверждал, что во сне общается с богами, называл себя «Сулла Счастливый» и окружил себя охраной из десяти тысяч кровожадных воинов — церберами своего призрачного царства.
А потом на великого Суллу напала вошь и сожрала его живьем.
Правление Суллы было кошмарным прологом, последней попыткой отсрочить магическими чарами конец обреченного государства.
Да, завещанная Суллой конституция продолжала действовать, ссыльные так и оставались в ссылке, но для всех было очевидно, что пройдут считанные годы, а то и месяцы — и дряхлая римская аристократия выронит бразды правления.
Но кому быть наследником? Кто сочетает крепкую хватку и непоколебимую убежденность, необходимые для наступления новой эры? Рабы Италии оказались глухи и не ответили на зов. Рабов в Италии было вдвое больше, чем свободных граждан, однако Город Солнца так и остался в одиночестве. Его союзники исчерпывались членами Корпорации города Фурии, проявившими больше готовности к сотрудничеству, чем те, ради которых все это было затеяно. Так в чем же заключается ошибка? Следует ли продолжать поиск союзников?
Защитник Фульвий припомнил трактат, который начал писать, когда рабы Капуи высыпали на стены, чтобы оборонять свой город, вместо того, чтобы примкнуть к Спартаку. Называться трактат должен был «О причинах, побуждающих человека поступать вопреки собственным интересам». Допишет ли он его? От внезапного приступа тревоги у Фульвия сжало горло — видимо, то было предчувствие беды, хотя он не верил в предчувствия. Что его ждет? Дождливой ночью он перелез через стену и присоединился к восстанию, чтобы стать его хронистом, а теперь и советником императора Государства Солнца; но революция так и не произошла. Что уготовала всем им судьба? Возможно, весь этот город, так стремительно выросший на пустом месте, — тоже всего-навсего пролог, обреченный на столь же стремительное уничтожение? Пролог, подобный страшной сулланской диктатуре, но предшествующий событиям противоположного сорта; почему бы истории не видеть иногда другие, более приятные сны — все равно, проснувшись, она двинется по ведомому одной ей пути.
Но что это за путь? Все эти страдания, все запутанные кружные пути, которые якобы необходимы для достижения цели, — вдруг это не способы ее достижения, а законы самой истории, а цели — всего-навсего грезы слабого человека, не имеющие под собой ни малейшего основания?
Защитник Фульвий остановился, как вкопанный, посреди улицы, испытав такой ужас, что все его пергаменты попадали в пыль. Что за мысли? Путаные, пагубные, почти самоубийственные! Когда политического советника охватывает такое безумие, то самое место ему — на кресте у Северных ворот, ибо в интересах общественного благоденствия избавиться от недуга.
Нехорошо, думал Фульвий, нехорошо ответственному человеку слишком много шевелить мозгами. А если он не в силах с собой справиться, то лучше, чтобы над башкой у него нависало бревно, чтобы набивать об него благодатные шишки — предостережения, чтоб не забредал в синие дали, а больше смотрел себе под ноги…
Фульвий со вздохами собрал свои пергаменты. Конечно же, надо искать новых союзников, это сейчас самое главное. Вести переговоры с различными людьми, двигаться в обход, независимо от того, куда это может завести. Фульвий крепко зажал свитки под мышкой и стал взбираться на холм, увенчанный шатром под пурпурным стягом.
Шатер под пурпурным стягом превращался в фактор мировой политики.
В лагере императора видели крайне редко. Его приказы оглашали стражники в сияющих шлемах, сурово взиравшие на толпу. В шатер стук тысяч молотков и прочие звуки человеческой деятельности проникали как плохо различимый шум, подобный дыханию гор. Лоскут пурпурной ткани либо хлопал на ветру в сухую погоду, либо облеплял шест в дождь.
Часовые, глядевшие на всех с угрозой, никого не пропускали без вызова. И все же в шатер постоянно проникали самые разнообразные посетители. Фурийские советники приходили обсуждать вопросы поставок продовольствия, металла, строительных материалов. Делегаты излагали жалобы, исходящие, в основном, от вечно недовольных галлов; в шатре приходилось разбирать ссоры, выносить приговоры. Гладиаторы и различные командиры присутствовали на ежедневных совещаниях, становившихся все короче и превращавшихся в формальность, ибо время бесконечных споров осталось в прошлом, и теперь скупое, веское слово императора было законом, делавшим ненужными любые препирательства.
Величественные люди, не стеснявшиеся одеваться слишком ярко и неизменно сопровождаемые почетным караулом, предоставленным советом Фурий, были постоянными посетителями шатра. То были посланцы пиратского государства. Их великолепные флагманские корабли стояли в гавани, вызывая восхищение жителей Фурий. Их флот снабжал армию рабов металлом, оружием, зерном и привозил товары для набирающей силу торговли нового вольного порта Фурии. Пираты выглядели достойно, хотя почти у каждого был какой-нибудь изъян: у адмирала была черная повязка на глазу, его адъютант прихрамывал, а все члены его свиты лишились в ходе бурной морской жизни некоторых второстепенных частей тела: кто кусочка уха, кто нескольких пальцев на руках или на ногах; кое у кого изъяны были скрыты пышными одеяниями. На землях Рима им полагалась по закону виселица, но совет Фурий устроил им почетный прием, снабдив караулом.
Бывали в шатре и путешественники, прибывшие из Испании, — одеждой скромные торговцы, а в действительности послы эмигрантской армии.
И с особым торжеством и пышностью, с громким оглашением имен, под приветствия праздной толпы выступали в своих варварских нарядах, с бесстрастными лицами идолов послы великого царя Митридата.
Все, кто проникал в шатер под пурпурным стягом, вели переговоры с новым императором, правителем юга Италии, человеком темного происхождения, разбившим легионы римского сената, командующим армии в сто тысяч человек. Он сидел в темном углу шатра и говорил мало, хрипло, с фракийским акцентом, с плохо различимым в тени лицом.
Вечерами наступал черед защитника Фульвия. По много часов созерцал он императора, когда стихал шум лагеря, а темные горы подступали вплотную к жилищам. Часто заходясь кашлем, он монотонно повествовал о римской политике, в которой активно участвовал как член радикального крыла демократов, покуда диктатура не принудила его осесть в Капуе и заняться писательством, риторикой и адвокатским промыслом. Он рассказывал о врагах римского могущества: понтийском царе Митридате, армянском царе Тигране, пиратском государстве, эмигрантской армии в Испании; о системе договоров, связавшей все эти государства, протянувшиеся от Азии до атлантического побережья, от Пиренеев до Сицилии. Он твердил о бессилии римских государственных мужей. Поистине, конец римских властителей был уже близок, власть так и вываливалась из дряхлых рук, так что вопрос сводился к тому, кто первый ее из них вырвет. Император слушал, не шевелясь.
— Возьми беженцев в Испании, — говорил Фульвий. — Большинство принадлежало к старому демократическому направлению. Некоторые его члены погибли в Гражданской войне, некоторые были казнены, остальные скрылись за границей.
Их было несколько тысяч — настоящая интеллектуальная элита Рима. Сперва они бедствовали на чужбине, скитались из страны в страну, и нигде их не привечали. На старых баркасах, которые им предоставили из жалости пираты, они поплыли на юг Средиземного моря, чтобы просить убежища во всех портах Сицилии и севера Африки, но всюду были отвергнуты.
Так они добрались до Нумидии, пустынное побережье и дюны которой стали их зимним прибежищем. Однако чуть позже стало ясно, что нумидийский царь, расположенный как будто дружески и много им посуливший, попросту пытался притупить их бдительность, чтобы выдать диктатору; ведь власть Суллы простиралась далеко, а жажда мести была неутолима. Его посланцы и шпионы оказывали давление на Гиемпсала — так звали нумидийского царя, — угрожали и льстили ему, заставив в конце концов нарушить законы гостеприимства. Беглецы чудом избежали выдачи и нашли новое убежище — на сей раз на островке у тунисского побережья. Там они долго бедствовали, вызывая всеобщую жалость и презрение, ибо жалость и презрение — братья-близнецы.
И так продолжалось до того дня, пока величайший из революционеров, бывший наместник Испании, смещенный с этого поста Суллой, Серторий, не стал их вождем. Вот когда жалкая горстка беглецов стала самой большой опасностью, угрожающей Риму.
В Испании началось народное восстание против новых правителей, присланных диктатором, и беглецы смогли перебраться туда. Серторий начал набирать в свою армию жителей Испании, армия стала многочисленной, хотя у него не было денег, чтобы платить ей жалованье. Своим неукротимым красноречием, силой убеждения он подвиг тысячи благороднейших испанских жителей присягнуть на верность ему и его соратникам и провозгласить его своим законным претором. Все изгнанные из Рима стали офицерами его армии, а царь Митридат и пиратское государство, первоначально не желавшие иметь с ним ничего общего, превратились в его союзников. Так началась Эмигрантская война — сначала против Суллы, потом против тех, кто унаследовал после него правление. Война эта длится уже восемь лет и никак не закончится…
Защитник умолк, но Спартак не прервал своего молчания; мысли его оставались неведомы. Через три дня он ждал послов Сертория. Фульвий предвидел, что переговоры о союзе с ними будут трудными. Он вспоминал первые переговоры с советом Фурий и тревожно ерзал, заранее страшась новых мучений. Он много бы отдал, чтобы узнать мнение императора. Но тот не открывал рта.
Фульвий откашлялся. Он предпочел бы очутиться сейчас в своей палатке, а еще лучше за письменным столом на родном чердаке, за написанием хроники; гораздо приятнее оценивать события, когда они пройдут сквозь фильтр времени. Подождав, чтобы не перебивать императора, если тому придет желание высказаться, он продолжил:
— Власть Сертория велика. Он созвал в Испании эмигрантский сенат, который издает законы и объявил себя законным правительством Рима. Своим договором с Митридатом он уступил царю четыре азиатские страны, находящиеся под римским протекторатом, а Митридат платит ему взамен три тысячи золотых талантов и предоставляет сорок тысяч воинов. Говорят, его флот с самыми боеспособными эмигрантами под командованием Мария Младшего скоро подойдет к италийскому побережью.
Возможно, гонцы из Испании будут задавать тебе вопросы, прежде чем решатся на подписание договора. Непростые вопросы…
Наконец-то из угла прозвучало:
— Скажи, какие вопросы они зададут.
— Их легко себе представить, — ответил Фульвий. — Послы спросят то же самое, что спрашивали представители Фурий. Правда ли, что ты хочешь забрать у горожанина его дом, у хозяина — его раба? Правда ли, что хочешь перевернуть все вверх дном? Правда ли, что собрался дать землю не только крестьянину, но и рабу? А хуже всего то, что спрашивать обо всем этом они будут не только из эгоизма и опасения за собственное имущество, но и потому, что искренне слепы. Если мы будем отвечать им так же искренне, они нас не поймут.
— Что же следует им ответить? — спросил Спартак.
Защитник медлил; от волнения у него пересохло в горле. Наконец, он произнес:
— Мы одержали победу над Варинием. Рим пошлет против нас свежие легионы. Армия Сертория во много раз больше нашей, у нее больше оружия, в ней служат обученные наемники; тем не менее вот уже восемь лет он безуспешно пытается одолеть римские легионы. Государство слабо, почти что мертво, но легионы его сильны, как и прежде. Враги Рима могут одержать победу, только если будут едины. Их борьба — это наша борьба.
— И их победа — наша победа?
— Нет. Но у всякого союза двойное дно.
— Что скажут о таком союзе наши люди?
— Они ничего в нем не поймут, — сказал Фульвий. — Мы же действуем от их имени и в их интересах.
Спартак молчал. Масляная лампа мигала, готовая потухнуть; защитник поднялся, чтобы на ощупь заменить выгоревший фитиль новым.
— Оставь! — прикрикнул Спартак из своего угла.
— Я не могу говорить в темноте, — объяснил Фульвий.
— Чтобы болтать, свет не нужен, — возразил Спартак. — Старик, много разговаривавший со мной до тебя, лучше управлялся со словами как раз в темноте.
— Есть темы, которые лучше обсуждать в темноте, и темы, для которых нужен свет, — упрямился Фульвий.
— В чем разница?
— Иногда мы обращаемся к чувствам, коренящимся в темноте, иногда — к разуму, для которого нужно обостренное внимание.
Оба замолчали. Фульвий так утомился, что у него закрывались глаза. У него было странное ощущение, будто он не выражает собственное мнение, а облекает в слова то, что хочет услышать его собеседник. Кто здесь ведущий, а кто ведомый? Этот непроницаемый сын гор смущал его своей неподвижностью, позой — локтями, упертыми в колени, как у дровосека, отсутствием выражения на лице. Хитрец он или простак, умник или невежда? Или все эти определения теряют смысл, когда надо действовать? От него исходит огромная сила, заставляющая всех делиться с ним самыми потайными знаниями; его пристальный взгляд высасывает любого до дна. Но самому ему как будто нет до всего этого никакого дела. Помогают ли ему эти продолжительные беседы при принятии решения, или он всего лишь ждет подтверждения решений, которые он принял заранее?
Пока они молчали, стенки шатра заколебались от налетевшего с моря ветра. Пурпурный стяг на шесте громко захлопал, а потом снова обвис, но бриз с моря налетал все новыми волнами, врываясь в темному под звездами, выдувая из шатра затхлый воздух. Где-то попробовал голос первый петух, ему стал вторить нестройный хор. Приближалось утро.
Фульвий вздрогнул. Человек в углу встал, потянулся и вдруг заполнил собой весь шатер. Защитник смотрел, моргая, на его широкое жесткое лицо, уже озаренное утренней желтизной. Следя за своими словами и стараясь бойче ворочать отяжелевшим языком, Фульвий спросил:
— Так ты заключишь союз?
Ответ Спартака прозвучал, как гром с небес. Император успел откинуть полу шатра и ответил уже снаружи, чужим голосом. Ему, Фульвию, поручалось объявить, что рабы объединяются с врагами Рима — пиратами, эмигрантами и великим царем Митридатом — для совместной борьбы с ненавистными владыками, римским сенатом.
Фульвий смотрел, как император спускается с холма и исчезает среди шеренг стражников, очнувшихся от тяжелого сна и приветствующих его вздыманием рук. На спине у него щетинилась от ветра звериная шкура.
VII. Уныние
Весной, когда март неустанно дул бризами, а из комков земли упрямо лезли побеги, они построили себе город; а потом наступило лето, жара. Почва растрескалась, лишилась соков. Море стало свинцовым, в нем до боли в глазах отражалось сияние небес. Плесень превратилась в пыль и покрыла все, что раньше было зелено, мучнистым налетом. Ручьи звенели все тише, бежали все медленнее, умирали от безводья.
Скотина сделалась вялой, белые буйволы лежали в зыбкой тени, тяжело дыша. Мужчин и женщин тоже охватила вялость: сначала стали вялыми тела, потом умы.
И всего их было сто тысяч.
Когда лили дожди, они грезили о сильном, неприступном городе, за стенами которого можно перезимовать. И вот они получили свой город с непробиваемыми стенами, свой собственный город.
Почему сильные должны прислуживать слабым, вопрошали они, почему множество должно быть угнетаемо немногими? И вот они набрали силу, размножились и стали служить сами себе.
Мы стережем их стада, жаловались они, тащим окровавленного новорожденного теленка из коровьей утробы, но теленок попадает не в наши стада. Мы строим им дома, но жить в них не можем. Нам приходится сражаться в боях, защищая чужие интересы.
И вот теперь они делали все это для самих себя.
Они тосковали по утраченной справедливости, по веку Сатурна, когда не было господ и рабов, когда торжествовало равноправие и добро. И вот они стали свободны и получили новый закон.
Все сто тысяч жили ныне в новом городе, видимом издалека, гордо поднявшемся между морем и горами. Уже не мираж из будущего, не прошлое, вызывающее со временем все больше сомнений, а такая же реальность, как горы над ним, такое же воплощение…
Но воплощение ли? И если да, то чего? Той лености, которая снизошла на них из раскаленного, шипящего воздуха? Отчего эта лень — от насыщения ли, от довольства? Или у них не осталось больше целей, желаний, тоски по несбывшемуся?
Жизнь в городе текла своим чередом. Пастухи гнали стада на луга, в полях пололи и косили, женщины стряпали, дети играли в пыли, нарушители нового Закона умирали на шестах у Северных ворот, боги скучали на прожаренных улицах. Казалось, так все и было уже много лет. По вечерам люди рассказывали друг другу о своих страданиях в рабстве. Оно отошло в такое далекое прошлое, что рассказы были правдивы разве что наполовину.
Город охватила дремота — возможно, виной тому была жара. В душах людей назревали нездоровые ожидания. Пока что они не отдавали себе в этом отчета.
Когда городу рабов пошел шестой месяц, еды стало мало, амбары опустели, кормежка в общественных трапезных сделалась скудной. Городом быстро овладевало уныние.
Юный Публибор замечал это всякий раз, когда входил в трапезную. Как и прежде, одна миска приходилась на шестерых, только теперь она бывала наполнена только наполовину, деревянные ложки ворочались в ней вдвое быстрее и чаще стукались одна о другую. Ритор Зосим оказывался проворнее остальных: его ложка проделывала путь между миской и жадным ртом вдвое быстрее, чем у других; при этом он тряс рукавами и безостановочно говорил. Излюбленной его темой были шесты у Северных ворот, которых в последнее время заметно прибавилось.
— Дисциплина и острастка! — глумился Зосим. — Для того ли мы сражались, для того ли сносили лишения, чтобы променять прежнее ярмо на новое? В прежние времена в животах урчало от ярости, а нынче урчит от дисциплины. Жизнь в Городе Солнца стала сплошной скукой и мучением. Куда подевалось недавнее воодушевление, чувство братства? Пропасть между вождями и простым людом разверзлась вновь, император встречается только с советниками и дипломатами, которые, надо думать, не испытывают нехватки продовольствия; но речь не об этом. Конечно, нам твердят, что все это в наших высших интересах и для нашего же блага — но что мы знаем об интересах и о благе? Вот нас и гонят, как стадо, не умеющее своим умом найти дорогу на пастбище; что ж, будем считать, что там нам будет хорошо. Да вот только луг выщипан, и овцы начинают блеять — а чего еще было ожидать? А теперь послушай, сынок, послушай, что еще происходит, это важно… Вдруг пастух заводит разговор со своими овцами, как с разумными существами, и произносит проповедь о терпении, дисциплине, приводит множество весомых доводов и заявляет: те, кто не поймет и будет дальше блеять, будут забиты — этого требуют высшие соображения. Философы называют это «парадоксом». Можешь ты на это ответить, сынок?
Публибор, конечно, не мог. Он слушал, обуреваемый противоречивыми чувствами и смущением: возбуждение и полет рукавов собеседника отталкивали его, но при этом он чувствовал, что тот, при всех своих причудах, искренне горюет. О, да, в этом городе трудно ориентироваться, ибо жизнь в нем оказалась слишком непохожа на то, чего он ожидал. Он вспомнил первый свой день здесь, ужас при виде деревянных крестов у Северных ворот, и, словно раскаиваясь в грешных мыслях, поспешно проговорил:
— Император хочет как лучше.
Видимо, ритор именно таких слов от него и ждал. Он даже бросил ложку и, отчаянно жестикулируя, обрушил на беднягу Публибора весь пыл своего красноречия:
— Хочет как лучше, говоришь? Верно, он полон благих намерений — это-то и хуже всего. Самый опасный тиран — тот, кто убежден, что является бескорыстным стражем своего народа. Вред, причиняемый искренне злокозненным тираном, ограничен сферой его личных интересов и его личной жестокостью; зато благонамеренный тиран, преследующий благородные цели, способен натворить страшных бед. Вспомни бога Иегову, сынок: с тех пор, как несчастные евреи стали Ему поклоняться, на них обрушивается одно несчастье за другим, и всякий раз по уважительным причинам, ибо у Него благие намерения. Лучше уж наши старые кровожадные боги, довольствующиеся жертвой и оставляющие тебя в покое.
На это Публибору, ясное дело, нечего было ответить. Но в этом и не было необходимости, ибо Зосим болтал, как заведенный. Публибор заметил только, что другие за столом, никогда раньше не слушавшие ритора и всегда встававшие, закончив трапезу, на сей раз остались и навострили уши.
— Но, — продолжал Зосим, — речь у нас с тобой не о богах, а о людях. Говорю вам, очень опасно собирать столько силы в одном кулаке и столько праведных резонов в одной голове. Вначале голова всегда будет указывать кулаку бить, руководствуясь благородными побуждениями, а потом кулак станет колотить сам, голове же придется потом придумывать оправдания; сам же обладатель головы и кулака даже не заметит перемены. Такова человеческая природа, сынок. Кто только ни начинал как друг народа и ни заканчивал тираном! Но в истории нет ни одного примера, чтобы кто-либо, начав тираном, превратился потом в друга народа. Поэтому я готов повторить: нет ничего опаснее благонамеренного диктатора.
Все молчали, пока Зосим старательно вычерпывал из миски остатки супа. Наконец, рыжеволосый гигант с тоскующим взором фракийского пастуха, сидевший рядом с Публибором, тяжело вздохнул и проговорил:
— Ты несешь чепуху. Всем нам надо уйти назад в горы, откуда мы спустились.
— Слыхали? — снова воодушевился Зосим. — Не проходит дня, чтобы не раздавались такие речи. Люди думают не о будущем, а о прошлом. Всех вдруг потянуло назад, по домам.
Гигант согласно кивнул.
— Так все говорят. Что толку все время сражаться с римлянами? Убьешь одного, а на его месте вырастает другой. Назад, в горы, пока нас никто не может остановить…
Зосим возмущенно взмахнул рукавами, воздел руки к потолку и изготовился к протестующей речи. Но теперь Публибор смог его опередить. Краснея от собственной дерзости, он сказал гиганту:
— А тебе не будет жаль совсем уйти из города и никогда больше не жить так, как здесь?
Гигант не стал отвечать — возможно, у него и не было ответа.
— В горах мы тоже были свободными, — молвил он. — А потом пришли бритоголовые и погнали нас. В горах тоже хватало солнца. Пора возвращаться. Вот куда надо бы повести нас Спартаку!
— Вот уж чего он ни за что не сделает! — крикнул Зосим. — У него совсем другие замыслы.
— Ну-ну… — буркнул детина, неуклюже поднимаясь. — Откуда тебе знать, что у Спартака в голове? Подождем, может, он все-таки поведет нас обратно в горы.
Он снова вздохнул и, не простившись, побрел из трапезной вместе со всеми.
Подобные разговоры Публибор слышал в трапезной каждый день. Все больше людей скучали по дому. По вечерам фракийцы и кельты пели песни родной стороны, извлекая их из многолетнего забытья. Многие не знали своей родины, ибо родились в рабстве, как их отцы и деды; кое у кого сохранялись смутные воспоминания. Но все твердили теперь о странах предков. Тоска по родине завладела всеми, мужчинами и женщинами, как эпидемия или как лихорадка, косившая их некогда на болоте у реки Кланий. И не было от этого недуга никакого снадобья.
Неясная, нездоровая тоска подстерегала каждого. Из шатра под пурпурным стягом вышло разъяснение, что причина нехваток — временное замедление продовольственных поставок. Терпение, скоро все станет, как раньше. К нам плывет флот союзников-эмигрантов, ведомый Марием Младшим.
Но эти призывы не наполнили котлов. Стражники в сверкающих шлемах, зачитывавшие в городе императорский призыв, видели на лицах слушателей недоверие. Многие говорили, что из шатра под пурпурным стягом выходит слишком много обращений, произносится слишком много слов; не для того они сражались, проливали кровь, побеждали римлян, чтобы снова падать от непосильного труда, обливаясь потом. Особенно бесстрашны и словоохотливы были те, кто не сражался и не проливал кровь, а пришел в город недавно, моля, чтобы его приняли; таким был, к примеру, бродяга с птичьей головкой и близко посаженными, беспокойными глазками.
Однако им все больше вторили другие, не желавшие больше внимать истинам, раздающимся из шатра под пурпурным стягом; к тому же кормежка в общественных трапезах становилась все скуднее. Голодать еще не приходилось, но страх голода уже висел в воздухе. Многие, даже большая часть из ста тысяч, познали в прошлом настоящий голод и считали его естественным спутником своего злосчастного существования. Однако опыт прошлого недолго удерживается в людской памяти, и чем страшнее этот опыт, тем быстрее стираются из памяти его следы. Поэтому когда в желудках появилось забытое, но при этом такое знакомое голодное жжение, они разразились гневными криками в адрес шатра под пурпурным стягом, лжесоветников и самого Спартака с его высокомерной слепотой, ведущего переговоры с посланниками и дипломатами, вместо того, чтобы голодать вместе со всеми и ломать голову, как насытиться. Разве не лежит по соседству чудесный город Фурии с полными провизии складами? Разве мало в Лукании других богатых городов? Что мешает взять там то, что положено победителям по праву? Что это за безумный закон, обрекающий их на лишения и не позволяющий обрести довольство кратчайшим, самым логичным путем? Как хорошо было в самом начале, когда они весело вступали в Нолу, Суэссулу и Калатию!
Смутная, нездоровая тоска. Скученность ста тысяч, позволяющая тоске разноситься оглушительным эхом.
По вечерам фракийцы и галлы пели свои народные песни, удивляясь, что не забыли их. И одно имя было в те дни у всех на слуху и на устах, имя, которое тоже долго считали забытым: имя Крикса.
После возвращения Крикс отошел от общественных дел. В дни осады Капуи раскольники избрали его своим вожаком. Он, правда, не делал ничего, чтобы вызвать раскол, но и не предотвращал его. Вожаком он стал, не приложив для этого никаких усилий. Римляне перебили его воинство, он же каким-то чудом спасся и вернулся в лагерь. Оставаясь таким же сумрачным, как прежде, он сражался, невозмутимый и безжалостный, как сражался всегда. Когда пришел конец боям и настала пора строить между морем и горами город, Крикс отошел в сторону, уступив лидерство Спартаку. Он ничего не говорил, когда заключался союз с Фуриями, когда Спартак диктовал новые законы, когда велись переговоры с Серторием и царем из Азии. Днем он медленно прохаживался по лагерю, поглядывая безрадостными рыбьими глазками на стройку, ночью спал с девицами и с мальчиками. Но и это не делало его веселее; никто ни разу не видел, чтобы его порадовали услады плоти.
Любили его мало, но галлы и германцы втайне продолжали считать его своим вожаком: ведь он говорил на их языке, носил усы и серебряное ожерелье на шее, как они.
Галлов и германцев насчитывалось около тридцати тысяч — треть жителей города. Но и все остальные, кого терзала нездоровая тоска и воспоминания о славных деньках Нолы, Суэссулы и Калатии, тоже взирали на молчаливого Крикса с надеждой. Да, он не придумывал законов, не командовал, не переговаривался с иностранными послами, однако многим казался могущественнее самого императора. Их влекло к нему, хотя они не могли дать этому влечению имени; они видели в нем унылое воплощение своей собственной судьбы.
Он ничего не делал, чтобы ускорить события, но и не пытался их предотвратить. Тем временем в трапезных кормили все меньше, а память о славных деньках Нолы, Суэссулы и Калатии оживала во все новых умах. Недовольные, жертвы нетерпения и злой тоски знали: этот, суровый, — тот, кто их поведет.
VIII. Красные прожилки
Ответственность за пустые склады и скудную кормежку нес совет Фурий, который в последнее время все более настойчиво накликал беду.
С тех пор, как члены совета с удивлением поняли, что невиданный князь или главарь разбойников — называйте как хотите — придерживается соглашения и строго следит, чтобы его люди не трогали горожан, к ним вернулось чувство безопасности. А безопасность освежает голову, и в нее начинают лезть самые разные мысли.
Первым делом бросалось в глаза, что восстание не распространилось на другие районы Италии. Напрасно колесили посланцы Братства по всей стране, от Тарентского залива до Цизальпинской Галлии, от Адриатического моря до моря Тирренского. Рабы не бунтовали; посланцев они встречали одобрительно, но к действиям оказались не готовы. Возможно, им недоставало отваги от беспросветной нищеты, возможно, сказывались последствия ста лет гражданской войны, приведшей к парализующему бессилию; возможно, то действительно был век мертворожденных революций. Во всяком случае, фракиец мог дожидаться выступления по всей Италии до гробовой доски
А как же могущественные союзники главаря разбойников? В последние дни в Фурии стекались самые разные доклады и слухи. Поговаривали, что среди беженцев в Испании нет согласия, что они всегда готовы перегрызть друг другу глотку и что сам их «сенат» расколот на враждебные фракции; утверждали, что серьезное поражение нанес эмигрантской армии Помпей. Митридату тоже не слишком улыбалась судьба: его тесть, великий царь Тигран, предал его, так что далеко идущим чаяниям Митридата не суждено было сбыться. Все указывало на то, что римлянам снова начала сопутствовать военная удача, как случалось всегда, когда она уже, казалось бы, была утеряна навсегда.
В совете Фурий к этим докладам относились со смешанными чувствами; однако на события требовалось взирать трезво.
Оставался еще эмигрантский флот под командованием Мария Младшего. Считалось, что он состоит из полусотни галер и фрегатов, на борту которых плывут десять тысяч отборных воинов, сливки римской эмиграции, повинующиеся сыну доблестного поборника свободы, Марию Младшему собственной персоной. Если бы им удалось высадиться в Италии, это действительно могло бы привести к всеобщему восстанию. К нему примкнули бы самые уважаемые граждане из числа демократически настроенных, а также хорошо укрепленные города, запершие перед носом у гладиаторов ворота и ощетинившиеся копьями.
Учитывая это, фурийские советники взирали в будущее с оптимизмом, но, трезво оценив ситуацию в мире и взвесив все за и против, пришли к выводу, что стороны находятся в примерно равном положении.
Но все переменилось в один день, стоило одному из капитанов пиратов — а те чувствовали теперь себя в вольном порту, как дома, спокойно становились на якорь, так же спокойно отплывали и пировали в обществе уважаемых граждан, как это принято у деловых партнеров, — так вот, стоило тучному капитану поспешно, без почетного караула, в сопровождении одного адъютанта поспешно прибыть в совет Фурий.
Звали капитана Афенодор, и он только что возвратился из дальнего плаванья; его позолоченная галера, груженая железом и медью для города рабов, покачивалась на синих волнах Фурийского залива, вызывая восхищение зевак. Капитана тотчас приняли члены совета, выразившие сожаление, что не успели выставить почетный караул. Капитан не стал заострять на этом внимание, ибо привез весьма серьезные вести, позволяющие пренебречь формальностями.
В водах Малой Азии разразилась великая битва; на берегах разводили сигнальные костры, передававшие весть о ней с одного острова на другой, конные посланцы римских торговых компаний пронесли ее через материковую Грецию, пиратские корабли доставили ее на западный берег Адриатики. Капитан Афенодор был первым, кто ступил с этой вестью на италийскую землю.
Эмигрантского флота больше не существовало.
Подробности еще оставались неведомы. Было известно одно: римский командующий Лукулл захватил врасплох и потопил пятнадцать галер между троянским побережьем и островом Тенедос. Большая часть эмигрантского флота стояла близ островка Неа, что рядом с островом Лемнос. Проявив преступное легкомыслие, беженцы бросили якоря у пляжа и разбрелись по острову с намерением насладиться прелестями его дочерей. При этом они даже не позаботились выслать разведку, что особенно возмущало капитана Афенодора. Тогда Лукулл и нанес удар: захватил плохо вооруженных воинов и стал травить рассеявшиеся по острову экипажи, как зайцев. Сам Марий Младший погиб вместе со своими лучшими людьми. Остальных согнали в одну кучу и сделали пленниками на их же кораблях. Таким бесславным был конец эмигрантского флота. Царь Митридат, давший деньги на этот флот, тоже лишился тем самым военно-морских сил.
Новость была ошарашивающей. Ее следовало хорошенько осмыслить. Пребывавшие в хрупком равновесии чаши весов с главными силами тогдашнего мира заметно дрогнули. Бедняга гладиаторский князь, скрупулезно соблюдающий все договоры, мы тебя взвесили, и ты оказался недопустимо легок. Продолжай поддерживать порядок и спокойствие в своем городе и жди могущественных союзников — они уже не появятся; события принимают новый оборот… Намерен ли достойнейший капитан передать сию бесценную весть фракийскому императору?
Тот отвечал, что не видит ни малейшей возможности сделать это. Да и что толку торопиться? Рано или поздно весть все равно дойдет до всех императоров, кому она интересна. А пока что, учитывая грядущие колебания цены на зерно, монополия на новость, как только что намекнули умудренные фурийцы, воистину бесценна…
— Разумеется! — закивали головами мудрецы из городского совета Фурий, после чего было быстро достигнуто согласие о цене.
Далее капитан сообщил, что собирается впредь снабжать город рабов сицилийским зерном только за немедленную плату. До сих пор совет обеспечивал поставки в кредит.
Через несколько часов совет Фурий собрался на тайное совещание. Обсуждать намечалось изменение политики ввиду новых событий и некоторые меры по снабжению Города Солнца, которые должны были вскоре отрицательно сказаться на меню общественных трапезных.
На историческом заседании присутствовали первый и второй советники — благообразный старик с глазами навыкате и коренастый деляга; там же находился ушедший на покой философ Гегион, зеленщик Тиндар и еще несколько членов совета.
Большинство собравшихся одобряли предложенные меры. Некоторые, правда, возражали в том смысле, что меры эти могут поставить под угрозу безопасность самих Фурий: чего доброго разбойники, испытав на себе последствия этих мер, нарушат соглашения и дадут волю своим инстинктам. Зеленщик Тиндар призывал не рисковать и не натягивать тетиву чересчур сильно, не дразнить могучего льва; у него в запасе оказалось множество и других доходчивых метафор, о которых ему напомнил отчасти страх, отчасти стремление поразить слушателей образованностью.
В разговоре всплыло вдруг имя другого города — Метапонт.
Первым его упомянул благородный старик.
— Почему мучиться должны одни мы? — воскликнул он, дрожа от праведного гнева. — Почему только мы? А Метапонт? — И он обвел присутствующих выпуклыми глазами.
Все притихли. Смысл и значение предложения были им хорошо ясны. Метапонт, второй по величине город на берегу Тарентского залива, тоже был греческим поселением; два города разделяли шестьдесят римских миль и вековая торговая распря.
— Почему одни мы? — повторил старик, тряся седой головой. — Мы-то, как-никак, подписали с фракийским князем договор. Если ему потребуется добыча или военные подвиги, пусть займется теми, кто не состоит с ним в союзе.
Советники молча шевелили мозгами. Они не ожидали от благородного старика такой острой практической сметки. Зеленщик Тиндар сделал серьезное лицо. Один Гегион присвистнул, продемонстрировав плохие манеры то ли мальчишки, то ли выжившего из ума старца; он вспоминал про то, что в Метапонте учительствовал великий Пифагор, из-за чего город превратился в колыбель так называемой италийской философской школы. А ведь если предложение благородного старца осуществится, Метапонт будет сравнен с землей… Думал он и про своего беглого раба Публибора, простодушно признавшегося, что ждет его, Гегиона, смерти. Сейчас Гегион — да будут все боги и философы ему свидетелями! — не мог его за это корить И все же он смолчал, ограничившись свистом. В третью очередь, после мыслей о Пифагоре и юном Публиборе, он вспомнил о своей доле в смолокурнях Силы и о своей жене, римской матроне, внушавшей ему страх, ибо свой супружеский долг он теперь мог исполнять разве что изредка, в порядке исключения.
Вот какой рой мыслей вызвало у него словечко «Метапонт», вылетевшее из беззубого рта седого старца.
С этого дня поставки продовольствия в город рабов еще больше оскудели, стали нерегулярными, иногда попросту прерывались. К тому же многое, что рабы в конце концов получали, оказывалось гнильем. Пришлось отпереть склады, и они быстро опустели.
Представители Корпорации Фурий пытались увернуться от ответственности. При любой возможности они прятались за хилую спину благородного старца. Тот дрожащим голосом бесхитростно приводил всевозможные причины, все больше практического и денежного свойства, в которых совершенно не разбирался. Картина получалась трогательная: он ссылался на ненадежность пиратов, вспоминал былое, когда верность слову была в куда большей чести: вот что происходит, когда связываешься с нарушителями всех законов!
Слушая все это, Эномай невольно опускал глаза, а защитник Фульвий нерешительно покашливал. Он вспоминал свои собственные слова о том, что у этого союза двойное дно, и не находил достойных доводов. Глядя в вытаращенные старческие глаза с красными прожилками, он чувствовал себя жалкой букашкой и растерянно поглаживал шишковатую голову, скучая по бревну, нависавшему над его столиком на родном капуанском чердаке. Чтобы совсем не уронить себя, пришлось задать вопрос о партии гнилой репы. Что известно седовласому патрицию о гнилой репе? Но тот снисходительно отмел вопрос, нисколько не рассердившись, если не считать легкого румянца на старческих щеках. От обсуждения гнилой репы он не отказывался, просто ничего об этом не знал и предлагал совершенно бессмысленные объяснения, отчего становился еще трогательнее.
Примерно через полчаса Фульвий утомлялся и сдавался. Красные прожилки в глазах старца были таким сильным аргументом, что с ними было невозможно бороться. Эномай тем более не был борцом: ни разу за весь разговор он не осмелился поднять глаза.
Так прошло несколько недель, но переговоры ни к чему не приводили. После каждого раунда переговоров жители города рабов надеялись на исправление ошибки, зная при этом, что занимаются самообманом. Военачальники требовали проучить Фурии; Фульвий колебался, Спартак был против. С некоторых пор они получали продовольствие в кредит; в кузницах уже переработали все военные трофеи, и за железо и медь — а их поток не иссякал — приходилось платить наличностью.
Когда недоедание стало невыносимым — голодом это еще нельзя было назвать, но через несколько дней должен был начаться настоящий голод, — военачальники дружно потребовали принятия суровых мер против Фурий. Сущность этих мер они не уточняли. Впервые после Капуи на собрании появился Крикс; он ничего не сказал, но само его присутствие произвело на всех сильное впечатление и повлияло на настроение в городе. Спартак не поддавался и требовал отсрочки. Разве они не ждут флот Мария? Разве со дня на день не должна произойти высадка эмигрантских сил на италийском побережье? Нельзя все портить из алчности и детского нетерпения! Помните о Ноле, Суэссуле, Калатии! Мы залили кровью всю Кампанию, где все, включая наших братьев, поднялись против нас. Вспомните, как мы стояли лагерем у ворот Капуи, как вязли в болотах и мокли под дождем, как запятнали славное имя Государства Солнца, как блуждали, объятые тьмой и ужасом…
Человека в шкурах невозможно было опровергнуть, ему можно было только внимать, разинув рот. Он с легкостью опрокидывал мелкие доводы своих противников, показывал всю близорукость их желания ломиться напрямик и правоту закона обходных путей; голос его звучал так же мощно, как тогда, в болотах у реки Кланий и еще раньше, в кратере Везувия. Во все моменты решающих испытаний он оказывался прав. Он требовал времени, стыдил и увещевал.
Военачальники ворчали, но не огрызались. Фульвий колебался. Крикс помалкивал.
И все же шепотом, на ухо, но город произносил в те дни слово, воплощавшее болезненную тоску и алчность: «Метапонт».
IX. Разрушение города Метапонта
(ИЗ ХРОНИКИ ЗАЩИТНИКА ФУЛЬВИЯ)
31. Поскольку рабы Италии не стали бунтовать, а союзники Спартака, потерпев неудачу в сражении, так и не появились на италийском театре, рабы в своем городе остались наедине с враждебным миром. Век Справедливости, на который они уповали и на скорый приход которого указывали разнообразные предзнаменования, так и не наступил. Напротив, все оставалось, как прежде, во всем обитаемом мире сохранился традиционный закон и порядок. При таких обстоятельствах Город Солнца, построенный Спартаком и подчиняющийся Закону рабов, не мог не производить впечатление чего-то нереального, из другой эпохи, с другого континента, а то и с другой планеты.
Однако человеку не дано строить свое существование независимо от системы, условий и законов своего времени.
33. Так случилось и с рабами в их Городе.
Судьба и дурные порядки обрекли этих людей на рабское существование, голод и алчность, превратив их в волков. Подобно волчьей стае, выпущенной из клетки, набросились они на Нолу, Суэссулы и Калатию и терзали их, пока не насытились. Потом они сбросили прежнюю шкуру и присмирели. Они построили свой собственный город и уже мечтали о торжестве справедливости и добра. Но не таким было время, в котором они жили, чтобы мечта эта осуществилась. Оно преодолело стены и напомнило всем, что есть закон посильнее законов Города Солнца — право сильного, по которому у рабов не оставалось выбора, кроме рабской покорности или использования грубой силы. Те, кто мечтал снова обрести человечий облик, были вынуждены опять обернуться волками.
Теперь, очнувшись от грез, они увидели, что у них отросли когти. Из глоток их опять вырвался звериный рык, и опять они были готовы рвать своих мучителей на части. Целью их стал город Метапонт, который они подвергли разрушению.
Но, снова обретя былую свирепость и волчье обличье, они уничтожили фундамент, на котором стоял их Город, и его упадок и крушение было теперь не остановить.
Мысль эта посетила сразу нескольких людей, и слово «Метапонт» быстро завладело многими умами. Чудесен был город Метапонт, склады его ломились от мяса и фруктов, в храмах не помещалось все золото и серебро города.
Вставая в общих трапезных от пустых мисок, люди, хитро подмигивая друг дружке, спрашивали, словно произносили заветный пароль: «Что мы будем есть в Метапонте?»
«Дроздов и свинину — вот что мы будем есть в Метапонте!» — звучал отзыв. «Что будем пить в Метапонте?» — «Вино с Кармеля и с Везувия — вот что мы будем пить в Метапонте». «Каковы будут девушки в Метапонте?» — «Как разломленные апельсины — вот каковы будут девушки в Метапонте». «Далеко ли до Метапонта?» — «Шестьдесят миль, одна ночь и один день пути».
Опасная мысль пришла нескольким людям, которые часто бывали в Фуриях по делам, для наблюдения за разгрузкой и для переговоров с членами совета. Каждый день, вернувшись, они рассказывали о богатствах Метапонта. И вид у этих нескольких был уже не такой голодный, как у остальных. Они мысленно отъедались в Метапонте.
Совещание командиров, на котором Спартак требовал отсрочки, Фульвий колебался, а Крикс помалкивал, окончилось в полдень. А сейчас стоит ночь — темная, безлунная. Луна отправилась в путешествие и вернется нескоро.
Уже совсем темно, не видны даже очертания гор, только слышен шум моря. В лагере возня, шепот, шаги на неосвещенных улицах; потом наступает мертвая тишина, от какой недолго оглохнуть. Затихают шаги часовых — и тут же шорохи, шепот, торопливое шарканье сандалий из всех углов. Беспокойнее всего в кельтском квартале, у галлов и германцев. Непосвященные тревожно вслушиваются во все эти звуки, сидя в своих палатках тихо, как мыши.
Но среди посвященных гуляет пароль. «Далеко ли до Метапонта?» — спрашивают одни. «Шестьдесят миль, одна темная ночь и один короткий день», — отвечают другие. А еще разносится слух: «Крикс с нами!»
Ночь очень темна, не видны даже очертания гор. Сирокко делает тьму душной до пота, люди стонут во сне, потому что видят кошмары. В шатре под пурпурным стягом сидит в углу перед масляной лампой император. Напротив него защитник Фульвий громко читает доклад совета Фурий о причинах сбоя в поставках репы.
К этому часу три тысячи заговорщиков уже ускользнули из лагеря и наполовину шагают, наполовину бегут по дороге, проложенной по краю мерцающего моря и ведущей к городу Метапонту.
Основание города Метапонта тоже восходит к легендарным временам Троянской войны; в трудно различимых пергаментах, хранящихся в магистратуре, говорилось, что строить его начал Нестор, пилосский вождь, покоривший вместе со своими воинами эту землю вина и мяса и принесший италийским варварам азиатское великолепие, искусства и науки. В библиотеке магистратуры хранилась за цветным финикийским стеклом прекрасная коллекция монет — не толстых и грубых римских кусков серебра с чеканкой только с одной стороны (такое уродство можно было бы штамповать и не из благородного металла, если бы у властей хватило на это ума), а тоненьких плоских серебряных кружочков, сладострастно гладких, с четкими надписями, расшифровкой которых филологи могли доказывать свою премудрость. Город прожил восемь веков, претерпел десятки вторжений и всегда с улыбкой покорялся победителю, укрощая его своей изящной податливостью. Он открывал свои ворота и Ганнибалу, и Пифагору, кланялся многим владыкам и многим богам, среди последних ревностнее всего — обожествленному атлету Анадумену; из подвалов его сочилось сладкое вино, а на крышах беззаботно вертелись флюгера в виде белых коровок. Ни один из его пророков, авгуров, астрономов-эрудитов не сумел предсказать его ужасный конец.
Это случилось после захода солнца, когда завершился день, ничем не отличавшийся от всех других дней. Ворота еще не закрылись, крестьяне еще сгибались над своими бороздами. Потом они выпрягли буйволов из плугов, отвели измучившихся за день от жажды животных к поилкам и стали разбредаться по домам. И тут с юга потянуло густой пылью. Людям было любопытно, что это катится к стенам их города с жуткими криками, под стук копыт. Но скотина, раньше людей почуявшая беду, уже жалобно мычала и галопом разбегалась по полям. Испуганные крестьяне бросились за своей скотиной, а всадники на взмыленных лошадях — за крестьянами; прежде чем беглецы поняли, что происходит, им посносили головы с плеч. Бойня началась еще за городскими стенами, а потом ворвалась в город через все ворота одновременно. Город мигом потонул в море огня и крови, бушевавшем ночь напролет. А ночь та была темна, ибо луна отправилась в далекое путешествие, и час за часом город голосил во тьме, не утихая ни на секунду. Крики гнева, смерти, похоти сливались в единый адский рев, заглушавший морской прибой. Когда петухи прокричали во второй раз, весь город был уже почти дотла пожран ненасытным огнем; когда же солнце высунулось из-за моря, лик его был бледен и заслонен вуалью черного дыма, поднимающегося над развалинами. Все города, захваченные рабами, познали на себе ярость угнетенных; но судьба Метапонта было особенной, ибо ему выпало страдать одну лишь ночь: наутро Метапонта уже не существовало.
Город, основанный троянскими воинами, на протяжении восьми веков с улыбкой покорялся каждому поработителю, но флюгера на его крышах вертелись без остановки. И вот теперь он был стерт с лица обитаемого мира. Обугленные стены простояли недолго, горелая плоть развеялась по ветру, но долго еще поблескивали среди мусора кусочки серебра, монетки и осколки цветного финикийского стекла. Вот какой урожай собрало то утро.
X. Весомые причины
Когда к утру о случившемся доложили Спартаку, он сразу понял, что Городу Солнца пришел конец.
Роль гонцов с дурными вестями была исполнена двумя стражниками, очень боявшимися гнева своего императора. Казалось, блестящие шлемы нахлобучены прямо на их красные шеи; в трактире на Аппиевой дороге они примкнули к беглым гладиаторам и с тех пор оставались безукоризненно верны их делу. Храбрые, нескладные, не больно речистые, они доложили: «братья» числом до трех тысяч исчезли ночью из лагеря, прихватив лошадей. Есть основания предполагать, что они решили разграбить город Метапонт.
Доклад был короток и прост, словно речь шла о чем-то будничном и малозначительном; широкоплечие, толстошеие, стояли слуги Фанния перед Спартаком, крепко сжимая в руках факела, и отчаянно трусили.
Однако император не стал гневаться, не проронил ни слова. Вестники сильно удивились. Долго сидел император не двигаясь, как ему было свойственно; в свете факелов искрилась звериная шкура у него на плечах. Потом он, говоря со своим знакомым фракийским акцентом, потребовал подробностей. Вестники удивились еще больше. В глазах императора светилась какая-то животная тоска. Слуги знай себе сжимали факелы. Снаружи уже светало.
Наконец, император отдал приказания — как всегда, отрывисто и решительно. Слуги переглянулись: император был настоящий, лучше не придумаешь. Сбежавших было три тысячи; против них он выслал шесть тысяч самых своих отважных людей, сплошь фракийцев и луканцев, с заданием вернуть их обратно — если надо, то силой. Но у трех тысяч была двенадцатичасовая фора; преследователи застали их в Метапонте, увлеченно грабящих и бесчинствующих. Через два дня те и другие вернулись назад.
Пока же полетело послание в Фурии. В нем говорилось, что в случае, если поставки продовольствия немедленно не возобновятся, император будет считать лично ответственными за последствия членов совета. Те заволновались. К ним обращался главарь разбойников; напрасно они вообще с ним связались! Но сейчас им пришлось дать обещание сделать все от них зависящее.
А после этого все стали дожидаться возвращения людей, отправившихся в Метапонт. Кельтский квартал замер в тревоге. Казалось, жизнь в городе прекратилась: никто не работал, все застыли в напряжении. Все знали, что близится поворотный момент. В трапезных начались ссоры.
И преследуемые, и преследователи вернулись следующим вечером; однако из девяти тысяч всех их оказалось только шесть тысяч. Кельты и германцы оказали сопротивление преследователям, тем пришлось окружить их среди развалин Метапонта и прибегнуть к оружию. С обеих сторон пал каждый третий. В конце концов изменники были разоружены и доставлены обратно под конвоем. Крикса среди них не оказалось. Фракийцы и луканцы провели пленных, связанных в гроздья длинным веревками, через Восточные ворота.
Город тотчас раскололся на две фракции: те и другие оплакивали своих погибших и обвиняли противоположную сторону в братоубийстве. Доводов хватало всем, правда присутствовала на обеих сторонах. Ночь вышла бессонной, полной криков и страха.
Тогда же, ночью, Спартак выступил с речью перед военачальниками и заявил, что если они хотят спасти Город Солнца, то нельзя проявлять чистоплюйство. Привычным, спокойным тоном он потребовал незамедлительной казни двадцати четырех главарей смуты. Именно для этого он и требовал вернуть их. Это — единственный способ спасти армию от превращения в банду грабителей.
Впервые после Капуи военачальники осмелились возражать. Пока длились пререкания, в шатер проникали с улицы тревожные шумы и звуки столкновений; кельты приступили к грабежу складов. Позволив своим приближенным высказаться, Спартак повторил, что другого выбора все равно нет, иначе развал армии не остановить, и что нельзя больше терять ни минуты. После этого он тихо спросил, кто из присутствующих намерен сопротивляться выполнению его приказов. Встали пятеро кельтов, все — гладиаторы из старой когорты. Прежде чем они успели выхватить оружие, стража, ждавшая сигнала вокруг шатра, разоружила их. Остальные поняли, что находятся в ловушке, и не проронили ни слова. Когда император, по-прежнему не повышая голоса, сообщил, что эти пятеро разделят судьбу зачинщиков беспорядков, военачальники не посмели возразить. Исключение составил один Эномай, до того молчавший. Когда стража схватила его, император в первый раз отвел взгляд.
Все шестеро были выведены из шатра, связанные по рукам и ногам. Они бранились, лягались, пытались вырваться, один даже разрыдался от ярости и стыда. Эномай свесил голову, на его окровавленном лбу синел желвак. Все шестеро были гладиаторами, товарищами императора еще по школе Лентула Батуата в Капуе.
Этим совещание завершилось. Военачальники вернулись к своим подчиненным. Крикс так и не объявился.
У Северных ворот не хватило крестов, поэтому пришлось спешно сколачивать новые. Когда два фракийских взвода привели на площадь тридцать осужденных, в том числе Эномая, вспыхнула драка, в которой были пострадавшие. Толпу удалось оттеснить, и здоровяки с бычьими шеями дружно наклонились, начав привязывание осужденных к крестам.
На земле лежали в ряд тридцать крестов. Преступников по очереди подтаскивали к крестам, швыряли наземь, прижимали спиной к шесту, разводили руки и привязывали запястьями к поперечине. Потом им развязывали ноги, тянули, чтобы тело приняло впоследствии надлежащее висячее положение, и привязывали к шесту лодыжки. Покончив с одним обреченным, палачи брались за следующего из ждущих своей очереди. Те, оставаясь на ногах, сохраняли спокойствие; потом, в лежачем положении, они начинали сыпать проклятиями, мотать из стороны в сторону головами, рычать и плевать деловитым здоровякам-палачам в лицо. Слуги Фанния смиренно утирали лица и принимались за следующего.
Наконец, все тридцать легли на кресты, как поленья. Вели они себя по-разному: одни изрыгали брань, другие громко пели, третьи молчали, некоторые обменивались шутками; один толстяк лежал неподвижно, обливаясь слезами и лишь дергая руками, словно в надежде освободиться. Юный Эномай вращал головой, но не открывал глаз.
Потом кресты подняли; взвод сделал это дружно, по приказу командира. Каждый крест подталкивало сзади по трое солдат, подбадривающих друг друга криками. Кресты медленно приняли вертикальное положение, после чего были быстро закреплены. Руки казненных чудовищно напряглись, тела выгнулись, суставы захрустели. Один из наскоро сколоченных крестов переломился пополам, осужденный рухнул на землю, и всю процедуру его казни пришлось провести заново. Этим несчастным оказался тот самый слезливый толстяк. Когда его развязали, он стал утирать обеими руками слезы. Его быстро привязали снова.
Город затих, словно скованный холодом. Люди попрятались в своих жилищах, факелы потухли. Город в немом испуге распластался по долине, освещаемый одними звездами.
Но через некоторое время распятые начали кричать. Сначала они вскрикивали от боли вразнобой, потом крик их стал дружным, оглашающим через регулярные промежутки времени весь город. Он врывался в темные дома, метался по пустым трапезным, добирался до шатра под пурпурным стягом.
Спартак лежал один в темноте, заложив руки за голову, с каплями пота на лбу. Сейчас, когда его никто не видел, он при каждом крике жмурил глаза. Можно было даже поспорить вслух с самим собой, как принято у горцев; сейчас необязательно было корчить из себя императора. Поводырь слепцов не должен бояться своей гордыни, он должен заставлять их страдать для их же блага. Воля должна быть едина — воля посвященных. Один он зрячий, остальные слепы. Одни он видит цель, конец блужданий, смысл всех возвратов назад. Он обязан гнать их вперед, иначе они разбредутся, как бараны; при этом он должен оставаться нечувствителен к их страданиям, глух к их воплям. Как они ни сопротивляются, он должен защищать их интересы, прибегать ко всем мыслимым средствам, даже самым жестоким и превышающим понимание его подопечных…
И снова истошные крики распятых вспороли тьму шатра. Тридцать повешенных по-прежнему кричали хором, однако паузы становились все продолжительнее. Сначала в их воплях можно было различить членораздельные слова: они молили о пощаде, звали братьев помочь им. Потом крики превратились в животный вой, звериный хор.
Спартак по-прежнему лежал на подстилке в темноте, обливаясь потом; его никто не видел, поэтому губы его шевелились. Наконец, он кликнул слуг, и они принесли ему огромный рог для вина с горы Везувий. После этого вход к нему был категорически запрещен для всех, даже для членов фурийского совета, явившихся посовещаться насчет репы, даже для защитника Фульвия.
— Чем занят император? — удивился тот.
— Хочет напиться, — серьезно ответили слуги Фанния.
За застегнутыми полами шатра, в полной темноте, лежал человек в шкурах, глядя на рог с вином. Давно, с ночи после победы на Везувии, он не был пьян; но сейчас он знал, что ему лучше напиться. Опьянение снимает камень с души, самые мрачные мысли в пьяной голове рассеиваются.
Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел на рог и ждал. Но опьянение не приходило. В голове возникали туманные образы, в лицо, в закрытые глаза заглядывали уродливые лица. Все это было не то, чего он хотел.
Кто решает участь жребия, кто определяет судьбу человека после рождения? У каждого есть нос, глаза, потроха и прочее, без особых различий. Однако Тот, Кто решает, разделяет будущих людей еще в материнских чревах: одним суждено никогда не улыбаться или никогда не видеть улыбок, а других насильно тащат на солнце, чтобы оно светило именно для них. И вот они, безрадостное большинство, вырвались из подполья, разорвали свои цепи, подставили тела солнцу. И вообразили, что теперь все будет хорошо, из тел испарится гниль. Однако мир солнца, лишенный стен, создан не для них: уж слишком они непривычны к яркому свету. Они продолжают вести себя, как слепцы, беспорядочно размахивают руками и дрыгают ногами, и все, что они заденут, бьется на куски. Что ж, дикие звери нуждаются в палке и в узде.
Сначала он вел их прямым, бурным путем, и они сеяли на ходу пламя, пожиная ненависть и пепел. Путь оказался ошибочным. Вел он их и по гладкой дороге, но была она настолько извилиста, что ее трудно было найти глазом, а значит, и цель исчезала из виду. И снова они размахивали руками и дрыгали ногами, как слепцы, издавая вонь бесчестья и отращивая волчьи когти.
Его охватила ярость и отвращение. Схватив рог, он снова откинулся и утомленно зажмурился. И тут же увидел по другую сторону стола Крикса: подпирая рукой голову, тот тянулся за куском мяса на столе.
«Надо зарыть тела, — сказал Спартак. — Они смердят»,
Крикс почмокал и вытер о подстилку жирные пальцы.
«Жри, или тебя самого сожрут, — сказал он равнодушно. — Можешь предложить что-нибудь получше?»
Спартак подался вперед, уставился в скучные рыбьи глаза Крикса и увидел в них великую печаль и тоску по Александрии.
Потом Крикс растаял в воздухе, и его место занял эссен, непрерывно качающий головой.
«Можешь предложить что-нибудь получше?» — обратился к нему Спартак.
«Возможно, — отвечал круглоголовый, — ибо написано, что власть Четырех Зверей кончена, и на гору взобрался Один, Сын человеческий…»
Но слова его потонули в доносящихся издалека криках: то были тридцать казненных у Северных ворот; на месте мудреца уже сидел кашляющий стряпчий, потирающий лысое темя. Спартак не очень-то его любил, но, наклонившись, положил руку ему на плечо.
«Ты слышал Крикса. Мне не нравятся его слова. Ты можешь предложить что-нибудь получше?»
«Не бывает сплошной черноты и сплошной белизны, — отозвался защитник. — Зато всегда есть обходные пути».
И снова тридцать человек на крестах взвыли в ночи. Среди них был юный Эномай. На лбу у Спартака снова выступил пот.
«Слышишь? Вот куда заводят твои обходные пути!»
«Увидеть это можно, только дойдя до цели. А идти приходится долго», — ответил защитник не слишком уверенно.
«Нельзя столько ждать!» — рявкнул Спартак и так рассвирепел, что очнулся.
Перед ним стояли два толстошеих здоровяка, и без факелов — снаружи уже совсем рассвело.
XI. Поворотный пункт
Утром к Северным воротам стал стекаться народ. Два взвода фракийцев и луканцев образовали полукруг, ощетинившийся копьями.
Тридцать распятых все еще кричали. Всю ночь они издавали регулярные истошные вопли. Когда кто-то из них лишался чувств от боли и отчаяния, его возвращали в сознание крики остальных, и он снова драл глотку вместе с ними. Крики продлевали им жизнь.
Немало германцев и кельтов простояли на площади всю ночь, много часов, в глухом молчании. Когда рассвело, их число умножилось, но молчание так и не было нарушено; тогда пришлось ощетиниться копьями третьему взводу. Когда поднялось солнце, площадь уже была заполнена плотной толпой. Молчание сменилось криками: люди звали то распятых, то Крикса; распятые мерно вскрикивали им в ответ. Число взводов охраны достигло пяти.
Солнце вырвалось из пеленок утреннего тумана, и распятых стала мучить жара. Когда они молчали, головы их свисали вниз, как у мертвых птиц; когда же из их глоток снова вырывался крик, они вскидывали головы, ударяясь затылками о шест. Их крики заставляли толпу смолкнуть, но стоило крику утихнуть — и толпа снова принималась голосить, и с каждым разом громче, более грозно. Солдаты теряли уверенность. Их командир, гладиатор-фракиец, отправил вестового в шатер под пурпурным стягом, передать донесение, что так не может больше продолжаться, он не отвечает ни за толпу, ни даже за своих подчиненных. Командир был другом Эномая, единственного из тридцати, уже переставшего вскидывать голову.
Прежде чем вестовой вернулся, один из людей в толпе протиснулся вперед, ожесточенно работая локтями, и оказался в первом ряду. Это был ритор Зосим в своей древней тоге. Не закрывая рта и размахивая рукавами, он отделился от толпы.
Пастух Гермий, целившийся в толпу острием копья, увидел его первым. Он безрадостно обнажил желтые лошадиные зубы и растерянно улыбнулся.
— Вернись обратно, Зосим, — сказал он.
Зосим остановился. Толпа у него за спиной разом стихла. Его изможденное птичье личико было еще болезненнее обычного, он был мертвенно бледен, даже сер, как его тога. Казалось, он не узнает своего друга-пастуха.
— Ступай назад, дорогой Зосим, — повторил Гермий, едва не всхлипывая от безнадежности. — Нам приказано сохранять открытое пространство между нами и вами.
Но Зосим сделал еще одни шажок вперед и взвизгнул, обращаясь к распятым:
— Братья! — Распятые вскинули головы и что-то закричали в ответ. — Вы меня слышите? А вы их слышите? — бросил он в сторону толпы. Рукава взметнулись в воздух, как знамена. — Хорошо ли вам висится, братья? Хорошо ли впивается вам в кисти свобода? Славно ли раздирается ваша плоть? Вот это, красное, текущее из ваших ртов, — это и есть Государство Солнца. Вас нанизали на палки, как червей, чтобы все мы могли лицезреть наступление века справедливости и добра.
Из толпы раздался неуверенный смех, но большинство промолчало. Хриплый голос крикнул:
— Найдите Крикса, он все это прекратит!
К этому крику присоединились другие голоса. Теперь надрывалась вся площадь. Гермий, чуть не плача, размахивал копьем, пытаясь напугать приближающегося Зосима, зацепить острием край его одежды и тем привести в чувство. Но Зосим сам рванул у себя на груди тогу.
— Бей сюда, подручный тирана! — завизжал он.
Гермий сделал шаг назад, тараща глаза. Солдаты справа и слева от него быстро скрестили копья. Стало очень тихо. Зосим понял вдруг, что остался один на ничейной земле между солдатами и народом. У него затряслись колени, ноги подкосились. Несколько человек подскочили к нему, думая, что его убили, и поддержали за руки. Солдаты не помешали этому прорыву, поэтому вперед подалась вся толпа. Свободного пространства больше не существовало, люди окружили солдат. Те опустили копья, чтобы никого не поранить; они устали, перегрелись на жаре, проголодались, измучились от криков распятых, от безнадежности всей ситуации.
Командир охраны без всякой уверенности отдал приказ атаковать, но он не был выполнен, и командир сам был этим доволен. Пройдя сквозь толпу, он заторопился к шатру под пурпурным стягом, где собрались все начальники.
Теперь вся широкая площадь перед Северными воротами была запружена ежесекундно увеличивающейся толпой. Солдат, которым совершенно не улыбалось рубить своих, уже нельзя было отличить от народа. Все говорили одновременно, без особого смысла и не очень громко, однако гул многотысячной толпы достигал императорского шатра. Теперь распятые кричали, надеясь на помощь; один юный Эномай больше не поднимал головы. Пробирающиеся сквозь толпу женщины несли кувшины с водой, чтобы прижимать их к черным губам распятых, стараясь утолить их жажду. У нескольких мужчин оказались при себе ножи и топоры: они разрезали веревки, сняли распятых с крестов и потащили их прочь. Все, за исключением Эномая, еще были живы. Потом люди принялись крушить в щепки кресты. Гермий и еще несколько солдат громко обсуждали, что обо всем этом скажет Спартак. Их равнодушно, совсем не враждебно, отодвинули в сторону. Снова кто-то позвал Крикса. На этот раз к этому зову присоединилась вся площадь. Крикс положит всему этому конец, кричала площадь, Крикс отведет их домой. В голосах, зовущих Крикса, не было слышно злобы, а только усталость и желание отправиться куда угодно, лишь бы в сторону дома.
Зосим снова решил, что пришло его время. Он взобрался на один из поверженных крестов и замахал на ветру рукавами.
— Братья! — кричал он, обращаясь к морю голов. — Думаете, вы уже сделали свое дело? Разве вы не видите, что вас предали? Из кровоточащего чрева революции выполз новый тиран! Горе нам, помогавшим его рождению! Из сломанных цепей вы выковали себе новые цепи; мы жгли кресты — а нас тащат на них вновь! Мы собирались возвести новый мир, а что вышло? Спартак ведет переговоры с господами, делает им все больше уступок, а в наших рядах льет все больше крови. В своей безграничной гордыне он верит, что для нашего же блага надо все дальше отодвигать цель, ради которой мы истекаем кровью и приносим одну жертву за другой. Он заставляет нас петлять по тропинкам, теряя из виду цель, — и опять-таки ради нашего же блага! Несчастные, обреченные на танталовы муки! Что это за свобода, если она не освобождает от ярма непосильного труда? Что за справедливость, если нам, как и прежде, приходится сносить плевки, умываться горьким потом, мечтать о будущем вместо того, чтобы наслаждаться настоящим? Что за братство, когда один командует, а все остальные повинуются? Истинно, его смертоносная гордыня не ведает пределов, ибо он заглушает голос своей совести, считая, что действует в наших интересах. Убейте его, убейте, братья, ибо благонамеренный тиран хуже лютого людоеда…
Он подавился собственным криком, рукава еще раз взлетели над расщепленным крестом. Но на сей раз слова его не вызвали одобрения. Толпа молчала. Потом кто-то снова позвал Крикса, и к этому зову толпа с готовностью присоединилась. Крикс положит этому конец и поведет их домой. На площади собрались по большей части кельты и германцы, несколько тысяч душ; в голосах их не было злобы, только усталость, желание сбежать из противоестественного города, не участвовать больше в этих безумных боях, не жить больше в этом италийском аду, не слышать речей, не подчиняться непонятным законам — просто домой, домой! Крикс был одним из них, он носил серебряное ожерелье; ему они доверяли. Он отведет их домой, а по пути им будет так же хорошо, как было в Метапонте.
Им был необходим Крикс — немногословный, не тратящий время на законы. Пусть их ведет Крикс.
Спартак распорядился окружить весь кельтский квартал. В городе жило сто тысяч человек, тридцать тысяч из которых были кельтами и германцами. Он мог положиться на фракийцев, луканцев, дакийцев, чернокожих. Он выставил войска на всех улицах, ведущих к кельтскому кварталу, а также с внешней стороны Северных ворот. Через три часа после восхода солнца он сам вышел на площадь, где продолжающая разрастаться толпа, волнуясь перед сломанными крестами, упорно требовала Крикса. Крикс явился вместе со Спартаком — мрачный и бессловесный, как всегда. Их сопровождал всего лишь небольшой отряд слуг Фанния.
Толпа молча расступилась перед ними. Спартак вскарабкался на стену и поднял руку в знак того, что будет говорить. Гул немного утих, но не прекратился.
Он обвел глазами толпу и увидел ее как один тысяченогий и тысячерукий дышащий сгусток. На него дохнуло самоуверенной враждебностью, глупостью гудящей людской массы. Выхватывая из живой кучи отдельные лица, он впивался взглядом в их глаза и видел одно безумие, животное упрямство, вражду. Рот его наполнился горькой слюной, отвращением, презрением, переходящим в тошноту.
Он заговорил; его голос изменился, он резал воздух и обрушивался на людскую массу, как хлыст. Сначала он повел речь о слухах насчет приближающейся римской армии, авангард которой якобы как раз нынче вступил в Апулию; а они тем временем забавляются междоусобицей! Потом он перешел к минувшему столетию мертворожденных революций, главным врагом которых было отсутствие единства в рядах самих восставших. Он говорил — а во рту у него густела горькая слюна — о торжестве ухмыляющихся господ, любующихся на их цирковой братоубийственный раж. Он предупреждал, что им придется тысячу, миллион раз раскаяться в освобождении осужденных зачинщиков грабежа и бунтовщиков — либо вернуть тех на кресты. Он говорил о двадцати тысяч казненных участниках сицилийского восстания, о десяти тысячах трупов на счету сулланской контрреволюции, об истреблении римских рабов после неудачного восстания Цинны. Он спрашивал — и залитая солнцем площадь чернела у него перед глазами, — готовы ли они подтвердить собственным самоубийственным поведением утверждение врага, что человечество не созрело для лучшей жизни, даже не желает справедливости, а хочет, чтобы все оставалось по-прежнему.
Уже первые слова принесли ощущение, что он не в силах пронять эту толпу, что его крик не пробивает коросту, покрывшую их порочные души. Слова его жгли, как удары хлыста, но это было похоже на жалкие усилия безумца, решившего выпороть море и верящего в успех затеи. Снова он выхватывал из толпы лица и убеждался, что взгляды по-прежнему равнодушны; некоторые ухмылялись с кровожадным высокомерием тупости. Один крикнул, что лучше приличная кормежка, чем его вечные заклинания. Другой — что это не революция и не свобода, раз они по-прежнему трудятся в поте лица; любому известно, что свободен лишь тот, кому не надо работать. И снова толпа стала звать Крикса: вот кто все это прекратит и поведет их домой! А потом кто-то громко крикнул, что только в Галлии и в Германии настоящая свобода, и на это вся площадь впервые взорвалась ревом энтузиазма.
Спартак посмотрел на стоящего рядом с ним Крикса. Тот, хмурый и бессловесный, как всегда, выдержал его взгляд. Это было, как некогда в палатке Клодия Глабера и позже, когда они расстались под Капуей: снова они знали мысли друг друга. Было бы лучше, если бы дуэль между ними произошла еще в гладиаторской школе Лентула, и один из них — возможно, он, Спартак — погиб бы. Тогда Крикс стал бы единоличным вожаком орды, залил всю Италию кровью, все крушил бы на своем пути. Наверное, это и был бы правильный путь.
Толпа на площади все громче требовала Крикса. Остальной город сохранил преданность ему, Спартаку. Главный среди слуг Фанния выступил вперед, ожидая приказа. Толпа на площади не была вооружена, кельтский квартал был оцеплен, оружие хранилось под надежной охраной в арсенале у Южных ворот. Молчаливый, преданный, красношеий, здоровяк стоял перед Спартаком, ожидая императорского слова.
Но тот молчал.
Колебание длилось какую-то долю секунды, хотя он понимал с безжалостной ясностью, что именно сейчас решается судьба будущего. Если он отдаст приказ, которого ждет толстошеий, то по лагерю прокатится волна кровопролития; возможно, победителем выйдет он, Спартак — ненавистный, страшный, непререкаемый вождь. То будет самый смертоносный и самый несправедливый обходный маневр — единственный, сулящий спасение. Другой путь, основанный на человеколюбии, неизменно вел к разрыву и, значит, к поражению.
Понимая все это с небывалой ясностью, видя варианты будущего, как ожившие картинки, он уже не имел власти над своими поступками. Мудрость обходных путей никак не пересекалась с областью человеческих чувств. Крики распятых звучали в его ушах громче, чем хриплый голос лысого защитника. Мудрость и знание уже не обладали достаточным весом, чтобы заставить его отдать страшный приказ. Куда девалась оскорбленная гордыня, обуревавшая его всего несколько минут назад? Теперь он стоял опустошенный, обреченно взирая на тысячеголовую людскую массу. Ради их же блага пришлось бы приказать их всех перебить. Это стало бы торжеством закона обходных путей. Однако другой закон у него внутри, питаемый из другого источника, требовал от него молчания, требовал подать Криксу сигнал, призвать его к себе. Словно из чудовищного далека доносился до него вопль тысячеголовой, тысячерукой толпы. Словно из чудовищного далека видел он теперь Крикса, сурового и равнодушного, как обычно, рядом, на гребне стены. С чудовищной ясностью он понял, что случилось непоправимое, что раскол армии состоялся, что судьба восстания предрешена. Как ни чудесен дар провидения, над настоящим он не властен.
С огромного расстояния увидел он, как суровый толстяк поднимает руку, услышал, как разом стихла безмозглая толпа. Неужели это происходит здесь, сейчас? Когда-то, в далеком прошлом, он уже все это переживал, события эти были ему хорошо знакомы, но избежать их все равно было нельзя. Как просто, напрямик говорил мрачный тюлень с толпой!
— Император желает, чтобы исполнилась ваша воля!
Буря энтузиазма. Как все ясно и просто на прямом пути! Они этого желают, и да свершится их воля. Это противоречит их интересам, революция будет похоронена в их бурном ликовании? Так все и будет, но что толку в этом знании? Он бессильно наблюдал за событиями; горек вкус мудрости, когда в венах тысячеголового чудища бурлит черный сок восторга!
Нет, нельзя вести их, находясь извне, нельзя вести, паря в выси, гордясь своим мудрым одиночеством, хитря и отыскивая обходные пути, вдохновляясь жестокой добротой пророка. Век мертворожденных революций подошел к концу; придут другие, уловят Слово, станут передавать его из рук в руки через века. В кровавых схватках революций снова и снова будут нарождаться тираны, пока ревущий тысячеголовый человеческий комок не научится мыслить сам, пока понимание не перестанет навязываться ему извне, пока оно не вылезет после чудовищных родовых мук из самого его тела, наделенное прирожденной властью над происходящим.
XII. Конец Города Солнца
Начальники совещались недолго. Они смертельно устали, и больше всего — от слов. Все были рады, что раздел армии состоялся без промедления. При обсуждении подробностей выхода из Города Солнца все вели себя нарочито дружелюбно, словно речь шла о чем-то малозначительном, вроде строительства новых бараков у Южных ворот или смены караула. Никто не осмеливался повысить голос или переглянуться. Спартак тоже говорил просто, как в прежние дни. Он заявил, что народ выразил свою волю и теперь с руководителей снята ответственность. Кельты и германцы, продолжал он, общим числом в тридцать тысяч человек, выбрали своим вожаком Крикса. Крикс поведет их через реку Пад и Альпы в Галлию. Сам он, Спартак, с фракийцами, луканцами и прочими, сохранившими ему верность, пробудет в лагере еще несколько дней, дожидаясь достоверных донесений от союзников, и сохраняет за собой право действовать сообразно содержанию этих донесений.
Кельты и германцы ушли мирно, без происшествий. Уходящие пребывали в добродушном настроении и громко славили не только Крикса, но и Спартака. Два вождя обнялись на прощанье у Северных ворот. При этом Спартак тихо произнес:
— Не лучше ли было бы, если бы один из нас давно убил другого?
Крикс недовольно посмотрел на него и ответил:
— Какая разница?
После этого все тридцать тысяч мужчин и пять тысяч женщин и детей зашагали прочь по северной дороге, вздымая облака пыли; их выход из города занял несколько часов. Оставшиеся в лагере спокойно проводили всех глазами, а потом долго и тоскливо вглядывались в медленно оседающую пыль. Наконец, исход завершился, настало время браться за работу. Треть города опустела, остальным двум третям через считанные дни тоже предстояло опустеть.
Срок, назначенный Спартаком, истек быстрее, чем предполагалось. На следующий день после ухода кельтов совет Фурий решил, наконец, выложить все начистоту.
В Риме консулами на наступивший год, 683-й с основания города, были избраны Луций Геллий и Гней Лентул, приверженцы реакционной аристократической партии, полные решимости положить конец волнениям рабов в южной Италии. Сенат немедленно наделил их чрезвычайными полномочиями. Последние радостные для Рима известия с испанского и азиатского театров боевых действий пришлись очень кстати: свежих рекрутов и новых наемников можно было использовать в кампании против рабов. Две хорошо обученные армии общим числом в дюжину полностью укомплектованных легионов уже выступили из Рима. Оба консула лично командовали войсками, что случалось в истории Республики крайне редко, только в самых экстренных случаях.
Это известие, как и весть об уничтожении флота эмигрантов, укрепила волю членов совета Фурий, которые без прежних колебаний заявили фракийскому князю, что совет, к своему огорчению, не сможет более снабжать армию рабов продовольствием. По их словам, ситуация в мире в последние месяцы коренным образом изменилась: к Риму вернулась его традиционная, хоть и не заслуженная, военная удача, и Фуриям приходится, как это ни прискорбно, принимать во внимание обстоятельства, к тому же собственные склады города тоже совершенно опустели.
Последнее, кстати, было чистой правдой, одним из последствий изменений в политической ситуации: ведь зерно поступало в Фурии с Сицилии. До недавних пор римский правитель Сицилии, ловкач по имени Веррес, делал ставку на скорый переворот в Риме и снабжал пиратов зерном в кредит, отлично зная, что зерно окажется в непокорных Фуриях, которые, в свою очередь, передадут его главарю разбойников Спартаку. Теперь же Веррес, подпав под влияние оратора Цицерона, поступил как последний негодяй и, пренебрегая судьбой Города Солнца, сделался внезапно сторонником римского сената. Поэтому амбары Фурий нынче были так же пусты, как и амбары Города Солнца, о чем благородный старик-советник с глазами навыкате, снова отправленный на передовую, смог на сей раз сообщить, совершенно не кривя душой. От себя он добавил, что совершенно не разбирается в правилах торговли пшеницей. После этого он справился о юном Эномае, отсутствие которого заметил и о котором отозвался как о воспитанном молодом человеке; при этом он выразительно смотрел на Фульвия своими старческими глазками в красных прожилках. Фульвию пришлось закашляться и отделаться ничего не значащим мычанием. Престарелый советник попросил его передать наилучшие пожелания фракийскому князю, после чего удалился, с трудом держась на слабеющих ногах.
На следующий день прибыл с большим опозданием долгожданный посланец испанской эмигрантской армии. Он привез письмо предводителя эмигрантов Сертория с согласием на условия антиримского союза, но при этом сообщил, что ночью сразу после составления этого письма Серторий был убит. С самого начала в лагере беженцев не было согласия: происходившие там расколы в точности отражали политическое дробление в самом Риме; люди ничего не забыли и ничему не научились. Некоторое время назад среди них объявился сомнительный персонаж по имени Перпенна, критиковавший Сертория как полководца, чьи действия выглядели с точки зрения этого неуемного бунтаря чересчур робкими. В конце концов он договорился до обвинений, что Серторий проводит время в пирах, транжирстве и распутстве. Примечательно, что сам Перпенна располагал неограниченными финансами невыясненного происхождения, которые щедро расходовал на приобретение себе союзников. Когда Серторий, собравшись, наконец, с силами, высказал ему в лицо, что он является провокатором, оплачиваемым римским сенатом, Перпенна и его приспешники решили действовать: устроив пир в честь Сертория и дождавшись, пока гости опьянеют, они затеяли ссору. Серторию было противно за этим наблюдать, он откинулся и закрыл глаза — чтобы уже никогда их не открыть. В его тело вонзилось более ста кинжалов, пока Марк Антоний, его сосед по столу, удерживал его за руки и за ноги. После этого распад эмигрантской армии и победа Помпея стали делом считанных месяцев, а то и недель.
Вольнолюбивая оппозиция Риму была побеждена из-за слабости ее вожаков; беженцы сами обрекли себя на поражение, увлекшись распрями. Слабость противников, а не собственная сила снова — в который раз! — спасла дряхлый режим, давно переживший свое время. Сколько еще раз будет повторяться в веках этот постыдный спектакль?
Этим вопросом задавался Фульвий, хронист и защитник. Ответ требовался, скорее, от него самого, чем от Спартака, сидевшего напротив в шатре под пурпурным стягом и, как ни странно, вовсе не переживавшего из-за трагических известий. Он даже умудрялся улыбаться своей прежней добродушной улыбкой, памятной по первому этапу восстания, хотя источники его веселья залегали очень глубоко, подобно тому, как бьют в горах ключи, выдавливаемые из недр гранитными мышцами. На сей раз их беседа происходила при свете дня. Сам Фульвий был донельзя огорчен, к тому же его мучил сухой кашель и ревматизм — последствия давней дождливой ночи под Капуей. И вот, сотрясаясь от кашля, он спрашивал, сколько еще раз повторится в веках такой же постыдный спектакль.
Но человек в шкурах сидел напротив него, широко расставив ноги по привычке горцев-дровосеков, и знай себе улыбался. Чему тут улыбаться, когда все кончено и призраки прошлого празднуют возвращение в души сломленных и отчаявшихся?
— Что ты намерен предпринять? — спросил он императора, не скрывая враждебности. Но улыбка императора осталась дружеской и рассеянной.
— Мы двинемся домой, — ответил он тем слегка удивленным тоном, каким сообщают о том, что решено уже давным-давно.
Внезапно весь Город Солнца снова засуетился, как потревоженный муравейник. Так бывает, когда после долгого штиля обвисшие паруса корабля трогает ветерок, мачты издают облегченный скрип, и киль снова взбивает пену. Так же радостно люди тащили прежде бревна с гор, строили склады и бараки, возводили свой город; теперь они с детским воодушевлением крушили дело своих же рук топорами, растаскивали стены по бревнышку, сравнивали город с землей. Прямые, как солнечные лучи, улицы теперь усеивали обломки; все, что могло сгодиться, выносилось из мастерских и грузилось на подводы; выметались амбары, из удивленной земли вырывались шесты, удерживавшие палатки. Несколько дней кельтский квартал казался чужой планетой, теперь же из неприятного воспоминания он превратился во вдохновляющий пример. Стук молотков и радостный шум сопровождали и рождение города, и его смерть.
Спартак расхаживал по лагерю, наблюдал за его разрушением, смеялся, давал фракийцам советы, как работать шустрее, сам участвовал в разборке общественных трапезных. Он вернул себе прежнюю любовь. Он снова стал веселым товарищем, соратником, как в чудесном прошлом, Человеком в шкурах. Тревожный огонь в его глазах потух, вечерами он пил из рога вино, а ночи проводил с худой темноволосой женщиной, на которую у него так долго не хватало времени. С его плеч был снят неподъемный груз, кончилась повинность служить поводырем слепцам, бродить кругами, искать обходные пути. Даже воспоминания о юном Эномае, жертве его робкой попытки настоять на своей правоте, сгладились, их сменила приятная пустота.
Все предвкушали поход домой. В горах восторжествует подлинное Государство Солнца, там для всех найдется местечко — и для луканцев, и для чернокожих, и для любого другого, кто пожелает к ним присоединиться. Этот город был бледен и безжизнен, слишком прямы были его улицы, слишком суровы законы. Союзники так и не пришли им на выручку, италийские братья не откликнулись на зов, век Сатурна так и не наступил. Для этого еще слишком рано или уже слишком поздно, урожай еще не созрел или уже сгнил — пусть тот, кому это нужно, вникает в подробности, перегружая свой мозг…
Радость была искренней, настроение праздничным. В первый день своего существования и в день кончины лагерь оглашался криками ликования. Мастерские, амбары, трапезные пожирало пламя. Равнину озаряли яркие факела прощания.
В день ухода круглоголовый человек сидел в углу палатки и читал при свете масляного фитиля пергамент, который разворачивал на коленях. Шевеля губами, он бормотал некоторые отрывки, переходя на тоскливый речитатив, клал торсом поклоны; другие отрывки он сопровождал покачиванием головы и возмущенным вздыманием рук ладонями кверху; казалось, он читает не глазами, а всем телом. За этим занятием его застал пастух Гермий, заглянувший попрощаться.
— Что ты делаешь? — удивленно спросил пастух.
— Ссорюсь с Богом, — отвечал старик.
— Разве это позволено?
— У всех по-разному. Мой Бог даже требует, чтобы я с Ним спорил. Ему это необходимо, иначе Он начинает сомневаться в Себе и в человечестве. Вот Он и устраивает проделки, чтобы всех раздразнить.
— Что еще за проделки? — не понял Гермий. Истинной целью его прихода к старику было получить утешение, потому что уход из Города Солнца безмерно его огорчал. Но теперь он забыл о своем горе: ему страшно захотелось узнать, какими такими проделками дразнит смертных Бог человека с круглой головой.
— Написано, — начал старик, — что много народу пришло некогда с Востока в долину между двумя реками, поселилось там и решило построить город.
— Где была та долина? — спросил пастух Гермий. Он уже уселся и приготовился добросовестно слушать.
— Очень далеко, между высокими горами и морем. Удивляться тут нечему, долины между горами и морем есть везде. И говорили те люди друг другу: давайте построим город, какого еще не бывало, чтобы не жить больше рассеянными по всему миру в нищете. Стали они валить деревья, стаскивать их на буйволах в долину, лепить кирпичи и делать из ила скрепляющий камни раствор. Город их начал расти. Но люди остались недовольны. Давайте возведем башню, говорили они друг другу, какой еще не бывало, чтобы не быть больше рассеянными по свету…
— Башня? — разочарованно протянул Гермий. — Про башню я ничего не знаю.
— Это тоже не должно тебя удивлять, — сказал старик, — ибо смертные возводят много разных башен, то из кирпича, то еще из чего-нибудь. Но в небесах восседает Бог, видящий, как эти башни посягают на Его заоблачное царство, в которое Он не желает впускать человека, подобно тому, как не во всяком саду есть место для всякого дерева. Но люди строят и строят свою башню, дабы возвыситься над остальными живыми тварями, почтить Создателя, но и побеспокоить Его. Бог, взирающий на строительство, одновременно польщен и раздражен, вот и думает Он, какую проказу устроить, чтобы досадить людям. И вот, слышит Он, что все они говорят на одном языке и понимают друг друга, что естественно для созданий, объединенных общей целью. И мыслит Бог: куда же это их заведет? Возможно, цель их будет достигнута, после чего они успокоятся, а это грубо нарушит правила Моих забав с человеками. Обрушусь-ка Я на них, устрою проказу: смешаю языки, чтобы они впредь заикались, кричали и не понимали друг друга, пусть у них единая цель и одна участь. Так Он и поступил, и люди перестали понимать друг друга, забросили свою башню и разбрелись по свету.
Гермий грустно улыбнулся, показав желтые зубы.
— Какая страшная сказка! — сказал он.
— Все сказки страшны, — подтвердил круглоголовый, рассеянно кивая. — Их начинают, но никогда не заканчивают. Взять хоть эту, про яблоко, съеденное наполовину, или другую, про лестницу, на которую почти взобрался человек, но в последний момент у него треснула берцовая кость, и он всю жизнь прохромал, или про недостроенную башню, которую теперь равняют с землей дождь и град…
Гермий грустно помолчал и спросил:
— Ты из-за этого ссорился с Богом, когда я пришел?
— Ты угадал, — ответил старик, — с кем еще мне ссориться из-за красавицы-башни? Может, с дождем, с ночью, с ветром, треплющим на флагштоке пурпурную тряпицу?
Лагерь ликовал, как в день своего рождения. Мастерские, амбары, трапезные гибли в ревущем огне. Совет Фурий тоже не подкачал: напоследок уходящие получили в дар двадцать бочек старого фалернского вина. Несколько сотен людей нанесли ночью визит вежливости великодушному городу: нисколько не таясь, они грабили, отнимали и насиловали, проявляя, впрочем, похвальную умеренность. Жители Фурий могли радоваться, что легко отделались. Спартак сделал вид, будто ничего не знает, не видит и не слышит.
Наутро начался исход.
Их оставалось еще сорок тысяч: тридцать тысяч ушли с Криксом, остальные рассеялись по земле.
За их спинами алели угли на месте Города Солнца.
XIII. Желание остаться
Утром, когда армия рабов ушла из сожженного города, Гегион, гражданин Фурий, снова вышел на плоскую крышу своего дома. Сияющий край солнечного диска только что показался из-за горизонта, море все еще источало хрустально-чистый аромат водорослей и ночных звезд; день, впрочем, предстоял жаркий — как обычно.
Петухи уже подняли хриплый крик, большая деревня из белых колонн уже просыпалась от утреннего сна. Первые пастухи гнали коз по извилистым улочкам между каменными стенами, пронзительно играя на рожках. Вдали, у подножия гор, паслись белые буйволы; поднимая головы, они нюхали гарь, ползущую из спаленного Города Солнца. С плоской крыши Гегиону был виден весь окруженный стеной квадрат, мертвые прямые улицы, дымящиеся остатки мастерских и трапезных — бывший стотысячный город. Скоро начнут рушиться и стены, потом развалины покроет сухая горячая пыль. Дети фурийских жителей будут с замирающими сердечками копаться среди загадочных руин, играть на пустых улицах в разбойников и в войну. А руины будут тем временем покрываться все более густой пылью, дожди будут смешивать ее с глиной, будущие пахари разобьют здесь поля, как случилось на месте древнего Сибариса. А потом наступит день, когда ученые и историки припомнят легенды о странном Городе Солнца, опирающиеся на еще более древние легенды, вторгнутся в царство прошлого и найдут среди раскопок разорванную цепь — символ армии рабов или глиняную миску, из которой хлебал раб Гегиона, Публибор…
Гегион улыбнулся улыбкой старого человека или ребенка, вздохнул и снова устремил взор на погибший город. Его мучил голод и угрызения совести, ибо с ночи, предшествовавшей вступлению в Фурии фракийского князя, он ни разу не исполнил свой супружеский долг. Наконец, он решился спуститься по железной лестнице, разбудить матрону и потребовать завтрак. Внезапно он заметил юношу — неподвижную тень у стены напротив; то был его раб Публибор. Гегион был не столько удивлен, сколько обрадован, хотя с опаской ждал, что скажет матрона, когда узнает о возвращении молодого бунтаря: будучи римлянкой, она принимала все чересчур всерьез и была напрочь лишена чувства юмора. Лучше поговорить с ней об этом за завтраком, с глазу на глаз.
С хитрым видом конспиратора он подал Публибору сигнал: мол, подожди снаружи. Паренек вместо ответа скромно кивнул и не вышел из тени.
Спустя полчаса, когда Гегион вышел, он все еще находился на прежнем месте. Хозяин предложил ему совершить вдвоем традиционную прогулку на реку Гратис. Спущенная с цепи собака радостно закрутилась вокруг юноши, тот тоже был рад ее видеть, ласково гладил и чесал за ушами. Глядя на них, Гегион чувствовал удивление и почему-то легкое раздражение.
— Ну, — обратился он к рабу, — ты по-прежнему желаешь моей смерти?
Юноша спокойно выдержал его взгляд, подумал и медленно покачал головой.
— Все понятно! — фыркнул Гегион. — Ты так ничему и не научился. Ответил бы «да» — я бы по крайней мере ахнул.
Казалось, он и впрямь огорчен тем, что Публибор перестал желать ему смерти. Они молча вышли из города; Гегион шел впереди, раб сзади, в одном шаге, собака то забегала вперед, то отставала.
— Кстати, — заговорил Гегион через некоторое время, оборачиваясь, но не сбавляя шаг, — матрона, разумеется, настаивает, чтобы тебя сначала выпороли, а уж потом простили. Ничего, я уверен, что это будет не больно, просто символично. Сам понимаешь, у нее есть на это право.
Публибор молча смотрел себе под ноги; его щеки покрывал легкий румянец, он тоже не замедлил шаг.
Когда они подошли к реке и улеглись в траву, Гегион снова завел:
— Боюсь, я только что обошелся с тобой несправедливо. Можно было бы совершить поступок: ты вернулся разочарованный, твои надежды не оправдались, а я возьми и объяви тебя свободным! Вот было бы красиво: философский жест, замешанный на добродетели. Что ж, мы всегда ожидаем от других ярких поступков.
Они еще помолчали. У стен брошенного города паслись козы, тихонько звеня колокольчиками. На горизонте громоздились величественные горы.
— Что касается твоего возвращения, я хорошо понимаю, почему ты так поступил, — продолжил Гегион. — Во мне тоже борются два противоположных порыва: желание уйти и желание остаться. Только они реальны, сколь ни ищи внутри и вне себя. Победа одного над другим всегда ложна и недолговечна, подобно тому, как переход от жизни к смерти — часть замкнутого, порочного круга и конечен только с виду. Уходящий все равно остается в оковах своих воспоминаний, остающийся невольно предается мечтам об уходе. Во все века люди ползают по руинам, горько причитая.
— Говорят, — отозвался юноша, не спуская глаз со стены, окружающей опустевший, сожженный город, — будто время не пришло: то ли еще рано, то ли уже поздно.
— В этом тоже есть своя правда, — молвил Гегион, улыбаясь своей улыбкой ребенка и старца. — На вашу беду, вы явились в мир, не способный ни жить, ни умереть. Давно уже все, что рождает этот мир, бессмысленно и бесплодно, однако мир упорно делает вид, будто живет и рождает жизнь. Пойди, спроси матрону — услышишь, как пренебрежительно она относится к моей силе и возможностям. Она тоже считает, что я староват для того, чтобы произвести потомство, но недостаточно стар, чтобы умереть; так что, бедный мой Публибор, придется тебе еще какое-то время меня терпеть — пусть даже моя смерть перестала быть для тебя такой желанной…
Рука Гегиона, мирно лежавшая до того на плече юноши, заскользила вниз, его удивленный, смиренный, при этом немного неприязненный взгляд оставался прикован к юному лицу. Публибор, пораженный, но апатичный, не стал сопротивляться.
— Видишь, — пробормотал Гегион немного погодя, — это тоже решение, тоже способ друг друга порадовать. Если хочешь, можешь взирать на это как на символ. Учитывая, что собой представляем мы оба, я не вижу для нас лучшего применения.
Солнце взбиралось все выше, оливы более не отбрасывали тени. Собака лежала в траве с часто вздымающимися и опадающими боками; вывалив язык и повернув голову, она смотрела на двух людей стеклянными глазами.
Книга четвертая Падение
Интерлюдия Дельфины
Писец Квинт Апроний входит в общественные бани в прекрасном настроении.
Через несколько месяцев исполнится двадцать лет с тех пор, как он состоит на государственной службе. Судья Рыночного суда, его непосредственный начальник, обещал сделать его по этому случаю своим официальным протеже. Апроний, у которого в последнее время стали дрожать руки, уже не должен будет вести протоколы, а будет шествовать по улицам в свите судьи — важничая и брезгливо задирая полу тоги; перед ним, суровым надзирателем, будут держать отчет его прежние коллеги; его станут приглашать на семейные торжества в доме патрона и покровителя. И это еще не все: есть основания надеяться, что «Почитатели Дианы и Антония» изберут его, своего давнего секретаря, председателем общества на следующий год.
Под арочными сводами бань, как всегда, царит суета; среди знакомых лиц недостает разве что лысого защитника Фульвия, известного подстрекателя. Поговаривают, что он примкнул к разбойникам и занимается вместе с ними убийствами, грабежами храмов, бесчестит девиц. Апрония всегда поражало похотливое и жестокое выражение лица стряпчего; что ж, совсем скоро его и всех его сообщников постигнет заслуженная кара. По слухам, разбойники ушли из своего дурацкого города там, на юге, и близится их разгром.
Апроний радостно входит в Зал дельфинов и застает там сразу двоих знакомцев — импресарио Руфа и устроителя гладиаторских игрищ Лентула, задумчиво беседующих и с переменным успехом отправляющих естественные потребности. Он занимает свое привычное место, соседи сдержанно приветствуют его. Возможно, приветствие могло бы быть посердечнее, но у Апрония слишком хорошее настроение, чтобы расстраиваться по пустякам: организм работает сам, без натуги, да и необходимость клянчить у кого ни попадя лишний билетик скоро отойдет в прошлое. Наоборот, скоро они сами будут считать за честь проводить досуг в обществе председателя престижного клуба, приближенного и протеже самого судьи Рыночного суда. Он заводит оптимистический разговор об искуплении грехов и расплате — скорой участи подлых бунтовщиков; однако его замечания встречены настороженно, что не может не удивлять. Импресарио — Апроний уже много месяцев завидует его модной одежде и полон решимости завести такую же — пожимает плечами и криво усмехается.
— Что тебя так радует? — спрашивает он писца. — Думаешь, тебе станет хоть немного лучше, когда этих людей перебьют? Ничего, ждать осталось недолго, скоро ты сам увидишь, как все обернется: в огне только добавится масла. Казна пуста, как никогда, стоимость зерна непрерывно ползет вверх и может достигнуть невиданных высот, в Риме нынче все вверх дном. Совсем недавно народный трибун Лициний Мацер произнес речь, в которой напрямик подстрекал чернь уклоняться от воинской повинности. Если сенату все-таки удастся подавить восстание, то только благодаря тому, что эти жалкие людишки не могут отказать себе в удовольствии грызться даже в самый решающий момент. Такое случается, как видно, при любом перевороте, так что в самой революции заложено мощное противоядие. Но это еще не основание питать какие-либо иллюзии относительно будущего…
Писец Апроний недоумевает, что это нашло на блестящего импресарио, откуда в нем взялось столько яду. Но ничто не в силах испортить ему настроение; ему приходит в голову, что бедняга Руф устал бессмысленно тужиться. Он высказывается в примирительном смысле: мол, то обстоятельство, что за кампанию отвечают оба консула сразу свидетельствует, что в Риме еще остались настоящие мужчины. Не повод ли это для воодушевления?
Однако импресарио всего лишь жалостливо улыбается, а Лентул устремляет вперед сумрачный взгляд; оба до недавних пор рассчитывали на победу союзников Спартака, эмигрантов в Испании, и ставили на связанное с этим понижение цены зерна. Радость писца и триумф его пищеварительной философии действуют им на нервы сильнее обычного.
— Настоящие мужчины? В Риме? — Как будто мало одного презрительного тона, Руф присовокупляет, что мужчиной можно назвать разве что Спартака; что касается владык Рима, то они правят доставшейся им в наследство державой наподобие кавалериста из поговорки, который в ответ на вопрос, почему его так трясет в седле, отвечает: «Спросите лошадь». С тех пор, как народная армия была заменена наемной, истинная власть перешла в руки военачальников. Грядет новая военная диктатура, возможно, даже реставрация монархии. Республика, этот живой труп, облегченно испустит дух, когда ее схватит за горло железная рука…
А что потом?
— Посмотри вокруг себя, мой уважаемый друг! — крикнул массивный импресарио, пожелавший пророчествовать с трона промеж дельфинов. — Протри глаза и оглядись! Основы хозяйства и возможности индивидуального процветания уменьшаются день ото дня. Эта страна перестала производить даже детей. Субура полна страшных ведьм, женщины из простонародья убивают своих зародышей чем ни попадя, хорошо, если вязальными иглами, а повитухи, помогающие избавиться от плода, получают вдвое больше, чем за вспомоществование при родах. Народ, порожденный Римской Волчицей, вымирает, и ему на смену готовятся прийти шакалы…
В голосе Руфа звучит неподдельная горечь; на него с любопытством взирают с нескольких сидений. Квинт Апроний встает и поспешно ретируется. Он заботится о своем настроении, к тому же в такие времена не рекомендуется находиться в обществе людей, исповедующих открыто подрывные взгляды.
Семеня домой через Оскский квартал, он вспоминает слова импресарио. Разве тот не выражал нескрываемую симпатию к врагам Республики, не провозглашал беглого гладиатора и главаря разбойников единственным настоящим мужчиной во всем Риме? Апроний размышляет, не состоит ли его долг патриота и будущего председателя почтенного клуба в том, чтобы уведомить об услышанном судью Рыночного суда. Давно уже пора положить конец козням людишек непонятного происхождения, подстрекающих добропорядочных граждан против властей, но при этом жалеющих для них бесплатный билетик! Необходимо позаботиться, наконец, о восстановлении законности и порядка.
I. Сражение под Тарганом
В то время Марку Катону было двадцать три года. В отрочестве он сильно вымахал в высоту, а теперь никак не мог обрести нормальных мужских пропорций. Он постоянно носил под мышкой книгу или рукопись, а губы его непрерывно шевелились, даже когда рядом никого не было. Он добровольно вступил в армию консула Геллия; солдаты от души хохотали над ним и опасались его монотонных лекций, которых уже успели вкусить. Известно было, что Марк, подобно царю Ромулу, не носит нижнего белья, не спит ни с женщинами, ни с мужчинами и стремится подражать пуританскому существованию своего прапрадеда, Катона Старшего. Но, покатываясь со смеху, они испытывали замешательство от его юношеского фанатизма. Один умник назвал его однажды «Катоном Младшим»; кличка прижилась.
Старший брат Катона, капитан Цепион, тоже участвовал в кампании, будучи правой рукой консула. Он был красивым мужчиной, избалованным римлянками, и стеснялся брата-неудачника. Последний давно мог бы стать офицером, занять в армии место, подобающее выходцу из старинной аристократической семьи. Однако молодой человек предпочел остаться рядовым, отказался от продвижения, которое мог бы получить в легионе брата, более того, брезгливо избегал удачливого Цепиона.
— Он превращает себя в посмешище! — твердил консулу Геллию отчаявшийся Цепион. Консул в ответ усмехался, находя молодого святошу любопытным экземпляром.
— Твой брат — незаурядный молодой человек. Того и гляди, создаст новую секту стоиков, совершит политическое убийство или еще какую-нибудь глупость, которая в зависимости от обстоятельств будет восприниматься как мальчишеская шалость или героический поступок.
— Надеюсь, он все-таки повзрослеет, — ворчал Цепион.
— Лучше не надейся. Уж поверь мне, этого не случится. — дразнил подчиненного консул. — Он на всю жизнь останется подростком. Из того же теста был слеплен Гракх Младший. Судя по всему, в развитии человечества бывают периоды, когда историю вершат вот такие вечные подростки. Сами они тут ни при чем, виновата сама история. Боюсь, друг мой, что нам доводится жить как раз в такое недоделанное, незрелое время.
У консула Луция Геллия Попликолы была склонность к философским размышлениям. Ему нравилось цитировать друга, писателя Варрона, утверждавшего, что ничто так не забавляет, как настоящая стычка старых философов, и что хороший стоик заткнет за пояс любого гладиатора. Несколькими годами раньше Геллий, тогда еще правитель Греции, устроил фарс, потрясший весь мир, прежде всего — самого Геллия. Он созвал представителей конфликтующих афинских философских школ, запер их и потребовал, чтобы они выработали согласованное определение Истины; выступая в роли председателя, он поклялся никого не выпускать, пока не родится желанная формулировка. Замысел имел трагические последствия, пришлось вмешаться вооруженной страже правителя, а под конец Геллий был-таки вынужден отпереть двери, не дождавшись нарождения Истины, дабы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Тем не менее Геллий одержал педагогический триумф, так как философы Афин умудрились впервые в истории хотя бы в чем-то достигнуть единства: они направили в римский сенат петицию с требованием снять правителя. Аттик, находившийся в то время в Афинах, послал Цицерону подробное описание происшедшего, и Геллий добился популярности, способствовавшей его избранию консулом.
В Северной Апулии, у горы Гарган, римский авангард сошелся с армией Крикса — тридцатью тысячами кельтов и германцев. Противоборствующие стороны заняли два соседних холма.
Два римских консула и их армии разделились — отчасти из стратегических соображений, отчасти из-за несогласия: каждый хотел приписать ожидаемую победу себе. Геллий решил встретить врага в Апулии, тогда как консулу Гнею Лентулу выпало охранять от вторжения армии рабов Северную Италию. Назвать это разумной диспозицией не поворачивался язык, но сенат давно зарекся пререкаться со своими полководцами, тем более, что на этот раз в роли последних выступали сами консулы, что походило на осаду изнутри.
Первая ночь у горы Гарган прошла спокойно. Римляне укрепляли свои позиции, кельты загораживали свой холм баррикадой из фургонов. Римский разведчик, понаблюдав за вражескими приготовлениями, доложил об увиденном капитану Цепиону, а тот явился с донесением к консулу.
— Это не армия, а кочевой караван! — поделился капитан своим удивлением. — Женщины, дети, лошади, повозки, скотина, ослы… Теперь они окружают холм нагромождением подвод и возводят стену из всего, что попадается под руку, не брезгуя мешками с зерном и даже коровами.
— Ужасно! — поморщился консул. — Такая война слишком пахнет живым человеком. Нас ждет унижение и в случае поражения, и в случае победы.
— Можно попробовать поджечь баррикаду, — предложил Цепион. — Она окружает весь лагерь. Внутри лагерь зарос сухой травой. Так бы мы поджарили не менее половины их личного состава.
— Тебе самому нравится твое предложение? — спросил Геллий. — Только очень прошу, не говори «война есть война» и тому подобные глупости.
Цепион пожал плечами.
— Мне вся эта война нравится ничуть не больше, чем тебе. Только, по-моему, война с Митридатом велась не более утонченными способами. Он, например, отравлял колодцы.
— Да, он отравитель, но по крайней мере стильный, — сказал консул. Он отлично знал, до какой степени бесят Цепиона его штатские церемонии, но не мог переступить через себя и отдать приказ поджечь неприятельский лагерь. Его тошнило от одной мысли о запахе поджариваемой человеческой плоти.
Однако принять решение оказалось легче, чем он думал. Часовой у входа в шатер доложил, что к консулу явился центурион Росций из Третьего легиона. Центурион вошел сразу, встал по стойке смирно, сурово отдал честь. Этот солдат, ветеран сулланских времен, всегда вел себя с консулом по-военному дисциплинированно, протестуя таким образом против его штатской расслабленности. По выражению лица центуриона Геллий догадался, что тот принес неприятные вести.
Центурион доложил, что к нему доставили парламентера с вражеской стороны, предложившего назначить день и час сражения, как того требует древняя кельтско-германская традиция. Помимо этого — тут центурион не смог сдержать ликования — вражеский полководец, гладиатор Крикс, вызывает на единоборство римского полководца Луция Геллия Попликолу — такова еще одна кельтско-германская традиция. Теперь он, центурион, ждет распоряжений и ответа на предложения противника.
Молодой Цепион вспыхнул от стыда и от ярости. Центурион Росций усмехнулся. Консул улыбнулся. Было мгновение — правда, очень короткое — когда ему хотелось принять вызов, хотя бы для того, чтобы поставить на место центуриона Росция и еще больше разбередить рану, нанесенную самой унизительной необходимостью воевать с рабами и гладиаторами. Или это был бы способ покончить с унижением? Хороша была бы задачка для его друзей, афинских философов! Но уже через секунду к нему вернулось здравомыслие: не хватало только использовать историю как арену для самоутверждения!
Он любезно улыбнулся ветерану, приказал повесить парламентера без излишней жестокости и кивком отпустил офицера. Росций снова лихо отдал честь и шумно покинул палатку. Тогда Геллий повернулся к капитану Цепиону и распорядился напасть на вражеские позиции сразу после рассвета с пяти сторон. Цепион не посмел повторить свое предложение о поджоге.
Крикс совершал обход своего лагеря. Он с трудом переносил свое тяжелое тело, закованное в латы, от одной кучки воинов к другой, суровый и молчаливый. Тем не менее он внушал доверие. Где бы они ни появился, в его честь звучали дружеские, приветственные ругательства. Он вместо ответа пинал ногой слабое место в заграждении и, дождавшись устранения непорядка, тащился дальше.
План его был прост: пусть римляне нападут сами, пусть колотятся обритыми головами об его заграждения; когда они будут измотаны двумя-тремя безрезультатными атаками, осажденные выскочат из замаскированных брешей в стене и обратят врага в бегство. Победив, они двинутся дальше на север, домой.
Марш на север, домой — можно ли считать это целью? Крикс не задавал вопросов. На севере текла река Пад,[2] дальше раскинулись Цизальпинская Галлия, Лигурия, Лепонтия, за ними высились величественные горы. С гор сходили грохочущие лавины, их подолгу укрывали снега, вокруг вершин плясали боги и демоны. Там, в вышине, царило безмолвие. А еще дальше, за порогом небес, раскинулась страна воспоминаний. Действительно ли это память, или всего лишь тоска, навевающая иллюзии? Нет, Крикс не задавал вопросов.
А тем временем по дорогам Галлии и Британии брели процессии босоногих жриц и друидов в длинных белых балахонах. В посеребренной коляске, в окружении великолепной свиты — охотников со спущенными с цепи гончими, бродячих певцов — объезжал свои владения избранный на год король, осыпая подданных золотом. Усатые рыцари в серебряных ожерельях пировали за длинными столами; в перерывах между блюдами они сходились в смертельных схватках, борясь за приз — лакомую свиную корейку. Когда же в кубке рыцаря не оставалось вина, а в кошеле монет, он жертвовал жизнью за пять бочек вина, Угощал друзей и ложился с отяжелевшей головой на свой щит, чтобы смиренно дождаться смертельного удара своего кредитора.
Но существовала ли родина там, за рекой Пад, за покрытым снегами порогом небес? Крикс не спрашивал и об этом. Они шли на север, в туманное царство своего прошлого, домой. Везувий, Государство Солнца с его скучными законами, уродливое, мертворожденное будущее — все это будет без сожалений оставлено позади. Впереди лежало прошлое, именуемое родиной, первобытный туман, из которого они некогда вышли. Разве можно сомневаться в таком выборе? Они и не задавали вопросов. Они шли на север, притягивавший их, как магнит, чтобы пройти по предначертанному кругу и оказаться там, где некогда появились на свет.
Ближе к утру, незадолго до первой римской атаки, Криксу еще раз приснилась Александрия. Он уснул стоя, прижавшись спиной к прорехе в баррикаде, и увидел во сне женщину, поющую ему в своей постели. Такой песни он еще никогда не слыхал. Он прислушивался, желая понять, дика эта песня или прекрасна, и вдруг вспомнил, что этот сон ему уже однажды снился — на Везувии, в палатке претора Клодия Глабера. Скоро он очнулся, и в его унылых глазах не было и тени сна. Он лягнул ногой шаткую стену, дождался, пока заделают прореху, и потащился дальше — грузный, безрадостный и бессловесный.
Римляне пошли в атаку, как только рассвело. Не очень-то приятное занятие — штурмовать холм, на котором выросла крепость, бежать вверх по склону под ливнем стрел и копей, ужасаться молчанию за штурмуемой стеной. Наступление было проведено по всем правилам; оба атакующих легиона лишились половины состава, дождались сигнала к отступлению и в образцовом порядке вернулись к подножию холма.
Цепион и консул Геллий наблюдали за сражением с соседнего холма. Цепион побелел, видя, как его легионы отхлынули вниз, и, вспоминая упущенную возможность поджечь вражеский лагерь, прикусил губу. Консул обвел широким жестом поле боя со всеми бегущими, падающими, убитыми и ранеными.
— Олицетворение абсурда, — прокомментировал он. — Невероятно, что взрослые люди позволяют себе такое поведение.
От ярости Цепион побледнел еще сильнее.
— Твоя философия уже стоила нам трех тысяч римских жизней.
Консул удивленно поднял брови, но его ответ был заглушён звуком горна, поднимающим солдат в новую атаку, под ливень стрел и копий. Ответ, собственно, еще не был у него готов, а смертоносный дождь уже поливал атакующих; убитые и раненые покрывали холм — фигурки в неестественных позах, сломанные куклы, раскинувшие руки и ноги.
— Кажется, ты что-то сказал про философию? — крикнул консул, пытаясь перекричать шум боя и горн.
Цепион окончательно утратил самообладание, его руки и ноги в доспехах свело судорогой, лицо исказилось.
— Тебе дурно? — крикнул консул еще громче.
— Позволь мне самому возглавить атаку! — взмолился Цепион. Он еще не закончил фразу, а горн уже стих, и во внезапно наступившей тишине его просьба прозвучала, как истеричный петушиный клич.
Вторая атака тоже была отбита. Люди Цепиона снова спустились с холма в образцовом порядке. Некоторые даже успевали нагнуться с намерением подобрать раненого товарища, но, видя, что рискуют остаться без прикрытия, бежали дальше, так и не взвалив на плечи тяжелую ношу, Раненые цеплялись за ноги бегущих товарищей, заставляя многих лететь через голову. Ветер изменил направление, и теперь до соседнего холма не долетало ни звука; неприглядное зрелище разворачивалось в полной тишине.
— До чего отталкивающе! — сказал бледный консул. — Но это если ограничиваться чисто эстетической позицией. Не надо забывать, что все эти люди все равно умерли бы не позже, чем через двадцать лет, причем смерть их могла бы быть гораздо более жестокой и лишенной такого эмоционального накала. Разница сводится к тому, что война сосредоточивает сразу много смертей в одном месте, в единицу времени. Так смерти приобретают коллективный смысл, вызывают тошноту и поражают своей полной бессмысленностью. Но давай не будем заблуждаться: смерть одного-единственного человека не менее бессмысленна и отталкивающа. Дело не в абсурдности войны, а в абсурдности смерти вообще, которая становится еще заметнее, когда наблюдаешь свалку трупов.
— Если бы ты последовал моему совету, — сорвался Цепион, — то все эти люди остались бы в живых.
— Что ж, вместо них погибли бы другие. В чем же разница? — Произнеся эти слова, консул сразу о них пожалел. Он понял, что переборщил: так недолго предстать перед судом и лишиться головы. Капитан посмотрел на него с недоверием, смешанным с ужасом, развернулся и молча вышел.
Геллий пожал плечами. Поделом ему! Не надо было ввязываться в такие безумства, как война, достоинство воина, консульство. Оставался бы со своими философами! Увы, те еще дурнее, и дурость их лишена достоинства… Консул хмурился, пытаясь что-нибудь придумать. Как поступает разумный человек, когда вокруг него все рушится? Ответа не нашлось. Пришлось вновь с любопытством воззриться на поле боя.
Паузой в сражении воспользовалась стая дроздов, чье проворство консул счел похвальным. Потом горн снова погнал римлян в атаку, и черные птахи опять поднялись в воздух, уступив холм людям. С какой точностью и изобретательностью действует бессмысленность! Консул попытался представить марширующую птицу и взлетевшего солдата. Вот бы все изумились! А ведь это ничуть не хуже нормального поведения, которое он наблюдал в данный момент.
Мысль, что Цепион все равно не поспеет на поле боя вовремя, принесла консулу облегчение. Ведь зрелище друзей и знакомых, превратившихся в трупы, особенно огорчительно, твоя связь с ними приобретает театральную пронзительность. Смерть провоцирует бестактность, которую трудно себе позволить при обычных обстоятельствах. Прилично воспитанные люди не погибают. Но где же милейшие помощники? Оставили своего командующего одного, а сами устремились в бой!
Что ж, хотя бы он один может спокойно наблюдать за происходящим. В конце концов, подобное сражение — неоценимый опыт.
Третья атака началась, как и первые две. Консул успел закалиться и равнодушно ждал дождя из стрел и копий. Он счел естественным, когда дождь хлынул в точности по программе, в тот момент, когда атакующие преодолели треть расстояния до укреплений; не отвернулся, когда солдаты в передних рядах дружно вскинули руки и полегли, как на театральной сцене. Единственное, что вызывало у него неудовольствие — отсутствие звукового сопровождения. Он решил проследить за судьбой какого-нибудь одного человека и впился взглядом в стройного юношу на склоне, пытаясь представить, какими будут его движения, когда его нанижут на копье. Но худшего не произошло, консул испытал разочарование и потерял своего героя в толпе. Юношу звали Октавий; он пригнул голову, иначе копье снесло бы ему полчерепа, и благодаря своей ловкости стал впоследствии отцом римского императора.
На сей раз перед баррикадами завязалась особенно упорная рукопашная схватка. Чудовищный хлам, из которого кельты сложили вопреки всем правилам военного искусства свою стену, оказался сложной преградой. Атакующие, пытавшиеся ее форсировать, безнадежно застревали и становились мишенями для копий, топоров и прочих колющих и режущих орудий, грозивших из всех щелей и лишавших кого пальцев, кого ноги, кого и головы. Консул не слышал, как кричат римляне, а те надрывались что было сил — кто для ободрения, кто от злости, кто от боли. Напротив, защитники баррикады хранили молчание и методично кромсали римскую плоть, тяжело дыша, как мясники в разгар рабочего дня.
«Все это плохо кончится», — успел подумать консул, прежде чем воздух снова был распорот звуком горна. Атакующие поспешно схлынули со стены. У консула крепло ощущение, что он наблюдает за заранее отрепетированной, жестокой детской игрой. Однако то, что последовало спустя минуту, было очевидной, никем не предвиденной импровизацией.
Едва атакующие успели спрыгнуть с баррикады, люди, обычно посылавшие им в спины град камней и копий, сами выскочили буквально из стены, выглядевшей до того непроницаемой. Зрелище получилось настолько захватывающим, что консул, увлекшись, радостно вскрикнул, как ребенок, ставший свидетелем негаданного поворота игры. Рев кельтов стал как бы эхом его крика; он был настолько мощным, что за секунду преодолел расстояние и принудил консула опомниться. «Все это очень плохо кончится», — подумал он в ту секунду, когда началось истребление его солдат. Те, как видно, от испуга совсем растерялись: позабыв о чести, они покидали оружие и бросились врассыпную, спотыкаясь на бегу о раненых и убитых. Они падали на колени, закрывая головы щитами, прыгали, как зайцы, бессмысленно отбивались. Преследователи уже были повсюду: сзади, спереди, среди преследуемых, их оружие мелькало в воздухе, множа смерти; нанося смертельные удары, убийцы удовлетворенно переводили дух. Консула стошнило.
Резерв, стоявший у подножия холма, при виде катящейся сверху живой мясорубки охватила паника. Сначала солдаты просто таращили глаза на кровавую лавину, потом самые впечатлительные бросились бежать, а за ними и остальные, радуясь, что решение принято за них. Командиров уже никто не слушал.
Когда у консула прошел приступ рвоты, он стал возбужденно размахивать руками, стоя в одиночестве на своем холме. Но никто не смотрел вверх, да и сам он не знал смысла своих жестов. Вскоре он перестал жестикулировать и вспомнил про Цепиона, но того нигде не было видно. Решив, что капитан сердится, консул беспомощно сел в траву.
На другом холме стоял другой наблюдатель. Чтобы лучше видеть, он то и дело приподнимался на цыпочках и раскачивался, с трудом удерживая равновесие; губы его непрестанно шевелились. Когда первые беглецы достигли подножия холма, молодой Катон тоже кинулся вниз, размахивая руками, крича и отчаянно пытаясь преградить бегущим дорогу мечом. Зрелище было настолько редкостное, что несколько солдат поневоле остановились, их примеру последовали другие. Вообще-то враг остался далеко позади, потому что они пробежали не меньше римской мили, так что пришло время отдышаться. Катон, окруженный солдатами, не переставая молол языком: он произносил столь ненавистные солдатам проповеди о воинском долге и геройстве предков. Все больше беглецов сбивались в толпу, чтобы послушать, о чем речь; остановившиеся забывали о бегстве. Потом им наскучило стоять, и они уселись на землю. Катон все говорил; он уже перешел к опасностям разврата и чревоугодия и увлеченно цитировал речения своего прапрадеда, Цицерона и Гомера. В долине образовалась живая плотина, не позволявшая остающимся беглецам бежать дальше. Таким образом было остановлено отступление. Пока противник грабил римский лагерь, большая часть римской армии собралась вокруг Катона. Тот никак не мог замолчать, и скука от его речей стала победительницей недавней паники.
Когда консул и Цепион, бежавшие с разных сторон, достигли толпы, центурионы уже восстанавливали боевой порядок. Римляне понесли огромные потери, их лагерь перешел в руки врага, зато большая часть армии была спасена.
Консул выступил перед солдатами, подозвал Катона и назвал его поступок образцом для подражания, достойным награды. Катон с нестерпимой стыдливостью ответил, что обойдется без похвал и повышения, ибо ни он, ни кто-либо другой не совершил нынче ничего, чем можно было бы гордиться. Солдаты уже улыбались. Консул тоже улыбнулся и назвал Катона достойным наследником знаменитого предка. Услышав это, Цепион простил консулу все его грехи; ему очень хотелось надрать младшему брату уши, но сейчас момент был неподходящий. Он так на него негодовал, что негодование готово было перерасти в уважение.
Крикс понял, что прекращение преследования бегущего врага было серьезной ошибкой. Его власть над людьми испарилась в тот момент, когда его приказы перестали совпадать с их желаниями. Как только они захватили римский лагерь со всей провизией, вином и прочими припасами, враг перестал их интересовать: пусть бритоголовые бегут, мы тем временем славно позабавимся. Когда Крикс попытался их вразумить, они подняли его на смех: «Ты что, вздумал подражать Спартаку?» Крикс ничего больше не сказал, пошел в шатер консула Геллия, велел принести ему консульского вина и мяса, растянулся на консульском одеяле и в одиночку, молча напился допьяна.
Он был уверен, что выставленные часовые тоже пьяны. Надо бы их обойти, нарушить тяжкой поступью их сон, напугать суровым выражением лица, наказать, произнести речь, что-то сделать — как Спартак… Можно, конечно, гневно обрушиться на их пороки — но это и его пороки; на их алчность — свою алчность; и пьяны они, как и он. Надо было подчиниться закону обходных путей… Крикс понимал одно: его тяжелейшей ошибкой было то что он не проверил посты.
Он почмокал губами. Как ему все это надоело — до тошноты! Несмотря на переполненный желудок, он нащупал на столе еще один кусок мяса, съел его, вытер жирные пальцы о консульское одеяло. Взяв со стола кувшин, он глотнул вина, выковырял из зубов застрявшие волокна, закрыл глаза.
В шатре было тихо и жарко. Темнота вызвала волнение плоти. Он вспомнил молодую кельтскую жрицу. Стеная в его объятиях и моля о смерти, она закатывала глаза. Вспомнил Каста, превращавшегося в женщину, но не обладавшего пугающей женской непостижимостью, бывшего настороже даже в напускном забытьи, родного брата, чья похоть была как две капли воды его собственная похоть. Нет, все надоело до тошноты — и женщины, и мужчины. Человек в шкурах рассказывал однажды о девушке, певшей песню. Вот кого ему хочется! А все остальное — пустое.
Спать с поющей женщиной! Почему он этого лишен? Одно это могло подвигнуть его на подвиги и подвигало — с Капуи до сегодняшнего дня. Почему святая цель насмехается над ним, подбрасывает ему объедки, почему для него недосягаемо истинное, смеющееся и поющее на коленях у подлинного хозяина жизни? Гнаться бесполезно, все равно не угонишься. Слишком многие цепляются за ноги, мучимые тем же самым голодом, тем же плотским нетерпением. С самого начала он должен был идти своим собственным путем; а теперь поздно, теперь не видать ему Александрии.
Он совершил оплошность, не проверив посты. Спартак не допустил бы такого разгильдяйства. Стоило его спросить, как и зачем, — и он снова заводил свою песню про Государство Солнца. Бледное солнце, слишком многие жаждут напиться от твоих лучей, слишком мало света падает на одного человека. Холодное солнце, которое можно увидать, только напетлявшись до одури; пока оно согреет, пройдет целая жизнь. А смерть — это конец всех желаний. Только заумные дурни заботятся о будущем.
Темнота, тишина, жара в шатре. Прежде чем уснуть, Крикс вспомнил еще разок о проверке постов и с этой мыслью забылся. Однако человек не позволяет сну им завладеть, пока не возникнет желание уснуть. Сон Крикса был до того глубок, что он не проснулся даже в тот глухой ночной час, когда на лагерь напали римляне. Тяжелая тюленья голова осталась лежать на голом бицепсе, тяжелые веки отделяли темень в палатке от тьмы его сна. Он храпел на одеяле консула Геллия, по-собачьи подобрав короткие руки и ноги. В такой позе его застал первый заглянувший в консульский шатер римский солдат. От спящего гладиатора тянуло таким могучим волшебством сна, что солдат сначала отпрянул, и лишь потом, поборов колебания, одним ударом меча отсек тюленью голову от туловища, чтобы покончить с наваждением.
За эту ночь и за следующий день пали двадцать тысяч рабов. Пять тысяч умерли на крестах, еще пять тысяч сумели сбежать назад, к Спартаку. Жены и дети были конфискованы и проданы с аукциона, либо отправлены на рудники. О гибели Крикса было объявлено официально, однако труп пропал из шатра. В кратком сухом донесении консула Луция Геллия Попликолы обращали на себя внимание такие слова:
«Ночь, породившая этого человека, поглотила его плоть; посему, не имея возможности почтить отвагу мертвого врага, я чту силу тьмы, которую он воплощал».
II. Вниз с горы
(ИЗ ХРОНИКИ ЗАЩИТНИКА ФУЛЬВИЯ)
44. Естественный страх смерти заставляет людей говорить о ней словами, не имеющими отношения к реальности. Они прибегают к выражениям, сравнивающим смерть со сном, что не менее противоестественно, чем распространенное утверждение, будто новорожденный ребенок, вытолкнутый из кровоточащего материнского чрева, ласково пробуждается к жизни. На самом же деле новорожденное существо немедленно начинает издавать звуки и производить движения, свидетельствующие о грусти или даже об отчаянии; и, напротив, престарелый переполнен перед смертью радостной уверенностью и обманчивым ощущением силы. Потому, возможно, многие убеждены, что Жизнь и Смерть, сменяя друг друга, должны первым делом отдать должное — Жизнь Смерти, Смерть Жизни.
45. Вышесказанное надлежит помнить, ибо поведение рабов, оставшихся со Спартаком, было совсем не таким, на какое позволительно было рассчитывать при прощании с Городом, не оправдавшим светлых надежд. Всеми должна была владеть уверенность, что впереди их ждет гибель; однако неудача горделивых планов привела не к унынию, а, напротив, к радостной доверчивости. Даже сам Спартак, лучше других знавший, какие великие замыслы они сжигают, уходя, был в те дни веселее, чем когда-либо раньше, и вел себя так, словно избавился от тяжкого груза. Остальные, казалось, чувствует то же самое.
Однако у веселья, на первый взгляд необъяснимого, были причины: ведь человеку трудно влачить груз Будущего и соглашаться на зигзаги, без которых будущего не достичь. Теперь же рабы решили вернуться в родные места, а ведь известно, что перед тем, кто тоскует по Вчера, простирается более легкий путь, чем перед тем, кто стремится в Завтра, подобно тому, как несравненно проще, веселее и естественнее спускаться с горы, чем карабкаться вверх, преодолевая завалы и скользя на ледниках.
46. Поход армии рабов на север походил больше на простой спуск, на отступление от вершин, штурм которых требовал напряжения всех сил. Когда спускаешься, ноги сами несут тебя, и все силы, покинувшие тело при подъеме, возвращаются. А там, внизу, человека ждет смерть, отдающая жизни последний долг и вселяющая в падающего вниз обманчивые надежды.
Такой надеждой стала для остатков армии рабов Фракия, которая должна была принять не только самих фракийцев, но и всех, кто пожелает к ним примкнуть. Они намеревались пройти сквозь Италию строго на север, никуда не отклоняясь и опрокидывая на пути все преграды. Обманчивые надежды распускались, как весенние цветы в долине. Всем думалось, что по пути — в Самнии, Умбрии, Этрурии — к ним будут присоединяться рабы, желающие уйти вместе с ними из Италии. Всем мечталось о великом переселении народов, причем одних тружеников, полных сил, тогда как мучителям назначалось остаться на месте и впредь заботиться о себе самим. Римское государство виделось выпитым до дна, выброшенным за ненадобностью бурдюком — так говорили промеж себя рабы.
47. Отлично представляя — особенно после того, как стало известно о разгроме армии Крикса, — насколько обманчивы такие надежды, и зная, что дорога ведет впредь только под уклон, Спартак оставался тем не менее живым проявлением стратегического гения, причем никогда прежде гений этот не бывал в нем столь заметен. Стремительными дневными переходами он и его товарищи миновали центральную часть Италии и двинулись дальше на север. На границе Этрурии консул Лентул попытался преградить им путь, заняв со своей армией горы по обеим сторонам Арно. В то же время его соправитель, консул Геллий, победивший Крикса, пришел ему на помощь с юга, чтобы не дать Спартаку отступить. Две римские армии взяли рабов в клещи, но тут же выяснилось, что клещи эти деревянные, а предмет, который хотят ими удержать, раскален добела. Всего за два дня Спартак наголову разгромил армии обоих консулов. Сами консулы тоже находились на волосок от смерти, как и многие выдающиеся личности, находившиеся в их лагере, например, молодой Марк Катон и брат его Цепион. Все они были отозваны взбешенным сенатом в Рим, а консулы лишились консульства.
Рабы же продолжили, хоть и чуть медленнее, свой путь на север.
48. К реке Пад, обозначающей северную границу Италии, они подошли как раз тогда, когда начались дожди. Река сильно расширилась, вода в ней поднялась. Оказалось, что переправляться на северный берег армии совершенно не на чем, так как все местные жители, испугавшись, заранее перебрались на тот берег, захватив с собой все лодки. Противоположный берег был едва виден, а простирающаяся дальше равнина и подавно была затянута серым туманом.
Казалось бы, теперь, когда цель так близка, Спартак и его люди должны были напрячь силы и преодолеть последнее препятствие, устроенное самой Природой, раз уже было одержано столько побед над хитроумными двуногими. Однако вблизи желанная недавно цель уже не представлялась такой красочной, как на расстоянии, придававшем ей загадочности. Пока они топтались на берегу Пада, гонцы из Фракии принесли весть, разом отнявшую у них надежду. Во Фракийских горах разразилась битва, в результате которой Садалас, царь одрисов, потерпел поражение и покорился римскому игу; в Ускудуме и Томах, Калатисе и фракийском Одессе уселись римские наместники. Значит, на родине беглецов тоже не ждало солнце.
49. Напрасно рабы прошли всю Италию, с крайнего юга до самого севера: ворота, в которые они хотели проскочить, чтобы оказаться на свободе, захлопнулись у них перед самым носом, как дверцы ловушки. Им не осталось ничего другого, кроме как проделать обратный путь, теперь в южном направлении, не имея на сей раз никакой другой цели, кроме как уцелеть, не угодив по пути в лапы мучителей. Подобно зверю, мечущемуся по клетке, заметался Спартак по Италии: дойдя до севера, он опять повернул на юг.
50. Надежд у них не осталось, планов они не строили. Города, через которые лежал их путь, подвергались разграблению, внутри городских стен они вели себя, как стая голодных волков. Теперь они внушали гораздо больший ужас, чем раньше, ибо число их снова выросло до пятидесяти тысяч, а за победой над двумя консулами последовали новые, над претором Аррием и другими военачальниками, в такой же степени бессильными, в какой заносчивыми.
51. Страх, вызываемый армией рабов, многократно возрос, когда Спартак, чувствовавший, как видно, что дни восстания, несмотря на победы, сочтены, предпринял действия, которые римляне сочли величайшим унижением, перенесенным когда-либо их государством. Прежде чем уйти с берега реки Пад на юг, он устроил товарищу своему Криксу символические торжественные похороны, схожие пышностью с римским триумфом. По этому случаю он заставил триста римлян сражаться наподобие гладиаторов и убивать друг друга перед погребальным костром, пожиравшим восковое изображение Крикса. Сей запоминающийся спектакль стал наивысшим проявлением мести рабов господам и данью памяти дружбе Спартака и его первого соратника.
Все триста жертв, принесенных в память о Криксе, были свободными римскими гражданами, некоторые даже молодыми аристократами из патрицианских семейств. Выставив таких людей на посмешище и заставив их отнимать друг у друга жизнь на потребу толпы рабов, предводитель восстания нанес Риму оскорбление, о каком гордый город не смел и помыслить и тем более никогда не слыхивал.
52. Все прежние поражения, нанесенные римлянам цирковым гладиатором, вместе взятые, не удручили их так сильно и так болезненно, чем это издевательство. Смятение и ужас достигли в столице такого накала, что в день избрания новых полководцев кандидатов на эти почетные должности не нашлось; по той же причине не был избран и муниципальный претор. Никому не хотелось вести войну, победа в которой не принесла бы славы, зато поражение покрыло бы несмываемым позором. Смятение было усилено тем обстоятельством, что сенату пришлось закупить огромное количество пшеницы и бесплатно ее раздать, дабы погасить народное недовольство; это, а также расходы на бесчисленные военные кампании за границей, полностью опустошило государственную казну. Даже если бы появился способный военачальник, денег на жалованье его солдатам все равно не хватило бы.
Все эти невзгоды вызвали у народа небывалый страх, а в Риме укрепилось мнение, что жестокий предводитель гладиаторов, которым мамаши уже пугали непослушных чад, вот-вот завладеет Вечным городом.
53. Судьба сыграла с рабами причудливую шутку. Когда они, измученные долгими скитаниями, уже готовы были отчаяться и сдаться, в сердцах их в последний раз зажглась предательская, несбыточная надежда. Казалось, беззащитный Рим лежит у их ног, как поверженная жертва, смирившаяся со скорым уничтожением. Подобно пламени, ярко вспыхивающему напоследок, прежде чем окончательно потухнуть, сердца изверившихся рабов озарила последняя надежда: они вообразили себя владыками Рима и хозяевами всего мира.
54. Человек, спасший в те роковые дни Рим и погубивший надежды на новый порядок в мире, не был военачальником и никак не успел отличится на полях брани.
То был банкир Марк Красс — тугоухий, приземистый, с виду тучный. Как все глухие и полуглухие люди, он был неуклюж и недоверчив, а своими несметными богатствами вызывал у большинства ненависть и только очень у немногих — любовь.
55. Марк Красс прожил сорок четыре года, не стяжав никакой славы. И вот он решил, что настал момент прославиться и заслужить прозвище спасителя Рима, не приложив к тому особенных усилий. Расчетливость помогла ему заключить, что даже при несомненном стратегическом таланте Спартак одерживает победу за победой не благодаря могуществу своей армии, а из-за слабости и умственной ограниченности римских полководцев, с которыми ему до сих пор приходилось мериться силами.
Поэтому в момент, когда весь Рим приготовился окончательно погрузиться в ужас, Марк Красс в сопровождении помощников явился на Марсово Поле и заявил собравшемуся там люду, что готов согласиться на преторскую должность и за свой счет оснастить свежую армию в надежде, что впоследствии государство возместит ему понесенные расходы. Заявление это вызвало, разумеется, всеобщее ликование, и вскоре Красс встал во главе восьми укомплектованных легионов, предназначенных для подавления в самом ближайшем будущем восстания рабов и последующего подкрепления его собственных амбиций.
56. Когда авангард армии Красса при первом же столкновении с рабами согласно установившейся традиции бросился врассыпную, Красс первым делом приказал, чтобы в отступивших частях каждый десятый был запорот до смерти на глазах у всех остальных. Легионы удостоверились, что имеют дело не с тряпкой, вроде Вариния или Клодия Глабера, и повели себя соответственно. Благодаря своему отличному оснащению и превосходству в вооружении, на которое Красс не поскупился, они нанесли Спартаку поражение в Апулии.
57. То было первое поражение, которое потерпели рабы под командованием Спартака, поэтому они впали в сильное уныние, хотя мужества им было по-прежнему не занимать. Сам Спартак, не желая давать открытый бой численно превосходящему его противнику, двинулся дальше на юг.
Так рабы во второй раз пересекли Луканию. В прошлом году они появились здесь, полные надежд, теперь же ими владело уныние. Они миновали развалины прежнего своего Города, увидели остатки амбаров и трапезных, покрытые пылью, и зрелище это поразило их до глубины души. Ибо чем дальше в прошлое отступали дни Города Солнца, тем более красочной и счастливой рисовала память ту жизнь, которую они вели в этих стенах.
58. Но и тут легионы Красса не оставили рабов в покое, поэтому Спартаку и его армии пришлось искать убежища на самой южной оконечности полуострова. И только когда они хлынули в Бруттию, Красс неожиданно прекратил преследование.
У этого удивительного человека, командовавшего армией не так, как требовала традиция, а подходившего к задаче осторожно и расчетливо, чему он научился в решении денежных дел, появился другой план. Он не сомневается, что каждый из рабов станет защищаться до самого конца; Бруттия же — горная страна, покрытая самым густым во всей Италии лесом, и там рабы получили бы возможность навязать собственные правила ведения боевых действий римлянам, не способным воспользоваться своим преимуществом в вооружении.
59. Тогда Красс приказал своей армии остановиться и предложил план, который всякий профессиональный военный поднял бы на смех и счел неосуществимым.
Пока рабы по привычке подвергали набегам южное побережье, банкир отдал своим легионам приказ вырыть ров через весь перешеек, от Силациана до Гиппона. Глубина рва составляла пятнадцать футов, ширина столько же. С его помощью южный кончик Италии оказался отрезан от остальной страны. Ширина перешейка от моря до моря равняется в том месте всего тремстам двадцати римским милям,[3] так что, поручив земляные работы всем своим восьми легионам сразу, Красс уже через несколько дней получил желаемое.
Вдоль рва Красс велел возвести насыпь и возвести сторожевые башни, после чего стал терпеливо дожидаться, пока у рабов, загнанных в бесплодную местность, выйдет вся провизия, и они встанут перед выбором: либо сдаться либо бесславно пасть.
Говорят, будто в обращенной к легионам речи Красс заявил, что ради уничтожения опасных зверей он превратил в капкан всю Бруттию, так что теперь звери лишены возможности кусаться.
60. Трудности и лишения длительной кампании, а также обычные для осени вспышки болезней сократили силы Спартака более чем вдвое. Двадцать тысяч озверевших существ, последние остатки величайшего народного выступления из всех, когда-либо потрясавших великий Рим, бродили по горам и лесам Бруттии к югу от невиданной преграды, отрезавшей их от остального человечества.
III. Надгробия
Горы и леса Бруттии — вот все, что у них оставалось. Прошлое отошло в прошлое, в будущем не было будущего. Спартак в одиночестве возглавлял скорбную колонну.
На их пути лежал некрополь Регия. Человек в шкурах озирал поливаемую дождем местность, редкие пальмы и бесчисленные могильные камни. Одна из надписей привлекла его внимание:
НАСМЕШКОЙ НАД ИЛЛЮЗИЕЙ ЛЕЖУ Я В ВЕЧНОМ СНЕ
Он запомнил надпись. На соседнем камне было написано:
ТИТ ЛОЛЛИЙ ЛЕЖИТ ЗДЕСЬ, У ДОРОГИ, ЧТОБЫ ВСЯКИЙ ПРОХОДЯЩИЙ МИМО МОГ СКАЗАТЬ: «ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЛОЛЛИЙ»
«Привет тебе, Лоллий», — молвил человек в шкурах и улыбнулся добродушной улыбкой из прежних дней. Какими разными остаются люди даже пред ликом смерти! Один насмехается над жизнью, уже не имеющей над ним власти, другой же хнычет по ней, как щенок, боящийся одиночества.
Дождь омывал надгробие общительного Лоллия, одни струи разбивались о камень в мелкие брызги, другие сбегали по надписи широкими ручьями.
Человек в шкурах чувствовал тянущуюся за ним безмолвную колонну, унылое шествие потерявших надежду. Он думал о Гермии, пастухе с лошадиными зубами, убитом в Алулии копьем, купленным на деньги богача Красса. Глядя на мокрые надгробия, он пытался мысленно сложить эпитафию Гермию:
ЗДЕСЬ МЕСТО УПОКОЕНИЯ ГЕРМИЯ, ЛУКАНСКОГО ПАСТУХА, МЕЧТАВШЕГО ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ПОЛАКОМИТЬСЯ ДРОЗДАМИ, НО ТАК И НЕ ИСПОЛНИВШЕГО МЕЧТУ. ПОМНИ, ПРОХОДЯЩИЙ МИМО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЛАКОМИТЬСЯ ДРОЗДАМИ, ПОКА НА ЗЕМЛЕ ОСТАЕТСЯ ХОТЯ БЫ ОДИН ЧЕЛОВЕК, НЕ ЗНАЮЩИЙ ИХ ВОЛШЕБНОГО ВКУСА.
Дождь все лил, колонна брела все медленнее. Человек в звериных шкурах, ехавший впереди, страдал от одиночества; в незапамятном прошлом рядом с ним всегда был толстяк Крикс, сидевший на коне так, словно это мул. Теперь сумрачный друг переселился в царство теней. И для него сложил человек в шкурах эпитафию:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ КРИКС, КЕЛЬТСКИЙ ГЛАДИАТОР МЕЧТАВШИЙ ПЕРЕСПАТЬ С ПОЮЩЕЙ ДЕВИЦЕЙ. ТЫ, ЧИТАЮЩИЙ ЭТО, ПОМНИ, ЧТО ДЕВИЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕТЬ, ПОКА ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ЧЕЛОВЕК, НЕ СЛЫШАЩИЙ ИХ ПЕСНЮ.
Дождю не было конца; человек в шкурах думал теперь о Зосиме, риторе, заболевшем смертельной лихорадкой на реке Пад; как он соскучился по хлопающим рукавам его тоги!
ЗОСИМ, ОРАТОР, ЛЮБИВШИЙ ИЗЫСКАННЫЕ РЕЧИ И ТРЕБОВАВШИЙ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВЛЕНИЯ, ОСТАЛСЯ ЛЕЖАТЬ У ЭТОЙ ОБОЧИНЫ. ПРОХОДЯ МИМО, ПОМНИ, ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЫСКАННЫХ РЕЧЕЙ И СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВЛЕНИЯ, ПОКУДА ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Дождь полил еще сильнее, горы окутались траурными тучами. За ними лежали плодородные равнины Лукании, тучные земли Кампании, чудесные богатые города. Но от всего этого они были отрезаны рвом, прорытым банкиром Крассом от моря до моря. Здесь их ждет смерть, как мышей в мышеловке.
Человек в шкурах чувствовал за спиной длинную процессию несчастных и обреченных, оборванных и одичавших мужчин, мокроволосых и вислогрудых женщин, слышал скрип телег, набитых облепленными мухами больными. По его лицу стекали дождевые капли. Подбирая их кончиком языка, он придумал общую эпитафию, одну на всех:
ТО БЫЛО ТАНТАЛОВО СЕМЯ, НЕ ВЕДАВШЕЕ РАДОСТЕЙ ЖИЗНИ. ЗАДЕРЖИСЬ, ПУТНИК, И СОДРОГНИСЬ ОТ СТЫДА ПРИ МЫСЛИ О НИХ.
У них оставался один-единственный шанс на спасение: переправиться с помощью пиратов на остров Сицилия.
На Сицилии рабам жилось еще хуже, чем в самой Италии; великие восстания — одно под водительством сирийца Евна, другое по водительством фракийца Атениона, после которого не прошло еще и одного поколения — еще не изгладились из их памяти. Три года во время первого восстания и четыре во время второго рабы были хозяевами почти всей Сицилии; может быть, огонь удастся разжечь вновь?
Но у армии Спартака не было кораблей, а материк и остров разделял пролив, по одну сторону которого высилась скала Сцилла, по другую — пучина Харибды. Судьба всей армии зависела от пиратского флота.
В своем временном лагере на берегу в Регии Спартак повстречался с адмиралом пиратского флота, находившегося в Ионическом море, пригласив его в свою палатку из шкур. На шесте над палаткой по-прежнему висел пурпурный стяг: последние двое выживших из слуг Фанния хранили его на протяжении всего перехода по Италии на север и обратно на юг.
Пиратское государство находилось тогда на вершине могущества. В распоряжении пиратов было около тысячи судов, по большей части мелких, открытых скоростных баркасов, объединенных в эскадры; каждую эскадру возглавляли несколько тяжелых двух-трехпалубных галер. Был у флота и флагманский корабль, разукрашенный золотом. Они вместе и представляли собой военное государство со строгой дисциплиной и продуманной системой раздела добычи; государство довольствовалось сушей на островах и морской гладью от Малой Азии до Геркулесовых Столбов, высящихся над узкой полосой воды, отделяющей Африку от юга Испании. Сердцем государства был остров Крит; киликийские леса поставляли лес для строительства кораблей на верфи в городе Сиде, что в Памфилии, где заодно содержали и военнопленных. Женщины, дети и богатства пиратов находились в крепостях на разных островах, сообщавшихся друг с другом с помощью сигнальных костров и почтовых баркасов. Пираты заключали политические союзы с азиатскими царями, бунтующими греческими городами, фракциями римской оппозиции. Крупнейшие римские порты, в том числе Остия и Брундизий, платили им ежегодную дань; совсем недавно ионическая эскадра захватила порт Сиракузы. Такова была мощь, от имени которой адмирал Деметрий после годового перерыва снова вел переговоры с рабами.
Раньше адмирал на сталкивался с фракийским князем лично, но знал все о переговорах в Фуриях и был их противником. Его внушительный баркас покачивался на волнах в гавани; сам он, облаченный в яркую форму, сошел на берег и огляделся, удивленный отсутствием почетного караула. Двое мужланов с бычьими шеями в ржавых шлемах провели адмирала через море намокших палаток, издававших зловоние нищеты и болезней, и показали палатку своего главаря.
Адмиралу главарь сразу не понравился. Тот оказался рослым, корявым, чуть сутулым, неуклюжим, в каких-то драных шкурах. Деметрия он принимал один; велел принести вина, хлеба и соли, говорил мало, выглядел нездоровым и унылым. Адмирал надеялся на приглашение на ужин, а очутился на нищенской трапезе; с прямой спиной, несмотря на тучность, ни капли не пострадавший как будто от многолетней морской качки и штормов, если не считать отсутствующий глаз, он сидел на подстилке и неодобрительно осматривал бедное убранство палатки; глаз из отполированного цветного камешка сурово смотрел строго вперед. Неужели это и есть знаменитый главарь разбойников, желающий заключить союз с пиратским государством? Где же у него серебряный умывальник, где шут или хотя бы придворный поэт, где приятное женское общество? Он мог бы быть римским народным трибуном, подстрекателем недовольства — не более того; адмирал готов был держать пари, что он не слыхал о Финее, модном афинском поэте.
Адмиралу Деметрию было неудобно сидеть на жесткой подстилке; не иначе, в ней обитают клопы — верные спутники всякого «друга народа» и невеселого демократа. Следуя правилам вежливости, он попробовал завести разговор о погоде и фракийских божествах. Но лесоруб прервал его, проявив недопустимую грубость, и сухо осведомился, на каких условиях пираты согласятся перевезти армию рабов на Сицилию.
На это адмирал откликнулся пространной лекцией о международном положении, которая, по его словам, претерпела за время союза с Фуриями серьезные перемены; тремя уцелевшими на правой руке пальцами он изобразил море и указал на западе точку — порт Гадес,[4] где укрылись остатки разбитого флота самоуверенных эмигрантов. Скоро их судьбу разделит царь Митридат, потерпевший поражение от обжоры Лукулла в битве при Кабейре; вот свидетельство того, что вкус к удовольствиям и дар гостеприимства никак не уменьшает полководческие таланты.
После этого язвительного выпада, не произведшего, впрочем, заметного впечатления на плебея-бунтаря в шкурах, адмирал выпил для поддержания сил вина, продемонстрировав сильно поредевшие в боях зубы, и сообщил, что единственной силой в мире, способной противостоять на равных Риму, является его пиратское государство, так как у Рима нет приличного флота. Посему он, адмирал Деметрий, с сожалением вынужден констатировать, что не заинтересован в политическом союзе с фракийским князем и готов обсуждать перевоз на Сицилию его армии просто как взаимовыгодную сделку. Стоить это будет пять сестерциев за человека, или один динарий с четвертью, или двенадцать ассов.
Человек в звериных шкурах ничего не ответил — видимо, пытался умножить в уме таксу на двадцать тысяч. Адмирал терпеливо ждал результата вычислений. Потом его терпение истощилось, и он пришел доморощенному математику на помощь.
— Всего сто тысяч сестерциев или двадцать пять тысяч динариев, в греческой валюте — четыре таланта. Как обычно, половина суммы выплачивается заранее. Эскадра стоит сейчас вблизи Сиракуз, так что вы сможете погрузиться всего за пять ближайших дней. Больных придется, конечно, оставить здесь: опасность заразиться и все такое, сами понимаете…
Человек в шкурах знал, что у него нет выбора и что его собеседнику это известно не хуже, чем ему самому. Тем не менее он долго и упрямо торговался, не спуская с адмирала свинцовый взгляд; адмиралу становилось все больше не по себе. В конце концов сговорились на шестидесяти тысячах сестерциев; после уплаты этой суммы казна рабов полностью пустела.
Двое охранников приволокли в палатку грубые мешки с половиной этой суммы, пересчитали в присутствии адмирала деньги и перенесли их к нему на баркас. После этого адмирал извинился за то, что не может больше задерживаться, поскольку на борту его ждет веселая трапеза, величественно поднялся, церемонно приветствовал своего достопочтенного брата, фракийского князя, и в сопровождении все той же парочки в ржавых шлемах вернулся на свой великолепный баркас.
Рабы ждали пять дней и, лелея в сердцах надежду, вглядывались в горизонт, пытаясь рассмотреть сквозь дождь пиратский флот и сицилийский берег. Однако пираты так и не приплыли.
Подгоняемые нетерпением, рабы сами принялись вязать плоты из древесных стволов, но штормовые волны швыряли плоты, как щепки, разбивали их о скалу Сциллу, топили в бездне Харибды. Оставалось одно — ждать.
Прошла вторая неделя, потом третья. Пиратских кораблей все не было.
Когда же минула четвертая неделя, обманутые прослышали, что адмирал Деметрий и его эскадра давно покинули порт Сиракузы и уплыли к побережью Малой Азии.
Еще через три недели, когда остаток армии, уничтожаемой голодом и болезнями, уже стал разбредаться по горам, Спартак решил положить всему этому конец и запросил встречи с вражеским военачальником Марком Лицинием Крассом.
IV. Встреча
Марку Крассу было сорок три года, он владел состоянием в сто пятьдесят миллионов сестерциев. Был он толст, туг на ухо, страдал астмой.
Будучи отпрыском патрицианского рода Лициниев, обязанным высоко подняться в политической иерархии, он тем не менее много лет действовал в одиночку. Пока его современники и соперники вели борьбу за лакомые местечки в Испании и Малой Азии, мечтая рано или поздно захватить власть, Красс посвящал себя исключительно финансам. Основы своего богатства он заложил в годы сулланского террора, донося на оппозиционеров и прибирая их денежки, остававшиеся после казней бесхозными. Однажды выяснилось, что он подделал одно имя в проскрипционных списках, вследствие чего температура доверительных отношений между ним и диктатором несколько понизилась. Пришлось Крассу заняться спекуляцией землей.
Он начал скупать обесценившиеся или пострадавшие от пожаров дома и фермы — сначала осторожно, потом целыми улицами и кварталами, пока не стал владельцем значительной части столицы. После этого он перешел к приобретению лучших каменщиков, плотников и строителей, причем действовал настолько систематически, что через несколько лет стал архитектурным монополистом Рима и еще нескольких городов. Ему принадлежали серебряные копи в Греции и каменоломни в Италии, снабжавшие его строительным материалом; теперь мелкая рыбешка, возжелавшая строиться, никак не могла обойтись без Красса: от выбора места до настилки крыши, от договора с архитектором до найма рабочей силы — все делалось только через Красса. Не находя сил вести такое сложное дело только собственными силами, он снабжал деньгами своих многочисленных вольноотпущенников и клиентов, делая их своими партнерами.
Однако со временем стало очевидным, что колебания в строительной отрасли ведут к частым вспышкам безработицы среди рабов-строителей, которых в любом случае приходилось кормить и содержать. Желая устранить этот недостаток, Красс усовершенствовал свою коммерческую империю, создав первую в Риме пожарную команду.
Поскольку большинство построек в Риме были деревянными, пожары вспыхивали очень часто, практически что ни день. Пожарная команда Красса состояла из незанятых на стройках рабов-строителей, имевших в своем распоряжении повозки и колокольчики. В повозках перевозились топоры и ведра; ходили, однако, слухи, что пожарники Красса больше любят махать топорами, чем заливать из ведер огонь. Кроме того, пожарникам предписывалось начинать борьбу с огнем только после того, как неудачливый домовладелец согласится оплатить расходы по спасению его горящей собственности; переговоры обычно кончались тем, что собственнику приходилось продавать дом и имущество Крассу, чтобы то и другое не сгорело дотла.
Много лет назад Красс изрек, что лишь человек, способный содержать на проценты от своего капитала собственную армию, имеет право именоваться состоятельным. Весь Рим считал его алчным скупердяем, и Красс ничего не делал для того, чтобы улучшить свою репутацию. Он в точности знал, к чему стремился; на его счету имелось открытие.
Открытие это стало результатом опыта, определившего все его будущее, — встречи с его соперником Помпеем за несколько лет до описываемых событий.
С самого детства Красс жил в тени Помпея; он тщательно оценивал все его деяния, мысли, Помпей снился ему по ночам. Приходилось признать, что Помпей обошел его по всем статьям.
Во время Гражданской войны тридцатилетний Красс, человек без прошлого и без будущего, скитался по Испании с бандой наемников и дожидался возможности пролезть в политику. Возможность никак не предоставлялась; а тем временем Помпей, который был моложе Красса на восемь лет, сумел проявить свои способности на службе у Суллы и уже величал самого себя «императором».
В последние годы Гражданской войны у Красса и у Помпея было под командованием по легиону. Оба дрались успешно: Красса обвинили в присвоении добычи, захваченной в городе Тоди, Помпея — в краже птичьих ловушек и книг в Аскулуме. Наконец, восстание было задавлено, Сулла стал диктатором. Красс получил в награду место в сенате, Помпея же Сулла, обнажив голову, принародно обнял и назвал «великим».
Крассу было в ту пору тридцать два года, Помпею двадцать четыре. Красс уже начал глохнуть и задыхался от астмы, а Помпей удачно мерился силами со своими солдатами. Красс был женат на матроне из хорошей семьи, Помпей развелся в третий раз и, женившись в четвертый, стал зятем Суллы. Полуглухой сенатор Красс уже подумывал, не отойти ли ему от государственных дел, чтобы, уединившись в имении, писать воспоминания, как вдруг события приняли неожиданный оборот: Помпей занял у него деньги.
Сумма была немалая: Помпею позарез нужно было подкупить судей, чтобы выпутаться из очередной передряги. Он лепетал что-то невразумительное, робея перед Крассом, как школьник. Красс немного его помучил, а потом все-таки дал в долг — без процентов и даже без подстраховки. Здоровяк Помпей уходил из его дома, багровый от унижения, едва держась на ногах и спотыкаясь о пороги. Красс заперся в кабинете и разрыдался. Ему было тридцать три года, и впервые в жизни он испытал счастье.
Наконец-то он прозрел! Он хорошо знал, как использовать деньги, но раньше не делал из этого надлежащих выводов. Вывод пришел ему в голову только теперь. Он гласил: деньги предназначены не для прибыли и удовольствий, они — средство для достижения власти.
Открытие было нехитрое, предстояло еще создать на его фундаменте стройную систему. Система Красса была проста и одновременно революционна: свои капиталы — огромнейшие во всем Риме — он раздавал в долг, без процентов и без обеспечения. Ростовщики довольствовались доходом в виде процентов, Красс накапливал власть.
Пока Помпей покрывал себя славой, воюя в Испании. Красс раздавал беспроцентные ссуды влиятельным лицам всех политических направлений, независимо от преследуемых теми целей. Половина сенаторов уже ходила у него в должниках; все лидеры партий попали к нему в зависимость. Даже самые рьяные боялись вставать у него на пути. Его называли быком с рогами, замаскированными сеном. Красс не хуже своих конкурентов знал, что Республика прогнила насквозь и что спасение государства — только в диктатуре. Диктатура безжалостно покончит со старым устройством, старыми методами и направит развитие по новым путям, в духе нового времени. Возможно, она поведет борьбу с издыхающим сенатом, бросив против него армию и недовольную часть народа, возможно, учредит монархию, которая опиралась бы не на консервативную аристократию, а на народных трибунов и широкие народные массы.
Красс знал, что большинство ведущих политиков разделяют его взгляды и преследуют ту же цель; однако Лукулл был слишком легкомысленным, Серторий погиб, Цезарь слишком молод. Единственным его серьезным противником был давний соперник Помпей.
Кампания Крассу наскучила: он считал войну низменным занятием. Чревоугодием он не грешил, делая исключение только для фиников и сушеных фруктов, которые ему приготовляли по особым рецептам; пиры его были вполне патрицианскими, однако сам он довольствовался на них простой пищей. Женщины тоже не слишком его соблазняли: ни одна любовная связь в жизни не принесла ему наслаждения. Единственной его усладой, помимо фиников в сахаре, были пространные застольные беседы, желательно с молодыми фанатиками и теоретиками, над которыми он подтрунивал на свой манер, оставляя их в неведении, что над ними смеются. Полуглухой банкир почти никогда не смеялся сам, однако был наделен специфическим чувством юмора.
В его армии состоял Катон Младший, снова добровольно вступивший в легион простым солдатом и получивший от Красса вопреки своей воле должность трибуна. Молодой аскет остался прежним: все так же не выпускал из рук своих рукописей и произносил лекции о добродетелях стоиков и праотцев, чем доводил до белого каления всех, кроме Красса. Толстый командующий терпеливо позволял ему разглагольствовать, прикладывал ладонь к уху, чтобы лучше слышать, и время от времени важно кивал.
Накануне встречи со Спартаком, которой Красс ждал с нетерпением, Катон Младший, отобедав, взялся излагать свои взгляды на рабовладение. Он цитировал своих учеников-стоиков, Антипатра из Тира и Антиоха из Аскелона, возбужденно размахивал худыми руками и плевался от воодушевления, однако в Красса не попадал — тот деликатно отстранялся.
— Истинная свобода, — объяснял Катон, — заключается в одной добродетели, она есть самая главная мудрость, а истинное рабство — результат порока. Страсть и разум — антиподы; а поскольку Природой правит бессмертный Разум, инстинкты и низкие желания неестественны. Сброд, против которого мы сейчас воюем, движим животными побуждениями, а значит, враждебен Разуму и Природе. Но и среди нас живо зло. Наши праотцы знали, как жить просто, в согласии с Природой; мы же погрязли в изнеженности, пороке и излишествах. Если Рим и дальше будет идти этим пагубным путем, нас ждет неминуемое поражение.
Красс внимательно слушал, кивая и регулярно отправляя в рот горсть сухих фруктов.
— Ты прав, республика обречена, — молвил он, астматически сопя. — Ее уже погубили пороки и излишества. А знаешь ли ты, из какого корня произрастает все это?
— Из презрения человечества к естественным добродетелям, — с готовностью ответил молодой болтун и хотел продолжить, но был остановлен жестом пухлой руки Красса
— Извини, — проговорил он. — Корень всякой порочности — в заниженной земельной ренте и падении экспорта.
— Об этом я ничего не знаю, — сказал Катон. — Во времена моего прадеда…
— Извини, — снова перебил его Красс. — Думаешь, стал бы Лукулл множить свои дурацкие рыбные пруды, если бы выращивать пшеницу было выгоднее? Думаешь, стала бы наша аристократия так безумно транжирить средства на цирковые игрища, если бы их можно было с выгодой вложить в сельское хозяйство, как это было во времена твоего досточтимого прадеда? Но с тех пор земельная рента сократилась до такой степени, что растить хлеб в Италии стало невыгодно. Вот тебе причина упадка нашего крестьянства и хлынувшего в города потока нищих; вот почему римский капитал перестал приносить прибыль и не может более обеспечивать людей работой. Неудивительно, что им приходится либо нищенствовать, либо грабить.
— Причина этого — в моральном падении людей! — вскричал Катон Младший. — Они уклоняются от труда, предпочитая перебиваться на подачки, толкаться на улицах и слушать демагогов. Дисциплина, закон и порядок праотцев — вот что нам необходимо.
— Извини. Дисциплина, закон и порядок — все это прекрасно, но от аграрного кризиса, то есть от падения земельной ренты, они не спасут. Знаешь ли ты, в чем причина этого падения?
— Нет, — признался Катон, еще пуще краснея прыщами на лице — следствием праведного образа жизни. — Никогда не забивал себе этим голову.
— Тем хуже, — пробормотал Красс, наслаждаясь своим лакомством. — Большое упущение для молодого философа и будущего политика. Я объясню, какая тут связь, и ты увидишь, насколько это полезнее твоего Антипатра из Тира вместе со всем стоицизмом. Если заглянуть в платежный баланс Римского государства, то станет ясно, что мы продаем за границу только вино и масло, а покупаем все на свете, от зерна до рабочей силы, то есть рабов, и всех мыслимых предметов роскоши. Как, по-твоему, Рим расплачивается за этот колоссальный перевес импорта над экспортом?
— Деньгами, я полагаю, — сказал Катон. — Серебром.
— Неверно. — Красс выплюнул косточку от финика. — В Италии не так много серебряных рудников. Главный фокус Рима — это бесплатный ввоз товаров из колоний. Иными словами, все, что экспортируют в Рим наши недостойные азиатские подданные, кредитуется под налоги, которые там собирают. То есть мы получаем все за просто так — и, как ни странно, именно от этого гибнем. Риму невыгодно что-либо производить: крестьяне не могут конкурировать с дешевым заморским зерном, ремесленники — с дешевым рабским трудом. Вот почему половина свободных людей нынче не имеет работы, а рабов в Италии вдвое больше, чем свободных. Рим превратился в буквальном смысле в государство-паразита, в «мирового вампира», если прибегнуть к метафоре одного из молодых поэтов. Работа в Италии уже никого не соблазняет, вот наше производство и не развивается; земледельческие орудия варваров-галлов значительно превосходят наши, в большей части наших провинций производство обогнало наше; все, что мы сумели изобрести, — стенобитные орудия и приспособления для азартных игр. Если поставки зерна из-за морей почему-то прервутся, то у нас разразится голод, как уже случилось два года назад, а где голод — там бунт. Когда зерно поступает исправно, мы в нем тонем, и хороший урожай превращается в проклятие для крестьянина: он вынужден продать свое поле и податься в столицу, чтобы получать милостыню в виде зерна, которое он уже не может производить сам. Разве все это устройство — не сплошное безумие?
Красс откинулся на подушках и взял новую горсть фиников. Саркастически щурясь, он наблюдал за худым юнцом, ерзающим на месте. Катон все сильнее краснел.
— Я никогда не размышлял на эти темы, — заявил он упрямо. — Неужели они, по-твоему, настолько важны? Разве все дело не в моральном совершенствовании, не в духе государства? В былые времена…
Но Красс был непреклонен.
— Извини, — сказал он. — Если приглядеться, то все красивые слова, которые ты произносишь, — пустой звук. Поневоле приходишь к выводу, что само государство не знает, на что живет. Оно, то есть каста римских правителей, настолько тупо, что даже не в состоянии разглядеть разницу между закладной и долговой распиской. Кроме того, традиция и высокомерие не позволяют этим людям постичь экономические законы. Все это приводит к тому, что сборщики налогов, хозяева общественных акционерных обществ, заправилы морской торговли, работорговцы, владельцы рудников — вот кто владеет государством, вот кто решает, быть миру или войне, процветать нации или погибнуть. Прочти лучше нашего великого историка Полибия, написавшего еще сто лет назад, что перечисленные мной люди держат под контролем не только юриспруденцию, но и выборы — либо путем подкупа избирателей, либо получая голоса мелких акционеров, часто составляющих большинство в маленьких городках.
Надеюсь, ты не сомневаешься, что истинной причиной Пунических войн было соревнование между Римом и финикийцами в торговле зерном? Или что война с царем Югуртой длилась целых шесть лет потому, что африканец знал, где зарыта собака, и умело подкупал важных всадников и сенаторов? Загляни в протоколы сената того времени или в записки постоянной комиссии по шантажу. А ты еще говоришь о морали и добродетели праотцев…
Катон не знал, что ответить: его ужаснул цинизм командующего. Он попросил его отпустить и убежал, весь горя. Красс проводил его взглядом и выплюнул сразу несколько финиковых косточек; беседа доставила ему удовольствие.
Спартаку было нелегко решиться на эту встречу, но и не так трудно, как полагали многие его соратники.
Он знал, что это конец. Его «армия» начала разбегаться по лесам. Еще месяц — и римляне смогут отлавливать беглецов по одному. Лучшие пали, от остальных уже не было никакого толку. У мужчин ввалились глаза, отчаяния покрывало лица, как паутина. Женщины бегали по лагерю, сжимая в руках младенцев с огромными головами и паучьими ручками-ножками, и кричали, что пора сдаваться, потому что тогда все устроится, как прежде. Они сновали по лагерю, прижимая детей к пустой груди, всклокоченные, голосистые. «Не хотим умирать!» — так звучал их клич.
Мужчинам тоже не хотелось умирать. Стоя на морском берегу, наблюдали они за накатывающимися волнами, вдыхали запах водорослей и все больше ценили жизнь, приходя к мысли, что самая худшая жизнь лучше самой прекрасной смерти.
Отчаяние и желание выжить любой ценой лишали всех, и мужчин, и женщин, остатков рассудка. Они говорили о том, что готовы побросать оружие и перейти к римлянам, веря, что там их ждет прощение. На Спартака они взирали с детским доверием в запавших глазах, похожие на раненых зверей, уповающих на помощь мудрого вожака-спасителя. Но он знал, что все кончено; прождав три недели после неудавшегося бегства с помощью пиратов, он решился на переговоры с Крассом. Решение далось ему с болью. Он вспоминал ритора Зосима — тот наверняка взмахнул бы рукавами, произнес речь о Гордости и Чести, раскричался о стыде и беззаконии. Но Зосим умер, а другим хотелось выжить. Слушая по ночам шум волн и вдыхая морской бриз, понимаешь, что честь со стыдом — пустой звук, теряющийся в вечном рокоте прибоя.
Когда Спартак отправился на встречу с Крассом, дожди уже остались в прошлом, близилась весна. Красс распорядился, чтобы помощники Спартака остались за насыпью. Ров ему предстояло преодолеть одному.
По ту сторону его ждала римская стража. Едва увидев римлян, человек в звериных шкурах понял, что вступает в совершенно иной, чуждый мир, и первое впечатление от этого мира было волнующим. Чего стоил один вид ладных, откормленных солдат, их сияющие, уверенные глаза, сверкающий металл их лат, тугая кожа ремешков! Стража сопровождала его, не произнося ни слова. Они высокомерно глядели прямо перед собой, скрипя при каждом шаге накрахмаленной тканью и издавая запах помады для волос и ароматных масел. Спартак шагал между ними в своих обвислых шкурах; он был выше их ростом, но спина его была сгорблена, подбородок зарос щетиной. Сначала он старался держать голову прямо, но потом отбросил старания и уронил голову на грудь.
Путь к римскому лагерю оказался долог. Встречные солдаты с любопытством смотрели на приближающуюся стражу, ведущую куда-то рослого мужчину в одеянии лесоруба с гор, но не образовывали для них живого коридора. Все они были опрятны, бодры, олицетворяли довольство. При приближении Спартака они умолкали, трогая друг друга за плечи, чтобы смотрящие не в ту сторону повернулись. В их незамутненных глазах не было враждебности, одно вопросительное изумление.
На подходе к лагерю им встретились три офицера. Те дружно обернулись, чтобы полюбоваться символическим зрелищем. Один из офицеров, щеголь в ладной одежде для верховой езды, был не ниже Спартака ростом, черты лица имел правильные и строгие. Стражники, эскортировавшие Спартака, отдали офицеру честь, тот же не шелохнулся, разглядывая человека в шкурах. Приподняв брови, он холодно осмотрел шкуры, драную обувь, постукивая себя по бедру хлыстом в такт шагу стражников.
Наконец, показались первые палатки. Свернув на главную улицу лагеря, они увидели марширующий им навстречу батальон. Защищенные кольчугой ноги взбивали пыль так дружно, что общий шаг производил один короткий, внушительный звук. Увидев стражников, ведущих человека в шкурах, командир скомандовал своему батальону свернуть. Колонна подчинилась лихо, даже весело; Спартак успел увидеть только закрытые доспехами спины. Ни один солдат не посмел оглянуться.
Наконец стражники остановились перед шатром командующего. Часовой принял у них человека в шкурах. Стражники развернулись и зашагали прочь, не сказав часовому ни одного словечка. Часовой тоже не обмолвился ни единым словом с человеком в шкурах, а просто провел его, на время утратившего чувство реальности, по ковровой дорожке в просторный шатер, повернулся на каблуках и закрыл клапан снаружи.
Ковер внутри шатра был до того толст, что Спартак ступал по нему совсем неслышно. Он застал Красса сидящим за столом посередине шатра и что-то пишущим. Тот не встал навстречу гостю, даже не поднял глаз. Рукава его тоги с пурпурным подбоем была подвернуты, короткие голые руки, все в «гусиной коже», были аккуратно сложены на столе. Спартак сразу подметил сходство между выражением лица римского командующего и физиономией Крикса. Конечно, жирное лицо римлянина, как и его череп, было чисто выбрито. Но тяжелый, неподвижный, мрачный взгляд из-под набрякших век был точь-в-точь, как у Крикса.
Командующий хлопнул в ладоши и отдал написанное закованному в доспехи адъютанту, деревянно отдавшему честь, но успевшему перед уходом окинуть взглядом человека в шкурах. Спартак сел на диван с другой стороны стола и стал ждать.
Наконец, командующий поднял на него глаза. «Раненый зверь», — подумал Красс и сказал:
— Ты желаешь договориться об условиях сдачи. Условий не будет.
Теперь он не спускал с сидящего раздраженный взгляд. «Приличная форма, меньше печали в глазах, — думал Красс, — и он заткнет за пояс Помпея». Дожидаясь ответа, он приложил к уху ладонь.
— Ты что-то сказал?
Спартак был покорен изящной латынью командующего. На столе стояла маленькая квадратная чернильница из граненого стекла с дырками со всех сторон, из которых не вытекали чернила. Ковры на полу и на стенах поглощали все звуки, доносящиеся извне. Покой в шатре отличался от знакомой ему ночной тишины гор: этот покой был мягким и уютным, как диван, на котором он сейчас отдыхал. Ему оказалось нелегко вспомнить, что слова, произнесенные среди этих ковров, решат судьбу двадцати тысяч живых людей и всего италийского восстания.
— Мое правое ухо недослышит, — признался командующий на все той же безупречной латыни. — Если тебе есть что сказать, говори отчетливо.
Спартак по-прежнему молчал, разглядывая стол. Облака, укутывавшие гору Везувий, пророческие словеса старого массажиста, хриплые разглагольствования маленького защитника — все это сделалось в шатре нереальным, все вобрала в себя маленькая граненая чернильница. Главным здесь была тишина. Вид командующего, приложившего пухлую ладонь к уху, был кляксой, замазывающей все, что думалось и говорилось там, за рвом.
— Тебе известно наше положение, — заговорил Спартак. — От гибели двадцати тысяч человек никто не выиграет.
Красс чуть заметно пожал плечами. Он по-прежнему думал о том, как выглядел бы и вел себя Помпей на месте его собеседника. Возможно, тот смотрелся бы еще более жалким, этот варвар, по крайней мере, не ломает комедию. Надо полагать, таким же низким голосом, с таким же фракийским акцентом он отдает приказания своим сообщникам, сидя в седле. Крассу было нетрудно представить его совершающим победный въезд в Рим, бесстрастно взирающим из-под триумфальной арки на ликующую толпу. Все зависит от того, в какое время приходит человек в мир, думал Красс. Время может толкнуть его в кучу отбросов, а может сделать творцом истории. Родись этот раненый зверь веком раньше или веком позже — и он сумел бы перевернуть мир, заткнув за пояс Александра и Ганнибала.
— Иными словами, вы безоговорочно капитулируете, — сказал Красс.
— Это зависит от того, что произойдет с моими людьми, — сказал Спартак.
— Решение примет римский сенат.
Спартак немного помолчал, потом проговорил:
— Речь не о вожаках, а о рядовых и о женщинах.
— Извини, — сказал Красс. — Мы толкуем здесь о безоговорочной капитуляции. Все остальное во власти сената.
Спартак молчал, сверля взглядом дыру в граненой чернильнице. Их разговор все еще казался ему нереальным. Почему из шести дыр в чернильнице не выливаются чернила? Потом он разглядел внутри стеклянного куба маленький сосуд, опирающийся на обод; как ни повернуть куб, сосуд принимал горизонтальное положение. Спартаку было приятно, что он разгадал загадку. Он улыбнулся.
Двое ординарцев принесли вино, кубки, финики в сахаре, сушеные фрукты, оставили все это на низком трехногом столике и удалились.
Проследив взгляд Спартака, Красс взял чернильницу и наклонил ее. Он, в отличие от гостя, не улыбался.
— Видел когда-нибудь что-то подобное?
— Нет, не видел.
Красс протянул ему чернильницу. Спартак повертел ее, наклонил так и эдак и поставил на стол.
— Вот наши условия: рабы могут вернуться на места прежней службы, не опасаясь наказания, остальные вступают в твою армию.
Красс опять пожал плечами.
— Изволишь шутить? Наверное, ты плохо разбираешься в римском военном праве. И потом, такие решения принимает только сенат. В моих силах только рекомендовать ему проявить снисхождение.
Спартак покачал головой.
— В таком случае мне придется уйти. Наше условие: мы расходимся, все становится, как было прежде. Но сначала тебе придется отвести армию, чтобы мы не попали в ловушку.
Красс отпил вина, отправил в рот горсть сухих фруктов. Он предвидел, что переговоры не принесут результата, и согласился на встречу в основном из любопытства. В его власти было приказать арестовать человека в шкурах и немедленно его вздернуть; однако победа была ему обеспечена в любом случае, и ему не хотелось превращаться в мишень для оппозиционных трибунов. Он указал жестом толстой короткой руки на второй кубок.
— Боишься яда? — спросил он без тени улыбки.
Спартак покачал головой. Его мучила жажда, и он осушил кубок одним глотком. Вино оказалось сладким, густым, крепким — такого он никогда не пробовал. Тишина в шатре становилась невыносимой.
— Условия касаются только рядовых и женщин, — проговорил он. — На вожаков они не распространяются.
— Понимаю, — сказал Красс, медленно пережевывая финики. — Трогательный замысел: вожаки приносят себя в жертву, спасая остальных и надеясь на памятные надгробия с прочувственными надписями от имени сената. Странное у тебя представление о временах, в которые мы живем.
Спартак выпил второй кубок. Ему было странно, что этот жирный полководец мирно судачит с ним на своей отменной латыни, пожевывая сухие фрукты. Надо полагать, язвительный лысый защитник использовал для его портрета многовато черной краски.
Красс поглядывал на человека в шкурах, как привык поглядывать на Катона во время их обеденных споров. У него даже появилось желание развить тему.
— Что вы вообще знаете о нашем времени? В революции вы — дилетанты. Вам приспичило отменить рабство, но вы даже не подумали о том, что в таком случае пришлось бы закрыть все каменоломни и рудники, отказаться от строительства дорог, мостов, акведуков, поставить крест на морской торговле и всех перевозках, вообще низвести мир до уровня первобытного варварства. Ибо слово «свобода» наделено для современного человека единственным смыслом: не работать. Если бы ваши намерения были серьезны, вам бы пришлось изобрести новую религию, делающую из труда культ и объявляющую горький пот амброзией. Извольте тогда провозгласить рытье рвов и починку дорог, пиление досок и греблю на галерах судьбой и главным достоинством человечества, а праздность и ленивое созерцание заклеймить как презренные и наказуемые пороки. Вопреки опыту, накопленному человечеством, вам пришлось бы кричать на всех углах, что нищета — благословенное состояние, а достаток — проклятие. Ленивые и беспутные боги Олимпа были бы свергнуты с тронов, а их места заняли бы новые боги, отвечающие вашим целям и интересам. Но ничего этого вы не потрудились осуществить. Ваш Город Солнца погиб, потому что вы не смогли создать нового бога и призвать ему на поклонение новых жрецов.
Спартак покачал головой.
— Все жрецы и пророки — мошенники, — молвил он. — Нам они были без надобности, и все равно к нам примкнули многие тысячи. Сам знаешь, среди них не только рабы, но и крестьяне, согнанные богатыми землевладельцами с наделов. Крестьянам и мелким арендаторам нужна не новая религия, а земля.
— Извини, — сказал Красс. — Опять ты не полностью прослеживаешь связь между причиной и следствием. Почему, по-твоему, италийское крестьянство позволило олигархам скупить земли и оторвать его от корней? Не потому, конечно, что крестьяне — невинные овечки, как ты утверждаешь, а потому, что завоз зерна из-за морей так сбивает цену, что выжить способны только крупные землевладельцы. Если доводить все это до логического завершения, то вы должны были бы потребовать, чтобы Рим отказался от своих колоний, чтобы замерла мировая торговля, чтобы Земля сжалась до размера горсти, чтобы остановился всякий прогресс. Так что все ваши любительские потуги делать реформы, начиная с Гракхов, по сути ультрареакционны. Пока не изобретен новый бог, пока не заявлено, что варварские народы ровня нам, пока их не заставят производить по той же цене, что и мы, — до тех пор истинными поборниками прогресса остаются, невзирая ни на что, те две тысячи римских аристократов и бездельников, которые заставляют горбатиться на них весь остальной мир, однако благоприятствуют прогрессу, хоть и не знают, как это у них выходит. И так будет продолжаться до тех пор, пока раздувшееся брюхо нашего государства не лопнет и всех нас не приберет дьявол.
Закончив свою тираду, Красс с довольным сопением приложил к уху ладонь, чтобы выслушать возражения. Но Спартаку нечего было ответить; он даже сомневался, что, окажись на его месте благочестивый массажист или ловкий стряпчий, они нашли бы в речах Красса изъян. Он вдруг понял, что его условия отклонены, что его люди находятся в безвыходном положении, и в нем вскипела бессильная ярость. Зачем он превратился в почтительного ученика, внимающего снисходительным наставлениям, почему не ушел, как только стало ясно, что переговоры провалились?
Ненависть и отчаяние забурлили у него в горле и заставили забыть о смущении.
— Раз ты постиг все причины и все следствия, — заговорил он хрипло и так громко, что командующий удивленно приподнял брови, — раз ты знаешь все, в том числе и то, что рано или поздно это ваше государство приберет дьявол, то зачем же требовать от нас безоговорочной сдачи и тем еще больше усугублять несправедливость?..
Он собирался продолжать, но Красс оборвал его величественным жестом.
— Извини. Вспомни, что человеку обычно отведено каких-то пятнадцать тысяч дней жизни. Прежде чем Рим рухнет, минет несравненно больше дней. Я лишен чести знать своих правнуков, а посему не могу себе позволить навредить им своими поступками.
Он отпил вина, невесело глядя на Спартака. Тот перестал гневаться так же быстро, как разъярился. Его по-прежнему поражало внешнее сходство между командующим и Криксом. «Жри, или сожрут тебя», — говаривал Крикс. Если разобраться, то римлянин, изъясняющийся на изысканной латыни, говорит о том же самом: надо быть дураком, чтобы заботиться о будущем.
Он выпил третий кубок и снова подивился вкусу и аромату — еще более странным.
Красс наблюдал за ним. Если ему удастся принудить противника к сдаче, то консульство будет ему обеспечено, причем еще до возвращения Помпея из Испании. Конечно, он был с самого начала готов к неудаче в переговорах, но оставалась последняя возможность, которую он не собирался упускать.
— Пятнадцать тысяч дней, — повторил Красс, подпирая руками подбородок. — У меня их остается тысяч пять, и потомство никак их мне не возместит. Судя по всему, тебе осталось жить десять, от силы двадцать дней. С какого угла на это ни взглянуть, разница налицо; но и тебе потомство не возместит этой разницы. А вот я смог бы это сделать. В случае сдачи судьбу всех твоих людей будет решать сенат, зато в отношении тебя самого существуют разные варианты. Скажем, документ на имя римлянина и корабль до Александрии.
Он замолчал и мрачно уставился на Спартака.
Тот нисколько не удивился: едва появившись в до странности тихом шатре, он чувствовал, что это произойдет, вернее, что нечто, уже испытанное им раньше, будет повторено. Когда же с ним происходило нечто подобное? Давным-давно, в трактире на Аппиевой дороге, Крикс сказал ему: «Если бы мы с тобой сбежали сейчас, за деньги нас пустили бы на борт корабля без лишних вопросов». Это было в незапамятные времена, в самом начале; и вот теперь, когда близится конец, Крикс обращается к нему в последний раз устами бритоголового римского командующего. Крикс всегда оказывался прав.
Наверное, и теперь оба эти толстяка с унылыми глазами правы. «Жри, или сожрут тебя» — разве кто-нибудь придумал что-либо лучше этого? Десять тысяч дней — где божество, которое позволит ему дожить положенное? А его полчище, мужчины и женщины по ту сторону рва, все равно не избегнут своей судьбы и погибнут — что с ним, что без него. Кому он сделает лучше, если присоединится к ним?
В Александрии он не бывал, но знал про широкие светлые улицы, про женщин. Это — и тысяча дней, помноженная на десять… «Что мы будем есть в Александрии?» — «Дроздов и свинину — вот что мы будем есть в Александрии!» — «Что будем пить в Александрии?» — «Вино с Кармеля и с Везувия — вот что мы будем пить в Александрии». — «Каковы будут девушки в Александрии?» — «Как разломленные апельсины — вот каковы будут девушки в Александрии…» Нет, в Александрии он не бывал, но все равно знал, как шевелит ночной ветер листья на широких улицах, знал, какую тоску вызывают незнакомые женщины. Судя по всему, в Александрию ему все равно не попасть.
Красс сидел за столом, смотрел на него, ел финики и ждал. Спартак покачал головой. Красс выплюнул косточки, встал и хлопнул в ладоши. Спартак тоже встал. Клапан шатра открылся, и Спартак увидел стражников, проводивших его сюда от рва.
— Я ожидал именно такого результата, — сказал Красс. — Тем не менее любопытно узнать, какие причины вынудили тебя отклонить мое предложение, которое тебе самому очень выгодно, а на участь твоих соратников все равно никак не повлияет.
Спартак стоял посреди шатра; теперь, когда встали они оба, было видно, что он выше римского командующего на целую голову. Он улыбнулся, немного смутившись: как объяснить такое толстяку в тоге? И тут же он вспомнил старого эссена.
— Дорогу надо пройти до конца, — сказал он тоном, каким объясняют непонятное упрямым детям. — Иначе порвется цепочка. Так должно, и о причине лучше не спрашивать.
Видя, что толстяк совершенно его не понимает, он взял со столика кубок из-под вина.
— Нельзя оставить после себя ни капли. — И он с улыбкой допил вино. — Чтобы можно было передать свой кубок чистым Следующему, Кто идет за тобой.
Он вышел к одетым в железо стражникам, и те так же молча повели его обратно ко рву.
V. Битва на Силаре
Через неделю после встречи с предводителем рабов Спартаком Красс совершил главную в своей жизни, непоправимую ошибку. Получив донесение о том, что Спартак и остаток его армии вырвались из Бруттии и оказались на внешней стороне рва, он, потеряв голову, отправил в римский сенат послание с просьбой вызвать из Испании Помпея ему на подмогу.
Прорыв произошел холодной, снежной ночью. Остатки армии рабов, кое-как сколоченные Спартаком в подобие армии для последней, отчаянной попытки спастись, застали врасплох Третью когорту Катона, стоявшую на западном побережье, у Эуфемийского залива, и прорвались на север. Чтобы побыстрее увести подводы с больными, ранеными и детьми, они заполнили ров стволами деревьев, сучьями, снегом, павшими лошадьми и задушенными пленными из Третьей когорты. Вырвавшись на простор, двадцать тысяч людей устремились на север по снегу, гонимые голодом. Их ждал враг, значительно превосходивший их силами. Они знали, что впереди смерть, но не сворачивали в сторону.
Прошел всего один день, и Красс понял, что прорыв был вызван отчаянием и что противник не представляет для него серьезной угрозы. Но было уже поздно. Долгие годы аккуратно и осторожно строил он ступенька за ступенькой лестницу, чтобы подняться по ней на самую вершину: давал беспроцентные займы, жевал сухие фрукты и ждал счастливого поворота событий, благодаря которому Власть сама упадет к его ногам, как перезревший плод. Хватило часа, чтобы перечеркнуть все его труды. Вызванная паникой мольба о помощи навсегда поместила его ступенькой ниже Помпея.
Впоследствии Красс и сам не мог понять, каким образом потерял голову тем зимним утром. Восемью днями раньше человек в звериных шкурах сидел на диване напротив его стола, неуклюжий и смущенный, и играл с его чернильницей; по прошествии месяца он был разбит армией Красса наголову. Но в промежутке судьба жестоко насмеялась над Крассом, так его напугав, что хватило даже тени безобидного пастуха, чтобы он совершил политическое самоубийство.
За последующие восемнадцать лет, или шесть тысяч пятьсот дней, которые Крассу еще было суждено протянуть, не было ни одного, когда бы он не задумался над этим вопросом. Проклятый вопрос не оставил его даже в месопотамской пустыне, у города Синната, когда он бесславно умирал от удара кинжалом, нанесенного парфянским конюхом. Потом окровавленную голову человека, понявшего, что деньги могущественнее меча, подавившего опаснейший бунт в истории Италии и мечтавшего стать римским императором, актеры вынесли на сцену одного из княжеских дворов Малой Азии… Князя звали Ород, а на сцене ставились «Вакханки» Еврипида в честь бракосочетания наследника престола. В разгар действия гонец привез с поля боя только что отрубленную голову Красса. Актер, изображавший Агаву, заменил кукольную голову Пенфея мертвой головой банкира Марка Красса и исполнил положенную по роли неистовую песнь с удвоенным чувством.
Когда Красс послал сенату свою мольбу о помощи, Помпей уже успешно завершил боевые действия в Испании и возвращался домой. Крассу хотелось покончить с восстанием рабов еще до того, как Помпей высадится в Италии. Рабам, на протяжении трех лет скитавшимся без цели и надежды по Италии, тоже хотелось приблизить свой конец. Развязкой стало сражение на реке Силар, в котором полегли почти все.
Накануне сражения в лагере рабов появился старик по имени Никос, бывший слуга хозяина гладиаторской школы Лентула Батуата, проделавший пешком весь долгий путь из Капуи в Апулию. Его появление сильно удивило воинов, составлявших с самого начала костяк армии и знавших его с прежних времен; Никоса немедленно отвели в палатку Спартака, где он, старый, высохший и немощный, повел речь о последней битве.
Человек в шкурах принял его радушно, но почти не удивился, потому что уже разучился удивляться; все, что с ним происходило в эти последние дни, казалось давно знакомым и ожидаемым.
— Наконец-то ты с нами! — приветствовал он старого Никоса. — Мы давно тебя ждем. Ты всегда твердил, что мы плохо кончим. Ты успел вовремя, чтобы увидеть, как сбудется твое пророчество.
Старый Никос важно кивнул. Он плохо видел: глаза затянула катаракта. Тем не менее даже полуслепой не мог не заметить, как изменился человек в шкурах со времени их последней встречи под Капуей: от былого высокомерия не осталось следа. На бывшего гладиатора снизошел мир, взор его был печален, но светел.
— Прошло немало времени, — заговорил Никос, — я состарился и почти ослеп, прежде чем понял, что человеку не дано убежать от своей судьбы. Сорок лет провел я в услужении, потом получил свободу и возгордился, потому и произносил такие глупые речи в храме Дианы на горе Тифата. А теперь, когда ты достиг конца своего пути, я явился к тебе.
— Значит, ты больше не считаешь, что я шел дорогой зла? — спросил Спартак с улыбкой.
— Этого своего мнения я не изменил, — ответил Никос. — Ты шел дорогой зла и разрушения, и все же я присоединился к тебе, чтобы разделить твой конец. Я знаю больше тебя, ибо я родился в неволе, и потому я с тобой. А ты успел пожить у себя в горах, хоть и не так долго, чтобы почувствовать пределы свободы. Ты считаешь себя свободным человеком, а на самом деле барахтаешься в сети, сплетенной из множества нитей. Нити эти — день и ночь, твой сосед, непонятность женщины, чуждое мерцание звезд… Вот они, границы, за которые тебе не выйти, вот они, сети, уловляющие человека. Нет чувства, которое ты мог бы прочувствовать до конца, и нет мысли, которую ты мог бы целиком продумать. Одно лишь тебе всецело под силу: служить.
Спартак покачал головой.
— Зачем тогда ты к нам пришел?
— Твой путь — не мой путь, но конец у нас один, — отвечал старик. — Всех нас ожидает мир. Свобода обнесена стенами. Можешь биться о них с разбегу головой — стена устоит, только набьешь шишек. Ничто на свете не достигает совершенства, все старания обречены на поражение. Даже дела, которые ты считаешь благими, отбрасывают недобрую тень. Так будут же благословенны служащие и угнетенные, страдающие от зла, ибо им уготован мир. Потому я и пришел к тебе.
— Добро пожаловать, отец, — сказал ему Спартак с улыбкой, — пусть в твоей старой голове и заводятся разные нелепые мысли. Немногие из тех, кого ты знал, остались в живых. Живые приветствуют тебя!
В сумерках на ближнем холме зажглись факела римлян. В обоих лагерях велись последние приготовления к битве. Красс произвел короткий смотр своих сил: проскакал на белом коне вдоль боевых порядков пехотинцев, нисколько не воодушевившись от вида сияющих доспехов, образовавших на склоне холма железную стену. Солдаты не услышали от командующего ни слова ободрения, зато заметили, что он не перестает жевать свои засахаренные фрукты.
Спартак тоже выстроил свое разношерстное босое воинство на вершине холма и здесь, на глазах у римлян, приказал воздвигнуть крест с приколоченным к нему пленным римлянином. То был последний смотр его потрепанной армии, парад истерзанных и отчаявшихся. Столпившись вокруг креста, на котором извивался истекающий кровью римлянин, люди не могли взять в толк, в чем смысл этого чудовищного представления. Тогда человек в шкурах сказал им, что эта картина должна глубоко засесть в их памяти, ибо такая же участь уготована любому, кто сдастся или попадет к римлянам живым. Это люди поняли, и Спартак знал, что понят.
Он велел привести ему лошадь — белого коня претора Вариния, подвел его к кресту, погладил по морде и сам перерезал ему горло.
— Мертвецам кони ни к чему, — сказал он онемевшей толпе. — А живые возьмут себе новых коней.
И, распорядившись раздать остатки еды и вина, ушел в свою палатку.
Ночью остатки великой армии рабов в последний раз ели, пили, любили женщин. По склону соседнего холма сновали, как светлячки, огоньки — факелы во вражеских руках. Иногда порывы ветра доносили обрывки песен, распеваемых римлянами, — веселых, дерзких песен, прославляющих родину, пьяных от вина и от близости победы.
Долетали обрывки римских песен и до палатки тщедушного защитника Фульвия, писавшего при свете масляного фитиля свою хронику, которую ему уже не суждено было закончить. Вслушиваясь в пьяные римские голоса, он вспоминал последние дни глупого города Капуи, патриотов, шествовавших по улицам под развевающимися флагами, потрясавших копьями. Вспоминал он и трактат, который начал в свое время сочинять и который тоже останется неоконченным. У лысого защитника сжималось сердце: из распахнутой палатки были видны гибельные красные точки вдалеке, внушавшие ему унизительный страх. Эту ночь он предпочел бы не проводить в одиночестве. Он свернул пергамент, погладил его пальцем и побрел по темному лагерю к палатке эссена.
Тот вел яростный спор со стариком Никосом из Капуи. Два старика сидели рядышком на циновке, тянули по очереди из кувшина горячее вино на клевере и корице и никак не могли достичь согласия по поводу судеб мира. Они не слышали ни бряцанья римских копий на соседнем холме, ни кровожадных песен врага. Теплый ветер колыхал палатку, донося отзвуки песен.
— Слышишь эти злобные звуки? — спрашивал старый Никос, чмокая старческими губами и глотая горячее вино. — Теперь ты видишь, куда приводит насилие? Вот она, язва энтузиазма!
Эссен яростно затряс головой, не желая соглашаться.
— Без энтузиазма нет жизни, без него человек сохнет, как дерево без корней. Но энтузиазм бывает двух видов: веселый, порожденный самой жизнью, и мрачный, питаемый смертью. Верно, энтузиазм второго вида встречается куда чаще. Ведь боги с самого начала лишили человека безмятежного веселья, научили подчиняться запретам и отказываться от своих желаний. Этот смертельный дар отречения, отличающий людей от остальных живых существ, превратился в их вторую натуру, и они прибегают к нему как к оружию, борясь друг с другом, как к средству подавления многих немногими, как к способу угнетения. Необходимость самоотречения растворена у них в крови от начала времен, поэтому они способны видеть благородство только в таком энтузиазме, какой подразумевает отказ от самих себя, от своих интересов. Но не относится ли любое отречение к области смерти, ибо противоречит жизни? Так можно, наверное, объяснить, почему человечество всегда было более отзывчиво к смертельному энтузиазму, к враждебным жизни массовым порывам.
Защитник присел с ними рядом и налил себе вина. Страх перед красными огоньками немного отступил: стоило ему войти в палатку, как его обволокло теплом и покоем.
Старик Никос сильно сердился на речи эссена, но его собственные слова становились все неразборчивее.
— Благословенны робкие, которые служат и не сопротивляются, — гнул он свое. — Ты говорил об энтузиазме зла, словно существует какой-то еще. Но разве это возможно? Всякая страсть есть зло.
— Другой энтузиазм, — вмешался в спор защитник, поглаживая свой шишковатый череп, — это тот, что ведет не к самоотречению, а к возвышенному наслаждению жизнью. Верно, привычка соблюдать запреты, отождествление самоограничения с добродетелью, восхваление смерти как наивысшей жертвы, все это опьянение черными соками превращают любой другой энтузиазм в низменный и недостойный. Разве не дурацкий порядок вещей заставляет нас искать удовлетворения своих желаний в самых низких, недостойных занятиях? Лавочник пользуется утяжеленными гирями, иначе ему не выжить. Раб придумывает, как бы обобрать хозяина; крестьянин должен быть суров и злобен — в противном случае всех их ждет гибель. И разве не все, что служит жизни и интересам живого человека, так же низменно и недостойно? Разве не одни их противоположности — самоотречение, жертва, смерть — возвышенны и достойны энтузиазма? Убожество повседневного существования сделало людей невосприимчивыми к ясному, радостному энтузиазму, толкает их к опьянению черными соками. Вот что вынуждает людей действовать вопреки интересам других, когда все разбиты по одному, и вопреки своим индивидуальным интересам, когда они собираются в толпы…
А ведь именно так назывался задуманный им трактат! Было бы время, он обязательно его дописал бы. Но теперь было слишком поздно.
Защитник покашлял и погладил свою лысину. Он бы все отдал, чтобы оказаться прямо сейчас у себя на чердаке, за столиком, под деревянным брусом! Дурни на соседнем холме поют и потрясают копьями, готовые поступить вопреки своим собственным интересам и выпустить кишки из него, хрониста Фульвия. Зачем смиренному писателю было пускаться в приключения, перелезать через стены, подвергать себя смертельной опасности и так бесславно гибнуть, когда можно было остаться за письменным столом, под бревном, неизменно наводящим на удачные мысли?
Фульвий поспешно осушил свою чашу.
— Разумеется, — продолжил он, — светлый, жизнеутверждающий энтузиазм тоже должен готовиться к жертвам, ибо и его часто не минует смерть. Разница заключается в способе умирания: либо ты предоставляешь смерть в распоряжение самой жизни, либо отдаешь жизнь в рабство к смерти. Да, жить ради смерти, как делают солдаты, потрясающие копьями, легче, чем умереть ради жизни и светлых радостей, как того требуют иногда законы обходных путей.
Старик Никос дремал в углу, невпопад кивая. Но эссен еще бодрствовал и настороженно качал круглой головой,
— Возможно, это наша последняя ночь, — проговорил он. — Город Солнца сожжен дотла, человечество опоено черными соками, Бог разочарован Самим Собой. Это Он все начал, и гляди-ка, все с самого начала пошло не так. Стоило Ему сотворить жизнь в небесах, на суше и в воде, как все Его твари принялись друг дружку пожирать. Естественно, это Его расстроило; желая спасти лицо, Он объявил, что все живые существа пожирают друг друга согласно Его закону и что большое всегда должно поглощать малое. В таком порядке нет ничего диковинного, вот если бы было наоборот, тогда другое дело…
— Так не бывает, — пробормотал старик Никос, очнувшийся от чуткого старческого сна.
— Разве Он не Бог? — воскликнул эссен, огорченно качая головой. — Такое устройство, как у нас, любому под силу, для этого необязательно быть богом. Со зверями и то получилось не совсем хорошо, а с людьми и подавно из рук вон плохо: с первых же дней Он стал с ними пререкаться. Должен сказать, что Он сильно ошибся и с деревом. Если Он не хотел, чтобы мужчина и женщина вкусили некоего яблока, зачем было вешать его прямо у них перед носом? Так дела не делаются.
— Это чтобы они научились смирять себя, привыкли, что существует запретный плод, — объяснил Никос.
— То-то и оно! Ты понимаешь, зачем было изобретать мир, полный запретов, когда можно было без них обойтись? Лично мне это недоступно.
— А я понимаю, — сказал Никос. — Человеку положено отказывать себе, служить и страдать. Благословенны робкие, погибающие от рук злодеев.
— Сотворение мира этого не предусматривало, — возразил эссен, морща свой нос фавна. — А если предусматривало, значит, план был с самого начала ущербен, и было бы лучше, если бы Он зарекся претворять его в жизнь.
И эссен, покачав по привычке головой, пал на колени и сотворил утреннюю молитву.
Звуки римских труб звучали все громче. Еще не рассвело, но ночь близилась к концу.
Спартак лежал на подстилке в своей палатке. Ему тоже не хотелось оставаться этой ночью одному, поэтому рядом с ним сопела худенькая темноволосая женщина, почти ребенок. Он давно не обращал на нее внимания; в Городе Солнца она ни разу не переступила порог шатра под пурпурным стягом. Иногда ее видели с Криксом, но чаще — одну. Она подолгу скиталась вдали от Города, совсем одна, днями не выходила из лесу, спала под поваленными стволами деревьев или под меловыми валунами Лукании. Как-то раз на нее набрел пастух из Братства, искавший заблудившегося барашка: она лежала на камнях, разговаривала вслух, хотя рядом не было ни души, и закатывала глаза. Пастух окликнул ее и сильно напугал: она смотрела на человека, как на исчадие ада. Но, опомнившись, сказала, что он найдет своего барашка там-то, за дальним холмом, в долине, у хижины, которую отсюда никак не разглядеть. Он пошел туда, куда она его послала, и нашел барашка. С ней часто происходили такие чудеса, поэтому она прослыла провидицей и ясновидящей, для которой будущее — открытая книга.
Такая репутация сопровождала ее давно, еще с тех пор, когда она были жрицей фракийского Вакха и орфического культа. Разве не она нашептала Спартаку о том, какую власть он обретет, когда он прозябал жалким цирковым гладиатором? Он спал тогда, распластавшись на полу, а женщина наблюдала за змеями, свернувшимися вокруг его головы и не причиняющими ему вреда; так она узнала, что готовит ему судьба.
Спартак долго ее избегал — по слухам, потому, что не хотел чувствовать на себе темную, непонятную силу, которой она наделена. Говорили, что он не желает иметь ничего общего с миром тьмы с тех самых пор, как повел переговоры с послами и дипломатами из Азии и взял в главные советники лысого защитника. Когда же Город Солнца превратился в руины, он снова взял ее к себе; и вот сейчас, когда до рассвета оставалось все меньше времени, она мерно дышала у него под боком — тонкая, изящная, непостижимая даже в мгновения самых жарких объятий.
Раньше он сторонился ее из-за ее потустороннего могущества, теперь же именно из-за него тянулся к ней. Ведь и он видел красные огоньки на соседнем холме, слышал, как римляне распевают свои свирепые песни, пьяные от уверенности в победе; знал, что эта ночь для него последняя, и очень хотел узнать, что будет потом, когда он перестанет дышать, когда для него уже не будет всходить солнце. Фракийских богов он давно позабыл, а обращаться к престарелому эссену стыдился; к тому же ему мнилось, что женские объятия скорее подскажут ему ответ, чем общество всех жрецов и колдунов на свете.
Потому она и лежала теперь рядом с ним, стараясь отдышаться. Но ответа не прозвучало, а сама она стала ему еще более чужой, чем раньше. Он лежал неподвижно, страдая по ответу на свой вопрос. Он искал его в прикосновении к ее телу, а теперь пытался разглядеть у нее в глазах, но она смутилась и отвернулась. Тогда он разочарованно отпустил ее, зная, что ответа нет и здесь.
Поднявшись, он вышел из палатки и пошел по темному лагерю, проверяя часовых, слушая хрип петухов и гортанную римскую трубу. В палатку он вернулся усталым и продрогшим. Женщина ушла, но в палатке остался ее запах, подстилка сохранила ее тепло. Он лег в углубление, оставленное ее телом, и зажмурился. Зная, что ответа уже не получить, он обессилено уснул.
Не получил он ответа и наступившим днем, когда произошла битва на реке Силар, в которой погибла и вся его армия, и он сам.
Бой начался перед самым рассветом. Рабы первыми пошли в наступление. Африканские барабаны — обтянутые кожей деревянные ящики — зарокотали в предрассветных сумерках, словно подземный гром, предвещающий землетрясение. Место столкновения было холмистым, лишенным растительности. Впереди наступающих скакали на недокормленных клячах луканцы с пращами. Их встретил дождь стрел; дальность стрельбы римских луков превратила их пращи в бесполезные игрушки. Издали луканцы, то рассеиваясь, то сбиваюсь в плотную массу, из которой в римлян летели камни, походили на рой гнуса, обволакивающий наступающую с гортанными криками кельтскую пехоту. Быстро светало. Римляне не дрогнули, но кавалерия на их флангах пришла в движение.
Спартак знал, что не располагает достаточным количеством конницы, чтобы помешать римлянам окружить его. У него не было иного выбора, кроме как ударить в самую сердцевину вражеских боевых порядков и попытаться прорвать тройной строй римской пехоты, прежде чем завершится окружение его обреченной армии. Кельты в тонких, звенящих на бегу латах, с деревянными копьями, топорами и косами, кричали изо всех сил, подбадриваемые африканскими барабанами. Передовая линия римлян как будто заколебалась, но тяжелые копья, бросаемые солдатами второй шеренги, пробивали легкие доспехи кельтов. Третья римская шеренга, железная стена ветеранов, вступила в бой только спустя несколько часов, после нескольких волн атак, неизменно разбивавшихся о нее.
Когда солнце достигло зенита, половины армии рабов уже не существовало; оставшееся босоногое воинство продолжало драться с закованной в доспехи ратью, и усилия их были так же бесполезны, как бой дерева с железом, плоти с броней. То была уже не столько битва, сколько резня: жертвы, ослепленные отчаянием и завороженные ожиданием смерти, сами бросались на мечи своих палачей. Когда солнце начало потихоньку склоняться к западу, римляне завершили окружение рабов, и их бронированные когорты перешли в контратаку, сжимая кольцо и маршируя по трупам.
Бой начался перед рассветом и завершился перед закатом. Армии рабов не стало. Пятнадцать тысяч тел в зловонном рубище, вызывавшем у победителей не интерес, а брезгливость, остались лежать на холмистом берегу реки Силар.
Вожак рабов, гладиатор Спартак, пал незадолго до полудня, как раз перед тем, как достигло зенита дневное светило. Он повел своих фракийцев в атаку на Пятую когорту Красса. Его высокую фигуру в шкурах было легко узнать, но он бесстрашно прорубался сквозь римский строй, орудуя своим гладиаторским мечом. Рядом с ним бились последние два слуги Фанния в ржавых шлемах; Спартак намного обогнал своих воинов, но эти двое смело оставались с ним рядом. Увидав римского офицера в ладной одежде кавалериста, с правильными чертами и суровым выражением лица, с хлыстиком в руке, Спартак решил до него добраться. Он уже зарубил двоих римских центурионов, преградивших было ему путь. Живая каша вокруг него стала пожиже, двое толстошеих остались позади. До офицера оставалось каких-то тридцать шагов; тот тоже узнал Спартака и ждал его, презрительно приподняв тонкие брови.
Кольцо вокруг Спартака снова сомкнулось. Когда их с офицером уже разделяло всего двадцать шагов, копье пронзило ему бедро, а промеж глаз резко ударило что-то тяжелое. Даже падая, он не спускал взгляд с офицера, так и не изволившего шелохнуться, если не считать похлопывания хлыстиком по голенищу. Но теперь он не испытывал к высокомерному врагу никаких чувств. Проехавшись щекой по глине, он закрыл глаза.
Где-то вдали, за багровым туманом, еще громыхало сражение, мужчины упрямо пронзали друг друга мечами и тяжело оседали наземь. Чьи-то ноги безжалостно топтали его, тело разрывалось от невыносимой боли, но боль эта тоже наплывала откуда-то издали, из-за красных облаков.
«Все?» — успел подумать он, перевернулся на живот и впился зубами в глину. У глины был горький вкус. «Все?» Глина набилась в рот, застряла между зубами. Таким и нашли под вечер предводителя италийской революции под дырявыми козлиными шкурами, пропитавшимися кровью: с набитым землей ртом, с кулаками, полными камешков и глины.
VI. Кресты
Восстанию в Италии был положен конец. Пятнадцать тысяч трупов остались лежать на холмистом берегу реки Силар; четыре тысячи женщин, стариков и недужных, не участвовавших в битве и не успевших наложить на себя руки, были захвачены римлянами живыми. Рим облегченно переводил дух и расправлял плечи. По всей Италии развернулась охота на людей, какой еще не бывало в истории.
Пастухи с луканских нагорий, крестьяне и мелкие арендаторы Апулии стали жертвами легионов Красса. Всякий, кто владел менее чем одним акром земли или двумя коровами, подозревался в симпатиях к восставшим и либо погибал, либо похищался. Одну четвертую всех рабов Италии ждала смерть. Бунтовщики оросили страну кровью, победители же превратили всю ее в бойню. Небольшие отряды прочесывали деревни, распевая патриотические песни, ставили на рыночных площадях кресты, насиловали женщин, калечили скот; по ночам хижины рабов пожирал огонь — то полыхали факела победы. Италия, упившаяся черным соком, славила полководца, с помощью которого законность и порядок одолели мощь Тьмы, — Помпея Великого.
Помпей и его армия вернулись из Испании как раз вовремя, чтобы перехватить в Апеннинах небольшой отряд беглецов. Одержав над ним славную победу, Помпей разрешил своим легионам устроить охоту на людей в их собственной стране, чтобы вознаградить за лишения, которые те терпели в Испании, и доложил в сенате, что Красс разгромил рабов, зато он, Помпей, вырвал революцию с корнем.
Помпей был удостоен триумфа: он въехал в Рим на колеснице, запряженной четверкой белых верховых скакунов. В правой его руке был лавровый венок, в левой — жезл из черного дерева. Его бессмысленная физиономия была нарумянена, толпа восторженно ревела; настроение ему портил разве что государственный раб, державший у него над головой золотую корону Юпитера и слишком часто повторявший ритуальные слова: «Помни, что смертен».
Красс же удостоился всего-навсего овации и пешего вступления в Рим в сопровождении горстки солдат; в знак особой признательности ему, правда, позволили увенчать себя не миртовым, а лавровым венком. И тем не менее возвращение банкира Красса стало зрелищем, заставившим содрогнуться весь мир, никогда не видавший ничего похожего. Шествие Помпея началось на Марсовом поле и завершилось через две мили, перед Капитолием; Красс же воздвиг два ряда деревянных крестов вдоль всей двухсотмильной Аппиевой дороги. Шесть тысяч захваченных живьем рабов с приколоченными к дереву руками и ногами висели вдоль дороги, по обеим ее сторонам, через каждые пятьдесят метров, и так без малейшего промежутка, от Капуи до самого Рима.
Красс двигался медленно и часто отдыхал. Вперед он выслал инженерные войска — сколачивать кресты к его появлению. Пленных он вел с собой, связанных длинными веревками в гроздья. Перед его армией тянулась бесконечная дорога, уставленная пустыми крестами; за собой его армия оставляла кресты с умирающими людьми. Красс не торопился, он приближался к столице прогулочным шагом, трижды в день прерывая марш. Во время отдыха тянули жребий, решая, кому из пленных быть распятыми от этой точки до места следующего привала. Армия преодолевала за день пятнадцать миль и оставляла за день пятьсот живых вех — пятьсот распятых.
Приближение Красса взволновало столицу. Вся аристократическая молодежь и все, кто мог себе это позволить, торопились навстречу армии Красса, чтобы собственными глазами полюбоваться невиданным зрелищем; бесконечная вереница зевак — кто в щегольских экипажах, кто в наемных повозках, кто верхом, кто в кресле на плечах у носильщиков — устремилась по Аппиевой дороге на юг. Самых знатных гостей Красс принимал в своем шатре на привалах: поедая свои финики, он глядел исподлобья и спрашивал, так ли уж понравился приглашенным триумф Помпея. Только тогда до них доходил смысл хитроумного замысла Красса, затмившего прежние его победы — градостроительство и пожарные бригады: раз Рим отказал Крассу в триумфе, Красс сам заставлял Рим устраивать ему торжественную встречу на всем протяжении пути.
Приближалась весна, солнце становилось все горячее, но еще не настолько, чтобы, сжалившись к людям на крестах, тянущихся за армией Красса, добивать их смертельными лучами. Редкому обреченному удавалось подкупить нестойкого солдата из арьергарда, чтобы тот вернулся под покровом темноты к кресту и прекратил его мучения. Красс категорически запретил делать это: не будучи слишком жесток, он тем не менее любил, чтобы любой его замысел претворялся в жизнь во всей полноте и красе — только тогда результат предстает таким, каким его задумывал автор. Впрочем, не полностью лишенный человечности, он отверг общепринятый способ привязывания преступника к кресту в пользу прибивания гвоздями, ускоряющего смерть.
Марш армии из Капуи в Рим продолжался двенадцать дней, и каждый день число распятых вдоль дороги, оставленных на крестах через равные, тщательно промеренные промежутки, прирастало на пять сотен. Те, кто послабее, жили на крестах всего несколько часов, более выносливые — по несколько дней. Особенно везучим гвоздь пробивал артерию, и жизнь стремительно покидала их с фонтаном крови; гораздо чаще, однако, страдали только кости кистей и ступней, и распинаемый, терявший в процессе приколачивания к кресту сознание, потом, при подъеме креста, приходил в себя и разражался проклятиями в адрес всех божеств, каких только мог припомнить. Кое-кто умудрялся отодрать от креста руку или ногу вместе с гвоздем, что приводило либо к падению на землю, либо к усиленному кровотечению; но и этот познавал на собственном опыте, что мучения побеждают даже самую сильную волю. Многие пытались разбить себе о шест затылок; эти убеждались, что среди всех живых существ труднее всего расправиться с самим собой.
Итак, близилась весна. День сменял ночь, ночь гасила день, а в казненных все еще теплилась жизнь, пытающаяся пересилить мучение и боль. Плоть их чернела от гангрены, языки раздувались, звери, гады и птицы бесстрашно подходили, подползали и подлетали вплотную, рыча, шипя и хлопая крыльями. День гнал ночь, ночь теснила день, и не разверзалась земля, не прерывало своего пути по небу солнце. Участь, постигшая тысячи казненных, была несоизмерима с их виной, но то был не мираж боли, а сама адская боль, реальность, от которой не найти спасения в пробуждении. И страдание их было не в прошлом и не в будущем, а в гнойном настоящем, здесь и сейчас.
Судьба берегла хрониста Фульвия и старика с круглой головой до тех пор, пока легионы Красса не вышли к реке Лири. Эти двое были последними, кто остался от первоначальной армии рабов. Пастух Гермий пал, пронзенный копьем, в Апулии, оба Вибия, отец и сын, погибли в битве на Силаре. Худая темноволосая женщина, подруга Спартака, утопилась во время той битвы, когда никто еще не знал о его гибели. Остались только эти двое да еще старик Никос, почти полностью ослепший и спотыкающийся на каждом шагу, связанный веревкой с несколькими пленными.
На берегу Лири им удалось немного посидеть. Все, кому выпал жребий оказаться нынче на кресте, сели в один ряд; руки их были связаны веревкой, над ними стояли солдаты в доспехах. На реке был паводок, крутивший в водоворотах ветки и гнилые овощи, дохлых собак и кошек. Иногда мимо смертников проплывали трупы убитых; пробыв много времени в воде, они уже мало напоминали людей.
Выше по течению, где у следующего речного изгиба разбил лагерь авангард армии, стучали молотки. Свежая партия крестов еще не была сколочена, и ста пятидесяти обреченным приходилось ждать. Длинный ряд людей, связанный веревкой, ждал смерти безучастно, не отрывая глаз от желтых вод реки; с виду они уже почти перестали быть людьми. Некоторые раскачивались и стонали, некоторые причитали, некоторые уткнулись лицом в землю, некоторые раздирали на себе одежду и бесстыдно раздражали свою плоть, словно замыслив лишиться сил и умереть еще до распятия.
Старый Никос несвязно бормотал. На него еще не пал жребий, но из-за слепоты солдаты оставили его с двумя его поводырями.
— Благословенны отрекающиеся от себя и гибнущие от рук зла и порока… — лепетал старик.
Эссен, сидящий с ним рядом, улыбнулся и покачал круглой головой.
— Те благословенны, кто берет меч, дабы покончить с властью Зверя, те, кто строит каменные башни, дабы добраться до небес, те, кто лезет вверх по лестнице, желая сразиться с ангелом, ибо они суть истинные Сыны человеческие.
Стук молотков стал слабее: работа близилась к концу. Рядом с хронистом Фульвием сидел крестьянин из Калабрии, жалкий человечек со спутанной бородой и добрыми выпуклыми глазами. Он жевал сорванный где-то по пути салатный лист, откликался на имя Николао и торопливо рассказывал Фульвию о своей корове Юно, которая уже собралась телиться, когда пришли солдаты, утащили его жену и подожгли новую крышу его амбара. Он прервал свой рассказ, чтобы предложить защитнику салату и спросить, не думает ли он, что солдаты их сперва покормят.
Фульвий откашлялся.
— Лучше уж на пустой желудок, — сказал он хрипло.
В памяти всплыл незаконченный трактат и пергаментные свитки с хроникой, отобранные у него молодым римским офицером. Смерть была ему почти безразлична, но очень пугало то, что будет предшествовать смерти, к тому же беспокоила судьба пергаментных свитков.
Стук стих окончательно; солдаты в латах подняли первый десяток в ряду. Вскоре оставшиеся сидеть на берегу снова услышали мерный стук молотков, приближающийся с каждой минутой, но уже не такой резкий, зато сопровождаемый нечеловеческими выкриками. Сто сорок связанных тихо сидели рядком и прислушивались.
— Благословенны гибнущие от руки порока… — лепетал старый Никос. — Башни, построенные людьми, рушатся, ангел карает дерзкого, полезшего вверх по лестнице, рассечением бедра. Благословенны служащие и не сопротивляющиеся.
Ему никто не ответил. Немного погодя солдаты увели следующую десятку. Защитник Фульвий, эссен и лупоглазый крестьянин находились теперь ближе к краю, в десятке, которую должны были забрать следующей. Эссен покачал головой.
— Горе тому, кто слышит Слово. Он должен нести его и служить ему по-хорошему и по-плохому, пока не сможет передать его дальше.
Тщедушный калабрийский крестьянин поспешно досказывал про корову Юно, боясь не успеть. Прервавшись на полуслове, он спросил, кусая салатный лист:
— Тебе не страшно?
— Любой боится смерти, — ответил ему защитник Фульвий, — только всякий по-своему. А когда приходит время, страх забывается. Ведь сначала человек чувствует только боль, а значит, думает только о себе, а не о том, что умирает; а потом, перед самой смертью, он забывает о себе. Никто не может чувствовать одновременно то и другое — смерть и самого себя.
Бородатый крестьянин яростно закивал. Он не понял ни слова, но ему хотелось верить Фульвию, потому что его речи успокаивали. Сам же хронист Фульвий думал и про то, что с ним сейчас произойдет, и про свои утраченные свитки. Век мертворожденных революций подошел к концу, сторонники справедливости потерпели поражение, силы их были истрачены зря. Ничто теперь не могло помешать алчущим власти, ничто не препятствовало воцарению деспотизма, у народа не осталось никакой защиты. Обладатель самой жестокой хватки мог теперь вознестись на неслыханную высоту, стать диктатором, императором, богом. Кто первым достигнет желанной цели: солдат Помпей, трибун Цезарь, банкир Красс, святоша Катон? Фульвий помнит их всех, ему ли не знать, какими становятся народные герои, когда борются за теплое местечко, как тащат друг дружку на расправу в Комиссию по шантажу, как занимают деньги на игры, стремясь к популярности, как обращаются к сенату — белые, накрахмаленные, каждый что памятник самому себе! В вышине сияет солнце, внизу течет река, руки его связаны, тщедушный крестьянин под боком лихорадочно лепечет про корову Юно, первый в ряду, чернокожий, сидит бесстыдно оголенный. И не замрет солнце в небе, не опустится с облаков лестница, никуда не деться от того, что происходит здесь и сейчас. Только круглоголовый знай себе улыбается.
— Написано: дует и стихает ветер, и не оставляет следа. Приходит и уходит человек и не ведает он ни о судьбе отцов своих, ни о будущем семени своего. Падает дождь в реку, течет река в море, но море не переполняется. Все суета.
Глаза чернокожего закатились, он обессиленно прикрыл свою наготу, упал наземь и рычит, и молится угрюмым богам своей страны.
— Это не утешение, — молвил хронист Фульвий, охрипший от страха, потому что уже видел, как к ним направляются солдаты, одетые в железо.
Эпилог Дельфины
Ночь на дворе, еще не прокричал петух.
Но Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, давно привык, что служивые люди должны вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками! За двадцать лет службы ведьма Помпония так и не научилась правильно выставлять его обувь.
Он тащится к окну и смотрит вниз, в воронку внутреннего двора. Вот и она, старая, костлявая, растрепанная, ползет вверх по пожарной лестнице. Вода, которую она ему приносит, чуть теплая, завтрак тошнотворен — второе оскорбление подряд, хотя утро только началось. Сколько еще оскорблений наберется, долго ли еще терпеть?
Он вспоминает Дельфинов, становившихся когда-то вершиной дня; но и это удовольствие было испорчено, когда рухнули надежды стать официальным протеже судьи. Теперь, входя в мраморный зал, Апроний всякий раз чувствует на себе недобрые, злорадные взгляды.
Он спускается по пожарной лестнице с трясущимися коленками, подобрав полу; он знает, что Помпония, не выпуская из рук щетку, наблюдает за ним сверху и ждет, что он зацепится краем одежды за ограждение… На замусоренной улочке позади дома уже не так темно из-за проклевывающейся зари; мимо него с лязгом и гиканьем катят свои тележки молочники и зеленщики.
Там, где прилавки с благовониями граничат с рыбным Рынком, он встречает отряд рабов, которых гонят на стройку. Рабы снова закованы в кандалы, как во времена Суллы, лица их мрачны и непроницаемы, взоры полны ненависти. Апроний прижимается спиной к стене дома, дрожит, запахивается в плащ.
Наконец, зловещая толпа прошла мимо, и он может продолжать свой путь.
Его внимание привлекает деревянный щит с намалеванным несколько дней назад новым объявлением. Сверху сияет алое солнце, под ним директор игр Лентул Батуат с гордостью приглашает досточтимую капуанскую публику полюбоваться небывалым представлением его новых гладиаторов. Далее следует список участников; гвоздь программы — единоборство галльского гладиатора Нестоса и фракийца Ореста. В антрактах в рядах будут разбрызгиваться благовония; билеты можно купить заранее у пекаря Тита и у распространителей, имеющих на то разрешение.
Апроний знает объявление наизусть. Качая головой и ругаясь себе под нос, он бредет дальше. Надежды на бесплатный билетик давно позабыты. Скоро он достигает места — зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд и где его поджидает следующее унижение — встреча с молодым коллегой, много лет отказывавшимся вступить в «Общество почитателей Дианы и Антония», а потом все равно избранным почетным председателем всего лишь из-за своей нелепой, зато модной прически… Тот, развязный, как петух, расхаживает по залу, раскладывает документы, гоняет курьеров и слуг. Когда появляется, наконец, сам судья в окружении помощников, он кидается подставлять ему кресло, за что удостаивается благодарного кивка.
Идут слушания, противники обливают друг друга грязью, юристы машут рукавами тог, кипы документов растут на глазах — а Квинт Апроний сидит себе и тщательно ведет чуть дрожащей рукой протокол. Строки, выходящие из-под его пера, уже не так красивы, как раньше; миновала пора изящества его каллиграфии, предмета гордости, согревавшего душу.
В полдень пристав объявляет, что слушания закончены. Апроний собирает написанное в стопку, говорит коллегам, что его ждут важные дела, и поспешно ретируется. Разглаживая складки на одеянии, он важно шествует в таверну «Волки-близнецы». Там он придирчиво проверяет, чиста ли его чаша, и отпускает неодобрительные замечания о качестве еды, на что хозяин реагирует с лицемерным ужасом. Поколебавшись и поворчав, он позволяет навязать ему второй кувшин вина — привычка, появившаяся не так давно. На худых щеках писца появляется легкий румянец. Он встает, смахивает с одежды хлебные крошки и отправляется в бани.
Крытый проход, как обычно, полон жизни: люди сбиваются в кучки, чтобы посплетничать, обменяться новостями и польстить друг другу, ораторы и самовлюбленные поэты расхаживают среди колонн. Больше всего народу сгрудилось вокруг двоих, яростно спорящих о достоинствах консулов текущего года. Один, маленький и толстый, славит величие Марка Красса, а другой, подагрик-ветеран, доказывает, сколь велики полководческие таланты Помпея Великого. Кажется, они того и гляди примутся друг дружку тузить, так как уже перешли к оскорбительным взаимным обвинениям: каждый получил якобы за свои ораторские труды по пятнадцать серебреников от выборных воротил из храма Геркулеса. Маленький толстяк утверждает, что Помпей хочет начать новую гражданскую войну, чтобы стать диктатором, потому и расположил свою армию у самых столичных ворот. Ветеран же твердит, что это Красс не распускает свою армию под тем предлогом, будто Республика нуждается в защите от Помпея, хотя и слепому видно, что он сам мечтает стать диктатором…
Апроний пожимает плечами; он уже усвоил урок и знает, что политика — это всего лишь вереница заговоров невидимых сил, только и стремящихся, что обобрать маленького человека, сделать его жизнь еще хуже. Он медленно пересекает зал, берет у дежурного ключи от своего шкафчика и, стараясь не замечать боль в сердце, надевает банный халат.
На халате красные и зеленые полосы, некогда он смотрелся очень щегольски; Апроний заказал его, желая скопировать банное одеяние Руфа, в те дни, когда еще надеялся на светлое будущее. Для этого ему пришлось проводить бессонные ночи, занимаясь переписыванием, даже ограничивать свои порции в таверне «Волки-близнецы» — а что толку? Все равно ткань со временем пообносилась, отовсюду торчат нитки, словно хозяин, заразившись чесоткой, яростно расчесывал себе локти и колени. Всего-то утешения, что яркие краски не потускнели: когда Апроний шествует по коридорам, подбирая полы к острым коленкам, все головы поворачиваются в его сторону.
Вот и Зал дельфинов. Не видя там ни Руфа, ни Лентула Батуата, Апроний облегченно переводит дух. Импресарио недавно обзавелся новым чудесным халатом, на сей раз клетчатым, красновато-желтым; писцу противопоказано это зрелище, ибо всякий раз, видя халат, он едва справляется с желанием заделаться революционером и пойти по стопам убитого Спартака.
Он садится на один из тронов между подлокотниками-дельфинами. Рядом тужатся двое незнакомцев провинциального обличья, тоже развлекающиеся беседой о бывшем гладиаторе, предводителе восставших рабов. Вслушиваясь в их речи, Апроний испытывает все больше удивления: минул уже почти год после смерти фракийца, а более молодой незнакомец утверждает, будто совсем недавно видел его в большом имении на севере, в Умбрии, где рабы убили своего господина. Незнакомец постарше согласно кивает. Сам он с юга, из Лукании, где ходят похожие россказни: многие охотники и пастухи встречали фракийца на укромных горных тропах и слышали от него ласковые речи, после чего он бесследно исчезал. Его нетрудно узнать по звериным шкурам, в которые он одевался и во времена своей славы. И Апулия, и Бруттия полнятся похожими баснями, так что богачи в тамошних городах пугают Спартаком непослушных детей.
Писец недоуменно качает головой и, не справившись с собой, говорит болтунам: всем известно, что вожак разбойников пал в сражении на реке Силар и что труп его был сожжен следующим утром вместе с множеством других трупов.
Младший смотрит на него с неодобрением; его взгляд скользит по халату Апрония, на лице появляется улыбка.
— Почему ты так уверен в его гибели?
— Потому что было найдено его тело, — отвечает Апроний. — Говорят, вид его был ужасен, рот забит глиной. На следующий день его сожгли.
— Откуда ты знаешь? — следует серьезный вопрос. — Другие утверждают, что его пронзили сразу несколько копий, но тело все равно не нашли. Многие ходили к его могиле и видели, что она пуста…
Писец Квинт Апроний, тряся головой, поднимается с мраморного сиденья; даже после бань, по пути домой, он вспоминает странный разговор двух незнакомых людей.
Переплетенье узких улочек Оскского квартала снова тонет в сумерках. Он карабкается по узкой лесенке в свою берлогу, снимает с истощенного старческого тела одежды, аккуратно складывает их и тушит свет. С улицы доносятся мерные шаги: это бредут со стройки рабы. Апроний вспоминает их угрюмые лица и руки в кандалах, и ему представляется, что среди них шагает человек в звериных шкурах с диким и одновременно надменным взглядом, с мечом в руке.
С отчаянно бьющимся сердцем писец Квинт Апроний таращится в ночь. Напрасно он пытается уснуть — слишком велик страх перед снами, которые принесет забытье, Увы, он знает, что сны его всегда полны мрака, а то и зла.
Послесловие к выходу романа в английском издательстве «Danube»
Романы должны говорить сами за себя; автору не годится встревать со своими комментариями между текстом и читателем, по крайней мере до тех пор, пока длится чтение. Поэтому вместо предисловия он пишет послесловие.
«Гладиаторы» — первый роман трилогии (другие два — «Слепящая тьма» и «Приезды и отъезды»), лейтмотивом которой стал центральный вопрос революционной этики и в целом этики политической: оправдывает ли цель средства, и если да, то в какой степени. Эта проблема стара, как мир, однако в один из решающих периодов моей жизни она не давала мне покоя. Речь о семи годах моего членства в Коммунистической партии и выхода из нее.
В Коммунистическую партию я вступил в 1931 году, в возрасте 26 лет, работая в редакции либеральной берлинской газеты. Решение о вступлении было принято от ощущения нацистской угрозы, а также отчасти потому, что, подобно Одену, Брехту, Мальро, Дос Пассосу и другим писателям моего поколения, я подпал под очарование советской утопии. Атмосферу того времени я описывал в других книгах («The God That Failed», «The Invisible Writing» — «Угасший Бог», «Невидимые письмена»), поэтому не буду останавливаться на этом здесь.
Когда пришел к власти Гитлер, я находился в Советском Союзе, работая над книгой о первом пятилетнем плане; оттуда я перебрался в Париж, где прожил до крушения Франции. Процесс моего разочарования в Коммунистической партии достиг острой стадии в 1935 году, когда вслед за убийством Кирова начались первые чистки, накатились первые волны Террора, поглотившие многих моих товарищей. Во время этого кризиса я и сел писать «Гладиаторов», рассказ о еще одной революции, зашедшей не туда. Работа продолжалась 4 года и шла с перерывами, превратившими ее в подобие бега с препятствиями. Через год после того как я приступил к работе, началась война в Испании, во время которой я попал в плен к франкистам и провел четыре месяца в тюрьме, после чего написал книгу об Испании («Spanish Testament» — «Испанское завещание»). В промежутках, нуждаясь в деньгах, я хватался за любую подвернувшуюся работу. Книга была завершена летом 1938 года — через несколько месяцев после моего выхода из Коммунистической партии.
После каждого перерыва возвращение в I век до н. э. приносило успокоение. То было не столько бегство от действительности, сколько лечение трудом, помогавшее прояснению в голове: я находил очевидные параллели между последним веком перед наступлением христианской эпохи и нашим временем. То было столетие общественных волнений, революций, массовых выступлений. Их причины тоже были хорошо знакомы: крушение традиционных ценностей, резкие перемены в экономическом устройстве, безработица, продажность, разложившийся правящий класс. Только при таком подходе можно понять, каким образом шайка из семидесяти цирковых борцов сумела вырасти в считанные месяцы в настоящую армию и за следующие два года овладеть половиной Италии.
Но почему, в таком случае, революция кончилась неудачей? Причины были, разумеется, чрезвычайно сложны, однако на первое место выходит очевидный фактор: Спартак стал жертвой «закона обходных путей», вынуждающего лидера, стремящегося к Утопии, «быть безжалостном во имя сострадания». Тем не менее он удержался от самого решающего шага — от чистки отступников-кельтов способом распятия и установлением немилосердной тирании; и именно этим отказом он обрек свою революцию на поражение. В «Слепящей тьме» большевистский комиссар Рубашов поступает наоборот и следует «закону обходных путей» до самого конца, но в результате понимает, что «один разум — обманчивый компас, ведущий до того извилистым путем, что цель движения исчезает в тумане». Таким образом, эти два романа дополняют друг друга: обе дороги заводят в трагический тупик.
Читатель исторического романа вправе спросить, в какой степени тот основан на фактах и в какой на вымысле. Оригинальные источники, повествующие о восстании рабов, — это немногие отрывки у Ливия, Плутарха, Аппиана и Флора. Все вместе это от силы четыре тысячи слов. Видимо, римские историки считали этот эпизод настолько унизительным для Рима, что старались поменьше о нем говорить. Исключением был, кажется, один Саллюстий, но от его «Historiae» сохранились одни фрагменты.
Но при недостатке сведений о самом восстании существует масса материала о ситуации в обществе и политических интригах того времени. О характере предводителей восставших рабов и об идеях, которыми они руководствовались, почти ничего не известно, зато этого никак нельзя сказать об их противниках: Помпее, Крассе, Варинии, консулах и сенаторах 73–71 гг. до н. э., их друзьях и современниках. С одной стороны, это служило пищей для воображения, которому предстояло воссоздать не только Спартака и его приближенных, но и подробности кампании и организации сообщества рабов. С другой стороны, подробные сведения о том периоде наводили на кое-какие заключения. Так восполнение недостающих деталей превратилось в проблему интуитивной геометрии, в сложение головоломки, где отсутствует добрая половина изображения.
Имеющиеся источники молчат о программе или идейной основе, сплачивавшей армию рабов; тем не менее ряд намеков позволяют заключить, что то была своеобразная «социалистская» программа, провозглашавшая, что все люди рождаются равными, и отвергавшая разделение на свободных людей и рабов как естественный порядок вещей. Есть и кое-какие основания предполагать, что Спартак попытался основать где-то в Калабрии утопическую коммуну, основанную на коллективной собственности. Но такие идеи были совершенно чужды римскому пролетариату до появления примитивного христианства. Поэтому я позволил себе невероятное только на первый взгляд допущение, что последователи Спартака вдохновлялись теми же идеями, что назаряне веком позже, — мессианством иудейских пророков. В разношерстой толпе беглых рабов должны были находиться и выходцы из Сирии; кто-то из них мог познакомить Спартака с пророчествами о Сыне Человеческом, посланном «утешить плененных, открыть очи незрячим, освободить угнетенных». Любое спонтанное движение подхватывает по закону естественного отбора идеологию или мистику, наиболее соответствующую его целям. Потому я и предположил, занимаясь своей головоломкой, что среди многочисленных чудаков, реформаторов и сектантов, которые должны были примкнуть к движению, Спартак выбрал себе на роль учителя выходца из иудейской секты эссенов — единственной достаточно крупной и цивилизованной общины, практиковавшей в то время примитивный коммунизм и учившей: «что мое, то твое, а что твое, то мое». После первых своих побед Спартак более всего нуждался в программе, кредо, которое удержало бы полчище в состоянии организованной армии. Я решил, что такой массе неимущих более всего созвучна была бы философия, которая спустя век была выразительно провозглашена в Нагорной Проповеди и которую Спартак, раб-мессия, хотел, но не смог претворить в жизнь.
Примечания
1
Фасции — связанные кожаными ремнями пучки прутьев и топорик — были знаками достоинства «империя» — полной военной и гражданской власти высших римских магистратов. «Император» — почетный титул военачальника, одержавшего серьезную победу над врагом; другое значение это звание получило только в период империи. (Прим. перев.)
(обратно)2
Так называлась в Древнем Риме р. По. (Прим. перевод.)
(обратно)3
55 км. (Прим. перевод.)
(обратно)4
Современный испанский Кадис. (Прим. перевод.)
(обратно)


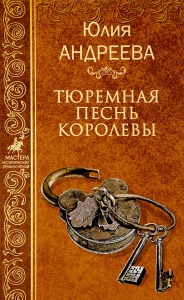
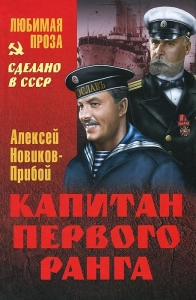
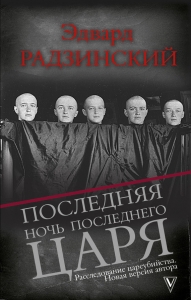
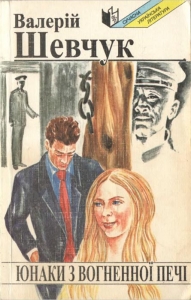

Комментарии к книге «Гладиаторы», Артур Кестлер
Всего 0 комментариев