Лев Бердников
Из иудеев – в славянофилы
Павел Васильевич Шейн (1826-1900) – фигура знаковая. Его сборники русских народных песен занимают в мировой фольклористике самое почетное место. Благодаря усилиям Шейна, достоянием культуры стали более 2 500 великорусских, 3 000 белорусских песен, около 300 сказок и легенд, множество пословиц, заговоров, других произведений фольклора. Основной его труд, «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах…» (1898-1900), явивший собой грандиозную попытку поэтического выражения духа русского народа с невиданной доселе шириной охвата, стал главнейшим источником для изучения обрядовой поэзии. В отличие от своих предшественников, Шейн стремился представить в своих изданиях массовое творчество, показать, как народная поэзия живет в крестьянском быту. Наряду с «Песнями» Петра Киреевского, «Пословицами русского народа» Владимира Даля, «Народными русскими сказками» Александра Афанасьева, «Онежскими былинами» Александра Гильфердинга, сборники Павла Шейна относятся к выдающимся книжным памятникам.
Жизнь и судьба Павла Шейна весьма примечательны. Выходец из иудейской среды, он только в 17 лет обучился русскому языку, крестился в 22 года – и вдруг стал страстным собирателем и популяризатором русского фольклора, отдал ему более 40 лет жизни. Да притом он был калекой, передвигался на костылях, и трудился на сем поприще бескорыстно, тратя на это свое скромное учительское жалование, – право, деятельность его можно назвать беспримерным подвигом во благо России. Характерно, что писатель Василий Розанов, говоря о выдающихся евреях, сравнил вклад Шейна в развитие русского духовного самосознания с творчеством живописца родной природы Исаака Левитана. «Время оценки Шейна еще настанет», – пророчески указал Розанов.
Многое в творческой биографии Павла Васильевича еще остается невыясненным. Не вполне понятно, ощущал ли Шейн свою еврейскую идентичность, почему он отказался от заложенных с детства религиозных традиций, какая работа мысли и душевные борения привели он к идее посвятить свою жизнь русскому народному творчеству. Его духовные искания представляют тем больший интерес, что и в сегодняшней России многие деятели еврейского происхождения отказываются от своих национальных корней и иудейской веры, жертвуя ими во имя христианства и русской культуры (по некоторым данным, в современной России около 25 % евреев приняли православие). А потому путь Шейна, его подвижничество на ниве русского народоведения оказывается глубоко симптоматичным. Признавая неотъемлемое право каждого на выбор пути и свободу совести, мы попытаемся воссоздать творческий путь Шейна таким, каким он был, руководствуясь исключительно требованиями исторической правды и не опускаясь до пристрастных оценок и навязчивого морализаторства. Может статься, наш рассказ наведет читателя на вопросы, не имеющие однозначных ответов. Смеем, однако, думать, что сама постановка таких острых вопросов, решение коих, по словам поэта Юрия Левитанского, «каждый выбирает по себе», и важна, и своевременна.
Биографы Шейна говорят, что он был «воспитан в упорных еврейских антипатиях» к христианству и иным культурам, и, оказавшись в обществе русских людей, якобы «нравственно и интеллектуально превосходивших» его соплеменников, он раз и навсегда порвал с прежней средой, «заскорузлой и косной». Такая примитивная схема грешит тенденциозностью и действительности не соответствует.
Ноах родился в Могилеве на Днепре и был старшим сыном в семье небогатого торговца Мофита Шейна. Как это водилось в иудейских семьях, пятилетним мальчуганом он был отдан в хедер, где выучился свободно читать и писать на древнееврейском языке, под началом зоркого меламеда постигал Тору и премудрости Талмуда. Однако дальнейшее обучение Ноаху пришлось продолжить на дому, по причине неожиданно открывшихся у него неизлечимых телесных недугов. Вот что скажет об этом он сам: «До пятнадцати лет переболел я многими тяжкими болезнями, часто приковывавшими меня надолго к родимой берлоге, к одру страданий, а на пятнадцатом сподобился испытать участь Ильи Муромца, в первый период его жизни, то есть сделался калекой неперехожим». Сравнение с легендарным богатырем пришло на ум Ноаху позднее, тогда же в силу болезни он, прикованный к дому, не знал не только русского, но и белорусского языка, на коем говорило большинство жителей Могилева.
Еврейский квартал в Могилеве
Зато поднаторел в еврейской учености, богословии и грамматике – ведь недаром говорят: чем слабее тело, тем сильнее дух! Помог ему в этом некий просвещенный раввин (имя его он не сообщает), уроки которого оплачивал Шейн-старший, озабоченный серьезным образованием сына. «Этот раввин, – отмечает этнограф В.Ф. Миллер, – принадлежал к тому типу еврейских либералов, которых русские евреи, называли "берлинерами". То были поборники Гаскалы – Еврейского Просвещения (основоположником сего движения был знаменитый германский мыслитель Мозес Мендельсон), и иудейская масса относилась к ним настороженно, если не сказать враждебно. Дело в том, что, скованный бесчисленными запретами и предписаниями, еврей-традиционалист не тяготился ими, но видел в этом источник бесконечных радостей; ум его находил удовлетворение в тонкой диалектике Талмуда, чувство же – в мистицизме Каббалы. Знание грамматики почиталось такими староверами чуть ли не как преступление, кощунственной казалась и пропаганда светских знаний. Между тем, идея просветителей (берлинеров, маскилов) состояла в том, чтобы возрожденный древнееврейский язык стал средством приобщения иудеев к европейской культуре и цивилизации. И несомненно, помянутый раввин знакомил Ноаха с трудами на иврите по светским наукам – естествознанию, медицине, математике, истории. Кроме того, он воспитывал в нем поэтическое чувство, обучил законам версификации. Ведь, как отмечает "Еврейская энциклопедия", "витиеватый" слог, звучная рифма, красивое выражение, составленное из обломков библейских стихов, почиталось [берлинерами] весьма ценными. Каждый считал долгом слагать оды в честь библейского языка, "прекрасного и единого"».
То, что к образованию отрока привлекли такого раввина-либерала, не означает, конечно, что родители Шейна сами были людьми передовых взглядов. По всей видимости, выбор наставника был сделан случайно. А отцу, озабоченному торговлей и гешефтами, просто недосуг было слушать толки соседей, хотя те повторяли на все лады: «Этот учителишка (болячка ему в бок!) воспитывает кинда из порядочной семьи как какого-нибудь гоя». Между тем, именно благодаря ментору-берлинеру, Ноах помимо языкового чутья и глубокого знания древнееврейской литературы, уже в отрочестве обрел важное, определившее всю его дальнейшую жизнь качество – открытость к новым знаниям, иным языкам и культурам.
Деревянная синагога в Могилеве
И видно, что отец любил своего первенца, который (вот это голова!), несмотря на недуги, помогал ему вести всю торговую бухгалтерию. Но болезнь Ноаха все усугублялась, а врачевание местечковых эскулапов впрок не шло. Хвала Всевышнему, что купцы-единоверцы насказали Шейну-старшему о Ново-Екатерининской больнице в Москве – там, дескать, обретаются настоящие медики-чудодеи, которые только мертвых не поднимают на ноги. И Мофит заторопился в Первопрестольную и добрался до Глебовского подворья, где обычно останавливались на краткий срок заезжие иудеи (жить в Москве подолгу им строго возбранялось). И снова повезло – он сыскал подходящего грамотея, который написал ему прошение на имя столичного генерал-губернатора князя А.Г. Щербатова о дозволении показать больного докторам. Наконец, разрешение было получено, и заботливый родитель на руках принес неподвижного сына в больницу. По счастью, главного врача, доктора А.И. Поля болезнь заинтересовала, и Ноаха оставили на лечение. Какое-то время Мофит находился при сыне и доставлял ему кошерную пищу, однако вынужден был удалиться восвояси, в родной Могилев. Между прочим, его отношение к сыну биографы изображают превратно: якобы Мофит повинен и в том, что Ноаха лечили в Могилеве невежественные лекари (будто он был дока в медицине и в выздоровлении сына заинтересован не был). И в Москву привез его из корысти (воспользовался болезнью юноши, чтобы самому остаться и торговать в этом закрытом для иудеев городе). Факты этого не подтверждают, и то обстоятельство, что отец, покуда его как иудея из столицы не выдворили, находился при Ноахе неотлучно и следил за его питанием, свидетельствует как раз об обратном.
Медиков привлекла возможность испробовать на пациенте новые методики врачевания – массажи, растяжки, а также только что изобретенные «тиски Штромайеровой машины». Обер-полицмейстер Н.П. Брянчанинов регулярно докладывал генерал-губернатору, что и больному надобно покинуть Москву, но главный врач стоял на своем, поскольку «к излечению еврея Ноаха Шайна имеется надежда». Минуло два года, и в рапорте Н.П. Брянчанинову от 31 марта 1845 года сообщалось: «Еврей Ноах Шайн, несмотря на медленное по упорности болезни лечение, получил значительное облегчение. Так что есть большая надежда к восстановлению владения в ногах, и старший врач Поль нужным считает оставить его, Шайна, в больнице для дальнейшего лечения». И вскоре произошло чудо – Ноах встал на ноги, и хотя мог передвигаться только на костылях, но уже самостоятельно, – и это было счастьем. Перед ним предстала Белокаменная русская столица, причем не из окна лечебницы, а во всей своей осязаемой красе площадей, набережных, извилистых улочек и закоулков. Он без посторонней помощи мог совершать по ней непродолжительные пешие прогулки…
Юноша вызывал сочувствие и симпатию окружающих. Странноватое еврейское имя Ноах они переиначили на русский лад и стали называть его Павлом. Этот Павел по части способностей к языкам оказался феноменом удивительным. Под руководством нескольких студентов и врачей больницы – выходцев из Германии он быстро овладевает немецким и открывает для себя поэтический мир И.В. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Ф. Рюккерта, Г.Ф. Фрейлиграта. При этом не ограничивается пассивным чтением: красоту и богатство немецкого литературного языка стремится привнести в родной ему идиш, сочиняет на нем стихи в духе Гейне, доказывая тем самым, что этот «жаргон» (так нелестно аттестовали идиш даже во второй половине XIX века) вполне пригоден для выражения высоких поэтических чувств. Нельзя не видеть в этих его опытах продолжение традиций Менделя Левина, который стремился превратить идиш в полноценный литературный язык. Важно и то, что Шейн поначалу пишет стихи исключительно для своих единоверцев – он не мыслит себя вне еврейства, плотью от плоти коего себя ощущает.
Ново-Екатерининская больница (XIX век)
Едва только один соплеменник-выкрест из бывших кантонистов обучил Павла начаткам русской грамоты, тот приохотился к чтению и требовал все новые и новые книги. Вообще, русские люди, окружившие его в Ново-Екатерининской больнице, своим участием и бескорыстной помощью внушили ему особое расположение и душевную привязанность к ним. Тора воспитала в нем чувство благодарности, которую, как учил его наставник-раввин, человек должен выражать всегда, словесно и на деле. Первое затверженное Шейном русское слово, было «спасибо», и он не уставал повторять его семь раз на дню, вызывая понимающую улыбку окружающих. И сам он пытался понять умом, почувствовать и принять всем сердцем этот приютивший его симпатичный, добрый народ. Он жадно читает русскую классику и всматривается в национальные типы, представленные Н.В. Гоголем и В.И. Далем. Живо интересуется российской историей и проникается ее величием, штудируя сочинения бессмертного Н.М. Карамзина, М.М. Щербатова, В.Н. Татищева, И.Н. Болтина. Искушенный в древней поэзии, он восхищается мелодикой русского стиха, заучивает и читает наизусть стихотворения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, Е.П. Ростопчиной. Он и сам пытается сочинять. Однако наряду со стихами на русские темы, думы о еврействе по-прежнему занимают и волнуют его. Он внимательно читает книги о своих соплеменниках на немецком языке и делает стихотворный перевод на русский язык классической трагедии поэта-маскила Иосифа Тропловица «Саул» на древнееврейском языке. Есть сведения, что он в то время был одержим идеей просвещения своих единоверцев.
Что ж, сосредоточимся на его внутреннем убеждении служить своему народу (впрочем, сравнительно скоро покинувшем Шейна). История, как и жизнь, многовариантна. И все меняется порой из-за какой-то сущей случайности, в коей фаталисты видят неумолимый рок, а люди верующие – Божественный Промысел. Незадолго до Павла из черты оседлости в Москву отправился другой даровитый еврейский юноша, Леон Мандельштам (1819-1889). Он начал изучать русский язык почти одновременно с Шейном (в 16 лет), писал на нем незрелые, но искренние стихи об отчем доме, о дороге к знаниям, выпавшей на его долю. И он станет первым иудеем – выпускником российского университета, защитит диссертацию, получит степень кандидата прав, и все это для того только, чтобы сеять просвещение и культуру среди евреев, чему и посвятит жизнь. В 1846 году Леон становится «ученым евреем» (была такая официальная должность!) при министре народного просвещения графе С.С. Уварове и ревностно будет проводить в жизнь николаевские реформы по «преобразованию» российских иудеев (курирует и инспектирует работу более 150 открывшихся еврейских училищ). Мандельштам станет первым автором-евреем, издавшим поэтический сборник на русском языке. Составитель еврейско-русских и русско-еврейских словарей, толкователь Библии и Талмуда, переводчик Моисеева Пятикнижия на русский язык, яркий публицист и журналист, первый переводчик произведений Пушкина на иврит, он стяжает не громкую, но почетную славу еврейского просветителя. Повернись жизнь иначе, может, и Шейну была бы уготована похожая участь. Однако…
В 1846 году лечение Павла в больнице подошло к концу, и надобно решать было, как жить дальше. Но – случайность ли это или рука Всевышнего! – в его еврейских пенатах происходят события чрезвычайные: мать, любящая мамеле Ноаха (ей так и не довелось узнать его нового имени Павел!) ушла в мир иной, а его дражайший родитель, недолго кручинясь, женился на другой, женщине вздорной и расчетливой. Она-то, окаянная, верховодит теперь и домом и отцом. Эта новоиспеченная мачеха смотрит на него, пасынка, как на постылого калеку, тягостную обузу для семьи. Понятно, попасть от нее в зависимость было для Павла смерти подобно. Потому-то о возвращении в Могилев он говорит не иначе, как с ужасом. И потому именно, а не из-за сродства с русской культурой (которое хотя и зрело в нем тогда, но еще не вполне укоренилось), он всеми правдами и неправдами стремится остаться в Москве. И вот, по счастью, врачи больницы испросили ему разрешение обучаться в столице, и Павел приемлет сие как дар небес и вскоре становится учеником-пансионером сиротского отделения училища при лютеранской церкви св. Михаила. Этот шаг имел для Шейна важные последствия, ибо по мере учебы все более ослаблялась его связь не только с родными (символично, что отделение называлось «сиротским»!), но и вообще с еврейскими корнями и традициями. Все свое сердце он обращает к России, ее культуре.
Здесь, в училище, русский язык и литературу преподает известный поэт Федор Богданович Миллер (1818-1881), который сразу же выделил этого пытливого юношу с недюжинными гуманитарными способностями. По признанию же Шейна, Миллер стал для него не только учителем, но другом и «родным братом», и объединили их «довольно сходные мнения и чувства», любовь к русской словесности и языку. Именно Федор Богданович приобщил Павла к устному народному творчеству. Искусный стилизатор и знаток старины, он сам творил яркие произведения по русским фольклорным мотивам: «Поток-богатырь и девица Лебедь» (это былина из времен князя Владимира Красного Солнышка), «Песня про Илью Волговича», «Русалка», «Помолодевший старец» и другие. Между прочим, его шутливые стихи: «Раз, два, три, четыре, пять, // Вышел зайчик погулять» стали поистине народными. Именно Миллер вызвал в Шейне интерес к записям фольклора. А все началось с того, что чуткий Павел стал прислушиваться к живому московскому говору, подмечая в нем яркие слова, образные выражения. Уже в 1846 году, то есть в самом начале своего школярства, он записал «длинный выкрик» молодого разносчика клюквы: «По клюкву, по клюкву!»; в другой раз – разговор с «незавидным» извозчиком, который на слова Шейна: «Экая, братец, у тебя лошаденка, настоящая мышка, того и гляди не довезет!», – метко отвечал: «Эх, барин, ведь не поется большой, а поется удалый!»
Федор Богданович пробудил в Павле то беспокойное чувство, ставшее со временем стойким состоянием души, которое называли тогда «деятельное народолюбие». Этому немало способствовали литераторы, сгруппировавшиеся вокруг поэтов Федора Николаевича Глинки (1786-1880) и его жены Авдотьи Павловны (1795-1863), в московском доме которых на Садовой улице Павел по рекомендации Миллера был принят и вскоре стал желанным гостем. Расскажем лишь о тех завсегдатаях дома, кои оказали на нашего героя очевидное и непосредственное влияние.
Прежде всего, это сама хозяйка Авдотья Павловна Глинка. Историк Н.В. Новиков, исследовавший архивы Шейна, говорит об их тесной и трогательной дружбе. Глинка обладала замечательным качеством, которое в былое время на Руси называли странноприимством. Женщина «высокой и теплой души», она благодетельствовала нищим, привечала стариков, калек (то, что Шейн был калекой, вызывало у нее особое сострадание), любила разговаривать с крестьянами и, выведав их нужды, спешила творить добро. Пожалуй, одна из первых она преподала Павлу урок заботливого внимания к русскому крестьянину: выступила популяризатором Священного Писания в народной среде. Из книг такого рода особым успехом пользовалась ее «Жизнь Пресвятой девы Богородицы из книг Четьи-Минеи» (1840), выдержавшая более двух десятков изданий. (Примечательно, что Ф.М. Достоевский сформулирует позднее положение, реализованное ранее в творческой практике А.П. Глинки: «Мы должны преклоняться перед правдою народной и признать ее за правду, даже и в том… случае, если бы она вышла бы отчасти из Четьи-Минеи»). Авдотья Павловна задалась целью переложить «книжный славянский язык, возвышенный, великолепный, [но]…не довольно слит[ый] с нашим бытом общественным» на «простой, почти разговорный русский язык». А в предисловии к своей книге она обратилась к читателям с такими словами: «Как же нам, воспитанным в Церкви православной, не ублажать Пречистую Матерь Господа? Отечество наше исполнено знамением ее милостей… Да утешит каждого…всеобщая Утешительница христиан!» Строгим христианским благочестием отмечена и лирика Авдотьи Глинки, изобилующая обличительно-назидательными интонациями c характерными укорами искателям «наслаждений и ума». Подавляющее большинство ее стихов религиозно-моралистического свойства с настойчиво повторяющимися заглавиями: «Тебе», «Себе», «Он все», «Никто более», «Верующим» и т. д. Не исключено, что Глинка приобщила Павла к христианским духовным ценностям.
Дружеские отношения связывали его и с Семеном Егоровичем Раичем (1792-1855), тоже человеком глубоко религиозным, сыном священника и выпускником Орловской семинарии (он, между прочим, был братом киевского митрополита Филарета Амфитеатрова). Преподаватель русской словесности Московского университета, Раич был и знатоком европейских литератур, переводчиком «Георгик» Вергилия, «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. О том, какое обаятельное и симпатичное впечатление производил Семен Егорович говорит хотя бы тот факт, что его воспитанник-поэт Ф.И. Тютчев благоговел при одном упоминании имени С.Е. Раича и ставил его выше признанного корифея, профессора А.Ф. Мерзлякова. И хотя некоторые произведения поэта служили объектом насмешек и пародий (например, печально известный стих: «Вскипел Бульон, течет во храм»), Шейн относился к поэзии своего старшего друга с благоговейно, а спустя много лет, подводя итог своей жизни, будет цитировать стихи Раича:
Благодарю тебя, Всевышний!
И я на земле был не лишний!
Кружок Глинок посещала и графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811-1858). Ее творчество производило на Павла самое сильное впечатление. Жизнь женской души, для которой любовь – смысл существования, составила ведущую тему ее стихотворений, в коих и взыскательный В.Г Белинский находил «высокий талант». Очень точно и лаконично сказал о ее стихах Ф.И. Тютчев: «То лирный звук, то женский вздох». Это «лирное», мелодическое начало поэзии Ростопчиной отозвалось в ее фольклорных стилизациях («Простонародная песня», «Русская песня», цикл «Простонародные мелодии и песни») и в романсах, положенных на музыку М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, П.И. Чайковским, А.Г. Рубинштейном. Шейн ставил поэзию Ростопчиной очень высоко и не находил в ее стихах решительно никаких изъянов. «С тех пор, как Господь "книжному меня искусству вразумил", – поведал он Ф.Б. Миллеру, – ни один поэт из всех, читанных мною, не возбуждал во мне столько душевного участия и сочувствия, как графиня Ростопчина, потому что никто из них не говорил моей душе таким родным ей языком, как она».
Бывал в доме на Садовой улице и поэт Василий Иванович Красов[1] (1810-1854). Выпускник Вологодской семинарии и словесного отделения Московского университета, он до 1839 года исправлял должность адъюнкта Киевского университета. Стихи писать он начал рано и печатался в таких популярных тогда изданиях, как «Московский Наблюдатель», «Отечественные Записки», «Молва», «Москвитянин», «Библиотека для Чтения». Знаток древних и новых языков, переводчик Овидия, И.В. Гете, Г. Гейне, Дж.Г. Байрона, он благоговел перед У. Шекспиром и Вальтером Скоттом и в то же время был сторонником русской самобытности и писал песни в народном духе (кстати, был дружен со своим знаменитым земляком А.В. Кольцовым, о коем говорил: «Я люблю его задушевно»). Глубоко понимал Красов самые основы народного искусства, о чем говорит его работа над целым циклом российских песен, куда входили песни царевны, ямщика, новгородского удальца и где, по словам поэта, «должна кипеть вся широкая богатырская отвага древней Руси». Его песни обретали совершенные формы в их строгой простоте и доверительности, идущей от народной поэзии интонации («Уж я с вечера сидела», «Старинная песня», «Уж как в ту ли ночь» и др.). О творческих исканиях поэта в этом жанре дает представление его «Русская песня»:
Ах, ты, мать моя, змея-мачеха!
Я пойду гулять – разгуляюся,
С молодым купцом повидаюся;
Я пойду гулять, наряжу себя,
Уберусь ли вся по-бывалому:
В косу длинную, в косу русую
Заплету – вот так – ленту алую…
У меня, младой, грудь высокая,
Глаза черные с поволокою,
На белой груди жар-кольцо горит…
Однако научная карьера у Красова не задалась (говорили, что помешала сему как раз его поэтическая натура – «восторженность», «необыкновенный жар», «особенность видеть в утрированном поэтическом свете самые обыкновенные вещи»). После отставки он перебрался в Белокаменную «в одной плохой шинельке и питаясь черным хлебом», учительствовал, пробавлялся частными уроками, а к моменту знакомства с Шейном преподавал русский язык в I Московском кадетском корпусе. Критик П.В. Анненков говорит, что Василию Ивановичу свойственны были «благородство чувств», «юношеская горячность в привязанностях, беспечность в жизни и неизменная доброта сердца». Натура экзальтированная и восторженная, Красов сразу же привязался к юноше-инвалиду, в коем более всего подкупала неподдельная любовь к русскому фольклору. Литературные и человеческие отношения связывали нашего героя и с другими участниками вечеров[2].
Первое выступление Павла Шейна в печати состоялось в 1848 году в альманахе с характерным названием «Панорама народной русской жизни, особенно московской…», к сотрудничеству в коем их с Василием Красовым привлек его издатель, писатель и знаток отечественной старины Сергей Михайлович Любецкий (1810-1881). Здесь было опубликовано стихотворение нашего 22-летнего героя «Утренняя прогулка по Кремлю»[3]. Издание открывалось этим программным произведением, написанным Павлом к памятному событию – 700-летию Москвы (это видно из цензурного разрешения, которое было получено издателем альманаха 30 июля 1847 года).
Однако прежде чем обратиться к этому произведению Шейна, есть резон вновь вспомнить его соплеменника Леона Мандельштама. По иронии судьбы именно в возрасте 22-х лет он тоже сочинил стихи, обращенные к Москве (они вошли в его книгу «Стихотворения Л.И. Мандельштама» (М., 1841):
Столица России! Мечта моей жизни!
Изгнанника мира, как сына отчизны,
С любовию матери примешь ли ты?...
Глядит он, глядит на твои красоты, –
И сердце в нем ноет, и рвется, и скачет, –
Он вспомнил о доме, – и плачет, и плачет.
Как пояснил сам Леон, эти стихи – «перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный… Иудаизм вьется по ходу моего сочинения…Вы найдете здесь ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные «несчастным изгнанникам мира». Помимо темы вечных скитаний народа Израиля по свету, здесь звучит тоска по родному местечку, по своим соплеменникам, жажда еврейской духовной пищи. Москва для Мандельштама – мечта всей жизни, и он не ведает, обласкает ли она его своей материнской любовью, но знает наверняка: он признает себя сыном Отчизны только тогда, когда она, Отчизна эта, примет его таким, каков он есть, с его иудейской верой и еврейской идентичностью.
Читая после сего текст Павла Шейна, словно попадаешь в совершенно иной мир, иной строй дум и чувств открывается взору. Трудно даже предположить, что их авторы – сверстники, и вышли они из одной среды, принадлежат к одному этносу. Ничего еврейского здесь нет и в помине. Сочинитель вовсе не ощущает себя пришельцем в чужой культуре – он глубоко укоренен в российскую жизнь и не только объявляет русских людей своими предками, но подает это как некую аксиому, о доказательстве коей нимало не заботится:
Мне дорога о предках весть,
Об их трудах, их прежнем быте.
Не верьте, верьте, как хотите…
Поэт взывает к авторитету почитаемого им Карамзина, объявляет себя «поклонником старины народной» и хранителем русских традиций:
Пускаясь в даль воспоминанья,
Пытливых глаз я не свожу
С недосягаемой твердыни,
С крестов Кремлевския Святыни,
С Кремлевских древле грозных стен.
С благоговением потомок
Кладет кирпичный их обломок,
Свидетеля былых времен,
На любознательный безмен.
Шейн использует слова, сравнения и метафоры, восходящие к народной поэзии. И хотя созданные им образы грешат вычурностью и картинностью и не всегда художественно выразительны, поиск и экспериментирование в этом направлении очевидны и говорят о его повышенном интересе к русскому фольклору:
…Едва
Заря ширинкою янтарной
С пурпурной яркой бахромой
Успеет алою каймой
Раскинуть пояс лучезарный,
Светлее всех земных корон,
На отдаленный небосклон,
Для встречи радостного солнца
Едва в небесное оконцо
Свое огнистое чело
Под жемчугом и перламутром,
Мир поздравляя с добрым утром,
Оно спросонья навело
На темя стража великана
Святыни древнего Кремля –
Проснулась Русская земля,
Москва вставать привыкла рано.
Автор слагает гимн Москве как твердыне православия, явлению русского национального духа:
Святого брашна сладкой пищей
За трапезой великих дум –
Здесь вечеряет Русский ум!
Идите в Кремль на богомолье;
Душе там Русской есть раздолье,
Воображению простор…
Свои размышления о «русской душе», характере (ментальности, как бы мы сейчас сказали) русского человека Шейн поведал бумаге. Понятно, что круг его общения был достаточно узок, потому питает его отечественная словесность. По разумению нашего героя, русский человек соединил в себе две крайности: едкую иронию и тонкий юмор. Первая имела свой «едва заметный источник в народных пословицах Даниила Заточника, закипела животворящим ключом сатиры в творениях Кантемира и Грибоедова, явилась прозрачным, излучистым потоком в произведениях Фонвизина, Хемницера, Измайлова, Крылова и наконец хлынула светлым, брызжущим, никого и ничего не щадящим водопадом в гениальных сочинениях Гоголя». Вторым – «проникнуты все старинные песни русского народа. Он составляет особенный отпечаток всех русских истинных поэтов, которые почти сплошь да рядом были преимущественно лирики. В особенности же эта безотчетная тайная, рыдающая грусть, это задушевное уныние, эта безутешная кручина встречаются на каждой почти странице лирических произведений Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Кольцова». Несмотря на спорность суждений Павла, оригинальность и глубина их бесспорны.
Публикации Шейном стихотворения в альманахе С.М. Любецкого и рассуждениям о русском характере сопутствовали его отказ от иудейской веры и крещение в 1848 году по лютеранскому обряду. На фоне явной православной и славянофильской ориентации нашего героя его обращение в протестантизм может показаться странным: ведь те же славянофилы считали сию веру отравленной духом рационализма и органически чуждой русскому народу. Вот что писал по сему поводу один из основоположников славянофильства А.С. Хомяков: «Протестантство бежит на всех парусах от нагоняющего его неверия, бросая через борт свой догматический груз, в надежде спасти себе Библию, а критика, с язвительным смехом, вырывает из оцепеневших рук его страницу за страницей, книгу за книгой». Могут возразить, что подвижник русского слова В.И. Даль тоже был протестантом и при этом издавал и свои замечательные словари и сочинения в русском народном духе. Однако датчанин Даль был лютеранином с детства по воле родителей, в зрелые же годы он принял православие. Что же касается российских евреев, они в то время крестились, как правило, именно по протестантскому обряду (речь не о кантонистах, чье обращение в православие было преимущественно вынужденным и принудительным).
Показательна судьба первого русскоязычного писателя-еврея, маскила Лейба Неваховича (1776-1831). Автор книги «Вопль дщери Иудейской» (1803), где он выступил в качестве штадлана (ходатая за свой народ) перед власть имущими, Невахович затем сближается с предтечами славянофилов из окружения адмирала А.С. Шишкова. Он пишет апологетические сочинения о русских с их «мужественным духом, языком глубоким и обширным», в столичных театрах ставятся его патриотические пьесы о «храбрых братьях славянах». При этом Невахович, совершая в возрасте 30 лет обряд крещения, почему-то тоже становится лютеранином. Случайно ли это?
Безусловно, обращение соплеменника в христианство воспринимался иудеями как тягчайший грех. Выкреста называли «мешумад» («уничтоженный»). Однако протестантизм (как и ислам) был в глазах иудеев отступничеством все же не столь вопиющим, как православие с его почитанием икон. Последнее толковалось как особо осуждаемое Торой и Талмудом идолопоклонство, и выкрест-неофит, вышедший из еврейской среды, так или иначе должен был убеждения этой среды учитывать. Терпимость иудеев к протестантизму была тем очевиднее, что некоторые раввины, если не было синагоги, разрешали молиться в реформистской кирхе, поскольку никаких изображений там не было. А толерантность маскилов к этой вере была и вовсе безгранична, и известный еврейский просветитель Давид Фридлиндер даже призывал единоверцев ходить в лютеранские храмы, считая их рассадником европейской цивилизации. Существенно и то, что лютеранство свободно от строгой обрядности и не требовало обязательного посещения церковных служб (кстати, оно в значительной мере повлияло и на так называемый «реформированный иудаизм»). И неслучайно, что позже в России были разрешены браки между лютеранами и иудеями, и муж-протестант мог вызволить супругу-еврейку из черты оседлости. Нельзя не сказать и о том, что принятие иудеями православия, в отличие от лютеранства, было сопряжено с определенными трудностями и препонами, в том числе и бюрократического характера. Неофита проверяли на искренность обращения, экзаменовали в знании догматов православной веры и молитв. И хотя лютеране не пользовались в империи особыми привилегиями (их переход в православие всемерно поощрялся, а вот обращение православных в протестантизм считалось уголовным преступлением), однако и дискриминации они не подвергались, и вознамерившийся принять сию веру Павел Шейн мог получить право беспрепятственно жить в столице.
Характерный тип еврея-выкреста блистательно живописал А.П. Чехов в рассказе «Перекати-поле» (1887). Он показал здесь некоего индивидуума, кстати, тоже выходца из Могилевщины, нареченного Александром Ивановичем, который на вопрос о перемене веры «твердил только одно, что «Новый завет» есть продолжение Ветхого» – фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса». Русский писатель указал здесь на весьма распространенный и общепринятый аргумент, ибо мысль эта повторяется на все лады в сочинениях православных знакомцев Шейна, и, возможно, на прямой вопрос и наш герой ответил бы точно так же.
И все же случай Павла Шейна особый. Он, хотя прожил в Могилеве до 17 лет (а по еврейским меркам, это был возраст вполне зрелого мужчины; достаточно сказать, что Исаак Бер Левинсон в 9 лет написал ученую книгу о Каббале, а Виленский Гаон Илия в 13 лет стал знаменитым талмудистом), понимал, что был в сущности «плохим иудеем». Запертый болезнью в стенах дома, он не посещал синагогальных служб, был оторван от еврейской народной жизни, и его эрудиция была исключительно книжной. То было знание, не согретое верой, живым общением с соплеменниками. В его памяти остались лишь сценки из далекого детства: вот они – школяры в хедере громко зазубривают урок; вот въедливый меламед отвешивает ему незаслуженно обидный подзатыльник; а над крышей родного дома все играет и играет светлое нежаркое, но такое приветное солнце. Разве это солнце тоже было еврейским? Голос крови? Павел не мог понять, что сие означает. Хотя русские друзья говорили: когда он вспоминал о могилевском прошлом, в его речи чувствовался заметный еврейский акцент. Он явственно помнил голос и звонкий смех матери, своей аидише мамы. Она то и дело тайком от отца балует своего старшенького, подходит к его изголовью, подсовывает то пряник, то миндальную баранку, то какую другую вкусность, ее нежные руки касаются его лба. Сейчас мамеле уже нет, в комнате ее обосновалась совсем чужая женщина и всем заправляет в доме, да и сам он стал в этом доме совсем чужим. Да, остался отец, но он – человек сугубо практического склада, помешан на своей коммерции, и обсуждать с ним то, что действительно волнует, Павла никакого резона нет – да и говорят они теперь на разных языках. И не только потому, что он уже не Ноах, а Павел и стал думать по-русски. И хотя идиш вроде тоже не забыл, не знает он, как сказать на нем: «Благовестительный орган Ивана Великого», «Святая брашна сладкой пищи». Не может он втолковать отцу, что такое русская литература, почему она великая, какие дали отверзли ему Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И не может выразить в словах, как и почему прилепился душой к русскому народу, отчего, когда переступает он порог православного храма, теплеет его сердце, душа будто вздымается ввысь. Удивительно точно все-таки сказал русский поэт: «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?». Горько, конечно, что этим «другим» был его родной отец, это от него Павел принужден таить сокровенные «мечты и помыслыcвои».
Впрочем, и его русские литературные друзья высказывали подчас такое, внимать чему ему, урожденному Ноаху, было неприятно и больно. Вот, к примеру, его кумир Евдокия Ростопчина писала: «С уловкой сатаны, как род еврейский, / Вы вкривь и вкось толкуете слова». А Федор Глинка заявил как-то, что «ежели жиды выйдут на свободу, то свет кончится». Да и Василий Красов, тот самый Вася Красов, который вроде бы души в нем не чаял, в стихотворении «Еврей» (1833)[4] разглагольствовал о вине всего народа Израиля за распятие Спасителя, патетически вопрошая:
Скажи, Еврей, чего здесь ожидать?
Чья грудь тебя заботливо согреет?
Ты век гоним, ты низок сердцем стал,
И над тобой проклятье тяготеет!
Увы, Еврей, ты Бога распинал!
Но ни за собой, ни за своим народом Шейн вины не чувствовал. И в той крестной казни многовековой давности он видел ухищрения и злодейства горстки первосвященников и фарисеев (а крики «распни его!», так то ревела чернь, которая у всех народов одинаково неразумна и слепа). И он вспоминал слова апостола Павла о евреях: «Это народ закона и пророков, мучеников и апостолов, "иже верою победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования"». Неизвестно, обсуждал ли Шейн эти тогда не совсем безразличные для него вопросы со своими русскими друзьями, с Красовым (возможно, стихотворение «Еврей» Павел имел в виду, когда написал позже, что «некоторые его [Красова – Л.Б.] пиесы… довольно слабы») или держал горечь в себе. Видно только, что подобные уничижительные отзывы о народе, из коего вышел наш герой, не стали препятствием на пути к его обращению в христианство, хотя этот его шаг повлек за собой полный и окончательный разрыв с отцом и братьями, еврейской средой.
Но нельзя сказать, что Павел Шейн, подобно чеховскому Александру Ивановичу, «был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью». Уж чего–чего, а тупого самодовольства в нем не наблюдалось. Он глубоко переживал конфликт с родными и порой даже сомневался в правильности собственного духовного выбора, да и всей жизни. Вот что пишет Ф.Б. Миллеру: «Когда я подчас оглядываюсь назад, на свое прошлое, то ясно вижу, что вся моя судьба состоит из одних ошибок: не скажу ошибкою родился [подчеркнуто Шейном – Л.Б.], но по крайней мере меня ошибочно воспитывали, ошибочно подвергали многим болезням, ошибочно очутился я христианином, ошибочно, к несчастью, меня понимали и учили преподаватели школы святого Михаила…» Как видно, единственно, в чем уверен здесь наш герой, это в том, что он не ошибкою родился – а Ноах-Павел был рожден в еврействе.
А другому письму Шейн предпослал эпиграф из Лермонтова: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды». И продолжает: «Вот… эпиграф души моей со дня разлуки с бедными моими родителями, родными, родиной, которые с холодным презрением отвергнули, оттолкнули меня от себя, кажется, навек, как отчаянного грешника». Примечательно то, что тоска по еврейскому очагу вызывает у него чисто русские литературные реминисценции.
Павел, однако, не казнил себя и не каялся в своем отступничестве, а считал себя «невинно страдающим, отвергнутым родителями». Он не разумел того, что понял чеховский Александр Иванович: «Каждый народ инстинктивно бережет свою народность и свою веру». И Шейн как будто «старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий и свободный от предрассудков»…
В 1851 году он вышел из стен Училища св. Михаила, как он напишет, «с весьма скудным запасом сведений и с одной горячей любовью ко всему русскому» и «без руля и ветрила пустился в море житейское на произвол судьбы». Он здесь явно скромничает: знаний, полученных им, было вполне достаточно, чтобы самому стать ментором не из последних. В поисках хлеба насущного он и занялся учительством, чем зарабатывал на жизнь, воспитывая барских детей в богатых помещичьих семьях. С лета 1851 до весны 1855 года он пребывает в доме Н.А. Загряжского; с лета 1855 по весну 1856 года у П.А. Оленина; лето и осень . – в семействе Н.С. Краткова; с весны 1857 – осень . у графини М.Ф. Соллогуб, сестры видного славянофила Ю.Ф. Самарина; с мая 1859 до конца 1860 года – в имении тверского генерал-губернатора графа П.Т. Баранова.
В 1851 году он вместе с семейством Загряжских направляется в их деревню Селихово Тверской губернии, где впервые близко знакомится с народным бытом, причем пытается понять всю сокровенную суть крестьянина, сам затевает с ним беседу и… сразу же располагает к себе. «Тут постоишь немного, – удовлетворенно пишет он, – с одним мужиком поговоришь, другого о чем-нибудь спросишь, третий и сам без спроса тебе наскажет с три короба». В то время деревенская жизнь виделась ему, однако, в самых радужных тонах и очень напоминала славянофильскую идиллию: «Солнце село за лес, и отовсюду раздается блеянье стад, крик пастухов, ржание и топот разгоняемых лошадей, веселый говор и песни довольных, неприхотливых поселян».
Характеристика, которую Павел дает Загряжскому, знаменательна и, прежде всего, свидетельствует о приоритетах и жизненных ценностях самого Шейна. Вот что он пишет о своем барине-работодателе: «[Загряжский] – большой патриот, сознательно и без предубеждений любит Россию, русский язык, русскую поэзию, и в большом почете у всех окружающих…» Но подчас Павел чувствовал себя в помещичьем доме постояльцем и чужаком. Однажды в такую минуту он, досадуя на свое положение интеллигентного раба, выразит свою горечь словами из песни А.В. Кольцова. В письме к Ф.Б. Миллеру он процитирует:
У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная –
Не размывчива!
Речи вольные
Все как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва.
Но Шейн начинает серьезно интересоваться и подлинными безыскусными народными песнями и преданиями. Он ищет сказителей и певунов: «Я обратился к подрядчику плотников, на которого вся барская прислуга указывала как на отличного певца, – пишет Павел, – и попросил мне спеть какую-нибудь песню про богатыря. Он после некоторых колебаний пропел мне былину про Илью Муромца, которую я тут же записал, вознаградив певца по достоинству. Это ему развязало язык и склонило на мои просьбы приходить ко мне по вечерам для записывания других былин, хранившихся в его счастливой памяти. Таким образом, в течение недели я от своего почтенного барда Егора плотника и записал до шести довольно объемистых былин… Моей радости не было конца. Я стал отыскивать в нашей деревне других певцов. Нашлись и они. В течение осени я еще записал от 20 до 30 былин и исторических песен». В то же время он делает выписки из древнерусских летописей, статей языковедов Я.К. Грота, И.И. Срезневского, Ф. Миклошича и др. О Павле как о собирателе народных крылатых словечек говорит в 1852 году и Анастасия Глинка: «Мы часто Вас вспоминаем, – пишет она Шейну, – особенно при каком-нибудь особенном выражении, но недостает терпения, как у Вас, записывать такие приобретения».
Однако интерес к еврейской просветительской литературе он тоже не потерял. В 1853 году Павел настойчиво рекомендует для прочтения сочинение духовного вождя Хаскалы Мозеса Мендельсона «Федон, или О бессмертии души» (изд. 1841). Он говорит о книге как о «душеспасительной» и «благодетельной», способной «принести человеку образованному более духовной пользы и назидательности, более истинной теплой любви к милосердному и всеблагому Творцу нашему, чем целые сотни проповедей самых красноречивых и набожных пасторов».
В 1856 году, оказавшись в Москве, он знакомится с известным писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791-1859), которого задолго до этого «издали и по сочинениям привык уважать и любить от души». Но, пожалуй, наибольшую роль в судьбе Шейна сыграла его встреча с профессором, академиком, «поэтом мысли» Степаном Петровичем Шевыревым (1806-1864). Ревностный сторонник идеи русской народности и патриархальных православных ценностей, он первым с университетской кафедры высказал мысль о составлении «Полного свода всех русских песен, сказок и пословиц». Шевырев настаивал на скорейшем освоении фольклорного материала: «Как до сих пор мы не спешим уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, которые, может быть, скоро унесет с собой навеки старое поколение?». Согласно профессору, собиратель песен должен обладать «большим запасом эстетического вкуса и чутья народности» – качествами, которые всемерно старался развить и воспитать в себе наш герой. И неудивительно, что между ним и маститым ученым вскоре возникли симпатия и привязанность. «Душевно уважаемый», «многочтимый Степан Петрович», – пишет ему Шейн и признается: «Задушевная моя мысль – трудиться на пользу русской литературы всем, чем только богат». И Шевырев уже называет Павла «милым другом» и «любезным доброхотом», делится с ним впечатлениями о литературной жизни Москвы.
Видимо, с подачи Шевырева Шейн попадает в московский дом «неисправимого славянофила» Юрия Федоровича Самарина (1819-1876), чьи взгляды повлияли на него самым решительным образом. Прежде всего, это относится к основополагающей идее народности. «Говоря о русской народности, – настаивал Самарин, – мы понимаем ее в неразрывной связи с православной верою, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнью русского человека». По мысли Самарина, выявлению начал, которыми русский народ поверяет себя в песнях, и должна быть одушевлена деятельность русского фольклориста. И, как отмечает биограф, Шейн «попадает в атмосферу славянофильства и народности и охватывается ею».
Огромное и, можно сказать, определяющее влияние оказало на него знакомство с русскими славянофилами: Алексеем Степановичем Хомяковым (1804-1860), Иваном Сергеевичем (1823-1886) и Константином Сергеевичем (1817-1860) Аксаковыми, Михаилом Петровичем Погодиным (1800-1875), Осипом Максимовичем Бодянским (1808-1877) и др. Хомяков и Аксаковы впечатлили Шейна даже своим внешним обличьем: они не брили бороду демонстративно носили стародавнее русское платье, что было по тем временам шагом смелым и решительным. На их счет язвительная Евдокия Ростопчина злословила: «Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечесаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы и ненавидел бы отца, мать, братьев, жену, детей и проч.» Хотя славянофилы преклонялись перед народом как перед стихией, неподвластной «формальному разуму», живущей обычаем и верой и чуждой историческим изменениям (философ В.С. Соловьев назовет это «особнячеством»), столь резкая их оценка грешит предвзятостью, что было свойственно сей экстравагантной графине.
Вера славянофилов в высокую силу и мощь народа, в творческий характер русской культуры определила их глубокий интерес к фольклору. И заслуги их на сем поприще столь масштабны, что для серьезного собирателя народной поэзии, каким старался стать Шейн, сближение с ними было и неизбежным, и необходимым. Петру Васильевичу Киреевскому (1808-1856), которого называли «великим печальником земли русской», принадлежит заслуга собрания тысяч лирических и исторических песен, народных былин, большинство из коих увидели свет уже после его жизни. Вдохновленный на собирательство А.С. Пушкиным, С.А. Соболевским и С.П. Шевыревым, Киреевский в письме к Н.М. Языкову дал очень точное определение своему труду: «Собрание Русских Песен будет не только лучшая книга нашей Литературы, не только из замечательнейших явлений Литературы вообще, но что оно, если оно дойдет до сведения иностранцев в должной степени и будет ими понято, то должно ошеломить их так, как они ошеломлены быть не желают! Это будет явление беспримерное!» Хотя первый выпуск «Песен» П.В. Киреевского увидел свет в 1860 году, методы работы этого замечательного фольклориста и содержание его сборника были ведомы Павлу значительно ранее.
Теория фольклора и народной песни разрабатывал К.С. Аксаков, которого Шейн близко знал и состоял с ним в переписке. В статьях: «О древнем быте славян вообще и русских, в особенности, на основании обычаев, преданий, поверий и песен», «Богатыри времен великого князя Владимира, по русским песням» он представил целостную концепцию народной поэзии. К.С. Аксаков итожит: «Песня равно принадлежит всякому в народе, поэтому народную песню поет весь народ, имея весь на нее равное право, поэтому на песне нет имени сочинителя, и она является вдруг, как бы пропетая всем народом». Он подчеркивал: «Везде, где есть народ, есть национальная поэзия и народные песни»; они выражают вечную и истинную сущность народа, раскрывают его смысл и характер и вместе с тем остаются «верною опорою» и «порукой за будущее народа», «к каким бы сомнениям и противоречиям не привело нас его дальнейшее развитие». К.С. Аксаков резюмирует: «Все здесь принадлежит каждому в народе, ибо здесь индивидуум – нация, здесь он живет под этим национальным определением…Разнообразные и истинные, всегда ровные, верные сами себе, всегда полные одною определенною жизнью, стройно и невозмутимо поднимаются песни над народом, живущим в периоде исключительной национальности». О том, какое значение придавал К.С. Аксаков русской фольклорной традиции, говорят его страстные стихи:
Пора домой! И песни повторяя
Старинные, мы весело идем.
Пора домой! Нас ждет земля родная,
Великая в страдании немом.
В былинном же образе Ильи Муромца ему видится «непреоборимая могучесть» русского народа, проявляется «спокойная, никогда не выходящая из себя и потому никогда не слабеющая сила». Он рассуждает о «глубоко правдивом и религиозно-нравственном миросозерцании», выраженном в песнях о богатырях.
Христианизация народного творчества характерна и для Ивана Васильевича Киреевского (1806-1856). Даже отсутствие у русского народа застольных песен он связывал с религиозно-нравственными свойствами крестьянина, для которого якобы на первом месте – молитва.
А.С. Хомяков, с коим тоже непосредственно общался Шейн, говорил об исключительной жизненности русского фольклора и противопоставлял его «бесполезной для бытового человека» европейской народной поэзии. «Наши старые сказки отыскиваются не на палимпсестах, – писал он, – не в храме старых и полусгнивших рукописей, а в устах русского человека, поющего песни старины людям, не отставшим от старого быта. Наши старые грамоты являются памятниками не отжившего мира, не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а историческим проявлением стихий, которые еще живут и движутся на нашей великой Родине». Для Хомякова, с характерной для него концепцией «ретроспективной утопии», русский быт с его устоями и народная поэзия неотделимы. И такое мнение разделяли большинство славянофилов. Примечательно, что близкий к ним литератор Н.Ф. Павлов в стихотворении 1853 года, обращенном к А.С. Хомякову, охарактеризовал его как личность харизматическую «с ясной мыслью, с звуком чистым», которого благословили на служение народу «Златоуст и Аполлон».
По мысли профессора славяноведения Московского университета О.М. Бодянского (он будет активно сотрудничать с Шейном на ниве журналистики), песня – «дневник народов», их история, «хранилище всякого ведения и всякого верования», «их феогония, космогония, память, тризна по своих отцах и дорогих сердцу, надгробный памятник священной старины, живая говорящая летопись времен давно прошедших», «многосложная картина минувшего века, его духа», «верный очерк быта и всех его неуловимых простым глазом мельчайших подробностей». Совсем в духе А.С. Хомякова он заявляет, что славянский фольклор в гораздо большей степени отражает национальный характер и народный дух, чем фольклор других народов, ибо славяне – «самый песенный, самый поэтический народ в Европе».
С исключительной настойчивостью задачи собирания памятников фольклора и народного быта проводил в жизнь М.П. Погодин (Павел ходил на его лекции в Московском университете). Погодин не только сам записывал песни, совершая поездки по северу России, но и усиленно вербовал собирателей, поддерживал их начинания, популяризировал фольклор на страницах «Москвитянина» и других журналов.
Взгляды славянофилов на народ и его песенное творчество, их горячее желание глубоко изучить и сделать общим достоянием отечественный фольклор оказались созвучны чаяниям Шейна, решившего посвятить жизнь русскому народоведению. Однако, как заметил В.С. Соловьев, «господствующий тон всех славянофильских взглядов был в безусловном противоположении русского нерусскому, своего – чужому». И в их декларациях и историко-культурных построениях иудеям, к коим по рождению принадлежал Павел, отводилась весьма жалкая роль, и еврейство изображалось в самых черных красках. Вот, к примеру, какие ассоциации вызывают у А.С. Хомякова пресловутые миллионы барона Ротшильда: «В его денежном могуществе сказывается целая история и вера его племени. Это народ без Отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, и в особенности, это любовь к земным выгодам, которая и в древности не могла узнать Мессию в нищете и унижении». И еврейским деятелям культуры А.С. Хомяков отказывает не только в оригинальности, но и в нравственности: «Имена многих великих музыкантов принадлежат к роду Еврейскому; – пишет он, – к нему же принадлежат многие литераторы, замеченные по остроумию, грации или силе ума и выражения (хотя все они представляют что-то ложное в чувстве и мысли)». Утверждая самобытные начала русской культуры, он не только не признает за современными ему евреями какого-либо значения, своеобычности, но и отрицает их право эту собственную культуру иметь: «Иудей после Христа, есть живая бессмыслица, не имеющая разумного существования и потому никакого значения в историческом мире».
Ему вторит И.С. Аксаков, в устах которого нетерпимость к иудеям обретает откровенно антисемитские обертоны: «Верующий Еврей продолжает в своем сознании распинать Христа и бороться в мыслях, отчаянно и яростно, за отжитое право духовного первенства, – бороться с Тем, Который пришел упразднить "Закон" – исполнением его».
А что Павел Шейн? Как отнесся он к подобным инвективам славянофилов? Похоже, он стремился стать своим среди этих людей, не только чужих, но и откровенно враждебных еврейству и иудейской вере. И, приходится признать, наш герой последовал совету расположенного к нему Ивана Аксакова: «Логический выход из такого положения возможен только один: отречься от жидовства и принять те начала, которые составляют закон всего современного просвещенного мира. Это честный, прямой и вполне плодотворный выход…». Так «просвещенный» славянофилами Павел Шейн истребил в себе последние остатки еврейского национального чувства. Может статься, он сделал это«честно, прямо», по глубокому внутреннему убеждению.
Плодотворной оказалась, однако, совсем иная его активность – на поприще литературы, журналистики и собирания памятников русского фольклора. Шейн становится непременным участником заседаний Общества истории и древностей российских – первого научного общества для изучения и публикации документов по русской истории; он также вовлечен и в работу Общества любителей российской словесности, целью коего было «способствовать успехам отечественной литературы, как главному средству к распространению просвещения».
В 1859 году Павел по предложению своего давнего литературного наставника Ф.Б.Миллера начинает сотрудничать в издаваемом тем журнале «Развлечение», где под псевдонимами «П.Ш.», «Наум Словолюб» и «NN» в разделе «Библиографические известия» публикует свои мелкие рецензии и аннотации на вновь вышедшие книги. При этом Шейн представляется читателю (1859, № 16) как «простой любитель русской словесности, подчас марающий для своего удовольствия», и видит главную задачу своего участия в журнале – борьбу за сохранение чистоты русского языка от нелепых потуг «гнуть его как попало на тот иностранный лад, который временно у нас преобладает». С этой, вполне славянофильской, точки зрения он положительно оценивает «Разные сочинения» С.Т. Аксакова, автора коих называет «Нестором нашей литературы»; перевод С.П. Шевыревым драмы Ф. Шиллера «Валленштейнов лагерь»; а также книгу «Украинские народные сказания» Марко Вовчок (М.А. Вилинской), переложенную «полным мастером и хозяином русского слова» И.С. Тургеневым. Он и выбирает для отзыва книги о народе и написанные в народном духе – «Очерки Печерского Края» (1859), «А.В. Кольцов, его жизнь и сочинения» Н.А. Добролюбова (1859). Вместе с тем он выступает ревностным пропагандистом христианской морали и нравственности. В рецензиях на педагогические сочинения он поднимает на щит книгу Ф.Г.Х. Шварца «Руководство к воспитанию и обучению» (1859), объявляющую христианство основой всякого образования. Рецензент настаивает на том, что религиозное чувство надо прививать с младых ногтей, приобщая детей к вдумчивому чтению Евангелия (показательно, что труд Ф.Г.Х. Шварца станет потом настольной книгой самого Шейна-педагога).
Ф.Б. Миллер горячо поддержал предпринятое Шейном издание книги стихов покойного друга, поэта-самородка Василия Красова, скончавшегося в безвестности от чахотки в 1854 году. В этом сборнике, по мысли издателя, заключалось именно то, чем «умственно жило и интересовалось образованное русское общество в далеком, как и близком прошедшем…[Произведения Красова] в тридцатых и сороковых годах печатались в лучших журналах того времени наряду со стихотворениями Лермонтова, Огарева, Кольцова; многие из них с увлечением читались, перепечатывались, заучивались наизусть просвещеннейшими современниками покойного поэта, у которых они до сих пор сохранились в памяти». Важно то, что Шейн решает печатать стихи Красова в хронологическом порядке, поскольку, как он считает, это позволяет «проследить постепенное развитие поэта» (именно такой «диалектический» принцип расположения материала он примет и в своих фольклорных сборниках и назовет его «календарно-биографическим»). Однако усилия Шейна сделать стихи Красова достоянием широкого читателя пропали втуне: почти весь тираж напечатанной книги сгорел во время пожара на складе. Уцелели лишь считанные экземпляры, ставшие библиографической редкостью.
Важную вдохновляющую роль в профессиональной судьбе Шейна сыграл известный немецкий филолог, основоположник мифологической школы в фольклористике Якоб Гримм (1785-1863). Шейн свиделся с ним во время поездки за границу (в качестве домашнего учителя в одной семье), когда ему довелось посетить Берлин. Автор (вместе с братом Вильгельмом) знаменитого собрания немецких сказок, Гримм одобрил фольклорные труды Павла, с восторгом говорил о только начавших выходить «Народных русских сказках» А.Н. Афанасьева и все сокрушался, что Шейн, живя в Москве, незнаком с ним. «Непременно познакомьтесь с Афанасьевым, – настаивал Гримм. – И передайте от меня приветствие и благодарность за его сказки!»
В 1859 году в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (кн. III), редактируемых О.М. Бодянским, был опубликован сборник былин и песен, записанных Шейном еще в 1856 году (он был издан и отдельным пятидесятистраничным оттиском под заглавием «Русские народные былины и песни, собранные П.В. Шейном»). И показательно, что именно А.Н. Афанасьев специально выделил книгу Шейна и охарактеризовал собранные им материалы как «прекрасные дополнения к сборникам Кирши Данилова и Академии наук».
Получив одобрение ученого знатока, Павел решает «отныне посвятить все свои силы и способности дальнейшему собиранию памятников народного творчества – и, по возможности, заинтересовать в пользу этого дела и других грамотных людей везде, где придется жить и служить». Он верит, что его труды послужат «маленьким подспорьем, хоть одним камушком для созидающегося фундамента народоведения у нас на Руси».
И Шейн хочет в духе времени идти в народ и просвещать его. Ненадолго он становится преподавателем одной из московских воскресных школ, в 1861 году по приглашению Л.Н. Толстого учительствует в Яснополянской школе, затем делается учителем и штатным смотрителем училищ в Туле и Епифани. И всюду он, елико возможно, собирает произведения фольклора, привлекая к сему и своих учеников, и коллег-учителей, и просто случайных знакомых. У него выработалось важное, необходимое фольклористу-профессионалу качество, о чем говорит В.Ф. Миллер: «в разговоре с простым народом Павел Васильевич умел скоро устранять всякие стеснения и заинтересовывать собеседника, напоминал сам ту или другую песню из богатого запаса своей памяти». Необходимо также отметить его участие в деятельности Русского географического общества, с коим он сотрудничал до конца жизни.
За время своего учительства, в переездах из губернии в губернию, он собрал множество народных произведений. Поразительно, что труд сей совершался калекой, которому передвижение и писание давались ценой физических страданий (он не мог даже одеться без посторонней помощи, а влезать и слезать с экипажа стоило ему настоящих мучений). Он еле-еле передвигался на костылях, пальцы сведены от ревматизма, записывать трудно – и при этом Шейн обнаруживает самую завидную энергию. В 1868-1870 годах в «Чтениях Общества истории и древностей российских» выходят собранные Шейном песни детские, хороводные, плясовые, скоморошные, беседные, голосовые или протяжные, шутливые, забавные и сатирические, обрядные, свадебные и похоронные причитания и др. Они издаются и в виде отдельной 600-страничной книги: «Русские народные песни» (Ч. 1. М, 1870), с посвящением «неутомимому деятелю на поприще русского слова» В.И. Далю. Сборник включал около тысячи великорусских песен в принятом собирателем календарно-биографическом порядке. «Везде я старался сближаться с народом, – признается Шейн в предисловии, – прислушиваться к его живой своеобразной речи, пользовался всяким удобным случаем для пополнения своего собрания». Он глубоко убежден, что песня до сих пор «остается верной спутницей многотрудной жизни русского человека от колыбели до могилы», и своим расположением материала стремится раскрыть всю биографию и быт крестьянина в последовательном порядке. Свою задачу он видит в том, чтобы познакомить читателей «очень близко со многими сторонами быта русского человека, с его верованиями… с неисчерпаемым богатством его языка, которым он так творчески умеет пользоваться». И, как отмечали исследователи, «искусным подбором песен Шейну удалось воспроизвести типические черты русского национального характера». Интересно, что одна песня из этого сборника «Спится мне, младешенькой» была включена Н.А. Некрасовым в поэму «Кому на Руси жить хорошо».
Рецензируя книгу, академик Я.К. Грот назвал Шейна одним из «самых ревностных» русских собирателей, подарившим науке сборник песен, «собранных на обширном пространстве великой России»; отмечал его необыкновенную преданность делу и удивительную опытность и сноровку в записывании песен. «По богатству содержания этот том, посвященный В.И. Далю, конечно, порадует всех, интересующихся разработкой русской народной поэзии», – резюмировал Я.К. Грот. А Н.И. Костомаров в статье «Великорусская народная поэзия. По вновь изданным материалам» (1872), так писал о Шейне: «Такое лицо, свято и бескорыстно посвятившее себя прекрасному делу, полезному для отечественной науки, достойно того, чтобы помочь ему, а помочь ему можно только одним – даровать ему средства и содействие к продолжению своего дела. Этот человек весь предан ему, любит его более всего в мире, и, несмотря на свои немолодые лета и очень хилое здоровье, готов еще и, конечно, может сделать более десяти молодых и здоровых, с его необыкновенною любовью и неутомимою деятельностью. Дай Бог, чтоб на Руси не переводились такие почтенные труженики, которые, не возносясь высоко, не принимая на плечи свои тягости, которой они нести не могут, работают скромно, но делают столько, сколько сделать в состоянии по своим способностям и обстоятельствам жизни».
Между тем, обстоятельства жизни заставляют его сосредоточиться на учительской профессии: он изучает специальную литературу, ведет наблюдения над языком учащихся, их поведением. Осенью 1865 года Шейн переселился в Витебск и стал преподавателем немецкого языка в городской гимназии; работает он также в местных мужской и женской гимназиях.
Именно в Витебске Павел Васильевич вознамерился собирать белорусский фольклор. Разработал специальную памятку для записи песен, которую назвал «Просьба». Она была тиснута тиражом 600 экз. в Витебской типографии и разослана по Северо-Западному краю (а позднее неоднократно перепечатывалась). По существу это первая фольклористическая инструкция в России! Шейн настаивает здесь на необходимости точного сохранения говора, точного обозначения, к какому роду относится песня, как и от кого, когда и где записана – словом, излагает те требования, которые станут впоследствии общеобязательными для каждого собирателя. Особенно важно впервые установленное им правило повторять записанные песни с пения и говора «во всех его мельчайших оттенках».
«В то же время, – признавался Шейн, – и я сам не дремал, не сидел, сложа руки, загребая ими время от времени то, что доставят другие». Переезжая из города в город, передвигаясь на костылях по непролазным сельским дорогам, останавливаясь в селах и деревнях, он по утвержденной методике точно записывал тексты песен и легенд, фиксировал особенности местного говора. Павел Васильевич обладал замечательным даром общения, и крестьяне проникались симпатией и сочувствием к барину-инвалиду. Более 400 песен он записал от Марии Васильевны Котковичовны из местечка Чашники, которую называет «знахаркой своего дела», женщины весьма колоритной, в коей знание народной жизни сочеталось с самодовольством и шляхетской спесью.
Сборник «Белорусские народные песни, с относящимися к ним обрядами, обычаями, суевериями, с приложением словаря и грамматических примечаний» увидел свет в 1874 году в «Записках Географического общества». 1006 произведений фольклора размещены, как обычно у Шейна, по «календарно- биографическому» принципу. Такая система помогала раскрыть «общую картину» бытовой жизни белорусского крестьянина, «круготочение» которой составитель попытался проследить на песнях лирико-обрядовых – от колыбельных до похоронных. Наш герой впервые дал в руки исследователю множество белорусских песен – крестинных, колыбельных, детских и особенно трудовых (толочанских и жнивных). Он снабдил сборник и толковым научным аппаратом, что усиливало его достоинства. По свидетельству академика Е.Ф. Карского, «Белорусские народные песни» превзошли своими качествами все, что было создано до этого в белорусской этнографии на русском и польском языках. «Наиболее обширным сборником белорусской народной поэзии, исполненным без вычур» назвал труд Шейна историк литературы А.Н. Пыпин. А академик Л.Н. Майков характеризует сборник как «благообразный и занимательный». Русское географическое общество наградило Павла Васильевича малой золотой медалью. А по рекомендации академика О.Ф. Миллера, отметившего необычайную добросовестность, скрупулезность и скромность собирателя, Академия наук присудила ему Уваровскую премию.
Одновременно он продолжает и преподавательскую деятельность. В 1873 году переезжает в город Шуя и преподает немецкий язык в городской прогимназии, затем работает учителем русского языка и словесности в реальных училищах Зарайска (1874 – май 1875 г.) и Калуги (1876-1881 гг.). И, приходится признать, что, по отзывам гимназистов, «учителем милостью Божьей» Шейн не был. Да и характер у Павла Васильевича, каким он предстает в сохранившихся письмах и документах, был взрывной, неуживчивый и конфликтный. В педагогических коллективах, где ему довелось работать, часто вспыхивали ссоры, и долго он на одном месте не задерживался. И это несмотря на покровительство инспектора Московского учебного округа А.Г. Семеновича.
Нельзя обойти молчанием и его крайне правые политические взгляды и установки, впрочем, созвучные доктринам Официальной Народности. Так, в письме к орловскому губернатору (и видному библиографу и историку литературы) М.Н. Лонгинову 26 января 1872 года Шейн заявляет о своей «политической благонадежности». А в многочисленных письмах помянутому А.Г. Семеновичу он честит «крамольников, нигилистов, разрушителей начал доброй гражданской нравственности». При этом он объявляет себя идейным сторонником Михаила Никифоровича Каткова (1817-1887), чье консервативно-оппозиционное отношение к реформам Александра II общеизвестно. В издаваемых им «Московских ведомостях» Катков иронизировал по поводу либералов и «всякого рода добродетельных демагогов и Каев Гракхов» и ликовал, что «пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию».
Кстати, в типографии Каткова печатались и «Русские народные песни» Шейна. Любопытно отметить, что в Музее книги РГБ сохранился экземпляр этого издания (МК IV-6175) с автографом Павла Васильевича: «Ольге Алексеевне Киреевой в знак душевного уважения от собирателя. Москва. Январь 3. 1860». Адресат дарителя – О.А. Новикова (урожденная Киреева) (1840-1925), выступавшая под псевдонимом «Русская», публицист, представительница так называемого «патриотического консерватизма» и ревностная сторонница взглядов Каткова. «Ваш авторитет направляет мою деятельность и дает силу моим доводам», – писала она ему. «Патриотизм» О.А. Киреевой закономерно приведет ее позднее в Союз русского народа, деятельной активисткой которого она станет.
Нет данных, поддерживал ли Шейн националистические устремления Каткова и его нападки в печати на инородцев, но Павел Васильевич неизменно говорит о нем с придыханием как об «истинном патриоте», который «указывает бесстрашно на корень всякой неурядицы у нас».
1860-70 годы ознаменованы в России борьбой иудеев за свои гражданские права и оживлением еврейской культурной жизни. Однако в творчестве Шейна мы не находим и следа интереса к подобным вопросам. В 1873 году он публикует свои «Дополнения и заметки к Толковому словарю Даля», где указывает, что в словарной статье на слово «Кстати»пропущена поговорка: «Кстати жид крестился и монах женился». Вдумался ли он в смысл сего высказывания? Понял ли заключенные в нем насмешку и сарказм? Ведь крещение еврея означено здесь событием столь же невероятным, как и женитьба человека, давшего обет безбрачия. А, значит, совсем некстати было в глазах народа это крещение. Но, похоже, Шейн вовсе не хочет размышлять на эту тему. Что за блажь все примерять на себя! И он лишь механически воспроизводит то, что слышит, – и с него довольно!
Зато интерес Павла Васильевича к белорусской культуре только усиливается, и Отделение русского языка и словесности Академии наук, уже достаточно оценившее его энергию и трудоспособность, в 1877 году командирует его в Северо-Западный край, ассигновав на это 600 рублей. Собиратель находился там более пяти месяцев и объехал пять уездов, сделал более 3000 записей с подробными описаниями обрядов, обычаев, внешнего быта и самих произведений народного творчества.
По счастью, доверительная, с оттенком лукавинки, манера общения Шейна с крестьянами нам доподлинно известна, поскольку живое свидетельство такого общения оставил он сам: «Как начнут отнекиваться, – рассказывает Павел Васильевич, – я тотчас за свой сборник – открою в нем какой-либо отдел, прочту какую-либо песенку и давай экзаменовать: "Ци пяюць у вас, Гапуля, или там, Ганнуля, гэту песню?" – "Ня ведаю, панночек, ня чула". Тут я, не говоря более ни слова, затяну, как сумею, на голос названную песню и тотчас на лицах кругом обстоящих меня певиц (реже певцов) непременно появится непритворное выражение удивления и нетерпеливости, и едва успею пропеть несколько стихов, как уже замечаю, что мои внимательные слушательницы потихоньку полушепотом начинают мне вторить, подтягивать, постепенно возвышая свой голос, а более смелая из них еще вздернет плечами, отвернется в сторону от негодования, плюнет, пожалуй, и скажет в сердцах: "Брэшецъ хто табе так пеяу. Ци так пеюць гэту песню?". А мне это и на руку. Тотчас, разумеется, замолчу, а затем скажу и своей, сконфузившей меня при всей честной компании критикантке: "А як жа у вас пяюць? Я ня тутейший, сам ня ведаю як. Людзи кажуць у вас лепше поюць и ваше песни лепше. Спей гэту песню, альбо другую якую!" Ободренная этими словами, моя слушательница, после некоторых новых отговорок, сказанных просто ради чванства, непременно споет мне сперва желанную песню, затем другую, третью и т. д… Этим способом мне всегда удавалось до такой степени развязать язык и голос моих певиц, что успевай только записывать, а на другой день по первому моему призыву охотно являлись в назначенный час для нового сеанса». Как видно, Шейн был замечательным психологом: всем своим обликом, голосом, жестом, умением вести разговор вызывал предельную открытость и непринужденность собеседника. Можно назвать его беседу с крестьянами эстетической провокацией собирателя, поскольку беседа эта побуждала их к творчеству – активизировала память, заставляла говорить, скандировать, петь.
Шейн интересовался и мелодиями белорусских песен. Напевы не записывал, поскольку нот не знал, но с его голоса их записывали музыканты-профессионалы. По словам исследователя В.Н. Добровольского, Павел Васильевич сам был знатным певцом и особенно хорошо исполнял белорусскую песню «Научить тебя, Ванюша, ко мне не ходить». В.Ф. Миллер о командировке Шейна в Белоруссию писал: «Едва ли можно себе представить, что где-либо научные экспедиции совершались так дешево и приносили такие капитальные результаты».
А результаты были и впрямь впечатляющими. В 1887-1902 годах Академия наук издает капитальный четырехтомный труд Шейна «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края». Бросается в глаза универсальность сборника: вся жизнь белоруса, все виды народной поэзии раскрыты глубоко и разносторонне. Обильно представлены обряды (родины, крестины, рождественские праздники, святки, обряды колядные, великодные на Юрьев день, троицкие, русальские, петровские, купальские, жнивные) и песни (колыбельные и детские, беседные, бытовые, шуточные, разгульные, любовные, семейные, рекрутские, солдатские, свадебные, погребальные, причитания). Далее следует эпическая поэзия – духовные стихи, молитвы, сказки, анекдоты, предания, воспоминания, пословицы, поговорки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, заклинания, вирши. Завершают картину описания быта и материальной культуры белорусов: их жилище, одежда, пища, занятия, препровождение времени, игры, верования, обычное право; а также чародейство, колдовство, знахарство, поверья и суеверья, приметы и т. д.
Нелишне отметить, что при анализе этих произведений Шейн использует и свои знания еврейской традиции и культуры. Так, комментируя белорусскую байку «Пошел козел за орехами» и говоря о бытовании ее сюжета в славянском и германском фольклоре, он возводит его к преданиям Агады – области талмудической литературы, возникновение которой относят ко II веку до н. э. Вместе с тем он демонстрирует эрудицию не только в древнееврейской книжности, но и в иудаике на немецком языке. Показательно, однако, что все цитируемые им сочинения германских гебраистов относятся к началу XIX века. И это верное свидетельство того, что проблема еврейства занимала Шейна когда-то давно, на самом раннем этапе его деятельности, и за текущей литературой в этой области он не следил. И в этом своем труде он выступает как бесстрастный выразитель, так сказать, «гласа народа». Вот какую озорную припевку предлагает читателю Павел Васильевич:
Пришли жиды под лужок,
Узяли с хаты семь мешок,
Пришли жиды у пятницу,
Узяло с хаты лопацицу,
Пришли жиды у субботу,
Узяли с хаты усю работу,
Пришли жиды у недзелю,
Узяли мою усю надзею.
«Материалы…», между тем, не только получили высокую оценку ведущих ученых (академиков Е.Ф. Карского, А.И.Соболевского, А.Н. Веселовского, профессоров Н.Ф. Сумцова, П.В. Владимирова), но и были удостоены премии Академии наук имени Батюшкова.
С 1881 года Шейн решает полностью сосредоточиться на научной и собирательской деятельности, выходит в отставку, переезжает в Петербург и живет на учительскую пенсию – 61 рубль. Столь микроскопической суммы было недостаточно даже для такого аскетически-скромного труженика, тем более, что этнографическая работа требовала немалых расходов. Коллеги и друзья Павла Васильевича понимали, что такое служение науке нуждается в государственной поддержке, и хлопотали об увеличении ему денежного довольствия. Однако бесконечные бюрократические проволочки все затягивали дело, и только в 1891 году, то есть, в возрасте 65 лет, Шейн стал получать вдвое большую пенсию – 122 руб. 50 коп.
Называя себя «чернорабочим в науке», Павел Васильевич с 1876 по 1900 годы публиковал свои научные изыскания на страницах редактируемого В.Ф. Миллером «Этнографического обозрения», в других периодических изданиях. Среди его статей: «О собирании памятников народного творчества для издаваемого Академией наук Белорусского сборника, с предисловием Я. Грота» (1886), «К вопросу об условных языках» (1899), «К диалектологии великорусских наречий» (1899). Шейн участвовал также в составлении академического словаря русского литературного языка, который пополнял народной фразеологией.
Под старость в одинокую жизнь Павла Васильевича был внесен проблеск радости и семейного уюта. «Улыбкою прощальной» ему блеснула любовь, и ею стала обыкновенная русская женщина, петербургская белошвейка Прасковья Антиповна Виноградова, младше его на целых 30 лет. Натура сострадательная, отзывчивая, она всем сердцем прикипела к мужу-инвалиду, полюбив его просто таким, как он есть. Воодушевление и бодрость духа Шейна в ее присутствии современник живописует в самых восторженных тонах: «Большая подвижность, несмотря на калечество, выразительная игра лица, совершенно молодые, блестящие глаза, крупная и характерная голова с густыми белыми кудрями, живость и остроумие разговора и горячий живой интерес ко всему… Он так легко побеждал силой духа все свои немощи и убожество, и вы невольно забывали о них». Прасковья Антиповна, которую он называл полушутливо: «моя сестра милосердия», – словно оправдывая это прозвание, не уставала дарить ему свою широту сердца, щедрость души – стала рачительной, домовитой хозяйкой, помогала ему во всем. Не беда, что читала с трудом, ибо с грамотой не дружила, но корректуры в типографию носить могла – и носила, и все желания его угадывала; не успеет сказать, – а все готово уже. И вдобавок, как в том еврейском анекдоте, еще немного шила (ведь белошвейкой была), пополняя семейную казну.
И вот на седьмом десятке у Шейна рождается дочь. Девочку сразу же крестят по православному обряду. Ее баюкают под напевы русской колыбельной. Она внимает сказкам об Иване-царевиче и Илье Муромце. И очень нескоро узнает, что она дочь еврея. Да и на фотографическом портрете самого Павла Васильевича тех лет едва ли угадываются семитские черты: похоже, за долгие годы общения с крестьянами он настолько сроднился с ними, что обрел какой-то простонародный облик. Он очень напоминает мужика-великоросса средней полосы, и его окладистая борода тоже воспринимается как вполне русская, славянофильская что ли, словно на эту русскость работает.
Последний и главный труд Шейна – «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (1898-1900). Это была такая махина, для которой, по словам собирателя, «действительно нужно было иметь "силушку звериную", "потяги держать да лошадиные", как поет народ про свою жизнь и работу». И он трудился жадно и вдохновенно. Казалось, долгожданное семейное счастье достигнуто, стало надежным, стойким и помогало напряженной работе.
Но недаром говорят, пришла беда – отворяй ворота! Все оборвалось в одночасье! Наверное, немилосердный Иегова мстит ему за отступничество! Кто еще мог наслать напасти на его «сестру милосердия», Прасковью Антиповну, Пашеньку?! «Моя бедная, трудолюбивейшая и добрейшая жена, – пишет Шейн В.Ф. Миллеру 8 февраля 1896 года, – заболела такой болезнью, которой помочь без операции невозможно…Я решительно в отчаянии, как мне с дочуркой прожить на свете… Ведь ни я, ни дочурка не можем ни шагу сделать без мамули нашей: она нас и одевает, и раздевает, и кормит, и лечит; одним словом, она все в нашей ежедневной жизни». Через некоторое время он пишет другое, полное отчаяния письмо: «Моя милая многострадальная жена с прошлой субботы находится в Евангелической больнице, и сегодня утром ей там сделали операцию весьма серьезную. Что будет с нею, и что ожидает меня с дочуркой – страшно подумать. У меня голова трещит, все нервы в страшном напряжении, – плачу поминутно, как старая деревенская баба… Какие вести принесет мне завтрашний день? Уповаю на милосердие Бога, что сподобит передать ему дух мой на руках моей милой, дорогой жены и не попустит смерти подкосить мою жизнь в одиночестве, нежели окончу свой небесполезный для моих соотечественников труд».
Однако и операция не помогла. Организм Прасковьи Антиповны оказался пораженным раковыми метастазами. Ее перевезли из больницы домой, и Павел Васильевич долгие месяцы сидел у одра страдалицы-жены. Обласканный всего на несколько лет семейным уютом, он остро переживал свалившееся на него горе, скорбно ждал одиночества, но ни на минуту не оставлял мысли о труде всей своей жизни: «Уже не говоря о том, что предстоящее мне испытание, когда Богу угодно будет призвать меня к себе, убьет последнюю жизненную силу мою, которая каким-то чудом сохранилась во мне, в моем слабом организме с такою живучестью, но страдания мои душевные… высасывают всю мою кровь, сжимают мою слабую грудь до спазм, до бессонницы: не сплю до 4-х, 5-ти часов утра. А между тем меня академическая типография осаждает корректурами моего "Великорусса". Не знаю, хватит ли у меня сил для перенесения предстоящего несчастия, но мне не хотелось бы умереть раньше окончания моего сборника, на который я потратил столько лет жизни, энергии и всевозможных жертв. Для этой цели я готов, как нищий на улице, просить, клянчить у всех проходящих мимо меня и близ меня людей и приятелей, довлачить мне мою разбитую нежданно-негаданно жизнь, хоть кое-как, до окончания моего многолетнего, многострадального труда».
В феврале 1897 года Прасковья Антиповна отмучилась и покинула сей мир. «Какой тяжелый, сокрушительный удар нанесла мне судьба этой утратой, в особенности в мои годы! – воскликнул Павел Васильевич. – Страшно мне будет довлачить остаток жизни…».
А через год увидел свет первый том его «Великорусса», в коем Шейн намеревался собрать и объединить все свои многочисленные материалы, как опубликованные, так и хранившиеся в рукописях. Труд сей может быть назван энциклопедией поэтического богатства русского крестьянина. Хотя издание не завершено и в него вошел только песенный материал, но и в незаконченном виде он принадлежит к самым замечательным памятникам мировой фольклористики. В нем свыше 2 500 песенных текстов из 22 российских губерний с подробным описанием народных обрядов и обычаев. Содержание «Великоруcса» богато и разнообразно. Художественное чутье и опытность помогли собирателю отобрать лучшие образцы русской народной песенной лирики. Новацией было и то, что к сборнику прилагались ноты к 17 песням и объяснительное письмо к ним, способствовавшие полноценному восприятию народного творчества.
По словам литературоведа М.К. Азадовского, «для изучения обрядовой поэзии – это основоположный труд и один из важнейших классических сборников русского фольклора». Академик Е.Ф. Карский назвал его «выдающимся явлением великорусской этнографии». Однако, как верно заметил этнограф А.В. Марков, «Великорусс» стал «лебединой песнью неутомимого собирателя».
Шейн, однако, настойчиво продолжает свои труды, хотя им часто овладевает глубокое уныние. «И это нравственное состояние тем тяжелее для меня, – откровенничает он, – что я по два – по три дня не выхожу из дому, редко дышу свежим воздухом… Сажусь за работу, над которой сижу до поздней ночи. Эта почти механическая работа убила наповал мою личную жизнь… Опасаюсь, чтобы отчаяние… не лишило меня возможности продолжать работать над собранным, не легко обозримым и, как смею думать, ценным для науки материалом».
В другом месте он, описывая свой распорядок дня, признается: «Как только встаю, сейчас за "Новое время", затем чай…». Из сего видно, что чтение антисемитского издания А.А. Суворина настолько вошло у него в привычку, что стало своего рода ритуалом, обязательным перед чаепитием. Что искал в ультраправой газете этнический еврей Шейн? Чем могли быть ему любы погромные настроения лютых «патриотов» и шовинистов? Нет ответа. Но, помня реакционные взгляды Павла Васильевича, можно утверждать, что его жгучий интерес к «Новому времени» далеко не случаен.
Хилый и физически разбитый, Шейн направился лечиться на берег Балтийского моря, где 14 августа 1900 года окончил свой жизненный путь. Он нашел успокоение вдали от России, на немецком кладбище в Риге. Но памятник Павлу Васильевичу был сооружен там на средства и по инициативе российского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, отдавшего дань бескорыстному служению фольклориста науке и русскому народу. И сегодня именем Павла Васильевича Шейна называют в России улицы, почетные студенческие стипендии; сведения о нем вошли во многие биографические словари и энциклопедии, причем не только литературные.
Знаменательно, однако, что хотя Шейн долгое время ничего общего со своими соплеменниками не имел, все биографы собирателя неизменно подчеркивали его еврейские корни. «Павел Васильевич Шейн, родом еврей, – писал Н.И. Костомаров, – в молодости принял христианство, не из расчета, как поступают нередко его соплеменники, а из убеждения, и с тех пор предался всею душою русскому народу, посвятив себя изучению его народности…Он исполнял свое дело с редкою страстною любовью и удивительным постоянством». «Своим свыше чем сорокалетним трудом, – вторил ему профессор Б.М. Соколов, – еврей Шейн явил достойный пример служения русскому народу и его самобытной культуре». В этом же духе высказывались ученые А.Е. Грузинский, Ф.В. Миллер, А.Н. Пыпин. И становится очевидным: Шейн, искренне принявший христианство и не только впитавший в себя русскую культуру, но и обогативший ее, был для части российской интеллигенции типом образцового, идеального еврея. Ассимиляция, русификация, отказ от иудейских ценностей и традиций, хотя не декларировались прямо, но неизменно в такой идеальный образ вписывались. Об этом, кстати, рассуждает и Василий Розанов в статье «Пестрые темы».
Стоит ли доказывать, что духовный выбор Шейна – не единственный возможный путь для еврея в России? В ней имеют право быть и такие деятели, как, скажем, не отрекшийся от религии отцов Исаак Левитан. «Еврей не должен касаться русского пейзажа!» – предостерегали антисемиты-почвенники, но кто помнит тех, кто предостерегал, а пронзительные «Золотая осень» и «Над вечным покоем» живы и будут жить в памяти народной. И Леон Мандельштам служил Отечеству, сохраняя при этом свою веру и национальную идентичность. Их жизнь, как и жизнь Павла Васильевича Шейна, так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.
Краткий вариант этой статьи под названием «Феномен Павла Шейна» был опубликован в «Новом журнале», № 260, 2010.
Примечания
[1] С Глинками его, возможно, познакомила Елизавета Алексеевна Драшусова-Карлгоф (ок.1816-1884), частая посетительница их литературных вечеров (воспоминания об этом она включила в свой неопубликованный роман «Не от мира сего»). В.И. Красов посвятил ей балладу «Клара Моврай» (Киевлянин, Кн. 1. 1840, С. 124-126), навеянную романом Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды».
[2] Федор Николаевич Глинка (1786-1880) привлек Шейна знанием Библии, любовью к отечественной старине, широтой и глубиной эрудиции в самых разных науках - истории, словесности, этнографии, мифологии; он был собирателем древних русских рукописей и книг. Писатель читал вслух гостям отрывки из сочиненного им (совместно с Авдотьей Глинкой) « народного предания» под названием « Таинственная капля» - о земной жизни Иисуса Христа, содержание коей, по его словам, было заимствовано « из древней легенды, сохранившейся в хрониках средних веков, в семейных рассказах и в памяти христианских народов». Говорилось здесь о разбойнике, вкусившем в младенчестве каплю молока Богородицы и раскаявшемся при распятии на кресте рядом со Спасителем. То было первое подробное повествование о Христе, услышанное нашим героем. Неизвестно, оказало ли оно тогда влияние на его еще не обращенную душу. Но вот образ ветхозаветного праведника в « Свободном подражании Священной книге Иова» Глинки, Павлу, воспитанному в иудейских традициях, был более близок. (Да и сам сочинитель говорил здесь: « У евреев ученые раввины, составители Талмуда, потом раввин Елеазар и другие…с благоговением рассуждали об этой книге»). И юноша мог подписаться под словами Федора Николаевича: « Повесть о страданиях Иова во все времена будет велика, прекрасна, для всех трогательна, ибо она основана на общей истине и составляет историю всего человеческого рода». Знал Шейн и о том, что Глинка написал « народную повесть», которую адресовал « сельским чтецам, деревенским грамотеям», а такие его песни, как « Не слышно шуму городского…» и « Вот мчится тройка удалая…», вошли в сокровищницу русской словесности.
Завсегдатаем в доме был и поэт, критик, мемуарист Михаил Александрович Дмитриев (1796-1866), называвший себя «антикварием литературных наших дел». Переводчик произведений Горация, Г. Гейне, Ф. Шиллера, И.Г.Гердера, Л. Уланда, он в то же время неизменно критиковал западников, сетовал на оскудение христианской любви, забвение старинных русских обычаев и переимчивость иностранного. Характерно, что в стихотворении « Семисотлетняя Москва» (1845), которое мог слышать Шейн в доме Глинок, он сетует:
Раз лишь ослушалась наша Москва! Не хотелось старушке
Бороды брить сыновьям, дочерей наряжать по-немецки!
Старые люди упрямы! Старые кости не гибки!
Стыдно ей было плясать на старости лет в ассамблеях,
Горько ей было, что внуки в Немецкую слободу ездят!
Хотя М.А. Дмитриев писал и лирические, и эпически-описательные, и публицистические произведения, современников больше привлекала его сатирическая поэзия, о которой Н.В. Гоголь сказал, что в ней « желчь Ювенала соединилась с каким-то особым славянским добродушием». Кроме того, Михаил Александрович был прекрасным рассказчиком, раскрыл Павлу художественные достоинства русской литературы XVIII века, которую большинство читателей 1840 годов воспринимало как череду нелепых ошибок. «Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают. – оспаривал это предубеждение Дмитриев. – Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались». Племянник видного стихотворца И.И. Дмитриева, близкого друга писателя и историографа Н.М. Карамзина, он дает живые портреты литераторов в интерьере времени, доносит до слушателя дыхание Екатеринина века. При этом безыскусственность и простота составляли особенность его повествования. Подкупали также особый доверительный тон и удивительная скромность автора. Свои бесценные мемуары он назовет потом « мелочи из запаса моей памяти» и будет говорить: « Я знаю многое кое-то об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто…Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старее молодых словесников: преимущество не важное!» Хотя М.А. Дмитриеву в то время едва перевалило за пятьдесят, Павел воспринимал его как старика, но внимал ему с жадностью.
Кружок Глинок посещал прозаик, поэт, историк Александр Фомич Вельтман (1780-1870), в ту пору заместитель директора Оружейной палаты Московского Кремля. Действительный член Общества любителей российской словесности и Общества истории и древностей российских, он в своем творчестве деятельно разрабатывал тему Древней Руси (письмо « О Господине Новгороде Великом», 1834). Его считают создателем оригинального фольклорно-исторического жанра, черты которого видны в романах « Кощей Бессмертный. Былина старого времени» (1833) и « Святослав, вражий питомец» (1835). Белинский отмечал, что романы Вельтмана о Древней Руси « народны в том смысле, что дружны с духом народных сказок, покрыты колоритом славянской древности». К славянству же и славянскому фольклору писатель проявлял стойкий интерес – опубликовал роман « Райна, королева болгарская» (1843), стихотворную драму « Ратибор Холмоградский» (1841), а также написанную на основе сербских баллад и преданий « Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой денницей ясному месяцу» (1846). Важно и то, что Александр Фомич был неутомимым собирателем фольклора, что объединяло его с нашим героем.
В числе непременных посетителей литературных вечеров Глинок был поэт, переводчик, историк Николай Васильевич Берг (1823-1884), тоже ревностный энтузиаст славянства. Он перевел стихотворения и эпическую поэму «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича. Однако особое внимание уделял Николай Берг народной песне славян, и общение с ним было благотворно и чрезвычайно полезно для Шейна. В 1854 году Н.В. Берг издаст сборник « Песни народов мира», куда войдут песни 26 народов - в оригинале и переводе на русский язык.
[3] В конце текста стоят инициалы «П.Ш». Такой криптоним использовал П.В. Шейн, публикуя свои материалы в журнале «Развлечение» (1859). Стихотворение было атрибутировано Шейну Н.П. Смирновым-Сокольским (Русские литературные альманахи и сборники XVIII-XIX вв. М., 1965, С. 236).
[4] Это стихотворение советская цензура признала антисемитским, и в СССР оно не перепечатывалось.
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня

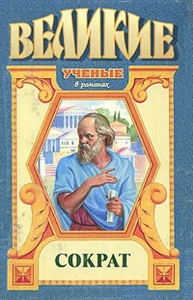



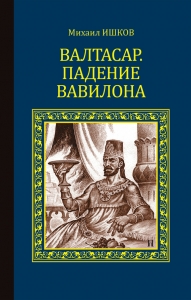
Комментарии к книге «Из иудеев – в славянофилы», Лев Иосифович Бердников
Всего 0 комментариев