Владимир Борисович Микушевич Воскресение в Третьем Риме
Трагедия, подлинное железо гвоздей
распинающих – источник всякого
благородства, той алой крови, которая
всех этой крови причащающихся делает
«родом царственным».
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙВведение
МИРОВАЯ слава Платона Демьяновича Чудотворцева, неожиданно пришедшая после его смерти, застигла врасплох не только меня, работавшего над его жизнеописанием сначала втайне, потом почти явно, а теперь снова почти втайне, что подтверждает постулат самого Чудотворцева: нет ничего явного, что не осталось бы тайным. Слишком уж многовариантной оказалась эта слава. Для одних Чудотворцев – религиозный мыслитель, продолжатель блаженного Августина, святого Григория Паламы и, быть может, Владимира Соловьева, хотя Чудотворцев, так сказать, православнее. Но для других он гений оккультизма, чуть ли не соперник Гурджиева, во всяком случае, стойкий федоровец, так или иначе постигший тайну бессмертия и, быть может, сам не умерший, а таинственно исчезнувший или даже пребывающий среди нас, хотя об этом и не принято говорить публично или вслух. Но для третьих Чудотворцев – преимущественно идеолог новой, православной государственности, тайный вдохновитель Сталина и Вышинского, идеолог некоего социально-религиозного движения, именуемого ПРАКС. Признаюсь, я сам принадлежу к первым и чту в Чудотворцеве, прежде всего, православного философа. Но при этом не могу не отдать должного и моим гласным и негласным оппонентам. Что касается ПРАКСа, его идеологи, к сожалению, многим обязаны рискованным теориям позднего Чудотворцева, а ранний и позднейший Чудотворцев, действительно, уделил много внимания проблеме личного бессмертия, и в самом нынешнем функционировании его идей есть нечто загадочное, наводящее на мысль о его личном участии и присутствии в судьбах современного мира. Словом, Чудотворцева характеризует сама его фамилия Чудотворцев, не говоря уже об имени Платон, определившем и его призвание и самый дух его философствования.
Мое положение осложняется еще и тем, что я нахожусь между двух огней. Две женщины, с которыми так или иначе связано наследие Чудотворцева, оказывают на меня давление и требуют от меня каждая своего. Рационалистическую линию в отношении Чудотворцева отстаивает его дочь Кира. Для нее Чудотворцев – мученик тоталитаризма и апостол духовной свободы. Еще недавно Кира с отвращением отвергала малейшие намеки на его, так сказать, осуществившееся бессмертие, издевалась над захолустным спиритизмом, насаждаемым некоторыми. (В это слово она вкладывала максимум презрения, и нетрудно было понять, кого она имеет в виду.) Особый гнев у нее вызывали слухи о сталинистских симпатиях и даже связях ее отца, хотя из ее собственного поведения явствовало, что слухи эти небезосновательны. Но в последнее время Кира вдруг стала признавать кое-что мистическое в наследии Чудотворцева, а в своем последнем докладе на Чудотворцевских чтениях позволила себе даже говорить о его просвещенном, созидательном авторитаризме. Напротив, Клавдия теперь настаивает на строгом православии Платона Демьяновича, с негодованием разоблачает слухи о его оккультных пристрастиях, но по-прежнему одновременно признает и не признает себя его вдовой. Складывается впечатление, будто Кира и Клавдия просто не могут себе позволить согласия между собой, и что бы ни говорила одна, другая будет ей противоречить, а тут еще давление ПРАКСа на обеих, и, очевидно, этому давлению скорее поддается Клавдия.
При этом и та и другая все время обнародуют новые материалы Чудотворцева и о Чудотворцеве, а я не могу не учитывать этих материалов, даже если они, на мой взгляд, весьма проблематичны или просто недостоверны. Поэтому строгое жизнеописание Чудотворцева я откладываю на будущее. То, что я пишу сейчас, лишь воспоминания, но не только и не столько о прошлом, сколько о настоящем, не житие, а летопись, включающая в себя и мою жизнь, ибо иначе я не знаю, как вообще исследовать феномен Чудотворцева.
Глава первая КИРА
КИРА позвонила мне как ни в чем не бывало, как будто последние пятнадцать лет мы не разлучались. Я сразу уловил в ее голосе истерически кокетливые нотки, перед которыми и раньше всегда пасовал. Кира пожелала увидеться немедленно, и мне ничего не оставалось, как отправиться к ней на Старый Арбат.
Надо сказать, что квартира Чудотворцева подтверждает худшие слухи о нем. Мало того, что это одна из немногих московских квартир, числящихся за своим съемщиком с дореволюционных времен. Чудотворцев нанял эту квартиру то ли в 1911, то ли в 1912 году, вернувшись из Германии. Приданое Олимпиады Гордеевны еще не было растрачено и позволяло сравнительно молодому профессору роскошествовать. В этой самой квартире Олимпиада Гордеевна умерла в 1919 году от воспаления легких, хотя могли быть и другие причины. Но вот что примечательно: за пятьдесят с лишним лет советской власти квартира неизменно числилась за Чудотворцевым при всех его неоднократных арестах, затяжных ссылках и отсидках, а уж об уплотнении не было речи. Когда профессор, деликатно говоря, отсутствовал, в квартире неизменно проживал его сын Павел, он же Полюс, и Марианна Бунина. По-видимому, они действительно жили как брат и сестра, хотя у Полюса были в отношении Марианны другие намерения. Но так или иначе, квартиры ничто не коснулось. Один этот факт свидетельствовал о том, что у опального профессора были высокие покровители и положение он занимал особое.
Жил в этой квартире и я в бытность мою невенчанным мужем или, как тогда говорили, другом Киры. Но даже тогда я не представлял себе, сколько в квартире комнат: минимум четыре или максимум семь. По всей вероятности, их было все-таки пять. Но так или иначе, чудотворцевская квартира всегда представлялась мне целым особым миром. В нашей с Кирой комнате бренчали гитары бардов и шелестели страницы самиздата, а в покоях Платона Демьяновича слышалось шарканье его шлепанцев и время от времени фортепьянные пьесы от Букстехуде до Скрябина. Это играла Клавдия, она же Клавиша.
Меня поразило, как мало изменилась квартира Киры да и она сама. Те же плохо покрашенные или высветленные белесые волосы цвета сортирной щетки, как говорила одна пожилая дама. Те же резко, как бы неумело, нарочито броско накрашенные губы. Слишком короткий халатик, приближающийся к мини, раздражающе, демонстративно плохо натянутые чулки. Долговязая тощая девчонка, не то имитирующая, не то скрывающая седину. И в глубоких глазницах тусклый дым от неизменной неугасимой сигареты, вечно слезящиеся, водянисто голубые глаза.
Словом, за четверть века ничего не изменилось. Кира поцеловала меня в губы, как будто мы вчера расстались. Расположившись с ногами на кушетке, она принялась варить кофе на спиртовке, стоявшей на журнальном столике, как тогда. Косясь то на спиртовку, то на меня, Кира сказала:
– Мог бы и сам позвонить. – Я промолчал не то чтобы смущенно, но действительно не зная, что сказать. Кира продолжала: – Уж в последнее-то время поводов было предостаточно, не говоря уже о том, что нам с тобой вообще есть что вспомнить.
Я сразу узнал цитату из фильма «Девять дней одного года». Кира всегда имела обыкновение говорить цитатами из фильмов, спектаклей и книг. Одно время она на каждом шагу повторяла из Хемингуэя: «Человек один не может». А вот теперь «нам есть что вспомнить». Подспудный эротизм этой цитаты, признаться, насторожил меня. Кира попала в привычную колею.
– Старомодность, знаешь ли, тоже имеет пределы. Но тут тебя обязывала позвонить мне именно твоя пресловутая старомодность. Мог бы хоть свою книгу мне подарить.
– Да ведь книга-то пять лет назад вышла.
– Это-то и возмутительно. Было время удосужиться. «Русский Фауст»! Я-то думала, что это о Чудотворцеве. Хорошо, что хоть не о нем…
– Так-таки хорошо?
– Еще бы не хорошо! Последнее время появляется столько параши… Нет, уж лучше пиши о своих предках, о своих корнях… Это, кстати, и модно. Ты бы лучше так и назвал свою книгу «Потомок Фауста». А то что мелочиться…
Меня подмывало спросить у нее, читала ли она «Русского Фауста», но тогда пришлось бы обратиться к ней на «вы» или на «ты». Ее наверняка взорвало бы, если бы я сказал ей «вы», пусть даже обмолвившись, а сказать ей «ты» – значило поддакнуть ей в одном крайне нежелательном для меня отношении, что, впрочем, было неизбежно. Но пока говорила она:
– Подумать только, Фавстов – потомок Фауста! Это было бы что-то вроде последнего из могикан или, на худой конец, из удэге. Как раз в твоем духе… А скажи-ка, это в твоей книге написано, что твой предок не умер?
Она язвила меня немилосердно, но за ее язвительностью отчетливо угадывалось нечто иное…
– Нет, в книге этого не написано, – ответил я, – Фавст Епифанович был, как известно, казнен при Иване Грозном.
– А не при Сталине? Ты, кажется, пишешь в своей книге, будто есть легенда, что Фавст не умер?
– Такая легенда действительно есть, я ее упоминаю в книге, но из этого еще ничего не следует.
Вопросы Киры начинали напоминать допрос с пристрастием:
– Ничего не следует? А почему у тебя живет эта дамочка из Имморталистического центра? Мадам Литли? Как ее… Клер…
– Да нет, Клер – это моя соседка… А мадам Литли просто остановилась у меня…
– Видишь, и соседка у тебя Клер, и дачница мадам Литли, и не откуда-нибудь – из Парижа, от Святого Сульпиция, из Имморталистического центра. Познакомил бы…
Осведомленность Киры поражала меня. Я смущенно пролепетал:
– Отчего ж нет… Можно и познакомить.
– Понимаю, не я ее интересую. Ее интересует твой бессмертный предок, пресловутый Фавст. Ну хорошо, а с двойником твоим у тебя какие отношения?
– С каким двойником?
– Да что ты юлишь! Все знают: у тебя есть двойник, и зовут его, как тебя, Федорыч. Он как будто бы законный наследник российского престола, чуть ли не твой брат.
– Никогда не встречал его.
– Тоже мне конспиратор! А что ты теперь переводишь? Или «Русский Фауст» настолько обогатил тебя, что тебе уже и переводить не надо?
– Да нет, я перевожу… с французского… Монфокона де Виллара… «Граф де Габалис, или Беседы о тайных науках…»
Следовало спросить, как она сама живет. Но я все еще не решался сказать ей «ты», а она продолжала наседать:
– Тайные науки… Ты, я вижу, не отстаешь от века. Впрочем, надо отдать тебе справедливость, ты и раньше был замечен по этой части. Мне и нужна-то, в общем, твоя консультация… по тайным наукам.
Я невольно прервал ее:
– Ну а сама-то… сама-то ты как живешь? – Я сразу почувствовал в ней готовность реализовать наконец произнесенное «ты».
– Как живу, как живу… Да все так же… По тебе скучаю… – Она придвинулась ко мне и налила мне кофе.
– С работой как? – спросил я.
– Пока еще работаю, – кивнула она.
– Все там же?
– Где же еще… Всю жизнь там работаю…
– В институте национально-освободительных движений?
– Мы теперь название переменили. Не знаю, удачно ли, но мы называемся Институт по изучению этносов.
– Тоже красиво, как говорила Анна Ахматова.
– Сколько я зарабатываю, не спрашиваешь? Да, да, дурной тон… Хотя теперь это перестало быть дурным тоном. Но я попросилась бы на лето к тебе в Мочаловку, надо же где-то отдохнуть, а юг мне не по средствам, попросилась бы, говорю, если бы не твоя соседка…
Я подумал, что она имеет в виду Клер.
– Она совсем взбесилась. Ты будешь доказывать, что ты и этого не знаешь, но она распространяет кассеты с записями его голоса.
– Кто распространяет? Какие кассеты? Какого голоса?
– Не строй дурочку! Клавдия распространяет, милая твоя Клавиша, из-за которой ты меня бросил…
– И что же она такое распространяет?
– Ты действительно не знаешь? Об этом уже вся Москва говорит… Да и Петербург тоже… Кассеты с новыми записями лекций Чудотворцева.
– Что значит «новые записи»?
– Ты ее спроси. А тебе я дам послушать, если ты такой неосведомленный…
Она включила магнитофон. Первая лекция называлась, помнится, «Апостол бессмертия». Ход мысли был характерен для Чудотворцева и хорошо мне знаком по другим источникам. Лектор анализировал известный стих Евангелия: «́аще хощу, да т́ой пребываетъ, д́ондеже прiиду, что къ тебѣ; ты по мнѣ гряди. Изыде же сл́ово с́е въ бр́атiю, яко ученикъ той не умретъ» (Иоанн, 21:22–23). Лектор говорил о том, что бессмертие Иоанна Богослова было совершенно несомненным для христианской традиции, в особенности для восточно-христианской традиции. Стих «обновится яко орля юность твоя» традиция связывала именно с Иоанном. Потому и символом евангелиста Иоанна стал орел, которого, согласно Физиологу, омолаживает приближение к солнцу, а солнце – известная аллегория Христа, Который есть Солнце Правды. Иоанн возлежит на Тайной Вечере на персях Иисуса, и в Евангелии прямо говорится, что Иисус любил его. Некоторые еретические движения позволяли себе на этом основании говорить об особом эротизме их отношений (оба девственники, у обоих нет жен). Лектор, естественно, отметал эту ересь, но ссылался на отцов церкви, называвших Христа божественным Эросом. Подчеркивал он и то, что особая близость между девственником Иоанном и Девой Марией возвещена Самим Христом с креста. Этим так же подтверждается, что оба не умрут. Далее лектор проводил сначала осторожную параллель между Иоанном Богословом и пресвитером Иоанном, легендарным праведным правителем восточного царства, а потом приходил к выводу, что пресвитер Иоанн и есть бессмертный Иоанн Богослов на троне. Трон его – истинный трон Святой Руси. Иоанн Богослов – невидимый истинный царь Святой Руси, и мусульманские мистики имеют его в виду, когда говорят о скрытом имаме. Эта же идея, по мнению лектора, проводится Вячеславом Ивановым в его «Повести о Светомире Царевиче». Не случайно Русь осознала себя Третьим Римом при Иоанне Третьем, а Иоанн четвертый Грозный стал ее величайшим царем. Царица Небесная правит Святой Русью совместно с Иоанном Бессмертным, апостолом православия, и так будет до второго пришествия.
Я невольно достал блокнот и принялся заносить в него основные мысли лекции. Кира с негодованием выхватила блокнот у меня из рук:
– Ты конспектируешь… конспектируешь эту лажу, эту фальшивку… И ты уверен, что это его голос!
Я даже не задумался над тем, его ли это голос, настолько несомненно было для меня, что я слушаю Платона Демьяновича.
– По-моему, это его голос, – ответил я, – да и подобные мысли встречаются в его работах в тридцатые – сороковые годы. Здесь они только четко сконцентрированы.
– А кто записывал его на магнитофон в тридцатые – сороковые годы? Да и где: на Соловках или на Лубянке?
– Что же, на Лубянке вполне могли его записывать. Техника позволяла…
– Лекции он там, что ли, по-твоему, читал? Да и расстреляли бы его за такую лекцию.
– А вот на этот счет существуют разные мнения, – возразил я. – И у такой лекции уже тогда могли найтись благосклонные и влиятельные слушатели.
– Так ты считаешь, что лекция могла быть записана тогда?
– Не исключаю.
– Хорошо, а что ты скажешь о таком тексте?
Следующая лекция была посвящена Софии Премудрости Божией. Лектор говорил о том, что Пифагор первым ввел вместо слова «софия» – «мудрость» слово «философия», то есть любомудрие. В этом лектор усматривал своеобразное смирение мыслителя, дерзавшего лишь любить Софию, а не возвещать ее, но из этого явствовало, что только любовь способна познать Софию и такое познание есть эрос. Так познал Еву Адам, и она зачала. Но прежде чем познать жену свою, Адам познал различие между добром и злом, различие ложное, ибо для любви нет зла, и его не было бы, если бы Адам сначала познал жену свою. Напротив, Иосиф Прекрасный отверг в Египте ложный гнозис, отказался познать жену Потифара, искушавшую его, и оказался спасителем тогдашнего человечества, уподобился Богочеловеку Христу, стал ветхозаветным прообразом Его. Самое имя «Иосиф» есть анаграмма «Софии». Становилось ясно, какого Иосифа также подразумевает лектор, когда речь зашла о всенародной собственности на землю и о первом в истории народно-хозяйственном плане.
– И это, по-твоему, мог говорить Чудотворцев? – брызгала слюною Кира, обнаруживая изъян в передних зубах (обычно сигарета скрадывала его. Не потому ли она и курила постоянно?).
Я подтвердил, что Чудотворцев вполне мог это говорить. Подобные идеи встречаются в его капитальном труде конца тридцатых годов, который известен под названием «Оправдание зла». НКВД арестовал этот труд, изъял его из архива. Сохранились только наброски, черновики. Впрочем, Клавиша утверждает, что то ли она восстановила полный текст рукописи под диктовку Платона Демьяновича, то ли Марианна Бунина передала ей экземпляр, спрятанный самой Марианной. Ни то ни другое, вообще говоря, не исключается, чего сама Кира не может не знать.
Я сказал это и тут же пожалел. Кира была вне себя.
– А что ты об этом скажешь? – дернулась она, поставив третью кассету. Я не сразу понял, что ее так возмущает. Речь шла о музыке. Лектор рассматривал «Хованщину» как русскую «Гибель богов». И Вагнер, и Мусоргский, по его мнению, отвергли оперу ради музыкальной драмы, восстанавливая в конечном счете эллинскую трагедию, в которой предвкушается литургия, мистерия смерти и воскресения. Гадание Марфы аналогично древнегерманскому прорицанию Вельвы. Досифейг князь Мышецкий, – князь Мышкин семнадцатого века, духовный вождь, идиот с точки зрения либерального народничества. В то же время Досифей – Николай Клюев, влюбленный в Сергея Есенина, в ангелоподобного Андрея Хованского. Андрей должен был бы стать царем вместо Петра, а тогда царица – Марфа, княгиня Сицкая, раскольничья муза, alter ego Досифея. Она оплакивает, отпевает Андрея перед самосожжением, как оплакивал самоубийцу Есенина Клюев. Скит, где затворилась Святая Русь, должен сгореть, как Белый дом. Иван Хованский – столп и утверждение Святой Руси, но его обрекает в жертву Шакловитый – Руцкой ради стрелецкого гнезда. Но «Хованщина» существенным образом отличается от «Гибели богов». «Рассвет на Москве-реке», по мнению лектора, – не пролог, а финал музыкальной драмы, и это не траурный марш Вагнера, это скорее православное песнопение «Свете тихий». «Рассветом на Москве-реке» начинается воскресение в Третьем Риме.
Мысли эти захватили меня своей новизной. Чудотворцев работал над исследованием «Вагнер и Мусоргский», которое не успел закончить. Лекция как бы подытоживала неоконченное исследование. Я так увлекся, что не обратил внимания на одно кричащее обстоятельство, а оно-то и приводило Киру в бешенство. Она выключила магнитофон, выплюнула на пол сигарету и проскрежетала:
– Ты что, совсем охренел? Ты помнишь, в каком году умер Чудотворцев?
– Помню. В 1972-м.
– А когда появился Руцкой? Когда была осада Белого дома? Соображаешь?
Только тут, признаюсь, до меня дошло: в лекции говорилось о событии, произошедшем через двадцать один год после смерти Чудотворцева. Это было слишком даже для пророчества.
– Ну что? ну что? – надрывалась Кира. – Что ты на это скажешь? И ты будешь доказывать, что это не фальшивка?
– Допустим, но как изготовлена эта фальшивка? Голоса ведь не подделаешь, вы не будете… ты не будешь отрицать.
– Да, голос похож, но ты Клавишу свою спроси, как ей это удалось. Я требую, чтобы ты вывел ее на чистую воду, призвал ее к ответу!
– Как я могу это сделать?
– Нет, милый мой, не отвертишься. Тебе придется объясниться с ней, предупредить ее…
Зазвонил телефон. Кира взяла трубку… и сникла, погасла на глазах, узнав голос.
– Да, да, Всеволод Викентьевич! У вас новый спектакль? Приду, непременно приду, и, может быть, не одна (она снова чуть-чуть ожила, покосившись на меня). Да, да, я постараюсь привести его… Думаю, ему тоже будет интересно… Ах, насчет квартиры? Знаете, еще не решила, простите великодушно… Нет, нет, я не отказываюсь, что вы! Время не терпит? Понимаю… Но, Всеволод Викентьевич, вы же не только политик, вы художник, кто лучше вас поймет одинокую женщину… (В голосе Киры послышалось кокетство.) Поймите, я жизнь, жизнь мою посвятила этой квартире, этому архиву, наследию отца, всему, всему… Нет, Всеволод Викентьевич, так поступил бы на вашем месте кто-нибудь другой, но не вы, не вы… Вы не бросите меня на произвол судьбы. Для этого вы слишком преданы… Богу и России (странно было слышать эти слова из уст Киры, но истерическое кокетство придавало им какую-то извращенную органичность). Я решусь, решусь, может быть, завтра решусь. Позвольте мне еще одну ночь не поспать… Не позволяете? А у меня бессонница… и без позволения. Ну, допустим, я согласна, согласна, только не сейчас. Ну, через неделю… Это долго… Хорошо, хорошо, на спектакле… До свиданья.
Она не положила и не бросила, она уронила трубку.
– Знаешь, кто это звонил? – спросила она.
– Кто?
– Ярлов. ПРАКС.
– А кто это… что это такое?
– Ну ты даешь! Конечно, тебе теперь вся жизнь до лампочки с твоими Клер, Клавишей и Литли. О ПРАКСе весь мир говорит…
– Да что такое, наконец, этот ПРАКС?
– Православно-коммунистический союз.
– Час от часу не легче. Кто до такого додумался?
– Конечно, сам Ярлов, кто же еще. Он говорит, что Русь – изначально православно-коммунистическая страна. Русское православие коммунистично, а русский коммунизм православен. Все беды в истории России происходили от разлада между православием и коммунизмом. Как только они осознают свое глубинное единство, Россия воспрянет, вернет себе прежнее величие.
Кира произносила все это с полузакрытыми глазами, вещая, как Пифия. Так во время событий в Чехословакии она вполголоса пропагандировала социализм с человеческим лицом.
– Откуда же взялся этот Ярлов?
– Он гроссмейстер по шахматам. Участвовал в чемпионатах на первенство мира. Потом создал театр «Реторта», лабораторию магического жеста.
– Это что-то масонское или розенкрейцеровское: «Реторта».
– Нет, Ярлов винит масонство во всех бедах. Боюсь, и меня он причисляет к масонам. «Идет охота на волков, идет охота», – процитировала она Высоцкого то ли в ужасе, то ли в забытьи.
– На кого же этот господин охотится? На вас… то есть на тебя?
– И на тебя тоже. На нас всех. – С такой устрашающей интонацией Кира говорила, бывало, о стукачах, которые везде, но которых нельзя называть по именам. – Ты не понимаешь… Не сегодня так завтра они придут ко власти.
– Переворот устроят? Или на выборах победят?
– Дурачок… Интеллигентик несчастный. Им не нужно ни переворота, ни выборов. Они просто объявят свою власть.
– Как это объявят? Как в телешоу…
– Конечно. По телевизору и объявят. Их поддерживает армия… И Православная церковь… Иерархи… А что еще нужно для власти?
– Куда же они правительство денут?
– Всех этих хилых демократов? Интернируют. Как тебя. Как меня… – Кира всхлипнула. – Ты вот спрашиваешь, как я живу. Обрыдло мне все, понимаешь? Они требуют, чтобы я им квартиру отдала.
– Как отдала?
– А очень просто. Под музей Чудотворцева. Под штаб-квартиру ПРАКСа на самом деле.
– Но ты можешь не согласиться.
– Не могу. Тогда меня Моссовет просто переселит в какую-нибудь коммуналку. А Ярлов мне однокомнатную квартиру все-таки предлагает. В Теплом Стане. Если я подтвержу подлинность записей.
– Каких записей?
– Кассет, которые ты слышал. И рукописей, которые они собираются издать.
– Но как… можно подтвердить подлинность записей, если Платон Демьянович умер за двадцать лет до этого?
– Их спроси. Спроси свою Клавишу. – Кира глотала слезы. – Она провозгласила Чудотворцева идеологом ПРАКСа. Она говорит, что Чудотворцев диктует ей. А Ярлов поддакивает. А от меня требуется, чтобы… чтобы я хотя бы молчала. Слушай! Я больше так не могу. Пусть Клавиша это прекратит. Иначе я на все пойду. Обращусь в суд. В комиссию по правам человека. Эта юродивая не смеет выдавать свои бредни за произведения моего отца. Ты поговоришь с ней? Обещаешь?
– Попробую.
– Договорись с ней по телефону. Иначе тебя могут не пустить к ней.
– Кто это меня к ней не пустит? Она же одна в Мочаловке живет, дачу Луцких сторожит. И никакого телефона у нее на даче нет.
– Это у тебя телефона нет. А у нее теперь есть. И охраняет ее ПРАКС. Вот номер ее телефона. Я сама звонила ей, но она бросает трубку.
Я набрал номер телефона. Мне неожиданно ответил мужской голос. Когда я спросил Клавдию Антоновну он осведомился, кто ее спрашивает. Наконец, Клавдия взяла трубку и пожелала видеть меня сегодня же, несмотря на поздний час. Когда Кира услышала об этом, она так и вцепилась в меня:
– Не езди! Я боюсь.
Но я деловито отстранил ее, сославшись на то, что опаздываю на электричку.
Глава вторая СОВИНАЯ ДАЧА
КЛАВДИЯ жила в Мочаловке на Совиной даче. Название это укоренилось в мочаловских преданиях и в обиходной речи. Мочаловские обыватели единодушно полагают, что происходит оно от совы. И действительно, в запущенном саду, который окружает дачу, до сих пор кричат совы. Однако выводить из этого обстоятельства название дачи исторически не совсем правомерно. Филолог заговорил бы о ложной этимологии и оказался бы тоже не совсем прав, так как сова имеет отношение к истории дачи, хотя названа была дача не в честь совиного крика, а в честь своего прежнего владельца присяжного поверенного Федора Ивановича Савинова. Несколько десятилетий назад кое-кто в Москве еще помнил дачу Савинова, но после войны разговор шел уже исключительно о Совиной даче.
Где-то в первой половине девятнадцатого века крестьянский мальчик Ваня Савинов, крепостной графов Шереметевых, отправился на ночную рыбную ловлю. Способ такой ловли известен: плывут на лодке или на плоту с факелом или с зажженным пучком смолистых лучин, огонь в темноте привлекает рыбу, и ее подкалывают острогой. Так и Ваня поддел острогой крупную рыбу и чуть было не уронил ее обратно в воду, когда увидел, что рыба с крыльями. Огромная сова пролетала ночью низко над озером и вцепилась когтями в спину щуке, плывшей у самой поверхности воды. Щука уволокла сову под воду, где та захлебнулась, но не разжала когтей. Так появились у щуки совиные крылья, и с этими крыльями она плавала по озеру некоторое время, пока ее не поддела острога Вани Савинова. Так возникло знаменательное словосочетание «сова Савинова», несомненно, воздействовавшее на дальнейшую Ванину жизнь и, как увидим, даже на судьбу его потомков. Сова-утопленница вывела Ваню, так сказать, на дорогу Граф Шереметев отпустил юношу в город, в учение, откуда он бежал и нашел себе занятие на волжских тонях, после чего вернулся с повинной и отпросился у барина на оброк. Сперва Ваня Савинов ловил рыбу, потом помаленьку принялся торговать ею, открыл способ доставлять свежую рыбу в Москву, в Петербург и даже в Париж (свежая стерлядь по-савиновски упоминается чуть ли не у Эдмона Гонкура). После отмены крепостного права Иван Савинов так преуспел, что вышел в купцы первой гильдии, но сын его Федор, окончив Московский университет, к великому огорчению отца отошел от рыбных дел, стал присяжным поверенным и на своем поприще отличился не меньше. Он-то и купил на исходе девятнадцатого века в Подмосковье на берегу речки Таитянки земельные угодья, где построил едва ли не первую мочаловскую дачу.
Семейные наклонности сказывались, впрочем, и в его по-своему предприимчивой натуре. Федор Савинов развел в Таитянке форелей. Они так и прыгали, говорят, на всем протяжении речки от истока в Лушкином лесу, а впадала Таитянка в другую речку под названием Векша, которая, в свою очередь, впадает в Москву-реку. Савиновская форель не брезговала и Векшей, но перевелась, когда МоЗАЭС (Мочаловский завод аэрокосмической синтетики) начал сбрасывать в Таитянку отходы своего производства. Но и теперь, говорят, выше МоЗАЭСа форель иногда ловится, правда, она не доплывает никогда даже до знаменитого мочаловского озера или, вернее, пруда, откуда, собственно, до МоЗАЭСа уже рукой подать. А во времена Федора Ивановича Савинова таитянская форель начинала уже приобретать промысловое значение. Эту форель, как известно, подавали в летнем ресторане «Попрыгунья», куда непременно наведывались дачники и москвичи после спектаклей летнего мочаловского театра. Само названье «Попрыгунья» напоминает Чехова, и он, действительно, любил бывать в этом ресторане.
Теперь, когда появляется столько исследований и ходит столько слухов о театре «Красная Горка», нелишне упомянуть: театр частенько играл в помещении летнего мочаловского театра. Его спектакли не афишировались и маскировались под любительские, но на них бывала вся Москва, а кое-кто приезжал ради них из-за границы. Ежегодно театр «Красная Горка» устраивал спектакль в Мочаловке в ночь на Ивана Купалу. Игралась при этом всегда «Снегурочка» А.Н. Островского. Многих озадачивало, а кое-кого, напротив, привлекало неукоснительное правило «Красной Горки»: имена актеров и актрис, занятых в спектаклях, никогда не упоминались. Публике самой предстояло угадать, кто играет, и на этот счет ходили уже тогда слухи странные. Поговаривали, что само название поселка как-то связано с именем Павла Степановича Мочалова, что истинный основоположник театра он, а главное (говорящий при этом обычно понижал голос), Павел Степанович продолжает играть в своем театре. Так он играл Мизгиря в спектакле 1898 года, то есть через пятьдесят лет после своей смерти. При этом всем хорошо было известно, что основоположник театра и его глава – на самом деле известный провинциальный актер Михаил Серафимович Ярилин-Предтеченский и его театральный псевдоним Ярилин связан как раз со «Снегурочкой», где он играл и Леля, и Мизгиря, и Берендея. Главную актрису театра называли всегда по имени-отчеству Софья Смарагдовна, что не очень-то принято на театре. Она играла Снегурочку и Весну-Красну. Софья Смарагдовна часто бывала в доме Федора Ивановича Савинова как бы на правах родственницы, хотя носила, по слухам, фамилию Богоявленская, что скорее заставляло заподозрить родство с Михаилом Предтеченским. Рассказывали, будто и Федор Иванович, и Михаил Серафимович были в нее когда-то влюблены, но она не выказала явной благосклонности ни тому, ни другому, сохранив приязненные отношения с обоими. При этом супруга Федора Ивановича Варвара Маврикиевна считала Софью Смарагдовну своей ближайшей подругой и склонна была доверять ей не только домашнее хозяйство, но и воспитание детей. А хозяйство на даче Савинова было сложно и многообразно. Там бывали не только предполагаемые актеры «Красной Горки», но и Москвин, Ермолова, Савина, а впоследствии Станиславский, Качалов, Шаляпин. Впрочем, их всех молва причисляла к актерам «Красной Горки». Говорили и о неких таинственных собраниях в задней комнате на даче Савинова, однако сам Федор Иванович всегда смеялся над этими слухами, правда, как-то слишком уж нарочито.
Профессиональная деятельность Ф.И. Савинова шла при этом безупречно. За сорок с лишним лет своей адвокатской практики он не проиграл ни одного процесса. Ф.И. Савинов славился тем, что защищал революционеров и в их числе большевиков. Это сослужило ему хорошую службу после октябрьского переворота. Новые хозяева сохранили за ним и московскую квартиру, и мочаловскую дачу. В эпоху военного коммунизма Ф.И. Савинов получал академический паек, а когда был объявлен НЭП, снова начал выступать в судебных процессах, главным образом хозяйственных. Но и НЭП недолго продержался, и работы в судах у Федора Ивановича поубавилось. Он числился юрисконсультом в нескольких учреждениях и продолжал работу над своими мемуарами, а также над книгой «Русская неправда», над которой работал уже много лет. Федор Иванович считал себя в известном смысле продолжателем князя Щербатова и по-своему описывал историю повреждения нравов на Руси. Ф.И. Савинов доказывал, что петровские реформы исказили традиционное правосознание на Руси своей принципиальной, воинствующей противоправностью. Они посягнули на русскую правду, не руководствуясь при этом никаким правом, и получилась русская неправда. Жертв этой неправды Федор Иванович и пытался всю жизнь защищать. Главы из его книги печатались в разных журналах, издательство ЗИФ заключило с ним договор на издание его мемуаров и «Русской неправды», жизнь худо ли, хорошо ли длилась, пока не произошло одно событие. Однажды на дачу в Мочаловке пришла институтская подруга Варвары Маврикиевны. Вся в слезах, пожилая дама рассказала, что ее муж, известный инженер, специалист по сахароварению, был арестован за вредительство и отдан под суд. Дама умоляла Федора Ивановича выступить на суде защитником. Федор Иванович, подумав, согласился, выступил на суде и ко всеобщему изумлению выиграл процесс, как и всегда выигрывал. Инженер был оправдан за отсутствием состава преступления. И прокурор, и судьи попросту спасовали перед патриархальной элегантностью защиты. Федор Иванович застал блюстителей революционной законности врасплох. Он припер к стенке тех, кто привык ставить к стенке. Не только сам инженер, но и его так называемые соучастники были освобождены. Западные газеты зашумели о возврате к правовым нормам в Советской России. Дачу и квартиру Федора Ивановича штурмовали родственники других арестованных с мольбой о защите. Федор Иванович никому не отказывал, но и не давал никому согласия. Он был слишком проницателен для того, чтобы торжествовать победу и делать далеко идущие выводы. К тому же с ним, как выяснилось, уже всерьез беседовали его высокопоставленные партийные знакомые. Его напрямик спрашивали, как это он, давний защитник большевиков, теперь защищает контрреволюционеров. Федор Иванович только руками в ответ разводил. Он пытался объяснять, что защищал большевиков не потому, что им симпатизировал, а потому, что обвинения против них не имели надлежащего правового обоснования, как не имеют правового обоснования обвинения против теперешних вредителей, чью невиновность он как юрист берется доказать, так что его позиция не менялась, и он верен себе. «Это не позиция, а оппозиция», – услышал он однажды от своего собеседника, и этот ярлык прочно к нему приклеился.
Его оправданный подзащитный был в один прекрасный день снова арестован. Его никто больше не судил. Он просто исчез без права переписки, как тогда говорили. За ним последовали другие оправданные соучастники. А выступления Федора Ивановича в суде больше не допускались. Ему оставалось только дописывать книги, но о публикации этих книг больше не было речи. Федор Иванович и Варвара Маврикиевна жили только тем, что сдавали на лето дачу. Так продолжалось, пока однажды ночью у себя на даче не был арестован сам Федор Иванович.
Ему тогда было уже за шестьдесят. Никто из его старых друзей не отважился защищать прославленного защитника. Защитник был назначен судом. На закрытом процессе Федора Ивановича приговорили к десяти годам за контрреволюционную деятельность.
Еще не настала полоса, когда жены врагов народа подлежали аресту наряду с мужьями. Варвара Маврикиевна мыкалась на свободе. В это время знаменитый на весь мир нейрохирург профессор Луцкий, снимавший у нее дачу, старомодно попросил у нее руки ее младшей дочери Дарьи Федоровны. Старший сын Федора Ивановича Валерьян дано уже был за границей, оказавшись там вместе с остатками белой армии. Средняя дочь Наталья была замужем за преуспевающим советским архитектором. Непристроенной оставалась только тридцатилетняя Дарья, подрабатывавшая переводами и частными уроками иностранных языков. Ее роман с профессором Луцким не ускользнул, разумеется, от внимания матери. Варвара Маврикиевна понимала, что ее согласие или несогласие на этот брак было простой формальностью, но она благословила дочь охотно, так как уважала мужество профессора, решившегося на брак с дочерью осужденного контрреволюционера. Вскоре после свадьбы она оформила дарственную на дачу, передав право собственности зятю, а не дочери (не ровен час, вдруг дачу конфискуют), после чего скоропостижно скончалась на руках у Софьи Смарагдовны. Никто не отваживался называть фамилию Федора Ивановича после его ареста, и савиновская дача превратилась в Совиную.
Вениамин Яковлевич Луцкий был старше своей жены без малого на четверть века. Его отец, известный московский присяжный поверенный Яков Исаакович Луцкий дал своему младшему сыну имя сообразно библейскому преданию, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что прадед Вениамина Яковлевича звался Авраам. Исаак Луцкий еще оставался верен семейной традиции, будучи раввином, но его сын Яков предпочел юридическую карьеру, окончив Московский и Гейдельбергский университеты. Яков Исаакович поддерживал дружеские отношения с Федором Ивановичем Савиновым, хотя избегал выступать в политических процессах, предпочитая им авторское право и тяжбы о наследствах. В этих делах Яков Исаакович не имел себе равных. Были у него и кое-какие литературно-научные интересы. В специальном труде он досконально исследовал все процессы, посвященные ритуальным убийствам. Пользовались также известностью его труды, в которых он подробно рассматривал судебную практику инквизиции, в особенности дела о черной магии и колдовстве. Либеральные читатели были в свое время страшно шокированы этими трудами. С одной стороны, Яков Исаакович показывал, с каким казуистическим артистизмом фальсифицировались и доводились при этом до зловещей убедительности дела о ритуальных убийствах и об отравлениях колодцев во время эпидемий, но в то же время он исчерпывающим образом доказал: что касается дел о колдовстве, не только судьи были совершенно уверены в виновности обвиняемых, но и сами обвиняемые не сомневались в ней, когда речь шла о союзе с дьяволом, так что их признания были вполне искренними, даже если они делались под пыткой. К пытке приходилось прибегать потому, что далеко не все обвиняемые были готовы признаться в своей вине, храня верность своему страшному союзнику. У костров было тоже свое спасительное назначение. Предполагалось, что в пламени костра преступник лучше представит себе адское пламя и покается хоть в последнюю минуту. Впрочем, и добровольно раскаявшиеся нередко умоляли подвергнуть их сожжению, если отец инквизитор уверял их, что нет другого средства спастись от адских мук. Таким образом исследования Якова Исааковича убедительно доказывали старую истину: дорога в ад вымощена благими намерениями. Добрая воля судей и подсудимых не только не удерживает суд от ужасающе противоправных приговоров, но нередко даже способствует им. В принципе вся аргументация Якова Исааковича была направлена против «царицы доказательств», как инквизиция называла чистосердечное признание обвиняемого, но изощренная техника ее адептов описывалась с такой добросовестной точностью и тонкостью, что от книг доктора Луцкого исходил особого рода соблазн. Разумеется, Яков Исаакович перевернулся бы в своей могиле, если бы узнал, что его труды используются обвинением при подготовке дела Бейлиса, но, говорят, их внимательным читателем был и выпускник Киевского университета Андрей Януарьевич Вышинский, и сам Сталин заглядывал в них, когда готовилось дело врачей-вредителей. Конечно, такие читатели старательно игнорировали главный вывод старого правоведа, выдержанный в духе Иммануила Канта: правосудие и вообще социальная жизнь может основываться лишь на вечной, незыблемой, непререкаемой правовой норме, независимой от субъективных намерений, дурных или даже добрых. В отличие от Н.С. Лескова, Яков Исаакович полагал, что от хороших людей мало проку без хороших порядков, и находил этому множество подтверждений в сочинениях самого Лескова. В безусловной приверженности к правовой норме стойким единомышленником Якова Исааковича был Федор Иванович Савинов. Объединяла обоих также страсть к искусству. Яков Исаакович имел обыкновение присутствовать на всех спектаклях «Красной Горки» и даже ввел малолетнего Вениамина за кулисы этого театра. У Вениамина рано обнаружился незаурядный талант скрипача, и, усиленно поощряя эту его склонность, отец послал сына учиться за границу, где произошло непредвиденное: юноша вдруг оставил музыку и поступил на медицинский факультет Гейдельбергского университета.
За этим вскоре последовало и другое событие, не слишком примечательное само по себе, но окончательно оторвавшее Вениамина от его набожной иудейской родни. Вениамин Яковлевич перешел в христианство. Правда, принял он не православие, а лютеранство, так что корыстные мотивы, связанные со статусом полноправного гражданина Российской Империи, при этом если не совсем исключались, то, во всяком случае, не были решающими. Вениамин приобрел бы все права, если бы окончил Московский университет, что при его блестящих способностях было ему вполне доступно. Собственно, окончив классическую гимназию, он уже занял в русском обществе подобающее положение. Очевидно, он переменил вероисповедание в силу каких-то более глубоких и сложных причин. Этот шаг привел его к разрыву с невестой, что не прошло для него безболезненно, хотя очаровательная скромница Розалия Сапс никогда не разделяла его интеллектуально-артистических порывов, прилежно готовясь лишь к роли жены и матери. Правда, Розалия продолжала питать сердечную склонность к Вениамину, но семья Сапс решительно воспротивилась браку с новоявленным выкрестом. Ходили слухи, будто крещение Вениамина вызвало преждевременную смерть Якова Исааковича, но, по другим версиям, он смотрел на поступок младшего сына снисходительнее, чем следовало бы, и действительно умер через два года после этого скорее потому, что тяжело переносил разлуку с ним. Вениамин же был совершенно поглощен своими научными занятиями, а если что всерьез и настораживало отца, так это их направленность, слишком напоминавшая ему предмет его исследований. Вениамин принял лютеранство лишь для того, чтобы примкнуть к секте так называемых элементариев или фаустианцев.
Вступление в эту секту было сопряжено с одним странным требованием. Иудею предписывалось принять христианство, а христианину перейти в иудаизм. (Подобное требование предъявлял к своим последователям, десным христианам в России их духовный глава, штабс-капиган Ильин.) Элементарии стремились соединить учение Спинозы с учением Якова Бёме. Предшественником того и другого они считали Фауста. По их учению, Фауст заключил договор с дьяволом, чтобы доказать или восстановить изначальное единство мира. Зло происходит от того, что человек мыслит зло, противопоставляя зло добру. Иранский дуализм со всевозможными манихейскими ответвлениями элементарии объявляли религией грехопадения, не его следствием, а его причиной. Истинную суть Сатаны совершенно и точно выразил Гёте: «Ein Teil von jener Kraft, die stets das Boese will und stets das Gute schafft». Элементарии причисляли к своим последователям Парацельса, Гёте и Новалиса. Говорили, будто их влияние испытывал Гегель. Негласным последователем элементариев считался Альбэрт Эйнштейн. Отголоски их идей слышатся в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Само имя Адриан вызывало у меня ассоциации с духовным опытом доктора Луцкого, который назвал так своего сына за несколько лет до того, как Томас Манн начал писать своего «Фаустуса». Как-никак лейтмотив этого романа «elementa spekulieren» из народной книги о Фаустусе всегда был девизом элементариев. Но главный принцип их учения формулировался в четырех словах: «Нет ничего, кроме Бога».
Идеи элементариев, несомненно, стимулировали исследовательскую работу ученых в двадцатом веке, хотя это обстоятельство и не принято афишировать. По всей вероятности, элементарии имели отношение к расщеплению атома, хотя подобные опыты приписывают еще алхимикам. Так что приверженность Вениамина Луцкого к фаустианству и все те жертвы, которые он принес во имя этой приверженности, вообще говоря, вполне объяснимы. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что именно фаустианству Вениамин Яковлевич был обязан своими профессиональными успехами, но сами эти успехи настолько очевидны, что они наводят на такую мысль. Подающий надежды скрипач оказался незаурядным нейрохирургом. Ему еще не было тридцати лет, а некоторые его операции вызвали сенсацию в медицинском мире. Первая мировая война застала доктора Луцкого во Франции. В Германии он был бы наверняка интернирован как русский подданный. Во Франции Вениамин Яковлевич женился на юной красавице маркизе Изабель де Мервей. Ее отцу он спас жизнь. В 1915 году у Луцкого родилась дочь Антуанетта. Доктор Луцкий не собирался возвращаться в Россию, где ширилась октябрьская смута, но в 1922 году к нему обратились с настоятельной просьбой осмотреть Ленина, чье здоровье внушало серьезные опасения. Высказывалось предположение, что виртуозная операция, произведенная доктором Луцким, могла бы спасти жизнь вождю революционной России. Доктор Луцкий был склонен отклонить это предложение, но творческий интерес хирурга взял верх. Говорили, впрочем, что на него оказал давление кто-то из влиятельных элементариев. Доктор Луцкий приехал в Россию буквально накануне пресловутой высылки философов, но философов выслали, а доктора Луцкого больше не выпустили, хотя он и признал болезнь Ленина безнадежной. У него было свое мнение об этой болезни, но если он с кем-нибудь и поделился этим мнением, то только с Платоном Демьяновичем Чудотворцевым. Откровенные беседы с Вениамином Яковлевичем, возможно, как-то отразились в анекдоте, который иногда отваживался рассказывать с глазу на глаз Платон Демьянович. На улице вывешен лозунг: «Ленин умер, а дело его живет». Старичок проходит мимо и говорит: «Ой, какой хороший Ленин! Лучше бы он жил, а дело его умерло бы».
Жена Вениамина Яковлевича Изабель де Мервей-Луцкая никак не могла понять, почему ее муж не возвращается. Она симпатизировала большевистской революции, как многие тогдашние интеллектуалы, порывалась приехать к нему в Москву и очень удивлялась, почему в своих редких и немногословных письмах Вениамин Яковлевич упорно отговаривает ее от этого. Изабель вообразила наконец, что у ее супруга в России завелась другая женщина, и вопреки всем его возражениям без всякого предупреждения вдруг нагрянула к нему в Москву буквально как снег на голову, да еще с дочкой. Это произошло уже после высылки Льва Троцкого за пределы СССР. Госпожа де Мервей-Луцкая считала себя как раз троцкисткой и не скрывала этого. Возможно, на ее приезд в Россию повлиял кое-кто из советских агентов влияния в Париже. Ее не только не выпустили больше из Советского Союза, но через два месяца арестовали, и она умерла на этапе, не доехав до Колымы.
Арест матери потряс Антуанетту. Она росла исключительно под материнским влиянием, от матери переняла безудержное увлечение коммунистической идеей и атрибутикой, всем красным: от флагов до галстуков и маков. Отец ничего не мог объяснить девочке. Он сказал ей только, что так теперь бывает и мама, может быть, скоро вернется. В сущности, Антуанетта мало знала отца. Он и раньше сутками пропадал в своей клинике, а теперь девочка была обречена на полное одиночество в городской квартире профессора. Правда, ежедневно приходила домработница, но Антуанетта не могла даже перемолвиться с ней словом, так как совсем не говорила по-русски. Девочке ничего другого не оставалось, кроме как выработать свою версию произошедшего. Антуанетта решила про себя, что мать пострадала за свое аристократическое происхождение, за роковую вину своих предков перед народом. Но эта вина, это роковое, родовое проклятие лежало также на ней. Антуанетта жаждала искупления. Она хотела слиться с революционным народом, с пролетарскими массами, рвалась куда-нибудь на завод, но отец со свойственной ему мягкой сдержанностью напоминал ей, что она даже не говорит по-русски. Целыми днями Антуанетта в отчаянье металась по просторной профессорской квартире. Стояло жаркое лето 1929 года. На селе свирепствовала коллективизация. И тогда в квартире появилась Софья Смарагдовна.
Она, впрочем, бывала у профессора Луцкого и раньше. Слухи о ее посещениях доходили даже до Парижа, где Изабель подозревала, что из-за этой женщины ее муж остался в России и возражает против приезда жены с дочерью. Эти подозрения только укрепились, когда Изабель увидела Софью Смарагдовну. Изабель даже не задалась вопросом, сколько этой женщине лет. В золотисто-каштановых волосах Софьи Смарагдовны не было ни единого седого волоса. Неудивительно, что Антуанетта встретила гостью настороженно, но Софья Смарагдовна на безупречном французском языке предложила девочке в короткий срок обучить ее русскому, а когда пришел Вениамин Яковлевич, посоветовала ему отпустить Антуанетту на дачу к Федору Ивановичу Савинову, где, по крайней мере, все говорят по-французски, Вениамин Яковлевич не возражал. Ему самому было что вспомнить в связи с этой дачей и с театром «Красная Горка». Вениамин Яковлевич приехал с дочерью на очередной спектакль театра, приуроченный к вечеру накануне Ивана Купалы, хотя говорить об этом теперь не полагалось. Театр был все еще не совсем запрещен благодаря покровительству Анатолия Васильевича Луначарского, но влияние последнего катастрофически слабело, и театра не ликвидировали только потому, что горка как-никак красная, то есть рабоче-крестьянская (характерное переиначивание значения, как в словосочетании «Красная площадь»). Театр числился как самодеятельный драмкружок при мочаловском кинотеатре; постаревший Михаил Серафимович Ярилин (свою фамилию Предтеченский он старался по возможности не упоминать) считался руководителем этого драмкружка. На очередную «Снегурочку» съехалось много зрителей. Некоторые виделись друг с другом только в этот день. Антуанетта посмотрела спектакль и осталась на даче Савинова.
Может быть, так получилось потому, что на спектакле Антуанетта встретила своего парижского знакомого Никиту Духова. Никита, как и она, учился во французском лицее. В отличие от Антуанетты он одинаково владел французским и русским языком. Отец Никиты, Никанор Духов, был, что называется, профессиональным революционером. В свое время его исключили из духовной семинарии за богоискательство. Продолжая оставаться под влиянием Богданова, Луначарского и Горького, Никанор вступил в большевистскую партию и эмигрировал. Его очерки о сектах в России вызвали определенный интерес и не без участия Ромена Роллана были переведены во Франции, где Никанор и обосновался. Никита родился в Париже. В двадцатые годы Никанор стал связующим звеном между русскими евразийцами и французскими сюрреалистами, говорили, что не без благословения Москвы. Именно он особенно рьяно убеждал Изабель де Мервей-Луцкую переехать с дочерью к мужу в Москву. Можно сказать, он сам привез Изабель в Москву, куда вернулся со своим сыном и где оказался не у дел. Его арестовали одновременно с Изабелью, по одному и тому же делу, и никто точно не знал, жив он или нет.
Никита был старше Антуанетты на три года. Он рано втянулся в деятельность своего отца, не замечая ее реальных политических моментов. Никита всерьез заразился сюрреализмом и даже успел напечатать на французском языке несколько стихотворений, снискавших снисходительное одобрение Андре Бретона. В подобном же роде Никита писал и по-русски. Едва поступив на первый курс Московского университета, он прочитал доклад «Сюрреализм в борьбе против буржуазного искусства», за что был немедленно исключен. Буржуазным писателем Никита считал даже Горького, признавая только Хлебникова, Маяковского и театр «Красная Горка». К своему исключению из университета Никита отнесся самокритично, признавая себя буржуазным интеллигентом. К тому времени, как его отца арестовали, Никита уже работал на заводе МоАВИГР (Мочаловский завод автоавиагорючего, впоследствии МоЗАЭС) и даже считался чем-то вроде ударника, насколько это возможно для подсобного рабочего. При этом Никита продолжал верить в коммунистический сюрреализм и в наследственную классовую вину, что сближало его с Антуанеттой.
Уроки Софьи Смарагдовны пошли Антуанетте впрок. Уже через несколько месяцев она настолько овладела русским языком, что смогла поступить в Мочаловскую среднюю школу (бывшую гимназию). Там ее называли Тоней и в паспорте ей записали имя Антонина. Тоня с Никитой подолгу гуляли под мочаловскими липами. Аристократически стройная брюнетка с необычайно белой, млечно белой кожей и голубыми глазами странно выглядела рядом с долговязым юношей, похожим на высокорослого Есенина или на отрока Варфоломея с известной картины Нестерова. Тоня была единственной слушательницей его сюрреалистических поэм. Оба они вполголоса говорили по-французски об альбигойцах, как о первых истинных коммунистах, чье учение не может исчезнуть на земле. Никита возмутился бы, если бы при нем назвали Тоню тургеневской девушкой, но она именно такой и была. Между собой они решили, что создают новое движение Комальб, коммунистические альбигойцы, и даже приняли в свой кружок несколько мальчиков и девочек, бывавших на даче Савиновых. Как только Тоне исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за Никиту. Через несколько дней после этого Никиту арестовали как организатора контрреволюционной группы Комальб.
Вместе с ним арестовали других членов их кружка. Тоню почему-то не тронули, хотя она рвала на себе волосы и кричала, что виновата не меньше других. Возможно, такой иммунитет объяснялся мировой славой ее отца, о новых операциях которого писала «Правда». Говорят, будто Тоня бегала на Лубянку и умоляла арестовать ее как активистку организации Комальб, но ей объяснили, что дело не в литературном кружке Комальб, а в международном монархическом заговоре, причем заговорщики делают ставку на фамилию ее матери де Мервей, которую Антуанетта унаследовала. Когда Тоня, в ужасе замахав руками, закричала о своей коммунистической вере, которую разделяет с ней и ее муж Никита, ей вежливо ответили, что она не отвечает за свое опрометчивое замужество, а Никита Духов связан с московскими и парижскими тамплиерами, чья цель – установление всемирной теократической монархии, замаскированной коммунистическими лозунгами. После этого Тоню выпроводили, посоветовав ей впредь спокойно учиться и честно работать.
Вениамин Яковлевич, как всегда мягко и ненавязчиво, рекомендовал дочери поступить в медицинский институт, но Тоня резко отказалась. Она в это время принимала отцовскую деликатность за равнодушие к своей судьбе. На завод ее не взяли, и она устроилась в Мочаловке на фабрику, входившую в систему «Охотник-Рыбак». На фабрике работали в основном женщины, а изготовлялись там рыболовные крючки и курки для ружей. Тоня продолжала жить на даче Савиновых, свою зарплату аккуратно отдавала Варваре Маврикиевне. Наверное, от Вениамина Яковлевича тоже были какие-нибудь поступления. Он зарабатывал много, а семья Савиновых нуждалась. Тоня замкнулась в себе. Она работала и молчала. Если и разговаривала иногда, то разве что с Софьей Смарагдовной. Так она ждала, когда выйдет Никита, которому дали пять лет лагерей. Но пять лет прошли, а Никита не вышел. Ему добавили срок. Тогда Тоня впервые попросила у Варвары Маврикиевны денег на покупку нового платья, и в этом платье отправилась в клуб на танцы. Было очень странно наблюдать за ней, когда она с ее внешностью пыталась вести себя как рабочая девчонка. Тем не менее с первого вечера у нее завелись ухажеры, парни с МОАВИГРА, среди них ударники. Савиновым в это время было не до нее. Федор Иванович уже был арестован. Варвара Маврикиевна и Дарья Федоровна только переглядывались неодобрительно, когда Тоня возвращалась поздно ночью. И вдруг ее тоже арестовали. Это не был необоснованный арест. Она действительно пыталась организовать забастовку на заводе МОАВИГР и почти преуспела в этом. Забастовка могла начаться со дня на день, причем забастовка с политическими требованиями, среди которых выделялся лозунг: «Свобода безвинно осужденным». Так называемые Тонины ухажеры оказались активистами Исткома, движения, организованного Тоней. Истком означает истинный коммунизм. Исткомовцы поддерживали сталинский лозунг об обострении классовой борьбы при социализме, но истолковывали его по-своему. Классовым врагом они объявляли переродившуюся бюрократию. Исткомовцы появились на других заводах Московской области и даже за ее пределами. Предполагалось одновременно начать забастовку на нескольких больших заводах и провозгласить Сталина вождем исткомовцев. Исткомовцы не сомневались, что Сталин возглавит их, и беспристрастный историк не может отрицать, что такая возможность действительно не исключалась.
Но исткомовцев кто-то выдал. Их заблаговременно арестовали. Тоню приговорили к расстрелу, но заменили расстрел десятью годами лагерей.
Вениамин Яковлевич Луцкий сделал предложение Дарье Федоровне Савиновой вскоре после ареста дочери. Через год у них родился сын Адриан. Вениамину Яковлевичу исполнилось к этому времени 55 лет. Он оперировал мозг, все глубже проникая в его тончайшие фибры и ткани. Жена видела его, в общем, не чаще, чем в свое время видела его дочь. Заботы о маленьком Адриане разделяла с Дарьей Федоровной Софья Смарагдовна, вечная воспитательница. Иногда, сутулясь и прихрамывая, на дачу заходил Михаил Серафимович, преображавшийся до неузнаваемости на редких спектаклях. Зрителей на этих спектаклях было мало, и они подчас избегали смотреть друг на друга. Яков Вениаминович однажды вздрогнул, узнав среди зрителей Изабель. Она улыбнулась, приветливо кивнула ему и дала понять, что предпочла бы остаться неузнанной. Не прошло и года после этого, как началась война. Дарья Федоровна категорически отказалась эвакуироваться с маленьким ребенком на руках. Вокруг дачи рвались бомбы. Вениамин Яковлевич в Москве оперировал смертельно раненных. Он терял счет правительственным наградам. В его привычках кое-что изменилось. Изредка приезжая на дачу, он снова начал играть на скрипке, которой не касался много лет. Когда на Совиной даче (ее уже называли так) начинала звучать скрипка, у забора собирались незваные слушатели. Вениамин Яковлевич с удовлетворением смотрел, как маленький Адриан тянется к скрипке. Он явно унаследовал от отца талант скрипача. Шли годы. Адриан уже учился в седьмом классе, когда арестовали Вениамина Яковлевича.
Арестовали его по делу врачей-вредителей, но обвинения предъявили ему несколько иные, не совсем обычные. Ему припомнили принадлежность к секте элементариев. Связывали его дело с делом жены, урожденной маркизы де Мервей, и дочери, террористки Антонины Духовой. Теперь уже самого Вениамина Яковлевича обвиняли в том, что он принадлежит к тайной организации, со времен крестовых походов стремящейся превратить Иерусалим в столицу всемирной теократической монархии. Спрашивали, не связано ли с этими планами создание государства Израиль. Требовали, чтобы он показал, кто скрывается под именем Мелхиседек, царь мира. Настаивали на том, что Вениамин Луцкий намеревался посадить на иерусалимский престол свою дочь, царевну из рода Давидова и для этого он был готов убить своим хирургическим ножом товарища Сталина, так как в современном мире только Сталин может противодействовать зловещим планам элементариев. Было во время следствия одно обстоятельство, о котором Вениамин Яковлевич не говорил никому, кроме Платона Демьяновича Чудотворцева. Как обвинительный материал против Вениамина Яковлевича следователь использовал книги его отца, известного правоведа Якова Исааковича Луцкого. Его книги о ритуальных убийствах и о преследовании тайных сект в Средние века всегда лежали во время допросов на видном месте. Таким образом, отец выступал как бы экспертом или свидетелем обвинения против сына. Этого Вениамин Яковлевич не мог вынести. Он умер через несколько месяцев после того, как был освобожден за отсутствием состава преступления.
После его смерти дача опять вернулась в семью Савиновых. Дарья Федоровна, вдова и наследница профессора Луцкого, сохранила фамилию своего отца. У нее на даче жили постоянные дачники, профессор Чудотворцев с дочерью. В 1950 году Вениамин Яковлевич успел сделать Платону Демьяновичу рискованную операцию, продлившую ему жизнь на двадцать два года. Неудивительно, что Кира и Адриан все больше сближались, гуляя по берегам мочаловского озера. Это сближение увенчалось браком, продолжавшимся, правда, недолго. Адриан тоже был арестован, а когда он вышел на свободу, Дарьи Федоровны не было в живых, а Кира предпочла ему другого или других, и за Совиной дачей годами присматривала только Софья Смарагдовна да совы, пока на даче не обосновалась Клавдия.
Глава третья КЛАВИША
ПОЗДНЕЙ осенью совы начинают кричать громче. Их крик напоминает одновременно истерический смешок, взвизг и птичий щебет. Завораживает неумолчная регулярность этих возгласов, напоминающих издевательское тиканье часов. Невозможно определить, перекликаются ли между собою разные голоса или один и тот же голос методически, мелодически повторяет одно и то же междометие или музыкальную фразу, прерывающуюся в самом начале, чтобы начаться с того же аккорда. Иногда это напоминает сольфеджио, исполняемое слишком прилежным певцом (певицей?). На меня всегда особенно воздействовала пронзительная, почти кристальная звонкость этих сольфеджио. Не знаю, обращал ли кто-нибудь внимание на сходство совиного и соловьиного пения. Сова как бы повторяет одно из соловьиных коленец (я бы сказал, что это коленце, называемое соловьятниками «лешева дудка»), усиливая и утрируя его до бесконечности. Настораживает и одновременно усыпляет жуткая безжизненность этого коленца, происходящая от его однообразия, и начинаешь понимать: прелесть соловьиного пения в его настоятельной жизненности, чья стихия – чередование коленец.
Если бы не перекличка сов, слишком знакомая мне с детства, я подумал бы, что вышел в темноте не к той даче. Прежнего дощатого забора с проломами, брешами и просторными лазами не было в помине. Передо мной поблескивала в лунном свете монументальная ограда из металлических щитов выше человеческого роста. О существовании запущенного сада за оградой свидетельствовали лишь совиные голоса. Я прислушался. В ночной тишине мне почудилось, будто я слышу, как Таитянка переливается через плотину за мочаловским озером, но это была слуховая галлюцинация: за полкилометра вряд ли расслышишь этот маленький каскад, хотя кто знает… Зато фортепьяно явственно вторило или перечило совиному крику, и я не мог уже сомневаться в том, что дача та самая: это по своему обыкновению заполночь играла Клавдия.
Она играла этюд Листа, и у меня мелькнула мысль, не меня ли она встречает этим этюдом, как у нас когда-то было заведено, но я отогнал эту мысль: маловероятно, что она так реагирует на мой телефонный звонок, он должен казаться ей случайным или даже небрежным, впрочем, опять-таки кто знает… Но так или иначе, я заслушался ее игры и даже не торопился войти в сад. Еще Марианна Бунина говорила об удивительно мягком туше Клавдии, но в ее игре мягкость не исключала полнозвучности. Очарование непринужденного домашнего музицирования как бы снисходило до виртуозности, и каждый невольно задавался вопросом: неужели это мне она так играет? Как мне хотелось думать, что она играет мне, хотя я хорошо знал, что не мне. Но надо было войти хотя бы в сад, а я даже не находил калитки на прежнем месте. Ничего другого не оставалось, кроме как стучать в металлические щиты забора, что я и сделал. Они загрохотали неожиданно гулко, как мне показалось, на весь поселок. Я стучал, пока некий голос не произнес за забором слова, которых я меньше всего мог ожидать:
– О…уел ты, что ли, мужик? А ну канай отсюда!
Я упомянул мою договоренность с Клавдией Антоновной, и за забором воцарилось недоуменное молчание, как будто там не знали толком, кто она такая. Я тоже не знал, как мне поступить, то ли просто уйти, то ли пойти вызвать милицию. В конце концов, не исключалось, что на даче грабители; у них было время туда проникнуть, пока я ехал из Москвы, и в опустевших комнатах кое-что еще осталось от прежних времен. Пока я раздумывал, за забором послышались шаги, калитка открылась, и высокий детина в полувоенном комбинезоне буркнул мне с натужной вежливостью вольнонаемного вышибалы:
– Проходите.
Он зажег фонарик, осветил меня с ног до головы, не без некоторого труда поборов желание похлопать меня по карманам, чтобы убедиться, нет ли у меня оружия, потом оглянулся в темноту сада:
– Проводи, Федорыч!
Тот повел меня по темному саду, освещая фонариком дорожку, отклоняющуюся от прежних заросших аллей и протоптанную явно в последнее время, причем небрежно и наспех. Только у крыльца я сообразил: наверное, мой провожатый и есть мой пресловутый двойник, о котором говорила Кира. Действительно, он был одного роста со мной, но, разумеется, гораздо моложе. Впрочем, военной выправкой он похвастаться не мог и вообще держался несколько неуверенно, что могло объясняться таинственной ролью, которую ему приходилось играть. Мы поднялись на крыльцо. Я прошел по знакомому темному тамбуру и увидел, что дверь в комнату Клавдии открыта. Тем не менее я постучал суставом согнутого пальца по косяку. Клавдия немедленно откликнулась:
– Входите, что же вы… Здравствуйте!
Она встала мне навстречу из-за своего рабочего стола, который был раньше кухонным и теперь был покрыт потертой клеенкой. Письменный стол продала, помнится, Дарья Федоровна вскоре после смерти Вениамина Яковлевича. Меня всегда поражало, как мало меняется Клавдия. В ее светло-золотистых волосах до сих пор не замечалось ни малейшего намека на седину, ее локоны разве что чуть-чуть поблекли. Она стояла передо мной, статная и стройная, как тридцать лет назад. Может быть, лицо ее было чуточку более круглым, чем приличествовало бы дальней родственнице Габсбургов. Зато глаза отличались нездешней, арийской, новалисовской голубизной и сияли, как будто в них вечно стоят слезы. Впрочем, в этом сиянии было и много русского. О таких у нас говорят: «Волоокая!»
Клавдия слегка коснулась моей руки (крепких рукопожатий она всегда избегала) и усадила меня на потертый диван, хотя у стола стояло старинное покойное кресло, уцелевшее от лучших времен. Я ни разу не видел, чтобы в этом кресле кто-нибудь сидел. Сама Клавдия в него тоже никогда не садилась, и в то же время кресло имело отнюдь не антикварный, вполне обжитой вид, как будто кто-то только что встал с него, чтобы уклониться от встречи с навязчивым гостем. Вообще комната была прибрана безупречно. Я уверен, что и при солнечном свете в ней нельзя было бы обнаружить ни пылинки. Трудно было даже предположить, что Клавдия спит на том самом диване, где теперь сижу я, хотя больше спать ей было негде: зимой остальные комнаты не отапливались, и Клавдия посещала их только для того, чтобы обтереть пыль. На столе были аккуратно разложены листы очередной рукописи, уже перепечатанные. Среди них высилась пишущая машинка, но неподалеку от нее виднелся новый предмет, непривычный для меня: кассетный магнитофон. Он стоял как раз рядом с креслом. Рояль был все еще раскрыт, однако нот не было. Клавдия любила играть по памяти.
Она аккуратно сдвинула бумаги на столе и поставила передо мной блюдо антоновских яблок. Без сомнения, они были собраны в савиновском саду. Затем Клавдия извинилась, вышла из комнаты и через две-три минуты поставила передо мной так называемый пушкинский картофель, горячий, подрумяненный, посыпанный укропом и петрушкой. Судя по быстроте его появления, можно было предположить, что в доме есть газ. Потом Клавдия налила две чашки чаю, одну себе, другую мне. Отхлебнув чай, я убедился, что он заварен с мятой и с другими травами, известными только Клавдии.
– И вам тоже газ провели? – задал я традиционный мочаловский вопрос, деланая непринужденность и неуместность которого в данном случае неприятно поразила меня самого. Собственно, для Мочаловки этот вопрос утратил свою остроту двадцать с лишним лет назад, но с тех пор сохранился особый «газовый» фольклор, не всегда правдоподобный, но тем более по-мочаловски живучий. Рассказывают, например, о старичке-пенсионере, умершем скоропостижно, когда зимой у него погас АГВ. В последнее время эти истории снова оживились в связи с подорожанием газа и со слухами о том, что зимой газ будут отключать, но обсуждать подобные проблемы с Клавдией – не противоестественно ли, не бестактно ли это? Клавдия только рассеянно кивнула в ответ:
– Да, провели. Ничего не поделаешь.
– Много было беспокойства?
– Не без этого. Но меня это почти не коснулось.
– Неужели это Адриан?
– Ну что вы! Адриан Вениаминович не интересуется такими делами у себя в Америке. (Она иронически подчеркнула последние слова.) Правда, он не забывает меня. Видите, свою новую книгу мне прислал.
Она показала мне внушительный фолиант с английским названием «Duration and Infinity. The mathematical aspects of the problem».
Я бегло перелистал книгу Адриана и чуть было не увлекся чтением, с таким блеском Адриан отстаивал свой основной тезис: бесконечность – свойство, а не число. Но я вспомнил, что я в гостях у Клавдии, а не виделся я с ней толком несколько лет, хотя и не так долго, как с Кирой. Все-таки мы живем в одной и той же Мочаловке и volens-nolens встречаемся хотя бы эпизодически, что, впрочем, честно говоря, не считается. У меня сложилось впечатление, что Клавдия не хочет меня видеть, но, быть может, я ошибаюсь? Не полагает ли она, что я злоупотребил ее доверием, включив в мою книгу некоторые материалы по Чудотворцеву? Честное слово, я ссылался на нее, но эти ссылки сняла редакция, не особенно со мной считаясь. Моя книга «Русский Фауст» лежала у Клавдии на столе. Что это – обличительный документ или знак внимания к моей особе? Чтобы не углубляться в эти вопросы, я предпочел имитировать светское мочаловское любопытство:
– Значит, и жильцы на даче без ведома Адриана?
– Во-первых, это не жильцы, а охрана, – ответила Клавдия, – а во-вторых, они здесь, может быть, и с его ведома, я просто не знаю. Меня это не касается. Какие-то переговоры с ним, во всяком случае, ведутся.
– Охрана? Переговоры? Как все это прикажете понимать?
– Надеюсь, вы не возражаете против того, что архиву Платона Демьяновича нужна охрана… в наше время?
– Кто же ее обеспечивает? Неужели Адриан?
– Я уже сказала вам: Адриан Вениаминович не интересуется ничем, кроме своих «Duration and Infinity». (Английское произношение Клавдии оставляло желать лучшего.) Это все Всеволод Викентьевич (голос Клавдии угас, поник при этом имени, совсем как у Киры, едва ли не единственная черта сходства между ними), да, Всеволод Викентьевич Ярлов.
– Лидер ПРАКСа?
– Его так называют, но дело не только в этом. Он провозвестник русской идеи. Последователь Платона Демьяновича.
Я пытался уловить иронию в голосе Клавдии, но не уловил, и это, может быть, свидетельствовало о том, что ирония Клавдии беспредельна, но не исключено, что Клавдия говорит всерьез.
– Так это и газ вам ПРАКС провел? – совсем уже невпопад сказал я.
– Как будто бы они действительно этим занимались. По распоряжению Всеволода Викентьевича.
– Надеюсь, также и с вашего согласия?
– При чем тут мое согласие! Какое отношение я имею к этой даче! Я всегда хорошо помню, что я здесь гостья… Но я не возражала…
– Насколько я понимаю, Адриан доверил дачу вам…
– Что значит «доверил»? Никакой доверенности он мне не выдавал… Дачей распоряжаться я никак не могу… Говорю вам, я здесь гостья… или сторожиха, если не сказать, что я здесь вообще проживаю из милости…
– Клавдия!
– Так ведь оно и есть, Иннокентий Федорович. У меня никогда не было собственной жилплощади.
– Я всегда думал, что Адриан рано или поздно подарит эту дачу вам…
– Может быть, он так и сделал бы… если бы ему пришло в голову… Но он мало интересуется… этой дачей у себя в Америке. Ему дела нет, что здесь протекает крыша. Правда, и это еще не беда, можно подставлять ведра… Но теперь дача отремонтирована… благодаря Всеволоду Викентьевичу…
– На каких же условиях господин Ярлов ремонтирует чужие дачи? Он что, меценат, или спонсор, как теперь говорят?
– Повторяю вам, я не знаю подробностей… Как будто ведутся переговоры о приобретении этой дачи…
– Переговоры с Адрианом?
– С Адрианом Вениаминовичем. Кажется, он склонен согласиться.
– А как же вы?
– Всеволод Викентьевич настолько любезен, что предлагает мне жить здесь и впредь… как я жила до сих пор… (В ее голосе прорвалась наконец ирония.)
– И то хорошо.
– Хорошо. Кроме того, он предлагает мне двухкомнатную квартиру. В Москве.
– Просто так предлагает? Без всяких условий?
– На этот вопрос я не могу вам ответить. Я сама еще не решила.
– А как же архив?
– Ну, это-то просто… Где архив, там и я.
– Что же будет здесь, на даче?
– Предполагается создать здесь музей… Платона Демьяновича.
Я вспомнил, что мне говорила Кира всего часа два назад. Получается, и Кире, и Клавдии Ярлов предлагает одно и то же. Так сказать, музей-квартира и музей-усадьба… Но эта дача никогда не принадлежала Чудотворцеву. Он только снимал здесь комнату с террасой. Что это за странный музей с филиалами в Москве и в Мочаловке? Собственно, я и приехал среди ночи для того, чтобы выяснить этот вопрос. Впрочем, нет. Кира послала меня сюда по другому вопросу. Но как задать этот вопрос? Не ссылаться же на Киру. Но и Клавдию надо предупредить. Иначе Кира, чего доброго, начнет действовать, и я, как всегда, останусь виноват перед обеими. Мысли эти пронеслись у меня в голове, а я ни с того ни с сего вдруг спросил о том единственном, что меня интересует:
– Можно узнать, что это за рукопись?
– Это книга, над которой Платон Демьянович работал много лет, – с деловитой готовностью и в то же время с явным облегчением ответила Клавдия. – Вы, конечно, имеете о ней представление. Книга называется «Бог и боги».
– Можно на рукопись взглянуть?
– Это, собственно, не рукопись, а машинопись, и взглянуть на нее затруднительно. Рукопись насчитывает более тысячи страниц, не считая черновых набросков и вариантов, которые тоже будут включены в это издание.
– И все это написано вашей рукой?
– Моей рукой это записано и перепечатано. А написано это Платоном Демьяновичем.
– Но ведь он не возвращался к этой рукописи после сороковых годов?
– Нет рукописи, к которой Платон Демьянович не возвращался бы, – суховато проронила Клавдия.
– И все-таки, если позволите, я взглянул бы, – промямлил я.
– Извольте, но было бы разумнее, если бы я сама прочла вам некоторые места. Я хорошо знаю рукопись, и к тому же… я ведь лектриса… – неожиданно улыбнулась она.
– Но ведь уже третий час ночи…
– Ничего, я привыкла работать по ночам, так что если вы не устали…
Я бы никогда не признался, что я устал, и она ровным голосом принялась читать. Отдельные положения книги действительно были мне знакомы, но своеобразная магия чудотворцевских интонаций немедленно захватила меня, если не сказать заворожила. Платон Демьянович рассуждал так:
Идея Бога таится в языке и до такой степени предполагается языком, что как бы остается не только его функцией, но и предпосылкой. На мысль о Боге наводит сама соотнесенность языка с той реальностью, которую язык обозначает. Очевидно, каждое слово обозначает нечто не являющееся словом: предмет. В результате само слово приобретает предметность или даже реальность, а в реальности обнаруживается нечто позволяющее обозначать ее словом: смысл. Эта взаимность языка и бытия не может быть исчерпана рассудочно или научно; в нее нужно так или иначе верить. Каждый говорящий верит в то, что слово обозначает именно то, что он с ним связывает, но он верит также и в то, что его собеседник, другой, верит в это же. Такая вера практически подтверждается на каждом шагу, на ней основывается элементарное взаимопонимание, не говоря уже о законах, обычаях или идеологиях. Идея Бога присутствует в этой соотнесенности языка и бытия, так как без Бога подобная соотнесенность невероятна или невозможна. Существование Бога подтверждается, гарантируется существованием мира, языка и самого говорящего. Бог Ветхого Завета так и называет Себя: Сущий или Я Есмь. Таким образом, любой простейший акт говорения превращается в исповедание веры. В связи с этим спрашивается, что обозначает само слово «Бог». Очевидно, это слово по своему смыслу не может означать несуществующее, даже с чисто языковой точки зрения не может не быть Богом. Следовательно, само по себе высказывание «Бога нет» ничего не означает, так как если нет Бога, то нет существующего, нет говорящего и нет его высказывания. Словосочетание «Бога нет», додуманное до конца, превращается в совершенную формулу безумия, и с этой точки зрения следует понимать библейский стих: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс., 13:1).
Совершенно очевидно, что никакая религия немыслима вне высказывания, вне языка, а главной проблемой языка является сочетание некоего единства, превращающего разрозненные звуки-знаки в систему, и многообразия или членораздельности, так как один звук или нечленораздельный шум не образуют языка ни при каких обстоятельствах. Поэтому исключительной точностью отличается русское обозначение дохристианских или добиблейских религий: язычество. Эти религии являются именно религиями языка или языков, принимая во внимание, что древнерусское слово «язык» означает также «народ». Языческая религия – это самообожествление народа, рода и племени в языке и через язык. Чем древнее, чем первобытнее язык, тем отчетливее распознается в каждом слове имя собственное, имя Божества, у которого много имен, а в каждом имени угадывается его стихийное, бытийное начало. Так в имени верховного греческого бога Зевс распознается Дий, dies, день, диво, индоевропейский корень, связанный со светом. Имя славянского бога Купала соотносится с латинским «cupido» (Купидон) через глагол «кипеть», то есть страстно желать. Язык роднил между собой соплеменников и поднимал это родство на уровень Божества, что признавал даже строжайший ревнитель единобожия апостол Павел, усматривающий именно в творчестве языческих греческих поэтов идею богочеловеческого родства (Деян., 17:28). Отсюда вывод, что язычество – это религия божественных имен и она может изучаться лишь на основе обширного языкового материала, прежде всего, на материале родного языка, незаметно срастающегося при этом с другими языками, так как божественные имена дают уникальный ключ к языку и в эпохи религиозного сознания люди осваивают иностранные языки с легкостью, невероятной для современного человека (вспомним хотя бы Марко Поло и Афанасия Никитина).
Именам по их природе свойственно разнообразие и множественность. Множественность божественных имен традиционно понимается как языческое многобожие. Однако существуют языческие религии, почитающие единого Бога, и все-таки остающиеся языческими, как, например, культ Маниту, великого духа у американских индейцев. Соотношение единого и множественного, на котором основывается язык, по-своему преломляется в языческой религии. В то же время всем языческим богам присуще нечто общее, в силу чего они, собственно, и почитаются: их божественность, которая при всех своих бесчисленных проявлениях не может не мыслиться. С точки зрения язычества все существующее божественно и достойно поклонения. Первичной, естественной религией человека является пантеизм. Отсюда почитание животных, растений, камней и так называемых идолов, которые святы, как свято все. Так над множественностью божественных проявлений берет верх единое божественное начало, сказывающееся в единичном, а совершенным образом единичного оказывается носитель собственного имени, «я». Местоимение первого лица единственного числа в русском языке как будто случайно совпадает с первой буквой имени Божьего в Ветхом Завете: Яхве, что значит опять-таки Я Есмь, но в языке все случайно и все знаменательно. Быть может, именно этим совпадением объясняется изначальный персонализм русской религиозной философии в отличие, например, от стойкого западного пантеизма, торжествующего в абсолютном идеализме немецкой классической философии. Всякий раз, называя себя «я», человек исповедует, что он образ Божий, а прообраз не просто выше образа, но находится вне сферы его бытия, несоизмерим с ним. Мир не существует без Бога, но Бог пребывает вне мира, как художник вне своего создания, и открывается миру по доброй воле в религии откровения. Естественная языческая религия исходит от человека и направлена к Богу; религия откровения исходит от Бога и направлена к человеку.
Так истолковываются два таинственных библейских стиха. С одной стороны, Бог говорит, что все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил (Пс., 95:5), а с другой стороны, тот же Бог говорит людям: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс., 81:6). В первом случае Бог провозглашает изначальное различие Творца и творения. Идолы – это хаотическая множественность бытия, зловещая в своем отпадении от Бога и клевещущая на Творца в своем распаде. Люди же суть истинные боги, потому что они богоподобны, а подобие совершенному прообразу невозможно без родства с Ним. Столкновение этих двух принципов составляет историю рода человеческого и его культуру. Люди уже были богами, но пожелали быть «как боги» (Быт., 3:5), то есть как ложные мнимые боги, как идолы, отпавшие от Бога и впавшие в дурную хаотическую множественность. Единение человека с Богом восстанавливается в Богочеловеке, во Христе; от самых истоков своей истории человек чаял, жаждал такого воссоединения. Поэтому в именах языческих божеств нередко присутствуют звуки истинного Божьего имени. Так, в латинском Jovis угадывается Яхве, в имени славянского бога Ярила слышится то же изначальное «я», «Хоре» воспринимается, как аббревиатура имени Христос, а имя славянского Даждь-бога включается даже в православную молитву «Отче наш»: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Так формулируется вывод, основополагающий для всей духовной жизни человека: Бог – Слово, боги – буквы.
Клавдия сделала паузу. Или голос ее осекся? Я воспользовался этим, чтобы спросить:
– Позвольте, а на какой странице впервые сказано: имя Божье есть Бог? На седьмой или на девятой?
– Но Бог не есть имя… Не забудьте! – вскинулась она, как бы возражая.
– Я-то помню, но я помню и то, что именно эта фраза давала повод к обвинениям Платона Демьяновича в ереси. На какой же все-таки это странице?
– Мало ли в чем его обвиняли… и обвиняют сейчас, но вы-то… вы-то знаете правду…
– И все-таки на какой же это странице?
Клавдия лихорадочно листала рукопись.
– Ну вот, вы почти угадали… на восьмой странице.
– Правильно. Но ведь это машинопись. А мне бы хотелось взглянуть именно на рукопись.
– А вы что… видели ее когда-нибудь?
– Разумеется. Вы же мне и показывали ее… в свое время. Мне так хочется снова взглянуть… на почерк.
– Но это мой почерк. Уже тогда я писала под его диктовку.
– Именно так. Но я в свое время научился на глаз определять, когда вы писали под диктовку, а когда переписывали от руки набело. Помните, у вас долгое время то ли не было пишущей машинки, то ли она была неисправна, то ли вы не умели печатать. Вот вы и записывали сначала со слуха, а потом переписывали. Так мне и хочется сличить оба эти варианта.
– Но зачем, зачем? Впрочем, я догадываюсь… догадываюсь, откуда… от кого вы мне звонили.
Я промолчал. Она взяла себя в руки и продолжала:
– Но дело не в этом, в конце концов. Давайте поступим по-другому. Хотите послушать новую запись его голоса?
– Новую запись?
– Да, новую запись. Это лекция «Троица на Руси».
Она включила магнитофон, и голос Платона Демьяновича с его характерными модуляциями заполнил комнату. Платон Демьянович анализировал образ Троицы в «Божественной Комедии» Данте и у Андрея Рублева. Он обращал внимание на загадочные строки в 33-й заключительной песни «Рая», в которых поэт вопрошает, найдется ли геометр, способный определить, как вписывается наш (человеческий) образ в один из трех кругов Троицы. Такой геометр нашелся на Руси, это был Андрей Рублев, утверждал Чудотворцев. Удлиненные овалы образов на иконе «Троица» и представляют собой уникальное решение задачи, сформулированной Данте. Во-первых, так человеческий образ вписывается в круг, и, во-вторых, так один и тот же прообраз Божества варьируется, являет свои различия в ипостасях. При этом Чудотворцев подчеркивал еще две основополагающие истины. Во-первых, Троицей Андрея Рублева убедительнейшим образом опровергается католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Ипостаси на иконе Рублева едины, но различны, и ни про одну из них нельзя сказать того, что говорится про другую, а если бы Святой Дух исходил одновременно от Отца и Сына, различие между ипостасями исчезало бы, по крайней мере, в этом измерении, а тогда две ипостаси сливались бы в одну, и как можно было бы тогда говорить о Троице? Икона Рублева тем и хороша, что ею запечатлено непререкаемое различие ипостасей, без которого не было бы самой иконы, но, во-вторых, это различие зиждется именно на вариациях одного и того же Божественного Лика, так что на иконе созерцается именно Троица как Целое, а не каждая ее ипостась в отдельности или, не дай Бог, порознь. Родство между Данте и Андреем Рублевым устанавливается через Дионисия Ареопагита, чьим влиянием и обусловлено своеобразное, непреднамеренное вселенское православие Данте. Возможно, изначальное видение Сергия Радонежского, он же Тайновидец Троицы, было ближе к духовному опыту Данте. Андрей Рублев придал ему то выражение жертвенно-трагического, что столь зримо на его иконе и, по существу, отсутствует у Данте. В этом выражении сказалась мучительная проблематика именно Святой Руси, которая всегда болезненно переживала свое исконное, невольное, но и неотъемлемое манихейство. Ибо вместе с православием на Русь было занесено богумильство, как бы вернувшееся таким образом на свою родную скифско-иранскую почву Что же и главное в «Слове о полку Игореве», если не манихейская мистерия света и тьмы, все то, что впоследствии пышным цветом расцветет у Гоголя, самое имя которого совпадает с птицей гоголь, а она, по богумильским сказаниям, прилетает перед концом мира. Разве «Страшная месть» и «Тарас Бульба» – не позднейшие малороссийские варианты «Слова о полку Игореве», как и «Тихий Дон», чей герой казак (слово это справа налево и слева направо читается одинаково), ибо казак есть указующий, ему Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую, и путь этот – тропа Троянова в пространстве и Трояновы века во времени. Тут Чудотворцев принялся обстоятельно доказывать, что Троян в «Слове о полку Игореве» имеет лишь косвенное отношение к римскому императору, фактически означая Троицу, дохристианскую и одновременно христианскую. Далее Чудотворцев упоминал казачьего вероучителя Питирима Троянова. Родом он был старообрядец с Терека, отличился во время Балканской войны и, дослужившись до войскового старшины, вдруг начал проповедовать, причем его последователи сперва объявились среди болгар и, в особенности, среди сербов, привыкших выдавать свое богумильское манихейство, подкрепленное культом вампиров, за исконное православие, но секта трояновцев вскоре распространилась и на Дону, и на Кубани. Питирим Троянов в духе вполне иранском говорил, что есть две Троицы, одна святая – Троян, другая проклятая – Ятрон. Трояна составляют Светбог, Святбог и Сватбог (так Питирим дерзал называть Святого Духа). А к проклятой Троице, к Ятрону относятся Бледбог, Блядбог и Блудбог, так что Троян отражается в Ятроне, как в кривом зеркале. При этом Троян красный (красно солнышко), а Ятрон белый. Служители Трояна соответственно красные, а приспешники Ятрона белые, вот почему трояновцы поддерживали в так называемую гражданскую войну большевиков, что не помешало, впрочем, большевикам расстрелять их всех почти поголовно во время расказачивания. Так и красные сербы воюют против хорватов белых, и это священная война за славянское православие. Красные казаки и красные сербы объединятся и образуют боговолость Славию (тут Чудотворцев проводил параллель между боговолостью и джамахирией), а Красная Славия и красная Московия составят истинный Третий Рим, красную православную державу, всемирное соборное государство, где будет править сама Троица, что означает: То Цари.
– И когда это было записано? – спросил я, чтобы сказать что-нибудь.
– Позавчера, – ответила Клавдия с подчеркнутым спокойствием, твердо и прямо глядя мне в глаза. – Позавчера, в этой самой комнате. Когда он диктует, он всегда сидит в этом кресле. (Она указала на старинное, покойное кресло, о котором я упоминал.)
– Послушайте, Клавдия, – нерешительно начал я. – Нет, я не оспариваю того, что вы говорите. Это говорите вы, и для меня этого вполне достаточно. Но есть, извините меня, другие. И они могут принять против вас меры, извините меня, не совсем для вас приятные…
– Какие такие меры? – снова вскинулась Клавдия. – И кто такие они? Почему вы не говорите прямо «она»? Еще неизвестно, кому надо больше бояться теперь, мне или ей. Что касается меня, то я никогда не боялась. Слава Богу, я не беззащитна. (Она кивнула в сторону кресла.) Думайте что хотите, но он никогда не умрет. По правде говоря, меня другое мучит. Что с ним будет, когда я умру? Кто займет мое место? С кем будет он… диктовать?
И слезы, вечно таившиеся в нездешней голубой глубине ее глаз, явственно проступили, навернулись, нахлынули приливом, в котором я всегда боялся утонуть.
К счастью, в этот момент в дверь постучали. Стук был отчетливый, настоятельный. Так стучатся в дверь те, кто привык входить без стука. Но в этом стуке слышалась и какая-то неуверенность, как будто стучавшийся лишь имитировал стук, свойственный власть имущему.
– Войдите, – обронила Клавдия, и на пороге комнаты предстал мой двойник.
– Всеволод Викентьевич только что приехал, – промямлил он куда менее уверенно, чем можно было бы ожидать от стучавшегося подобным образом, – и спрашивает, нельзя ли с вами поговорить, несмотря на такой поздний час.
– Зовите, – безразлично ответила Клавдия, и Ярлов сразу же шагнул в комнату Он, очевидно, стоял уже в коридоре у дверей и велел доложить о себе только для приличия.
– Да, да, Клавдия Антоновна, – начал он, с развязной претензией на светскость целуя ей руку, – даже не знаю, как лучше сказать: слишком поздний или слишком ранний час для визита к даме. Но я рад, что вы не слышали, как подъехала моя машина. Видите ли, нашим людям даны специальные указания по возможности не тревожить вас, и мой шофер, во всяком случае, их усвоил. Я увидел у вас в комнате свет и позволил себе… Ах, у вас гость, – спохватился он и представился, протягивая мне руку: гроссмейстер Ярлов.
(Впоследствии я убедился, что Ярлов всегда так представляется и имеет на это право: он был действительно гроссмейстером как шахматист, но однажды, не заняв первого места в чемпионате, в котором рассчитывал победить, вдруг резко поменял профессию и создал свою «Реторту», полузапрещенный театр на досках, как говорилось тогда.)
– Фавстов, – ответил я, неуверенно пожимая в свою очередь его протянутую руку и присматриваясь к Ярлову, а был он среднего роста, лысоватый, грузный, с брюшком, так что лоснящийся кожан приходилось расстегивать. В руке у Ярлова дымилась изогнутая трубка; покосившись на Клавдию, он потребовал пепельницу, которую мой двойник немедленно поставил перед ним. Ярлов тщательно выколотил трубку, но не выпускал ее из рук, в рассчитанном жесте пользуясь ею как указкой.
– Я и нёе сомневался, Иннокентий Федорович, что это вы, – непринужденно обратился он ко мне. – Вы позволите нам сесть, Клавдия Антоновна? (Клавдия кивнула, и Ярлов, покосившись на пустующее кресло, сел на диван. Я предпочел пересесть на стул. Мой двойник сразу же вышел из комнаты и принес еще один стул, хотя Клавдия сидела как сидела, а сам он остался стоять в дверях.)
– Пока можешь идти, – сказал ему Ярлов. – Вы не представляете себе, как я рад, что застал вас, Иннокентий Федорович. Ведь я ваш внимательный читатель, ваш поклонник, с вашего позволения. «Русский Фауст» – моя настольная книга. Не говоря уже о том, что я вполне сознаю значение ваших исследований, посвященных Платону Демьяновичу У меня есть некоторые планы в отношении вас, но об этом после (он указал трубкой куда-то в пустоту). А пока пользуюсь случаем и приглашаю вас в театр «Реторта» на генеральную репетицию одного спектакля. Послезавтра в семь часов. И будьте так любезны, передайте аналогичное приглашение вашей гостье, милейшей мадам Литли (он подчеркнул ударение на последнем слоге). Так что жду вас обоих.
– А можно узнать, что за спектакль? – осведомился я.
– Сделайте одолжение. Это пьеса «Троянова тропа», посвященная предполагавшейся высылке Чудотворцева за рубеж.
– Но ведь он не был выслан.
– Именно. Этому-то обстоятельству и посвящена пьеса.
– А кто ее автор?
– Чувствуется, как вы далеки от театральной жизни. В нашем театре «Реторта», как в театре «Красная Горка», известны только имена персонажей. Имена авторов, а также исполнителей не оглашаются, а угадываются.
– Я постараюсь быть.
– Вот и славно, Иннокентий Федорович. Теперь о наших с вами делах, Клавдия Антоновна. Вашу будущую квартиру в Теплом Стане вы можете осмотреть в любое время. Машина в вашем распоряжении круглые сутки. Признаться, есть у меня для вас вариант на Малой Бронной, но я определенно не рекомендую вам там селиться. Некоторые события могут обеспокоить вас там, причем в ближайшее время. Вот почему и на этой даче я не советую вам задерживаться. Когда все утрясется, когда порядок будет, пожалуйте, милости просим, дача в полном вашем распоряжении, как и машина, разумеется. А пока здесь могут иметь место некоторые приготовления, и мне крайне не хотелось бы, чтобы они так или иначе обеспокоили вас.
– А вдруг Адриан Вениаминович возьмет да и приедет? – спросила Клавдия не без иронии, как мне показалось.
– Не думаю. – В голосе Ярлова послышался металл. – Господам, подобным господину Луцкому, лучше сейчас уезжать из России, а не приезжать сюда. Они, в общем, так и поступают. Скатертью дорога, одно можно сказать. Мы покупаем этот дом у господина Луцкого и предлагаем ему сумму, вполне приличную даже для богоспасаемых Соединенных Штатов, хотя, возможно, было бы справедливее потребовать подобную сумму с него. Но пора и честь знать. (Ярлов указал трубкой в окно, где начинал сереть поздний осенний рассвет.) Машина ждет вас, Иннокентий Федорович. Через десять минут вы будете дома.
Я попытался отнекиваться, но Ярлов и слышать не желал возражений. Мне оставалось только поцеловать руку Клавдии и откланяться.
Глава четвертая ТРОЯНОВА ТРОПА
К МОЕМУ удивлению, мадам Литли немедленно приняла приглашение посетить театр «Реторта», хотя до сих пор, насколько мне известно, она не была ни в Малом, ни в Большом, ни даже в Третьяковской галерее.
Мадам Литли появилась в Мочаловке тридцатого апреля вечером, сразу же нашла мой домишко, постучалась ко мне в дверь и, когда я вышел на крыльцо, заговорила по-русски бегло, но со странным акцентом, который я никогда не счел бы французским:
– Извините, сударь, вы Фавстов?
– Фавстов.
– Иннокентий Федорович?
– Именно так.
– В таком случае я к вам.
– Пожалуйте, – промямлил я, – но могу ли я узнать, сударыня, с кем имею честь?
Она протянула мне визитную карточку, где причудливыми буквами, похожими на готические, было написано: «Элен Литли. Имморталистический центр в Париже». Признаюсь, я не придал сначала особого значения названию «имморталистический». Мало ли в последнее время развелось всяких центров. Тем пристальнее я присматривался к своей гостье. Она была стройна, подтянута, моложава, но, право же, я затруднился бы сказать, сколько ей лет. Ее продолговатое лицо было совершенно белым и гладким, но полное отсутствие морщин могло объясняться хорошим лосьоном, кремом и совершенной пластической операцией. К тому же она определенно напоминала мне какую-то знакомую особу, я только никак не мог вспомнить, кого именно. Стремительным птичьим жестом опустившись на краешек табуретки в моем так называемом кабинете, она сразу же перешла к делу:
– Я приехала, чтобы взять у вас пробу крови на исследование, monsieur Фавстов.
– Но зачем? С какой стати? Etes vous un medecin? – перешел я почему-то на французский язык.
Она мне ответила по-французски с тем же странным акцентом:
– Имморталистический центр проводит международную акцию по обследованию крови у населения земного шара. Пробы крови берутся по определенному принципу, который трудно изложить в двух словах. Но вы один из тех, у кого кровь должна быть взята на исследование непременно.
– Должен ли я понять вас в том смысле, что вы считаете меня опасно больным?
– Отнюдь нет. Речь идет о некоторых особенностях крови, которые по нашим данным у вас могут быть. От этих особенностей может зависеть будущее человеческого рода.
– Неужели? Но откуда у вас такие данные… обо мне?
– Ваша фамилия… Ваша родословная… Ваша книга…
– Вы читали ее?
– Разумеется. И очень признательна вам за подробные сведения о вашем предке князе Фавсте Меравейском.
– Эту фамилию я не упоминаю. У меня говорится только о Меровеевом Посаде.
– Бывшей вотчине вашего рода!
– Совершенно верно.
– А не назовете ли вы каких-нибудь ваших родственников и их адреса?
Я промолчал. А она продолжала тараторить. Она напомнила мне, что Мировейский Посад народная этимология связала с церковным мiром после крещения Руси, хотя сам Посад куда древнее и, несомненно, назывался вначале Мѣровейским. «Не в меру дает Бог духа», – не удержался я, а она только понимающе кивнула. Не с Мѣровейской ли вотчиной соотносится тулузский род де ля Мервей, чьи ветви встречаются, впрочем, и гораздо севернее?..
– А вы пробу крови у Антонины Духовой успели взять? – опять-таки не удержался я.
– Mais sans doute, – подтвердила она. – Успели незадолго до того, как Антуанетта де Мервей-Луцкая умерла в доме для престарелых в Ницце. Это было в 1968 году, когда ваши войска вошли в Прагу. Она не пережила этого события. Еще бы! Крушение социализма с человеческим лицом! Бедняжке было всего пятьдесят три года, но выглядела она гораздо старше. Кстати, мне нет нужды напоминать вам, что и фамилия Чудотворцев, возможно, калька с французско-провансальского «la merveille».
Она сделала паузу, искоса взглянув на меня, а потом продолжала в том же духе, пока за окном не стемнело. Нечего и говорить о том, что моя проба крови уже хранилась у нее в стеклянной трубочке. Я заикнулся, не проводить ли мне ее на станцию, но она многозначительно ответила, что предпочла бы провести сегодняшнюю ночь под моим гостеприимным кровом. Я смущенно постелил ей в соседней комнате на диване не слишком свежее постельное белье (Клер стирала его время от времени, но, боюсь, не слишком часто). На ужин мне было нечего предложить ей, кроме холодной картошки в мундире, но она проворно извлекла из своего маленького чемоданчика несколько крохотных баночек, в которых оказался сыр, что-то вроде паштета и фруктовое желе необычайной радужной расцветки. Все это сильно пахло какими-то незнакомыми мне специями. Мадам Литли попросила меня потушить электрическую лампочку зажгла свечу той же расцветки, что фруктовое желе, и предложила разделить с ней ужин. К резкому запаху кушаний прибавился экзотический аромат свечи, что-то смутно напоминающий мне, как и сама мадам Литли. Ночью я услышал, как она открывает окно. Я окликнул ее из-за стены, предупреждая, что делать этого не следует: ночи все еще слишком прохладные. Она не ответила мне. Я постучался в дверь, потом открыл ее. Никакой мадам Литли в комнате не было. Лишь на постели лежало ее платье цвета летучей мыши. Неужели она выпрыгнула в окно, голая? Я постеснялся искать ее в саду и оставил окно открытым, хотя в него тянуло острым весенним холодком. Согревшись кое-как, я заснул под одеялом. Проснулся я поздно. Солнце светило уже вовсю. Я вновь окликнул мадам Литли., и вновь мне никто не ответил, но когда я заглянул в комнату, то увидел ее, спящую под одеялом. Меня поразил ярко-красный цвет ее губ. Неужели она накрасила их перед сном?
Мадам Литли вышла из комнаты около полудня, весело поздравила меня с днем первого мая и за несколько минут приготовила завтрак, не отличающийся, правда, от вчерашнего ужина. Потом она закурила длинную сигарету или скорее пахитосу, и в комнате распространился запах, напоминающий радужную ароматическую свечу. После нескольких затяжек мадам Литли выразила желание снять у меня комнату на неопределенно долгое время. Оказаться под одной крышей с нестарой, как будто бы одинокой дамой, в смежных комнатах, вернее, в одной комнате, разгороженной лишь печкой… К тому же присутствие такой жилички не может не помешать моим свиданиям с Клер. Словно угадав мои сомнения, мадам Литли сказала, что будет подолгу отсутствовать, а точнее говоря, наезжать лишь время от времени, предупреждая меня о своих наездах заранее. При этом она предложила мне за комнату триста долларов в месяц независимо от того, живет она в комнате или нет, и тут же выложила из своей сумочки эту сумму. (Плохой каламбур, но не знаю, как иначе выразиться.) Стыдно признаться, но я никогда не держал в руках такой суммы и сразу же очертя голову согласился на все ее условия. После этого мадам Литли сделала мне реверанс, не без иронии, как я полагаю, подхватила свой чемоданчик и упорхнула. После этого прошел месяц, о мадам Литли не было ни слуху ни духу, и я уже не рассчитывал ни на какую плату, но 31 мая триста долларов в надушенном конверте принес мне не кто иной или, лучше сказать, хотя нельзя так сказать, не кто иная, как моя Клер. Я даже заподозрил, грешным делом, не свои ли деньги она мне дает (она работала медсестрой у доктора Сапса и хорошо зарабатывала), но на конверте мое имя было начертано теми же причудливыми буквами, что имя мадам Литли на ее карточке. Оказывается, парижский Имморталистический центр при семинарии святого Сульпиция сотрудничал с доктором Сапсом, и, передавая мне деньги, Клер выполняла поручение своего патрона. Мне ничего другого не оставалось, кроме как положить конверт себе в карман, что я и сделал с благодарностью; плата за комнату, остававшуюся практически в моем распоряжении, позволяла мне всецело посвятить себя работе над биографией Чудотворцева.
Интересно, что о дальнейших посещениях мадам Литли меня всегда заранее предупреждала Клер. Мадам Литли заглядывала в мой дом, иногда на несколько часов, но время от времени случалось ей и ночевать у меня. Тогда в доме снова появлялся запах странных паштетов и желе, а также ароматических курений, которые не курились, а в прямом смысле слова выкуривались вместе с бесчисленными сигаретами или пахитосками. Мадам Литли жгла при этом и свечи радужной окраски, которые горели при ней даже среди бела дня. Запах кушаний, курений и свечей был невероятно устойчив. Мне кажется, он до сих пор не выветрился. Да и кто поручится, что мадам Литли не заглянет ко мне в ту самую минуту, когда я пишу эту строку? Изредка я видел в ее длинных пальцах и стеклянные колбочки с пробами крови. Клер пересказывала мне разные слухи по поводу этих проб. Говорили, что Имморталистический центр проводит международную акцию по исследованию крови под названием «реальная кровь». Так переводила название этой акции Клер, не очень сведущая во французском языке. (У нее у одной из первых мадам Литли взяла пробу крови.) Я сразу же понял: по-французски акция называется «le sang real», что может означать «королевская кровь» или «кровь истинная». Клер рассказала мне, что отношения между парижским Имморталистическим центром и Трансцедосом доктора Сапса прервались, когда доктор Сапс присвоил себе некоторые пробы. Клер не знала, зачем они ему понадобились. Она вообще не представляла себе, что происходит в закрытых лабораториях Трансцедоса. Во всяком случае, она убеждала меня в своей полной неосведомленности, хотя я подозревал, что у нее есть некоторые подозрения по этому поводу, но так или иначе о приездах мадам Литли она продолжала меня предупреждать. Она же по-прежнему передавала мне каждый месяц конверты с квартирной платой. По-видимому, отношения между ней и мадам Литли сохранялись, несмотря на разрыв Имморталистического центра с Транцедосом.
В театр я поехал из Мочаловки вместе с Клер, и уже в электричке мы спохватились: а куда мы, собственно, едем? Театр «Реторта» выступал в разных помещениях, и мы не знали толком, в каком из них состоится премьера или генеральная репетиция «Трояновой тропы». Я почему-то настаивал, что спектакль состоится на Тверской-Ямской, а Клер без особой, впрочем, уверенности убеждала меня, что разговор шел о Скатертном переулке. Я согласился обследовать сначала Скатертный, и Клер оказалась права: уже издали мы увидели в ноябрьских сумерках сияющие буквы «Реторта». (Интересно, что некоторые приглашенные этих букв не увидели и в театр не попали.) Я никак не мог понять, почему я раньше никогда не обращал внимания на солидный особняк, где разместился театр. Можно было даже подумать, что я не видел его раньше. Я заподозрил было, что особняк только что построен специально для театра, но тут же отбросил эту мысль. Особняк был, несомненно, старинный, традиционный, арбатский; я, наверное, много раз проходил мимо него, но почему-то не обращал на него внимания. Внутри особняк оказался не то что поместительным, а по-настоящему обширным. Первый, кого я увидел, был, разумеется, Ярлов. Он расхаживал по фойе в своем распахнутом по-домашнему кожане (дескать, здесь все свои, и нечего стесняться), его лысина лоснилась, а незажженная трубка в его руке напоминала теперь не столько указку, сколько дирижерскую палочку, особенно если вспомнить, что Мандельштам говорит о дирижерской палочке: «Она не что иное, как танцующая химическая формула, интегрирующая внятные для слуха реакции». Я бы только, пожалуй, говорил не о химической, а о танцующей алхимической формуле в связи с ярловской «Ретортой», где в тот вечер толкалась и толклась вся интеллектуальная Москва.
Не успел я подвергнуться липкому ярловскому рукопожатию, как со мной раскланялся Николай Иннокентиевич Арсеньев, или князь Коля, как его именовали в своем кругу. Князь Коля был в смокинге с моноклем, что заставило меня устыдиться моего потертого пиджачка, хотя стыдиться-то надо было этого невольного смущения. Во-первых, костюм князя Коли был явно маскарадный, подчеркнуто вышучивающий новоявленные дворянские замашки (князь Коля входил в дворянское собрание, но скорее как аутсайдер). А во-вторых, мы с князем Колей были некоторым образом в родстве. Его отец, легендарный князь Кеша, был моим крестным отцом. Говорили, будто он крестил и моего пресловутого царственного двойника, но это не представляется возможным: тот родился лет через тридцать после смерти князя Кеши, но тем упорнее держится слух.
В январе 1917 года чуть ли не в Мариинском театре давали оперу Чайковского «Евгений Онегин». Гремина пел редкостный бас Фока Всесвятский, и вместо того, чтобы запеть «Любви все возрасты покорны», он пропел «Очи черные». Говорят, с ним побился об заклад известный финансист Митька Рубинштейн на полмиллиона рублей, уверяя, что такой штуки Фока не отмочит. Фока принял пари спьяну, а потом схватился за голову, но полмиллиона ему негде было взять, и он спел «Очи черные». Князь Кеша, а точнее генерал Арсеньев, приехал на этот вечер с фронта и сидел в царской ложе с великими княжнами. Дослушав до конца пение Фоки (а спел он «Очи черные» головокружительно, как никакому цыгану никогда не спеть), князь Кеша перекрестился и сказал: «Ну, теперь, Настенька, все может быть». Его слова оказались пророческими.
К пророчествам князя Кеши прислушивались, хотя делали вид, будто не принимают их всерьез. На князя Кешу смотрели как на юродивого в мундире с тех пор, как он получил тяжелое осколочное ранение во время русско-японской войны. (С этим ранением связывали безбрачие князя Кеши, хотя поговаривали и о том, что он принял тайный постриг.) Впрочем, репутация юродивого не мешала военной карьере князя, превосходного артиллериста, так что к началу мировой войны сорокачетырехлетний князь был генералом. Князь как бы не заметил октябрьского переворота или не придал ему особенного значения. Мобилизованный в Красную армию, он относился к своим обязанностям со своей всегдашней обязательностью. Впрочем, его использовали, главным образом, как военспеца, в значительной степени как теоретика. Участвовать в боевых действиях против своих, то есть против белых армий, ему практически не приходилось. Может быть, это объяснялось тем, что большевики первое время были не очень сильны по части артиллерии, и прошли годы до того, как Сталин заговорил о «боге войны». Генералы были нужны для полупартизанской войны, которую предпочитали вести большевики. Вот почему князь Кеша осел в конце концов в Артиллерийской академии и написал учебник, выдержавший впоследствии несколько изданий. Ему даже оставили его прежнюю московскую квартиру, скромную по прежним временам, роскошную по нынешним. Впрочем, свою квартиру князь Кеша уступил своему бывшему денщику, многодетному Никите Парщикову, которого устроил вахтером в Артиллерийскую академию. Сам же князь Кеша обосновался в хибарке у некой Домашки или Домнушки в Кускове. Свое местожительство князь Кеша объяснил любовью к соловьиному пению. (Кусковские соловьи тогда еще славились.) Однажды во двор к Домашке зашел подвыпивший нищий. Этим нищим оказался бывший певец Фока Всесвятский, давший в свое время повод князю Кеше предсказать возвращение смутного времени. Фока пел теперь кое-когда на клиросе (все реже и реже), а куда чаще нищенствовал на папертях немногих уцелевших церквей. Фока напился с князем чаю, выпил рюмочку Домнушкиной настойки, да так и остался жить в княжеской клетушке, куда вскоре водворился еще один старец: историк Кузьма Первачев, автор малотиражных, но весьма обстоятельных исследований «Стояловы и Нестояловы в русской истории» и «Филатыч в судьбах православного мира». Кузьма Первачев тоже служил в Артиллерийской академии. Во времена идеологических послаблений он читал офицерам историю, а когда спохватывались и вспоминали о бдительности, перемещался в гардероб. С легкой руки князя Кеши, Фока начал вести кружок хорового пения в Академии, но чаще был не у дел, так как не мог обходиться без разучивания церковных песнопений, то и дело забывая, что они запрещены.
Три старца жили душа в душу в своем скиту, пока однажды их уединения не нарушила Анастасия Зегзицына, мыкавшаяся по России не первый год в поисках пристанища. (Эту Анастасию Зегзицыну не следует путать с ее двоюродной сестрой, дочерью расстрелянного генерала, которую в детдоме записали Альбиной Зенкиной и которую то ли в 1975, то ли в 1976 году зарезала уголовница в клинике епископа-хирурга Феофила.) Дело в том, что все княжны Зегзицыны носили имя Анастасия и все они были Мстиславовны, так как другого мужского имени в роду князей Зегзицыных не допускалось. Отец этой Анастасии, полковник белой армии, был убит во время ледового похода, а его вдова умерла в Сызрани, когда дочери едва исполнилось три года, так что девочка, подобно своей двоюродной сестре, угодила в детский дом, где, правда, ей не поменяли ни имени, ни фамилии. После детского дома Анастасия работала на разных фабриках и стройках, пока не добралась до Москвы, где, как она слышала, живет ее дальний родственник генерал Арсеньев.
Анастасия вошла в клетушку трех старцев весной 1941 года, когда соловьи пели немилосердно. Услышав, что она рассказывает князю Кеше, Фока и Кузьма молча переглянулись, собрали свои вещишки и ушли в соловьиный мрак весенней ночи. А через несколько дней совершилось невероятное: князь Кеша обвенчался со своей гостьей, доказав тем самым, что давние толки о тайном постриге необоснованны. Невеста была моложе жениха почти на пятьдесят лет. Венчал их отец Амвросий, которого чуть ли не на следующий день арестовали. Через три месяца молодая княжна Арсеньева была уже беременна, но князь не дожил до рождения своего первенца: он умер в октябре сорок первого года, когда казалось, что немцы вот-вот войдут в Москву. Перед смертью князь оригинальным способом позаботился и о своей будущей вдове, и о своем пока еще не родившемся наследнике. Князь взял слово с Ростислава Нестоялова, что он женится на Анастасии, когда она овдовеет, и Ростислав, разумеется, слово сдержал. Ростислав происходил из тех Нестояловых, которым Кузьма Первачев посвятил специальное исследование. В 1921 году поручик Нестоялов был мобилизован в Красную армию, и комиссар подверг лояльность дворянского отпрыска своеобразному испытанию. Нестоялову было поручено расстреливать своих, то есть белых офицеров. Ростислав никогда и никому не рассказывал, что он думал и чувствовал, выполняя боевые задачи, но впредь ему только такие задания и поручали. В сороковом году Ростислав Нестоялов расстреливал польских офицеров в Катынском лесу Князь Кеша не мог не знать, в чем состоит служба Ростислава, но относился к его деятельности с необъяснимым пониманием, как будто разделял с ним некую тайну. После смерти генерала Арсеньева Ростислав добился, чтобы его вдове и сыну Николаю назначили пенсию несколько выше обычной, а через год сам женился на Анастасии. Еще через год Анастасия родила сына, тоже Колю, хотя назвали его не Николаем, а Аскольдом. Коля Арсеньев и Коля Нестоялов росли вместе, но пошли в жизни по разным стезям. Коля Арсеньев был исключен с четвертого курса философского факультета за участие в православном богослужении и после этого работал шофером такси, как работал бы в Париже. Коля Нестоялов пошел по стопам отца, оказался в Афганистане, где ему взрывом оторвало правую руку. Майор Аскольд Нестоялов попал в плен к моджахедам, где принял ислам и вернулся в Россию убежденным мусульманином по имени Аскер-Али-Муса.
Из армии он как будто бы демобилизовался. В театр «Реторта» он пришел, как всегда, в сером отутюженном костюме с подколотым рукавом и в зеленом тюрбане. Я заметил, как небрежно кивнул Ярлов князю Коле и как сердечно пожимал он руку Аскеру-Али. Дело в том, что Аскер Нестоялов возглавил РоИС. Название это расшифровывалось как Российский исламский союз, хотя многие понимали его как Российский исламский социализм, против чего Аскер-Али не возражал. Говорили, что у РоИСа с ПРАКСом сложные отношения. Ярлов будто бы публично сетовал на князя Владимира, обратившего Русь в православие, тогда как с геополитической точки зрения ислам куда лучше выражал бы интересы великой евразийской империи. Но ПРАКС все-таки выдавал себя за православный союз, и Ярлов предпочитал не слишком афишировать свое сотрудничество с РоИСом, хотя оно все более отчетливо сказывалось на деятельности ПРАКСа.
Но мне, признаться, было не до них. Ярлов иронически указал мне своей незакуренной трубкой на двух дам, задушевно обнимающихся и целующихся в дверях. Я не поверил своим глазам. Это были Кира и Клавдия. А я так боялся, не вцепились бы они друг дружке в волосы при встрече. Но они целовались, как лучшие подруги, и мне даже почудилось, что на глазах у обеих слезы. Ярлов столь же иронически указал мне трубкой в другую сторону, где я увидел мадам Литли и Софью Смарагдовну. Я вздрогнул. Вот кого напоминала мне мадам Литли. Она и Софья Смарагдовна выглядели как сестры-близнецы, как двойники. Ярлов снисходительно помахал мне трубкой, как бы напоминая, что спектакль давно уже идет.
В театре «Реторта», как теперь водится, не было занавеса. Декораций тоже не было. На сцене стоял просто дощатый стол и три почему-то венских стула. Главное действующее лицо сидело за столом в кожане, подчеркнуто напоминающем черный кожан Ярлова. Черная бородка клинышком и пенсне позволяли или даже заставляли узнать главное действующее лицо спектакля. Конечно, это был легендарный революционный вождь, большевистский идеолог Михаил Львович Верин. Его настоящая фамилия была Варлих, и он таким образом как бы просто перевел ее на русский язык. Брат Михаила Гавриил перевел свою фамилию несколько иначе, назвавшись Правдин. В первые месяцы после октябрьского переворота эти братья фигурировали в карикатурах как сиамские близнецы, именовавшиеся «Братья Верин-Правдин», но газеты, где появлялись подобные карикатуры, были скоро закрыты большевистской цензурой. Ирония заключалась в том, что Гавриил Правдин отнюдь не был коммунистом, хотя и пришел к религиозной философии через марксизм, подобно многим своим интеллигентным современникам. В целом ряде трудов Гавриил Правдин исследовал проблематику православия, но говорили, что он так и не был крещен. Главный труд Гавриила Правдина назывался «Диалектика Ветхого и Нового Завета» (в двух томах). В монументальном исследовании Гавриил Правдин доказывал, что диалектика основывается не столько на эллинской традиции, сколько на ветхозаветном откровении и находил интенсивнейшее влияние Талмуда не только у Спинозы, но и у Гегеля. Гавриил Правдин полагал, что в марксизме талмудическая линия окончательно берет верх, что и побуждает интеллигентных марксистов возвращаться к религиозной традиции, но истинной диалектикой, согласно Гавриилу Правдину, оставалась каббала, которой он и уделял пристальнейшее внимание, обнаруживая ее следы не только у Джордано Бруно и Якова Бёме, но и у самого Гегеля, что приводило в особую ярость Михаила Верина, выпустившего в свет не менее монументальный труд «Диалектика классовой борьбы». К тому же манера писать у обоих братьев была сходная, если не одинаковая: стиль, напоминающий то Герцена, то Писарева, исступленная аналитическая трезвость, избегающая афоризмов и четких формулировок, чтобы противнику не за что было уцепиться, пафос непререкаемости, маскирующейся скепсисом. Неудивительно, что Михаил Верин видел в Гаврииле Правдине метафизическую пародию на свою бескомпромиссную революционность и выдворил его из России вместе с другими религиозными философами. Списки лиц, подлежащих выдворению, составлялись Михаилом Вериным, вероятно, за тем столом, где он сидел теперь в театре «Реторта». Перед этим столом и предстал – тогда или теперь? – Платон Демьянович Чудотворцев.
Хотите – верьте, хотите – нет, у меня определенно появилось ощущение, что к столу Михаила Верина подошел сам Чудотворцев своими шаркающими и в то же время широкими шагами. Конечно, он был гораздо моложе того Платона Демьяновича, которого знал я, но это был он, вне сомнения, слегка сутулящийся оттого, что слишком высок ростом с редкими светлыми волосами, которые никогда не поседеют, как бы седые заранее, с глазами водянисто голубыми, в которых вспыхивают колючие иголочки или шпилечки, то ледяные, то обжигающие, и вечная ироническая полуулыбка никогда не смеющегося скептика, он же фанатик в своем роде.
Между Михаилом Вериным и Платоном Демьяновичем Чудотворцевым произошел разговор, образующий пьесу в театре «Реторта». Полагаю, что в основе пьесы лежат подлинные протоколы этого разговора-допроса, наверняка сохранившиеся и доступные Ярлову. Я не умею стенографировать, но на память пока не жалуюсь. Передаю фрагменты этого разговора, как они мне запомнились.
В е р и н (показывая на стул). Садитесь, Платон Демьянович.
Ч у д о т в о р ц е в. Благодарю.
В е р и н. Извините. (На некоторое время он углубляется в изучение бумаг, лежащих перед ним, пока Чудотворцев не прерывает молчание.)
Ч у д о т в о р ц е в. Могу я узнать, чему обязан?
В е р и н. Дело в том, что нам с вами пора объясниться.
Ч у д о т в о р ц е в. И для этого меня доставляют к вам ночью под конвоем?
В е р и н. Ну, какой там конвой… Просто охрана, которой вы, несомненно, заслуживаете. Вы же в некотором роде культурная ценность.
Ч у д о т в о р ц е в. Весьма польщен. Значит, «не арестантский, а почетный держали караул при ней».
В е р и н. Извините, это из кого? (Надо сказать, что Михаил Верин, любивший щегольнуть философской эрудицией, иногда проявлял озадачивающую неосведомленность, когда речь заходила о поэзии, особенно о русской.)
Ч у д о т в о р ц е в. Из Тютчева, Михаил Львович, из Тютчева.
В е р и н. А из какого стихотворения, можно узнать?
Ч у д о т в о р ц е в.
Веленью высшему покорны, У мысли стоя на часах, Не очень были мы задорны, Хотя и с штуцером в руках. Мы им владели неохотно, Грозили редко и скорей Не арестантский, а почетный Держали караул при ней.В е р и н. Что это значит: у мысли стоя на часах?
Ч у д о т в о р ц е в. Видите ли, стихотворение связано со службой Тютчева в Главном управлении по делам печати, иными словами, в цензурном комитете.
В е р и н. Хотел бы я обладать вашей памятью. При моей нынешней службе это было бы кстати.
Ч у д о т в о р ц е в. А может быть, и лучше, что при вашей нынешней службе память вам иногда изменяет? Не перст ли это Божий?
В е р и н. Вполне возможно. Особенно если считать, что перст Божий замешан в контрреволюции.
Ч у д о т в о р ц е в. По этому поводу вы меня и вызвали?
В е р и н. В общем, да.
Ч у д о т в о р ц е в. Значит, в моем случае Тютчева надо перефразировать, и за мной пришел караул именно арестантский.
В е р и н. Не будем опережать события, Платон Демьянович. Но не скрою: цитируя стихотворение о цензуре, вы попали в точку.
Ч у д о т в о р ц е в. Чем же я погрешил против цензуры, Михаил Львович?
В е р и н. В грехах вы будете каяться на исповеди, что вы и делаете более чем регулярно, насколько нам известно. Ваши связи с тихоновцами – особый вопрос. Его мы касаться пока не будем. Но должен сказать, что вы действительно научились чрезвычайно ловко обходить цензурные запреты.
Ч у д о т в о р ц е в. А не есть ли это лояльность по отношению к новой власти?
В е р и н. Диктатура пролетариата не нуждается в лояльности. Да такая лояльность в принципе невозможна, ибо пролетарская диктатура есть отрицание старой, буржуазной законности. Пролетарская диктатура требует сознательной приверженности, а не предательской лояльности. Сами посудите: какой приверженности можем ждать мы от господина профессора по фамилии Чудотворцев?
Чудотворце в. Я бы сформулировал ваш вопрос несколько иначе: стоит ли отказываться от Чудотворцева, когда можно его использовать?
В е р и н. Ничего не скажешь: вы научились подлаживаться под коммунистическую фразеологию или, вернее, под газетные штампы. Но прошу вас принять к сведению: идеология и фразеология не одно и то же, и штампами вы от нас не отделаетесь.
Ч у д о т в о р ц е в. Но разве я не сотрудничаю с вами, с вашими учебными заведениями, с вашими издательствами?
В е р и н. Повторяю, с нами нельзя сотрудничать, к нам нужно принадлежать, слиться с пролетарскими массами, на что вы явно не способны.
Ч у д о т в о р ц е в. Вы решительно отказываете мне в такой способности?
В е р и н. Поверьте мне, я слишком ценю вас для того, чтобы думать, будто вы на это способны. Сами подумайте, кому нужен Чудотворцев, слившийся с массами? Кому нужен такой Чудотворцев?
Ч у д о т в о р ц е в. Кто знает, может быть, кому-нибудь и нужен. Иногда я позволяю себе думать, что нужен вам.
В е р и н. Действительно, я и раньше ценил возможность поговорить с вами откровенно. Правда, мы слишком редко находили время друг для друга.
Ч у д о т в о р ц е в. С Гавриилом Львовичем я общался чаще.
В е р и н. Надо прямо признать: буржуазный философ Гавриил Правдин обязан своей карьерой вашему влиянию. Не уверен только, может ли это являться для вас предметом гордости.
Ч у д о т в о р ц е в. Я прочитал «Диалектику Ветхого и Нового Завета» с не меньшим интересом, чем вашу «Диалектику классовой борьбы».
В е р и н. Комплимент сомнительный… Но для меня новость, что вы читаете труды по марксистской философии. Трудно вообразить вас, читающего «Диалектику природы».
Ч у д о т в о р ц е в. И воображать нечего. Вот я перед вами, а я всю жизнь работаю над одной темой: диалектика бытия. Неужели вы думаете, что я не изучаю литературу, относящуюся к этому вопросу?
В е р и н. Ваша диалектика пахнет метафизикой. А впрочем, я не сомневаюсь, что из вас может выработаться марксистский начетчик. Но их у нас и без вас хватает. Если хотите, я пригласил вас, чтобы уберечь от этой участи.
Ч у д о т в о р ц е в. Уберечь от марксизма?
В е р и н. Мне хотелось бы сохранить уважение к вам. А приспособленчество не просто настораживает меня, оно вызывает у меня презрение. Ну, сами подумайте, Платон Демьянович, какой из вас марксист?
Ч у д о т в о р ц е в. Такой же, как из вас.
В е р и н. Я бы мог расстрелять вас за эти слова. Я командовал, командую армией. Вот мой марксизм. А чем командуете вы?
Ч у д о т в о р ц е в. Умами.
В е р и н. Избранными умами, пожалуй, слишком уж избранными. Но все равно вы опасны. А если вы не опасны, вы не интересны или, проще говоря, никому не нужны. Вспомните вашего любимого Платона. Он намеревался выдворить поэтов из своего образцового государства. Мы поступаем подобным образом с философами вашего толка. Вот почему мы выдворяем вас.
Ч у д о т в о р ц е в. Как выдворяете? Куда?
В е р и н. За границу, к вашим единомышленникам и единоверцам. Пролетарское государство не может себе позволить такой роскоши, как Чудотворцев. Разрабатывайте там свою диалектику бытия, разлагайтесь сами и разлагайте их.
Ч у д о т в о р ц е в. Но какой повод я дал? На каком основании меня высылают?
В е р и н. Оснований и поводов более чем достаточно. Главный повод – ваше интеллектуальное мракобесие, признаюсь, увлекательное даже для меня, то, что вы называете диалектикой. Уже этого достаточно, чтобы выдворить вас. Мы не позволим вам выдавать за диалектику то, что диалектикой не является. Но чашу нашего терпения переполнили ваши реверансы в сторону Шпенглера, ваше участие в шпенглеровском сборнике.
Ч у д о т в о р ц е в. Но разве Шпенглер не подтверждает правоту русской революции? Разве не возвещает он крах буржуазной цивилизации, крах Запада?
В е р и н. Нам не нужна салонная апокалигггика Шпенглера. Мы интернационалисты. То, что Шпенглеру кажется крахом, для нас торжество мировой революции.
Ч у д о т в о р ц е в. Но ведь Шпенглер стихийно подтверждает то, что вы сознательно утверждаете как диалектик.
В е р и н. Вот именно стихийно. Нет ничего отвратительней стихийности. Наша диалектика подавляет и в конце концов подавит всякую стихийность в истории и в природе.
Ч у д о т в о р ц е в. Извините меня, но вы не сидели бы здесь, если бы не опирались на изначальную стихию русского бунта, что и называется большевизмом.
В е р и н (театрально вскидывая руку). Диктатура, где твой хлыст?
Ч у д о т в о р ц е в. Браво, нельзя выразиться удачнее. Вы стихийно пророчествуете, Михаил Львович. Хлыстом, о котором вы говорите, был Григорий Распутин. А разве хлысты не суть истинные русские большевики?
В е р и н. Ну, знаете! Этак вы скажете, что и вы большевик.
Ч у д о т в о р ц е в. А я и есть большевик. Не коммунист, но большевик.
В е р и н. Вот она, ваша хваленая стихийность! Кто большевик, но не коммунист, тот антикоммунист, а антикоммунистов мы по голове гладить не будем.
Ч у д о т в о р ц е в. Почему вы против стихии, когда стихия за вас?
В е р и н. Очень просто: потому что сознание – жизнь, а стихия – смерть.
Ч у д о т в о р ц е в. Почему же вы тогда не пишете на вашем знамени: «Неубий»?
В е р и н. Кто говорит: «Не убий», тот предоставляет убивать смерти. Чтобы убивать смерть, мы убиваем ее пособников.
Ч у д о т в о р ц е в. Последний же враг истребится – смерть…
В е р и н. Поповские бредни! Смерть не истребится, пока не истребит всех.
Ч у д о т в о р ц е в. Поэтому вы истребляете лишь некоторых, пусть даже очень многих?
В е р и н. Точно так. Мы истребляем пособников смерти, эксплуататоров, присваивающих себе, пожирающих чужие жизни, мы уничтожаем их идейных прислужников, приукрашающих, воспевающих, – проповедующих смерть, живописцев, поэтов, музыкантов, философов. Не только религия, но и культура – опиум для народа, лукавое примирение со смертью, смертоносная прививка.
Ч у д о т в о р ц е в. Ваша пропаганда утверждает нечто иное. А как же пролетарская культура?
В е р и н. Это не более чем пропаганда. Мы вынуждены прибегать к ней в борьбе с нашим коварным идейным врагом. Не сомневайтесь, я-то хорошо знаю, что пролетарская культура невозможна. Я вынужден признать: к сожалению – я оговорился, сожалеть тут не о чем – но так или иначе культура – это вы, господин профессор Чудотворцев.
Ч у д о т в о р ц е в. Весьма польщен, однако в свою очередь вынужден возразить вам: культура – ничто без стихии, без народной стихии, которая разрушает и одновременно творит культуру.
В е р и н. Поэтому мы и вынуждены выслать вас. Если бы не ваши заигрывания со стихией, мы, пожалуй, оставили бы вас в качестве консультанта, спеца, эрудита-прихлебателя. Но допустить стихию мы не можем. Соприкоснуться со стихией все равно что прикоснуться к мертвому телу. Ветхий Завет говорит: кто прикоснулся к мертвому телу, тот нечист. Вы – искусный, квалифицированный распространитель трупного яда. Вот и распространяйте его среди наших врагов, разлагайте их, мы предоставляем вам такую возможность вместо того, чтобы уничтожить вас. Разве это не гуманно?
Ч у д о т в о р ц е в. Хорошо. Пусть прикосновение к стихии или к матери-Земле, ибо Земля – тоже стихия, пусть все это прикосновение к мертвому телу, но разве не стихия – сама жизнь?
В е р и н. Нет. Безусловно, нет. Все, что вы называете землей, природой, стихией, все это разложение, гниение, маразм. Стихия не осознает себя, а что не сознает себя, то мертво. Вот почему ваш тезка, старый Платон предлагал изгнать поэтов из благоустроенного государства. Поэты – агенты смерти и распада. Грош цена поэзии, если в ней нет бессознательного. Сознательной поэзии вообще не бывает, а жизнь – сознание; подсознательное, стихийное – смерть. Вершина же сознания – наша коммунистическая сознательность.
Ч у д о т в о р ц е в. Которая намерена обойтись без культуры?
В е р и н. Разумеется. Мы пока еще пользуемся этим жалким словом, хотя не придаем ему никакого значения. Но мы не допустим, чтобы при нашем строе вырастали ядовитые грибы красоты.
Ч у д о т в о р ц е в. Чем же вы замените культуру и красоту?
В е р и н. Ничем. Нам не нужны замены, не нужны подделки, не нужны суррогаты. Нам нужна сама красота, которой нет отдельно от жизни, как хотелось бы вам. Прекрасное есть жизнь, как мы ее понимаем, и мы заставим вас считаться с нашим пониманием, так как другого понимания быть не может.
Ч у д о т в о р ц е в. Но возможно ли понимание вообще без всякой философии?
В е р и н. Философия-то и делает понимание невозможным, что признают так или иначе все философы вашего толка. Как поэзия основывается на бессознательном, так философия основывается на интуиции, о чем я имел удовольствие читать у вас.
Ч у д о т в о р ц е в. Стало быть, вы идете дальше Платона. В его государстве правят именно философы.
В е р и н. Старик просто не решился назвать вещи своими именами. Философ у власти перестает быть философом. Он превращается в идейного вождя.
Ч у д о т в о р ц е в. Что же такое идейный вождь без идей? А ведь идеи тоже основываются на интуиции.
В е р и н. Может быть. Но идея, освобожденная от интуиции, превращается в чистую сознательность, в идеологию, а идеология опирается на террор. Да, да. Мы не боимся этого слова. Террор – реторта, в которой выводится новый человек.
Ч у д о т в о р ц е в. Тот, кого Достоевский называл человекобогом?
В е р и н. Только достоевщины нам не хватало! Это тоже мертвечина, причем худшего сорта. Ваш Бог – смерть, сколько бы ни болтали о воскресении, о котором достоверно известно только то, что сперва надо умереть. Не человекобог, а человекосмерть следовало бы вам говорить. Новый человек не будет знать смерти.
Ч у д о т в о р ц е в. Не будет знать, потому что не умрет? Или вы внушите ему, что он бессмертен?
В е р и н. Чушь. Мы не шаманы и не философы, чтобы внушать. Это вы внушаете человеку, будто он смертен или бессмертен. С нашей точки зрения, это одно и то же. Никто ничего не знает ни о смерти, ни о бессмертии и никогда не будет знать. Все это бессознательное, а от бессознательного избавляет сознательность.
Ч у д о т в о р ц е в. Интересно. Значит, сознательность в том, чтобы не знать кое о чем, весьма существенном, с точки зрения предыдущих поколений. Вы собираетесь воспитывать вашего нового человека, как воспитывался царевич Сиддхартха, который не должен был знать о болезнях, о старости и смерти.
В е р и н. Вы должны были слышать, как мы поступаем с царевичами.
Ч у д о т в о р ц е в. Что ж, это веский аргумент.
В е р и н. Царевич один и потому должен быть устранен во имя многих или во имя всех. Сознательность в том, чтобы понимать: умереть могу я, можешь ты, может он, можете вы, могут они, но никогда не умираем и не умрем мы, партия. Кто трусливо говорит о нас «они» или кто нагло говорит нам «вы», тот обречен. Вот в чем целительный смысл террора. Это даже не смертная казнь и не ваша фальшивая смерть: это отсечение того, кто или, лучше сказать, что не мы, кто не с нами и, значит, против нас и кого, в сущности, и так нет.
Ч у д о т в о р ц е в. Извините, Михаил Львович, но ваше «мы» весьма напоминает богоизбранный народ с его таинственным отвращением к мертвому телу.
В е р и н. Об этом вам лучше поговорить с Гавриилом Правдиным. В этих вопросах он специалист. А я готов пропустить вашу антисемитскую ахинею мимо ушей, хотя она не безобидна и за нее стоило бы расстрелять. Богоизбранного народа нет, во-первых, потому, что мы не народ, а человечество, если вообще можно говорить о человечестве, а во-вторых, потому, что мы избраны не Богом, которого нет, и, следовательно, мы вообще не избраны, мы просто историческая необходимость.
Ч у д о т в о р ц е в. А свобода – это осознанная необходимость, не правда ли?
В е р и н. Если бы вы усвоили эту величайшую из всех истин, мы бы, может быть, не выслали вас, но и времени на разговоры с вами я не стал бы тратить.
Ч у д о т в о р ц е в. Неужели вы отказываете себе в возможности убедить меня? А что, если я вдруг осознаю необходимость?
В е р и н. Все равно это будет ваш отдельный, индивидуальный духовный опыт, все равно вы можете так и этак, значит, для вас нет ни необходимости, ни осознания. Вы пленник вашей личной прихоти, то есть бессознательного, то есть агент смерти. Мы проявляем некоторую непоследовательность, высылая вас. Разумнее было бы вас уничтожить, но мы предоставляем истории уничтожить вас. Маркс раз навсегда поставил крест на вашей философии, сказав: «До сих пор философы различным образом объясняли мир, дело же сводится к тому, чтобы изменить его».
Ч у д о т в о р ц е в. Но изменится ли мир оттого, что вы откажетесь от философии или уничтожите ее?
В е р и н. Вот видите, вся ваша суть в этом вопросе. Для вас философия – это вы, а мир – это то, что вы о нем думаете, тогда как мир существует помимо вас и менять его мы будем без вас.
Чтобы изменить мир, для начала нужно устранить вас, производителей и распространителей смертельного дурмана. Я согласен: Маркс нуждается в дополнении, но его дополняет Зигмунд Фрейд, а не вы. Вся ваша культура – сублимация невроза. В ней проявляется бессознательное, то есть смерть, а смерть всегда индивидуальна по определению. Умирает единица, потому что она вздор, ноль. Мы не умираем, потому что мы не смертны и не бессмертны: мы жизнь, а жизнь в сублимациях не нуждается. Нам не нужна сублимация, не нужна культура, не нужна философия, не только ваша философия, но никакая философия. Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию! Все это оковы и миазмы отчуждения. Чистой сознательности сопутствует эрос созидания, не нуждающийся ни в каких сублимациях.
Ч у д о т в о р ц е в. Признаюсь, это убедительно и привлекательно. Ради такой цели, пожалуй, стоит кое-кого расстрелять. Но не следует упускать из виду одного обстоятельства. Что такое Эрос без Танатоса?
В е р и н. Опять ваше растленное мифотворчество!
Ч у д о т в о р ц е в. Которому вы также отнюдь не чужды. Один без другого, одно без другого не существует, и ваш Фрейд отлично понимает это. Вот почему Фрейд не разделяет вашего оптимизма. Какое же удовлетворение для тех, кто не знает разницы между жизнью и смертью? Тогда удовлетворение равносильно… отчаянью. (В этот момент в комнату вошел человек во френче. Походка его выдавала кавалериста. В рыжеватых усах заметна была преждевременная седина.)
В о ш е д ш и й. Товарищ Верин, вас просит срочно зайти к нему Феликс Эдмундович.
В е р и н (вставая). Иду. Составьте пока компанию гражданину Чудотворцеву, товарищ Троянов. (Выходит из комнаты.)
Вошедший (останавливаясь у стола напротив Чудотворцева). Ну, здравствуй, дядя Платон.
Ч у д о т в о р ц е в. С кем имею честь?
В о ш е д ш и й. Не узнаешь, что ли? Племяш твой, Кондрашка Троянов.
Ч у д о т в о р ц е в. Неужто и вправду Кондратий? А я не узнал тебя.
К о н д р а т и й. Где тебе узнать? Лет пятнадцать не виделись. Помнишь, когда ты к деду Питириму приезжал?
Ч у д о т в о р ц е в. Як нему три года назад приезжал, только тебя повидать не довелось.
К о н д р а т и й. Верно. Я в армии служил.
Ч у д о т в о р ц е в. В какой?
К о н д р а т и й. Нешто не знаешь? В Красной, вестимо.
Ч у д о т в о р ц е в. Как же, помню; Питирим говорил, что красные казаки – святое Трояново воинство.
К о н д р а т и й. Лучше бы он это брату Аверьяшке втолковал.
Ч у д о т в о р ц е в. А что теперь Аверьян?
К о н д р а т и й. А ничего. В живых его нету.
Ч у д о т в о р ц е в. Убили?
К о н д р а т и й. Убили. А правду сказать, я его убил. Он к белым переметнулся, попался мне, я своей рукой в расход его и вывел.
Ч у д о т в о р ц е в. Сам расстрелял?
К о н д р а т и й. Сам.
Ч у д о т в о р ц е в. Помню, как я первый раз приезжал с матерью моей, с Натальей. Он еще грудной был, все лепетал: Авель Ян, Авель Ян… Как напророчил…
К о н д р а т и й. Авель… Так я, по-твоему, Каин?
Ч у д о т в о р ц е в. Ну и что ж, что Каин? Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро.
К о н д р а т и й (понижая голос). Может, поэтому я жив еще. А то наших расстреляли видимо-невидимо.
Ч у д о т в о р ц е в. Кто расстреливал? Белые?
К о н д р а т и й. Какие там белые! Красные. Трояново святое воинство.
Ч у д о т в о р ц е в. Питирим сказал небось: кто от красного Трояна к белому Ятрону переметнулся, тому смерть; туда ему и дорога.
К о н д р а т и й. Так он и сказал. А как узнал, что Аверьяна я порешил, на другой день помер.
Ч у д о т в о р ц е в. Слушай, а Михаил Львович знает, что мы с тобой в родстве?
К о н д р а т и й. Кто его знает. Может быть, и не знает. Матери твоей фамилия Темлякова, а не Троянова. Знал бы, так не оставил бы меня с тобой наедине. А может статься, наоборот, знает и меня испытывает, не устрою ли я тебе побег, хотя какой же побег, когда он сам тебя за границу выдворяет. Мой тебе совет, дядя, не мешкай, соглашайся, уезжай. Андрияшку нашего за границей встретишь.
Ч у д о т в о р ц е в. Андрияижу среднего твоего брата? Он-то как туда угодил?
К о н д р а т и й. На фронте к немцам в плен попал да там и остался. Он у них дедово учение проповедует, Троянову веру. Знаменит стал, говорят, как Распутин.
Ч у д о т в о р ц е в. Слыхал я о нем кое-что. Но уезжать отсюда не хочу.
К о н д р а т и й. Был бы ты хоть красный, как я. Тогда понятно было бы.
Ч у д о т в о р ц е в. А я и есть красный. Кровь-то у нас с тобой одна, красная.
К о н д р а т и й. И ты меня братней кровью попрекаешь?
Ч у д о т в о р ц е в. Да не попрекаю я тебя, пойми. А только дед Питирим прав был: ни тебе, ни мне с Трояновой тропы сворачивать не след.
К о н д р а т и й. Хорошо, коли не след, у меня-то след кровавый.
Ч у д о т в о р ц е в. Да ты что, никогда не слыхал, для чего кровь льется? Когда в партию тебя принимали, не говорили тебе?
К о н д р а т и й. Про Интернационал говорили, а про кровь не помню что-то.
Ч у д о т в о р ц е в. Брат, Авель Ян-то, за что с тобой воевал? И ты за что его убил? За землю. В Писании-то сказано: земля отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей.
К о н д р а т и й. Дед Питирим говорил так. Да ведь он из ума выжил. Он говорил еще: проклят ты от земли…
Ч у д о т в о р ц е в. Да разве может мать Земля тебя проклясть? А если она и прокляла, то благословила, как мать. Потому и отмстится за тебя всемеро, что ты подвиг совершил. Интернационал-то на что? Чтобы по науке мертвых воскресить. Так вот Аверьяна сперва воскресят, а потом тебя… Поэтому и называют нас «красные».
К о н д р а т и й. По науке говоришь? А кто этой наукой занимается?
Ч у д о т в о р ц е в. Дед Питирим занимался, и я занимаюсь. Нельзя с Трояновой тропы сворачивать, ибо мертвых у нас воскрешать начнут. Для того и врагов убивают, чтобы воскрешать. Последний враг истребится – смерть. А Интернационал значит общее дело. (Эти слова услышал Верин, вернувшийся в свой кабинет. Он отпустил Кондратия и обратился к Чудотворцеву.)
В е р и н. Конечно, хорошо, что вы агитируете членов партии за Интернационал, только это вам не поможет. Расставаться нам с вами придется, насчет вас все решено, и я не понимаю, почему вы так противитесь этому. Ведь не во глубину же сибирских руд вас высылают, а в благополучную комфортабельную Европу где вовсе не плохо, уверяю вас, я прожил там в эмиграции без малого двенадцать лет.
Ч у д о т в о р ц е в (доверительно). Михаил Львович, а как Владимир Ильич относится к моей высылке?
В е р и н. Так же, как я, не сомневайтесь. Более того, скажу вам прямо: это его идея, его решение, его инициатива.
Ч у д о т в о р ц е в. На это нечего возразить, как и незачем напоминать вам, что значит для вас Ленин.
В е р и н. Любопытно, а что значит Ленин для вас, могу я спросить?
Ч у д о т в о р ц е в. Извольте. Ленин осуществил тот синтез Маркса и Фрейда, о котором вы говорили, едва ли не приписывая этот синтез себе. Ленин не говорил о Фрейде, насколько мне известно, потому что для него Фрейд – буржуазный ученый, не заслуживающий упоминания. Ленин – первый в истории человечества гений сознательности. До сих пор считалось, что сознательность и гениальность несовместимы и потому коллективной гениальности не бывает Ленин же – гений коллектива, массовый гений. Это ему принадлежит идея будущего, которое вне смерти и вне бессмертия. Без него вся ваша идеология повиснет в воздухе. Конечно, вы скажете: мы не умираем, но отважитесь ли вы сказать: Ленин – это мы?
В е р и н. Я нахожу ваши рассуждения провокационными.
Ч у д о т в о р ц е в. Когда вы в последний раз видели Владимира Ильича? Как он себя чувствовал?
В е р и н. Не ваше дело.
Ч у д о т в о р ц е в. Нет, это именно мое дело, наше общее дело. Лечащий врач Ленина сказал мне, что его дни сочтены.
В е р и н. Допустим. Но дело Ленина живет, и мы вас вышлем все равно.
Ч у д о т в о р ц е в. Смотрите, не ошибитесь. Я готов указать вам выход из вообще-то безвыходной ситуации. (Кладет на стол перед Вериным лист бумаги.)
В е р и н. Что это? Какое-то подобие египетской пирамиды? Зиккурат?
Ч у д о т в о р ц е в. Ваша мысль работает в правильном направлении. Это усыпальница, предназначенная для царя древних майя. На мой взгляд, она конструктивнее, то есть одновременно монументальнее и уютнее египетской пирамиды. Обратите внимание на эти выступы. Они напоминают лестницу, ведущую в бессмертие. К тому же на этой усыпальнице можно стоять преемнику или преемникам того, кто в ней покоится, именно покоится, потому что такое уютное жилище не для мертвеца. Кто лежит в нем, тот рано или поздно выйдет снова к своим, и с него начнутся те мы, о которых вы так убедительно говорили. (Верин пристально всмотрелся в лист, лежащий передним на столе. В кабинет вошел Кондратий и положил перед Вериным записку. Верин прочитал ее и поднял глаза на Чудотворцева.)
В е р и н. Да, я согласен с Феликсом Эдмундовичем. Ваша ссылка, Платон Демьянович, отменяется. Мы находим возможным оставить вас в Советской России.
В зале запахло табачным дымом. Я осмотрелся и увидел, что Ярлов закурил-таки свою трубку, как бы не удержавшись, от избытка чувств. Или то была продуманная историческая аллюзия?
Глава пятая ИНОПЛЕМЕННЫЕ МЯСНИКИ
ЧЕРЕЗ неделю в газете «Лицедей» появилась рецензия на премьеру «Трояновой тропы». В рецензии говорилось: «Можно было бы выразить восхищение игрой актеров, если бы театр „Реторта“ давал такую возможность. Но имена актеров, играющих на сцене „Реторты“, неизвестны, как неизвестно, актеры ли это, так что мы будем говорить о спектакле „Троянова тропа“, как если бы перед нами на сцене, действительно, выступали Чудотворцев, Верин, Троянов, и вот с этой точки зрения у нас есть, как ни странно, некоторые возражения или сомнения. В день премьеры Чудотворцев и Верин говорили не совсем то, что они говорили за семьдесят лет до этого, в ту ночь, когда решался вопрос, останется ли Чудотворцев на Родине или будет выдворен с другими интеллектуалами за рубеж. Дедо в том, что протокол тогдашней беседы Верина с Чудотворцевым сохранился и теперь рассекречен. Правда, точно неизвестно, кто вел тогда протокол. Сомнительно, чтобы его вел Кондратий Троянов. По-видимому, при разговоре присутствовал рядовой сотрудник ЧК, и жаль, что мы не видим его на сцене. Рядовой статист заменял бы на сцене античный хор, и его нехмота, может быть, наводила бы на мысль не только о народе, но и о других действующих лицах, которые безмолвствуют и тем не менее действуют. Так или иначе, отсутствие на сцене протоколиста при наличии протокола вызывает подозрение относительно подлинности спектакля и действующих лиц, а в театре „Реторта“, якобы наследующем традиции „Красной Горки“, это недопустимо. Но, в конце концов, можно было бы примириться с небольшим художественно-историческим просчетом, ускользающим к тому же от внимания широкой публики. Гораздо проблематичнее некоторые отступления от сохранившегося протокола, как будто Верин и Чудотворцев говорят в наше время не совсем то, что говорили в свое время.
Шпенглеровский сборник упоминается в спектакле как бы вскользь, а между тем хорошо известно, что он-то и послужил поводом к высылке философов за рубеж. Верин упоминает этот повод, что подтверждается протоколом беседы, но, согласно протоколу, Чудотворцев обращает его внимание на то, что само название шпенглеровского труда переведено на русский язык неверно. „Untergang des Abendlandes“ не может переводиться как „Закат Европы“ просто потому, что Европа для Шпенглера – всего лишь географическое понятие. „Abendland“ – вечерняя земля или сумеречная, тут заметна перекличка с вагнеровским „Goetterdaemmerung“. Странная прихоть переводчиков: „сумерки“ или „угасание богов“ переводится как „гибель богов“, а „гибель Запада“ переводится как „закат“, то есть как „угасание“. Так и надо было бы перевести шпенглеровское название: „Гибель Запада“, а это ли не на пользу мировой революции. Тут Верин иронически возразил, что мировая пролетарская революция – не Апокалипсис и нуждается в красном Западе ничуть не меньше, если не больше, чем в алеющем Востоке: „с Востока свет – не наш лозунг“, – съязвил он. Но дело тут не в переводческих изысках, – перешел в наступление Михаил Львович, а в некоей фигуре умолчания, которая в своем роде красноречивее, чем откровенная контрреволюция. Ибо во второй части „Untergang'a“ (наверное, Михаил Львович не преминул щегольнуть немецким произношением, цитируя это слово) упоминаются „stammesfremde Fleischer“, угрожающие русскому народу, и разве не очевидно, что вся возня вокруг Шпенглера затеяна ради этого выражения. Интересно, как господин Чудотворцев переведет его? „Иноплеменные мясники“, – кротко отвечает Чудотворцев, а безымянный протоколист фиксирует его ответ. „Именно, – продолжает Верин, – Шпенглер говорит, что, кроме Троцкого, в России, в русской истории появятся другие иноплеменные мясники. Что вы скажете по этому поводу?“ Чудотворцев отвечает, что подобное выражение ни разу не употреблено в шпенглеровском сборнике. „Весь ваш сборник сводится к этому выражению, которое невозможно не угадать“, – настаивает Верин. Разве не говорит Шпенглер о том, что Россия после 1917 года ищет свою форму государственности (как будто диктатура пролетариата не есть эта форма государственности), а царизм соответствует в истории России эпохе Меровингов. Историческая правда требует подчеркнуть, что Платон Демьянович впадает при этом в явное замешательство, лепечет что-то об известной зарубежной коммунистке маркизе де Мервей, наследнице Меровингов, называет даже князей Меровейских (ни к селу ни к городу), но он явно преувеличивает при этом (или, наоборот, недооценивает) эрудицию Верина. Тот пропускает все это мимо ушей. „Вы понимаете, одних иноплеменных мясников достаточно, чтобы расстрелять вас“, – без обиняков заявляет он. Чудотворцев, судя по протоколу, теряет при этом присутствие духа. Он что-то мямлит о родстве некоторых большевистских вождей с маркизами де Мервей. (Полагаю, что в этой связи он мог упомянуть и князей Меровейских, но тут в протоколе лакуна. Именно в этот момент Верина вызывает к себе Дзержинский, строго говоря, тоже один из иноплеменных мясников.) Разговор с Кондратием Трояновым в протоколе тоже не отражен, но это не значит, что такого разговора не могло быть: просто разговор с „рядовым работником ЧК“ не протоколировался. Но когда Верин возвращается, он сообщает: принято решение не настаивать на высылке Чудотворцева за пределы Советской Республики. Не исключено, что далее заходит речь и о мавзолее, но в протоколе этого нет. Разговор Верина с Чудотворцевым, несомненно, проливает свет на некоторые дальнейшие загадки советского периода.
Например, известно: если в квартире находили „Untergang des Abendlandes“ (в особенности в оригинале), хозяевам квартиры давали пять лет, часто со строгой изоляцией. Можно предположить: впоследствии Сталин использовал-таки шпенглеровское упоминание об иноплеменных мясниках в своей борьбе против Троцкого и против того же Верина. Но Сталин вынужден был считать и себя иноплеменным мясником. Ведь Шпенглер прямо называет Троцкого и как бы предрекает Сталина, которого еще не мог знать, когда писал свою книгу Исторический прогноз приобретал силу пророчества и значил больше, чем прямое обличение. Вот откуда пять лет со строгой изоляцией за хранение Шпенглера. Но „иноплеменные мясники“ могли понадобиться и тогда, когда подготавливалось дело врачей-вредителей, связанных к тому же с маркизами де Мервей. Так что Сталин мог быть всю жизнь благодарен Чудотворцеву за иноплеменных мясников, чем и объяснялось его привилегированное положение при всех арестах, ссылках и разоблачениях. Театр „Реторта“ умалчивает обо всем этом, но фигура умолчания в театре не менее красноречива, чем в шпенглеровском сборнике, что следует отнести к достоинствам спектакля».
Рецензия была подписана моим именем. Газету «Лицедей» мало кто читал до сих пор, но на рецензию неожиданно откликнулись многие с разных сторон. Мне передавали, будто Кира возмущалась тем, что упоминанием об иноплеменных мясниках в рецензии затушеван протест Чудотворцева против тоталитарного подавления интеллектуальной свободы. Наоборот, Клавдия подтверждала тогдашнее выступление Чудотворцева в защиту православной Руси, против ее интернациональных гонителей (в интернациональных явно угадывались инородческие; в связи с этим сразу же оживились толки о черносотенных симпатиях Чудотворцева). В газете «Позавчера», посвященной проблемам культурного наследия, состоялся круглый стол на тему «Чудотворцев и распространение расизма в двадцатом веке». Участник дискуссии, философ Адольф Гудин привел обширные цитаты из неопубликованной статьи Чудотворцева «Каббала и диалектика». Статья предназначалась для Философской Энциклопедии, и автор, ссылаясь на разговор с неназванным ученым евреем, утверждал, что с каббалистической точки зрения человечество перед Богом – Израиль и, следовательно, те, кто не принадлежит к Израилю, не принадлежат к человеческому роду. Отсюда вывод: Израиль, поставивший себя вне человечества, действительно не принадлежит к человечеству с точки зрения остального человечества. Адольф Гудин обвинял Чудотворцева в том, что именно он ввел в культурное сознание красной профессуры цитату из забытой статьи молодого Маркса «К еврейскому вопросу»: «Итак, мы обнаруживаем в еврействе проявление общего современного антисоциального элемента, доведенного до нынешней своей ступени историческим развитием, в котором евреи приняли, в этом дурном направлении, ревностное участие; этот элемент достиг той высокой ступени развития, на которой он необходимо должен распасться.
Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства». (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. – М., 1954. Т. 1. С. 408). За круглым столом говорили, будто именно Чудотворцев настоял на включении этой статьи в собрание сочинений Маркса и Энгельса, когда его привлекли в качестве консультанта, что в высшей степени маловероятно: Чудотворцев так и не добился признания как философ-марксист, несмотря на то, что уделял марксизму пристальное внимание в своих трудах, написанных в тридцатые – сороковые годы, впрочем, авторитетом по вопросам немецкой философии он все-таки считался, неустанно подчеркивая при этом, что он диалектик, а в чудотворцевском контексте это значило «каббалист». Высказывалось также мнение, будто известные работы Чудотворцева по метафизике мифа оказали влияние на еще более известный труд Альфреда Розенберга «Миф двадцатого века», будто само слово «миф» предлагалось Чудотворцевым как возможный синтез гитлеризма со сталинизмом и чуть ли не Чудотворцев был автором анонимной брошюры «Rassenzucht in Russland», вышедшей в Германии ограниченным тиражом к 1 мая 1941 года.
Материалы круглого стола в «Позавчера» во многом основывались на домыслах и явных вымыслах, но резонанс от пьесы «Троянова тропа» они, безусловно, усиливали. После премьеры в театре «Реторта» я практически не покидал моего дома в Мочаловке, изредка встречаясь только с Клер. Именно она предупредила меня об очередном визите моей квартирантки мадам Литли. Та не замедлила появиться, что было тем более примечательно, так как я успел отвыкнуть от ее посещений, хотя деньги за комнату поступали через Клер аккуратнейшим образом. Оказывается, визит Литли был также связан с премьерой «Трояновой тропы». Элен, по обыкновению, курила пахитоску за пахитоской, зажигала одну ароматическую свечку за другой. Их подвижные огоньки странно контрастировали со сгущающимся мраком поздней подмосковной осени за окном, а Литли тараторила без умолку, мешая русский язык с французским. Речь шла все о той же генеральной репетиции в театре «Реторта». Что генеральная репетиция как бы совпала с премьерой, никого в Москве не удивляло. Сколько театров выдавало за спектакли свои затяжные репетиции, куда допускаются время от времени лишь избранные. Литли была в полном восторге от спектакля, но восхищалась она при этом и моей рецензией, то и дело повторяя, что ее, рецензию, одобрил сам monsineur Жерло. Я никак не мог сообразить, кого она так называет, знаком ли я с этим господином или нет, а она все повторяла: «Жерло… Жерло… мосье Жерло», что вызывало в моем воображении назойливую ассоциацию с лягушкой жерлянкой, надувающейся и квакающей в душную летнюю ночь, когда точно также могли куриться ароматические свечки и пахитоски. Я так и не успел спросить, кто такой мосье Жерло. Она сама мне вдруг сообщила, что мосье Жерло посетит нас (мадам Литли так и сказала «нас») в это же время завтра вечером. Я был несколько озадачен тем, что этот господин назначает мне свиданье в моем же доме через третье лицо, к тому же через даму, не потрудившись спросить, согласен я или нет, но мадам Литли, как заправская горничная, уже прибирала свою и мою комнату, чтобы достойно принять знатного гостя.
Только на следующий вечер я узнал, что этот знатный гость мосье Жерло – не кто иной, как Всеволод Викентьевич Ярлов. Мадам Литли так выговаривала фамилию Ярлов (Jarlov). Он приехал вместе с мадам Литли, снисходительно извинился за вторжение, снял пальто с каракулевым воротником, огляделся в поисках прислуги, но с подчеркнутой неуклюжестью сам повесил пальто на гвоздь в прихожей. Следом за ним вошел мой двойник в дубленке и, едва кивнув мне, принялся распаковывать разные целлофановые пакеты и кулечки. В них оказались всевозможные изысканные закуски, главным образом бутерброды и сэндвичи, как будто только что подобранные со столов на нескольких модных презентациях. Глянцевито отсвечивала черная икра, изысканно розовела ветчина, отливала янтарем заливна'я осетрина. Мой двойник деловито водрузил на стол бутылку виски, бутылку французского коньяку и бутылку бордо, потом аккуратно разрезал на ломтики специальным ножичком, извлеченным из кармана, огромный благоухающий ананас. Ярлов небрежно протянул ему со стола пару бутербродов, кажется, с ветчиной и с красной икрой, потом кивнул ему, указывая трубкой на дверь: «Хорошо, Федорыч, пока можешь быть свободен». Я забыл упомянуть, что стол был накрыт в комнате мадам Литли, так что я не знал, кто я здесь: все-таки гость или все-таки хозяин. Мосье Жерло развалился в покойном кресле моей тетушки, единственном в доме, не спрашивая разрешения, раскурил свою трубку и окутал душистым облаком дыма ароматические свечки мадам Литли. «Простая трубка, как у всех», – шевельнулась у меня в голове цитата из рассказа Эфенди Капиева, где шла речь, разумеется, о трубке Сталина. Я хотел было сказать, что у меня (у нас?) не курят, но спохватился: это должна была сказать дама, а она сама усердно затягивалась, присоединяя свои желтоватые колечки к щедрому серебристо-синему облаку Ярлова. Наконец, мосье Жерло вытер лысину надушенным, не иначе как батистовым платком и с преувеличенной, какой-то утробной любезностью обратился ко мне:
– Откровенно говоря, я приехал поблагодарить вас, Иннокентий Федорович, за вашу высокоталантливую и в высшей степени уместную рецензию в «Лицедее».
Я промямлил что-то вроде вежливого «спасибо». Признаюсь, я никак не ожидал от главного режиссера «Реторты» благодарности за свой опус. Мосье Жерло угадал мою мысль:
– Понимаю, у вас были основания ждать от меня… несколько иной реакции. Но, поверьте, дело тут даже не в моем сердечном расположении к вам. (Ярлов до краев налил мне чайный стакан французского коньяку) Дело в том, что вы действительно сыграли мне на руку Собственно, если бы вы не написали вашу рецензию сами, я вынужден был бы заказать нечто подобное и, признаться, уже сделал это, но результат не идет ни в какое сравнение с вашим и не заслуживает опубликования, хотя заплатить за добросовестную работу мне пришлось столько, сколько я обещал. Но, как поется в популярной песне, «мы за ценой не постоим». Кстати, сколько вы получили за ваш шедевр? Молчите? Можете не отвечать. Я умею уважать коммерческую тайну (Мосье Жерло снисходительно хихикнул. Похоже, он знал, что я не получил за мою рецензию ничего.) А вот нам на культуру денег не жалко, как говорил товарищ Сталин. Но мы еще вернемся к этому вопросу Понимаете, театр «Реторта» вовсе не нуждался в так называемой положительной рецензии. Положительная рецензия – лучший способ отвадить зрителя от спектакля. По мне, уж лучше грубая ругань, но хамством, знаете ли, в наше время тоже никого не удивишь и в театр не привлечешь. Мы, правда, не нуждаемся в том, чтобы к нам привлекали публику Мы нуждаемся в том, чтобы к нам привлекали внимание. А для этого нужны толки, толки, толки, и вы нас ими обеспечили, надо отдать вам справедливость.
– Да газету «Лицедей» и не читает никто, – робко вставил я.
– Так было до вашей рецензии. А теперь «Лицедея» читают из номера в номер, и в каждой строке выискивают «намеки тонкие на то, чего не ведает никто», а вернее, на то, что все изведали чересчур хорошо, на своей шкуре, так сказать.
– Что вы имеете в виду?
– Конечно, иноплеменных мясников, что же еще. Вы очень кстати их упомянули. Весь спектакль был рассчитан на то, что вы это сделаете. Или кто-нибудь, кроме вас, но все остальные сделали бы это хуже, топорнее. Согласитесь, у Чудотворцева и Верина не было возможности даже на нашей сцене одновременно говорить то, что они говорили тогда и сейчас.
– А это все-таки они говорили?
– Разумеется, они. Вам-то подобный вопрос, я бы сказал, не к лицу.
– Но я же не действующее лицо «Трояновой тропы».
– Именно вы действующее лицо. Ваша рецензия входит в спектакль как необходимая, может быть, ключевая реплика. Вы не заметили? Все или, во всяком случае, многое из того, что происходило после спектакля в Москве, в Мочаловке, в мире было его продолжением. Круглый стол в «Позавчера» – разве это не сцена из «Трояновой тропы»?
– За исключением одного обстоятельства, – не удержался я. – Сам Чудотворцев нигде не говорит об иноплеменных мясниках. Ни в шпенглеровском сборнике, ни в «Материи мифа», ни даже в «Оправдании зла». И согласно протоколу, этот разговор начинает не он. Цитату из Шпенглера приводит Верин: типичная провоцирующая подтасовка в духе будущих политических процессов.
– Тоже неплохо. Мнительность иноплеменного мясника, – хихикнул мосье Жерло.
– Так или иначе, не Чудотворцев о них заговорил, – настаивал я.
– Скажете, Шпенглер?
– Конечно, Михаил Львович не нуждался в Чудотворцеве, чтобы прочесть Шпенглера.
– Иноплеменный, но интеллигентный мясник. Не спорю. Но тогда чем вы объясните невероятную популярность Шпенглера в России в двадцатые годы? Неужели тем, что его читал партайгеноссе Варлих, а не тем, что его внедрил в культурное сознание Чудотворцев?
– Статья Чудотворцева в шпенглеровском сборнике анализирует отношение германской эсхатологии к православной апокалиптике. Шпенглер был только поводом, без которого статья не могла быть опубликована.
– Почему же Сталин был благодарен за повод Чудотворцеву, а не Шпенглеру? Почему он осыпал Чудотворцева привилегиями, почему он прямо-таки культивировал его творчество в тридцатые, в сороковые годы, и особенно в период борьбы с космополитами, то бишь с иноплеменными мясниками?
– Вы правы, если считать культивацией безусловный цензурный запрет на публикацию трудов Чудотворцева, аресты, один за другим, а также ссылку за ссылкой.
– Это называлось тогда: изолировать, но сохранить, – рявкнул Ярлов. – Такому режиму был подвергнут Осип Мандельштам. Никто не виноват, что хлипкий местечковый гений не выжил. И Шкловскому Троцкий выдал справку, что он арестован Троцким и дальнейшим арестам не подлежит. Кто, как не Сталин, мог позвонить в ту самую ночь Дзержинскому, чтобы спасти Чудотворцева от высылки за рубеж?
– Откуда же Сталин мог знать про иноплеменных мясников, если вторая часть «Заката Европы» не была переведена на русский язык, а Чудотворцев в шпенглеровском сборнике этим термином не пользуется?
– Сталин мог узнать это выражение из доноса, написанного идеологическим цербером Михаилом Варлихом.
– Так вы признаете, что само по себе это выражение исходит от Верина, а не от Чудотворцева?
– Повторяю, Чудотворцев через шпенглеровский сборник внедрил его в культурное сознание национал-болыпевистской интеллигенции, что не могло не привести в панику иноплеменных мясников. Сталин изолировал Чудотворцева, чтобы сохранить его от них, принимая во внимание и некоторые слабости Чудотворцева, его чувствительность к исторической конъюнктуре: они могли переманить его на свою сторону В конце концов, какое имело значение, печатались ли труды Чудотворцева в свое время, когда они были написаны и внимательнейшим образом прочитаны теми, для кого они предназначались. Вот теперь все печатается, а печатать нечего.
– А можно узнать, какая, no-вашему, разница между национал-большевизмом и национал-социализмом? – спросил я.
– Извольте. Маленькая разница, но существенная. Знаете французский анекдот? (Ярлов отхлебнул французского коньяку.) На публичной лекции лектор говорит: в сущности, между мужчиной и женщиной маленькая разница. А из зала доносится возглас: «Да здравствует маленькая разница!» (Ярлов добродушно посмотрел на меня, ожидая, не последует ли с моей стороны взрыв смеха, потом сам натужно хихикнул и предложил тост за маленькую разницу. Я нехотя чокнулся с ним. Мадам Литли пригубила или сделала вид, что пригубила свой коньяк. Ярлов опять развалился в кресле.) Так вот, разница между национал-большевизмом и национал-социализмом в том, что национал-социализм проиграл мировую войну, а мы выиграли.
– Вы выиграли, Всеволод Викентьевич? – съязвил я.
– Выиграли мы с вами, Иннокентий Федорович, – парировал он.
– Увольте, я беспартийный.
– Сами знаете, что так не бывает. Вы числитесь у нас в запасе. Прямо скажем, вся ваша литературная деятельность рассчитана на нашу победу.
– А вы не ошибаетесь?
– Ошибиться в этом вопросе можете только вы. Неужели вы думаете потрафить демократам вашим «Русским Фаустом»? Сами посудите, кто издаст вашу биографию Чудотворцева, кроме нас?
– А разве вы издательской деятельностью тоже занимаетесь? Вы же вроде руководитель театра…
– Прежде всего я руководитель ПРАКСа. ПРАКС же занимается всем. Высший принцип ПРАКСа – правда в отличие от отвлеченной научной истины. Само название газеты «Правда» – парадигма нашей идеологии, если хотите, историческая пророческая притча о ПРАКСе. Знаете, откуда это название? Уверен, что не знаете. Большевики перекупили у одного православного батюшки разрешение на издание духовно-нравственной газеты «Правда» и сохранили название до сих пор. Видите, какой великолепный синтез: самодержавие, православие, партийность, то бишь народность. В этом весь ПРАКС.
– Но, насколько мне известно, ПРАКС против монархии…
– Допустим (Ярлов развязно положил ногу на ногу и залихватски хлопнул себя по колену). Но истинное самодержавие с монархией несовместимо. Монархия слишком отравлена западными представлениями об общечеловеческой законности, она же конституционная. Даже абсолютизм чреват конституцией. Настоящее доподлинное самодержавие установили в России только большевики, Сталин, если хотите знать. Последователи Сталина до сих пор стыдливо замалчивают его сотрудничество с царской охранкой. Конечно, такое сотрудничество было, и мы усматриваем в этом историческое величие Сталина. Сотрудники царской охранки под водительством Сталина взяли верх над иноплеменными мясниками, агентами немецкого генштаба и в конце концов уничтожили их. Такова подлинная историческая проблематика двадцатых годов.
– Но позвольте, эти якобы сотрудники царской охранки для начала убили царя, царицу, наследника, уничтожили в России царский дом…
– Да, так оно и было. Небезболезненная операция, согласен с вами, но совершенно неизбежная, необходимая. Кстати, вы обратили внимание: цареубийство особенно усердно и не без выгоды для себя оплакивают однофамильцы, если не родственники тех, кто в цареубийстве участвовал.
– Тоже сотрудники охранки, пусть уже не царской, правда, но все-таки?
– Нет, скорее пособники иноплеменных мясников. (Мосье Жерло интимно подмигнул мне.) На Руси средоточием лучших интеллектуальных сил всегда была тайная полиция. Малюта Скуратов, Бенкендорф, Берия, Андропов – эти имена говорят сами за себя. Так вот, именно тайная полиция уже в восемнадцатом веке пришла к выводу, что главным препятствием для византийского или, если вам больше нравится, для евразийского самодержавия стала в России наследственная вестернизированная монархия, вся эта немчура на русском троне. Убийство Павла было первым предупреждением. Тоже мне гроссмейстер Мальтийского ордена без роду и племени, отродье блудливой немки и чуть ли не того жидовствующего алхимика графа Сен-Жермена (был такой слушок). Рыцарь печального образа, перемигивающийся с корсиканским чудовищем, насылающим своих пчел на русского медведя. Предостережению не вняли. Пришлось убить Александра второго, царя-освободителя, как только тот подмахнул конституцию. И наконец, Николай второй со всеми своими либеральными манифестами, распутинщиной и всей содомией Серебряного века. Но зачем я повторяю то, что вы внимательнее моего читали у Чудотворцева в его «Оправдании зла»?
– Чудотворцев никогда не оправдывал цареубийства.
– Неправда ваша, батенька. Кто, как не Чудотворцев, подсказал тему дискуссии о наследственности, а эта дискуссия – главное событие в духовной жизни послевоенной советской России. Или вы будете отрицать, что в своем «Гении Сталина» Чудотворцев с восхищением упоминает великих селекционеров Мичурина и Лысенко?
– Это была характерная для Чудотворцева ирония, юродство…
– Я бы сказал, юродство с кулаками. С кулаками против кулаков. Генетика была не просто идеологией кулачества. Конечно, кулаки были заинтересованы в культе наследственности, чтобы рано или поздно потребовать свое наследство у трудового народа, как это мы наблюдаем теперь. Предсказывал же Сталин обострение классовой борьбы по мере усиления большевистского самодержавия. Но главное, за теориями наследственности скрывалась апология наследственной монархии в России, или даже в Европе, или даже во всем мире. Вот почему слетались в Россию всевозможные де Мервей, эти жалящие пиренейские, павловско-бонапартистские пчелы из рода Давидова. Вот кто нас ест…
– Но Изабель де Мервей была не бонапартисткой, а троцкисткой…
– Сюрреалистический бонапартизм и есть союз пчелы с иноплеменным мясником.
– Но если народные селекционеры могут планомерно менять наследственность, иноплеменные мясники могут превращаться в племенных…
– Да, это они называли Интернационалом. Но не надо путать племя и племя', как говорят в народе. Иноплеменные мясники, они же врачи-вредители, истребляли лучших в русском племени, чтобы на племя оставались худшие, поскольку сами иноплеменные мясники принадлежали к худшим. Так и проходило размежевание. Носители дурной наследственности выступали за ее сохранение, носители здоровой племенной наследственности выступали за селекцию человеческого рода, за великую трансмутацию человеческой крови. (Я заметил, как насторожилась мадам Литли.) Великий богоискатель, гений пролеткульта Александр Богданов (недаром его настоящая фамилия Малиновский, его однофамилец агент самодержавия в большевизме). Так вот, Богданов умер, героически поставив на себе эксперимент в Институте переливания крови, умер, подготавливая нашего человека к бессмертию, которое возвещает мавзолей, построенный по тайному проекту Чудотворцева.
– Действительно, в «Оправдании зла» исследуется алхимия…
– Еще бы не исследоваться! Октябрьская революция была планетарной трансмутацией, великим восстанием красной крови против крови голубой, против безжизненной сыворотки, впрыснутой иудейским ангелом смерти в жилы выродков. (Мадам Литли, приоткрыв рот, ловила каждое его слово.) Только красная кровь способна превращаться в мировое солнечное золото. Вот зачем кровь переливают. Превращение крови в золото и есть реальный социализм, царство Божие на земле, Солнце Правды в человеческих жилах. Превращение крови в золото – оправдание зла. Ангел света Денница предлагал Христу превратить камни в хлебы, этим и занимался великий сталинский алхимик Лысенко. Камни превращаются в хлебы, а хлебы в животворное золото. «Моя родная сторона осенним золотом полна», – напрасно издевались космополиты над этой песней. Впрочем, они всегда знают, что делают. Белоручки против золотых рук. А при Лысенко состоял некто по имени Презент, чье имя означает Присущий, или Настоящий, или Дар. Известно, что он был посвящен в тайны каббалы, быть может, посланный ангелом света…
– А иноплеменным мясником он не был? – съязвил я.
– В нем было не племя, а племя. Вот почему он гонялся за женщинами, как ваши Меровинги, – парировал Ярлов.
– Что верно, то верно: кровь он проливал, правда, чужими руками, – сказал я.
– «Руки у них золотые», – сказал поэт. Голубая кровь должна пролиться, чтобы красная кровь превратилась в золото. Вот почему Синяя Борода убивал своих жен. Кстати, по-французски «bleu» – и синий, и голубой. Синяя Борода – голубой цветок. А Ленин сказал: «Золотом мы будем мостить уборные». Лысенко – великий золотарь. Социалистический реализм – ars magna, великий герметизм. Человеческие экскременты – алхимическое золото. Наш человек испражняется золотом.
Ярлов поперхнулся и закашлялся. Мадам Литли только губами причмокнула, как она делала не раз, слушая Ярлова. Я вспомнил, что губами причмокивают вампиры, и по такому характерному чмоканью узнают друг друга. Пока мосье Жерло откашливался, я сказал:
– Действительно, вы читали Чудотворцева не совсем внимательно. У него есть эта проблематика, не спорю. Но для него золото – первичный Фаворский свет, преложение Святых Даров в Кровь и Плоть Божью. Золото выявляется или образуется, но не производится путем кровопролитных экспериментов. Правда, по Чудотворцеву, нужно произвести эти эксперименты, чтобы выявилась их тщетность. Вот что называет он оправданием зла, история зла-то. Чудотворцев указывал на совпадение древнееврейского «aor» (свет) и латинского «aurum» (золото). Вот Альфа и Омега, Первый и Последний, как говорится в Откровении Иоанна Богослова. Чудотворцев настаивал на том, что Иоанн Богослов не умер, что он среди нас… (Мадам Литли вздрогнула.) Это совпадение первичного света и конечного золота есть Miraculum Rei Unius, Чудо Единого, о котором говорит Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста. Поэтому Чудотворцев вместе с Лейбницем и Лосским отвергал метемпсихоз, настаивая на вечной метаморфозе одного и того же человеческого существа, что Аристотель называл энтелехией. Вот почему душа не может переходить из тела в тело, у души не может быть разных тел. Каждое существо создано при сотворении мира как единство души и тела, так что душа всегда образует свойственное себе тело, в принципе одно и то же. Каждое живое существо наследует свои признаки от самого себя. Гуманист Ермолай Варвар (именно варвар-гуманист) обращался к дьяволу с мольбой открыть ему смысл слова «энтелехия», но это слово или понятно и без дьявола, или тем более непонятно с его помощью. Ермолай Варвар перевел слово «энтелехия» как «perfectihabies» (имеющие совершенство), но совершенство нельзя иметь: ты принадлежишь совершенству, а не совершенство тебе. Средний человек сам не знает, почему с таким извращенным интересом углубляется он в свою фиктивную родословную (родословные, как правило, подделаны). Он не смеет себе признаться, что ищет и не находит среди своих предков самого себя. Но на этом же основан и принцип наследственной легитимной монархии, чей великий родоначальник время от времени, через два-три поколения возвращается на престол. Так в образе убиенного императора Павла на русский престол возвращался Рюрик. Отсюда таинственные обстоятельства его рождения. Рюрик может вернуться на Русь в ближайшее время. Вот почему так больно жалят кое-кого упомянутые вами пчелы, его вестницы. Но истинным царем Святой Руси остается Иоанн Богослов, ставленник Царицы Небесной: он пребудет дондеже приду.
Пока я говорил, мадам Литли вся превратилась в слух. Водянистые глаза Ярлова по-змеиному застыли на мне с выражением тупой угрозы. Ярлов снял очки, неторопливо протер их и сказал:
– Собственно, я к вам по делу Вы не согласились бы уступить ПРАКСу ваш дом?
– Мой дом?
– Разумеется, на самых выгодных для вас условиях. Скажем, так: двухкомнатная квартира на Спиридоновке и полмиллиона долларов.
– Я не собираюсь продавать мой дом даже на таких условиях.
– А хотите замок в предгорьях ваших любимых Пиренеев и миллион долларов впридачу?
– Это ни с чем не сообразно. Зачем вам такая развалюха?
– Аграрная политика ПРАКСа заключается в том, чтобы приобрести как можно больше недвижимости на русской земле.
– Позвольте мне не поверить вам, но уверяю вас: в этом доме Чудотворцев не бывал.
– И мне позвольте вам не поверить. У нас другие сведения.
Я промолчал. Ярлов снова откашлялся, достал из внутреннего кармана продолговатый конверт и протянул его мне:
– Здесь три тысячи долларов, ваш гонорар за вашу блистательную рецензию в «Лицедее».
Я вежливо, но твердо отвел его руку:
– Благодарю вас. Я уже получил гонорар.
– Неправда. Всем известно, что «Лицедей» гонораров не платит. Поверьте мне, вы заработали эти деньги. Вашей репликой вы вывели «Троянову тропу» в современную жизнь, вернее, ввели современную жизнь в реторту, где мы надеемся получить золото православно-коммунистического будущего. Мы выводим будущее в реторте, моделируем поведение социальных и религиозных коллективов, а также отдельных особей. Вы участвуете в этом. Возьмите же ваш гонорар.
Я только головой покачал. Ярлов встал из-за стола и резко отодвинул кресло:
– Хорошо же. Мы найдем способ рассчитаться с вами. ПРАКС не привык оставаться в долгу. Федорыч!
В комнату шагнул мой двойник, как будто за дверью ждал. Он подал шубу сначала Ярлову, потом мадам Литли. Провожая гостей до калитки, я увидел, что Федорыч за рулем. Когда в очередной раз Клер передавала мне конверт с квартирной платой, в нем оказалось шестьсот долларов вместо трехсот. Я хотел вернуть мадам Литли лишние триста долларов, но она не появлялась десять месяцев, пока все три тысячи долларов не были выплачены.
Глава шестая ДЕМОН
У ВАСИЛИЯ Евдокимовича Темлякова, зажиточного терского казака, было три дочери: Евфросинья, Аглая и Наталья. «Харигы», – обмолвился как-то заезжий семинарист. Сомнительно, чтобы Василий Евдокимович, коренной старообрядец, принадлежащий к Спасову Согласию, знал, кто такие хариты, но полностью исключить такого знания нельзя: стихийная, дикая осведомленность в святоотеческих писаниях, но также и в языческой философии, проникшей в эти писания, была распространена среди его свойственников. Достаточно сказать, что жена Василия Евдокия, урожденная Троянова, приходилась родной теткой Питириму Троянову, отличившемуся во время Балканской войны, награжденному тремя Георгиями, но, главное, вернувшемуся с Балкан проводником некой исконной казачьей веры. По слухам, он встретил там учителя или учителей (трудно сказать, кто они были: тайные богумилы или славянские суфии), они укрепили его в некоем родовом чаянье, хранимом в роду Трояновых. Трояновы тоже числили себя по Спасову Согласию, но, по словам Питирима, сама их фамилия происходила от имени Троян, обозначавшего Светлую Троицу. В нее входили Светбог, Святбог и Сватбог. Трояну противостоит Ятрон, Троян навыворот, темная троица, в которую входят Бледбог, Блядбог и Блудбог. Любопытно, что черная троица была представлена белым (Бледбог), а белое выступало в истории как черное. Напротив, Троян отличался красным цветом (Красное Солнышко). Приверженцы Трояна искони были красными, а приверженцы Ятрона – белыми. Во времени не происходило ничего, кроме борьбы красных с белыми. Отражалась она в вечности (на вечности), но об этом Питирим говорил неохотно. Зато он утверждал, что само имя Ятрон («я трон») означает притязание на вечную царскую власть. Ятрон – черный царь мира в трех лицах. Далее Питирим утверждал, что величайший из римских императоров Траян наречен именем «Троян». Просто в первом Риме акали, как акают в Риме Третьем. (Аканье – имперское, царственное произношение; произносить «а», когда пишется «о», значит исповедовать: Аз есмь Альфа и Омега, Первый и Последний.) Но, вообще говоря, имя императора происходит от города Троя, она же истинная колыбель всех трех Римов. Именно в Трое исповедовали истинную религию красного Трояна, за что Троя и была уничтожена белой гвардией Ятрона. Троянова тропа, упомянутая в «Слове о полку Игореве» – это, во-первых, тропа Светлой Троицы, во-вторых, тропа истинного Царя, и, в-третьих, троянская тропа, ведущая в Святое Царство. К этому Питирим вполголоса добавлял, что род Трояновых происходит от императора Трояна (будто бы где-то в тайнике у него хранилась даже родословная, которую, правда, кое-кто видел только мельком). Таким образом, Трояновы – истинные казаки (или козаки, опять-таки пример царственного оканья-аканья), они же троянцы царского рода, красное воинство Трояна.
У Темляковых тоже было свое родовое предание, хотя и не столь причудливое. В середине семнадцатого века они еще звались Темрюковыми, происходя по прямой линии от кабардинского князя Темрюка, чья дочь Мария Черкасская стала московской царицей: супругой Ивана Грозного. Темрюковы традиционно принадлежали к местной терско-кубанской, казацко-кавказской знати. Раскол произошел не только на Руси, но и в роду Темрюковых. Одна его ветвь приняла никонианство или, по крайней мере, не противодействовала ему и не только сохранила, но даже повысила свой социально-сословный статус. Темркжовы уже не только дослуживались до полковников, из них все чаще выдвигались атаманы. Столбовое дворянство Темрюковых безоговорочно признавалось всеми государевыми сановниками, вплоть до самого царя.
Но среди Темрюковых были и противники церковных новшеств, и, естественно, родовое процветание на них не распространялось. Власти предпочитали не замечать их родовитости, хотя они были того же происхождения, что и знатнейшие их сородичи. Дело кончилось тем, что в конце семнадцатого века полковой писарь допустил ошибку: Темрюкова записал Темляковым. Разумеется, описка могла быть и умышленной. Сама по себе фамилия Темляков только делала честь казаку, подчеркивая его неподдельный природный казачий корень. Темляк – особая тесьма с петлей на шашке, куда просовывается рука, чтобы вернее рубить. Бывали и орденские, наградные темляки, выдаваемые за доблесть. Так что казаку нечего было стыдиться фамилии Темляков. Но приняв эту фамилию или не сумев сохранить фамилию Темркжовы, старообрядцы Темляковы утратили дворянство, выпали из него. При этом ни Темркжовы, ни Темляковы не забыли своего родства. Кое-кто из Темрюковых стыдился своего отступничества от правой веры, и все они смутно чувствовали свою вину перед Темляковыми. Может быть, этим чувством родовой вины и объясняется то обстоятельство, что дворянский род Темрюковых постепенно падал в своем значении, а казачий род Темляковых, напротив, поднимался, ветвясь, плодясь и множась. Среди них росло число георгиевских кавалеров, а соответственно росло и их влияние на казачьем круге и во всем казачьем войске. С ними всерьез приходилось считаться и атаманам, и войсковым командирам, и правительственным чиновникам. К тому же все Темляковы отличались примерным трудолюбием, хорошо умели ладить с родной землею, обогащаясь и рыбными ловлями, и виноделием. Трудно было найти на Кубани Темлякова, который не принадлежал бы к зажиточнейшим казакам, чем Темляковы и довольствовались. Так и повелось. Темрюковы бесспорно принадлежали к высшему обществу, исподволь разоряясь и угасая, а Темляковы благоденствовали, кажется, нисколько не стремясь проникнуть в высшие сферы.
Впрочем, обе ветви старинного казачьего рода продолжали переплетаться одна с другой болезненно, подчас мучительно, но всегда прочно. И дело было не только в голосе крови и в общих семейных преданиях о своем былом родстве с московскими царями, чья династия то ли прекратилась, то ли затаилась, утратив право на престол. Вера не только разобщила Темрюковых с Темляковыми, но и продолжала их сближать. Среди Темрюковых всегда встречались тайные приверженцы старообрядчества, которое они, впрочем, нередко путали с мистическими учениями, имевшими хождение в высшем обществе. Такая путаница ужаснула бы любого старообрядческого уставщика, но кое-кому из Темрюковых она представлялась истинной духовной жизнью и благочестием. Не секрет, что в сознании родового начитанного интеллигента хлыстовщина до сих пор сближается со старообрядчеством, хотя оно не имеет ничего общего с хлыстовскими верованиями точно так же, как старообрядческие секты, основанные на строжайшей ортодоксии, не допускают никакого сближения с масонством и розенкрейцерством, к чему тяготеет скорее хлыстовщина, и с этой точки зрения старообрядческие толки никак не могут считаться сектантством.
Спасово Согласие предписывает своим приверженцам креститься и венчаться в православной церкви, что позволяет им внешне не отличаться от других православных. Мало кто догадывается, что за таким внешним церковничеством скрывается один из наиболее непримиримых старообрядческих толков: глухая нетовщина. Она глухая, потому что за богослужением староспасовцы поют не вслух, а про себя, так как по их учению благодати на земле не осталось, а богослужение вслух могут совершать лишь священники. Принимая в церкви таинства крещения и брака, староспасовцы гнушаются всеми остальными таинствами. Исповедуется каждый из них молча перед Стасовым образом, читая опять-таки про себя особое скитское покаяние. И Темляковы и Темрюковы (во всяком случае, некоторые из них) по-своему следовали этому непримиримому толку. Темляковы не скрывали своего старообрядчества, но и не подчеркивали его, что позволяло им подчас занимать видное положение в казачьем войске, а к высшим чинам они и сами не стремились. Что же касается Темрюковых, то они могли сохранять общение со своими родичами, а этим общением они, по-видимому, дорожили. Давно сложилась и свято соблюдалась Темляковыми традиция приглашать к себе в крестные Темрюковых. Это было вполне законно и прилично, поскольку крещение все равно совершалось в православной церкви.
И у младшей из сестер-харит Натальи Темляковой крестной матерью была Нина Герасимовна Темрюкова, в замужестве княгиня Арсеньева. Крестная мать и крестная дочь испытывали одна к другой более чем родственную привязанность, как говорится, надышаться друг дружкой не могли. Еще в церкви Нина Герасимовна что-то заметила, взглянув на свою малютку-крестницу, а потом вся родня уверилась: Наталья была больше похожа на свою крестную, чем на родную мать: точная ее копия, чуть ли не младший двойник. Когда Наталья подросла, оказалось, что они с княгиней одного роста, а поскольку Нина Герасимовна и в пятьдесят лет выглядела, как в тридцать, их нередко принимали за старшую и младшую сестру. Один дальний родственник, склонный к близорукости, счел их даже однажды сестрами-близнецами: обе стройные, темно-русые, сероглазые (у обеих серые глаза казались карими), тонкий профиль и точеный носик с горской горбинкой; обе они напоминали родовитых кабардинских красавиц. По-видимому, княгиня узнавала в своей крестнице самое себя и любовалась ею с любопытством, втайне перечитывая, вернее переживая свою собственную жизнь. Вот почему она буквально не спускала глаз с Натальи и не выносила разлуки с нею. Вот почему Наталья жила в княжеском доме, а на отцовском хуторе только гостила, хотя отец ее тоже души в ней не чаял. Однако и суровый казак Василий Евдокимович Темляков не отваживался надолго разлучить свою дочь с крестной матерью, хотя нередко роптал на княжеское воспитание, и ему было не по душе, что дочь растет барышней, а не казачкой. Было одно обстоятельство, которому пожилой казак не мог не подчиниться. Среди родни, включая Темляковых и Темрюковых, укоренился слух, будто обе они, и Нина Герасимовна, и Наталья, уродились в Марию Темрюковну, царицу московскую. Таинственное сходство сближало Нину Герасимовну с Натальей, хотя нередко между ними вспыхивали краткие, но бурные размолвки. Давало себя знать некое соперничество, как будто обе втайне спорили, которая из них настоящая Мария Темрюковна. При этом в доме Арсеньевых не только любовались маленькой Натальей, но и стремились нечто зашифровать в ее облике и нраве. Как это водится в аристократическом обществе, ей дали еще одно семейно-светское имя, называя ее не Nathalie, а другим экзотическим именем, заимствованным у Шатобриана, Атала. В романе Шатобриана это имя носила красавица индианка.
Маленькая Атала болтала по-французски, как по-русски, и, приезжая домой к родителям («на побывку», – ворчал Василий Евдокимович), никак не могла привыкнуть к тому, что батюшка с матушкой (так Василий Евдокимович приучал ее называть родителей) по-французски не говорят и не понимают. Между тем гувернантка приучила ее говорить о своих интимных нуждах только по-французски, и Наташа просто не умела говорить о некоторых вещах по-русски, что смущало ее мать и заставляло хмуриться отца. «Эх, девка, девка, за кого тебя замуж выдавать», – качал головой Василий Евдокимович, но и он не мог не любоваться дочерью, когда она лихо гарцевала перед ним в седле. Разумеется, всякая казачка усидела бы на лошади, но Наталья не просто ездила верхом, она именно гарцевала, переняв это искусство опять-таки от Нины Герасимовны, и Василий Евдокимович, бравший не раз призы за джигитовку, не мог не восхищаться наездничеством дочери, хотя и ворчал вслух, что не девичье это дело. У него в голове не укладывалось, что Наталья, воспитанная как барышня, – при этом отнюдь не белоручка (правда, руки у нее были белее некуда, но из барственных ручек не валилась никакая работа: Наталья могла жать пшеницу целыми днями, мастерски владея серпом, доила коров и на славу стряпала казачьи блюда). Но во всем этом чувствовалось не прилежание домовитой крестьянки, а прихоть причудницы-барышни, дескать, хочу жну, хочу на коне скачу, хочу на фортепьянах играю. Василий Евдокимович не мог скрыть глухого раздражения, но не восхищаться красавицей дочерью тоже не мог. Честно говоря, он сам не знал, чего он хочет от Натальи, и потому не особенно задерживал дочь у себя на хуторе. И Атала снова скакала по горным дорогам то вровень с Ниной Герасимовной, то вдруг обгоняя ее, так что встревоженная крестная не без труда настигала ее где-нибудь над головокружительной крутизной. Никто не знал, о чем всадницы беседуют во время своих долгих прогулок, но то были беседы задушевные, хотя и не безоблачные, так как обе были вспыльчивы, нередко ссорились, но жить одна без другой не могли. Словом, Наталья Темлякова в юности напоминала княжну Джаваху, хотя она могла быть скорее героиней, чем читательницей романов, написанных Чарской.
Была еще одна причина, по которой Василий Евдокимович не решался разлучить свою дочь с ее крестной матерью. Княгиня почиталась негласно, но непреложно среди староспасовцев. В ней видели то ли начетчицу, то ли даже подвижницу, в особенности после того, как она овдовела, отправив своих сыновей в кадетский корпус. Молодая вдова наотрез отказывалась от замужества, что окружало ее неким таинственным ореолом не только в светском обществе, но и среди казачества, так что пребывание девицы у нее в доме было весьма почетным, приравнивалось к воспитанию в скиту. И действительно, Нина Герасимовна не только не отвращала свою питомицу от Спасова Согласия, но, напротив, сама посвящала ее во все правила древлего благочестия и настаивала на их неукоснительном исполнении. Она приучила свою питомицу творить умную молитву и каждый день читать перед Спасовым образом скитское покаяние. Наталья училась читать одновременно по-французски и по-славянски, по Фенелону и по Псалтырю. В библиотеке княгини, кроме святоотеческих трудов, было много старообрядческих писаний, иногда напечатанных, чаще воспроизведенных от руки, и Наталья вскоре приучилась к уставу и полууставу. Василий Евдокимович тоже собирал подобные книги, почитывая их на досуге, и диву давался, до чего охоча до них малолетняя Наталья. Это усугубляло его благоговение перед кумонькой-княгиней, как он называл Нину Герасимовну, но усиливало также его опасения, не отвратила бы она свою крестницу от замужества, на что он согласиться никак не желал, но и возражать не мог, будучи тверд в своей вере. А пока он удовлетворенно наблюдал, что его дочка не читает никаких «романов» или песенников, а сосредоточенно вглядывается в добротные древние буквы. Василий Евдокимович побаивался, правда, не испортила бы она себе глаза таким чтением, но не мог скрыть удовольствия, когда она читала ему жития святых вслух не хуже завзятой уставщицы.
Русские книги попали в поле зрения Натальи сравнительно поздно и, надо сказать, разочаровали ее. Из них она облюбовала для себя только «Историю государства Российского» Карамзина. Все остальное она откладывала в сторону, едва прочитав несколько страниц. Слог новейших русских книг ей казался легковесным по сравнению со славянским и топорным по сравнению с французским. Нина Герасимовна насторожилась, увидев, что ее воспитанница пренебрегает не только Лажечниковым, но и Тургеневым. Она совсем было перестала читать беллетристику, когда узнала, что в романах «про неправду все написано», как говорил Смердяков. Наталья никак не могла понять, зачем ей читать всякие выдумки. Нина Герасимовна не сумела переубедить ее, объясняя, что такое реализм в литературе. Наталья оставалась при своем мнении. В книгах она ценила только глубину мысли и красоту слога, не находя ни того ни другого в сочинениях своих русских современников. Неожиданно она обрела, впрочем, русского автора по себе. Этим автором оказался Лермонтов.
Конечно, Наталья не могла не прочитать своего в строках «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием». Она повторяла про себя вместе со скитским покаянием строки «Казачьей колыбельной»:
Дам тебе я на дорогу Образок святой; Ты его, моляся Богу, Ставь перед собой.Сохранился рассказ Чудотворцева о том, как мать читала ему эти строки; сохранился и образок, подаренный ею. Уже слепой, Чудотворцев действительно ставил его перед собой. Но особенно поразило Наталью «из пламя и света рожденное слово». Это слово стало символом ее веры. Только такого слова она и искала в книгах. Ее интересовало одно: исповедание веры. Только этого она ждала и требовала от любого автора, а когда она такого исповедания не находила, то навсегда закрывала книгу, не понимая, зачем ее читать. Но Лермонтов вел ее, вернее, влек дальше, и Наталья шла за ним в мир иной, как его предок Томас Лермонт шел в страну фей следом за белым оленем. Очень рано на этом странном пути Наталья повстречала Демона.
Однажды во время верховой прогулки восьмилетняя Наталья (она твердо сидела в седле с пяти лет) спросила свою крестную, неужели Демон тоже выдуман, как, например, Дед Мороз. Нина Герасимовна натянула поводья, задерживая иноходь своей лошади (Наталья вынуждена была последовать ее примеру) и махнула рукой в сторону ближайшего поворота (горная тропа изобиловала ими): «А он вон там стоит; он всегда там, где его называют; только не всегда он виден». Впоследствии Нина Герасимовна уверяла девочку что пошутила тогда, но та молча хмурилась в ответ. «А теперь вы разве не шутите, Нина Герасимовна?» – парировала она однажды. (Ниной Герасимовной она называла княгиню разве что на людях и во время размолвок, обычно называя ее наедине матушкой.) И Нина Герасимовна сама нахмуривалась, почувствовав, что ее крестница обиделась.
Прошло три или четыре года, и Наталья спросила свою крестную опять-таки на верховой прогулке:
– Как вы думаете, матушка, не напрасно ли Тамара отреклась от Демона? Он же говорил:
Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру…Разве он неправду говорил?
– А что он дальше говорит, ты не помнишь? – ответила княгиня, на этот раз отпуская поводья:
Оставь же прежние желанья И жалкий свет его судьбе: Пучину гордого познанья Взамен открою я тебе.Тебе пора уже знать, девочка, кто открывает нам «пучину гордого познанья».
– Вы хотите сказать «диавол», матушка, – немедленно откликнулась Наталья, не отставая от своей крестной, уже пустившей лошадь в галоп, как будто всадница старалась ускакать от очередного вопроса. – Но разве диавол пал не оттого, что его мало любили? Разве вы не помните, «когда в жилище света блистал он, чистый херувим… когда он верил и любил, счастливый первенец творенья»? Он-то любил, а его никто не любил, вот он и пал, и «сеял зло без наслажденья».
– Диавол – враг душ человеческих, – только и могла ответить княгиня на всем скаку. Но Наталья не отставала от нее.
– Пусть враг, но разве не заповедал нам Спаситель любить врагов своих? Как же я должна любить такого врага, если он к тому же так прекрасен?
– Откуда ты знаешь, как он прекрасен? – Княгиня резко остановила лошадь.
– А разве вы не показали мне его прошлый раз вон там? – И Наталья указала на тот же самый поворот, перед которым когда-то спросила свою крестную, неужели Демон выдуман. Так или иначе, они обе вновь оказались перед этим поворотом, и, потупившись, как виноватая, княгиня молча направила свою лошадь в сторону дома. И воспитаннице не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней.
В своей библиотеке Нина Герасимовна переворошила множество книг, пытаясь найти ответ на вопрос, не может ли дьявол спастись любовью. Подбор книг свидетельствовал о том, что подобным вопросом задавалась она сама и кто знает, может быть, с юных лет ни о чем другом не думала. От отцов Церкви Нина Герасимовна в который раз перешла к сочинениям гностиков. Еретических сочинений было в ее библиотеке больше, чем приличествовало бы ревнительнице древлего благочестия. У поздних гностиков, особенно в их двусмысленных поэтических гимнах Нина Герасимовна находила упоминание или заклинание Девы, которая способна спасти Люцифера-Денницу, вернув его в плерому, в полноту божества. Правда, эта Дева – не просто дева, а падшая София Премудрость, и, спасая Денницу, она спасается сама. Читая загадочно-пламенные строки поэта-гностика в сглаженном, элегантном французском переводе и вопреки переводу улавливая в них некий тайный смысл, Нина Герасимовна поймала себя на том, что краснеет, нечто припомнив. Она отложила книгу, взялась за другую, но то, что она прочла в ней, было не менее соблазнительно. Автор повествовал о том, как Христос пролил слезу, услышав о смерти Лазаря (что подтверждается Евангелием от Иоанна). Из этой слезы был сотворен ангел по имени Элоа, чувствующий себя девой. Дева Элоа влюбляется в Люцифера и надеется вернуть падшего ангела Богу своею любовью. Далее источники расходятся. Поэт-романтик воспел дерзновенно-счастливую чувственную любовь Элоа к Сатане, но восточное предание говорит иное. Сатана не мог добиться от Элоа того, чего он желал, и русский поэт вложит в его уста презрительные слова: «Бесполых жриц любви не нужно Сатане». Правда, Константин Константинович Случевский напишет свою поэму уже после разговора крестной дочери с крестной матерью, но В.Я. Брюсов скажет по поводу «Элоа»: «Да! Это не Лермонтов», противопоставляя поэму Случевского слишком целомудренному «Демону», а Чудотворцев уделит «Элоа» пристальнейшее внимание в своем «Оправдании зла».
Дня через три в сумерках Нина Герасимовна торжественно пригласила свою крестницу в библиотеку где горела неугасимая лампада перед Стасовым ликом и где обе они, каждая про себя, читали скитское покаяние. Нина Герасимовна изложила Наталье свои аргументы против любви к дьяволу. Дьявол – дух ненависти и лжи, потому он желает вызывать ненависть даже к самому себе. Дьявольская ненависть не допускает любви, будь то даже любовь к самому дьяволу; из ненависти враг человеческих душ допускает лишь солидарность в ненависти. (Нина Герасимовна так и выразилась по-французски «la solidarité, dans l'haine».) Душу Сатане продают, руководствуясь этой преступной солидарностью, а отнюдь не любовью к нему, ибо для Сатаны любовь – наихудшее оскорбление и мука. Иными словами, любить Сатану есть нечто худшее для него, чем ненавидеть его (le pire pour lui que l'aimer). Нина Герасимовна сделала многозначительную паузу. «Не лучше ли в таком случае любить Сатану, если любовь для него – наихудшее?» – вежливо вставила Наталья. Нина Герасимовна осведомилась, что же это за любовь, намеренно причиняющая страданья любимому. Наталья, глядя княгине прямо в глаза, попросила позволения узнать, почему княгиня так ревностно или ревниво (по-французски это одно и то же слово «jaloux») оберегает Сатану от страданий, которые может ему, не дай Бог, причинить любовь. При этом вопросе Нина Герасимовна явно смутилась и переменила тему. Расставшись со своей крестницей, она тщательно записала этот разговор. Пожелтевшие листки сохранились у ее внука, моего крестного князя Кеши, и тот показал мне их, узнав, что я занимаюсь Чудотворцевым.
Впрочем, юная крестница княгини сама писала кое-что. Княгиня давно уже была озабочена ее дальнейшим образованием. Атала получила воспитание сугубо аристократическое, но ее нельзя было отдать, скажем, в институт благородных девиц, поскольку невозможно было документально подтвердить ее дворянское происхождение, а отдать свою крестницу в пансион попроще категорически отказывалась Нина Герасимовна. Василий Евдокимович хотел думать, что княгиня противится этому, опасаясь, как бы Наталью не отвратили там от святоотеческой веры и казачьего образа жизни, но, скорее всего, Нина Герасимовна просто не хотела расстаться со своим alter ego, не могла отказать себе в том, чтобы изо дня в день глядеться в свое ходячее, скачущее на коне зеркало, где к тому же она видела себя молодой или даже юной, так что привязанность княгини к Наталье не лишена была своеобразного женского эгоизма, окрашенного при этом изрядной долей ревности Бог знает к кому. Так что Наталье приходилось довольствоваться в княжеском доме домашним образованием. Уроки российской истории и словесности давал ей приходящий учитель из бывших семинаристов (не тот ли, который назвал трех дочерей Василия Темлякова харитами?). Однажды Наталья представила своему учителю сочинение по «Демону» Лермонтова. Сочинение, написанное порывистым девичьим почерком, растянулось десятка на два страниц. Учитель тщательно прочитал его, выправил орфографические ошибки (Наталья была не в ладах с буквой «ять»), подчеркнул галлицизмы (чувствовалось, что некоторые свои мысли барышня переводит с французского), покачал головой и предложил сочинение Натальи вниманию княгини. Та в свою очередь прочла его и не знала, что сказать своей крестнице. Наталья, несомненно, отдала должное причудливой библиотеке своей крестной матери. В сущности, она написала небольшой трактат о демонах и демоническом в мировой культуре. Наталья начинала с того, что великим демоном Сократ называл не кого-нибудь, а самого Эрота. (Наталья замечала при этом вскользь, что ранние христианские авторы называли Божественным Эросом Христа.) Свой особый демон был и у самого Сократа, и ссылки на этого демона до известной степени обусловили смертный приговор, вынесенный Сократу. Его, как известно, и обвиняли в том, что он вводит новых богов, а кто же такой свой личный демон, если не один из этих новых богов? Далее Наталья подробно останавливалась на высказываниях Гёте о демонах и демоническом, которому особенно подвержены, по его мнению, музыканты, в частности Моцарт. Гёте явно связывал творческую стихию в человеке с демоническими влияниями. В этом Гёте не далек от мусульманской традиции, связывающей поэтическое вдохновение с воздействием джиннов, а кто такие джинны, если не демоны? По преданию, Мухаммед, встретив поэта Зухайра, воскликнул: «Да сохранит меня Аллах от сидящего в нем джинна!» В то же время демоны могут сближаться и с ангелами. Так, в «Антонии и Клеопатре» Шекспира прорицатель сперва говорит о демоне, потом об ангеле Марка Антония чуть ли не в одном и том же стихе, очевидно имея в виду одну и ту же силу. (Наталья не отказала себе в удовольствии сослаться на шекспировский оригинал: Act II, scene III.) Согласитесь (обращалась Наталья к своему учителю, а может быть, не только к нему), – такое сближение демона с ангелом почти в духе Лермонтова, ибо кто такой лермонтовский Демон, если не ангел: «…блистал он, чистый херувим». Допустим, Люцифер – тоже падший ангел, но не примечательно ли, что Демон Лермонтова пока еще не в аду:
То не был ада дух ужасный, Порочный мученик – о нет! Он был похож на вечер ясный: Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет.Итак, Демон – вовсе не князь тьмы, он похож на вечер ясный и не принадлежит ни мраку, ни свету (Интересно, подозревала ли Наталья, что она в этом затрагивает манихейскую проблематику своего двоюродного брата Питирима, заранее полемизируя с ним?) Любопытно, что в ад Демон может попасть лишь вместе с Тамарой, вернее, туда попадет Тамара за свою любовь к Демону, а Демон готов ей сопутствовать как верный возлюбленный. «А наказанье, муки ада?» – робко спрашивает Тамара. «Так что ж? Ты будешь там со мной», – решительно обещает Демон, но происходит как раз обратное: Тамара уступает любви Демона и попадает в рай: «Она страдала и любила – и рай открылся для любви!» («Любви к кому?» – иронически вставляла Атала, напоминая таким вопросом Марину Цветаеву. Кстати, «Марина» – точная анаграмма имени «Ариман», вестернизированная форма персидского имени Ангро-Манью, он же и есть князь тьмы. Как не покончить самоубийством, когда прочтешь свое имя таким образом?) Итак, Тамара, возлюбленная Демона, в раю, а Демон «один, как прежде, во вселенной без упованья, без любви». Итак, Тамара в раю ценой любви… и ценой измены, а Демон был готов последовать за ней даже в ад. Атала заканчивала свое сочинение гностической легендой. (Впоследствии к ней обратится Мережковский, когда будет писать о Лермонтове.) Прежде всех времен, когда Денница восстал против Бога, одни ангелы остались верны Богу, другие предались Деннице. Одни в раю, другие в аду. Но были и такие, кто не присоединился ни к Богу, ни к дьяволу Эти ангелы заселили мир. Они люди или демоны, что одно и то же. Им предоставлена возможность сделать выбор между тьмой и светом. Вот почему Демон «ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет». Тамара могла спастись только вместе с ним, и неизвестно еще, не обернется ли для нее рай адом.
Нина Герасимовна могла бы счесть это сочинение романтическим бредом экзальтированной девицы, но она прочитала, задумалась и, кажется, что-то вспомнила. С тех пор на верховых прогулках крестной и крестницы начало твориться что-то странное. Время от времени княгиня позволяла себе даже, по выражению того же Лермонтова, оскорбить свою лошадь ударом хлыста, чтобы первой доскакать до заветного поворота, где она когда-то обещала своей крестнице явление Демона. Можно было подумать, что крестная мать стремится оградить свою крестницу от соблазнительной встречи, но не норовила ли она встретиться с Демоном сама, первая, как ей уже случалось? Вероятно, Атала так и думала. Она тоже прибегала к хлысту, чтобы не отстать от княгини, и нередко вырывалась вперед, рискуя сорваться в пропасть. За поворотом обе они вдруг резко останавливались, и каждая ревниво вглядывалась в разгоряченное лицо другой, как бы ища на устах и ланитах соперницы следов чего-то. Любопытно, что эти дикие скачки изнуряли скорее младшую, чем старшую. Горничная стала докладывать барыне, что барышня не спят по ночам, все свечку жгут, а заснув, страшно взвизгивают или болезненно стонут. Нина Герасимовна пыталась расспрашивать свою крестницу, здорова ли она, но Наталья или ничего не отвечала, или односложно отнекивалась. Она только вспыхивала, когда заходила речь о том, чтобы показаться врачу, и категорически заявляла, что совершенно здорова. Тем не менее княгиня решила все-таки пригласить врача к обеду, предупредив его, в чем дело. За обедом опытный доктор долго присматривался к Наталье, а оставшись наедине с княгиней, осведомился, сколько барышне лет. «Семнадцать», – ответила княгиня. «Что ж вы хотите, – улыбнулся доктор, – замуж пора, хоть это и не принято так рано в вашем кругу. Горская кровь играет. Сами понимаете…» И княгиня вспыхнула не хуже своей крестницы, приняв последние слова проницательного доктора на свой счет.
Между тем здоровье Натальи ухудшалось на глазах. Она буквально таяла, как свечка. Горничная докладывала барыне, что барышня не только не спит по ночам, не просто стонет во сне, а часами рыдает, да так, что в соседней комнате уснуть невозможно. И княгиня снова попыталась вызвать Наталью на откровенный разговор. «Зачем ты скрываешь от меня, доченька, что тебе неможется?» – спросила княгиня, положив руку на пылающий лоб крестницы. Та только пожаловалась на душный вечер. «А по ночам тебе каково?» – настаивала княгиня. Наталья потупилась. «Почему бы просто не сказать: меня терзает дух лукавый?» – вполголоса знахарской скороговоркой произнесла крестная. И Наталья закрыла лицо руками.
На другой день Нина Герасимовна стала собираться в дорогу. Она давно намеревалась посетить некоторые монастыри, в их числе старообрядческие скиты, и предложила своей крестнице ехать с ней. Наталья тотчас же согласилась. Известно, что их путешествие продолжалось несколько месяцев. Не сохранилось никаких сведений о том, где они побывали за это время. Наконец они приехали в один из последних скитов, сохранившихся близ озера Светлый Яр прямо-таки на пороге невидимого града Китежа. В этом скиту Нина Герасимовна со своей крестницей задержались недолго, а когда княгиня все-таки засобиралась домой, Наталья выразила желание остаться в скиту.
Нина Герасимовна не знала, что и подумать. Сначала она предположила, что это очередная попытка подражать лермонтовской Тамаре: «Пусть примет сумрачная келья, как гроб, заранее меня». Но нельзя было не заметить, что здоровье ее крестницы заметно поправилось в скиту, и непривычный суровый климат не только не повредил ей, но, напротив, кажется, вылечил ее. Прекратились ночные взвизги, всхлипывания и рыданья. Наталья отходила ко сну и вставала на ранние богослужения вместе с другими сестрами. Она даже работала то на скотном дворе, то на кухне, куда игуменья пошлет, словом, так вжилась в скитский устав, что Нина Герасимовна предположила, не собирается ли она в монахини, но игуменья мать Агриппина разуверила ее. Дескать, пусть поживет, сживется со святыней, вреда от этого не будет. «И из нашего скита замуж выходят, еще как выходят, – убеждала княгиню игуменья. – Званья она у вас не дворянского, хоть воспитана по-благородному, а к нам женихи приезжают весьма богатые и образованные, поскольку мы в моду входим, не говоря уже о спасении души. Теперь и купцы не прежние. Всего попробовали, а нынче в народ пошли. Им теперь старину подавай. Кто книгами нашими интересуется, кто иконами, а кто красавицами. Глядишь, и до такой красоты охотник выищется. Поезжай, княгинюшка, спокойно домой, а Наталья пусть у нас поживет, худому не научим». И княгиня отбыла по первому санному пути к себе в Екатеринодар, а Наталья осталась в скиту.
Более всего Нина Герасимовна опасалась, как посмотрит Василий Евдокимович на монастырские наклонности дочери. Тот действительно нахмурился, но промолчал. У казаков-старообрядцев не было обычая посылать дочерей на воспитание в скиты, но Василий Евдокимович уже примирился с тем, что Наталья – отрезанный ломоть. Авось крестная ей зла не пожелает. В глубине души Василий Евдокимович не имел ничего против того, чтобы одна из его дочерей пошла в монастырь, конечно, лучше бы после замужества, если овдовеет, не дай Бог. Обе старшие хариты были уже просватаны, а у Натальи все не как у людей. Одна мысль поразила Василия Евдокимовича: ведь эдак он больше никогда не увидит Наталью. Что, если она больше не приедет на Кубань, не ехать же ему куда-то за Волгу, хозяйство не отпустит. И он действительно больше никогда не увидел Наталью. Прошла зима, и княгиня получила письмо от игуменьи Агриппины. Как только растаял снег, Наталья пропала, ушла из монастыря, никому не сказавшись.
Нина Герасимовна не отважилась известить об этом Василия Евдокимовича. Она наскоро собралась и уехала будто бы за Натальей. В скит она попала лишь через месяц: в тот год особенно бурно разлились реки, и потаенные старообрядческие пути сделались непроезжими. Когда Нина Герасимовна ворвалась наконец в келью игуменьи, та не отвечала, пока княгиня не сотворила положенные метания и не приняла благословения. Потом игуменья спокойно сказала, что узелок развязывается и о беглянке имеются сведения. С этими словами она протянула Нине Герасимовне письмецо, написанное, как водится у старообрядцев, тайнописью или тарабарской грамотой. Княгиня не умела читать ее, и, снисходительно улыбнувшись, мать Агриппина сама бегло прочла ей письмо. Писал игуменье некий Зотик и сообщал, что Наталья в Петербурге и за ней присматривают, как было велено. «Остальное до вас не касаемо», – тихо улыбнулась игуменья, убирая письмо в свой кипарисовый ларец. Как только Наталья сбежала, были задействованы все налаженные старообрядческие узы, узлы и узелки связи, чему не мешала никакая распутица: даже через болота, непролазные по весне, по особым гатям и тропам доходил срочный скитский «стафет». Через несколько дней выяснилось, что Наталья благополучно добралась до Москвы, где взяла билет на Петербург. Зотик писал уже из Петербурга. Он сообщал адрес меблированных комнат, где остановилась беглянка. По его сведениям, Наталья была вполне здорова, искала себе работы и нашла ее: давала уроки французского языка в купеческих семьях, по-видимому, не без участия Зотика, о чем Наталья не должна была знать. Княгиня возмутилась, как же девушку не уберегли, не удержали ее, не вернули, коли известно, где она находится. Игуменья только головой покачала: «Не маленькая, чай, девица взрослая, образованная, умница-разумница, знает, что делает. Перемелется, мука будет». Игуменья говорила все с той же тихой улыбкой, и трудно было понять, что слышится в ее речах: утонченная иноческая ирония над мирскими страстями или своего рода сочувствие, то ли вообще к любому бегуну, то ли именно к данной своенравной девице. (Не была ли сама игуменья из таких? Кто знает, не предвидела ли она, что через три десятка лет Наталья вернется в скит, и сама станет игуменьей, а при большевиках уйдет со своими подначальными сестрами в дремучую сибирскую тайгу, где пропадет без вести?) Когда княгиня ревниво спросила, не сбежала ли Наталья с кем-нибудь или к кому-нибудь, игуменья вновь головой покачала. Зотик извещал, что Наталья живет одна, блюдет себя строжайшим образом, ни в каких любовных шашнях не замечена. Тем более насторожилась княгиня. Она заподозрила в загадочном поведении Натальи не просто участие, но соучастие старообрядцев, некие тайные их происки, о которых всегда ходило столько слухов. Не предназначалась ли Наталья, свободно говорящая по-французски, для некоего старообрядческого посольства или подрывных козней? Княгиня не осмелилась высказать вслух этих подозрений, но игуменья прочла их как в открытой книге. «Самой бы тебе в Питер съездить, – предложила она княгине вдруг. – Сама во всем и убедишься. Адресок я дам тебе».
И дней через десять княгиня была уже в Петербурге, где остановилась в недорогой гостинице. Она полагала, что игуменья дает ей адресок меблированных комнат, где живет Наталья, а попала она в скорняжную мастерскую Зотика. Зотик оказался фигурой неоднозначной: приземистый коренастый мужичок с окладистой бородой, но, приглядевшись, можно было убедиться, что борода у него ухоженная, да и сам мужичок себе на уме, политичный, а главное, знает, как обходиться не просто с барынями, но и со светскими дамами. Он вызвался сам проводить княгиню, но только издали показал дом, где квартирует Наталья. Наталья не должна была знать о том, что она под присмотром. «Вы не сомневайтесь, они дома-с», – заверил княгиню предупредительный провожатый, прощаясь с нею. На лестнице изрядно пованивало. Княгиня поднялась на третий этаж и неуверенно постучалась в дверь. «Кто там? Войдите», – отозвался девичий голос.
Наталья, кажется, ничуть не удивилась, когда порог ее комнаты переступила Нина Герасимовна. Княгиня втайне от самой себя готовилась к экзальтированной сцене встречи, но такой сцены не последовало. Княгиню поразила подчеркнутая сдержанная угловатость ее воспитанницы, раньше ей совсем не свойственная. Наталья категорически отрицала самый факт своего бегства. «Просто уехала, и все», – с наигранной твердостью сказала она, хотя в ее голосе что-то при этом дрогнуло. Наталья заверила Нину Герасимовну, что непременно сама написала бы ей и отцу не сегодня, так завтра, просто хотела большей определенности в своем положении. «А то первое время писать еще было не о чем», – спокойно присовокупила она. Впрочем, у княгини было немало оснований принять сдержанность Натальи за настороженность. Наталья так и не спросила княгиню, откуда та узнала ее петербургский адрес. (Любопытно, что буквально через несколько дней она этот адрес переменила.)
Княгиня не могла не спросить свою воспитанницу, чем вызван ее отъезд, и Наталья просто ответила, что приехала в Петербург учиться. «Так и передайте тятеньке», – добавила она, и в речи ее прорвался характерный говорок казачьей девки. На дальнейшие вопросы Наталья ответила, что ей надоело быть дармоедкой-захребетницей, которая с жиру бесится, и что она бесповоротно избрала для себя путь разумного труда. «Где же ты собираешься учиться?» – беспомощно спросила княгиня. Наталья с такой же простотой ответила, что хочет выучиться на акушерку. Княгиня была ошеломлена и шокирована натуралистической прямотой подобного ответа. «А изящная словесность? А философия? А музыка?» – пролепетала она. Наталья отрезала, что все это предназначено для развлечения сытых и богатых паразитов. Княгиня взглянула на книги, аккуратно расставленные в Натальиной комнате, и еще больше удивилась. Это были исключительно книги по естественным наукам и по медицине, все книги на французском и на немецком языках, только на столе перед Натальей лежала статья Писарева под названием «Мыслящий пролетариат». Нина Герасимовна никогда не читала Писарева, но кое-что о нем слышала и не удержалась от вопроса, неужели Наталья, следуя заветам Писарева, навсегда откажется от чтения Пушкина. В ответ Наталья разразилась негодующей филиппикой против эластических слов, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла. Нина Герасимовна догадалась, что Наталья цитирует Писарева, но все равно вздрогнула, когда ее воспитанница назвала Пушкина «возвышенным кретином». А Наталья с отвращением повторяла:
Душе противны вы, как гробы. Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры Бичи, темницы, топоры; – Довольно с вас, рабов безумных! —и рекомендовала выгравировать это невероятное пятистишие золотыми буквами на подножии того монумента, который благодарная Россия, без сомнения, воздвигнет из своих трудовых копеек своему величайшему поэту. Но были у Натальи и свои наболевшие аргументы против Пушкина. Она развенчивала Пушкина за то, что он злостно исказил, опошлил стих Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». У Пушкина «владыка дней моих», как будто речь идет о барине, владеющем днями своего крепостного человека, каковым и был Пушкин со своей дворянской спесью (разве слова «дворянин», «дворовый» и «придворный» происходят не от одного корня в русском языке?). А какова снисходительная, сибаритствующая спесь в стихах:
Но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которую священник повторяет Во дни печальные Великого поста; Все чаще мне она приходит на уста.Поистине это гастрономическое благоговение, как будто вместо множества божественных молитв клубный гастроном изволит дегустировать разные яства, постные и скоромные. (Нина Герасимовна вспомнила, что ее крестница и прежде недолюбливала Пушкина. Словесник-семинарист, помнится, показывал ей Натальино сочинение, где едва ли не в тех же выражениях сопоставлялось стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны» с церковным стихом Ефрема Сирина.) Наталья отвергла Пушкина во имя исконного древлеправославного благолепия, на котором была воспитана. (Недаром еще Ломоносов писал о пользе книг церковных.) Старообрядческая кровь вопияла против обмирщения церковного слова, в чем другие могли видеть пушкинский ренессанс или возрожденчество. В Натальиных выпадах против Пушкина шестидесятническая писаревщина причудливо сочеталась с интонациями и духом старообрядческой начетчицы, которой Наталья почти уже стала в скиту Наталья гордо называла себя нигилисткой, но в таком случае первыми, исконными нигилистами на Руси были старообрядцы, и если бы Аввакум прочитал Пушкина, он написал бы что-нибудь подобное тому, что написал Писарев. В Аввакуме угадывается Писарев, но и в Писареве говорил Аввакум.
Нине Герасимовне было больно осознавать: Наталья взбунтовалась против Пушкина, чтобы порвать с пушкинской изысканной культурой, а вернее, с ней, с княгиней. Строптивая Темрюковна, злая раскольница, не пожелала быть ее двойником, ходячим зеркалом, решила жить по-своему, как самой княгине не удавалось. И опять в душе Нины Герасимовны шевельнулась ревность. «А как же он, как же Демон?» – прошептала она. Наталья неприступно молчала, будто не слышала. «Ав Бога-то… в Бога ты еще веруешь?» – пролепетала Нина Герасимовна. Наталья все еще молчала. Нина Герасимовна подняла глаза и в углу над книжной полкой увидела старинную икону Божьей Матери. Этой иконой она в свое время благословила свою крестную дочь, наказав никогда с ней не расставаться. «Дам тебе я на дорогу образок святой», – прошептала княгиня. Наталья молча поцеловала ей руку. «В деньгах-то ты не нуждаешься?» – спросила княгиня, направляясь к дверям. «Не беспокойтесь, матушка. Я не нуждаюсь. Я заработаю», – твердо ответила Наталья.
Вряд ли можно предположить, что уже в это время Наталья давала уроки Демьяну Чудотворцеву. По всей вероятности, их знакомство состоялось несколько позже, во всяком случае уже после отъезда Нины Герасимовны. Нигилизм обязывал Наталью отрицать искусство, в чем его предписания опять-таки совпадали со старообрядческими, так что Наталья со спокойной совестью могла предпочитать анатомический театр театру драматическому или тем более оперному. Но занятия на курсах не позволяли Наталье жить в строгом затворе. Она не могла не общаться со своими нынешними единомышленниками или единоверцами, а те вовлекали ее в свои кружки. Правда, ни друзей, ни подруг у Натальи так и не появилось, и на собраниях кружков она по большей части сидела молча, хотя предполагалось, что она вот-вот выступит с докладом о стихийном социализме казачьего быта. Тем охотнее Наталья выполняла другие поручения: разносила литературу, переводила заметки из французских газет (эти анонимные переводы распространялись среди петербургских мастеровых; так, между прочим, среди них курсировала информация, вернее, легенда о Парижской коммуне). Но особенно охотно Наталья посещала больных. В таких посещениях обнаруживались сильные стороны ее натуры. Давало себя знать и казачье воспитание, полученное в раннем детстве. Никакое дело не валилось у нее из рук. Всегда собранная, немногословная, она действительно умела помочь и утешить. Очевидно было, что в этом ее призвание, и ничем другим она не собиралась заниматься всю жизнь. (Не это ли оценила мать Агриппина в скиту, поверив в Наталью раз навсегда?) Но однажды к Наталье обратились с необычным поручением. Руководство акушерских курсов попросило ее вручить букет певцу Демьяну Чудотворцеву, дававшему в Павловске благотворительный концерт в пользу нуждающихся курсисток.
Как известно, сама Наталья себя к нуждающимся не причисляла, не просила и не приняла бы помощи ни от кого. В крайнем случае она устроилась бы сиделкой в какую-нибудь больницу, но пока она успешно кормилась уроками французского языка, спрос на которые возрастал. Но не будучи нуждающейся сама, Наталья хорошо знала, как нуждаются ее подруги из бедных мещанских или даже из крестьянских семей. Наталья была уверена: они-то и станут акушерками, они-то и будут работать там, где вместо акушерок безграмотные, правда, иногда очень опытные повивальные бабки. Поэтому Наталья сразу, хотя и не без смущения согласилась и, только уже выйдя на улицу, вспомнила, что ей не в чем пойти на концерт, где, вероятно, соберется светское общество. Лиловое платье стоило Наталье всех ее сбережений, а уже надевая его, Наталья подумала, что платье светской дамы тоже не совсем вяжется с целями благотворительного концерта. Но было уже поздно. Наталья и так вошла в зал, когда Чудотворцев уже пел «На воздушном океане». Опера Антона Рубинштейна «Демон» тогда могла еще считаться новой. В доме княгини Наталья училась музыке, и при редких наездах в Москву и в Петербург, куда княгиня брала ее, бывала в опере. При всем своем нигилизме Наталья не могла не интересоваться оперой Рубинштейна хотя бы потому, что это был «Демон». И вот сейчас она услышала голос Демона, узнала этот голос, как ей показалось. Тем более придирчиво попыталась Наталья отнестись к вокальной стороне исполнения. У Чудотворцева был бас, но бас, которому доступны очень высокие, едва ли не теноровые ноты. Другой певец не удержался бы от соблазна щегольнуть широтой своего диапазона, но Чудотворцев как бы весь исчезал в стихии музыки, переставал существовать как отдельное актерское «я». Удивительной особенностью его пения была непостижимая способность петь верхние и нижние ноты одновременно, так что один критик-эрудит охарактеризовал пение Чудотворцева вторым пунктом Изумрудной Скрижали: «Quod est inferius, est sicut (id) quod est superius, et quod est superius, est sicut (id) quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius» («То, что внизу, таково же (что) и наверху, а то, что наверху, таково же (что) и внизу, осуществляя чудо единого»). Таким образом, фамилия Чудотворцев обретала неожиданное, таинственное подтверждение в раскрытии своего смысла. Голос Чудотворцева доносился как бы издали, даже если он стоял прямо перед вами. При этом он не пел отдельные ноты, он пел сразу все произведение, чем манера его исполнения разительно отличалась от итальянского бельканто. Словом, Наталья действительно услышала Демона и вгляделась в него лишь тогда, когда он кончил петь.
Внешность у Демьяна Чудотворцева была тоже вполне демоническая. Как и его сын Платон, он был очень высокого роста и тоже слегка сутулился, так что ему пришлось исправлять осанку, когда он поступил на сцену Чудотворцев был худощав, с чрезвычайно длинными руками, которые могли уподобляться крыльям, когда он взмахивал ими. Бросался в глаза контраст между концертным фраком и буйной гривой пепельно-белокурых волос, напоминающих духовное лицо и одновременно опровергающих подобное сходство, поскольку трудно себе представить демона в рясе. Предположение невероятное, но мне хочется думать, что инокиня Евстолия (в миру Наталья) в своем скиту могла прочитать стихотворение Блока:
Есть демон утра. Дымно-светел он, Золотокудрый и счастливый. Как небо, синь струящийся хитон, Весь – перламутра переливы. Но как ночною тьмой сквозит лазурь, Так этот лик сквозит порой ужасным, И золото кудрей – червонно-красным, И голос – рокотом забытых бурь.Наталье пришлось сделать усилие над собой, чтобы подойти к Демону и отдать ему букет. При этом ей запомнился не столько взгляд его глаз, мглисто-голубых, сколько прикосновение его пальцев, горячих и цепких, когда он взял у нее букет поздних осенних роз, гармонирующих с ее лиловым платьем.
А через несколько дней Наталья получила по городской почте письмо от Чудотворцева. В письме Демьян Чудотворцев почтительно обращался к высокочтимой Наталье Васильевне с просьбой о возможности брать у нее уроки французского языка по цене, которую она соблаговолит назначить, а также сообщил свой адрес и время, когда его можно застать. Наталья хотела было сразу написать письмо с отказом, но вместо этого на другой же день пошла по указанному адресу. Наталья ожидала увидеть роскошные апартаменты, в которых обитает знаменитый певец, а оказалась она в меблированных комнатах, таких, как те, в которых жила она сама. Чудотворцев был дома. Он учтиво предложил Наталье сесть, исчез за ширмой и вышел оттуда в том же самом концертном фраке; очевидно, другого у него не было. Наталье понравилось, что Чудотворцев без обиняков перешел к делу. За границей он убедился, что его французский язык оставляет желать лучшего. Поэтому он и просит Наталью Васильевну проэкзаменовать его по всем статьям. Наталья предложила ему для начала почитать что-нибудь вслух, и Чудотворцев принялся читать книгу, лежавшую перед ним, прямо с того места, где она была раскрыта, и Наталья, полагавшая, что знает французский язык в совершенстве, почувствовала, что ей трудно следить за чтением. Ее знакомство с французской литературой заканчивалось де Местром и Шатобрианом, а Чудотворцев читал «Paradis Artificiels» Бодлера.
Наталья сразу поймала себя на том, что она не знает слова «Hachisch». (Слово «chanvre» – «конопля» – она, разумеется, знала, да и об опиуме имела представление как медичка.) Лишь постепенно, собравшись с мыслями, она сообразила, о чем идет в книге речь, хотя повествование и проблематика оставались для нее причудливыми. Наталья даже позволила себе прервать чтение вопросом, какие еще книги написал этот автор. Чудотворцев посмотрел на нее с удивлением. Он не представлял себе, чтобы кто-нибудь, читающий по-французски, не знал стихов Бодлера наизусть. Чудотворцев сразу же продекламировал «Correspondances», и Наталья навсегда запомнила строку: «Les parfums, les couleurs et les sons se repondent». Наталья снова была сбита с толку. Она подумала было, что «Paradis artificiels» – трактат по медицине, а его автор пишет, оказывается, такие чарующие стихи. Но, несмотря ни на что, в Наталье заговорило самолюбие, и она принялась исправлять произношение Чудотворцева, действительно хромавшее. Она заговорила с ним по-французски и убедилась, что изъясняется он с трудом, хотя читает свободно и, кроме Бодлера, прочитал бездну книг, особенно новейших, далеко обогнав ее в этом отношении. Наталья наконец отважилась спросить, где он изучал французский язык. «Где же, как не в семинарии», – ответил Чудотворцев и принялся рассказывать о себе. Демьян Митрофанович был сыном сельского священника и в семинарии не отличался никакими особенными талантами, кроме музыкального слуха и склонности к пению, но когда в старшем богословском классе у него прорезался голос, верзила Чудотворцев поставил своих учителей в тупик. Помнится, В.В. Розанов отмечал, что в Православной Церкви невозможен священник, у которого голос – бас, и диакон, у которого голос – тенор. Казалось бы, Демьяну прямая дорога в диаконы, но и для диакона его бас был необычен (с низкими и высокими нотами Чудотворцев еще не умел управляться, так как учился петь исключительно по-церковному). Отец ректор советовал Чудотворцеву готовиться в регенты, опасаясь в глубине души, как бы не пришлось выпускать его дьячком или пономарем, поскольку трудно было себе представить, что непутевый Демка при всем своем артистизме сможет руководить хором. Но тут произошло непредвиденное. Чудотворцева услышал Мефодий Трифонович Орлякин и увез его сначала в Москву, потом в Петербург и, наконец, за границу, чтобы учить музыке.
В том первом разговоре с Натальей Демьян говорил об Орлякине с осторожностью как о своем благодетеле и старался избегать некоторых подробностей. Я в своем описании этой легендарной фигуры вынужден буду пойти дальше Чудотворцева. Мефодий Орлякин происходил из коренного старообрядческого купечества. Сам он настаивал на том, что фамилия Орлякин происходит от слова «орляк» (вид папоротника, цветущего, как известно, в ночь на Ивана Купалу и открывающего клады), но о его фамилии ходили совсем другие слухи. Говорят, что был в свое время на Волге разбойник Терентий, по прозвищу Орляка. Он орлом налетал ка баржи, и от этого-то Орляки ведется богатство и самая фамилия Орлякиных. Мефодий унаследовал от своего рано умершего отца огромное состояние. Едва достигнув совершеннолетия и освободившись из-под надзора опекунов, Мефодий задурил, зажил не путем. Его опекуны не возражали, если бы малый просто кутил, даже проматывая деньги (перебесится да за ум возьмется). Но Мефодий увлекся балетом не как зритель, пусть даже ухлестывающий за танцорками. Мефодий вздумал ни много ни мало заделаться балетмейстером и попытался сам ставить балеты, да еще за границей, что для солидного старообрядца ни в какие ворота не лезло. При этом затрачивая огромные деньги, Мефодий быстро добился некоторого признания и даже успеха. В балетном мире на него обратили внимание как на явление экзотическое (Мефодий ставил свои фантасмагории исключительно на музыку русских композиторов), но не лишенное некоего дикого артистизма. К тому же готовность истратить невероятные деньги заставляла считаться с Орлякиным. Встреча с молодым Чудотворцевым побудила Орлякина пересмотреть свои балетные замыслы или отложить их на будущее. Правда, сам Орлякин утверждал, что балет органически впишется в синкретическое «Действо о святом Граале», где центральную партию будет петь Демьян Чудотворцев, ибо только его голоса не хватало до сих пор для осуществления этого замысла, от которого, быть может, зависит дальнейшая судьба христианского мира.
Демьян рассказывал, что Орлякин представил его Вагнеру, убеждая великого мастера написать мистерию «Парсифаль» для его голоса, и Вагнер будто бы сказал, что подумает (впоследствии партия Парсифаля в известной опере Вагнера была написана все-таки для тенора). Пока Орлякину удалось свести Чудотворцева с Антоном Рубинштейном, и тот доверил ему исполнение партии Демона в своей опере, хотя постановочные замыслы Орлякина настораживали композитора как чересчур новаторские и просто несуразные. «Мне же пока надо утвердить себя на заграничной сцене, – сказал Чудотворцев, – в том, что касается французского произношения, я бы хотел положиться на вас, Наталья Васильевна». Наталья смущенно отнекивалась, признаваясь, что с певцами она не занималась никогда и вряд ли на это способна, но Чудотворцев доказывал, что музыка – его дело, а от нее зависит лишь беглость его речи и правильность произношения. Подтверждая, что он уже поет по-французски, Демьян начал было арию Валентина из первого действия оперы Гуно «Фауст», но в стену застучали: голос Чудотворцева, очевидно, тревожил соседей. «Как же вы здесь занимаетесь пением?» – участливо спросила Наталья. Демьян ответил, что для его репетиций Орлякин нанимает целый зал, а в этой комнатенке он только спит («согласитесь, Наталья Васильевна, для занятий французским языком она тоже подходит как нельзя лучше»). Чудотворцев не признался Наталье, что вообще живет он в роскошной квартире Орлякина, а эту грошовую квартирку нанял специально для свиданий с ней по секрету от своего покровителя, ибо еще неизвестно, как Орлякин посмотрит на его занятия французским с Натальей. Деньги на квартиру и на уроки Чудотворцев рассчитывал выкраивать из щедрых подношений Орлякина на карманные расходы. Выходя от Чудотворцева, Наталья сама удивлялась, почему она согласилась на эти уроки, но она согласилась.
А через несколько дней, придя на очередной урок, она застала в комнате поджарого невысокого человечка с рыжими волосами бобриком и рыжей бородкой клинышком. Он не шагнул, а прыгнул ей навстречу, весь упругий, пружинистый, как его волосы и бородка. Такой же пружинистой, сухой и жесткой оказалась его рука, которую он протянул Наталье. «Разрешите представиться: Арлекин», – приплясывал он на одном месте. Это был не кто иной, как Мефодий Орлякин, разведавший, куда время от времени исчезает его подопечный. Мефодий вежливо попросил у Натальи разрешения присутствовать на уроках, в которых он нуждается не меньше господина Чудотворцева, хотя говорил он с Натальей только по-французски, не говорил, а бойко тараторил, правда, произношение его тоже оставляло желать лучшего. Урок прошел в том, что говорил Орлякин. Наталья лишь время от времени исправляла явные ошибки в его произношении. Орлякин начал с того, что его фамилию во Франции сразу же начали произносить как «Арлекин», а он не только не возражал против этого, но даже на своих визитных карточках обозначал себя как «Arlequin». «А еще меня называют monsieur Methode, – приплясывал он перед Натальей, – и верно, я метода или метод, как вам больше нравится. Помните, как Полоний говорит о Гамлете: „Если это безумие, в нем есть метод. Вот и я метода в божественном безумии, которое охватывает поэта, как говорит божественный Платон“». Потом Орлякин прочитал краткую лекцию о самом слове «Арлекин».
– Представьте себе, я думал, что это имя происходит от названия города «Арль», прелестный город на юге, я без ума от него. Знаете, Ван-Гог писал брату: «Le soleil est le plus grand peintre», солнце – величайший художник, – перевел он зачем-то эту фразу. – Потом я прочитал у одного книжного червя, что арлекин – языческое божество германского происхождения и настоящее его «наименование» «Erlkoenig» – «Лесной царь». Балладу Гёте помните? «Du liebes Kind, komm geh mit mir», – пропел он на мотив Шуберта. – «Дитя, оглянися, младенец, ко мне…» Жуковский не передает ритм строки. Но теперь-то я знаю: имя «Арлекин» имеет арабский корень: аглик или аглякин. Это значит «большая дверь» или «спутанная речь». Так называли суфийских учителей. А чем я не суфийский учитель? «Спутанная речь…» Вот она метода в безумии! Я вертящийся дервиш.
Он действительно завертелся перед Натальей в странном танце, и Наталье вспомнилось, что слышала она о хлыстовских радениях. «Если он Арлекин, то кто же фавн?» – подумала Наталья, глядя на верхние кончики его ушей, казавшиеся заостренными. Но если Орлякин был фавном, этот фавн пренебрегал или даже брезговал нимфами, допуская их лишь постольку, поскольку нуждался в них для своих постановок. В своих беспорядочных монологах m-r Methode то и дело произносил имя Тамара, и Наталья подумала, что он обращается к ней, но потом не могла не убедиться: Тамарой Орлякин называет Демьяна Чудотворцева. Наконец, он даже хозяйским жестом погладил волосы Демьяна (так опытный наездник гладит гриву любимой лошади), и с волос Демьяна упала сетка, которую он тщательно прятал от глаз Натальи (то ли сетка сама упала от ласкового прикосновения, то ли Арлекин нарочно сорвал ее с волос своего Пьеро, но волосы Чудотворцева рассыпались совсем по-женски, правда, рассыпались не по плечам и не до пят, как у леди Годивы; тугим пучком они откинулись на спину; такой женский пучок волос мы видим на картине Врубеля «Демон (сидящий)». И вместе с женским пучком волос в безбородом лице Чудотворцева обнаружились жесткие, угловатые, но, несомненно, женские черты, столь заметные у врубелевского демона. Разумеется, Врубель мог видеть и наверняка видел Чудотворцева на его концертах. Присмотревшись, можно заметить и сходство врубелевского демона и его же Царевны-Лебеди. Это сходство женских черт нельзя объяснить лишь особенностями врубелевской живописной манеры. В «Пане» Врубеля нет ничего женского. Но чуть ли не через восемьдесят лет Анна Ахматова напишет в «Поэме без героя»: «Демон сам с улыбкой Тамары», как будто и она видела Демьяна Чудотворцева, погибшего за четырнадцать лет до ее рождения.
Даже если Наталья не признавалась себе в этом сама, выходя из комнаты Демьяна, она чувствовала, что вступает на привычную для себя стезю соперничества за Демона. Так раньше она оскорбляла хлыстом свою лошадь, норовя на всем скаку обогнать своего двойника, старшую Темрюковну, чтобы за поворотом первой поцеловаться с духом изгнанья. Не так ли она теперь через несколько недель обвенчалась с Демьяном Чудотворцевым, хотя Арлекин этого брака не одобрял и, насколько мог, противодействовал ему? Демьян преодолел сопротивление своего друга, и Арлекин был даже шафером на свадьбе своего Пьеро. Нечто худшее постигло Наталью. Отец проклял ее. Дело было не в том, что она венчалась в православной, великороссийской церкви. Спасово Согласие не только допускало такое венчание, но предписывало церковный брак. Василий Евдокимович не мог примириться с тем, что любимая дочь вышла замуж без его благословения, да еще за актера, да еще за нечистого духа, ибо представлять нечистого на сцене не значит ли быть нечистым? И Василий Евдокимович остался тверд в своем проклятии. При жизни отец и дочь больше не свиделись.
А Мефодий Орлякин как будто совершенно примирился с браком своего возлюбленного. Он даже стал давать ему больше денег, чем раньше. Молодые провели свой медовый месяц не за границей, а на Волге (по некоторым сведениям они даже посетили скит матушки Агриппины, и та оказалась снисходительней к Наталье, чем родной отец). Такое не совсем обычное свадебное путешествие объяснялось тем, что Орлякин бредил невидимым градом Китежем и включал сказание о нем в свое синкретическое действо за тридцать лет до того, как была написана опера Римского-Корсакова (не без тайного ли влияния вездесущего Арлекина?)
Но едва чета Чудотворцевых вернулась в Петербург, Мефодий объявил, что они с Демьяном должны срочно выезжать за границу, так как дело не терпит отлагательств. Речь шла о театре «Perennis», который по проекту Мефодия создавался в Пиренеях, так что некоторые уже переиначивали название театра в «Пиренейский», хотя само по себе оно означало «круглогодичный» или, точнее, «вечный». По словам Мефодия, театр создавался не более и не менее как на легендарной вершине Монсегюр, где находилась последняя твердыня альбигойцев. Впрочем, иногда Мефодий называл местопребывание своего театра твердыней Монсальват, где по древнему преданию хранится Грааль. С Граалем-то и было связано таинственное действо, которое подготавливал Орлякин. Он остерегался пускаться в подробности, но намекал на вполне реальное обретение Грааля, с которым связаны судьбы королевских и царских династий, правивших (правящих?) в христианском мире. К подготовке действа были якобы причастны отдельные представители этих династий. Поговаривали, будто интерес проявляет к ней молодой великий князь Константин Романов, скромно подписывавший в будущем свои стихи инициалами «К.Р.» В то время гардемарин Константин Романов плавал по Средиземному морю на винтовом фрегате «Светлана», и Арлекин намекал, что великий князь направляется таким путем именно в Пиренеи. Но особая роль в мистериальном действе отводилась Демьяну Чудотворцеву. Орлякин давал понять, что Демьян Чудотворцев сам имеет некое отношение к династии Грааля, хотя в головах не укладывалось, при чем тут попович Чудотворцев, и Арлекину ничего другого не оставалось, кроме как уйти от скользкой темы, ссылаясь на таинственные свойства чудотворцевского голоса. Не менее таинственным оставался вопрос, кто же пишет музыку к мистериальному действу. Тут Арлекин предпочитал хранить многозначительное молчание, а в самых тесных кругах распространял слух, что над музыкой втайне работает не кто иной, как Рихард Вагнер.
Демьян Чудотворцев должен был безотлагательно приступать к репетициям в Пиренеях. При этом Арлекин обещал, что они вызовут к себе Наталью, как только устроятся и обживутся. Молодую женщину нельзя было подвергать превратностям путешествия в неизвестность, поскольку только что определенно подтвердилась ее беременность.
Орлякин с Чудотворцевым уехали, и Наталья первое время регулярно получала от своего мужа письма. Все они были подписаны «твой Демон», и нельзя с уверенностью сказать, восхищала ее или коробила эта подпись. Потом письма стали приходить все реже и реже и наконец прекратились совсем. Сперва Наталья объясняла про себя молчание Демьяна его занятостью на репетициях, затем ревниво заподозрила тлетворное влияние Арлекина, окончательно завладевшего своей беззащитной добычей. В конце концов совершилось ужасное. Кратким письмом Мефодий Орлякин известил Наталью, что ее муж Демьян Чудотворцев погиб от несчастного случая в Пиренеях, где и похоронен. Так и не удалось выяснить, что это был за несчастный случай. Как будто Чудотворцев во время ночной репетиции сорвался с горы и то ли сломал себе шею, то ли размозжил себе череп. В Пиренеях его похоронили, потому что жаркая погода все равно не позволила бы довезти тело до Петербурга. Рассказывали, впрочем, что измученный непрерывными репетициями Чудотворцев оступился, услышав из темноты голос Орлякина, зовущего: «Тамара! Тамара!»
Через некоторое время, не слишком скоро, в Петербург приехал сам Арлекин. Наталья была в это время на седьмом месяце беременности. Ей показалось, что Арлекина больше всего огорчает не смерть Чудотворцева, а решение Вагнера писать партию Парсифаля для тенора за неимением чудотворцевского баса. Так или иначе, она теперь зависела от Мефодия Орлякина, обязавшегося выплачивать ей весьма щедрую пенсию за мужа. Эту пенсию стареющий, разоряющийся Орлякин выплачивал и Платону Демьяновичу, пока тот не получил место ординарного профессора, выплачивал даже тогда, когда Чудотворцев уже был обеспечен купеческим приданым своей жены Олимпиады и был куда богаче Орлякина. Сын Демьяна Чудотворцева родился 18 ноября 1876 года и по настоянию Мефодия, напросившегося в крестные отцы, был наречен Платоном как следовало по святцам, но, очевидно, и в память о «платонической» любви Арлекина к Демону.
Глава седьмая НЕВОВИЧИ
ВООЧИЮ я увидел Платона Демьяновича впервые осенью 1955 года. Я учился на втором курсе педагогического института, и он пришел к нам в аудиторию заменить заболевшую преподавательницу В нашем институте целых три семестра преподавалась латынь, к общему неудовольствию студентов, не понимавших, зачем тратится время на изучение мертвого языка. Официально нас готовили к преподаванию немецкого языка в средней школе, но кое-кому удавалось пробиться и в школу высшую, в особенности в так называемые неязыковые вузы, главным образом технические, где преподавателю сдавали «тысячи», определенные отрезки адаптированного иностранного текста, не требовавшие особых лингвистических познаний ни от студентов, ни от преподавателей. Впрочем, некоторым удавалось устроиться на работу с языком, кому во Внешторг, а кому и в ТАСС. Вполголоса с завистью говорили о тех, кого взяли «туда», то есть в разведку. Поэтому латынь рассматривалась лишь как помеха для разговорной практики, которой только и придавалось значение. Второй язык был тоже немаловажен. Все рвались в группы, где изучают английский язык, и очень удивились, когда я удовольствовался французским. Я старался не показывать, что английский язык я уже недурно знаю, как, впрочем, и французский, да и немецкий тоже. Тетя Маша, учившая меня этим языкам, приучила меня скрывать познания такого рода как признак непролетарского происхождения и политической неблагонадежности. «Кто изучает иностранные языки, тот, значит, собирается бежать за рубеж, – предостерегала меня она. – А за это знаешь что бывает?» – «А если я хочу просто книги в подлиннике читать?» – спрашивал я. «То, что положено читать, уже переведено или переводится», – отвечала тетушка. «Но я как раз и хочу переводить книги с иностранных языков», – настаивал я. «Для этого нужен допуск», – загадочно говорила тетушка, сама занимавшаяся переводом с иностранных языков, правда, переводила она исключительно книги и статьи по сельскому хозяйству При этом языкам она меня все-таки учила, постоянно напоминая, что это, на худой конец, верный кусок хлеба. Тетушку вообще пугали мои интеллектуальные наклонности и, в особенности, мой круг чтения, в который она же сама меня, собственно, и вовлекла. Так она дала мне дореволюционное собрание сочинений Гоголя в одном томе, а я вместо того, чтобы удовольствоваться «Вечерами на хуторе близ Диканьки», взял да и прочел «Выбранные места из переписки с друзьями». Она же сама мне читала Евангелие по-славянски, когда мне было года два от роду а то и меньше. «Рассказывают же детям сказки», – отвечала она знакомым, когда те встревоженно качали головами, застав ее за подобным занятием. Мудрено ли, что единственным заядлым латинистом в нашем захудалом пединституте был я. Я интересовался не только латынью. Я читал уже и дореволюционные («запрещенные», – шепотом предостерегали меня) сочинения П. Д. Чудотворцева, но могло ли мне прийти в голову, что долговязый тощий старик в очках с толстенными стеклами, с редкими рыжевато-седыми волосами и есть «тот» Чудотворцев. То есть я слышал, что профессор Чудотворцев числится в штате нашего института, но уже несколько лет он разве что вел занятия по древнегреческому языку с несколькими аспирантами. Посторонних на эти занятия не допускали, да и проводились они по большей части на дому, в квартире профессора, что объяснялось его преклонным возрастом. Я, впрочем, знал, что Платон Демьянович со своими аспирантами читает неоплатоников и даже Дионисия Ареопагита в оригинале, но к такому чтению тоже надо было иметь допуск, а этот допуск давала лишь аспирантура по кафедре общей лингвистики, куда надо было еще поступить, на что надежды у меня было ничтожно мало; для поступления в аспирантуру требовали двухгодичный стаж практической работы в средней школе, а я хорошо помнил, сколько Чудотворцеву лет: на будущий год ему исполнялось восемьдесят.
Но как раз в тот день заболела наша латынщица Нина Павловна Розанова (помню, как она вздрогнула, когда я в коридоре спросил ее, не родственница ли она Василию Васильевичу; очевидно, она сразу сообразила, что речь идет об авторе «Опавших листьев», но тут же взяла себя в руки и спокойно ответила: «Розановы – фамилия такая распространенная»). И вот вместо нашей старушки Нины Павловны к нам в аудиторию вошел шаркающей походкой, но довольно бодро вышеупомянутый высокий старик, полуслепой или почти слепой и не совсем уверенно сказал, что сегодня ему поручено заменить уважаемую Нину Павловну. Оказывается, в этот день (никогда не прощу себе, что не запомнил, какого это было числа) проходило заседание кафедры, на которое случайно приехал Чудотворцев, и его действительно попросили провести занятие. Сама по себе такая просьба свидетельствовала об определенных либеральных новшествах, исподволь начавших уже распространяться после смерти Сталина. Ходили слухи, что чуть ли не треть Ученых записок нашего института будет отведена под публикацию новой работы Чудотворцева «Лира и свирель в народной культуре Древней Эллады». Но Ученые записки еще не вышли в свет, а живой Чудотворцев сидел перед нами за преподавательским столом. Признаюсь, я подозревал это, но все еще не решался поверить.
Преподаватели, подменявшие других преподавателей, обычно студентам не представлялись. Не представился нам и Чудотворцев, хотя отодвинул стул и сел за преподавательский стол как-то многозначительно, как мне, во всяком случае, показалось. Я подумал, может быть, он полагает, что его и так все знают. Конечно, я бы мог обратиться к нему по имени-отчеству: Платон Демьянович, но то ли повода не представилось, то ли я счел это неуместным, то ли просто не решился или решил не подводить его, если это действительно опальный Чудотворцев. С другой стороны, может быть, он приступил к занятиям слишком энергично, так что чуть ли не застиг врасплох нас, привыкших к мягким манерам нашей римской бабушки Нины Павловны. Чудотворцев предложил нам читать и переводить очередной текст из учебника, начинавшийся словами: «Roma condita est in Latio, in sinistra ripa fluvii Tiberis…» Когда первая же вызванная студентка перевела эту фразу: «Рим был основан в Лациуме на левом берегу реки Тибр», Чудотворцев покачал головой, то ли одобрительно, то ли скептически, то ли голова у него просто тряслась. Однако одним переводом Чудотворцев не удовлетворился. Он попросил студентку определить, какая форма какого глагола «condita» и улыбнулся уже явно иронически, когда она сказала: conditeo, conditi, condita. «Видите ли, милочка, – любезно отозвался Чудотворцев, – в латинском языке действительно имеется слово „conditio“, но означает оно „сдабривание“, то есть добавление приправ к тому или иному кушанью. От этого слова, если вам угодно, происходит слово „кондитер“, а латинское слово „conditor“, основатель или родоначальник, происходит от глагола „condo-condidi-conditum“. Отсюда и „condita“ (основана), так как „Roma“ по-латыни женского рода, скажем… ну скажем, как „Россия“». После этого работа над текстом шла своим чередом. Когда я прочитал и перевел свою фразу, Чудотворцев индифферентно кивнул головой. Но когда занятие уже близилось к концу, преподаватель вдруг встал, резко отодвинул стул, шагнул к доске, взял мел и крупными, несколько корявыми буквами написал на доске слово «Roma». «Будьте любезны, прочтите», – обратился он к нам. «Roma», – прочитали мы нестройным хором. «Что вы можете сказать об этом слове?» – спросил Чудотворцев. «„Roma“ значит „Рим“», – откликнулось несколько голосов. «А конкретнее», – продолжал спрашивать Чудотворцев. «Существительное женского рода», – откликнулась первая спрошенная студентка. «Прочтите это слово с конца», – предложил нам Чудотворцев. «Amor», – неуверенно протянул нестройный хор. «То-то и оно», – отозвался Чудотворцев, с непонятным удовлетворением потирая руки. «А кто мне переведет это слово?» – с вызывающей настоятельностью обратился к нам профессор. «Amor – бог любви», – ответил я почему-то неуверенно. «Или просто любовь, хотя это совсем не просто, никогда не просто, – подтвердил Чудотворцев с таинственной торжественностью. – Вот в этом, пожалуй, и заключается тайна римской истории, тайна, которую рекомендую вам запомнить. В некоторых семитских языках, а также… в древнебиблейском слова читаются справа налево, а не слева направо, как по-латыни. Название, вернее, имя Вечного города означает „любовь“. Это опять-таки просто и непросто. Древнее сказание, обновленное Вергилием, связывает судьбу Рима с Энеем, который был сыном троянца Анхиза и богини Афродиты, она же Венера, богиня любви. Через любовь nomen Roma возводится к Верховному Богу, а Бог, как известно, есть Любовь. (На этих словах Чудотворцев слегка осекся.) Обратите внимание: по-латыни „Roma“ женского рода, „Amor“ же мужского, а по-русски наоборот, „Рим“ мужского рода, а „любовь“ женского».
– Но позвольте! – вскинулся я, забыв поднять, как полагается, руку. – Но ведь по-русски «Рим» как раз мужского рода. Значит ли это, что с любовью соотносился лишь первый Рим Roma, а Третий Рим никакого отношения к любви не имеет? Не потому ли поэт сказал: «Смирится в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть»? (Я вовремя спохватился и не процитировал дальнейшего: «И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть», так как Чудотворцев приметно вздрогнул.) Разумеется, рядовому советскому преподавателю неоткуда было знать эти строки Владимира Соловьева. Но Чудотворцев не удержался и ответил мне:
– А вы вслушайтесь в слово «смирится». Какой, по-вашему, главный компонент в этом слове?
– Мир, – ответил я.
– Верно. А вы знаете, как пишется… как писалось слово «Рим» по старой орфографии?
Мне сразу вспомнилось название повести Гоголя «Римъ» в моем дореволюционном однотомнике, и я неуверенно ответил:
– Мне кажется, знаю.
– Тогда выйдите, пожалуйста, к доске и потрудитесь написать, – предложил мне Чудотворцев.
Неумение писать мелом на доске причиняло мне нестерпимые мучения еще в школе, а в институте мне постоянно напоминали, что я не смогу работать учителем, если не выучусь писать на доске. Тем не менее я написал еще корявее, чем Чудотворцев, но по возможности крупно, чтобы он мог прочесть: «Римъ». Помнится, я даже твердого знака не забыл. Чудотворцев одобрительно улыбнулся:
– Вот и славно. А теперь прочтите справа налево то, что вы написали.
– «Мир», – прочел я.
– Совершенно верно. Вот и ответ на ваш вопрос. Если «Roma» втайне обозначает «любовь», «Рим» обозначает «мир», не мip как вселенную, а мир как состояние народов, отсутствие войны. Заметьте, что такое значение слова мы находим в латинском «Рах Romana», мировое пространство, мiръ, если хотите (он накорябал это слово с «i» на доске), мip, говорю я, где установлен мир властью любви, то есть Рима. Итак, Третий Рим смиряется, смиряет, усмиряет. Чтобы установился мир во всем Mipe, нужно, чтобы Третий Рим распространился на весь мир. Заметьте, что между «мiром» и «миром» в произношении нет никакой разницы. Не в этом ли неосознанный, но тем более глубокий смысл орфографической реформы: мир во всем мире – это Третий Рим, который стоит, а четвертому не быть…
В это время зазвенел звонок. Занятия кончились, и студенты повскакали со своих мест. Разговор профессора со мной должен был казаться им заумной тарабарщиной, как сама латынь. В коридоре я подошел к Чудотворцеву и, все еще не отваживаясь назвать его по имени и отчеству, ни к селу ни к городу брякнул:
– Извините, но я читал «Бессмертие в музыке».
Чудотворцев пристально вгляделся в меня сквозь очки:
– А позвольте узнать, как ваша фамилия?
– Фавстов, – ответил я.
– Душевно рад вас видеть. – Чудотворцев сердечно пожал мне руку, как будто мы были давно знакомы, но не виделись много лет. Он удалился поспешно, насколько ему позволяла шаркающая старческая походка. Не заподозрил ли он в моих вопросах опасную для себя провокацию? Или, напротив, счел разговор со мной и вообще мое появление знамением новых либеральных времен, чему боялся поверить? Общаясь впоследствии с ним, я так и не добился ответа на эти вопросы.
«Похоже, это он», – сказала моя тетя Маша, когда поздно вечером я подробно описал ей нашего эпизодического преподавателя латыни. «Ты-таки встретился с ним», – добавила она, резким движением поправив пенсне, судорожно поджав губы и потянувшись к папироске, как будто без нее она уже не смогла бы разомкнуть губ. Все это означало, что я вторгся в область семейных тайн, а они делились на две категории: некоторые из них я должен был знать, но ни с кем никогда ни под каким видом не говорить о них. Так, например, категорически запрещалось говорить о том, что у меня дедушка расстрелян во время красного террора. Большую же часть семейных тайн не полагалось знать мне самому, и давнишнее знакомство тети Маши, как вообще нашей семьи, с профессором Чудотворцевым было из числа этих тайн. Тайны второй категории, наиважнейшие, открывались мне постепенно, иногда случайно, кое о чем я, в конце концов, догадывался сам, что иногда поощрялось, но чаще всего долго, а то и никогда не получало подтверждения. Так лишь перед тем, как подать бумаги в институт, я узнал, что моя тетя Маша, тетя Мамаша, как я все еще иногда называл ее, – собственно говоря, не тетя мне, а двоюродная бабушка, тетка моей матери, а судьба моих родителей неизвестна. Отца я вообще не помнил, а мать едва, как сквозь сон, припоминал, и до сих пор не могу с уверенностью сказать, что мне вспомнилось, а что приснилось.
Когда в теснейшем кругу наших мочаловских знакомых распространялся какой-нибудь сомнительный слух или, не дай Бог, сплетня, кто-нибудь непременно восклицал: «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна», и моя тетушка (я и впредь буду называть ее так) поджимала губы вышеописанным образом, хотя в данном случае это могло означать улыбку, и говорила: «Не княгиня, а княжна!» Моя тетушка (двоюродная бабушка) Марья Алексеевна действительно происходила из княжеского рода Горицветовых, полузабытого, как это обычно случается в России с родами действительно старинными, что, может быть, и к лучшему: иначе они были бы поголовно истреблены, если не при Иване Грозном, то при Петре Великом, а если не при Петре Великом, то при большевиках. Впрочем, истинно старинные роды России не напоминают о себе не потому что пытаются выжить во что бы то ни стало, а потому, что у них считается дурным тоном напоминать о себе и, возможно, для этого имеются также другие, тем более веские, ибо тайные основания.
Отец моей тетушки-бабушки полковник князь Алексей Горицветов был убит на русско-японской войне. Свою вдову (Екатерину Павловну) урожденную княжну Арсеньеву (князь Кеша доводился ей двоюродным братом) он оставил с двумя детьми на руках. Правда, сыну Александру шел уже пятнадцатый год, а Maшеньке едва исполнилось шесть лет. Александр учился в кадетском корпусе на казенный счет, а Машенькой занималась пока еще английская мисс, от которой девочка с поразительной легкостью научилась говорить по-английски. Французским и немецким языками с ней занималась мать. С английской мисс вскоре пришлось расстаться: вдовья пенсия не позволяла оплачивать ее услуги, а других средств к существованию у Екатерины Павловны не было. Имелись две десятины земли в Мочаловке и двухэтажная дача, где можно было жить и зимой, но все это не приносило никакого дохода. Липовая аллея уже была, но сад был только что разбит, а вокруг высились лишь знаменитые мочаловские сосны со своим целебным духом. Неподалеку от дома, постепенно размывая песчаный обрыв, текла речка Векша. Дачу в конце концов удалось сдать немецкому инженеру, не склонному обзаводиться недвижимостью в Московии, но любившему свежий воздух, а Екатерина Павловна наняла небольшую квартирку в Петербурге, чтобы быть поближе к детям: Marie тоже училась уже в Смольном институте. Однако в числе выпускниц (а то был едва ли не последний выпуск) ее не оказалось. Девочка быстро приобрела дурную репутацию в институте: говорила изысканные колкости наставницам и, как писала одна из них Екатерине Павловне, отличалась нездоровой любознательностью, которая и не довела ее до добра: ей было четырнадцать лет, когда у нее в дортуаре под подушкой нашли роман маркиза де Сада, то ли «Les infortunes de la vertu», то ли «La philosophie dans le boudoir». Разумеется, девицу с такими интересами поспешили удалить из Института, и мать не без некоторых усилий смогла устроить ее лишь в частную гимназию. Тем временем началась мировая война, и Александр пошел по стопам отца. В 1915 году поручик князь Горицветов пал смертью храбрых на Мазурских болотах, оставив двадцатилетнюю вдову Анастасию с дочкой Лизонькой на руках, которой не исполнился еще год от роду. «Семнадцатый год наступил с какой-то оглушающей быстротой, хотя и шестнадцатый не приведи Бог вспомнить», – говорила княжна Марья Алексевна. (Вспоминать, однако, пришлось всю жизнь.) «Слава Богу еще, что Александр на империалистической убит, – добавляла она с наигранной жесткостью, так хорошо мне знакомой. – Что с нами было бы, окажись он у белых, а иначе я себе не представляю…» Тут тетя мамаша по-своему поджимала губы или срочно закуривала. В семнадцатом году обе вдовы, старшая и младшая, естественно, лишились своих пенсий. И если уж говорить, кто у кого оказался на руках, обе они с трехлетней Лизонькой, моей будущей матерью, оказались на руках у девятнадцатилетней Машеньки.
К счастью, октябрь семнадцатого года застал их на даче в Мочаловке, а не в Петербурге, где революционные матросы просто могли бы выбросить их из квартиры на улицу, а до Москвы добраться с маленьким ребенком им вряд ли бы удалось. Так что, по крайней мере, крыша над головой была им обеспечена. А потом они самоуплотнились удачным оригинальным способом: уступили всю дачу сторожу, совмещавшему с этой своей должностью обязанности садовника, кухонного мужика и мастера на все руки, что было необходимо в примитивном загородном хозяйстве. Сторож Елистрат Касьянович был денщиком покойного князя Алексея и после его гибели остался верен княжескому семейству. Елистрат женился на своей односельчанке Аграфене, которая, в свою очередь, совмещала на даче обязанности горничной и кухарки, хотя княгиня Екатерина Павловна любила готовить сама, что, впрочем, не снижало, а скорее повышало требования к прилежной кухарке. (Ловлю себя на чрезмерном пристрастии к слову «впрочем», но не могу обойтись без него, так как только оно придает повествованию подчас необходимые нюансы.) У Елистрата и Аграфены было, если не ошибаюсь, пятеро детей, из которых двое умерло, так что поневоле пришлось оборудовать для проживания этой семьи избушку на курьих ножках, как ее называли. Собственно говоря, это была сторожка, куда бывшие господа и переехали. В этой сторожке, перегороженной на две комнаты печкой, причем печка не доходит до потолка, я и проживаю до сих пор, сдавая одну половину мадам Литли. В этой-то избушке бывшие господа проживали вчетвером: княгини Екатерина Павловна и Анастасия Николаевна, а с ними княжны Марья и Елизавета, которую уже тогда называли Веточкой. «Веточка Горицветова, маменька ваша, государь Иннокентий Федорович», – говорила вдруг ни с того ни с сего тетя мамаша и сразу же поджимала губы. Впрочем (опять неизбежное «впрочем»), численность княжеской семьи вскоре сократилась еще на одну голову. В незабываемом 1919-м умерла Анастасия Николаевна. «От брюшного тифа», – роняла Марья Алексеевна, явно избегая подробностей. Подозреваю, что моя юная бабушка покончила самоубийством, а тетя мамаша скрывала это от меня, опасаясь, не унаследовал ли я от бабушки такую склонность. Анастасия Николаевна хуже других переносила особенности нового быта, чувствовала, что никогда не приспособится к нему, считала себя лишним ртом в семье, а главное, ее тоска по убитому мужу со временем не притуплялась, а даже обострялась. К тому же ею неожиданно увлекся красный комиссар, случайно наведавшийся в большой дом, то есть к Петьке Кожухову, старшему сыну Елистрата. Петька Кожухов тогда уже вступил в комсомол и во всю делал карьеру (расстрелян в 37-м, будучи комдивом), но к бывшим барыням он относился хорошо, даже с каким-то благоговением. Избушка на курьих ножках среди рябин и черемух не привлекала пока внимания властей, но высокопоставленный гость Кожуховых заприметил в саду красавицу Анастасию и немедленно с пролетарской откровенностью выказал интерес к ней. Разумеется, у Анастасии его ухаживания не вызывали ничего, кроме отвращения, они могли только разбередить ее незаживающую рану, но, отталкивая ухажера, привыкшего побеждать, она могла навлечь репрессии на остальных обитательниц избушки на курьих ножках. С этим временем и совпадает ее смерть. Вероятно, она раздобыла где-то яд и отравилась, о чем втайне думала уже давно. Правда, отравиться тогда можно было и куском хлеба. Время было голодное, и бывшие барыни питались, главным образом, картошкой, которую уделяли им Кожуховы. Умирая, Анастасия вверила свою Веточку заботам тети Маши, и та, по-моему, до самой смерти сокрушалась, что не уберегла ее.
Но как раз после смерти Анастасии Машенька стала чаще отлучаться в Москву, оставляя маленькую племянницу на попечение бабушки Кэт (так Екатерина Павловна приучила внучку называть себя, чаще всего та звала ее просто «Кэт»: слова «бабушка» они обе избегали). Мать подозревала, что удочки роман, a Marie настаивала, что навещает подруг и вообще знакомых. На самом деле Маша металась в поисках работы, убедившись, что Веточку кожуховской картошкой не выкормишь. Ей не удавалось устроиться пишбарышней: тогда она еще не умела печатать на машинке (потом, правда, научилась), но, главное, поезда из Мочаловки в Москву ходили нерегулярно. Даже если была возможность ночевать, действительно, то у той, то у другой подруги, Машенька не решалась оставить мать и племянницу одних в избушке на курьих ножках даже на одну ночь. Маша искала надомную работу, и тут ей пригодились языки. Для начала она перевела какую-то революционную брошюрку с немецкого, потом перевела на немецкий язык воззвание к революционным рабочим, а когда выяснилось, что она переводит на французский и даже на английский, ей предложили было стать штатной переводчицей не то в Наркоминделе, не то чуть ли не в интернациональном издательстве, но все это, естественно, отпало, стоило девушке заполнить анкету. Но на переводчицу Горицветову уже был спрос, и для нее все-таки нашлась работа: перевод немецкой брошюры об унавоживании полей под картофель. Над этим переводом Машеньке пришлось попотеть. За неимением словарей она ходила по разным ученым в поисках консультаций, и тут ей по-настоящему повезло. Оказывается, в деревне Корешки неподалеку от Мочаловки организуется специализированный институт по изучению картофелеводства, и Машу взяли туда переводчицей с условием, что она будет переводить с трех языков и на эти языки. Правда, на работу приходилось ходить каждый день за пять километров, но Маша согласилась: ходила в свой картофельный институт едва ли не до самой смерти, да еще брала переводы на дом. Короткими зимними днями она выходила из дому и возвращалась затемно. Идти приходилось лесом и полем, так что барышня, не так давно бравшая уроки танцев, обзавелась валенками. Зарплаты все равно не хватало, и, вернувшись домой поздно вечером, Маша иной раз всю ночь напролет сидела за пишущей машинкой (в институте дали ей подержанную машинку напрокат) и спохватывалась, когда пора было снова идти на работу.
Как ни странно, Екатерина Павловна при этом нападала на дочь, форменным образом пилила ее за такой образ жизни. Отношения матери с дочерью давно уже не были безоблачными, по крайней мере, с тех пор, как Машеньку исключили из Смольного института за чтение маркиза де Сада, а то и раньше. Конечно, своенравная девица обладала настоящим талантом выводить мать из терпения, еще в Петербурге подолгу задерживаясь где-то после гимназии или бывая там, где, по мнению матери, бывать ей не следовало. И теперь мать подозревала ее в каких-то тайных, запретных романах с большевиками, ставила ей в пример покойную Тасеньку, покончившую самоубийством, лишь бы не уступить домогательствам Антихриста, а главное, попрекала дочь ее службой, при которой она не могла не сотрудничать с большевиками. Екатерина Павловна ставила ей в пример своих пожилых подруг, приторговывающих на Мочаловском рынке. Обычно они начинали с продажи фамильных драгоценностей, а как раз фамильные драгоценности Екатерина Павловна никогда в жизни не позволила бы продать. То она призывала кормиться трудом рук своих, неумело вскапывала огородик около избушки, но сама же забывала о нем, предоставляя его попечениям той же неутомимой Машеньки. Где-то в глубине души Екатерину Павловну мучило чувство вины, снедало беспокойство за судьбу дочери, все еще не пристроенной, упорно не выходящей замуж, хотя было за кого. Жених был вполне достойный даже с точки зрения княгини, но он вряд ли прокормил бы Машеньку, наоборот, приходилось подкармливать его самого. При этом Екатерина Павловна дряхлела на глазах и умерла, не дожив до шестидесяти лет. Перед смертью с ней буквально не было сладу. Она приходила в ярость, когда дочь садилась за рояль, а Машенька не могла жить, не играя на нем время от времени. Чаще всего играла она Шопена, Грига или Скрябина, иногда Чайковского. В ее исполнении я впервые услышал и «Картинки с выставки» Мусоргского. В свое время она могла бы стать профессиональной пианисткой, в чем заверял меня не кто-нибудь, а сама Марианна Бунина. Но мать этому воспротивилась: не к лицу-де княжне Горицветовой концертировать. Во всяком случае, моя тетушка-бабушка не продавала рояля ни при каких обстоятельствах, учила музыке и мою мать, и меня. Екатерина Павловна то пеняла дочери, что она своей игрой не дает уснуть ей, то упрекала ее, что она не хочет поиграть матери, а играет только своему Феде Протасову (так она называла моего будущего отца). Маша приводила к матери знакомых врачей, среди них были известные и очень опытные, они находили, что сердце у Екатерины Павловны, конечно, не в порядке, нервишки пошаливают, но ничего действительно опасного для жизни они у нее не находили. Только один старичок профессор вышел с Машенькой в сад (черемуха как раз вовсю цвела и благоухала), покачал головой и сказал: «Крепитесь, Марья Алексевна, ваша матушка больше двух недель не проживет», а в ответ на мольбу Машеньки о каком-нибудь лекарстве, прописал что-то вроде лавровишневых капель. И действительно, дней через десять Екатерина Павловна задремала днем, да так и не проснулась. Когда Машенька пришла с работы, ее мать уже лежала на смертном одре, как положено, и старая подруга читала над ней Псалтырь. Оказывается, ее внучка Веточка, присматривавшая за бабушкой в отсутствие тети, уже успела обегать всех врачей по соседству, но они только подтвердили смерть, и сразу же без зова пришла Софья Смарагдовна со своим Псалтырем.
Дочери оставалось только утешаться мыслью, что накануне мать исповедалась и причастилась. Откуда ни возьмись, к ним наведался отец Иоанн. (И на моей памяти он приходил нежданно-негаданно. Меня поразила настоятельность, с которой расспрашивает о нем мадам Литли, но в ее присутствии он не заходил ни разу, и я не могу ей сказать, откуда он приходит и куда уходит.) Отец Иоанн заходил к нам не очень часто и не так уж редко. Думаю, что не чаще и не реже заходил он и при жизни Екатерины Павловны. До церкви она вряд ли дошла бы, так как ближайшая была далеко: церкви тогда закрывались. Исповедоваться на дому входило в обычай, особенно если был знакомый священник. Тетя Маша рассказывала, что Екатерина Павловна сама попросила исповедать и, если можно, причастить ее. Отец Иоанн охотно согласился. Помню, как, навещая нас с тетей Машей, он непременно пил чай с медовым сотом. Долгое время мне казалось, что это он и приносит нам эти медовые соты, а первого апреля (по-новому четырнадцатого) на Марию Египетскую (тетушкины именины) непременно букетик синих и белых подснежников, а накануне Троицына дня вместе с пучком свежих березовых веток целый ворох лесных цветов и трав. Немало потребовалось времени, чтобы я убедился: к нам заходит не один старец, а два разных, правда, совершенно одинаковых с виду: оба высокие, статные (без малейшего намека на сутулость), каждый с длинной седой бородой и с кустистыми бровями, из-под которых светят ясные голубые глаза. И одевались оба одинаково: зимой в старый, но добротный бараний кожух, а летом в длинную хламиду, не в белоснежную, но все-таки белую. Наконец, я обратил внимание, что тетя Маша одного называет «отец Иоанн», а другого князюшка Муравушка или просто Муравушка. Этого второго я стал встречать на мочаловском рынке, когда подрос. Там он продавал гриб чагу, разные целебные травы и снадобья, когда в пузырьках, а когда в бутылках. Базарный люд и остальные мочаловские обыватели так и называли его: Фава (или Вава) Мурава. Говорили, что живет он в Лушкином лесу, в землянке с печечкой, от которой зимой в землянке очень тепло, даже жарко. Около землянки срублена банька, впрочем, это не совсем банька, а мастерская или лаборатория с перегонным кубом и змеевиком. Фаву Мураву подозревали даже в самогонокурении, время от времени забирали в милицию, но держали недолго: звонил кто-то сверху, и Мураву немедленно выпускали. Это объясняли тем, что снадобьями Муравы лечились люди, весьма высокопоставленные. Уверяли, что Мурава сам выращивает на потаенных лесных полянках овощи, питаясь преимущественно этими овощами. Была у Муравы в лесу и потайная пасека. Но, по правде говоря, никто не видел ни землянки, ни баньки-лаборатории, ни овощных или гречишных наделов. Зато я сам видел, как Мурава тут же на базаре раздает нищим деньги, вырученные за его снадобья.
И еще один гость частенько бывал у княжон Горицветовых, чуть ли не жил у них, так как случалось, что ему негде было переночевать, и тогда ему стелили на диванчике в смежной комнате, а тете с племянницей приходилось делить одну постель за печкой. Этого гостя звали Федор Аристархович Фавстов, и вся мочаловская интеллигенция (так после большевистского переворота стали назьюать бывших), как могла, пеклась о нем. У него было два прозвища: царь Федор Иоаннович и Живой Труп. Бабушка Екатерина Павловна вежливо называла его в третьем лице иногда и в его присутствии «Федя Протасов», но и с ее губ, может быть, чаще, чем следовало, срывалось: «Живой Труп», на что Федор Аристархович никогда не обижался, а если и обижался, то не показывал виду. Вообще говоря, такое прозвище шло к нему. Он был не такого высокого роста, как, по семейным преданиям, некоторые другие из Фавстовых, хотя и про него никто не говорил мне, что он среднего роста. Волосы у него были темно-русые (как говорят, светлый шатен), и отличался он болезненной худобой, что объяснялось не какой-нибудь хронической болезнью, а недостаточным питанием. Долгое время Федор Аристархович мыкался без всякого жилья, снимая угол или койку, когда что удастся, если были хоть какие-нибудь деньги; если же денег не было, то он гостил у тех или иных знакомых. Устроиться на работу мешала ему самая манера держаться (сразу было видно, что он молодой, но бывший), настораживало его отчество (Аристархович) и худшие подозрения подтверждались, как только он заполнял анкету. Но профессию он сумел приобрести, и увольняли его подчас не без сожаления, исключительно по соображениям классовой бдительности. Федор Аристархович был квалифицированнейшим корректором, а в эпоху, когда происходила ликвидация грамотности, как выразился один профессор, и не кто иной, как академик Щерба, говорил, что орфографическая реформа, упростив якобы правописание, подорвала его престиж и обрекла целые поколения на безграмотность, профессия корректора ценилась, как никогда, и корректорская работа перепадала Федору Аристарховичу даже там, где его не решались брать в штат, как, например, все в том же картофельном институте. «Хватит с нас одной княжны», – вздыхал заместитель по научной работе. При этом дело было даже не только в непролетарском происхождении, а также и в том, о чем бывшие напоминали друг другу шепотом: отец Федора Аристарховича Аристарх Иванович Фавстов был расстрелян большевиками.
Конечно, в кругу, к которому принадлежал Аристарх Иванович, расстрел не был редкостью, однако сам круг был настолько узок, что даже внешние наблюдатели о таких расстрелах помнили долго, быть может, потому что знать об этих расстрелах уже значило подвергать себя опасности. Хотя род Фавстовых слыл типичным захудалым и даже выморочным родом, Фавстовы либо принадлежали к придворной знати, либо сохраняли отношения с ней иногда вопреки собственной воле.
Вотчина Фавстовых осталась более или менее в области семейных преданий. На протяжении последних трех столетий все Фавстовы так или иначе служили. Мой дед Аристарх Иванович смолоду состоял на дипломатической службе. Он специализировался в области Скандинавии, незаурядный знаток ее истории, геральдики, языков. Долгое время он служил секретарем посольства в Копенгагене, затем был отозван с повышением в Петербург. Возможно, его карьера развивалась бы куда успешнее, если бы не пристрастие моего деда к ученым занятиям. Говорили, что он с удовольствием предпочел бы профессуру своему довольно высокому посту в министерстве с дальнейшими видами на будущее. Интерес к древнегерманским сказаниям сочетался у моего деда с неподдельной любовью к музыке Вагнера, которого он защищал от яростных, остроумных, но несправедливых нападок Фридриха Ницше (впрочем, это не мешало деду восхищаться и самим Фридрихом Ницше). Аристарх Иванович доказывал, что музыка Вагнера гораздо ближе к древнегерманским источникам, чем в последнее время под влиянием Ницше принято полагать. В тетрадях деда встречались любопытные разработки, прослеживающие отдаленное, но несомненное родство вагнеровских лейтмотивов с аллитерационным стихом «Старшей Эдды». В «Прорицаниях Вельвы» дед прочитывал любопытнейшие параллели с последними и будущими событиями, например с некоторыми обстоятельствами мировой войны, которая еще не начиналась. Странные аналогии, говорят, обнаруживались и с теорией вечного льда, принадлежащей Гербигеру, и чуть ли не с проблематичными высказываниями Адольфа Гитлера. Вероятно, дед обнародовал кое-что из своих нордических штудий, что вряд ли возможно удостоверить: весь архив деда был изъят при последнем обыске и то ли уничтожен, то ли строжайшим образом засекречен. Более или менее твердо я знаю только одно: исследования деда в области нордического мифа, истории и музыки сблизили его с Платоном Демьяновичем Чудотворцевым, причем настолько, что речь могла идти даже о дружбе. Впрочем, в ученом мире ходили только смутные слухи о трудах влиятельного чиновника, числящегося по Министерству иностранных дел. Когда фундаментальный труд Аристарха Ивановича впервые вышел в свет, пусть ничтожным тиражом, труд этот положил конец служебной карьере деда, хотя ему к тому времени исполнился едва пятьдесят один год. К 1913 году, когда должен был праздноваться трехсотлетний юбилей династии Романовых, Аристарх Иванович Фавстов опубликовал довольно объемистую книгу под названием «Империя Рюриковичей», в которой обстоятельно и убедительно прослеживал путь Рюрика (судя по всему, его настоящее имя Хререк) на Русь из Дании, где молодой воин бывал при дворе короля Карла Лысого. Насколько мне известно, дед впервые процитировал по этому поводу известные строки Вольфрама фон Эшенбаха, из его романа «Парсифаль». (Дед цитировал их в оригинале, а я отваживаюсь предложить мой стихотворный перевод:
Я расскажу тебе теперь, А ты, племянник, мне поверь Что движет рыцарями Храма, Которые не имут срама. Знатнейших отпрысков растят, Подолгу те у них гостят, И если столь земля грешна, Что государя лишена, Дарован будет государь, Граалью, как бывало встарь.)Дед полагал, что слово «Грааль» женского рода, и я следую в этом его трактовке. Таким знатнейшим отпрыском Аристарх Иванович считал Рюрика, дарованного Граалью грешной земле (она же велика и обильна, а порядка в ней нет). Это все могло бы быть очень мило и романтически трогательно, если бы не крайне радикальный окончательный вывод: легитимный государь Русской земли может происходить лишь из династии Рюриковичей, никакие соборы не правомочны менять порядок престолонаследования, а стало быть, Романовы являются, в сущности, династией узурпаторов. Аристарх Иванович тщательно прослеживал все бедствия, постигшие Россию от нелегитимного правления, вспоминал убийства, неоднократно постигавшие царей и царевичей из рода Романовых (Алексей, Павел, Александр II). Кстати, в таинственном царствовании Павла Аристарх Иванович усматривал некое провиденциальное исключение или даже возможность выйти из порочного круга узурпации, но эта глава не вошла в книгу и едва ли сохранилась. А главное, в заключительной главе своей книги Аристарх Иванович туманно, но недвусмысленно предостерегал Романовых от кровавой катастрофы и даже от возможного поголовного истребления династии, впадая, правда, в тон своих любимых нордических саг. Разумеется, такая книга не могла не произвести скандала в придворных кругах. Нашлись бдительные, услужливые доброхоты, не замедлившие положить книгу на стол перед царем и царицей. Реакция обоих была болезненной, но различной. Очевидно, Николай Александрович был глубоко обижен, задет, по-настоящему ранен книгой, но при этом и мистически встревожен. По-видимому, он предпочел бы затаить боль и не принимать никаких дальнейших мер. На этих мерах настояла Александра Федоровна, не скрывавшая своего гнева, быть может, в связи со слухами о том, что она была тайной вдохновительницей книги и подготавливала исподволь отречение своего супруга от престола в пользу сына сразу же после юбилейных торжеств. Аристарху Ивановичу было предложено от высочайшего имени незамедлительно подать в отставку, что он и выполнил беспрекословно. Но, оказывается, это вовсе не означало непоправимого разрыва с двором. В судьбу отставного дипломата Фавстова решительно вмешалась высокая покровительница, не кто иная, как сама вдовствующая императрица Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара. Аристарх Иванович давно принадлежал к ее интимному кружку говорили, что и в Петербург из Копенгагена был отозван по ее настоянию, так как она соскучилась по общению с ним. Предполагалось, что ей доставляет удовольствие безукоризненный датский язык Аристарха Ивановича, напоминающий вдовствующей государыне родину Между прочим, она выдала замуж за Аристарха Ивановича свою фрейлину Оленьку (Хельгу), и от нее родился единственный сын Аристарха Ивановича мой отец Федор Аристархович. Мария Федоровна не просто слушала, как Аристарх Иванович по-датски пересказывает древние саги, она нередко устраивала у себя в гостиной для самого узкого круга чтения его исторических трудов, хотя приближенные дамы мало что понимали в этих чтениях и откровенно скучали. Внимательно прочитав «Империю Рюриковичей», Мария Федоровна неоднократно беседовала с Аристархом Ивановичем наедине, допытываясь, кто же истинный наследник русского престола, дарованный Граалью, и как будто Аристарх Иванович был с нею откровеннее, чем с другими. После вынужденной отставки Аристарха Ивановича вдовствующая императрица не только не прекратила своего общения с ним, но, напротив, стала принимать его чаще. По ее настоянию сын Аристарха Ивановича Федор был переведен из Училища правоведения в Пажеский корпус, что, возможно, его и погубило впоследствии, а сам Аристарх Иванович получил пенсию по высшему разряду за особые заслуги и смог всецело предаться своим ученым занятиям.
Но усиленные ученые занятия не мешали Аристарху Ивановичу посещать Екатерину Павловну Горицветову, а посещения его, и прежде регулярные, даже участились после отставки. «Живу между Марией Федоровной и Екатериной Павловной, так сказать, между двух огней», – позволял себе несколько рискованно шутить отставной дипломат, правда, едва ли только не с глазу на глаз с одним из этих огней, с Екатериной Павловной; та в ответ хмурилась и одновременно невольно улыбалась. Оба огня были княгинями, причем вдовствующими, хотя одна из них звалась благочестивейшей государыней, а другая… На этот счет Аристарх Иванович имел свое мнение, и кое-кто из иных сверхвнимательных читателей полагал, что вычитал или вычислил его из «Империи Рюриковичей». Сама Екатерина Павловна изредка бывала при дворе, а с Марией Федоровной виделась даже несколько чаще; злые языки поговаривали вполголоса, что предметом их бесед был все тот же Аристарх Иванович, хотя лично я думаю, что не столько он сам, сколько его книга, но кто знает, может быть, наоборот, он сам. Отставка Аристарха Ивановича курьезно совпала с исключением будущей моей тети Маши из Смольного института. «Ну вот, милая мадемуазель, мы с вами оба отставные, – шутил Аристарх Иванович в своем стиле, – я отставной государственный муж, а вы отставная благородная девица». Неужели он подозревал, как сбудется его шутка в его собственной жизни и в жизни милой мадемуазели? Шутки Аристарха Ивановича в петербургских салонах с недавнего времени начали сближать с пророчествами князя Кеши. Екатерина Павловна ужасалась остротам Аристарха Ивановича, но в глубине души принимала их к сведению и ценила их, так как они ее успокаивали. «Понимаю, драгоценная княжна, почему вы держали маркиза де Сада под подушкой, – продолжал Аристарх Иванович, – родная душа, ничего не скажешь. Представьте себе: Франция, 1792 г., заря якобинского террора. Наш дорогой маркиз предлагает воздвигнуть надгробие – кому? Божественной Лаурег своей прародительнице, воспетой Петраркой. К сожалению, портреты Лауры не сохранились, но я не сомневаюсь: милейший маркиз был на нее похож, боюсь, что точная копия, и если бы Петрарка, увенчанный лаврами ради Лавра (не забудьте, Лаура есть лавр), так вот, если бы Петрарка заглянул в книги, написанные в Бастилии отдаленным потомком своей мадонны, он подтвердил бы, что и мадонна Лаура на него слишком похожа. Да и все причуды достойнейшего маркиза не с того ли начались, что священник спутал имена, нарек младенцу не то имя при крещении. Следовало назвать его исконным родовым провансальским именем Альдонс, а парижский попик возьми да и назови его Альфонс, Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. А вы представьте себе: маркиза нарекли Альдонс. Это был бы другой человек; думаю, он стал бы схимником, мучеником, если не католическим, то катарическим (альбигойским). Ведь имя Альдонс – это катарсис, что, надеюсь, подтвердит и Платон Демьянович. (Чудотворцев нередко заходил вместе с Аристархом Ивановичем в квартиру княгини Горицветовой и при этих словах своего приятеля с готовностью кивал.) – Кстати, имя Альдонс никого не напоминает вам? – продолжал Аристарх Иванович. – Как звали возлюбленную Дон Кихота? Дульсинея, говорите вы. Против этого нечего возразить, но настоящее-то ее имя Альдонса Лоренсо. Узнаёте нашего дражайшего маркиза (иногда его называют божественным) в Дульсинее Тобосской? А кто поручится, что у Лауры не было тайного катарического (катарсического, то есть очистительного) имени Альдонса? Кто же она, если не Дульсинея? А наш божественный маркиз – Дон Кихот и Дульсинея в одном лице, так что ему самое место под подушкой у нашей истинной Дульсинеи (он слегка кланялся в сторону княжны Мари). Сами посудите, как же в наш вырождающийся век не исключить из института благородных девиц Дульсинею, дочь Дульсинеи, она же Лаура, будь я Петрарка».
Согласитесь, Екатерина Павловна не могла не улыбнуться при этих словах.
– А что еще дедушка говорил, вы не помните, ma tante? – не мог удержаться я. У меня с моей тетушкой-бабушкой было непререкаемое правило: на людях я называл ее «тетя Маша» и говорил ей «ты», а с глазу на глаз обращался к ней непременно на «вы» и непременно называл ее «ma tante» или «tante Marie».
– Мало ли что он говорил. – Мария Алексеевна поджимала губы, пока не затягивалась очередной папироской. – Он же был говорун, в том же роде, что Петр Яковлевич Чаадаев и Федор Иванович Тютчев, тоже дипломат, mon enfant (до самой своей смерти она называла меня наедине «mon enfant», дитя мое, и только на людях «Инок», как меня звали все наши знакомые, и не только наши, но и мои, среди которых был народ со всячинкой, включая блатных). – Мало ли что он говорил. Он любил играть в слова. Например, maman, Екатерину Павловну, он называл Словараня или Сольвейг.
– Сольвейг, это я понимаю. А почему «Словараня»?
– Никто или почти никто этого не понимал. Между тем это так просто, – любил говорить он. «Словараня» – анаграмма имени «Ярославна». Ваш дедушка коллекционировал анаграммы. «Анаграммы – мои геммы», – говорил он. Помните: «Ярославна рано плачет Путивлю городу на забрале»? (Она процитировала «Слово о полку Игореве» наизусть.) И там же: «утру князю кровавые его раны на жестоцем его теле». Словараня – рань слова, его рана, и исцеление раны. Ярославна и Сольвейг – одно и то же имя.
– Одно и то же?
– Сольвейг – солнечный путь. Яр – солнце, слава – его сияние, свет, по-персидски хварно, харизма. Ярославна – Солнцевна. У нее алгарь-камень.
– Агарь?
– Может быть, Агарь отсюда же. Но ваш-то дедушка цитировал Вольфрама фон Эшенбаха:
Wirt jender herrenlos ein lant, Erkennt si da die gotes hantf So daz diu diet eins herren gert Vons grales schar, die sint gewert.Иногда он цитировал так, а иногда немножко иначе: «von algars schar». Надеюсь, вы понимаете, mon enfant?
(И теперь я иногда произношу про себя: «Дарован будет государь Алгарью, как бывало встарь».)
– Он и maman называл «princesse Сольвейг», а когда и мадам Алтарь. Но интереснее всего обследовал он небо…
– Астрономией дедушка тоже занимался? – спросил я, услышав об этом в первый раз, но и потом обязательно повторял этот вопрос, следуя нашему непререкаемому ритуалу.
– Астрологией. Да, занимался. И алхимией, кажется, тоже. Но то была не астрология. Он спрашивал, почему по-русски не говорят: «Да хранит вас Небо, да поможет вам Небо», и когда мы с maman не знали, что сказать, сам объяснял. По-русски «небо» недаром напоминает «небыль». Бога так не назовешь. Русское «небо» родственно немецкому «Nebel» («туман»). А в старинном произношении «Nebel» было «Nibel», и отсюда Нибелунги, Тумановичи или Небовичи. При этом он слегка кланялся в мою сторону, иной раз даже расшаркивался передо мной и добавлял: «Так-то, Мария Небовна. Что, если вы не только Дульсинея, но еще и Кримгильда, кроме всего прочего?» Только, на мой вкус, уж слишком он всем этим небесным злоупотреблял, как все вы, Фавстовы, Небовичи… Обидно даже…
Тут Мария Алексеевна поджимала губы до следующей папироски, но и затянувшись, резко меняла тему. Со временем я предположил и почти уверился в том, о чем tante Marie никогда не говорила: регулярные визиты Аристарха Ивановича к Екатерине Павловне не были простой вежливостью. Он рано овдовел, и у Екатерины Павловны были известные основания ждать с его стороны более решительного шага, хотя бы объяснения, если не предложения, которое она, по всей вероятности, отклонила бы, но не прочь была выслушать. Во всяком случае, смутная надежда годами грела сперва молодую, потом не очень молодую вдову Но намеки на объяснение если и были, то безнадежно терялись в куртуазных любезностях Аристарха Ивановича, и он вдруг спешил откланяться, а Чудотворцев оставался, и Аристарх Иванович едва ли не уступал ему место, что должно было втайне особенно задевать Екатерину Павловну. Не говоря уже о том, что Платон Демьянович в то время был женат, он имел большой успех у женщин, был избалован женским вниманием и привык ждать от женщины первого шага. Как раз тогда ходили слухи об его очередном скандальном романе с балериной, и Екатерина Павловна, наслаждаясь интеллектуальным блеском чудотворцевской беседы, чувствовала себя оскорбленной. Пусть она несколько старше Чудотворцева (между нами говоря), но какого же мнения о ней Аристарх Иванович, если он с такой легкостью, так упорно подвергает ее изощренным искушениям нового Клингсора, а сам отказывается от нее. Когда она впоследствии называла Феденьку Фавстова Живым Трупом, не брала ли она задним числом реванш над его отцом, сама же себя упрекая за это? Потребовалось немало времени для того, чтобы я начал догадываться, до какой степени ma tante Marie разделяла чувства своей матери, унаследовав не только ее душевный склад, но и ее несостоявшийся роман с мучительным продолжением.
Между двух своих огней (не забудем, что Марии Федоровне было тогда за шестьдесят, а Екатерине Павловне за сорок, но, по словам Аристарха Ивановича, огни, зажженные Локи, не гаснут до конца мира), итак, между своих двух огней Аристарх Иванович готовился к своему очередному интеллектуальному подвигу За несколько дней до начала мировой войны Аристарх Иванович представил в Министерство иностранных дел обширную записку, меморандум, вернее, по своему обыкновению, целый трактат. В двух словах смысл трактата сводился к тому, что ближайшее будущее России и, более того, ее историческая будущность зависит от союза Российской империи с двумя другими империями христианского мира: с Германской и Австро-Венгерской. Англию и Францию Аристарх Иванович объявлял ненадежными союзницами или даже скрытыми противницами России, которые поставили себе целью не допускать ее возвышения. Аристарх Иванович настаивал на том, что Англия и Франция видят особую угрозу для себя в золотом российском рубле, подрывающем экономическое всевластие паразитического банковского капитала. Аристарх Иванович связывал рост банковского капитала с распространением инфляции в мире, в которой особенно заинтересованы Соединенные Штаты Америки, превращающие Францию и Англию в свой протекторат, чтобы в конце концов превратить в Соединенные Штаты или присоединить к ним весь мир. В бумажной валюте, которую непрерывно уничтожает и вновь порождает ростовщическая инфляция, Аристарх Иванович видел всемирное фальшивомонетничество, узакониваемое республиканскими, демократическими режимами, что в конечном счете является их подлинной целью. В этой связи Аристарх Иванович прибегал к поэтическому иносказанию, указывая на конфликт между иудиным серебром, вложенным в спекуляцию земельными участками и впоследствии обумажненном сначала в виде векселей, потом в виде купюр, и золотом нибелунгов, которое исчислялось по системе, разработанной тамплиерами, за что тамплиеры и были уничтожены Филиппом Красивым, вождем тогдашних демократов. Тогда-то Франция и Англия и превратились в скрытые республики, как Соединенные Штаты, в сущности, являются скрытой империей, чей принцип – нелегитимность. Естественным продолжением всемирной инфляции должна стать мировая война, ведущаяся технически вооруженными карликами с целью присвоить и обесценить золото нибелунгов. Только легитимная монархия имеет право чеканить истинную золотую монету, заверенную Царем Небесным Иисусом Христом: «Воздайте кесарево кесарю…» Аристарх Иванович указывал на особую роль императора Павла I, начавшего восстанавливать в России твердую валюту, за что он и поплатился жизнью, а в его убийстве отчетливо прослеживаются происки Англии: инфляция и цареубийство – две руки одного и того же злого гения, причем обе руки левые. Пресловутая l'entente cordiale – тайный военно-финансовый союз, направленный против России с ее твердой самодержавной властью и с твердой золотой валютой. Не противоестественно ли, что сама Россия входит в союз, направленный против нее? Три великие империи христианского мира должны заключить открытый союз против Антанты, подрывающей основы легитимной государственности. Иначе все три империи погибнут, воюя друг против друга, подстрекаемые интригой лукавых карликов.
Я смотрел фильм Иштвана Сабо «Дело полковника Редля» и вспоминал забытый всеми (или, может быть, не всеми?) меморандум-трактат моего деда. Полковник Редль, безраздельно преданный австрийскому императору, не поехавший на похороны отца, чтобы участвовать в параде, который должен был принимать император, оказался шпионом, работавшим одновременно на немецкую и русскую разведку. Когда это обстоятельство открылось, офицерский суд принудил полковника Редля застрелиться. Его агентурную деятельность обычно объясняют гомосексуальными наклонностями, что приписывают также оксфордским интеллектуалам, работавшим на советскую разведку. Иштван Сабо искусно маскирует свою трактовку полковника Редля. Его образ многозначен, что делает честь художнику. Для меня же практически нет сомнений: этот полковник славянского происхождения руководствовался тою же идеей, что Аристарх Иванович Фавстов. Он верил в союз трех империй, служил ему, как умел, и пролил за него свою кровь. Право, я иногда думаю, не Аристарх ли Иванович склонил его к сотрудничеству, по крайней мере, с русской, а может быть, и с немецкой разведкой, хотя у меня нет никаких доказательств, подтверждающих контакт между ними. Неужели полковник Редль заглядывал в рукопись моего деда?
Я уже упоминал о том, что меморандум Фавстова поступил в Министерство иностранных дел за несколько дней до начала мировой войны. Говорят, что меморандум лежал на столе у государя в час, когда государь узнал, что война объявлена. Не под влиянием ли этого меморандума Николай Александрович пытался остановить войну, когда узнал, что на стороне Австро-Венгрии в нее вступает Германия? Несомненно, Николай Александрович был оскорблен трактатом «Империя Рюриковичей», однако, зная натуру государя, можно предположить, что тем чувствительнее он оказался к аргументам политика, отважившегося на такую мистическую откровенность, и сама неутихшая боль от оскорбления не приглушила, а, напротив, обострила чуткость государя к подобным предостережениям. Но мировая война началась, и остановить ее было невозможно.
В путаных пророчествах Распутина отчетлив был один момент: замирение с Германией. Неужели и в этом угадывается влияние Фавстова? Я напрямик спрашивал тетю Машу возможно ли такое, и она только кивнула в ответ. До поры до времени она упорно не произносила имени Распутина, сколько я ни заговаривал о нем. Но Распутин был убит, а война привела к большевистскому перевороту, чуть было не написал, закончилась большевистским переворотом, но как раз Фавстов доказал, что мировая война не кончается. При Временном правительстве от Аристарха Ивановича все отвернулись, он же был противником Антанты, а на нее возлагались официальные надежды. Зато при большевиках возник негласный, но нарастающий интерес к Фавстову.
– Он мог эмигрировать, но об эмиграции слышать не хотел, – обронила однажды tante Marie.
– Эмигрировать? А куда? – не удержался я.
– Прежде всего, в свою Данию, в любую скандинавскую страну. Но и любая страна той же самой Антанты приняла бы его с распростертыми объятиями. Знал он много, ничего не скажешь. Но он остался в России.
– Из-за Екатерины Павловны? Или… или из-за вас?
– Вы слишком много себе позволяете, mon enfant. Ему здесь предложили работу.
– Какую работу? Кто предложил?
– Вырастешь, Саша, узнаешь, – процитировала она Некрасова. Характерно, что эта строка из поэмы «Дедушка».
Кое-что я действительно узнал. О дедушке вспомнили, когда начались переговоры о заключении мира с Германией. Вспомнил о нем, по-видимому, Троцкий. Разумеется, и речи быть не могло о привлечении бывшего царского дипломата к подобным переговорам, но Аристарх Иванович тайно присутствовал за кулисами переговоров, чуть ли даже не в Брест его брали, но так или иначе концепция Брестского мира вырабатывалась не без его участия. Говорили, будто доверие большевистских идеологов к Аристарху Ивановичу вызвано «Империей Рюриковичей» (в этом термине ученые марксисты усмотрели будто бы цитату из Маркса). Уже тогда в новейших событиях пытались усматривать аналогию с французской революцией: Романовы-де, подобно Бурбонам, свергнуты и уничтожены как узурпаторы, что обосновано как раз «Империей Рюриковичей». Слухи эти находили подтверждение в цареубийстве, но Аристарх Иванович до него не дожил. Недели через три после заключения Брестского мира его расстреляли. Конечно, расстрел мог объясняться и происхождением, и прежней карьерой, и политическими воззрениями Аристарха Ивановича, но само сцепление событий заставляет предположить, что Аристарх Иванович Фавстов расстрелян за его роль в германо-российских отношениях и его расстрела потребовала чуть ли не сама эта роль.
Семнадцатилетнего Федю весть о смерти отца застала на улице. Аристарх Иванович отсутствовал несколько дней, но не было даже уверенности в том, что он арестован. Кто знает, может быть, его затребовали наверх для дальнейших консультаций, которые действительно могли иметь место, но закончились… расстрелом консультанта, – по-своему высокая, даже высочайшая оценка его деятельности. Неизвестный доброжелатель посоветовал Феденьке не возвращаться в квартиру, проводил его на вокзал и посадил в московский поезд. Возможно, это спасло Федю, но все, что было в петербургской квартире Аристарха Ивановича, пропало безвозвратно. Пропала библиотека с редчайшими изданиями, пропал архив, хотя у меня такое чувство, что где-то все это бережно хранится, и по запутанным следам дедова архива я как законный наследник до сих пор иду; правда, я ни на что не вышел, но подозреваю, не заглядывает ли в этот архив иногда тот же Всеволод Викентьевич Ярлов со своими референтами из ПРАКСа. Разумеется, пропала и квартира. Когда Федя через несколько лет наведался в Петербург, он убедился, что квартира теперь коммунальная и трудно даже определить, в каких комнатах жил он с отцом. Итак, Федя оказался в Москве, в чем был, и в своем все еще элегантном пальто нагрянул в Мочаловку к Екатерине Павловне Горицветовой. Та приютила его на несколько ночей, но дальнейшая жизнь в этом сугубо дамском гнездышке была невозможна, что понимал и сам Федя. Какое-то жилье подыскал Елистрат Касьянович, но Феде нечем было платить за это жилье. У него не было ни профессии, ни образования. Не писать же в анкете: «неоконченный Пажеский корпус». К физическому труду Федя был органически неспособен. Это был рыхлый темно-русый юноша среднего роста, изрядно отощавший, но проявляющий врожденную склонность к барственной дородности, как только питание хоть чуточку улучшалось, даже если, скажем, ему давали вдоволь картошки. Федя не унаследовал от отца лингвистических наклонностей, хотя как истый питомец Пажеского корпуса «по-французски совершенно мог изъясняться и писал». Но французский язык вышел из моды сразу же после Октября, так что не было спросу даже на частные уроки французского. На худой конец, Феденька мог давать и уроки немецкого, но в Мочаловке такие уроки давали слишком многие, а в Москве, вдали от княгини и княжны Горицветовых, он не мог найти пристанища. Единственное, к чему он оказался пригоден, была корректорская работа, и Федю несколько раз устраивали в издательства, откуда его обычно увольняли, когда вдруг давала себя знать приверженность к старой орфографии, от которой Федя никак не мог отвыкнуть. Федя чувствовал в себе призвание поэта и все никак не мог понять, почему ни одна его строка не увидит света при большевиках, ведь он же против большевиков не пишет. У Феди Фавстова был грандиозный замысел: написать исторические хроники, но не из английской истории, как Шекспир, а из русской, вернее, представить в поэтических драмах всю русскую историю. Этим замыслом Федя будто бы поделился с великим князем Константином Константиновичем (он же К.Р.), прочитав ему отдельные сцены из драматического действа «Святая Ольга», и К.Р. благословил его на дальнейшее, как Державин благословил Пушкина. Мистерией «Святая Ольга» должны были начинаться исторические хроники Феди Фавстова, а заканчиваться они должны были «Старцем Григорием», где представлено убийство Распутина.
– Скажите, ma tante, а отец хорошо знал Распутина? – осторожно, а на самом деле весьма неосторожно спросил я.
– Хватит и того, что я его знала, – отрезала тетя Маша, замыкая себе уста спасительной папироской.
Тем не менее стихи отца я узнал именно от нее. Она знала их наизусть, выдавая своим чтением скрытое, но неискоренимое восхищение:
Сожгли дома, разрушили дворцы И разослали смерть во все концы. Старик Июль дышал медовым зноем: Разрушили дворцы. А что построим? Лишь статуя безмолвная немая, Ни радостей, ни горестей не зная, Наверное, навеки сохранит Сухую бледность мраморных ланит.– А что это за статуя? – простодушно спросил я.
– Неужели вы не поняли, mon enfant? – горько улыбнулась тетушка. – Статуя, c'est moi.
Я не решился расспрашивать дальше, но кое-что заподозрил. А моя тетушка-бабушка уже не могла удержаться.
– Представляешь себе (она даже сбилась на «ты»): этот человек, истинный поэт… по-моему (это значило, не столько «по моему мнению», сколько «на мой лад»), и этот поэт пытался найти общий язык с властью, Ахматовой начитался; она печаталась при них:
Твоя действительность неодолима; Ты жизнь, ты власть, позволь же мне и впредь Не забывать седые ночи Рима, Перед Элладою благоговеть. Идут на штурм разгневанные тени, Немые соглядатаи пиров, И я бросаю рукопись в смятенье, Зане дрожит в руке моей перо.Он думал, они купятся на неточную рифму «пиров-перо» и простят за это «зане». Ахматова тоже с ними сближалась через неточную рифму: «мелких-стрелки», «прячу-плачут». А это не изыск, это просто неряшливость. Оказалось, что и они точную рифму ценят. Никак не удавалось подобрать точную рифму к Ленину и Сталину. Брюсов, кажется, срифмовал «Ленин-тленен», а за такую рифму и расстрелять могли. И все-таки, какова рифма: пиров-перо! Не хуже точной, точная по-своему. Да и кому говорил он: ты жизнь, ты власть? Не к Ней ли обращался? Могла ли Она ему не позволить? Но ведь он и другое писал:
Европа далеко. Европа спит, А тут грозы весенней мусикия; В сырой траве, среди седых ракит Весенней ночью бодрствует Россия. В перипетиях роковой игры Одна Россия помнит откровенья, И вздрагивают сонные миры От вечного ее сердцебиенья.Она всегда замолкала, прочитав это. Очевидно, она считала Федора Фавстова гениальным поэтом. Вещим полушепотом она время от времени произносила:
Боги здесь. Богов убить нельзя. Божества былого стали снами. Осторожно, смертный! Боги с нами. Ближний мой! Темна твоя стезя.Я же среди стихов отца выделяю это стихотворение:
Замолчишь – и небу горячо. У тебя в устах благой глагол. Опираясь на твое плечо, Учится ходить старик Эол. Выворочен с корнем твой рассвет. «Это ветер?» – спрашивает бог. Отвечаешь ты слепому: «Нет. Просто чей-нибудь последний вздох!»Эти стихи я сразу запомнил наизусть со слуха и однажды повторил их при тете-мамаше, сравнив их с Гумилевым:
И Господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек.– Как вы можете сравнивать? – возмутилась tante Marie. – «Замолчишь – и небу горячо». Это Небович писал.
Еще раз повторяю: она считала моего отца гениальным поэтом. И сохранилось от него лишь то, что она помнила наизусть. Не знаю, относила ли она к себе эти строки:
А все это, кажется, было недавно: Сиринги, нарциссы, вино, фимиам. Дрожит на ветру обнаженная Дафна, Взывая о помощи к бывшим богам.Сомневаюсь, чтобы Федор Аристархович отважился посвятить их ей, но ведь Дафна – лавр, та же самая Лаура, а пассажи Аристарха Ивановича по поводу Лауры-Дульсинеи-Альдонсы оба они не могли не помнить. И почему вечно зеленое дерево обнажено? Или подразумевается сама нимфа, уклоняющаяся от любви Аполлона? Или она обнажена враждебным временем, когда взывать приходите я к бывшим богам? Во всяком случае, когда tante Marie читала мне эти строки, голос ее странно дрогнул, что вообще не было ей свойственно. Бесприютный поэт частенько ночевал у них на диване, так что тетушке приходилось спать в одной постели с племянницей. Случалось ему жить у них неделями, если не месяцами, да и в другое время он заходил к ним чуть ли не каждый день. Мария Алексеевна говорила, что для него всегда найдется тарелка супа и кусок хлеба. Я полагаю, она была глубоко уверена, что ходит он к ней. Они вместе росли, она была старше его едва на год, и у нее были все основания ждать от него чего-то, кроме стихов. Но вышло иначе. Однажды Федор Аристархович вошел к ней, держа за руку ее племянницу Веточку и не без некоторого смущения, но твердо попросил у тетушки ее руки, которую уже держал в своей. Тетушка сняла икону со стены и по старинному обычаю их благословила. Думаю, что ни одна жилочка не дрогнула на ее все еще прекрасном лице, но догадываюсь, что творилось в ее сердце. Именно тогда она, наверное, впервые поджала губы, чтобы затянуться папиросой, и с тех пор курила непрерывно, хотя до того времени лишь изредка баловалась табачком.
Федор Аристархович был старше Веточки Горицветовой почти на пятнадцать лет. Жизнь его к тому времени кое-как устроилась не без помощи бывших богов, а почему бы не причислить к богиням княжну Марью Алексевну? Она устроила его в конце концов корректором в издательский отдел все того же картофельного института, где ею слишком дорожили, чтобы ей отказать. Веточка сразу же после школы была принята на работу в картофельный институт лаборанткой. Я знаю о моей матери совсем немного и все равно со слов Марьи Алексевны. Веточка училась в школе прилежно, но без особого увлечения. Тетушка учила ее играть на пианино, но дальше домашнего музицирования дело не пошло. Никакими особыми талантами девочка не отличалась. Она очень любила танцевать и по вечерам бегала на Совиную дачу, где молодежь все-таки танцевала в самое мрачное время. Но у Веточки и в мыслях не было стать, например, балериной, о чем tante Marie в свое время всерьез подумывала. Веточка знала про Комальб, но нисколько не интересовалась идеями коммунистов-альбигойцев. Зато от бабушки Кэт внучка научилась превосходно готовить, в чем, по ее собственному признанию, тетя Маша никогда не могла с ней сравниться. А еще Веточка превосходно, вполне профессионально шила, и у нее было столько заказов от мочаловских дам, что она всерьез подумывала, не отказаться ли от работы в картофельном институте. «У нее было одно призвание – домоводство, – говорила tante Marie не без иронии. – Она была вся домашняя и замуж-то вышла за домочадца, потому что с детства привыкла к нему». До сих пор физически ощущаю длинные темно-русые волосы моей матери, рассыпающиеся по моему лицу Мне они напоминали волосы Девы Марии. Я читал, что и у Христа был такой же цвет волос: винно-ореховый.
Мне не исполнилось трех лет, когда я видел маму в последний раз. Дело в том, что отца арестовали за два месяца до моего рождения. Долго от него не было никаких известий; наконец, года через полтора пришло от него письмо. Федора Аристарховича Фавстова приговорили к ссылке на Енисей. Он жил в глухой деревне неподалеку от тех мест, где в свое время был в ссылке Сталин. Получив письмо от мужа, Веточка немедленно начала собираться к нему. Тетка противилась категорически, но Веточка ничего и слышать не хотела.
– Что же, она так и оставила меня? – спросил я однажды с невольной горечью.
– Это не она, это я оставила тебя себе, – отрезала тетя-мамаша.
Мама хотела непременно взять меня с собой к отцу, который никогда не видел меня. Мама не сомневалась, что везде проживет, в крайнем случае, шитьем. Тетка вырвала меня у нее чуть ли не из рук. Месяца через три от матери пришло письмо. Она действительно отыскала отца, и они кое-как устроились, но после этого письма писем больше не было.
Еще одно неизгладимое воспоминание моего детства: тетя-мамаша увела меня к другой тете, чьи волосы были так похожи на мамины; к тому же они были как будто обсыпаны липовым цветом, хотя липы уже отцвели. Дело было в конце августа. Нечего и говорить, что та другая тетя была Софья Смарагдовна. Она попросила меня непременно называть ее «тетя Софи», а никак не «тетя Соня». «Я не соня, – говорила Софья Смарагдовна. – Я вообще никогда не сплю». Когда-нибудь я попробую пересказать сказки, которые она мне рассказывала, когда тетя Маша ушла домой без меня. 23 августа 1939 года был подписан советско-германский договор, и тетя Маша за меня боялась, боялась, не отнимут ли меня у нее. «Вы помните, что сделали с его дедом, когда подписали договор с Германией двадцать один год назад?» – спросила тетя Маша у тети Софи. «Я все помню», – кивнула та. А писем от моих родителей так и не было. Лишь в 1956 году я узнал, что моего отца расстреляли на третий день после подписания германо-советского договора. «Как дедушку твоего», – обронила Марья Алексевна. А следы моей мамы так и затерялись в Сибири. До самой смерти тетя Маша время от времени принималась вдруг судорожно прибираться в нашем домике, ожидая, не появится ли на пороге ее Веточка.
Глава восьмая ЮБИЛЕЙ
ПРОШЕЛ год с тех пор, как я впервые увидел Чудотворцева, но никакого сближения с ним все еще не последовало. Правда, я теперь чаще встречал Чудотворцева в коридорах института и здоровался с ним, открыто называя его: «Платон Демьянович», но он рассеянно отвечал мне, как ответил бы любому другому студенту, и я не был уверен, узнает ли он меня. По всей вероятности, вряд ли: ведь он к тому времени почти ослеп.
Между тем вокруг фамилии Чудотворцев копились в институте слухи. Сразу же после двадцатого съезда партии, то есть ранней весной, вспомнили, что 18 ноября 1956 года нашему профессору Платону Демьяновичу Чудотворцеву («нашему» при этом загадочно, но тем более демонстративно подчеркивалось) исполняется восемьдесят лет, и просто нельзя обойтись без юбилейных торжеств. Тем самым наш скромный пединститут доказал бы, что и мы реагируем на решения двадцатого съезда и следуем линии партии. При этом и повод был патриархально-безобидный. В конце концов, профессор Чудотворцев был не из тех, кто только что по амнистии вышел из лагеря или вернулся из ссылки, а в институте объявились и такие. Конечно, в жизни Чудотворцева бывало всякое, но последние десять лет, как округляли некоторые, а другие возражали, что лет восемь-девять, он тихо и мирно числился у нас на кафедре классической филологии. Сгоряча собрались отмечать юбилей 18 ноября, но вовремя вспомнили: это же по старому стилю, это Платонов день, то есть именины Чудотворцева, церковный праздник, а день рождения Чудотворцева приходится на 1 декабря по новому стилю, и было бы неприлично приурочивать юбилейную конференцию к дню ангела (при этих словах институтское начальство заговорщически улыбалось и понижало голос).
Дело осложнялось еще и тем, что никто не знал, как проводить юбилейную конференцию, а никаких определенных указаний по этому поводу не поступало. Строго говоря, можно было бы справлять и другой юбилей: двадцать пять лет с тех пор, как была опубликована последняя работа Чудотворцева «Материя мифа», которую никто не читал, так как за чтение ее, говорят, сажали, как за чтение «Вех». На кафедре классической филологии никто не сознавался в том, что когда-нибудь читал даже специальные работы Чудотворцева, и, по всей вероятности, в подавляющем большинстве случаев так оно и было. Платон Демьянович занимался с аспирантами, но занятия-то были устные. Даже письменных отзывов на диссертации Чудотворцев не писал, что объяснялось его слабым зрением, затрудняющим процесс писания, хотя, с другой стороны, все знали: Чудотворцев пишет или, по крайней мере, диктует новые работы, его квартира забита рукописями, их десятки, может быть, сотни, и на вопрос, зачем он продолжает писать исследования или трактаты без всякой надежды напечатать их, он будто бы отвечал, что надеется на раскопки. Правда, после двадцатого съезда начала готовиться к печати новая работа Чудотворцева, но, очевидно, номер Ученых записок нашего института, где «Лира и свирель в народной культуре древних эллинов» должна была печататься, никак не поспевает к юбилею. Вопрос был в том, как проводить юбилейную конференцию по творчеству ученого, научных работ которого никто не читал, ибо они запрещены.
Ответ на этот вопрос напряженно искал заведующий кафедрой классической филологии нашего института профессор Игнатий Лукьянович Криштофович. Говорили, что он сыграл особую роль в жизни Платона Демьяновича, чуть ли не спас ему жизнь. Основным трудом Игнатия Лукьяновича был учебник латинского языка, рекомендованный для средних и высших учебных заведений, где латынь все еще преподавалась. Этот учебник, по слухам, был написан перед войной в соавторстве с Чудотворцевым, вернее, самим Чудотворцевым, едва ли не умиравшим с голоду без работы. По настоянию Игнатия Лукьяновича Учпедгиз даже заключил с Чудотворцевым договор на написание учебника, но имя Чудотворцева тогда не могло появляться в печати, и единственным автором учебника со всеми его переизданиями так и числился Игнатий Лукьянович Криштофович, отдававший, правда, гонорары за учебник Чудотворцеву или, во всяком случае, делившийся с ним.
Отлично помню этого приземистого пухленького господина с лучисто зеркальной лысиной, в которой, казалось, не могло не отражаться лицо собеседника, если бы собеседник позволил себе взглянуть на уважаемого профессора сверху вниз. Криштофович любил называть себя однокашником Чудотворцева (разумеется, в тесном кругу). Но даже в тесном кругу такое однокашничество вызывало недоумение и разногласия. Люди недалекие и не особенно близко знающие Игнатия Лукьяновича (например, кое-кто из приближенных к нему студентов) понимали это в том смысле, что Игнатий Лукьянович едва ли не ровесник легендарного Чудотворцева, но даже для меня уже было очевидно, что Криштофович моложе Чудотворцева, по крайней мере, лет на пятнадцать. Скорее подобное однокашничество могло означать, что оба они принадлежат одной культуре, то есть получили одинаковое образование. Криштофович не только закончил классическую гимназию, но даже и университет до большевистского переворота, хотя, конечно же, не одновременно с Чудотворцевым, чьи лекции он слушал, когда учился в университете. И еще один смысл мог быть у этого загадочного однокашничества. Оно могло означать также соавторство, так сказать, однокормушечность, вынуждающую однокашников, хочешь не хочешь, делиться гонорарами. С такой точки зрения однокашником Криштофовича и косвенно самого Чудотворцева оказывался я сам, ибо как раз в то время я работал над докладом «Фауст и прекрасная Елена». Эту тему доклада для студенческой научной конференции предложил я сам, и, хотя на кафедре склонны были считать ее слишком трудной для второкурсника, Игнатий Лукьянович поддержал меня и с тех пор начал продвигать в аспирантуру по несколько неопределенному профилю «История классической филологии». Со временем доклад мой превратился в статью, написанную мною на немецком языке (не без редактуры тети Маши) и опубликованную в ГДР, в академическом журнале, естественно, в соавторстве с И.Л. Криштофовичем. Таким образом, я вышел на академическую дорогу, как говорила в своем кружке ma tante Marie. Так или иначе, я оказался вхож на кафедру классической филологии и, работая над своим докладом в так называемом филологическом кабинете, получил возможность присутствовать при конфиденциальных переговорах и консультациях, которые проводил Игнатий Лукьянович по поводу все той же юбилейной конференции, посвященной Чудотворцеву.
В моем присутствии Игнатий Лукьянович подолгу советовался со своим клевретом и фаворитом по имени Григорий Богданович Лебеда. Характерно, что Лебеду Игнатий Лукьянович никогда не называл своим однокашником, хотя с ним он уж точно учился в киевской классической гимназии и в Московском университете. Вообще, куда ни приходил работать Игнатий Лукьянович, он приводил (переводил) с собою верного Лебеду. «Всю жизнь ем хлеб с лебедой», – шутил по этому поводу Игнатий Лукьянович. (Кстати, до конца тридцатых годов, то есть до присоединения Галиции, он именовался «Игнатий Люцианович», что говорило о польском или об униатском происхождении даже помимо фамилии Криштофович, и отчество Лукьянович появилось несколько неожиданно, но тем прочнее укоренилось вместе со своим носителем.)
Необычайное везение и высокий авторитет Игнатия Лукьяновича в преподавательских и академических кругах объяснялись не только его дореволюционной интеллигентностью и несомненным культурным лоском. Немалое значение для его карьеры имел брак с балериной, о котором знали все, хотя мало кто видел ее на сцене, а ее имя на моей памяти не произносилось публично никогда, и я сам случайно узнал, что зовут ее Елена (Хелена) лишь после того, как доклад мой превратился в статью и, обосновывая свое соавторство, Игнатий Лукьянович в доверительном разговоре со мной сослался на это существеннейшее для него обстоятельство. В самом деле, как не быть автором или, на худой конец, соавтором исследования о прекрасной Елене филологу, чью супругу зовут Елена?
Жена Криштофовича была то ли ученицей, то ли дальней, а может быть, и не такой уж дальней родственницей знаменитой в свое время балерины Аделаиды Ксаверьевны Вышинской. Этим обстоятельством и объяснялась благополучнейшая карьера Игнатия Люциановича (Лукьяновича) даже после того, как Аделаида навсегда уехала во Францию. Ее могущественный однофамилец и почти уже наверняка родственник А.Я. Вышинский не оставлял своим покровительством свою более дальнюю, но все-таки родственницу пани Хелену, тоже, говорят, в девичестве Вышинскую, хотя на ее девичью фамилию кое-кто позволял себе изредка намекать лишь после двадцатого съезда, да и тогда подобные намеки продолжали считаться дурным тоном в академических кругах, столь велик был страх перед грозным обвинителем на политических процессах тридцатых годов. При этом надо сказать, что Игнатий Лукьянович никогда не злоупотреблял высоким покровительством, и его собственная репутация была для своего времени почти безупречной, если не считать слишком уж безоблачного благополучия и страсти к соавторству Зато писание тайных доносов, например, за Игнатием Люциановичем не числилось, и он, занимая видные посты в научном мире, не только не подвел никого под арест, но даже брал на работу кое-кого из гонимых, расплачивавшихся, правда, с ним все тем же соавторством, что не уменьшало их благодарности к добродушному завкафедрой, а впоследствии проректору. И прозвище у Криштофовича было необидное: Штоф или Штофик. Это прозвище употребляли даже те, кто не знал, что штоф – десятая часть ведра и по штофам разливали зелено вино, а проще говоря, водку. «Шампанское по штофам не разливают», – сострил однажды вполголоса на банкете один пожилой профессор. И одевался Криштофович, как будто зная о своем прозвище, в костюмы бутылочного цвета, подобно положительным героям Диккенса, что придавало его лысине особый зеркальный блеск, и я не мог удержаться от навязчивой мысли: как в зеркальном черепе Сократа отражалась вещая чужестранка Диотима, так в донышке нашего Штофика, передвигающегося вверх дном, отражается прекрасная Елена.
Доклад мой предназначался для юбилейной конференции «по Чудотворцеву», как у нас говорили, где я должен был выступить от студенческого научного общества, но по мере того, как идея конференции все больше оказывалась под вопросом, будущая судьба моего доклада также становилась все более проблематичной, хотя Штоф продолжал давать мне руководящие указания. Так, он просил меня обойтись по возможности без упоминания «Матерей», без которых Фаусту не было доступа к Елене. «„Матери“ прозвучат на публичном заседании несколько двусмысленно, знаете, – вежливо втолковывал мне Игнатий Лукьянович, – да тут еще Мефистофель, черт, что ни говорите. Вот и получается не совсем по-гётевски: „к любым чертям с матерями катись!“ А „Фауст“ Гёте – все-таки не „Стихи о советском паспорте“. Эта штука посильней, чем „Фауст“ Гёте», – двусмысленно улыбался он. Кстати, Игнатий Лукьянович даже наводил справки где-то наверху, остается ли необходимой после двадцатого съезда цитата из Сталина в связи с Гёте. Четких директив по этому вопросу еще не было. «На усмотрение докладчика», – будто бы сказали ему, а докладчик, то есть я, определенно предпочел бы обойтись без этой цитаты. «Смотрите, как бы вам не напомнил о ней сам Платон Демьянович, – загадочно предостерег меня Штоф. – Он большой любитель цитат из Сталина». Этот идеологический нюанс также ставил Чудотворцевские чтения под вопрос. Внезапно по институту поползли слухи, что решения двадцатого съезда на самом деле вовсе не на пользу Чудотворцеву и что предстоит ему вовсе не реабилитация, а, напротив, разоблачение и, хуже того, развенчание как тайному апологету Сталина, разрабатывавшему и проповедовавшему некий оккультный культ личности. Признаюсь, я не понимал этого словосочетания. Оккультный культ казался мне лишь нелепой игрой слов, а в культе Сталина я не видел ничего, кроме принудительного рационализаторства на уровне блокнота агитатора, но ma tante Marie, услышав от меня словосочетание «оккультный культ», загадочно, но понимающе закивала головой. Вскоре я сам проникся проблематикой красного оккультизма, когда мне довелось присутствовать в том же филологическом кабинете при конфиденциальной беседе Игнатия Люциановича Криштофовича с Григорием Богдановичем Лебедой. Беседа напоминала тайный военный совет перед решающим боем, а на меня, занятого подготовкой все того же доклада, высокие собеседники не обращали внимания то ли потому, что не придавали моему присутствию никакого значения, то ли потому, что начинали мне доверять (быть может, для них это было одно и то же). Вернее всего, я стал уже для них разновидностью мебели, неизбежной в филологическом кабинете.
Из их разговора я начал уяснять сложившуюся ситуацию. Действительно, научную конференцию к юбилею Чудотворцева организовать не удавалось. Одни совсем не знали Чудотворцева, другие знали его слишком хорошо и боялись выступать по его поводу. В то же время откуда-то сверху поступило указание во что бы то ни стало так или иначе отметить юбилей старейшего ученого. И тут Игнатий Лукьянович вспомнил, что Чудотворцев давно уже добивается возможности выступить на кафедре с научным докладом, предлагая для таких докладов разные темы. Так почему бы не отметить юбилей профессора докладом самого этого профессора? Оставалось только определить тему доклада, ибо предоставлять доклад решению самого Чудотворцева было бы по меньшей мере неосмотрительно.
– Как тут не вспомнить Гиппократово «Не навреди!» – сказал вполголоса Штофик.
– Тем более когда сам он мастер себе вредить, – отозвался Лебеда.
– Вроде бы умный человек, – продолжал Штоф.
– Умный-то умный, да задним умом крепок, – сказал Григорий Богданович.
– И ведь нельзя сказать, что он взыскует мученического венца, а в какие только истории не попадал, – продолжал Игнатий Лукьянович.
– Прямо по Гоголю, homo historicus, – блеснул латынью Григорий Богданович.
– А ведь у Гоголя, наверное, действительно калька с латинского, – поддакнул Штофик, не иначе как радуясь возможности отвлечься от тягостной темы.
– Я уж и то начал было набрасывать к чудотворцевской конференции доклад «Латынь в контексте гоголевского „Вия“», – услужливо закивал Лебеда.
– Помилуйте, «исторический человек» – это же из «Мертвых душ».
– Так ведь сам Чудотворцев доказывал, что в основе «Мертвых душ» «Вий» Гоголя. Мертвые души набрасываются на Хому Брута, когда он читает Псалтырь по панночке, которую сам же заездил. А панночка, согласно Платону Демьяновичу, – это падшая София или Ахамот гностиков, а Хома и есть носитель тайного гнозиса, которому покоряется сама падшая София; она же говорит о нем: «Он знает…» Это последние ее слова. Знает, но не любит, и потому он лишь кимвал бряцающий и медь звенящая. (Его чтение в церкви.) Знает, но не любит, а любовью мог бы спасти панну Софию и сам спасся бы, а без любви погиб. Падшая София ловила его, но без Вия не могла поймать. Написал же себе эпитафию Сковорода, философ, бурсак, прототип Хомы Брута: «Мир ловил меня, но не поймал».
– А какого года эта работа Чудотворцева?
– Да чуть ли не тридцать седьмого, Игнатий Лукьянович!
– Ох, помню, нас тоже мир ловил, но не поймал, а теперь, того и гляди, поймает. Кстати, Сковорода-то – ваш тезка, Григорий Богданович.
– Ох, и не говорите, Игнатий Люцианович (при оханье у обоих прорезался явный малороссийский акцент).
– Так почему бы и не попросить Платона Демьяновича выступить с докладом «Гоголь и Сковорода»? Великий русский писатель и прогрессивный… деятель украинской культуры.
– Мысль неплохая, Григорий Богданович, когда бы то был юбилей Гоголя или на худой конец того же Сковороды. Но ведь юбилей-то Чудотворцева, а он Бог знает что и о Гоголе и о Сковороде наговорит, мол, по богомильской легенде перед концом мира прилетает птица Гоголь, а Сковорода – гностик, чающий Третьего Завета.
– Но тогда, Игнатий Лукьянович, почему бы не запустить доклад Чудотворцева о Прометее? Он же целую книгу написал: «Прометей в древнем и новом мире». Тема идеологически выдержанная. Титан-богоборец, похищение огня и так далее…
– Ну, вы известный чудотворцевед, – тонко улыбнулся Игнатий Лукьянович, – то есть я хотел сказать «чудотворцевовед», – поправился он тут же. – Если бы вы делали этот доклад, я бы слова не сказал. Но делать-то его будет Чудотворцев. А поручитесь ли вы, что Чудотворцев не повторит свою давнюю любимую идею, будто Прометей не огонь похищал, а искру Божию? Вы помните его выражение «путч олимпийцев»? А Прометей – хранитель древней титановой правды, то есть контрреволюционер. И людей он привлекал на сторону свергнутых титанов, вселяя в них эту самую титанову правду, искру Божию. Вспомните еще одно выраженьице Чудотворцева по поводу Прометея: «революция сверхчеловека». По-моему, одного этого выраженьица все еще достаточно, чтобы закрыть нашу кафедру.
– Но Прометей, Прометей! Самый благородный святой в философском календаре… Это же Маркс, не кто-нибудь…
– А Чудотворцев сравнит вам Прометея с Буддой, он же Сакья-Муни, которому клюет печень мнимое бытие, орел вечного возвращения. Платон Демьянович напомнит вам: Прометей – то общее, что есть между Буддой и Христом, взывающим со Своего креста: «Боже мой, Боже, для чего Ты меня оставил?» Действительно, для чего?
– М-да… А сам-то Платон Демьянович что предлагает для своего юбилея?
– А вы еще не догадались? Разумеется, доклад по своей коронной работе «Классики марксизма-ленинизма об античной диалектике».
– И что же может быть лучше? – оживился Лебеда.
– Вы что, не читали эту работу или забыли ее? Я же просил вас читать все, что Чудотворцев пишет, и сообщать мне. А эту рукопись он вам не показывал? Зато он давал ее читать мне. И я помню его келейный доклад на эту тему. В «Государстве» Платона наш новый Платон усматривает наше будущее, мистический коммунизм, и мне до сих пор неясно, апология ли это Платона или издевка над… – Штофик осекся. Григорий Богданович в отчаянье всплеснул руками.
– А не предложить ли ему сделать более специальный, филологический доклад? Скажем, о синтаксисе «Одиссеи»? Об аллитерациях у Гомера? О сравнениях в «Илиаде»?
– А тогда нам не миновать Вечного города. Троя – Троица, Троян – славянская Троица. Троянцы основывают Рим. А Римов три, и все три образуют мистическую монархию, за что Чудотворцев и был в тридцатые годы арестован…
Оба они приумолкли. И тут произошло невероятное. Заговорила Валаамова ослица. В разговор вмешался немой студент, склоненный над грудой разных «Фаустов» и немецких лексиконов. Не сдержался я. Сам не знаю, как у меня вдруг вырвалось:
– А не сделать ли Платону Демьяновичу доклад об Орфее? Помните «Бессмертие в музыке», Игнатий Лукьянович?
Старшие собеседники переглянулись. Я спохватился: моя тетушка-бабушка строго-настрого запретила мне сознаваться, что я читал Чудотворцева или хотя бы слышал о его дореволюционных работах. «За такое чтение тебя из института исключат», – уверяла она. Я и подумал, не исключат ли меня Штофик с Лебедой из института тут же, не сходя с места. Но они переглянулись по совсем другой причине. Они были настолько ошеломлены, что даже не задумались над тем, где я читал запрещенного Чудотворцева. Оказывается, именно я, второкурсник Фавстов, нашел выход из положения, за что институтские заправилы, по крайней мере, в ту минуту были мне благодарны. Игнатий Лукьянович вздохнул с облегчением:
– Да, это и впрямь то, что нужно. Конечно, музыка – тоже тема щекотливая. Не заговорил бы старик об Аделаиде… Но я надеюсь, у него хватит ума не произносить фамилии Вышинская. Кажется, Андрей Януарьевич учил его достаточно. Да и слишком уж далеко это от Орфея. Орфей – это лира, это гармония, это Эвридика, которая исчезает, когда на нее оглядываются раньше времени. «Ничего, голубка Эвридика, что у нас суровая зима». У нас, говорят, была оттепель, которой мы, правда, что-то не заметили. В конце концов, лучше аполлоновское и дионисийское начало, лучше хаокосмос, чем революция сверхчеловека или контрреволюция Бога, который то ли умер, то ли нет. Конечно, тут замешано бессмертие, таинственная мелодия, воскрешающая мертвых. Ее, дескать, ищут все композиторы мира с тех пор, как она забыта. Но подобная мелодия в докладе сойдет за метафору. Так что послушайте, как вас (он обернулся ко мне), Иннокентий, ах да, Иннокентий, кафедра классической филологии выносит вам благодарность, но, так сказать, конфиденциальную благодарность, вы поняли? Итак, надеюсь, это дело решенное?
Лебеда с готовностью закивал.
– Да, кстати, подскочил вдруг на стуле Штофик, – кажется, об Орфее не было высказываний (он понизил голос) у товарища Сталина? А то Прометей прямо-таки напрашивается на аналогию, учитывая его кавказские корни. Одно время Платон Демьянович прямо-таки бредил яфетическими параллелями, пока сам Сталин против них не выступил, но Чудотворцев убеждал меня, что выступил он против них лишь по соображениям конспирации, оберегая тайное знание. Тут и начнется разговор о Прометее, как о первом алхимике. Недаром говорится, что он похитил огонь в стволе тростника. А что такое тростник? Эту тайну раскрыл Блез Паскаль. Человек – мыслящий тростник, Прометеево исчадие. Божественная искра нужна была Прометею, чтобы раздуть алхимический огонь под тиглем, где выводится homo immortalis, человек бессмертный, а тигель Прометея – сосуд, где таится Бог. В псалмах сказано: «Аз рехъ, бози есте». Прометей не успел вывести бессмертного алхимического человека, который был бы союзником титанов: вот подвиг и вина Прометея. А нового Прометея Чудотворцев видел и, боюсь, все еще видит в Сталине, выводившем нового человека. Отсюда союз с Гитлером: Гитлер – тиглер. Мавзолей – реторта, реторта, реторта (Штофик чуть ли не выкрикнул это слово, и я подумал, не сам ли он алхимический сосуд). Нет, уж лучше Орфей, чем вся эта фавстовщина… (До сих пор не уверен, произнес ли он на немецкий лад «Faust» с дифтонгом или прямо сказал: фавстовщина.)
– Да, молодой человек, – Штофик даже очки снял, – я запамятовал, как ваша фамилия? Ах да, помню, помню!
Штофик даже побледнел, напуганный собственной откровенностью, недопустимой или преждевременной в присутствии Фавстова. Но надо отдать ему справедливость, он сразу взял себя в руки:
– Так не забудьте, молодой человек: конфиденциальность, конфиденциальность и еще раз конфиденциальность! Тогда можно будет подумать о вашем дальнейшем пути в науке. Иначе я ни за что не ручаюсь.
В последних словах прозвучала отчетливая угроза, но не прошло и полутора часов, как я нарушил Штофикову конфиденциальность в разговоре с Кирой Луцкой. Уже в первые недели сентября у нас с ней установилось обыкновение: мы вместе идем на метро, или я провожаю ее, но мы сворачиваем налево, выходим на набережную Москвы-реки и направляемся на предыдущую или на следующую остановку, вернее, бродим по переулкам, задерживаемся вблизи отдельных старых деревьев, которыми любуюсь я, а она иронизирует над моей старомодной сентиментальностью, но, по-моему, сама любуется ими. Я знал, что она замужем за Адиком Луцким, что несколько странно для первокурсницы, и он тоже учился на первом курсе нашего института, правда, на математическом отделении. Говорили, что ему следовало бы учиться в университете, так как он был победителем на нескольких математических олимпиадах, но в университет его все равно не приняли бы: отец его был одним из врачей-вредителей. Правда, отец его был реабилитирован, но недолго после реабилитации прожил. Его уже не было в живых, и Адик – математический гений, быть может, и все же, и все же… Как у нас говорили, университет все же не для него.
Вот я и не удержался, ляпнул Кире в тот же вечер, что это я подсказал кафедральному начальству, с каким докладом выступит на своем юбилее профессор Чудотворцев. Тема доклада была сформулирована так: «Миф об Орфее в древней и новой музыке». По-моему, в сочетании с фамилией Чудотворцева невозможно было не узнать в этой теме все то же «Бессмертие в музыке». Не скрою, мне хотелось поделиться с Кирой моим негласным триумфом, произвести на нее впечатление, если можно или если даже нельзя; ее мнение для меня много значило, хоть она была на первом курсе, а я на втором. Я с удовольствием увидел, что Кира насторожилась в ответ и несколько секунд шла рядом со мной молча, так что впечатление было вроде бы произведено, но Кира не сказала ни слова по поводу будущего чудотворцевского доклада. Она вообще предпочитала отмалчиваться, когда я заводил речь о Чудотворцеве, и даже давала понять, что тема Чудотворцева ее не интересует. Я объяснял это Кириной неосведомленностью. Она ведь могла ничего не слышать о его дореволюционных книгах и таинственных трудах после революции. Для нее Чудотворцев мог быть всего лишь очень старым профессором, а в моем увлечении Чудотворцевым она должна была видеть еще одно проявление моего старомодного чудачества, над которым она посмеивалась необидно, а иногда и обидно. «Ну ты Фавстов!» – восклицала она в подобных случаях, топая маленькой ножкой. (Сама-то она была высоконькая, вся упругая, не то чтобы худая, но поджарая, блиставшая, в отличие от меня, на занятиях по физкультуре, но прогуливающая их из принципа.) «Злая, ветреная, колючая», – вспомнил я, чуть-чуть переиначивая строку модного тогдашнего поэта. Короткая стрижка Киры лишь подчеркивала пружинистую проволочность ее волос, мочальных под моросящим дождем, металлических на солнце. Губы у нее были жесткие, требовательные, что странно сочеталось с запахом табачного перегара: Кира курила не плоше моей тетушки-бабушки, а я курить не смел и не смел признаться, что ma tante Marie запретила мне курить раз навсегда и я дал ей слово. Сигарета была последним решающим штрихом в Кириной современности, влекущей меня завораживающим, раздражающим эротизмом, бодлеровской «modernité», но в советско-русско-московском стиле. Глаза Киры были подернуты водянистой синевой, и я все не мог вспомнить, кого мне напоминает эта синева.
И в тот вечер в ответ на мое рискованное сообщение она помолчала несколько секунд или даже минут, так что я даже начал переоценивать важность моего сообщения, подумав, не подтверждает ли Кира затянувшейся паузой Штофикову конфиденциальность, но она, помолчав, с места в карьер продолжила разговор о венгерских событиях. Оказывается, в клубе имени Петефи опять обсуждался вопрос об интеллектуальной свободе. Слово «свобода» в другом, несоветском или даже антисоветском смысле я впервые услышал от Киры. Это слово должно было стать лейтмотивом всей ее жизни. Помню, как в один из первых наших вечеров она спросила демонстративно и в лоб: «Скажи мне откровенно, а социализм для тебя что-нибудь значит?» И когда я бесцветно ответил какой-то истматовской формулировкой о первой стадии коммунистического общества, она возмущенно закурила (в отличие от тети Маши, маскировавшей жестом закуривания горечь, смятение, отчаяние или какую-нибудь семейную тайну Кира закуривала восторженно или возмущенно, но всегда демонстративно, декларируя свою воинствующую современность): «А тебе никогда не приходило в голову, что социализм – это прежде всего свобода?» Так я узнал от нее, что бывает какой-то другой, не наш социализм, что социализм – это прежде всего свобода личной жизни, но главным для нее была свобода следовать чему-то, таящемуся в ней самой вплоть до отречения от самой себя…
В тот вечер она продолжала рассказывать о венгерских свободах. Она явно слушала иностранные «голоса», что тетушка-бабушка тогда мне категорически запрещала, хотя, как я подозреваю, сама их слушала, надевая за полночь наушники. «Наушники наушничают», – говорила она. И потом, когда я уже с ней вместе все-таки слушал «голоса», она комментировала каждую передачу тем же словом: «Наушничают». А когда, живя в одной комнате с Кирой, я сказал, что для меня радио «Свобода» и свобода не одно и то же, она отрезала, что выбирает свободу, даже если это радио. Годы спустя, в разгар демократических реформ, когда радио «Свобода» стало более официальным, чем Гостелерадио, я думал, что сказала бы Кира, если бы я сказал, что выбираю свободу от «Свободы», но мы тогда слишком редко виделись, а вернее, совсем не виделись. Тогда, осенью 1956 года, на наших осенних свиданиях, подставляя моросящему дождю свои волосы одного с ним цвета, Кира называла Венгрию континентальным островом свободы, и я, рассерженный своей неосведомленностью, процитировал ей однажды Тютчева, чьи французские опусы попадались мне в старых собраниях сочинений на мочаловских чердаках: «Le peuple magyare, en qui la ferveur révolutionnaire vient de s'associer par la plus e'trange des combinaisons a Га brutalité d'une horde asiatique et dont on pourrait dire, avec tout autant de justice que des Turcs, qu'il ne fait que camper en Europe, vit entouré de peuples slaves qui lui sont tous également odieux». Я надеялся, что Кира попросит меня перевести эту цитату, и я смогу при этом насладиться хоть каким-нибудь преимуществом в осведомленности, но она сама все отлично поняла, и ее взорвало:
– Вот как! Мадьяры – азиатская орда, разбившая свой лагерь в Европе, окруженная ненавистными славянами! Ты подскажи эту цитату нашим политрукам, а то они слишком невежественны, чтобы использовать столь изысканную чушь! Как мне осточертели все эти Хомяковы, Тютчевы, Соловьевы. С души воротит от этого напыщенного бреда.
Меня поразило, с одной стороны, откуда она знает французский язык, а с другой стороны, как ей могли осточертеть запрещенные русские философы. Я все еще не решался спросить Киру о ее предках, как мы тогда говорили. Слишком подавлял меня вопрос Маяковского, обращенный к Дантесу: «А ваши кто родители?» Как Парсифаль, я был приучен к детства не задавать лишних вопросов, в особенности вопросов о социальном происхождении. Я заметил, что Кира без труда понимает немецкий, французский, английский, даже итальянский. В то же время я слышал, что у нее затруднения с разговорной речью даже на английском отделении, где она училась. Дело в том, что Кира вынуждена была читать слепнущему отцу книги на разных языках и постепенно научилась их понимать, но не говорить на них. Клавише еще только предстояло сменить ее.
Впоследствии я понял, как изнуряло девочку чтение книг, почти непонятных ей, но по мере того, как она начинала понимать их, Кира облюбовывала идеи, отвергаемые, опровергаемые ее отцом, и постепенно эти идеи стали символом ее веры, знаменем ее свободы, а, кроме свободы, ей в жизни ничего не оставалось. Так отец ее находил примитивным «Сизифа» и «Бунтующего человека» Камю, а Кира упивалась абсурдом и бунтом, обосновывая их сочетанием свою свободу, которую она привыкла откладывать на будущее, лишь декларируя ее. Отец ее принимал Мартина Хайдеггера, объявляя Сартра его ничтожным эпигоном; Кира отстаивала бытие и небытие, яростно доказывая, что le néant – это не зыбкое Ничто восточных мистиков, а опыт свободы, набросок или проект богоравного человека, повторяющего вместе с Кирилловым из «Бесов» Достоевского: «Если Бога нет, то я Бог». Мне самому случалось от нее слышать: «Кто же Бог, если не я». – «А я?» – спрашивал ее я. «И ты, если ты тоже я, – парировала она не без некоторого метафизического кокетства, добавляя: – Бог умер, а я – это мы с тобой». Такого же абсурдно-бунтарского происхождения был социализм Киры, в котором отец ее видел атеистическую истерику, предпочитая, на худой конец, реальный социализм советского образца, а Киру бесило само это словосочетание «реальный социализм», и она бешено отрекалась от всего, что она провозглашала, как только провозглашенное обретало видимость реальности. Думаю, что она и Сталина возненавидела в пику слепому отцу.
И в тот вечер она напустилась на меня:
– Слушай, ты хоть понимаешь, что и в Венгрии, и у нас все начинается с разоблачения этого тупого тирана, этого самого выдающегося ничтожества в истории человечества?
Я спросил ее, что, собственно, начинается и что изменилось.
– Но ты ведь не можешь отрицать: он превратил страну в концлагерь, в душегубку в помойную яму.
Я опять не удержался и помянул алхимическую реторту для выведения нового человека, невольно цитируя Штофика и, как я втайне полагал, самого Чудотворцева без упоминания этих имен, но, по-моему она сама догадалась, на кого я ссылаюсь.
– Да оставь ты в покое полоумного старика с его алхимией. Или ты не задыхаешься в этой чертовой реторте? Я задыхаюсь!
– Умом Россию не понять, – ни с того ни с сего вырвалось у меня.
– Давно пора, е…на мать, умом Россию понимать, – изрыгнула она двустишие, ставшее со временем в ее кругу боевым лозунгом вроде «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Тут же она ласково коснулась моей руки и заглянула мне в глаза, не обиделся ли я, но тогда я на нее еще не обижался.
Поздно вечером после ужина я рассказал тете Маше, что «у нас в институте» говорят о Сталине. Тетушка заметно ветревожилась, нахмурилась и принялась протирать стеклышки своего пенсне. Помолчав, она ответила:
– По правде говоря, я не хотела бы, чтобы ты участвовал в подобных разговорах. Вы уверены, mon enfant, что вас не провоцируют? Вспомните восточных властителей, объявляющих о своей смерти, чтобы посмотреть, кто предан им, а кто нет.
– Вы полагаете, что Сталин – один из таких властителей?
– Нет, Сталин-то умер, хотя кто его знает… Может быть, и нельзя уклоняться от подобных разговоров, если такова идеологическая линия. Но прямо тебе скажу: я с такими разговорами не согласна.
– Как, тетушка, неужели вы сталинистка?
– Глупое слово, mon enfant. Но действительно я скорее за Сталина, чем за Ленина. Ленин только все развалил в расчете на мировую революцию, а мировой революции не произошло, и у него руки опустились: чуть ли не от этого он и помер. Вы, может быть, не знаете, Сталин был против революции в семнадцатом году, но когда уже так случилось, он хотя бы отказался от мировой революции и принялся строить… что можно было построить в одной стране.
– Царство Божие в одной стране?
– Ну, Божье оно или не Божье, не нам судить. Вы знаете, кто князь мира сего. Но подумайте, mon enfant, бывает ли царство Божие в разных странах? Оно всегда в одной стране, и эта страна мир Божий.
– Ив мире Божием, в этой одной стране террор, жертвы, миллионы жертв.
– Мне лучше знать, что такое террор и что такое жертвы, поверь мне. Но то, что я тебе скажу, может быть, никто в жизни тебе не скажет. Ты знаешь, что такое цареубийство?
– Но царей или королей казнили не только в одной стране, а и в других: в Англии, во Франции…
– И там это не прошло даром, и там изменилось отношение к убийству человека, и там число убийств с тех пор неуклонно растет. При этом заметь: к убийствам следует причислить не только уголовные преступления, но и смертные казни и убийства на войне. Слово «государство» происходит от слова «государь»; убивая государя, убивают государство и всех, кто к нему принадлежит, а принадлежат к нему все. Цареубийство – это разрешение на человекоубийство, более того, призыв к истреблению людей.
– И Сталин воспользовался этим разрешением?
– Не он один. Среди убитых было множество убийц. Уверяю тебя, террор начался при Ленине, террор был бы и без Сталина. Полагаю, что даже число жертв было бы примерно таким же. А Сталин мог бы оказаться и в числе убитых.
– И вы рады, что Сталин среди них не оказался?
– Как вам сказать… – Тетушка достала было папиросу, но положила ее на стол. – Сталин был один из них. – Она резко подчеркнула это слово. – Но Сталин вернул России Россию, вернее, то, что осталось от России, а осталось не самое лучшее, тайная полиция, например.
– Говорят, что Сталин был агентом тайной полиции.
– А если бы и был… Служил России, как умел.
– Но если террор начинается с цареубийства, чем террор кончается?
– А террор не кончается. Или кончается… возвращением царя.
– Значит, царь может вернуться?
– Может… – Тут она осеклась, настороженно посмотрела на меня и сделала вид, будто улыбается. – Вырастешь, Кеша, узнаешь, – процитировала она Некрасова, поменяв Сашу на Кешу; тетушка-бабушка называла меня Кешей только в этом случае.
– Еще одно слово, ma tante. Это ваши мысли или…
– Это мои мысли и мысли… одного умного человека.
– Чудотворцева?
– Вырастешь, Кеша, узнаешь, – повторила она, улыбаясь теперь уже непритворно: как не улыбнуться, когда я все еще не вырос, и неизвестно, когда вырасту…
Не скрою, на следующий же вечер я сообщил Кире аргумент насчет цареубийства, не упоминая тетушку, как в разговоре с тетушкой не упоминал Киру. Аргумент поразил Киру, что не меньше поразило меня самого. Кира явно не знала, что сказать, но через несколько секунд она выпалила:
– Царь не вернется. Нет, не вернется, потому что не вернется Бог.
– А что, если Бог никуда не уходил?
– Значит, мы ушли от Него.
– А если мы к Нему вернемся?
– Мы не вернемся к Нему, потому что мы Его не любим.
– Почему не любим?
– Нельзя любить того, кого нет, когда мы не любим того, кто есть: друг друга.
– А разве мы не можем любить друг друга? – сказал я и смутился, не начинаю ли я объясняться в любви этой странной девушке, но что это за объяснение в такой неуклюжей вопросительной форме, да и люблю ли я ее или просто ею «интересуюсь»?
– Мы не можем любить друг друга, – сказала она, – потому что отец народов оскопил целый народ. Этакий кремлевский Кондратий Селиванов. Слышал про такого?
– Скопческий Христос?
– Христос или Антихрист, тебе лучше знать. По-моему, вся твоя религиозная философия от скопчества идет. Помнишь, у Пушкина: мы сердцем хладные скопцы…
– А Розанова ты читала? – спросил я, неуверенный в том, недооцениваю я или переоцениваю эрудицию этой советской девчонки с внешностью санитарки или домработницы.
– Да, Розанов отличается от них. Он знал, что не бывает бесполой любви, даже к Богу бесполой любви не бывает. Но и Розанов запятнал себя отвратительным базарным юдофобством.
Я промолчал, вспомнив, что передо мной жена Адика Луцкого, потом заговорил на прежнюю тему:
– Но почему ты считаешь, что Сталин оскопил народ?
– Страх оскопляет. Похоже, и тебя оскопили. Ты Замятина «Мы» читал?
– Про такую книгу я даже не слышал.
– Вот, возьми, я принесла. Только не вздумай читать в аудитории или в поезде. За такое чтение посадить могут.
Она дала мне заграничное издание Заметила. Прочитав его тайком от тети Маши, я понял, что это было своего рода письмо Татьяны ко мне, незадачливому Онегину.
К этому времени я уже уверился в том, что видел Киру и раньше, в Мочаловке, летом на Совиной даче. Я заметил, что тетя Маша с некоторых пор всячески препятствовала моим посещениям Совиной дачи. Она предпочитала, чтобы Софья Смарагдовна, моя крестная, заходила к нам, а не я к ней. Неужели тетушка боялась, что в связи с новыми веяниями на Совиной даче оживится Комальб? Я тогда ничего не знал о прежних коммунистических альбигойцах, но некоторые из них выжили и даже возвращались из лагерей, о чем тетушка, вероятно, слышала. Что, если Комальб возродится и в него вовлекут меня? Вообще, тетушка переживала новый приступ тревоги за меня. Ведь прежний лидер Комальба, Тоня (Антуанетта) Духова была старшей сестрой Адика и должна была вместе с ним унаследовать Совиную дачу Что, если в Комальб втянут меня? Любопытно, что Софья Смарагдовна, казалось, разделяла эти опасения, оберегая меня от контактов с молодыми обитателями Совиной дачи.
Я сказал, что читал роман Замятина как любовное письмо от Киры. Он и она подняли интимный бунт против тоталитарного режима, но он сдался и предал ее, а она не предала. Потом я прочитал у Орвелла, как оба сексуальные бунтовщика предали друг друга. Теперь я думаю, не предал ли Киру и я? Или она меня? Или мы оба предали друг друга? Неужели вся наша жизнь – нагромождение цитат из книг, казавшихся значительными, когда они были запрещены, а когда они стали общедоступными, их перестали читать?
Онегин ответил на письмо Татьяны хотя бы устно, а я, прочитав «Мы» залпом, даже ответить не успел: Кира подхватила тетушкину тему на следующий вечер. Иногда мне казалось, что она готовится к вечернему разговору со мной, как мы оба готовились к зачету или к экзамену.
– Вот ты говоришь «цареубийство» и забываешь: убили-то не царя, а человека, как убивали и при царе по его приказу вот его самого и убили.
– Но, убивая царя, убивают государство…
– А черт с ним, с государством, когда из-за него людей убивают.
– Ты хочешь сказать: «Не убий»?
– Так и без меня сказали, а потом принялись убивать, убивать, убивать. А вот Маркс сказал: «Хорошо же то общество, которое не знает лучшего средства самозащиты, чем палач». И опять же Маркс сказал: «.. со времен Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием». Но Маркс был слишком хорошего мнения о человеке. Устрашить-то удалось, и как еще удалось!
– И разве это не марксисты сделали? Ты же сама говорила о терроре.
– Да Маркс-то марксистом не был. Марксисты все извратили. Социализма у нас никогда и не было.
Признаюсь, такого Маркса я не знал. Для меня Маркс соотносился только со скукой семинаров, зачетов и экзаменов по общественным наукам. Из Маркса я помнил только, что у пролетариев нет отечества, хотя преподаватели напоминали, что после Великого Октября оно у них появилось.
– А при настоящем социализме не убивали бы, что ли? – спросил я. – Разве не все дозволено, если Бога нет?
– «Все дозволено» не значит, что ничего не запрещено. (Потом я прочитал это у Камю.) Все дозволено, если нет Бога, но если ничего не запрещено, нет человека. Только помнить надо: человеку запрещать некому кроме самого человека, в чем и заключается человечность.
– Значит, запреты все-таки остаются? А как же свобода?
– Свобода – не свобода, если нет свободы запрещать себе.
– А другим?
– Ты сам один из других. Кто посягает на свободу другого, тот перестает быть свободным сам. А реализуется свобода через пол.
– Значит, один пол свободен лишь по отношению к другому?
– Другой всегда другого пола, – бросила она загадочную фразу, которую мне еще только предстояло понять.
Я чувствовал себя медиумом в диалоге Киры и тети Маши, не подозревавших друг о друге, как я тогда думал. Но их или наш диалог должен был прерваться. Первые два курса нашего института должны были ехать в колхоз, на картошку, как тогда говорили. Помню, с какой тревогой снаряжала меня тетя Маша в эту поездку Мы впервые должны были расстаться на такой долгий срок, на целых две недели. Тетя Маша вытащила откуда-то старый мешок, с которым сама когда-то мешочничала по окрестным деревням в поисках съестного. В этот мешок она положила крупы, пачку сахара, несколько банок консервов, теплый свитер. Она предпочла бы не отпускать меня, но боялась, что меня отчислят из института, если я не поеду. Я натянул старые кирзовые сапоги, облачился в подержанный, но добротный кожух, сунул деревянную ложку за голенище, чтобы было смешнее, и отправился на вокзал. Тетя Маша перекрестила меня на дорогу и продолжала крестить меня, пока я не скрылся из виду Иконку дать она мне не решилась, опять-таки опасаясь, как бы меня не выгнали из института.
На всю жизнь я запомнил сизо-голубую дымку, окутывающую лесистые холмы вокруг сельца Рождествено, где нас разместили. Сельцо было разделено надвое глубоким оврагом, по дну которого сквозь частый ракитник несся ворчливый ручей. Местные жители бросали в ручей всякий хлам, но у него было такое мощное течение, что он уносил этот хлам прочь и выглядел чистым. Выше по течению били ключи, и мы впервые в жизни отведали ключевой воды.
Погода стояла пасмурная, прохладная, но сухая, как бывает в первых числах октября. Картошка оказалась выкопанной, но старики и старухи продолжали выбирать ее из борозд. Оказывается, нас отправили не на картошку, а на силос. Девушки собирали ботву, оставшуюся от кукурузы и подсолнечника, сваливали ее в кузова двух или трех грузовиков и трамбовали собственными телами, после чего мы ворошили эту ботву вилами и набивали ею силосную башню. Ботва пахла горьковатой осенней свежестью, как и мглистая дымка, подернувшая холмы. Картошку сельчане растащили по дворам, нам выделяли ее совсем немного. Пригодились наши съестные припасы. Тетя Маша знала, что делала, когда набивала мне мешок. Черный хлеб в село привозили два раза в неделю, белые батоны появлялись изредка.
Киру я видел только издали. Поговорить с ней не удавалось. Она предпочитала собирать ботву в поле, а не трамбовать ее в кузове по пути к силосной башне. Народу в селе проживало мало. Многие избы были заколочены или разрушались на глазах. И от избы к избе ходила маленькая, сгорбленная оборванная старушонка. Наши девочки пугались, встречая ее в сумерках. Уж очень она была похожа на ведьму. Звали ее баба Харя. Вероятно, имя ее было Харитина.
Баба Харя любила заговаривать со студентами. У всех она спрашивала одно и то же: женат ли, замужем ли. Что бы ей ни отвечали, она бормотала, хихикая, одни и те же непристойности. Нетрудно было заметить, что баба Харя всегда пьяна. Некоторые наши девочки подавляли смешок, напоминающий ту же бабу Харю, когда обсуждался вопрос, на какие шиши она выпивает. К моему удивлению, я несколько раз видел, как с бабой Харей переговаривается Кира. Я объяснил это тем, что Кира замужем и отвечает на вопрос бабы Хари, так сказать, со знанием дела. Интересно, что вечерний девичий испуг при встрече с бабой Харей вполне вязался с дневным смешком при упоминании о ней.
И вот однажды Кира против обыкновения подъехала в кузове машины с ботвой к силосной башне, отозвала меня в сторону и велела выйти вечером на околицу к старой ольхе. Двухнедельный колхозный срок уже кончался, а мы ни разу не встретились после трудодня, как мы называли наше дневное времяпрепровождение. Я пробормотал что-то вроде «давно пора». «Погуляем», – проронила она в ответ.
Когда мы перешли с ней на ту сторону оврага, тучи расступились и появилась луна. Кира хорошо знала, куда она идет. Она деловито шла, увлекая меня за собой, и это никак не походило на прогулку. Самое странное, что мы при этом не говорили ни слова – в отличие от наших прежних прогулок. Мы пробирались через глухую поросль чертополоха в человеческий рост. Помню, как я потом обирал репьи с моего свитера. Ночь была холодная, но не настолько, чтобы надевать тетушкин кожух. Наконец чертополох остался позади. Перед нами возникла настоящая избушка на курьих ножках, ведьмино кубло, по Куприну, а выражаясь не столь поэтично, такая развалюха с просевшей драночной крышей, что трудно было себе представить, кто может здесь жить. Но дверь в развалюху оказалась запертой, и Кира вместо того, чтобы постучать, нагнулась, сунула руку под бывшее крыльцо и уверенным движением достала оттуда ключ.
Дверь отперлась не без труда, со ржавым скрежетом. Кира повлекла меня через порог. В избе пахло старыми тряпками, черствыми корками и затхлостью. Кира попыталась нащупать выключатель, но то ли не нашла его, то ли света не было. Зато луна светила прямо в маленькое, замызганное окошко, освещая постель с простыней, которая при лунном свете казалась белой. Кира сбросила на пол пальто, обняла меня и произошло то, что должно было произойти.
Понимаю, насколько не вписывается в жанр биографии, мемуаров или даже автобиографии то, что я сейчас пишу. Быть может, я лишаю себя возможности опубликовать написанное при моей жизни или при жизни Киры, хотя представляю себе, как она будет смеяться, читая это нелепое отступление, но смех ее будет деланым и перейдет в истерический. И все-таки я решил про себя, что биография Чудотворцева невозможна без моей полной откровенности, какой бы натуралистической она ни казалась.
Кира была решительнее, я был опытнее. Мой мочаловский опыт даже стеснял меня в ее объятиях. Мы лежали рядышком, по-прежнему не говоря ни слова, когда заскрипели ступени крыльца и послышались шаркающие шаги. Кто-то вошел в избу не стучась. Мы вскочили с постели, и до нас не сразу дошло успокаивающее шамканье:
– Да лежите, лежите, милые! Не вы первые, Бог даст, не вы последние. А я на улице продрогла, дай, думаю, зайду, обогреюсь. Скоро снег выпадет, и я в зимнюю спячку впаду. Разве что лыжники иной раз разбудят. Зимой-то за мою берлогу я дороже беру. А то когда же мне и выпить, как не сейчас, когда вы, студенты, здесь толчетесь, а летом туристы наведываются. Моя постелька-то ан вот она, если кому приспичит, как вам, например.
Мы торопливо одевались при лунном свете.
– Что ж вы заторопились, – продолжала шамкать баба Харя. – Впрочем, как хотите, коли хватит с вас, так я свет зажгу.
Избушка осветилась электричеством, неуместным в этой затхлости, как моя откровенность. Вдруг баба Харя засмеялась булькающим, хлюпающим смехом, подняв к свету простыню:
– Ну, девушка, ай да девушка! Да, бывало, по всей деревне носили, показывали то, что после тебя осталось. Ну, парень, смотри женись на ней теперь, иначе из-под земли тебя достану, испорчу, так и знай! А теперь позолоти ручку на прощанье, – затянула она на цыганский лад, – твоя краля мне заплатила, но ради такого дела и ты мне что-нибудь подбрось!
Я вытащил из карманов брюк две последние смятые десятки. Баба Харя так и вцепилась в них:
– Вот спасибо, соколик! Приходите еще. У меня кто побывал, тот частенько возвращается.
Годы спустя я действительно предлагал Кире навестить бабу Харю, как будто она встретит нас на своем подгнившем крыльце и смерти на нее нет, но Кира холодно отказывалась.
Однако через несколько лет, когда Кира увлеклась тантрическим буддизмом, на Совиную дачу приехал всамделишный лама (глядя на него, я вспомнил строку Иннокентия Анненского: «Священнодействовал базальтовый монгол», звали его, помнится, Тузол-Дорджи Батмин, фамилия того же происхождения, что «Бадмаев», и он к тому времени лет двадцать отсидел в разных лагерях). Лама успел облачиться в желтую мантию, обнажающую одно плечо; с характерной снисходительной улыбкой, подчеркивающей разрез узких глаз, он глянул на своих адептов и с экзотическим санскритско-тибетским призвуком произнес любимое Кирино слово: «Абсурд», потом с улыбкой, еще более масленой, изрек: «Аван-дуди!» (Кира объяснила мне, что это особый нервный ствол, заканчивающийся половым отростком) и наконец многозначительно указал пальцем вниз, нарочито по-туземному зачмокал: «Алая-виджняна, земелька, однако», и тут у Киры вырвался памятный хлюпающий смешок, с которым баба Харя рассматривала простыню и который вырывался у девушек, встречающихся с бабой Харей при дневном свете, а лама между тем говорил о ритуальном слиянии мужского и женского, и мне смешок напомнил всхлипывающее хлюпанье глинистой рождественской почвы под нашими подошвами:
Втайне стыдясь человеческих глаз, Глаз ненасытных и предубежденных, Только покойных и новорожденных Любит земля, разлюбившая нас.В ту ночь земля не хлюпала, а похрустывала, схваченная ночным морозцем. Мы шли по пустынному Рождествену и не говорили ни слова. Наконец, я нарушил молчание:
– Слушай, а как же твое замужество?
– Ты что имеешь в виду? – поежилась она, как будто от холода, но видно было, что мой вопрос смутил ее.
– Ты ведь замужем… за Адиком Луцким. Даже фамилию его носишь.
– Не все ли равно, какую фамилию я ношу. У меня своя жизнь.
– Но ты и вышла-то за него недавно, всего несколько месяцев назад, и вот теперь со мной… Ты что же, ошиблась в нем?
– Нет, как раз не ошиблась.
– Но как же так получилось?
– Все получилось. Как ты не понимаешь? Адриан свободен, и я свободна! Он мой друг, и я его друг, но мы свободны даже друг от друга.
Кира с удовлетворением расправила плечики под пальто. Она нашла нужную формулировку. Мне вспомнился брак Веры Павловны с Лопуховым из романа «Что делать?», и мне захотелось увериться, правильно ли я ее понял, тем более что теперь уже это касалось и меня:
– Так что же, у вас фиктивный брак? А зачем? Кому-нибудь из вас нужна была московская прописка?
– Ты что, не хочешь меня понять? Разве не всякий брак в наше время фиктивный?
– Но не до такой же степени!
– А до какой?
– В конце концов, муж он тебе или не муж? Зачем нужно было оформлять отношения… которых нет?
– Ты только что убедился в том, что я не нуждаюсь в оформлении… этих отношений.
– Но я убедился и в том, на что обратила внимание… баба Харя.
Уверен, что она вспыхнула, хотя лунный свет скрадывал краску на ее лице.
– Ах, ты вот о чем… Ты Розанова «Люди лунного света» читал?
– Читал.
– Так вот Адик один из них. Он человек лунного света.
– Урнинг?
– Розанов так их называет. По-моему, это своего рода избранничество. Адриан – гениальный математик. Он такой, как Ньютон, как Спиноза, которого он мне напоминает. Можно и Канта вспомнить…
– Насколько мне известно, никто из них не женился.
– Адриан мой друг, и он помог мне, когда мне была нужна помощь.
– Ты называешь брак помощью? Я бы мог еще тебя понять, если бы ты была беременна от негодяя, который тебя бросил, но ведь с тобой ничего подобного не было. Какую же помощь оказал тебе гениальный математик Адриан?
– Я предпочитаю не говорить об этом.
– Хорошо, но даже фиктивный брак Веры Павловны превратился в настоящий брак сначала с Лопуховым, потом с Кирсановым. Скажи мне, твой фиктивный брак на всю жизнь?
Некоторое время она шла редом со мною молча, потом неуверенно сказала:
– Я не готова ответить на этот вопрос. С меня вполне довольно того, что я свободна… и свободен Адриан. – Уверенность к ней вернулась, как только она попала в привычную колею.
– Хорошо, но как я должен вести себя по отношению к твоему мужу? После того, что у нас только что было?
– Никак. Его это не касается. Как не касается меня его личная жизнь, о которой, правда, я ничего не знаю. Я бы очень хотела, чтобы ты с ним сблизился и, если можно, подружился.
– А мои отношения с тобой?
– Повторяю, его это не касается. Но не слишком ли много мы с тобой разговариваем?
И она бросилась ко мне на шею, опьянив меня безудержным пароксизмом поцелуев. Ничего подобного в нашей жизни не повторялось никогда:
Не отрываясь, целовала, А гордою в Москве была.И этот запах, запах ее металлически жестких волос, застывшей осенней травы и мглисто-голубой дымки, окутывающей окрестные лесистые холмы, как будто она окуривала их своей сигаретой и дым остался у нее в глазницах.
В Москве наши вечерние прогулки прекратились: Кира упорно повторяла мне после лекций, что сегодня она занята. Но мы время от времени встречались (в цинично-техническом современном смысле слова), и Кира, несомненно, прилагала определенные усилия к тому, чтобы наши эротические встречи были регулярными. Ничего похожего на страсть, прорвавшуюся на рассвете в Рождествене. Кира вела себя так, как будто мы молодожены, у которых проблемы с жилплощадью. Кажется, Кира выполняла супружеские обязанности и требовала того же от меня, следуя некоему таинственному ритуалу, что, возможно, и привело ее впоследствии к тантра-йоге. Она приводила меня всегда в одну и ту же квартиру в старом арбатском доме, и я подумал было, что она водит меня к себе домой. Квартира была пыльная, просторная, запущенная. Корешки книг на длинных стеллажах могли объяснить Кирину эрудицию. Простыни на двуспальной кровати красного дерева не отличались свежестью, напоминая мне логово бабы Хари, что, признаться, особенным образом волновало меня. С добротным ветшающим супружеским ложем странно гармонировал роскошный концертный рояль, великолепно настроенный, как мог я убедиться, пробежав пальцами по клавишам. «Ты играешь?» – спросил я Киру. «Немного играю, но теперь не до того», – сказала она и в ответ на мои настоятельные просьбы пробренчала этюд Скрябина с явным намерением отмахнуться от моего вопроса, но игра ее выдавала некоторую выучку и даже технику. Со временем я узнал, что Киру учила музыке сама Марианна Яковлевна Бунина и встречались мы в ее квартире. Кира должна была присматривать за квартирой знаменитой пианистки, когда та уезжала на гастроли, что и давало нам возможность встречаться в ее отсутствие.
Но и при наших коротких, тайных, как я тогда думал, встречах, когда любящим, как я опять-таки хотел думать, казалось бы, не до разговоров, Кира не молчала. Наша внезапная близость разрушила последнюю преграду, тормозившую Кирино свободомыслие, но я меньше всего мог ожидать, что, воспользовавшись этим, она заговорит о Григории Распутине. Распутин давно уже был негласно замешан в мое общение с тетей Машей. Это была одна из запретных тем, которые она отстраняла традиционным жестом закуривания. В прораспутинских монологах Киры меня поражал не только контраст с тетушкиной сдержанностью, но и совпадение темы, запретной в одном случае и непреложной в другом. В первый же наш вечер в нашей явочной квартире, как я называл ее про себя, Кира возвестила мне, что Распутин явил и выявил творческий эрос в православной традиции.
– Эрос, еще дохристианский, – проповедовала она, поспешно одеваясь (мы оба торопились; я на электричку в Мочаловку: тетя Маша сошла бы с ума, если бы я не приехал ночевать, Кира – к слепому отцу, о чем я тогда не знал), – эрос дохристианский, то есть истинно христианский. Отцы Церкви называли самого Христа Божественным эросом. Тайна сия велика есть. – Эти несвойственные ей слова она произнесла, понизив голос. – Экстатические секты хранили эту тайну, разжигая искру Божью на своих раденьях плясками. Ты знаешь «Весну священную» Стравинского? – Полуодетая, она кинулась к роялю и взяла несколько аккордов. – Настоящее христианство – лишь то, что было до Христа и будет, будет! Православие – это Иван Купала, креститель и совокупитель (вместо летней купальской ночи за окном сгущалась холодная дождливая тьма поздней осени). А Клюева стихи ты знаешь?
Поет тростиночкой Татьяна — «Я выплываю из тумана, Чтоб на пиру вино живое, Руси крещение второе, Испить нам из единой чары!.. Приди ко мне, мой лебедь ярый».Что-то слишком принципиальное было в движении, с которым она кинулась обнимать меня, уже натянув до колен чулки, но, как бы опомнившись, она деловито взглянула на часы и продолжала одеваться.
Не помню, в тот ли вечер Кира назвала Распутина гением сексуальной революции. Именно от нее я услышал впоследствии знаменитые строки: «Ra… Ra… Rasputin Russia's greatest love machine». В ее исполнении это были строки из религиозного гимна. А в ту осень Кира доказывала мне:
– Если бы Распутина не убили, у нас была бы другая революция: революция любви. Убив Распутина, революцию кастрировали.
– Я где-то читал, что и сам Распутин был связан со скопцами.
– Не путай Божьего дара с яичницей, – парировала она. – Скопчество – высшая форма эроса, когда весь человек превращается в совершенный орган любви. Скопчество не оставляет человеку ничего, кроме пола, кастрация отсекает у человека пол, рассекает человека, как угрожал Зевс, и человек прыгает на одной ножке, даже если ему кажется, что он ходит на двух ногах, но одна из них, а то и обе – протезы. Кастрация – рассечение единой плоти, которую образуют человек с человеком, пол с полом.
– А как же ты говорила, что Сталин оскопил целый народ? Что же, оскоплял он или кастрировал?
– Не прикидывайся дурачком. Чтобы оскопить народ, нужно кастрировать человека. Вернуть человеку пол – вот задача нашего времени. Свобода начинается не на площади, а в постели, на ложе среди цветов.
Ее книжная выспренность покоробила меня. Она заметила это:
– Воскресить Распутина – вот что мы должны сделать, пойми!
– Как воскресить? Не дожидаясь воскресения мертвых?
– Как Христос воскрес. Распутин воскреснет, когда воскреснет пол. А пол воскреснет, когда вместо размножения будет единение. Кастрированные лишь сцепляются друг с другом, символ такого сцепления – свастика. А пол с полом крест-накрест. Такова тайна Розы и Креста.
Я не знал, что ответить. На следующий вечер Кира повела меня не в квартиру, где мы встречались, а в заброшенное полуподвальное помещение в переулке неподалеку от Цветного бульвара. «К нашему другу», – сказала она. Оказалось, что друг гораздо старше нас, официально не признанный художник, оборудовавший себе мастерскую в котельной, где он работал. Адик был уже там. До этого я встречал его лишь в коридорах института и все думал, должен я с ним объясниться или нет. Да и что значило объясниться с ним? Я по-прежнему ничего не понимал в том, что происходило между мной, Кирой и Адиком. О разводе с мужем Кира даже речи не заводила. А если бы завела, что я стал бы делать? Привести юную жену в нашу с тетей Машей общую комнату разгороженную печкой? Обременить зарплату тети Маши еще одним ртом? Прожить на мою стипендию было невозможно, даже если присовокупить к ней стипендию Киры. А жить к себе Кира не звала, хотя я подозревал, что мы встречаемся в ее квартире, где должны быть старшие, судя по роялю, музыканты или музыкант, но о них Кира никогда не говорила.
В полуподвальной мастерской художника я впервые мог присмотреться к Адриану Луцкому. Он был ниже Киры ростом, по крайней мере, на полголовы, в общем, среднего роста, тогда еще очень худой и хрупкий, говорят, что теперь в Америке, достигнув культового успеха, он поправился или попросту растолстел. Его серовато-карие глаза безразлично скользили мимо меня и точно так же безразлично он пожал мне руку, правда, без всякой неприязни. По-моему, с таким же безразличием он смотрел и на Киру. Адриан был явно поглощен своими мыслями. В тот вечер ему предстояло сделать доклад под интригующим названием «Третий в поле». Вместе с несколькими знакомыми и незнакомыми молодыми людьми я был приглашен слушать этот доклад. Мне бросились в глаза золотистые волосы одной девушки, совсем еще девочки. То была Клавдия Пешкина.
Голос у Адриана был негромкий, органически не допускавший никакого пафоса. Этот голос не мог заглушить шорохов, доносившихся из углов подвала. Там шевелились то ли крысы, то ли духи. Адриан продолжал говорить совершенно спокойно, все с тем же безразличием, которое, вероятно, следовало принимать за убежденность. Оказалось, что в докладе «Третий в поле» речь идет вовсе не о том поле, где стояла березка. Доклад был посвящен не полю, а полу. Главная мысль Адриана заключалась в том, что пол – основной признак бытия. «Бесполого не существует» – этой фразой он начал свой доклад. Я ожидал, что Адриан предложит своим слушателям какие-нибудь вариации на темы Фрейда, но ошибся; фрейдизм был для Адриана культурной ценностью, а не методом познания. «Фрейду не хватало математики, – сказал Адриан вскользь. – А над богами царит сущее вечно число». Эту цитату я впоследствии обнаружил у Флоренского, но в тот вечер Адриан говорил о ее пифагорейском происхождении, подчеркивая, что в мистике числа пифагорейство соприкасается или даже совпадает с каббалой. «Но, – подытожил Адриан два своих исходных тезиса, – если бесполого не существует и если бытие есть число, мы вправе рассмотреть элементарный вывод: число обладает полом». Я не сразу понял, что Адриан употребляет слово «элементарный» в духе секты элементариев: элементарный – не «простейший», а стихийный, первозданный, образующий бытие или даже предшествующий бытию.
Итак, число обладает полом, чему простейшим подтверждением служат два полюса. Известный физик (Адриан не назвал его по имени) только что сказал, что для науки величайшей тайной остается и, по-видимому, останется в обозримом будущем различие положительного и отрицательного полюса. Это различие заключается также и в том, что два полюса – два пола, так что созвучие слов «полюс» – «пол», необъяснимое этимологически, восходит к первичным звукосимволам, на которых и основывается язык. При этом положительный полюс – женский, а отрицательный полюс – мужской. (Кира слегка улыбнулась; мне только еще предстояло узнать, что старший сын Чудотворцева Павел Платонович носит прозвище Полюс.) Адриан между тем невозмутимо перешел к принципиальным положениям каббалы. Сефирот, первоосновы бытия, безусловно, обладают полом. Их десять; среди них мужские – Хохма (Мудрость или Логос), Гедула или Хесед (Милость, Великодушие), Нецах (Торжество), Тифарет (Великолепие); женские – Вина (Разумение), Гебура (Крепость, Правосудие), Ход (Слава), Малхут (Царство). Отсюда принципиальное положение: «Половая форма есть первичная форма создания». Очевидно, мужские и женские сефирот обречены вступать в брак друг с другом, как говорится в книге «Зогар»: «Еще и теперь Бог лишь производит половые соединения, реализует браки, и это он называет созданием». Так Хохма и Бина (Мудрость и Разумение) связаны брачными узами и в своем единении как бы меняются полом, так что Хохма слывет женским началом, в особенности среди непосвященных, среди которых распространен слух, будто София Премудрость Божия – библейская Хохма. Но над сефирот возвышается или предшествует им Кетер (Венец или Корона), сочетающая в себе два пола и напоминающая тем самым Обладающего Тайным Именем или даже совпадающая с Ним. Кроме десяти сефирот или вместе с ним существуют и двадцать две буквы древнебиблейского, древнееврейского алфавита, из которых сотворен мир. Нечего и говорить о том, что буквы также обладают полом и вступают в браки, образуя пары. Среди букв три – основные, семь – парные, двенадцать – простые. Таково происхождение сакральных чисел 3, 7, 12. Три основные буквы являются также материнскими или матерями. Это буквы А, М, Sh (тут насторожился я; мне вспомнились «Матери» из второй части гётевского «Фауста», к Матерям должен отправиться Фауст, чтобы обрести Елену, и не потому ли Штофик просил меня обойтись в моем докладе без Матерей, поскольку эти Матери каббалистического происхождения, а все каббалистическое более или менее запретно). Еще более укрепила меня в моих мистических подозрениях природа каббалистических Матерей: М – немой звук, подобный воде, Sh шипит, как огонь, А – примиряющее дыхание между ними. Но каждой из двадцати двух первичных букв соответствует число. Следовательно, числа также обладают полом. Говоря элементарно (Адриан голосом снова слегка подчеркнул слово «элементарно»), четные числа – женские, нечетные – мужские. Бывают и числа-андрогины, двуполые числа, которые называть преждевременно. Можно говорить даже о случаях математического адюльтера, когда через одну точку проходит не одна линия, параллельная другой, как в теореме Лобачевского, и в этом случае Евклид – блюститель математического единобрачия. Но поскольку каждое число является не только простой суммой бесполых единиц, но неповторимым, органическим целым, то есть каждое число своего рода едина плоть, мы должны признать, что каждое целое число есть сочетание того и другого пола. Особое значение приобретают в этой связи имена, мистические сочетания букв и соответствующих им чисел, в свою очередь образующие некие сверхчисла, проблема, которую разрабатывает (Адриан так и сказал: «разрабатывает») в своих трудах Платон Демьянович Чудотворцев. Очевидно одно: онтологически, бытийно два пола сочетаются лишь благодаря Третьему, какого бы пола Третий ни был. Грехопадение было попыткой Женского сочетаться с Мужским, исключив Третьего, когда Третьим мог быть лишь Обладающий Истинным Именем: «Еже Бог сочета, человек да не разлучает». Так два несовершенных пола предпочли единению в Богоподобии размножение в дурной множественности: «Будете не как Бог, а как боги», и спасает их от бесполого небытия лишь обретение Третьего.
После доклада Кира ушла не с Адрианом, а со мной.
– Мы аки, – гордо сказала она, когда мы выбрались из подвала.
– Что это значит? – спросил я.
– Ты не понял? Первые буквы наших имен: Адриан, Кира, Иннокентий.
Я сначала связал это слово с московским аканьем, еще не зная, что казачий вероучитель Питирим Троянов признавал аканье за троянское произношение, противопоставляя «козаков» «казакам».
– Москвичи, что ли? – спросил я неуверенно.
Кира насмешливо покачала головой.
– Тогда белые? Кажется, по-тюркски «ак» «белый». Отсюда аксакал, белобородый. И Аксаковы отсюда. Кажется, «казаки» значит «белые лебеди».
– Ну ты Фавстов! Прирожденный филолог! Белые! Красных-то ты куда девал? Кто же и красные, если не белые, и кто же белые, если не красные! А что такое «аки» по-славянски, ты не помнишь?
– Как, – пробормотал я.
– Наконец-то ты допёр! – Кира даже в ладоши захлопала. – В раю змея говорила: «Будете яко боги», потому что их было двое, она и он. И пришлось им плодиться и множиться, а когда множатся, то умирают. Размножение смертельно, понимаешь? И все потому что их было двое, два, а у нас есть Третий, и мы не яко боги, мы аки Бог, Его образ и подобие. Бог-Троица, триединство, мы аки, аки, аки…
Я не знал, что сказать. Она продолжала в странном экстазе, идя со мной по пустынному переулку где встречались еще старые деревья.
– Каждой букве соответствует число, ты слышал? «А» – единица, «к» – двадцать, «и» – восемь в церковно-славянском исчислении. Подставь числа вместо букв! Выйдет 128. Первые две цифры дают 12. Двенадцать знаков зодиака, двенадцать апостолов. Один плюс два – три – число Божества, двенадцать – число бытия, а последнее восемь – два в кубе, тройное удвоение. Аки – переход от Творца к творению, и от творения к Творцу. И все потому, что у нас есть Третий.
– Это он тебя научил? – не удержался я.
– Ну да, он, Адриан, Адрай.
– Ты говоришь: ад?
– Я говорю: Адрай, вечность, сочетание ада и рая.
– А такое сочетание возможно?
– Нет, невозможно. Просто и то и другое – одна и та же вечность, для одних рай, для других ад.
– А в нем и ад, и рай?
– Он Третий, понимаешь? Без него бы у нас не было того, что есть. Если бы не было ада, то не было бы свободы. В ад попадают те, кто хочет в ад, для кого принудительный рай хуже ада…
– Абсурд, – не удержался я.
– Именно абсурд, без абсурда нет свободы, – подхватила Кира. – Абсурд. Анаграмма: ад – брус, шестистороннее бревно, первооснова. А по-армянски «сурб» – святой. Значит, абсурд – ад сурб, ад свят.
– Это он тебе сказал?
– Он, но неважно кто. Тебе надо с ним сблизиться. Приходи в воскресенье в Музей изобразительных искусств, на выставку Пикассо. Мы с ним там будем. Только пораньше приходи, часам к восьми. Там очередь часа на три. Мы тебе очередь займем.
В воскресенье я приехал на Волхонку минут за пятнадцать до восьми утра, а очередь уже стояла длиннющая, так что я с трудом отыскал Киру и Адриана. Не скрою, каждая встреча с Адрианом смущала и тревожила меня. Я ждал объяснения и был не прочь избежать его. Но в то воскресенье об объяснении и речи быть не могло. Адриан и Кира были не одни, даже не говоря обо всей остальной очереди. Во-первых, с ними была та хрупкая золотокудрая девочка, которая слушала доклад Адриана в подпольной мастерской художника. На этот раз меня познакомили с ней. Я узнал, что Клаша Пешкина приехала с Алтая поступать в Гнесинку так как ее игра поразила Марианну Бунину, когда знаменитую пианистку пригласили послушать учениц музыкальной школы. Клаше негде было жить в Москве, и Марианна Яковлевна поселила ее пока у себя. Разумеется, мне в голову тогда не пришло, что из-за этого мы стали реже «встречаться» с Кирой. А вокруг Адриана толпились молодые люди мужского пола. Это были его единомышленники, последователи, поклонники в более специфическом смысле, чем я тогда мог предположить, хотя кое о чем уже догадывался.
Тетя Маша предпочла бы, чтобы я остался дома на воскресенье, но я уверил ее, что организуется коллективное посещение выставки Пикассо, а против моего участия в коллективных мероприятиях она не позволяла себе возражать. Но кое-что о происходящем у нас в институте она слышала и настоятельно просила меня по возможности не встречаться с Адрианом Луцким, что было тем более странно, так как она хорошо была знакома с его матерью Дарьей Федоровной Луцкой, урожденной Савиновой и знала самого Адриана с младенчества. Тетушка-бабушка, по обыкновению, как в воду смотрела. У нас в институте действительно готовилось комсомольское собрание по вопросам идеологической работы среди студенчества, и об этом собрании ходили противоречивые слухи. Говорили, что ожидаются дальнейшие разоблачения в духе двадцатого съезда, но по мере того, как ситуация в Венгрии обострялась, атмосфера вокруг ожидаемого собрания становилась более напряженной, и распространился слух, что предполагается заклеймить венгерских ревизионистов. Поговаривали даже, что в повестку дня включено персональное дело первокурсника Адриана Луцкого то ли в связи с его идейными завихрениями, то ли в связи с его личной жизнью (тут говорившие многозначительно понижали голос). В такой ситуации я считал непорядочным уклониться от общения с Адрианом, учитывая к тому же наши с ним сложные отношения, о которых, правда, все еще не заходила речь.
И в очереди на выставку Пикассо говорили, главным образом, о событиях в Венгрии. Примечательной особенностью того времени была распространившаяся готовность ввязываться в разговоры на самые острые темы с незнакомыми людьми, за что кое-кто уже поплатился. В очереди «на Пикассо» мнения разделились. Некоторые осуждали венгерских экстремистов, дискредитирующих политику демократизации и осложняющих положение Н.С. Хрущева, и без того шаткое, а успех могут иметь лишь перемены сверху, иначе анархия, хаос и возвращение сталинизма, но это было меньшинство. Большинство в очереди верило в скорейшее распространение венгерских новшеств на советскую действительность; выставка Пикассо воспринималась как одно из таких новшеств, и вся очередь весьма напоминала тихую, но решительную демонстрацию в поддержку венгерских реформаторов.
Но когда нам открылись выставочные залы, настроение новоприбывших зрителей изменилось. Все были слишком ошеломлены, для того чтобы говорить о венгерских событиях. Если уж и говорили о политике, то только о том, как мы могли жить до сих пор и не видеть всего этого. Таков был разрозненный хор отдельных энтузиастов, явно превозносивших Пикассо из принципа и мало что в нем понимавших. По-человечески трогательнее было недоумение среднего зрителя, не понимавшего, но пытавшегося понять. Но уже раздавались и резкие выпады против абстракционистской мазни, предвосхищавшие будущее выступление Хрущева на выставке молодых художников. Хрущев своим выступлением положил конец оттепели, а здесь в залах она еще царила, хотя за окнами сгущалась глубокая осень и на улицах Будапешта должна была вот-вот пролиться кровь.
Я всматривался в голубого испанского Пикассо и вспоминал Врубеля. Живопись началась для меня с картины Врубеля «Пан». Помню, как поразил меня месяц за плечами у этого ясноглазого бородача с мохнатыми бедрами. Я понял, что это живопись, что об этом нельзя сказать словами, а можно только вот так написать: когда Христос воскрес, великий Пан умер', но ведь и о христианском Боге Ницше говорил, что Он умер, но Бог жив и не потому ли Пан жив, ибо Пан – все? А с картин Пикассо на меня веяло голубизною врубелевской сирени. Лишь впоследствии я узнал, что Пикассо в молодости останавливался перед картинами Врубеля и, возможно, воспринял то же веянье: золото в лазури. Во всем этом угадывался и демон Врубеля, не с Демьяна ли Чудотворцева писанный, он же Тамара? Если князь Евгений Трубецкой назвал православную иконопись умозрением в красках, то была и алхимия в красках, предвосхищенная Эль Греко, общим предком Врубеля и Пикассо. Маячил за всем этим и неосуществившийся театр Мефодия Орлякина «Perennis», пиренейская Византия, голубой Китеж и одновременно лазурно-золотая твердыня Монсальват, где погиб Демьян Чудотворцев, о чем я тогда только смутно что-то слышал. Но среди странствующих акробатов Пикассо я невольно искал глазами именно юного Демона-Демьяна Чудотворцева и лишь со временем, читая Бердяева, понял, почему не мог найти его: «В картинах Пикассо чувствуется настоящая жуть распластования, дематериализации, декристаллизации мира, распыление плоти мира, срывание всех покровов. После Пикассо, испытавшего в живописи космический ветер, нет уже возврата к старой воплощенной красоте». Таково начало алхимии, не достигающей синтеза в трансмутации, жуть распластования, дальше которого Пикассо не пошел.
Повторяю, все это только смутно пронеслось у меня в голове и сердце, зато Адриан Луцкий чувствовал себя на выставке Пикассо как дома. «Стягивание света», – сказал он, едва войдя в зал, и мы, слышавшие его доклад «Третий в поле», поняли, что речь идет о бесконечном свете энсофа. Но Адриан не ограничивался умозрительными рассуждениями о кубизме и абстракции (кстати, он тут же высмеял идею абстракции в живописи: картина не может быть абстрактной просто потому, что она картина). Взгляд Адриана отличался математической меткостью и по отношению к специфическим особенностям живописи. Так он первым подметил, что у кошки на картине «Кошка и птичка» и у «Дамы с веером» одно и то же геометрическое лицо. (Адриан именно так и выразился.) Помню, услышав это, толпа зрителей перебегала от «Кошки и птички» к «Даме с веером» и обратно. Для многих, кого я впоследствии встречал на выставках современной живописи, с этого переживания началась живопись Пикассо и вообще двадцатого века, так что, встречая меня, они вполголоса вспоминали Адриана, зная или не зная о его дальнейшей судьбе.
Адриана арестовали накануне седьмого ноября. Помню, как я был удивлен, когда узнал, что он собирается на демонстрацию. «Наверное, не смог уклониться», – подумал я. Сам я сказал комсоргу, что мне трудно приехать на демонстрацию из-за города, хотя не мешало же мне это каждый день ездить в институт, но причину сочли уважительной, так как мне покровительствовал проректор Штофик. Во время обыска у Адриана нашли плакат, который он намеревался развернуть перед самым мавзолеем: «Руки прочь от революционной Венгрии!» Плакат был написан художником, в подвале которого мы слушали доклад «Третий в поле», а сам текст плаката принадлежал, разумеется, Антонине Духовой, она же Антуанетта де Мервей, единокровной сестре Адриана, старой комальбовке, недавно вышедшей из лагеря. Оказалось, что сама Антонина, Адриан и близкие к нему юноши расклеивали воззвания в защиту Венгрии в подъездах московских домов. Истинной вдохновительницей этого дела была Антонина: Адриан, по-моему, не особенно интересовался венгерскими событиями, но счел для себя невозможным уклониться от комальбовского поручения, как будто и сам был коммунистом-альбигойцем. Нескольких друзей Адриана тоже задержали, но быстро отпустили, вероятно не желая создавать видимость массового движения в поддержку Венгрии. Зато делу Адриана хотели придать сначала более широкий, может быть, международный резонанс. То есть осудить его собирались еще на несостоявшемся комсомольском собрании, о котором я упоминал, и тогда бы Адриан еще дешево отделался. Теперь Адриана должен был судить настоящий уголовный суд, поскольку политических преступлений, как известно, в Советском Союзе не было предусмотрено (чуть было не написал «запланировано»). В дело Адриана хотели включить реакционное мракобесие (по-видимому, его занятия каббалой) и даже половые извращения (тогда гомосексуализм считался уголовным преступлением), но опять-таки решили, что скандальная огласка нежелательна, хотя я не исключаю: когда Н.С. Хрущев кричал, что не допустит в Москве клуба имени Петефи, он, возможно, основывался на обвинениях, выдвинутых против Адриана, а клубом Петефи были мы, его слушатели. В конце концов Адриана судили то ли за антисоветскую, то ли за антигосударственную деятельность (в те времена это было одно и то же), и Адриан не признал себя виновным, подчеркнув, что виновным считал бы себя, если бы был пособником тоталитарного режима, посягающего на свободу и независимость другой страны. Так что Адриан вполне заслужил свой приговор: шесть лет колонии строгого режима с тремя последующими годами ссылки.
Но тогда мы еще не могли знать будущего приговора. В головах по старой памяти мелькала мысль о двадцати пяти годах лагерей и даже о расстреле. Дарья Федоровна, мать Адика, не дожила до приговора, убитая мыслью, что с ним там делают. Антонина Духова вела себя точно так же, как четверть века назад при аресте своего юного мужа Никиты. (Кстати, только выйдя из лагеря, она узнала, что он был расстрелян в лагере в самом начале войны.) Антонина снова кинулась на Лубянку, кричала, что это она писала воззвания в защиту революционной Венгрии, что номенклатурная бюрократия во главе с Никитой Хрущевым предает дело мировой революции, что, уж если на то пошло, не Адриан, а она должна быть арестована. Ее вежливо, безучастно выслушали, посоветовали успокоиться и пока идти домой, а когда она с негодованием отказалась, вызвали что-то вроде машины скорой помощи, правда, с решетками на окнах, отнесли ее в эту машину на носилках и чуть ли не в смирительной рубашке отвезли на старую квартиру Луцких, где она жила с Дарьей Федоровной и Адиком. Кира тоже рвала и метала. Она призывала студентов нашего института коллективно выйти из комсомола, чтобы выразить протест против ареста товарища. Никто не отказывался поддержать Адриана, но из комсомола никто не вышел. Из комсомола намеревался выйти один я, полагая, что я должен быть по меньшей мере с Адрианом солидарен. «Мы аки», – вертелось у меня в голове. Поскольку мне предстояло сделать серьезный жизненный шаг, я сообщил о моем предполагаемом выходе из комсомола тете Маше, и она, даже не притронувшись на этот раз к спасительной папиросе, более чем решительно заявила, что отравится, если я так поступлю. В этой угрозе отравиться мне сперва почудилась экзальтация старой институтки, но я вспомнил загадочную смерть моей молодой бабушки Анастасии Николаевны и осудил себя за цинизм. Конечно, мое членство в комсомоле не имело никакого значения для княжны Марьи Алексевны, она боялась только, что меня исключат из института и тоже, может быть, арестуют… Но самое главное, на мой выход из комсомола наложила свое категорическое вето сама Кира. «Нет, не вздумай. – Кира даже ногой топнула. – Иначе я знаешь что сделаю…» Она не сказала что, а меня поразило внезапное сходство с тетей Машей, проступившее в ней в эту минуту Когда Кира пошла заявлять о выходе из комсомола, ее вежливо выслушали, как Антонину Духову на Лубянке, но заявление о выходе не приняли, и дело замяли. Потом в институте распространился слух, что в комитете комсомола поняли чувства Киры, оценили ее благородство и дали ей возможность взять назад свое опрометчивое заявление, как она будто бы и сделала.
Признаться, меня-то больше занимало другое. Как только Адриана арестовали, я решил, что уж теперь-то юбилей Чудотворцева отмечаться не будет: изменился политический курс. Встретив на другой день в коридоре Штофика, я не удержался и прямо высказал ему свои опасения. Мне показалось, что по лоснящемуся лицу проректора скользнула тень тревожного понимания, но Штофик тут же взял себя в руки:
– Помилуйте, э-э… Иннокентий, неужели юбилей старейшего русского ученого может быть отменен из-за… из-за мальчишеской выходки? Как это возможно, после двадцатого-то съезда? Спокойно работайте над вашим докладом… м-да… о Елене Прекрасной и ни о чем таком не думайте. Обращаясь к Фавсту (он произнес по-немецки Faust, а не Фа-уст, как говорят по-русски), докажите, что вы сами истинный Фавстов!
На этом мы расстались, и я поспешил пересказать начальственную шутку Кире, предположив, что, быть может, дело Адриана действительно будет сочтено мальчишеской выходкой, но Кира промолчала в ответ со странной безучастностью, так что я не понял, отчаяние ли это или усталое безразличие, но когда я в тот же день снова встретил Штофика на этот раз уже в филологическом кабинете и спросил его, на какое же все-таки число назначена юбилейная конференция, он ответил мне неуверенно, что всему свое время.
– Доклад Платона Демьяновича состоится двадцать девятого декабря 1956 года, – изрекла вдруг тетя Маша, когда я пересказал ей свои опасения и ответы Штофика.
Меньше всего я мог предположить, что исчерпывающей информацией по вопросу о чудотворцевской конференции располагает моя тетушка-бабушка, не бывающая нигде, кроме своего картофельного института, но в то же время я знал, что она слов на ветер не бросает. Я не позволил себе слишком настоятельно расспрашивать ma tante Marie; я лишь в который уже раз сопоставил даты чудотворцевского рождения по старому и по новому стилю, но ничего похожего на шестнадцатое декабря у меня не получилось. И почему тетушка так резко подчеркнула, какого года будет это шестнадцатое декабря? Потому ли, что это год двадцатого съезда? Оговорилась она или проговорилась? Как же я был удивлен, когда на бабушкино пророчество насчет шестнадцатого декабря откликнулась Кира, до сих пор старательно пропускавшая мимо ушей все, что относилось к Чудотворцеву. Я и упомянул-то эту дату случайно в связи с моей работой над «Фаустом», которую Штофик велел мне продолжать, хотя никакие доклады, тем более студенческие, на Чудотворцевском юбилее вроде не предполагались, в особенности, после истории с Адрианом.
– Двадцать девятого декабря? А не тридцатого ли? – вдруг насторожилась Кира, услышав от меня загадочную дату.
Мало сказать, что я был удивлен, я был поражен ее реакцией. Разговор шел в квартире с концертным роялем, где мы встретились впервые после ареста Адика. Я был очень смущен моральной стороной наших отношений с Кирой, как будто мы пользуемся его арестом для нашего адюльтера, хотя увести жену у арестованного мужа еще аморальнее, но Кира настояла на встрече со всем ее интимным ритуалом, уверив меня, что подобного ритуала требует именно наша верность арестованному Адриану «Третьему в поле». «Не забудь, мы аки», – шептала она в моих объятиях.
– Но почему шестнадцатого или семнадцатого декабря? – допытывался я, лежа рядом с ней на допотопном двуспальном одре красного дерева. – Ректорат, что ли, так решил? Ты слышала что-нибудь?
– Ничего я не слышала. Сам ты неужели не знаешь, почему?
– Ну почему, почему?
– В ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря 1916 года убили Распутина.
– А причем тут двадцать девятое декабря 1956 года? – никак не мог взять в толк я.
– Двадцать девятое декабря 1956-го и есть 16 декабря 1916-го, – отчеканила Кира, а я понял, почему тетушка так подчеркивала год.
– Все равно не понимаю, какое отношение доклад Чудотворцева об Орфее имеет к Распутину, – промямлил я.
– Тут уж я ничего не знаю. Об этом ты лучше Марью Алексевну спроси, – отрезала она.
В первый раз Кира назвала мою тетушку-бабушку по имени-отчеству, как знакомую, и во второй раз мнения обеих совпали: по вопросу о моем выходе из комсомола и теперь вот о дате чудотворцевского доклада. Сговариваются они, что ли? Кстати, Кира на этот раз действительно не знала, о чем будет доклад Чудотворцева. Впервые за последние годы он работал над своим докладом не с ней, а с Клашей Пешкиной. Будущая Клавиша подвергалась первому испытанию, звучит ли она с Чудотворцевым в унисон. Иными словами, то был первый опыт ее секретарской работы. Вот почему мы и смогли встретиться в пустой квартире Марианны Буниной, где пока еще обычно жила Клаша Пешкина.
А Кира разразилась очередным патетическим монологом о Распутине. Оказывается, это от него пошли братания русских и немецких солдат на фронтах Первой мировой войны. Разве Распутин не говорил Феликсу Юсупову: «Довольно кровопролития, все братья, что немец, что француз»? «Разве позор своих братьев спасать?» – добавлял он.
– Может быть, и ленинский лозунг «превратить империалистическую войну в войну гражданскую» на самом деле от Распутина идет? – съязвил я, чей дед поручик Александр Горицветов пал на Мазурских болотах.
– А что ты думаешь? Если бы Ленин встретился с Распутиным, глядишь, и Гражданской войны бы не было, и кровь бы в Венгрии не пролилась. А такая встреча очень даже могла бы быть, если бы Ленин из-за границы приехал раньше, ну хоть на полгода. Встречу Ленина с Распутиным подготавливал этот… ну как его… раб народа (через много лет я встретил это выражение в архиве М.М. Пришвина, который назвал так Бонч-Бруевича, всю жизнь работавшего над сближением русского сектантства с большевизмом, за что, правда, Пришвин и считал его тупоумным).
– Распутина же контрреволюционеры убили, – неистовствовала Кира. – Убийство Распутина – первый акт контрреволюции еще до революции. С убийства Распутина начался террор…
– Красный или белый? – не удержался я.
– Серый! Бесцветный! Сталинский! – огрызнулась она.
– Уж если кто и был заинтересован в убийстве Распутина, так это будущий отец народов, оберкастратор. Может быть, он-то и организовал убийство Распутина, как убийство Кирова…
– Неужели сын сапожника Джугашвили к великим князьям был вхож?
– Охранка куда угодно вхожа. Кто-то среди наших выдал же Адика…
У меня все похолодело внутри. Такая мысль не приходила мне в голову.
– Что-нибудь новое… о деле Адика… ты слышала? – с трудом выдавил я из себя.
– Говорят, его дело смотрит сам Георгий Человеков, – ответила Кира.
К тому времени я уже слышал это имя. Георгий Человеков вел дела венгерских контрреволюционеров. Говорили, что он был среди тех, кто настаивал на срочном вводе советских войск в Будапешт, а до этого поддерживал с так называемыми контрреволюционерами тесные, чуть ли не дружеские отношения. Репутация у Человекова была противоречивая. Образ его двоился в интеллигентском сознании. С одной стороны, он слыл пламенным сторонником двадцатого съезда, но таким пламенным мог быть только фанатик, а двадцатый съезд был направлен именно против партийного фанатизма так что по-настоящему его можно было поддерживать лишь с прохладцей, как его и поддерживал Н.С. Хрущев, даже идя на риск все с той же прохладцей. В ледяной же пламенности Человекова угадывался скрытый сталинизм. Человеков был, бесспорно, образованнее своего окружения, метил в новые партийные идеологи. Ему вредила восточная внешность, в которой бдительный глаз различал явно семитские черты. Вскоре о Человекове пошли слухи, будто он курирует московских тамплиеров или розенкрейцеров, может быть, в провокационных целях. Во всяком случае, он дал добро на юбилейный доклад Чудотворцева. Не исключено, что и с делом Адриана он ознакомился, хотя сам я полагаю, что оно лишь поступило в его аппарат.
– Под влиянием Распутина сам царь чуть революционером не стал, – изрекла вдруг Кира. – Вот его и убили.
– Контрреволюционеры царя убили? – едва пролепетал я.
– Смотря как понимать революцию. Знаешь, как Распутин о Николае Александровиче говорил: «Какой же он царь-государь? Божий он человек». Ты только подумай: отрекся царь от престола, воцарился Божий человек, и с тех пор любовь, а не война.
До сих пор ломаю голову над тем, подхватила ли Кира этот будущий лозунг хиппи раньше, чем они сами или, напротив, до хиппи, Бог знает, по каким астральным волнам дошло то, что Кира сказала мне с глазу на глаз в нашей тайной постели.
Поздно вечером дома я собрался с духом и прямо спросил тетю Машу, почему доклад Чудотворцева должен быть двадцать девятого декабря 1956 года, накануне Нового года. Ведь на доклад никто не придет.
– Все придут… кому нужно… – с деланым спокойствием выговорила она, закурила было очередную папироску тотчас отбросила ее, поправила пенсне и принялась отвечать мне. Ее ответ длился несколько вечеров. В моем пересказе я придаю ее ответу большую связность с вкраплением ее интонаций или, если можно так выразиться, цитат, озвучивая иногда и то, о чем принято было между нами умалчивать.
Осенью 1915 года гимназистка m-lle Горицветова, как и «весь Петербург», была без ума от балерины Аделаиды Вышинской. Ее танец отличался поистине классической безупречностью, но в концертах она выступала несколько иначе и к тому же подготавливала собственные балеты, в которых, по слухам, не только следовала новейшим веяниям, но и допускала нечто вроде восточной и новейшей западной магии, что начинали усматривать и в ее самом что ни на есть классическом танце. При этом Аделаида ревностно посещала церковные службы, не только католические, но и православные, едва ли не намереваясь перейти в православие, о чем поговаривало с раздражением польское общество. Поклонники Аделаиды Вышинской предпочитали говорить о мистике, а не о магии ее танца, но так или иначе о ней говорили, говорили, говорили, – хотя балерина умела ценить и молчаливое обожание.
Каждый вечер, выходя из подъезда, чтобы сесть в таксомотор, или возвращаясь домой, Аделаида видела на улице под открытым небом одинокую стройную девичью фигурку Незнакомка явно поджидала ее, но никогда не обращалась к ней. У Аделаиды возникли даже определенные опасения. Ей было чего опасаться. Уже предпринимались попытки плеснуть ей в лицо серной кислотой. Интересно, что, кроме дам, ревнующих к Аделаиде своих мужей, у нее были ненавистницы среди одиноких женщин. Высказывались предположения, что Аделаиде мстят конкурентки, искательницы богатых содержателей. Но никак не удавалось вычислить мужчину, сановника или финансиста, который содержал бы распоясавшуюся танцорку, живущую в сказочной роскоши. Роскошью этой Аделаида была обязана, по слухам, щедротам женщины, эксцентричной молодой купеческой вдовы Марфы Бортниковой, сорившей миллионами так, что родня не раз пробовала учредить над ней опеку, но суд упорно отклонял подобные происки, не находя для них оснований. Говорили, что Аделаида имеет влияние при дворе, хотя было точно известно, что при дворе она не принята. «Ну и что ж, – отвечали на это, – к ней оттуда ездят». «Эта польская змея кого хочешь оплетет, мудрено ли, что она Марфутку-дуру оплела», – вздыхал седобородый дядя Марфы Бортниковой. При всем при том ни в один скандал Аделаида не была замешана, и ее девичья репутация формально оставалась безупречной.
И вот в один прекрасный петербургский вечер под холодным проливным дождем Аделаида, выйдя из таксомотора, сама подошла к моей юной тетушке-бабушке и предложила ей зайти. «Вы простудитесь, моя хорошая», – сказала она так сердечно, что Машенька не могла устоять. Так Машенька впервые попала в зимний сад Аделаиды Вышинской, о котором в Петербурге ходили легенды. Машеньке сперва почудилось, что она оказалась в тропическом лесу или по меньшей мере в гигантской оранжерее, но потом она поняла: это была всего лишь просто просторная комната, оплетенная, главным образом, плющом, свисающим со стен и с потолка. Подобная растительность и вызывала ощущение простора, маскирующегося ползучими отпрысками. Впечатлению затаенного простора способствовало и освещение. Зимний сад был освещен ароматическими свечами, чье благоухание хотелось приписать растениям. (Теперь, когда у меня ночует мадам Литли, я думаю, не те же ли благоухания распространяют в моем убогом доме ее ароматические свечи, да и ночует она за печкой, где ma tante Marie рассказывала о своих посещениях Аделаиды.) Кроме плюща, в зимнем саду были другие, настоящие тропические растения, даже пальмы, но больше всего Машеньку поразило сочетание ярких разноцветных орхидей с ландышами (осенью-то! Но в любое время года без ландышей в своей артистической уборной Аделаида не танцевала, в какой бы стране и на каком бы континенте ни проходили ее гастроли). К этой гамме присоединялась белая сирень Le Moine из московского садоводства Николая Алексеевича Сидорова.
Но Машенька не успела осмотреться в зимнем саду; Аделаида повлекла ее за собой, раздвинула плющ, за которым обнаружилась дверь («дверь в стене», – вспомнила Машенька рассказ Уэллса), отомкнула ее особым ключом и сразу же заперла дверь за собой. (Думаю, сердечко отчаянной читательницы маркиза де Сада при этом хоть на секунду, но замерло.) Но ничего опасного в комнате Машенька не увидела, сразу же окрестив ее про себя девичьей горенкой. В комнате не было ничего, кроме кушетки у стены. Но пол, стены и даже потолок были застланы одним и тем же восточным ковром, заглушавшим не только шаги, но и прыжки балерины. Аделаида на минуту исчезла за ширмой и вернулась в легком муслиновом пеньюаре. Такой же пеньюар она предложила Машеньке, и та вынуждена была переодеться, несмотря на все свое смущение, так как совсем промокла. После этого Аделаида коснулась ковра над кушеткой, где, вероятно, была кнопка звонка, снова отомкнула потайную дверь, из чьих-то невидимых рук взяла подносик с дымящимся чайным прибором и печеньями, снова заперла дверь на ключ и указала Машеньке место рядом с собой на кушетке, пододвинув круглый столик на единственной длинной ножке, похожий на ломберный. Чаепитие кончилось поцелуями, объятиями, и между новоявленными подругами наступила степень близости, которую ma tante дала почувствовать мне, предпочитая умалчивать о ней.
С этого вечера свидания Машеньки и Ади, как она называла Аделаиду, стали если не регулярными, то очень частыми. Marie даже уроки у нее готовила, уверив Екатерину Павловну что занимается вместе с подругой (в сущности, так оно и было). Аделаида узнала, что Marie занималась и хореографией, обнаружила блестящие способности, но мать прервала эти «занятия»: «Научилась танцевать, и хватит с нее! Не на сцену же ей идти!» «Ах, эти предрассудки аристократические! – вздыхала Адя. – А я вот через них переступила. Тебя Бог создал моим сценическим двойником, а меня так обездолили». Когда я присматриваюсь к редким портретам Аделаиды, я не замечаю сходства с тетей Машей, но видно было, что она сама все еще согласна со своей Адей, как она иногда ее называла (Аделаида была старше ее на пять лет; может быть, сходство проявлялось в телосложении, а не в чертах лица, а может быть, то была лишь девичья фантазия). Аделаида особенно нуждалась тогда в сценическом двойнике, подготавливая свой собственный балет «Любовь и Параскева». Кто знает, может быть, ее замысел так и не осуществился лишь потому что Адя перестала искать себе двойника, найдя Marie, а время, чтобы стать настоящей балериной, для Marie было упущено. Наверное, Адя рассказывала удивительные вещи Машеньке о своем предполагаемом балете, но ma tante Marie мало что о нем говорила мне, то ли ей было тяжело вспоминать, то ли подругам наедине было не до слов, что ma tante Marie и передавала своими умолчаниями.
Так или иначе, они встречались под предлогом уроков, которые Аделаида согласилась или предложила давать Marie Горицветовой. То были уроки танцев или хореографии (с какой точки зрения посмотреть), но с ними вынуждена была смириться в конце концов и Екатерина Павловна, когда строптивая дочка поставила ее, так сказать, перед фактом и продемонстрировала результаты этих уроков. Екатерина Павловна пыталась возражать против уроков, так как она не в состоянии их оплачивать, а принимать благотворительность польской панны им тоже не к лицу. Аделаида нашла повод встретиться с Екатериной Павловной в одном из петербургских салонов, и была с ней так мила и любезна, что Екатерина Павловна не устояла. Да и похвалы хореографическому дару ее дочери вскружили голову даже княгине Горицветовой, хотя она и пыталась это скрыть и не могла себе представить свою дочь на балетной сцене. Невозможность профессионального будущего для Машеньки была очевидна, и не о ней ли плакали подруги, утешая одна другую объятиями после уроков? Для Екатерины Павловны оставалось только сомнение в репутации Аделаиды Вышинской, но Машенька с негодованием уверяла, что вообще никогда не встречала у Аделаиды мужчин.
– Еще не хватало бы! – окрысилась Екатерина Павловна. – Она не для тебя их приглашает. Да грешить можно и с женщинами, – загадочно или, напротив, слишком прозрачно намекнула она.
Не исключаю, что стойкое отвращение к замужеству, заметное в жизни былой красавицы Марьи Алексевны, объяснялось не только долгом перед семьей, но и, теми уроками-свиданьями на заре туманной юности, хотя заря-то была, а юность не успела наступить. Аделаида много значила для нее, и, вспоминая свои «петербургские вечера» сорок лет спустя, моя тетушка-бабушка не раз протирала затуманившееся пенсне. Аделаида говорила ей, что она монахиня в миру, а значит, любовь и жизнь женщины, воспетые Шамиссо – Шуманом, не для нее. Мгновенно промелькнула зима. На лето Екатерина Павловна с дочерью, невесткой-вдовой и внучкой Веточкой, моей будущей матерью, переехала на дачу в Мочаловку, где они продолжали молча оплакивать убитого сына, брата и мужа, но Аделаида и туда приезжала проведать подругу, останавливалась, разумеется, на Совиной даче, и на подмостках театра «Красная Горка» состоялся даже однажды ее сольный концерт, причудливая композиция по балету «Марина» (о Марине Мнишек). Интересно, что ее танцам аккомпанировала за фортепьяно Маша Горицветова.
Но и лето промелькнуло, и наступила роковая осень 1916-го. Уроки возобновились и сделались еще более продолжительными. Marie уже откровенно манкировала занятиями в гимназии, хотя год для нее был выпускной, и ее в гимназии кое-как выручала лишь блестящая память и сумбурная, но обширная начитанность. В ту следующую осень уединение подруг скоро начало прерываться. В мастерскую балерины, где шел урок, все чаще вбегала горничная Аделаиды, приземистая коренастая девушка с монгольскими чертами лица (кажется, она была калмыцкого, а может быть, бурятского происхождения), и докладывала, что приехал князь Лик и настоятельно просит принять его, но Аделаида всегда решительно отказывала, и в присутствии Машеньки князь Лик ни разу принят не был. Впрочем, Машенька сразу догадалась, кто такой князь Лик, да Аделаида и не скрывала этого.
Но однажды тревожно постучали в девичью горенку, где подруги отдыхали после урока, раскинувшись на ковре. В девичью горенку даже горничная не допускалась Аделаидой, по крайней мере, в присутствии Машеньки. Чайный прибор Адя всегда сама брала из-за потайной двери, разве что чуть-чуть приоткрытой. Стуком на этот раз дело не ограничилось. Послышался тревожный голос горничной: «Аделаида Ксаверьевна! Григорий Ефимыч спрашивает вас, непременно желает вас видеть». И Аделаида покорно встала с ковра, шагнув за ширму, где она обыкновенно одевалась:
– Ладно, скажл им, я сейчас выйду, а ты чаю подай, пускал они пока чаю попьют.
«Неужели это она про Распутина говорит „они“», – удивилась про себя Машенька. Аделаида, видно, не сомневалась, что подруга не может не понимать, кто ее спрашивает. Она прямо обратилась к Машеньке:
– Коли не хочешь, не выходи, сердечко мое. Я от него скоренько отделаюсь.
Но Маша тоже поспешно оделась и вышла в зимний сад вместе с Аделаидой. Посреди зимнего сада на столе под пальмой кипел небольшой самовар, а с Распутиным пил чай, как сам Распутин, с блюдечка, не кто иной, как Платон Демьянович Чудотворцев. «Вот почему „они“», – мелькнула мысль в Машенькиной головке. Маша вспомнила потом, что Распутин был одет, как в свою последнюю ночь, в белую рубашку, вышитую васильками, а подпоясан он был малиновым шнуром. Видно, он имел обыкновение так одеваться, отправляясь в гости в ту осень и в первые недели зимы, еще предстоявшие ему Гораздо более странным показалось Машеньке, что Платон Демьянович одет как-то уж слишком по-домашнему Галстук на нем был белый с черным, но пиджак был не надет в рукава, а лишь накинут на плечи, словно какая-нибудь кацавеечка. При свете ароматических свечек волосы Чудотворцева нежно отсвечивали цветом ландышей, благоухавших вокруг. «Иначе, как седым, я его не видела», – говорила тетушка-бабушка. А тогда она подумала, что невольно ввела в заблуждение свою maman насчет отсутствия мужчин в квартире Аделаиды. Похоже, Чудотворцев, частенько наезжая из Москвы в Петербург, проживал в одной из комнат просторной Аделаидиной квартиры, где и работал над своей книгой «Философия танца», а также над либретто балета «Любовь и Параскева». Он мог быть в квартире и тогда, когда подруги упивались блаженно безнадежными уроками. Нечего и говорить, что Машенька была знакома с Платоном Демьяновичем, частенько навещавшим ее маменьку когда с Аристархом Ивановичем Фавстовым, а когда и сам по себе. И с Распутиным Машенька была знакома. Екатерина Павловна верила в его мистическую силу хотя и предпочитала своей веры не афишировать, но она умоляла старца помолиться за упокой души воина Александра. К себе приглашать Распутина Екатерина Павловна стеснялась или не отваживалась, зато охотно бывала в домах, где он бывал, и не только сама с ним познакомилась, но и Машеньку подвела к нему за руку, не повлияет ли старец на строптивую дочку И Распутин заметил Машеньку, более того, отметил ее, а княгиню успокоил: «Не тревожься о ней, барыня-сударыня; дочка твоя будет шелковая, вот как этот шнурок», – сказал он, поигрывая своей малиновой опояской.
– A-а, вот и Мария пожаловала, – сказал Распутин и даже блюдечко с недопитым чаем на стол поставил. – Марии-то нам и не хватало. Марфа, скажем, у нас есть, и печется она о многом, но Марфа без Марии ничто, да и Мария без Марфы ничто; Мария благую часть избра, яже не отымется от нея.
Я всегда вспоминаю эти слова Распутина, когда перечитываю «Ключи Марии» Есенина, где в эпиграфе говорится, что Марией на языке хлыстов шелапутского толка называют душу. А Машенька сразу догадалась, что Распутин говорит о Марфе Бортниковой, чьим щедротам, по слухам, Аделаида была обязана и роскошной квартирой, и возможностью ставить собственные балеты. Маше показали Марфу Бортникову на премьере балета «Поэма экстаза», в котором Аделаида выступала не только как балерина, но и как хореограф. Марфа ходила всегда в темном шелковом платье, высокая, статная, тяжелые, темно-русые косы были обмотаны вокруг ее головы. «На такой косе удавиться можно», – сказал тогда неподалеку от Машеньки неприязненный женский голос. «И давно бы пора», – отозвался другой. «Исходила младешенька все луга и болота», – как бы угадав Машины мысли, запел Распутин тем низким приятным голосом, который упоминают мемуаристы. Когда Распутин допел до «злой раскольницы», он подмигнул Аделаиде, и ту слегка передернуло.
– Великий философ простоты, – сказал Чудотворцев.
– Ну, какой я философ, – отозвался Распутин, – я философ, пока я Зеленому подвержен.
Маша подумала сперва, что под Зеленым Распутин подразумевает Аделаидин зимний сад, уподобляя его, быть может, райскому саду. Но о своей приверженности Зеленому Распутин говорил не только Машеньке. Эти слова Распутина впоследствии по-разному истолковывали. Кое-кто усматривал в Зеленом зеленого змия, другие предполагали несколько позже, что это зеленые человечки, пришельцы из космоса. Я слышал даже гипотезу будто зеленые, воевавшие во время Гражданской войны и с красными и с белыми, предсказаны или накликаны Распутиным. Но Марья Алексеевна настаивала на том, что, говоря о Зеленом, Распутин глаз не сводил с Чудотворцева при всех его сединах. Празелень, что ли, патриархальная ему в них виделась? Мусульмане, впрочем, знают, что Зеленым зовется Бессмертный, то ли ангел, то ли человек, и Машеньке даже почудилось, что, покосившись на Чудотворцева, Распутин то ли отхаркнулся, то ли буркнул: «Хызр!»
– Кощей Бессмертный! – усмехнулся Чудотворцев.
Мучительно сладостное уединение подруг было с тех пор омрачено ожиданием неизбежного чаепития с Распутиным и Чудотворцевым. Когда бы они ни вышли из девичьей горенки, Григорий Ефимович и Платон Демьянович неизменно сидели друг против друга за чайным столом в зимнем саду. Распутин величал Чудотворцева запросто: «Демыч», что иногда воспринималось как «Демонович». Если Аделаида выходила из девичьей горенки одна, он сразу накидывался на нее: «Постой, Ада-Лида, а где Манок? Манка давай сюда». Так что Машеньке не удавалось миновать чайного стола, да и трудно сказать, насколько она к этому стремилась.
И очень часто во время чаепития объявлялся князь Лик. Горничная так и докладывала о нем: «Князь Лик!» – но ни разу Аделаида не приняла его, а Маша знала: когда бы она не вернулась домой, там будет ждать ее князь Лик, заехавший якобы с почтительнейшим визитом к ее матушке.
Как только горничная в первый раз доложила о нем, Машенька сразу догадалась, кто это. По имени она мне его так и не назвала, все говорила «Лик» или «Ликочка», и я могу только предположить, не князь ли Феликс Юсупов то был, а тогда Мария Г. из его мемуаров – моя тетушка-бабушка.
Он и раньше заезжал к ним нередко. Машенькой князь Ликочка заинтересовался, когда ее исключили из Института благородных девиц за чтение маркиза де Сада. Молодой князь дал ей почитать «Портрет Дориана Грея» в оригинале («for exercise in English», – успокоил он маменьку). С тех пор он полюбил вести длинные, довольно рискованные разговоры с княжной, и Екатерина Павловна даже вообразила, что он в конце концов посватается к Машеньке. Но князь Лик женился на другой, а ездить продолжал. Осенью 1916 года его визиты имели вполне определенное обоснование и конкретную цель. Он предостерегал Екатерину Павловну от Распутина. Неожиданно эстет с причудливыми сексуальными наклонностями князь Лик превратился в консервативного патриота крайне правого толка, защищающего устои православия, самодержавия, народности. Он говорил о тлетворном влиянии Распутина при дворе, более того, на царскую семью, доказывал, что Распутин, быть может, сознательный или бессознательный агент иностранного влияния, подчиняющийся, по собственному признанию, зеленым и зелененьким, причем зеленые живут в Швеции.
«А не в Дании ли?» – должна была при этом подумать Екатерина Павловна, несомненно листавшая труд своего поклонника Аристарха Ивановича Фавстова о Рюриковичах и к тому же приближенного ко вдовствующей императрице, она же датская принцесса.
– Но вы-то, ma tante, уже знали кто на самом деле Зеленый. Вы сказали об этом бабушке Кэт?
– Не то чтобы знала, я только догадывалась, mon enfant. Не забудь, я была еще девчонка, и Ликочку боялась подвести, как и он меня. Да и были у меня какие-то смутные опасения. Поймите: Платон Демьянович у нас в доме бывал, и maman чувствовала к нему некоторую симпатию, и каково ей было бы узнать, что Платон Демьянович днюет и ночует у Аделаиды…
– Должно быть, князь Лик и рассчитывал на то, что она узнает…
– Похоже на то, mon enfant. Ему очень хотелось бы, чтобы маменька перестала пускать меня к Аделаиде, а просто наябедничать на меня Ликочка не мог, как и я на него; мы же с ним дружили.
– Но почему он вас от Аделаиды-то Ксаверьевны отвадить хотел? Потому что вы мешали ему встречаться с ней? Потому что вы встречались у ней с Чудотворцевым? Или… или с Распутиным?
– Сколько вопросов, mon enfant! И как вы сами еще зелены! Поймите: князь Лик был обольститель. Когда-нибудь вы прочтете Киркегора «Дневник обольстителя», там еще о «Дон Жуане» Моцарта он удивительно пишет. Но Киркегор написал «Дневник обольстителя», хотя сам обольстителем не был, а Ликочка действительно был обольстителем, но ничего путного не написал, разве что мемуары плохонькие, неизвестно кому надиктованные. Для обольстителя существенно не… не плотское обладание, а обладание душой обольщенного, лишь подтверждаемое обладанием физическим, причем лучше, если такого подтверждения не требуется.
– И Распутин тоже таким обольстителем был?
– На Распутина-то Ликушка и охотился, его-то и обольщал. Его прежде всего. Но и всех нас тоже, и Аделаиду, и меня, и даже маменьку…
– Он ревновал вас… к Распутину? Или к Платону Демьяновичу?
– Он Распутина ко мне ревновал… И к Аделаиде, и к маменьке… К царю ревновал, к царице, к великим княжнам… Так ревновал, что убили его…
– Он убил?.. Из ревности?..
– Из ревности, да, из ревности. Обольститель ревнив, mon enfant, вам пора уже понять это.
– Но тогда и Распутин должен был обольстить… прельстить его?..
– Григорий никого не прельщал, пойми ты это. Григорием прельщались, что было, то было.
– У нас в институте говорят… – я запинался, приноравливая к стилю моего общения с тетушкой-бабушкой Кирин подпольный пафос, – у нас в институте говорят… что Распутин был апостолом… свободной любви… проповедовал революцию пола… Не в этом ли и ваш князь Лик его обвинял?
– Да, Ликочка повадился рассказывать маменьке о распутинском разврате… но вы не верьте этому, mon enfant. Покаяние проповедовал отец Григорий, а не разврат. Революцию покаяния, если уж о революции говорить, возвещал.
– А его кутежи? А его… мужская сила?
– Вы, mon enfant, про Анну Александровну Вырубову слышали? Царица вместе с ней музицировала. Говорили, что Анюта к Распутину ближе всех. А когда при Временном правительстве сформировали комиссию по расследованию преступлений царского режима (Блок в комиссию входил, не побрезговал), то Анна Александровна подверглась судебно-медицинской экспертизе и оказалась… девственницей. – Тетушка-бабушка на этом слове чуть-чуть запнулась.
– Может быть… может быть… исключение? – еле выговорил я.
– Блоку Руднев рассказывал, следователь, а Блок ваш любимый в дневник записал. Я наизусть запомнила: «Распутин гулял в молодости; потом пошло покаянье и монастыри… ни с императрицей, ни с Вырубовой он не жил». Чего только Ликочка не болтал о нем, а как до настоящего расследования дошло, ни одна дама ничего не подтвердила.
– Что же, князь Лик не только старца, но и всех этих дам оклеветал? – спросил я не без оттенка провокации. Тетушку-бабушку покоробило.
– Как легко вы словами бросаетесь! Переняли нынешнюю моду Не знаю, стоит ли говорить вам. Сами эти дамы распускали о себе такие слухи, позорили себя, чернили, чтобы пострадать.
– Как это?
– Григорий Ефимович так учил. Величайший грех – гордыня. Величайший подвиг – гордыню сломить, претерпеть напраслину, как Христос терпел. Вот старец и учил этих дам винить себя и его в разврате, чтобы смириться, унизиться, опозориться.
– А если женщина действительно чиста? Как Анна Александровна Вырубова, по вашим словам?
– Чистотой гордиться тоже грех. А высший подвиг – остаться чистой и прослыть падшей. Но не всем такой подвиг под силу Лучше утратить чистоту и покаяться, чем гордиться ею и тешить дьявола. Я сама слышала, как старец говорил: «Ходили как павы… Думали, что весь свет для них… Я полагал, что надо их смирить… унизить… Когда человек унизится, он многое постигает…»
– И он помогал им унизиться… Сам унижал их… своей мужской силой?
Ни один мускул не дрогнул на лице у тети Маши, но мне показалось, что это стоило ей усилия.
– Опять ты не про то. Говорил же он: «Мне прикоснуться к женщине все равно что к чурбану. У меня нет похоти. И дух бесстрастия, во мне сущий, я передаю им, а они от этого делаются чище, освящаются». А еще он говорил: клин клином вышибают.
– Значит, не согрешишь – не покаешься, а не покаешься – не спасешься, – сказал я и тотчас пожалел об этом. Я нечаянно, а может быть, и не так уж нечаянно задел тетю Машу за живое.
– Не к лицу вам повторять за глупыми людьми эти вполне разумные слова. Просто они грешат и не каются. А кто кается, тот не грешит.
– Как это?
– Повторяю тебе, все очень просто, и потому невероятно трудно. Одно покаяние – не грех, все остальное – грех. Один Бог без греха, но и Бог покаялся в том, что мир сотворил. Если бы хорошим поведением спасались, Христу на крест идти не надо было бы.
– А как же нравственность?
– Нравственность – перевод немецкого «Sittlichkeit». Вам пора бы это знать. По-русски говорят не «нравственность», а «праведность». А праведность – это смирение. Смирению-то он и учил.
– Не пойму только, в чем его-то смирение было, – притворно возмутился я, чтобы вызвать ее на дальнейшую откровенность.
– А в том и было, что мог святым прослыть, а все сделал для того чтобы слыть пьяницей и развратником. Представляешь себе, что было бы, если бы он в скит ушел, схиму принял бы, затворился бы? Вся Россия у ног его была бы, из святых святым считался бы при жизни и после смерти. А он предпочел ругаться миру…
– Как это ругаться?
– Юродивый приходит из пустыни, обличает мир, миру ругается и себя на поругание отдает.
– Так вы его юродивым считаете? Душевнобольным?
– Душевнобольной юродивым не бывает.
– Что ж, юродивый симулирует?
– Называй это так. Только симулируют ради какой-то выгоды, а юродствуют, чтобы пострадать. Я верю, он действительно хотел уйти в глухое место и там спасаться, соблюдая древний устав подвижнической жизни. Ликушка сам это от него слышал, он взял и пошел на смерть и убить себя заставил Ликушку. Никогда ему этого не прощу.
В голосе тети Маши послышались слезы.
– Как заставил? – не мог не спросить я.
– Так и заставил. Он же знал, на что толкает Ликушку, и умереть пожелал от руки любимого красавца. Ликушка просто не мог иначе поступить, и Григорий знал это.
– Знал?
– Конечно знал. И на смерть шел по доброй воле, бедным Ликочкой играл. Ликочка-то к покаянию не способен был, так ведь и Ликочка – человек, за что же он погубил его?
Слезы текли по ее щекам.
– Как же князь Лик ничему от него не научился? Он же к старцу близок был.
– А при дворе все такие были. Неспособные к покаянию. Григорий Ефимович от них царя спасти хотел, за это Григория Ефимовича и убили. И царя убили, как он предсказывал.
– А будь Распутин жив, он царя бы спас?
– Он и спас его. Душу его спас, к мученичеству привел. Царь умер, как Григорий: мученической смертью. Такой смерти Григорий Ефимович всю жизнь искал. Вы вряд ли знаете, mon enfant: на старца покушение было в тот самый день, в тот самый час, когда эрцгерцога Фердинанда убили и мировая война началась. А Григорий все время старался войну прекратить, хотел замирения с Германией. Этому его зелененькие учили…
– Зелененькие?
– Да, Аристарх Иванович и Платон Демьянович.
– А он царя этому учил? Как Ленин? Превратить империалистическую войну в войну гражданскую?
– Гражданская война с того и началась, что его убили.
– Что ж царь-то не покаялся?
– Он покаялся. От престола отрекся. Только отречься надо было раньше, пока Григорий был жив.
– И что тогда?
– А тогда было бы народное царство. О таком царстве и Николай Александрович думал. Для того и мужика к себе приблизил. Народное царство: православный царь, крестьянство, и настоящая, исконная, древняя знать, а не это непрочное, малородовое дворянство, как Леонтьев сказал. Николай Александрович всегда такого дворянства недолюбливал. Вот они все на мужике и выместили. Но Николай Александрович народного царства провозгласить не мог.
– Почему не мог?
– Он мог только от престола отречься вовремя. И тогда явился бы Царь Истинный.
– А кто Царь Истинный?
– Этого тебе никто не скажет, кроме него.
– Кроме кого? – зачем-то спросил я, хотя отлично понял, кого она имеет в виду. И тетя Маша поняла, что я понял.
– Подожди! Вот шестнадцатого декабря, то бишь двадцать девятого он возьмет да и скажет, если нужным сочтет.
Нечего и говорить, что юбилейный доклад Чудотворцева действительно был назначен на 29 декабря, в четыре часа дня. Это подтвердилось, пока я вел с тетей Машей наши вечерние разговоры, за которые прошу извинения у читателя, если он сочтет мою запись чересчур подробной, но я не сумел без нее обойтись, тем более что писал по памяти.
Уроки хореографии у Аделаиды утратили между тем свою интимную задушевность. Обе подруги тревожно ждали, не будут ли сидеть за чайным столом Распутин с Чудотворцевым к тому времени, когда они выйдут из девичьей горенки. Не то чтобы чаепития под пальмами участились. Пожалуй, Распутин появлялся даже реже; по-видимому, сама Аделаида не знала, приедет он или нет, но настороженное напряжение, в котором подруги не решались признаться одна другой, тяготило обеих. Вероятно, то было предчувствие. А Распутин, сидя за чайным столом, не говорил ни о чем тревожном. Напротив, он рассуждал исключительно об искусстве, прибегая к своим особенным выражениям, непохожим на эстетический жаргон тогдашних салонов. Маша с недоумением слушала, как Распутин говорил за чаем: «Танец, принеси еще клюковки!» или «Танец! Вареньица бы нам еще малинового!». (Распутин вообще предпочитал конфетам разные варенья, в особенности малиновое и царское варенье из крыжовника; любил также клюкву, протертую с медом, ел мятные пряники, а к пирожным не притрагивался.) Маше запомнился хищный и одновременно нежный жест Распутина, разбивающего молотком кокосовый орех, как прокопченную заморским колдуном голову лесного карлика, поросшую редкими волосенками. Маша сперва подумала, что Григорий Ефимович фамильярничает с хозяйкой, называя ее «Танец», но оказалось, что обращается он все-таки к расторопной горничной: миловидную монголку звали Таней. А Распутин, поглядывая то на Аделаиду, то на Машу, повторял на разные лады: «Танец служит, пляс верховодит». Распутин убеждал Аделаиду в том, в чем ее и убеждать не надо было: ее представление или действо (слова «балет» Распутин не употреблял) без Маши состояться не может:
– Манок – твой двойник, Адушка-Лидушка! Ты танцуешь, Манок пляшет. Это Марфе-плоти выучка требуется, Мария, девица-душа, не плясать не может. Надо ее скорее Орляку показать.
(Изрядно постаревший Мефодий Орлякин имел отношение и к балету «Любовь и Параскева». Едва ли не ему принадлежала идея этого балета. Более того, monsieur Methode склонял самого Распутина к участию в балете, и тот вроде бы не отказывался.)
– Кого я там представлять буду? – говорил он, прихлебывая чай, в ответ на недоуменный взгляд Машеньки. – А мужика, простого мужика, каков я и есмь. Мужики в представлении плясать будут, и я среди них.
Распутин развивал причудливую идею, будто пляс есть покаяние: «Царь Давид плясал, чтобы Сын Божий родился, а Иродиадина дочка танцевала, чтобы голову Иоанна Предтечи заполучить». По Распутину выходило, что человек пляшет, когда на него Дух накатывает и происходит соитие души с Духом. Пляс – единство покаяния и блаженства: «В аду на горячих угольях пританцовывают, а в раю пляшут». Человек пляшет от сокрушения и восторга, когда сознает, что нет ему прощения, а Бог прощает его. Когда каждый поймет, что не заслуживает ничего, кроме ада, а по воле Божьей попадает в рай, тогда и будет рай. Танец от искусства, сиречь от искушения, пляс только по наитию. В пляске человек обоживается. «Когда бы мы себя знали – мы были бы боги», – говорил Распутин.
– Псалтири много, – вставил Чудотворцев слово, подхваченное Блоком. – «Азъ ръхъ: бози есте». Это Бог сказал в сонме богов. А змий сказал: «будете яко боги», как будто мы уже не боги. Вот и получается: кто себя знает, тот добро и зло знает. Каждый каждому и самому себе запретный плод, вот почему каждый перед каждым и грешен, и перед Богом грешен, ибо каждый – образ Бога и подобие. Но когда каждый перед каждым, а стало быть, и перед Богом покается, будет рай.
– Вот я и говорю, – сказал Распутин, – Бог есть любовь, а любовь пляшет, и Параскева Пятница пляшет. После Страшного суда все запляшем: и папашка, и мамашка, и Алешка, и Ольга, и Татьяна, и Марья, и Настасья и весь народ православный, и немцы, и татары, и евреи.
После этого перечня он запел:
Ты Настасья, свет Настасья, Отверзай царски врата, Встречай батюшку Христа, С милосердьем, со прощеньем И со Светлым воскресеньем.«Блаженны пляшущие, – усмехнулся Чудотворцев, – ибо их есть Царство Небесное. Горе имейте сердца ваши, братья мои, выше, выше. Но не забудьте и про ноги. Горе имейте и ноги ваши, добрые плясуны, а еще лучше: станьте-ка также и на голову».
Распутин вскочил из-за стола, выкинув смазными сапогами два-три коленца. Казалось, он готов пуститься в пляс или даже действительно стать на голову но что-то удержало его, быть может, отсутствие аккомпанемента.
– Видала, как я пляшу? – обратился он к Машеньке. – Не видала, конечно, по кабакам не ходишь. Слушай, девица красная, заходи ко мне послезавтра, этак в полдень, заходи и увидишь, как Гришка пляшет. Завтра ты не можешь, я помню, завтра ты Демыча слушать пойдешь. А послезавтра заходи, заходи, Манок, непременно, ждать буду.
С этими словами он откланялся. Разговор происходил 15 декабря 1916 года. На другой день действительно была назначена лекция Чудотворцева «Мистерия Орфея». Начаться она должна была в четыре часа пополудни, не в университете, а в одном из небезызвестных петербургских салонов, точный адрес которого мне установить не удалось.
Точно так же я не знаю, кто пришел на лекцию. Насколько мне известно, присутствовало на ней совсем немного слушателей. Наверняка на лекции была Аделаида. Пришла Екатерина Павловна Горицветова с дочерью. Разумеется, был Аристарх Иванович Фавстов. Появился на лекции и Мефодий Трифонович Орлякин; в ореоле редких седых волос он улыбался во все стороны, как будто был окружен знакомыми, хотя знакомых вокруг было немного, просто потому что слушателей у Чудотворцева в тот вечер было немного, да и знакомых у Орлякина поубыло. Арлекин заметно прихрамывал, что не мешало ему приплясывать почти по-прежнему. Распутина на лекции не было. Да и на что ему была эта лекция?
О лекции Чудотворцева сохранились лишь разрозненные свидетельства, нередко противоречащие одно другому так как слишком заметно в них желание подогнать сказанное под произошедшее буквально на другой день. Может быть, в каких-нибудь архивах и найдется еще текст лекции или хотя бы ее тезисы; на такие находки я продолжаю рассчитывать, а пока вкратце перескажу лекцию, как я сам ее себе представляю по воспоминаниям тети Маши и по некоторым случайным записям.
Конечно, лекция «Мистерия Орфея» теснейшим образом связана с книгой Чудотворцева «Бессмертие в музыке», вышедшей в свет в том же году Штофик довольно точно, хотя и упрощенно подытожил ее, упомянув таинственную мелодию, которую ищут композиторы всего мира с тех пор, как она забыта. Следует правильно интерпретировать само название книги: не «Бессмертие в музыке», а «Бессмертие в музыке». Акцентировка здесь чрезвычайно важна. Музыка – не частный случай бессмертия, а единственная его форма, доступная (или недоступная) смертным. Иными словами, бессмертие лишь в музыке, а не где-нибудь еще. Но Штофик ошибся, приписывая Чудотворцеву мысль, будто музыка воскрешает мертвых. Воскрешение мертвых – особая проблема, музыка же в своем единственном, таинственном, истинном проявлении (Чудотворцев любил созвучие «единственный» – «таинственный» – «истинный») дарует смертному бессмертие при жизни, и в этом соблазнительная, прелестная загадка музыки. Тут-то и возникает проблема Орфея. «До Гомера был Орфей», – сказал Малларме, имея в виду исключительно поэзию. Но поэзия совпадала с музыкой для Орфея, чей предшественник и учитель – якобы безвременно умерший Лин, о котором свидетельствует Рильке:
Говорит нам преданье, что плач о божественном Лине Музыкой первой потряс оцепенелую глушь; Юного полубога лишилось пространство, и в страхе Пустота задрожала той стройною дрожью, Которая нас утешает, влечет и целит.(Первая дуинская элегия, заканчивающаяся этими строками, была написана за четыре года до лекции Чудотворцева, хотя Чудотворцев вряд ли мог знать ее в 1916 году.)
Итак, оплакивая Лина, Орфей что-то почуял, а впоследствии обрел в музыке. То была мелодия, услышав которую человек не умирал, хотя сам исполнитель этой мелодии мог ее и не слышать (не потому ли перестал слышать музыку Фамира-кифаред, не потому ли оглох Бетховен, что их обоих посещала эта мелодия, хотя оба они были недостойны бессмертия или не готовы к нему?) мелодию бессмертия в музыке можно уподобить философскому камню алхимиков; быть может, она и соответствует сочетанию элементов, обозначенному философским камнем. Орфею случалось играть на своей лире мелодию бессмертия, и услышавшие ее становились бессмертными (впрочем, среди таких бессмертных могли оказаться и камни, отзывавшиеся, как известно, на его игру), но при этом сам Орфей не различал этой мелодии и не помнил ее, хотя она и посещала его неоднократно (не намекает ли Платон, что ее дарует лишь наитие, а тогда она приходит лишь путем импровизации, ускользая от заученного исполнительства, вообще чуждого древней традиции).
Когда Эвридику укусила змея (не та ли змея, что прельщала в раю Еву и не является ли Эвридика языческим аналогом Евы, прельщая Орфея запретным плодом бессмертия), Орфей отправляется за ней в царство мертвых и устрашает его властителей возможностью увести вместе с Эвридикой остальных их подданных, зачаровав тот свет игрой на своей лире. Но опасения Аида напрасны: на том свете Орфея не посещает мелодия бессмертия. С ним отпускают Эвридику, и она вышла бы на этот свет, если бы Орфей у выхода наиграл мелодию бессмертия, но ничего подобного ему не удается, не потому ли, что он утратил веру в свою таинственную силу, обернулся, нарушив запрет, и утратил Эвридику. С тех пор мелодия бессмертия больше не посещала Орфея, иначе Орфей не пал бы жертвой менад, которых эта мелодия могла бы остановить. Лиру, угодную Аполлону, заглушили тимпаны и флейты Диониса, которому Орфей противодействовал. Пляшущий хаос восстал на поющую гармонию. Прорвалось глубинное стихийное противостояние стройного мужественного пения и оргиастического женственного пляса. Это противостояние в основе истории, оно – движущая сила всех революций. Танец – поздний, упадочный компромисс между пением и плясом. Засилие танцев обычно предшествует революциям, уничтожающим танцы массовыми плясками. Пляска на Страшном суде – вот что такое революция. Путь от Версаля до гильотины пролегает среди пляшущих толп. Террора не бывает без плясок. Смотрите, как в наше время пляс подрывает музыку сфер, прорывается ко двору (Чудотворцев слегка понизил голос, чтобы его лучше поняли, но его так и поняли). Орфей виновен перед менадами и в том, что якобы из верности Эвридике научил предпочитать женщинам юношей, чем заразил Сократа, Платона и чуть ли не всю Спарту, пример героической государственности. Государственники, как правило, привержены этому орфическому эросу, против которого также направлена революция или, если хотите, контрреволюция женственности. Но менады по-своему почтили своего врага Орфея. Они растерзали его на куски, как был разорван титанами их любимый бог, Дионис-Загрей. Таким образом, убивая Орфея, менады оказали ему почести, как Дионису. Так возникли орфические таинства, а в них, быть может, примирение Диониса и Аполлона, гармонии и хаоса, то есть «всех загадок разрешенье». При этих словах слушатели, знающие Боратынского наизусть, вспомнили, что «всех загадок разрешенье» – смерть.
А Чудотворцев уже подробно описывал, как музы собирали части тела Орфея. Части его тела срослись бы и Орфей ожил бы, как ожил Осирис, если бы при этом играл на лире… Орфей, но он-то и был растерзан менадами, так что от него осталась лишь пророчествующая голова, чтимая многими эзотерическими культами вплоть до тамплиеров.
Вспоминали, будто Чудотворцев, описывая, как собирали части Орфеева тела, уделял больше внимания ритуалу растерзания, сообщая страшные, непристойные подробности, но я не исключаю, что такими подробностями лекция Чудотворцева начала обрастать со следующего дня. Правда, и в самой лекции явно высказывалась мысль: орфики растерзают корифея менад, как менады растерзали Орфея, и так будет повторяться, пока не увидят, что растерзан бывает один и тот же.
После лекции уже на улице Машенька подошла к Чудотворцеву с вопросом, что будет с теми, кто слышал мелодию бессмертия (она ведь может проявиться в музыке любого композитора). «Бессмертные не воскресают», – грустно улыбнулся Чудотворцев. «А что с ними будет на Страшном суде?» – настаивала Машенька. «Приходите завтра, как всегда, и мы поговорим об этом», – снова улыбнулся Чудотворцев, захлопывая за собой дверцу таксомотора.
Машенька не сразу сообразила, что Чудотворцев пригласил ее в зимний сад, к Аделаиде, хотя урока завтра не должно было быть. Вдруг она спохватилась: ведь назавтра на это время ее звал к себе Распутин, чтобы показать ей, как он пляшет. Чудотворцев не мог не слышать этого приглашения. Дает ли он ей понять, что к Распутину идти не следует? Но Григорий Ефимович будет ждать ее. Как же ей быть? Отказаться по телефону? Но от какого из двух свиданий отказаться? Маша заснула перед рассветом, решив, что попробует успеть на оба, а там все как-нибудь образуется.
Маша надумала утром прогулять уроки в гимназии, чтобы прийти к Распутину ровно в поддень, как он сказал ей. Барышня держалась подальше от людных улиц, чтобы, грешным делом, не попасться на глаза знакомым. Она отчасти раскаивалась в том, что пусть молча, но обнадежила Григория Ефимовича, не отказалась прийти, но не пойти к нему не могла. Таясь в безлюдных переулках, Маша ничего не слышала о том, что произошло с Распутиным в ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря, и только позвонившись в дверь его квартиры, она узнала, что Распутин убит.
Маша вспомнила вчерашнее: корифея менад растерзают орфики, как растерзали Диониса, как растерзали Орфея. Не она одна вспоминала вчерашнюю лекцию Чудотворцева. Говорили, что убийцы Распутина действительно пытались расчленить его тело, следуя предписаниям древних ритуалов или указаниям вчерашней лекции. Выясняли, кто из убийц мог быть на лекции Чудотворцева. Распространился слух, что над Распутиным был поставлен эксперимент: перед тем как убить его, ему играли на фортепьяно, ставили на граммофон разные пластинки, испытывали, не окажется ли среди них мелодии бессмертия, и действительно: убить Распутина долго не удавалось, он то и дело оживал, бессмертный, да и только. До сих пор не было уверенности, что он убит. А кое-кто верил, что он вот-вот воскреснет. Недаром труп его раскопали и для верности сожгли при Временном правительстве. При этом части его тела сохраняли как мощи. Даже за границу вывезли… кое-что. Не кто иной, как Мефодий Орлякин говаривал, тонко улыбаясь, что у каждой культуры свой телесный символ: если от Эллады осталась на Лесбосе (тоже знаменательно!) говорящая голова, то от России остался (тут m-r Methode делал многозначительную паузу) фаллос Распутина, обозначаемый любимым русским словом из трех букв (самая любовь к этому слову не пророческая ли?).
Маша не сомневалась, что Распутина убил князь Лик. Его орфические наклонности Маша знала лучше, чем следовало молодой девушке. Князь Лик был с ней совершенно откровенен, как водится между друзьями, и не скрывал своего намерения убить грязного мужика, поскольку сам он, Ликочка, и она, по его мнению, слишком этим мужиком очарованы, не могут перед ним устоять, а главное, не слишком ли мужик очаровался Машенькой вместо того, чтобы одного князя Лика любить. Маша с ужасом думала, что она ответит, если ее спросят об участии ее друга в убийстве. Ей ничего другого не оставалось, кроме как пойти к Чудотворцеву, как он сам ей назначал, не предвидя ли уже накануне, что произойдет ночью, заранее зная, что приглашение к Распутину недействительно.
Дверь Маше открыла все та же вышколенная монголка Таня, вчера еще названная Распутиным «Танец», и ничуть не удивилась Машенькиному приходу, хотя Аделаиды дома не было: Чудотворцев ждал гостью то ли в зимнем саду, то ли в своих покоях. О дальнейшем тетя Маша умалчивала, как я ни допытывался. «Этого вам не нужно знать, mon enfant», – строго отвечала она, глядя мне в глаза сквозь стеклышки пенсне, которые в этот момент всегда затуманивались.
Я видел, как она собирается на доклад Чудотворцева. Даже в парикмахерскую чуть было не пошла, хотя вообще туда никогда не ходила. Окончательно раздумала идти только утром двадцать девятого.
– Нет, не пойду. Платья подходящего у меня нет, а специально сшить не успела. Ты, если к слову придется, привет ему от меня передай… от Марьи Алексевны Горицветовой.
Она помолчала, потом заговорила с каким-то странным пафосом:
– Время его пришло. Ему есть что сказать. А никакой власти без него не обойтись. Он же Зеленый, Вечнозеленый. Его слова Григорий Ефимович царю передавал. Сталин к нему прислушивался, а уж Никите-то без него и делать нечего. Он же Чудотворцев! Он знает…
То были последние слова Панночки из «Вия», и относились они к философу Хоме Бруту. Мне стало жутковато. «Панночка!» – вырвалось у меня, и былая подруга, двойник Аделаиды Вышинской, слегка улыбнулась:
– Возвращайтесь пораньше, mon enfant, чтобы не тревожиться мне.
Я-то знал, как она тревожится, не убили бы сегодня ночью Чудотворцева или, не дай Бог, меня, но удерживать меня она не смела.
А на доклад пришло совсем немного слушателей. Их малое число тем более бросалось в глаза, что доклад состоялся в актовом зале. Там был расстроенный рояль и докладчик нуждался в музыкальном инструменте. Даже не вся кафедра собралась. Преподаватели не пришли, так как не знали, что сказать. Студентов доклад просто не интересовал. Среди присутствующих выделялась совершенно седая женщина в платье, похожем на робу из мешковины. Синие глаза ярко горели над изможденными щеками. То была Эклармонда де Фуа из Мочаловки, вдохновительница Комальба Антонина Духова, она же Антуанетта Луцкая де Мервей. В заднем ряду притулилась Кира, а я-то сомневался, придет она или нет. Штофик официально, но сердечно поздравил юбиляра с восьмидесятилетием, упомянул его многочисленных учеников, поистине бесчисленные научные труды и сразу же предоставил слово многоуважаемому Платону Демьяновичу.
Чудотворцев вызвал в зале тревожное смущение. Как и опасались Штофик с Лебедой, профессор начал свой доклад цитатами из Сталина:
«…была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми социалистическими. Но, несмотря на это, русский язык остался в основном таким же, каким он был до октябрьского переворота».
Слушатели старшего поколения удивились, а потом испугались, почувствовав контрреволюционную иронию в словах бывшего вождя (не за это ли его и разоблачили?). А Чудотворцев как ни в чем не бывало продолжал цитировать Сталина: «Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом, внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков. Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями сотен поколений… Именно поэтому он создан как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык».
Мифологию Чудотворцев уподоблял в этом смысле общенародному языку Миф об Орфее сложился во времена доисторической бесклассовой общности. Первоначально Орфей был культурным героем, возвещающим торжество гармонии над хаосом, но в классовом обществе менады, разрывающие Орфея на куски, приобретают своеобразную правоту: их оргиастическая пляска выражает народные чаянья, отвергающие, опровергающие аристократическое искусство, но лучшее в этом искусстве олицетворяется головой Орфея, сохраняемой музами и продолжающей пророчествовать. После этой социологической преамбулы Чудотворцев, насколько я могу судить, повторил свою лекцию сорокалетней давности, несколько сократив, пожалуй, лишь подробные сведения, касающиеся ритуалов растерзания. Зато основную мысль своей давней книги Чудотворцев сформулировал четче. Воздействие музыки в том, что в каждом мгновении, в каждом такте сочетаются прошлое, будущее и настоящее. Таким образом, прошлое в музыке не прошло, будущее наступило, а настоящее длится. В музыке человек актуально переживает бессмертие, а кто переживает бессмертие, тот бессмертен.
Аудитория откликнулась на эти слова юбиляра вежливыми аплодисментами; Платон Демьянович сел за рояль и взял несколько аккордов. Этой музыки никто не узнал. Я слышал, как позади меня дамы перешептываются, не станем ли мы теперь бессмертными, как этот Кощей Бессмертный.
«Вопросы есть?» – безразлично спросил Штофик, совершенно уверенный, что вопросов быть не может. И тут я даже не поднял руку, я просто встал сам, и валаамова ослица снова заговорила. Не дожидаясь, предоставят ли мне слово, я сказал, что доклад Платона Демьяновича перекликается со второй частью «Фауста» Гёте, написанной в том же возрасте с той же молодостью бессмертия. Гётевский Фауст выводит с того света на этот Прекрасную Елену, совершает подвиг, не удавшийся даже Орфею, так как Фауст постигает тайну Матерей, раскрытую исследованиями нашего коллеги Адриана Луцкого. Гробовое молчание воцарилось в зале. По-моему, сам Чудотворцев испугался, не говоря уже о Штофике, который даже побледнел. Но я увидел, как мне улыбается моя крестная Софья Смарагдовна. Я не заметил, как она вошла в зал.
А когда все уже расходились, ко мне подошла Кира и сказала:
– Отец приглашает тебя завтра вечером к себе.
– Отец? А кто твой отец? – едва выдохнул я в отчаянье от нелепости своего вопроса.
– Ты все еще не понял? Мой отец Платон Демьянович Чудотворцев.
– Так почему же… почему же ты Луцкая, а не Чудотворцева? – вырвалось у меня.
– А ты попробуй поживи с фамилией Чудотворцева, – ответила она, и я увидел, как по ее щекам текут скупые жесткие слезы.
Глава девятая ПЛАТОН И СОФИЯ
НЕ ЗНАЮ, какую роль я беру на себя, приступая к этой главе. Иногда я себя чувствую Светонием, иногда Эккерманом, но эту главу я бы хотел посвятить, наконец, жизнеописанию Платона Демьяновича Чудотворцева, хотя бы краткому, но все равно не без вкраплений, слишком личных для печати, отдавая себе отчет, что из всей моей рукописи я решусь (или все-таки не решусь?) опубликовать одну эту главу.
Подчеркиваю, что жизнеописание в значительной степени основывается на высказываниях и рассказах самого Платона Демьяновича, из чего не следует, будто в тот знаменательный вечер 30 декабря 1956 года. Платон Демьянович рассказал мне или принялся рассказывать свою жизнь. Напротив, он скорее избегал говорить о своей жизни (не могу себе представить, чтобы он писал автобиографию или тем более мемуары), избегал, но то и дело проговаривался при всяком мало-мальски длинном разговоре. Эти проговорки вместе с другими довольно скудными данными, среди которых наиболее достоверны легендарные, я использую в моем непритязательном биографическом очерке, если и сглаживая противоречия, то лишь невольно, а по возможности бережно сохраняя их. Кое о чем Платон Демьянович проговорился в тот же вечер, не говоря уже о множестве вечеров, которые за ним последовали.
Дверь мне открыла Кира, что само по себе повергло меня в смущение. В небольшой комнате, освещенной лишь настольной лампой, я прежде всего увидел за письменным столом Клавдию, так как ей на лицо падал свет. Самого Платона Демьяновича я разглядел, к моему вящему смущению, не сразу Он сидел в сторонке, в полумраке, в покойном вольтеровском кресле. Ноги его были в поношенных домашних туфлях, а колени укрыты потертым клетчатым пледом. Он, должно быть, что-то диктовал Клавдии, когда на пороге комнаты появился я. Платона Демьяновича я обнаружил не раньше, чем услышал его слегка надтреснутый, утомленный многочасовой диктовкой голос:
– Ну здравствуйте, здравствуйте, мой дорогой! Проходите, садитесь… У вас все в порядке?
В последнем вопросе слышалась шутливая и одновременно нешуточная озабоченность. Я попытался промямлить какой-то замысловатый вежливый ответ, силясь про себя понять, что же профессор имеет в виду, но он доверительным тоном вывел меня из затруднения:
– Вас никуда еще не вызывали? После вашего вчерашнего подвига? Ни в секретный отдел, никуда? Даже в деканат не вызывали?
Я ответил, что нет. Платон Демьянович даже руками развел:
– Поистине tempora mutantur! Слава Богу, слава Богу! Тем более я рад вас видеть. А то я весь день сижу и думаю, придете ли вы, не задержит ли вас… что-нибудь. Скажите, а крестную вашу вы давно видели?
Такого вопроса я никак не ожидал. Неужели он имеет в виду Софью Смарагдовну? Чудотворцев угадал мою мысль и удовлетворенно закивал:
– Да, да! Софию… Смарагдовну Когда вы последний раз ее видели?
– Вчера, – пролепетал я, – на вашем юбилее, Платон Демьянович!
Чудотворцев оборотил свои темные очки к настольной лампе, и неподалеку от нее на письменном столе я увидел букетик ландышей. Такие букетики Софья Смарагдовна имела обыкновение дарить в любое время года. Не напомнил ли этот букетик Платону Демьяновичу зимний сад Аделаиды и столик, за которым он пил чай с Распутиным?
– Совершенно верно, – в лад моим мыслям закивал Чудотворцев. – Вчера, вчера на этом несчастном юбилее… А до этого когда вы с ней виделись в последний раз? Признаться, я думал, что вы сегодня придете не один…
Я совсем растерялся. Неужели он ждал, что со мной придет Софья Смарагдовна? Чудотворцев снова пришел ко мне на помощь, уточнив:
– Разумеется, мое вчерашнее приглашение относилось и к Марье Алексеевне.
Так я убедился, что Платон Демьянович не только хорошо знает, кто я, он знает мою жизнь во всех подробностях. Но больше всего меня поразила другая мысль: неужели сегодня весь день он ждал Машеньку, как ждал ее в Петербурге сорок лет назад в зимнем саду Аделаиды на другой день после убийства Распутина? Эту мысль я не успел додумать до конца. В комнату, прихрамывая, вошел еще один гость, как оказалось, домочадец. Одет он был не по-домашнему, но когда-то элегантный темный пиджак был застегнут не на те пуговицы, а галстук сбился на сторону. Вошедший доказал свою утонченную воспитанность, первым делом приблизившись ко мне, протянув руку и не без торжественности представившись:
– Чудотворцев.
Я понял, что это старший сын Платона Демьяновича, певец из не очень известных. Понял я также, почему мне показалось, что он прихрамывает. Просто мне в голову не могло прийти, что в квартире Платона Демьяновича я встречу пьяного, да еще по фамилии Чудотворцев! А этот Чудотворцев был именно пьян, что называется, нетвердо на ногах держался, и его пошатывание я принял за хромоту. Поздоровавшись со мной, он тяжело подступил к Платону Демьяновичу и что-то зашептал ему на ухо. Платон Демьянович резко покачал головой. Чудотворцев-второй снова наклонился и снова зашептал на этот раз погромче, так что до меня донеслись отдельные слова:
– Ну взаймы же, папочка… Я же отдам… Сразу после Нового года… Получу и отдам!
Платон Демьянович снова покачал головой. И тогда Чудотворцев-второй, театрально всплеснув руками, обратился ко мне:
– Молодой человек! Выручите! Одолжите мне… Ну хоть рублей двадцать! Я отдам… Я, право, отдам.
– Прекрати, Поль, это, наконец, несносно, – сказал Платон Демьянович, а я вытащил из кармана всю мою стипендию, полученную только сегодня (220 р.), и протянул ее Чудотворцеву. Тот никак этого не ожидал и явно заколебался, брать или не брать, но все-таки взял:
– Чувствительно благодарен! Я отдам… Я непременно отдам!
С этими словами он вышел из комнаты, а я подумал, что на отца он, в общем, не очень похож, разве только рост и манера горбиться… В полутемной комнате я не различил, какого цвета у него глаза. Впрочем, говорили, что он похож не столько на отца, сколько на деда Демьяна Чудотворцева, он же Демон. От него и голос унаследовал. Когда я увидел Поля впервые, его шевелюра уже изрядно поседела. Поль был давно не стрижен, но все-таки стригся, иначе в те времена его забрали бы в милицию. А лет за пятнадцать до этого, перед войной он отпускал длинные волосы и в случае чего показывал милиционеру удостоверение, где значилось, что он, Павел Платонович Чудотворцев, – артист Большого театра, и, наверное, тогда же его пепельные волосы рассыпались по плечам, и в душе Анны Ахматовой могла шевельнуться строка: «Демон сам с улыбкой Тамары», и не таким ли видела Наталья Темлякова своего Демона, от которого она родила сына, когда самого Демона уже не было в живых?
А Чудотворцев Платон Демьянович родился в Платонов день, 18 ноября 1876 года в Москве, куда Наталья Чудотворцева перебралась из Петербурга за несколько недель до родов. Переезд ее устроил Зотик, ее старообрядческий ангел-хранитель, объявившийся сразу же после известия о смерти Демьяна, но и Мефодий Орлякин не оставлял молодую вдову своим попечением, и, хотя Наталья не могла отказаться от его пенсии, все-таки она предпочла бы держаться от него подальше, чем и вызван был спешный переезд в Москву, куда Орлякин за ней немедленно последовал. Зотик нанял ей удобную квартиру на Арбате неподалеку от будущей квартиры Платона Демьяновича. Наталью наблюдала опытная повивальная бабка, подысканная все тем же Зотиком. Показывали ее и мирскому врачу на что недавняя курсистка-нигилистка согласилась неохотно. Здоровье ее не вызывало опасений, а тяга к древлему благочестию сказалась в ней сразу же после смерти Демьяна и день ото дня усиливалась. Кажется, она охотно вернулась бы в скит под крыло к матушке Агриппине, если бы не предстоящие роды. Приехала к ней в Москву и ее крестная Нина Герасимовна, хотя Наталья по-прежнему сторонилась ее. Роды оказались более тяжелыми, чем ожидалось, и Нина Герасимовна хотела уже послать за доктором, но повивальная бабка с Божьей помощью сама справилась. Здоровье новорожденного опасений не вызывало, но мать настаивала, чтобы крестили его на восьмой день, как заповедано. Само собой разумеется, младенца следовало крестить не в старообрядческой, а в православной церкви, как того требовало Спасово Согласие, так что формальная принадлежность Чудотворцева к Русской Православной Церкви никогда не подлежала никакому сомнению, хотя одно время распространился слух, будто Чудотворцев не то крещен, не то переходил в единоверие. Никаких оснований для этого слуха так и не обнаружилось, и если Платон Демьянович только загадочно улыбался в ответ, когда заходил разговор на эту тему, его улыбку вряд ли можно было считать подтверждением. Дело в том, что на протяжении долгих лет, а вернее, последних десятилетий своей жизни после первой ссылки Платон Демьянович в церкви не бывал. Говорили, что он дал какую-то подписку в НКВД, непонятно только, что это была за подписка; гораздо достовернее были сведения, что Платон Демьянович в чем-то резко разошелся с православной иерархией и эти расхождения привели или приводили его на скамью подсудимых; проще всего было считать, что Платон Демьянович в своем отношении к Церкви остался верен Спасову Согласию, допускавшему лишь крещение и венчание в господствующей церкви, но и этому противоречили поздние труды Чудотворцева, написанные в духе строгого православия. Хочу думать, что он приобщился Святых Таин перед смертью, и настаиваю на том, что крещение его было совершенно правильно, хотя и оно не обошлось без некоторых странных обстоятельств.
Судя по всему, Наталья предпочла бы, чтобы крестным отцом ее сына был кто угодно, только не Мефодий Орлякин. В глубине души Наталья продолжала обвинять его в смерти Демьяна Чудотворцева, для чего были известные основания. И из Петербурга в Москву-то Наталья уехала, чтобы родить подальше от Орлякина. Как сказал впоследствии поэт по другому поводу: «Ее отъезд был как побег…» Не то чтобы побег в точном смысле слова, но она очень надеялась, что какие-нибудь неотложные начинания помешают Орлякину увязаться за ней. Не тут-то было: не кто иной, как m-r Methode встречал ее в Москве на вокзале. У Натальи просто не хватило сил отвязаться от него. Роды могли произойти со дня на день, и сам переезд для нее был весьма опасен. Мефодий пожурил Наталью за неосторожность и с того момента наблюдал чуть ли не за каждым ее шагом. У Натальи не хватило духу отослать его прочь: в конце концов, у нее не было других средств к существованию, кроме орлякинской пенсии. И все-таки она спрашивала Зотика, не согласится ли тот быть крестным отцом новорожденного, но Зотик, по обыкновению, вежливо отказался, дав понять, что предпочитает не заходить лишний раз без особой нужды в никонианский храм: «Да и зачем я вам там, Наталья Васильевна, когда Мефодий Трифоныч тут как тут. Они же как-никак по древлему благочестию». Все было вроде бы правильно. Ревнитель Спасова Согласия не возражал, чтобы обряд крещения совершил никонианский поп, однако сам от участия в обряде уклонялся. Очевидно, и орлякинской пенсией не советовал он пренебрегать молодой вдове, если не вслух, то весьма настоятельными обиняками, так что ей пришлось согласиться и на такого кума, как m-r Methode, и на имя Платон, хотя сама она, кажется, намеревалась назвать своего сына Демьяном в память об отце, сиречь о Демоне, что, впрочем, также соответствовало бы сокровенным желаниям Арлекина.
Итак, вопрос о крестном отце можно было считать решенным. Наталья примирилась с тем, что и крестная мать налицо. Одним поездом с ней из Петербурга приехала Нина Герасимовна Арсеньева. Она объявилась в Северной столице, как только до нее дошла весть о Натальином вдовстве. В Петербург она приехала под предлогом свидания со своими внуками, среди которых был и князь Кеша. Но общение с внуками оставалось лишь предлогом для пребывания в Петербурге. Нина Герасимовна тревожилась о своей крестнице и мучительно пыталась обрести прежнюю с ней близость, чему Наталья сдержанно, но твердо противилась. Нечего и говорить о том, что Наталья вовсе не просила Нину Герасимовну сопровождать ее в Москву, довольствуясь попечением Зотика. Нина Герасимовна все-таки была рядом со своей крестницей в последние недели перед родами, и Наталья допускала это, хотя и продолжала сторониться своей крестной. Нина Герасимовна была уверена, что, во всяком случае, она будет крестить новорожденного, и Наталья на это как будто бы согласилась, но тут неожиданное несогласие высказал Зотик. Пожилой начетчик выразил сомнение в том, подобает ли крестной матери крестить сына своей крестницы. Сам Зотик полагал, что не подобает, но не мог в точности назвать светоотеческого правила, не допускающего подобной степени духовного родства при выборе крестной матери. Однако, чтобы не согрешить ненароком, он обещал подыскать другую крестную мать, и она появилась чуть ли не накануне дня, на который был назначен обряд. Биографу Чудотворцева доставляет изрядные затруднения личность его крестной матери. В точности известно одно: ее звали София Троянова, и она доводилась Наталье то ли троюродной сестрой, то ли племянницей, так что Нина Герасимовна вынуждена была уступить неукоснительным законам казачьего рода. Не вызывает сомнений одно обстоятельство: дело тут не обошлось без матушки Агриппины, полновластной властительницы заволжского скита, откуда бежала Наталья. Это матушка Агриппина приискала крестную мать сыну своей своенравной питомицы, на которую продолжала возлагать какие-то надежды. Не чаяла ли она и в младенце Платоне узреть будущий светоч древлего благочестия? Не удается установить, была ли София Троянова белицей в скиту или одной из благочестивых богочтительниц, духовно окормляемых там. Неизвестно, была ли София Троянова замужем, девица ли она или вдова. Возраст ее также неизвестен, хотя, судя по всему, выглядела она молодою. А самое главное, неизвестно ее отчество, что для скитской девицы, ожидающей пострига, было бы естественно. Но сохранилось смутное предание, что звали ее все-таки Софья Смарагдовна. Неужели ее звали так же, как зовут мою крестную? Женщина по имени София неоднократно появляется в жизни Платона Демьяновича, и, конечно, удобнее считать, да и вероятнее всего, что у разных женщин просто совпадало имя, хотя такое совпадение тоже о чем-то говорит. Так или иначе, то было первое явление Софии в жизни Платона Демьяновича Чудотворцева.
Наталья ненадолго задержалась в Москве после рождения сына. По совету Зотика она перебралась в Гуслицы, в насиженное старообрядческое гнездо под Егорьевском. Правда, в Гуслицах преобладал другой толк, а именно поповщина (имеется даже гуслицкое литье и гуслицкое письмо в отличие от беспоповского, поморского), но, как выясняется, староспасовцы в Гуслицах также имели влияние. Наталья с младенцем Платоном поселилась в отдельном, небольшом, но пятистенном домике, предоставленном ей в полное распоряжение. (Домик этот, как и соседний дом побольше, числился за матушкой Агриппиной, и в случае гонительного времени скит мог, на худой конец, переместиться и в Гуслицы.) В самом названии «Гуслицы» сочетаются «гусь», священная птица древних ариев, и «гусли», сакральный музыкальный инструмент пророков от царя Давида до вещего Бояна. Эти-то веяния и вбирал в себя младенец Платон, вдыхая гуслицкий воздух, напоенный березовым соком, липовым цветом и грибным духом. Незапретным для старообрядцев зельем обкуривал младенца мелкий, но бисерно частый грибной дождик, так называемый бусенец:
Угомонились пташки ранние, Похрапывает гром-кузнец; Пошел курить по черной рамени Седобородый бусенец. Землею-трубкою попыхивает, Посасывает дуб-чубук, По дуплам облака распихивает И кормит филинов из рук. Покуривает перебежками, То тут затянется, то там, И застывает сыроежками Дымок с подзолом пополам.Орлякинская пенсия (как-никак двести целковых серебром) позволяла Наталье жить в Гуслицах безбедно, учитывая, что квартира ей ничего не стоила. Вероятно, вскоре после того, как Платоше исполнился годик, Наталья снова наведалась из своего благолепного пристанища в богомерзкий Питер. Младенца она, естественно, взяла с собой (с ним она до поры до времени не расставалась). Наталья никогда не отказывалась от мысли завершить в Петербурге свое какое-никакое образование и сдать, как положено, экзамены на акушерку, что ей и удалось вопреки предостережениям Зотика и Мефодия. Оба они по разным причинам, но одинаково отговаривали Наталью от поездки в Петербург. Зотик полагал, что молодой вдове в Петербурге делать нечего, поскольку повивальной бабке нужна помощь Божия, а не казенные бумажки. Мефодий же предпочитал, чтобы Наталья и впредь всецело зависела от его пенсии и даже предлагал увеличить ее, от чего Наталья решительно отказалась. Она всегда подумывала в глубине души, как бы ей совсем отказаться от этой пенсии, дававшей Мефодию, что ни говори, права на Платона, что тяготило Наталью, внушая ей тайный ужас. Потому-то молодая вдова и стремилась к профессиональной независимости, как сказали бы мы теперь. (Похоже, что безусловная поддержка матушки Агриппины также настораживала ее, по крайней мере, в том, что касалось Платона.)
Как это ни курьезно, и Мефодий, и Зотик, отговаривавшие Наталью в письмах от поездки в Петербург, оба там ее и встретили. На деньги Орлякина опять-таки попечениями Зотика она была размещена вполне достойно и вскоре действительно стала дипломированной акушеркой, после чего незамедлительно вернулась в Гуслицы, так что опасения Зотика (и, возможно, матушки Агриппины) относительно петербургских соблазнов оказались неосновательными. В Гуслицах Наталья начала акушерскую практику в солиднейших старообрядческих семьях и сразу же приобрела репутацию искуснейшей повивальной бабки, которой не иначе как сама Богородица помогает.
Свидетельство или удостоверение в том, что она закончила акушерские курсы в Петербурге, могло бы скорее повредить Наталье в старозаветных кругах, но в то же время оно и успокаивало молодых рожениц, дескать, повитуха у них благочестивая и при этом ученая, да и сама фамилия Чудотворцева, несмотря на свое явное никонианско-церковное происхождение, понималась все более буквально, так что у Натальи от приглашений на повой отбою не было. Неизвестно, как она оставляла бы младенца Платона одного, если бы не толковая нянька, появившаяся у ней вскоре после переселения в Гуслицы и сопровождавшая Наталью, когда та ездила в Петербург. Нянька взялась неизвестно откуда, просто вошла в Натальин дом и осталась там. Скоро вся округа уже знала, что зовут ее Софья, хотя мало кому удавалось перемолвиться с ней словом. Многие принимали ее даже за немую, что мог бы опровергнуть младенец Платон еще до того, как научился говорить, ибо София пела ему странные песни, которых никто, кроме него, не слышал. Пела ему София про Сам-Град, где Божий сад и зело зелено в саду. Пела про камень Алтарь, что в крови, как встарь. (Я-то помню, со слов моей тетушки-бабушки, что мой дед Аристарх Иванович Фавстов, цитируя Вольфрама фон Эшенбаха, иногда произносил вместо «grales schar» «algars schar», и, в свою очередь, перевожу: «Дарован будет государь Алгарью, как бывало встарь». А Сам-Град – не Смарагд ли, камень Премудрости Божией, откуда и отчество моей крестной?) Софья ходила всегда в синем платье, в таком же платье пришла в церковь крестная Платона, что давало повод Мефодию Орлякину говорить, будто Платона нянчит его крестная. И глаза у нее были синие, как я слышал от самого Платона Демьяновича, очи лазоревые, а косы темно-русые, что слишком многое напоминает мне самому.
Софья исчезла не простившись, когда Платона отдали в гимназию, пришла невесть откуда и ушла неведомо куда. На четвертом году она показала Платону славянские буквицы, и он освоил азбуку как по наитию, хотя гражданскую грамоту осваивал потом не без труда. Наталья не могла не отвести со временем своего сына к старообрядческому уставщику, этого требовал весь тогдашний уклад ее жизни. Старец сразу же оценил острый ум и отменную память мальца. Интересно, что отношений со старцем Платон Демьянович не прерывал и впоследствии до тех пор, пока старец не преставился, а прожил он более ста лет. Некоторые биографы Чудотворцева полагают, что старца звали Сократом, но своим Сократом называл его Платон Демьянович, а в действительности старца звали едва ли не Парфением.
Гуслицкий Парфений был наставником так называемых неокружников и утверждал, что никонианский Iисус отличается от настоящего Исуса Христа не только липшим «I» в своем имени. Это иной Iисус, родившийся на восемь лет позже истинного Христа. Иной Iисус с липшим «I» и есть Антихрист. Парфений доказывал это с редкой изощренностью, и Чудотворцев говорил, что именно этот Сократ преподал ему амбивалентное, двусмысленное и опасное искусство диалога, ибо Парфений умел и опровергать себя, и даже уличать себя в ереси на удивление своему единственному ученику, которого он удостаивал подобных уроков. Сам Чудотворцев диалогов не писал, но вел их (боюсь, что и молитва Чудотворцева – диалог с Богом), и в его трудах диалогично чуть ли не каждое слово, и не Чудотворцева ли подразумевал М.М. Бахтин, анализируя диалогичность как форму духовной жизни?
Некоторые диалоги Парфения Чудотворцев по памяти восстановил и записал. Начинался диалог традиционно, по-старообрядчески:
– Кто умре, а не истле?
Ответ известен: Лотова жена – та умре, а не истле, понеже в столп слан претворися, взглянув на град Содом, по грехам своим гибнущий.
Зато далее следовало не то чтобы новшество, а неожиданный поворот, извитие традиционной мысли:
– А чем согрешили содомляне?
– Вожделением ангелов.
– А кому явились ангелы?
– Аврааму под дубом Мамврийским.
– А числом их сколько?
– Три.
– А почему к трем мужам обратился Авраам: Владыко Господи?
– Понеже не три Бога, а един Бог в трех лицах.
– А Кто явился, прежде чем родился?
– Сын Божий Исус Христос.
– А когда Сын Божий родился?
– Никогда, ибо рожден, а не сотворен прежде всех век.
В последнем ответе сохраняется и старозаветный «аз» (рожден, а не сотворен), в отличие от «рожденна несотворенна» в никонианском Символе Веры; за этот «единый аз» Аввакум готов был умереть и умер. И действительно, этот союз придает истинный смысл ответу: Христос рожден, а не сотворен и потому родился… «никогда», то есть вне времени, которое сотворено, и весьма сомнительно, имело ли бы смысл это мистическое «никогда» при новейшем «рожденна несотворенна», с чего, как однажды сказал Чудотворцев, и началось церковное обновленчество. Современному человеку трудно себе представить, что Платоша твердил такие азы, едва выйдя из младенчества, но не отсюда ли острота его умозрения?
Раньше Парфения у малолетнего Платона появился еще один учитель. И о нем тоже неизвестно, откуда он приходил и куда уходил. В Гуслицах и не только в Гуслицах кое-кто знавал его. Называли его «старец Иоанн» или «Иван Громов». Высокий и статный, с длинной седой бородой и густыми кустистыми бровями он ходил зимой в бараньем кожухе, напоминавшем пустынническую милоть, а летом в грубой холщовой белой хламиде. Этот-то старец Иоанн и наведывался в домик повитухи Натальи преимущественно тогда, когда с младенцем Платоном домовничала София. Как только младенец Платон начал ходить, старец стал брать его на прогулки. Многие соседи видели, как старец тихо шествует, держа младенца за ручку. Прогулки становились на удивление дальними. Странную пару видели на опушке леса, а то и в самом лесу, в местах, довольно глухих. Платон Демьянович вспоминал, что в лесной глуши таилась иконописная мастерская, куда не раз водил его старец Иоанн. Маленький Платон никогда никого не видел в мастерской, кроме старца и множества образов. Непостижимо было, как они все умещаются в строеньице, столь малом и неприметном в лесной чаще. С каждым приходом Платон видел все новые и новые иконы, как будто кто-то писал их в его отсутствие или он со временем обращал внимание на то, что сперва было скрыто от его взора. Прежде всего он увидел Сына Человеческого в длинном светящемся одеянии, опоясанного золотым поясом. Волосы у него были белые, не седые, а именно белые, глаза походили на пламя, и лицо сверкало, как солнце. Он высился среди золотых светильников (младенец учился считать, пересчитывая их, пока не насчитал семь), а в правой руке Сына Человеческого сияли семь звезд. Платон видел сонмы людей в белых одеждах, таких же белых, как хламида старца, и ткань этой хламиды белела на глазах в сумеречном освещении мастерской. Видел Платон и престол на небесах, и Сидящего на престоле, и радугу вокруг престола, подобную смарагду. И в основе Города, освещенного славой Божией без солнца и луны, четвертым среди драгоценных камней был тот же смарагд, и, взглянув на него, Платон отчетливо проговорил: «Сам-Град», а старец ответил: «Воистину так!» Видел Платон вокруг престола и четырех животных, исполненных очей спереди и сзади: у одного из них был человеческий лик, другое было подобно льву, третье – тельцу. Четвертое было подобно орлу, и Платон потянулся к нему, но оказалось, что тянется он к своему старцу. А старец указал ему на Сына Человеческого и произнес: «Альфа и Омега», и Платон Демьянович говорил мне, что так открылся ему греческий язык. И еще одна удивительная икона там была. Я увидел ее совсем недавно в Третьяковской галерее на выставке «София Премудрость Божия». На иконе явлены извивы исполинского эдемского змия, и на этих извивах располагается история рода человеческого с грехопадения до Страшного суда. Платон мог увидеть на одном из нижних извивов Еву, срывающую запретный плод, а на извиве повыше жену, облеченную в солнце, спасающуюся от красного дракона; видел он и четырех всадников, одного на белом коне, другого на рыжем, третьего с весами в руках на коне вороном, а на бледном коне четвертый всадник, имя которому смерть. Видел Платоша жену на звере багряном, низвергнутую и павшую, видел еще одного Всадника на белом коне; этот Всадник был облачен в одежду, обагренную кровью, и, указав на Него, старец молвил: «Въ нача'лѣ бѣ Сло'во, и Сло'во бѣ къ Богу, и Бо'гъ бѣ Сло'во». И в старце, на коем десница Сына Человеческого, малолетний Платон узнал старца, державшего за руку его самого.
Неподалеку от иконописной мастерской все в том же лесу находилась бревенчатая келейка, где встречал их еще один старец, которого Платон, как и я впоследствии, с трудом отличал от старца Иоанна. Этот старец в такой же белой хламиде поил их вместо чая благоуханным отваром из цветов и трав, потчуя при этом ароматным сотовым медом. В келейке Платон увидел и змеевик, и перегонный куб, где поблескивали золотые искорки. Платоша принял их было за крупицы меда, с которым они пили пахучий отвар, но тут же вспомнил золото, на котором только что просияли перед ним образа. Водил его старец Иоанн и в лесную церквушку; и она была внутри гораздо просторней, чем виделась снаружи; там старец служил литургию, как Платон со временем понял; там Иоанн впервые причастил Платона и причащал его впредь, что не вызвало нареканий ни у Парфения, ни у самой матушки Агриппины. Иные сочтут в этих пунктах мое повествование легендарным, но я вынужден следовать материалам, которые в моем распоряжении и достоверность которых у меня самого, признаться, сомнений не вызывает.
Нельзя сказать, что Наталья была безусловной сторонницей подобных влияний; не обо всем она знала, занятая своей акушерской практикой, а если бы знала, может быть, и ужаснулась бы еще пуще. Но куда больше ее страшили другие влияния и дары данайцев. В один прекрасный день в отсутствие Натальи в ее дом внесли великолепный рояль и просили Софью, домовничавшую с Платоном, передать Наталье Васильевне, что это подарок Мефодия Трифоновича. Вслед за роялем на другой день явился невысокий чернявый щуплый господин и представился Наталье, которая на этот раз была дома: «Савский Аркадий Аполлонович, композитор». В ответ на вопросительный взгляд Натальи, сразу же предложившей незнакомцу сесть, Аркадий Аполлонович сообщил, что приглашен Мефодием Трифоновичем давать уроки фортепьянной игры Платону Демьяновичу (так и сказал), а также испытать его другие музыкальные способности, разумеется, если Наталья Васильевна не возражает. Наталье ничего другого не оставалось, как согласиться, хотя сама внешность, или, как говорили в Гуслицах, личность новоприбывшего с самого начала насторожила ее, но оказалось, что Орлякин снял уже даже квартиру для композитора по соседству, а именно тоже отдельный домик на отлете, чтобы остальных соседей не тревожили фортепьянные аккорды вперемежку с резкими диссонансами, несущимися оттуда день и ночь.
Настороженность Натальи, может быть, перешла бы в настоящую панику, если бы она узнала, над чем Аркадий Аполлонович работает в своем гуслицком уединении. Настоящая его фамилия была Савельев, и никому не удалось установить, подсказан ли псевдоним Савский замыслами, преследовавшими композитора, или, напротив, эти замыслы были навеяны псевдонимом Савский. Сам я полагаю, что псевдоним был подсказан композитору его неизменным покровителем, все тем же Орлякиным-Арлекином. Орлякин упорно продолжал искать композитора, способного озвучить «Действо о Святом Граале» и счел молодого Аркашу Савельева многообещающим кандидатом для такого начинания. Орлякин счел фамилию Савельев слишком прозаичной и образовал от нее фамилию Савский, как если бы сочетавшие царицу и песнотворца мистические узы дали себя знать или были угаданы. Орлякин предложил Аркадию написать оперу «Царица Савская» («Соломон и Балкис»), но Аркадий весь был захвачен стихией балета, хотя от его балетов, как правило, не оставалось ничего, кроме симфонических фрагментов, так что вместо оперы «Царица Савская» он предпочел написать балет «Адонирам», единственный балет Савского, впоследствии поставленный Орлякиным в Париже и вызвавший некоторый резонанс, правда, не столько среди балетоманов, сколько среди эзотериков.
Адонирамом или Хирамом звался, по преданиям, таинственный сын вдовы, мастер, строивший храм Соломона в Иерусалиме, когда иудейскую столицу посетила Балкис-Македа, царица Южная, или Савская, чтобы вступить в брак с царем Соломоном. Но брак этот расстроился, так как Балкис и Адонирам полюбили друг друга, и Адонирам был убит своими тремя подмастерьями, которым он отказался открыть пароль мастеров. Один из этих подмастерьев был каменщик, сириец по имени Фанор, другой был плотник, финикиец по имени Амру, а третий – рудокоп, иудей по имени Мафусаил или Мифусаил. Они убили Адонирама, движимые завистью (кто знает пароль мастеров, тот получает звание и жалованье мастера), но их завистью воспользовалась и коварная ревность царя Соломона, любовью которого пренебрегла царица Савская ради любви Адонирама. В балете особенно удалась сцена убийства, запечатлевшая хищную агрессивную природу танца. Танец заговорщиков Фанора, Амру и Мифусаила отдаленно напоминал «Песни и пляски смерти» Мусоргского. Бессловесная откровенность угрожающего танца подчеркивала загадочный соблазнительный смысл пароля, который в балете и не может быть произнесен, чем обосновано балетное решение темы. Музыка Савского подчеркивала жестокость кровопролитных жестов: горняк Мифусаил наносил Адонираму удар отбойным молотком, каменщик Фанор пронзал мастера своим резцом, а плотник Амру закалывал его циркулем. Орудием убийства для каждого из них было орудие его ремесла, что придавало убийству дух жертвоприношения, освящающего привычные инструменты, но в музыке намечались уже и гротескно-деловитые мотивы будущего индустриального балета, где человек низводится до винтика или болта. Но убийству Адонирама в балете предшествовало его нисхождение в подземное царство огня, где находится душа мира, куда Адонирама привел его предок Тувал-Каин, первый на земле ковач меди и железа. Из того же рода произошли первые гуслисты и свирельщики. Под музыку Савского в танец Тувал-Каина с Адонирамом вовлекались грифоны и сфинксы, великолепные животные, уничтоженные потопом. Эти пляски подземных гениев и исчезнувших животных, сохраняющие зыбкую преемственность от половецких плясок из оперы Бородина, символизировали прелестное единство природы и культуры, связывая такое единство с родом Каина, которого Адам проклинал, вставая из могилы под Голгофой и грызя свои скелетообразные руки, в чем русский зритель узнавал «Страшную месть» Гоголя, тоже просящуюся в балет. И в царице Савской угадывалась Шехерезада Римского-Корсакова скорее на уровне музыкальной цитаты, чем на уровне прямого влияния, но русские реминисценции обнаруживали свои таинственные восточные корни, и недаром Савский включил в оркестровку египетские систры. Систрами аранжирован лейтмотив причудливой вещей птицы Худ-Худ, хранящей царицу Савскую, брезгующей Соломоном и льнущей к Адонираму. Магическая пляска птицы Худ-Худ и осталась на публичной сцене единственной ролью юной балерины Аглаи Сидонской, выступавшей впоследствии лишь в театре «Красная Горка», разумеется, без упоминания имени. (Судя по всему Аглая вскоре после своего блестящего дебюта в балете «Адонирам» покончила жизнь самоубийством.)
Мне не удалось выяснить, когда Чудотворцев мог видеть балет Савского (это могло произойти не раньше второго десятилетия двадцатого века, в промежутке между 1910 и 1915 годом, когда Платон Демьянович скитался по Европе; с 1900 по 1906 год, когда он учился и подготавливал диссертацию в Гейдельберге, балет не шел на сцене, его постановка была возобновлена лишь в 1911 году). Но балет «Адонирам» произвел на Чудотворцева заметное впечатление гораздо раньше, едва ли не в гимназические годы; по-видимому, Платон внимательнейшим образом изучал его либретто и партитуру, да и Аркадий Аполлонович, вероятно, играл своему ученику отдельные сцены из балета, сопровождая их своими устными комментариями-импровизациями; кроме того, сцены из балета «Адонирам» постоянно играл в своем фортепьянном переложении друг Платона Лоллий Полозов, но об этом ниже.
Балету «Адонирам» Платон Демьянович посвятил обширное исследование, включив его в свою «Философию танца». Исследование не ограничивалось одной хореографией, вместе с музыкой возводя ее до философии, что вообще характерно для «Философии танца». Платон Демьянович вряд ли был оригинален в том, что подметил почти текстуальное совпадение «Великой легенды об Адонираме», включенной С.А. Нилусом вместе с «Протоколами сионских мудрецов» в его книгу «Близ есть при дверех», и «Histoire de la Reine du Matin et de Soliman Prince des génies» Жерара де Нерваля. (Книгу С.А. Нилуса по весьма достоверным сведениям незадолго до расстрела в Екатеринбурге читал государь Николай II.) Не исключено, что сам Нилус мог не знать Жерара де Нерваля (по крайней мере, первоначально), и «Великая легенда об Адонираме» восходит к общему первоисточнику, которым пользовался и Жерар де Нерваль (1808–1855), найдя его в библиотеке своего дядюшки (об этой библиотеке сам он подробно повествует). Разительнейшим совпадением в текстах нельзя не признать следующее. У Жерара де Нерваля об Адонираме говорится: «Был он человек мрачный и окутанный тайной… Он вообще не любил общества себе подобных и потому был чужим и одиноким среди сынов Адама… Он был порождением духа Света и духа Тьмы» (см. современный перевод в кн.: Нерваль Жерар де. История о Царице Утра и Сулаймане, повелителе духов. – М.: Энигма, 1996). У Нилуса читаем: «И живет этот сын гениев огня печальный и одинокий среди детей Адамовых, никому не открывая тайны своего высочайшего происхождения». (Не вспоминается ли при этом и Лоэнгрин: «Ты никогда не спросишь, откуда прибыл я и как зовут меня».) Различия между этими двумя цитатами объясняются, очевидно, лишь переводом, причем текст в издании Нилуса явно ближе к оригиналу, поскольку у Нилуса речь идет о гениях огня и у Жерара де Нерваля Soliman (Соломон-Сулейман) – князь гениев, а не духов, как в современном переводе. Перевод нельзя назвать неверным: гении – это также и духи, но духи особого рода; согласно кораническим преданиям, Солиману при строительстве храма служили джинны, и Адонирам был одним из этих джиннов или происходил от них; вот почему сын вдовы был чужим и одиноким среди детей Адама. В тексте Нилуса личность Адонирама прямо обозначается как личность нечеловеческая, но почти то же самое пишет Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» об Иисусе Христе: «Если Его вообще можно назвать человеком» (18, 3, 3). Из этого отнюдь не следует, что Адонирам – аналог Христа или его предтеча, скорее напротив: во всем, что возможно, на Христа должен быть похож Антихрист, и в число его предтеч или прообразов вписывает Адонирама Нилус. Так, Адонирам – сын вдовы, и, значит, отец его неизвестен, хотя его праотец Каин, а Каин, согласно гностическим апокрифам, зачат Денницей или Эблисом, который, по кораническому преданию, был как раз джинном, затесавшимся в число ангелов, и отказался поклониться Адаму, сотворенному из глины, тогда как джинн Денница из огня. Так что и Адонираму подобен Антихрист, зверю сему, дающему огонь с небеси и возрождающему древний культ огня. В то же время даже своей смертью Адонирам напоминает Христа, поскольку Адонирама предает Иуда в трех лицах (кто знает, не зловещая ли пародия на Троицу), и орудия его казни, циркуль, резец, в особенности же молоток, очень похожи на орудия распятия. Правда, легенда ничего не говорит о воскресении Адонирама, лишь намекая на то, что царица Савская родит от него сына, и от этого сына произойдут многочисленные потомки, и за них будут выдавать себя рыцари Храма, розенкрейцеры и масоны, но не под влиянием ли этой легенды будет распространяться слух о земных (неземных?) потомках Христа и Марии Магдалины, она же новая царица Савская, чье плодоносное лоно – святой (святая) Грааль, откуда происходит Царь Истинный? Да и не возродится ли в Антихристе Адонирам, горицвет, пылающий отпрыск, свой же собственный потомок? В этой связи Чудотворцев выдвигает гипотезу о которой интересно было бы узнать мнение семитологов. Имя Адонирам состоит из двух компонентов: «Адон», «Ирам». Город Ирам упоминается в Коране (89, 7). Ирамом, по преданию, звался город в южной Аравии, построенный племенем Ад в подражание раю. Племя Ад забыло заветы Божьи, и к нему был послан пророк Худ (Худ-Худ?), но адиты не послушались его, за что город Ирам был уничтожен волей Бога. Мохаммед Мармадук Пиктолл, перелагавший Коран на английский язык, колебался, как передать эпитет Ирама, образованный от слова «imad», «многоколонный» или «многошатровый», как рекомендуют некоторые комментаторы, в их числе авторитетнейший Ибн-Халдун, и все-таки остановился на эпитете «многоколонный», как на более соответствующем городу в Счастливой Аравии или в Южном Йемене, где и властвовала царица Савская, а в имени «Адонирам» не распознается ли наименование племени Ад? Но Адон или Адонаи означает в то же время Господь, а тогда не означает ли имя «Адонирам» «Господь Ирама», то есть, властелин или создатель земного, искусственного, рая, основоположник всех утопий и проектов, навеянных низведением небесного огня на землю? Не отсюда ли индустриальные мотивы в балете Савского? Что же тогда строил Хирам-Адонирам, Иерусалимский храм или Ирам, земной рай? Так или иначе, то и другое строение Адонирама разрушено. Помню одно устное высказывание Платона Демьяновича. В имени Адонирам он обнаружил русскую анаграмму: Надо мира. (Платон Демьянович был великий охотник до подобных анаграмм и, по-моему, разработал целый метод гадания по анаграммам, таящимся в именах, возводя этот метод к ветхозаветным пророкам.) Разумеется, публиковать ничего подобного он не решался, особенно в советское время, но выходило, что Адонирам, то есть «Надо мира» – опять-таки Антихрист, выступающий как мнимый миротворец, как «человек мира», согласно все той же книге «Близ есть при дверех», царица же Савская – падшая София, что было с поражающей откровенностью выявлено в балете, в любовной сцене Балкис и Адонирама, вызвавшей в Париже скандал своим изысканным эротизмом в исполнении Аделаиды Вышинской. Таков был ее парижский дебют.
Впрочем, Чудотворцев чуть было не опубликовал в 1929 году в Советской России обширную статью «Якобинская голова» (по-французски она была уже опубликована под названием «Une tête jacobine». Статья посвящалась Леграндену герою Пруста, чью эпопею «A la recherche du temps perdu» по настоянию Чудотворцева Клавиша читала ему чуть ли не каждый вечер. Чудотворцев указывал на то, что Легранден называет себя якобинской головой, напоминая пророка, являвшегося перед французской революцией. Пророк был одет во что-то вроде звериной шкуры, и у него на шее явственно проступал красный рубец, как будто голова его была отрублена и чудом приросла снова. Кое-кто принимал этого пророка за Иоанна Крестителя, но и отрубленная голова фигурирует в хронике того времени. Голова на блюде предсказала Робеспьеру, что его самого ждет гильотина, а когда отрубили голову французскому королю, некий старец обмакнул платок в его кровь, окропил этой кровью толпу и прокричал, что отмщен Жак де Моле, последний магистр тамплиеров, казненный Филиппом Красивым, предком обезглавленного короля. Среди обвинений, выдвинутых против Жака (Якова) де Моле едва ли не самым тяжким было обвинение в том, что тамплиеры поклонялись отрубленной голове, но от имени Якова де Моле будто бы происходит само название «якобинцы» (мстители за Якова, преемники тамплиеров). Поэтому и Легранден – «якобинская голова», в которой тайные аристократические симпатии вплоть до культа истинной королевской крови сочетаются с крайне революционными, если можно считать революцией восстановление сакральной монархии. Чудотворцев весьма убедительно доказывал, что в руки Нилуса случайно попали бумаги мистического революционера, послужившего прототипом Леграндена, и Нилус по чистому недоразумению приписал эти бумаги мировому еврейству, так как Сион для Леграндена – средоточие сакральной христианской монархии, чего не понял Нилус по простоте душевной. Чудотворцев указывал и на то, что пирожное, вызвавшее поиски потерянного времени, по форме напоминает раковину моллюска, называемого Saint-Jacques (святой Яков), а само пирожное называется «магдалинка», что особенно знаменательно, если собор Notre Dame de Paris назван так в честь Марии Магдалины и его следовало бы называть «собор Владычицы нашей в Париже», а от нее и до Софии Премудрости Божией недалеко. Присовокупив ко всему этому еще Жакерию (тоже чем не мстители за Жака де Моле, слывущие борцами с феодализмом), Чудотворцев уже издал за счет автора, правда, ничтожным тиражом тоненькую брошюру, конфискованную буквально перед тем, как поступить в продажу, и за конфискацией последовал арест.
Не знаю, какие вещие предчувствия нахлынули на душу Натальи Чудотворцевой, когда Аркадий Аполлонович Савский демонстрировал ей свое искусство фортепьянной игры; даю голову на отсечение, что он играл ей и фрагменты из балета «Адонирам». Известно, как чувствительна была Наталья Васильевна к музыке, да и Адонирам должен был напомнить ей Демона. Короче говоря, она скрепя сердце позволила Савскому дать несколько пробных уроков ее сыну. Наталья старалась присутствовать на этих уроках, пропуская их лишь изредка, так что она была в глубине души разочарована, но вряд ли удивилась, когда Аркадий Аполлонович с глазу на глаз сказал ей, что Платон, во всяком случае, не вундеркинд и никакого особенного дарования к музыке не обнаруживает. Прежде всего, у мальчика нет абсолютного слуха, что тем более странно, так как при этом он обладает удивительной, поистине феноменальной музыкальной памятью. Он сразу же запоминает любую музыкальную тему и уже сейчас пытается подбирать на рояле мелодию, происхождение которой сам Аркадий Аполлонович не может вспомнить, хотя и уверен, что тоже где-то когда-то ее слышал. («То была колыбельная няньки Софии», – признавался потом Чудотворцев.) Может быть, в мальчике дремлет будущий композитор? Пока еще ничего определенного сказать нельзя. Певцом или танцовщиком он будет едва ли (это известие в письме Савского глубоко огорчило Мефодия). Такая музыкальная память при отсутствии абсолютного слуха и выраженных исполнительских способностей – явление, конечно, редкое, загадочное, но, строго говоря, ни к чему не ведущее, хотя… хотя…
– Так что решайте сами, сударыня, – обратился Аркадий Аполлонович к Наталье, – продолжать или не продолжать, быть или не быть…
Последнее слово осталось в этом разговоре за маленьким Платоном. До сих пор он безропотно подчинялся своим учителям, будь то старец Иоанн, старец Парфений или лесной старец, которого мальчик называл «дедушка-медведушка». Но тут он проявил неожиданную твердость, пожелав непременно учиться музыке и непременно у Аркадия Аполлоновича. «Иначе я умру», – сказал он вдруг, так что мать вздрогнула и не слишком уверенно согласилась. Она сама видела и слышала, как Платон даже в отсутствие учителя раскрывает рояль и пытается подбирать что-то причудливое, необычное, но знакомое также и ей, хоть и она не могла припомнить, где она слышала такое. Как ни странно, Наталью скорее успокоило известие о том, что у ее сына нет сногсшибательного музыкального дарования и ей теперь легче было примириться с уроками Савского. Она успела убедиться, что эти уроки нечто уравновешивают и чему-то в развитии Платона противостоят. Наталья не смела признаться самой себе, что она боится, как бы под влиянием старца Парфения Платон действительно не стал светочем древлего благочестия. «Не начетчиком же ему быть?» – проскальзывала у нее задняя мысль. И Наталья согласилась на дальнейшие уроки музыки, тем более что оплачивал их по-прежнему Мефодий, продолжающий питать некую надежду на Платона, несмотря на все свое разочарование. И от пенсии за Демьяна Наталья чуть было не отказалась, как мечтала с самого начала, а теперь успешная акушерская практика вполне давала такую возможность, но, согласившись на уроки музыки, Наталья опять покорилась Мефодию, и пенсия от Арлекина продолжала поступать.
Не Мефодий ли напомнил Наталье, что мальчика пора отдавать в гимназию, но я не сомневаюсь, что Наталья и сама об этом задумывалась. Трудность была в том, что обширная акушерская практика не позволяла Наталье перебраться в Москву, а практикой жертвовать было жалко, даже если пенсия вполне позволяла безбедно прожить без нее. У Натальи была мысль поселить Платона в Москве на квартире под присмотром Софии, но, как сказано, София исчезла, едва ее питомца определили в гимназию, так что «фатеру» для Платона пришлось искать Зотику, случившемуся тогда в Москве. Разумеется, он устроил мальца на житье к закоренелым кондовым старообрядцам, а те неодобрительно относились к самому обучению в гимназии и пускали туда своего подопечного скрепя сердце, заставляя пропускать занятия по всем церковным праздникам. Неизвестно, какой толк для Платона был бы в гимназическом образовании, если бы он сам не втянулся в него сразу же, увлекшись при этом особенно древними языками.
Более надежную и удобную квартиру подыскал своему ученику Аркадий Аполлонович, отношения с которым не прекращались и в Москве. Наталья Васильевна сговорилась с извозчиком, который два раза в неделю регулярно возил Платона к Савскому на урок. Платон, собственно, и в Москву-то запросился, так как его учитель отказался в очередной раз зимовать в Гуслицах, а Платон действительно больше не мог жить без музыки. В Москве у Аркадия Аполлоновича был еще один ученик, очень способный, с намеками на гениальность, но весьма слабый здоровьем, пропускавший очень много уроков в гимназии, так что уже вставал вопрос, не придется ли ему сдавать экзамены экстерном. Юноше (он был старше Платона на два года) нужен был репетитор по древним языкам, и на эту должность как нельзя лучше подходил Платон Чудотворцев, хотя и младший по возрасту и классу. Мать первого чудотворцевского ученика, купеческая вдова Евлалия Никандровна Полозова, была готова предоставить юному учителю стол и квартиру при условии, что он поможет болящему Лоллию усовершенствоваться в латыни и, в особенности, в греческом.
Евлалия Никандровна была не то чтобы богата, но вполне обеспечена. От своего супруга Трофима Поликарповича она унаследовала дело своеобразное, но довольно прибыльное, хотя и требующее основательных знаний, вкуса, а главное, любви. Трофим Поликарпович, как отец его и дед, был старинщиком, то есть скупал и продавал предметы старины, оружие, посуду, скалки, веретена, но также и церковную утварь, иконы старого письма и книги, иные из которых можно было приобрести только у него. Особенно тонко Трофим Поликарпович разбирался в иконах, будучи в свои молодые годы бесспорным авторитетом и среди «церковных», и среди старообрядцев. Университетские ученые, художники академии обращались к нему иногда за консультацией. Евлалия забрела к нему в лавку в поисках иконы, помогающей от запойного пьянства. Этим исконно русским недугом страдал ее отец, чиновник в малых чинах Никандр Северьянович Ястребов, подверженный русскому запою, несмотря на свои отдаленные, не совсем русские корни. Предок Никандра Северьяновича приехал на Русь в семнадцатом веке из Швейцарии и поспешил перевести свою трудно произносимую фамилию на русский лад, так что первоначальная его фамилия как-то слишком уж быстро забылась, а включила она в себя, несомненно, слово «Habicht» («ястреб»). Замечу вскользь, что от этого же слова происходит императорская фамилия Habsburg, чье первоначальное владение так и называлось «Habichtsburg» («ястребиная крепость»). Но эту линию мне недосуг, а может быть, и не пристало прослеживать. Юной Евлалии Трофим порекомендовал недорогую икону преподобного Моисея Мурина, и оказалась она столь действенной, что Евлалия предположила, не чудотворная ли она, и не грех ли приобрести ее за такую малую цену. Евлалия снова наведалась к молодому старинщику и предложила ему вернуть икону, коли настоящая ее цена чересчур высока для них, но Никандр про деньги не пожелал и слушать, подтвердив, что икона приобретена, и слава Богу, если она подействовала. Тогда Евлалия навестила лавку старинщика с отцом, исцеленным, пусть лишь временно и не совсем. Никандр Северьянович не очень верил в чудотворные иконы, но его артистическая натура отзывалась на красоту, и он стал бывать в «лавке древностей», как он, читатель Диккенса, называл благолепный лабаз Полозова. Дело кончилось тем, что Трофим Поликарпович посватался за Евлалию, и Никандр Северьянович, вздохнув про себя, согласился, так как лучше жениха для бесприданницы не предвиделось.
Таково было происхождение Лоллия Полозова, родившегося со смертельной неизлечимой болезнью. Ибо не исполнилось ему и двух лет, как выяснилось, что он страдает гемофилией, а при таком диагнозе врачи лишь руками разводили. Вскоре к болезни прибавился еще один тягостный симптом: иссушающий изнурительный жар. Неделями, а то и месяцами температура у Лоллия не опускалась ниже тридцати восьми. Никакие жаропонижающие не помогали. Вот почему Лоллий пропускал столько занятий в гимназии и без репетитора, конечно, не мог освоить древних языков.
Так нечаянно Платон впервые обрел близкого друга, и этот друг остался, пожалуй, единственным в его жизни. Не то чтобы Платон сторонился своих сверстников прежде. Уже в Гуслицах он иногда играл в бабки, а потом в городки с другими детьми, когда выдавалась свободная минутка, но таких свободных минуток становилось все меньше: и старец Парфений, и Савский были требовательными учителями. Но дети забегали за Платошкой поздним летом все чаще и чаще: выяснилось, что Платон, как никто другой, умеет находить грибные места, вернее, просто знает их. Однажды Платон проговорился, что, мол, это место ему показал дедушка-медведушка, и остальные сперва подняли его на смех, а потом чуть было не поколотили, но тут из чащи вышел высоченный старец в смуром армяке, подпоясанный лыком, строго прикрикнул на драчунов, а потом смягчился и показал им палестинку, где сплошняком росли боровики: хоть косой коси. Мальцы набросились на грибы, а когда оглянулись, старца как не бывало. С тех пор и пополз по слободе слух, что Платошку леший возлюбил, но когда этот слух дошел до старца Парфения, тот только пальцем погрозил, и слух разом пресекся.
Но близких друзей в ребячьей гурьбе Платон, разумеется, не нашел, и то же самое продолжалось в гимназии, но после первого же урока с Лоллием тот сел за рояль и сыграл Платону известную мелодию из оперы Глюка (иногда называют эту мелодию «жалобой Эвридики»). Платон заслушался. Лоллий играл Глюка в собственном фортепьянном переложении. Вскоре мать подыскала ему антикварный клавесин, о чем Лоллий просил ее давно. Евлалия Никандровна уступила, хотя про себя опасалась, не слишком ли злоупотребляет ее сын фортепьянной игрой и не от этих ли длительных бдений не спадает у него высокая температура. Лоллий все еще колебался между исполнительством, импровизацией и композицией, что помимо слабого здоровья затрудняло его дальнейшую карьеру в музыке, а вне музыки он не мыслил для себя никакой деятельности. Лоллий начинал играть своего любимого Шуберта (он выделял его среди новейших композиторов, которым определенно предпочитал мастеров восемнадцатого или даже семнадцатого века), от исполнения незаметно для самого себя переходил к импровизации, нередко зачаровывавшей самого Савского, а потом, среди ночи, набрасывал на нотной бумаге несколько мыслей и возвращался к роялю, чтобы их озвучить. Впрочем, композиции, записанные Лоллием, знатокам решительно не нравились. Их находили то слишком банальными, то чересчур оригинальными, выходящими за пределы музыки, бросающими слишком резкий вызов гармонии и контрапункту. Самого Савского они настораживали, хотя игру Лоллия он слушал часами, забывая исправлять явные ошибки своего ученика.
Когда Лоллий встал из-за рояля, Платон впервые внимательно присмотрелся к нему. Перед ним стоял очень высокий, худощавый до костлявости юноша с длинными очень светлыми волосами, зачесанными назад (прическа придавала ему некоторое сходство с Шиллером) и с глазами васильково: синими, которые неловко назвать голубыми. Лоллий напоминал деревенского пастушка, только кнута и дудочки не хватало. Подобный тип частенько встречался в русских деревнях, и можно спорить, чисто ли славянский это тип или славянско-угро-финский. Но при этом Лоллий походил и на какого-нибудь молодого Вертера или на юного немецкого студента-романтика, скажем, на Ансельма из гофмановского «Золотого горшка».
И Платон в ответ начал декламировать ему «из греческой трагедии, конечно» (Гёте, «Фауст», трагедии первая часть, сцена 1, перевод Н.А. Холодковского). Платон Демьянович по-разному рассказывал об этом чтении. Иногда он говорил, что читал Эсхила, а это сомнительно: Лоллий слишком мало понял бы и был бы обескуражен. По всей вероятности, Платон декламировал все-таки Еврипида, о чем тоже упоминал, но неохотно; слишком уж язвительной критике он вслед за Ницше подвергал автора «Медеи», как разрушителя трагедии, но ведь Еврипид разрушал трагедию психологизмом или лиризмом, все-таки музыкой, хотя и не той музыкой, из духа которой трагедия родилась. Что здесь было: музыка, покинутая духом, но все еще жалобно звучащая, или дух, оставленный музыкой и озвученный одной только жалобой? Подобное чтение греческих стихов я слышал от Якова Эммануиловича Голосовкера и спросил его, не отсюда ли мелодии в операх Глюка, что он вполне допускал. Платон читал, а Лоллий уже начал подбирать на фортепьяно мелодии, уловленные в этом чтении. К такому совместному музицированию и сводились в основном уроки Платона. Когда обеспокоенная Евлалия Никандровна заглядывала в комнату сына и осведомлялась, чем он занимается: древними языками или музыкой, Лоллий махал на нее руками и заверял, что иначе вообще ничему не выучится, а Платон важно доказывал, что такая метода имеет свои обоснования. И действительно, гимназические учителя подтверждали успехи Лоллия, только жар держался у него все дольше, а вернее, совсем уже не спадал. Казалось, музыка сжигает юного музыканта.
А когда у Лоллия, кроме рояля, появился клавесин, самая их жизнь превратилась в сплошное музицирование. Товарищи по гимназии начали дразнить Платона, он, дескать, ходит, пританцовывая. То ли на его походке действительно отразились невероятные менуэты с уклоном в античность, которые непрерывно играл Лоллий, то ли до гимназии дошли слухи об этих странных занятиях, так или иначе, не только Лоллий, но и Платон переживал необычнейший период своей жизни (а были ли в его жизни периоды «обычного»?). «Я буду называть вас Люлли», – сказал однажды Платон Лоллию. «Тебя, – поспешно добавил он, присовокупив: Если позволите…» А самого Платона невозможно было назвать как-нибудь иначе. Имя Платон само за себя говорило, и в гимназических коридорах с нарочитой громкостью говорили на переменах о платонической любви, когда Платон проходил мимо. Для своих занятий учитель и ученик требовали строжайшего уединения. Платон стеснялся на этом настаивать, живя как-никак в чужом доме, но Лоллий явно злоупотреблял своей властью над матерью, и она лишь из соседней комнаты позволяла себе слушать то кристаллически стройные, то неудержимо взрывающиеся лады, завораживавшие ее самоё. Она была почти спокойна, пока слышала сквозь музыку голос Платона, скандирующего древние стихи. Настораживали ее, тревожили, наконец, ужасали паузы, редкие, но все более затяжные, когда она терзалась мыслью, что с Лоллием, не потерял ли он сознание или, или они оба… кто их знает…
Когда Платон расставался с Лоллием, уезжая к матери на каникулы, он писал Лоллию каждый день. Впрочем, он писал своему другу и живя с ним под одним кровом; так зарождался особый жанр чудотворцевского творчества: Вячеслав Иванов назвал этот жанр «Переписка из двух углов». Впоследствии из переписки Чудотворцева с его соседом по комнате в санатории Гавриилом Правдиным образовалась целая книга. Не приходится говорить о переписке с Лоллием. Лоллий отвечал другу регулярно, но скупо и односложно. Письма же Платона представляют несомненный интерес. По существу, это первая философско-поэтическая книга Чудотворцева. Я не имею возможности включить их в данную главу и надеюсь посветить эпистолярному наследию Чудотворцева вторую книгу его жизнеописания. Упомяну только, что сперва письма начинались «мой дорогой Люлли», потом «мой милый Люлли» и, наконец, «мой любимый Люлли». Нечего и говорить, что письма Платона сохранила Евлалия Никандровна… в память о сыне.
Друзей связывала и некая тайна, небольшая или страшная, с какой точки зрения посмотреть. Тайна эта могла нанести непоправимый урон торговому дому Полозова, по крайней мере, среди старообрядцев, а ведь благосостояние дома зависело от них. Дело в том, что Лоллий курил, и прислуге приходилось бегать за табаком и бумагой, из которой Лоллий свертывал свои пахитосы. Не исключено, что они могли быть к тому же «подцвечены опиумом» («opium-tainted»), как папироски лорда Генри. Роман Оскара Уайльда был только что опубликован, и друзья вряд ли могли прочитать его, но знаменитую книгу Де Квинси Платон обнаружил в библиотеке Лоллия. Курение Лоллия должно было по возможности оставаться секретом от Евлалии Никандровны, но запах табака трудно было не почувствовать. Она опасалась, как бы запах не дошел до магазина. Она посылала горничную за табаком в дальний по возможности магазин, где не знали Полозовой, чтобы слух о такой покупке не распространялся среди соседей. Но больше всего ее пугала опасность, которой каждая папироса грозила здоровью и, может быть, жизни Лоллия. Поговорить с ним откровенно Евлалии Никандровне не удавалось. Лоллий категорически все отрицал. Поймать сына с поличным Евлалия Никандровна не смела. Потому ее и ужасали затяжные паузы в музицировании, когда сын ее тут же за стенкой рядом с ней затягивался смертельным ядом. Надо сказать, что Платон не был ему пособником, хотя и не выдавал друга. Что касается табака, староверская закваска действовала на Платона непререкаемо, и хотя бы в этом он противостоял соблазну Лоллия.
Однажды Платон задержался после летних каникул по причинам, о которых речь пойдет ниже. Лоллий почти уже не вставал в эти дни, утешаясь только запахом левкоев, которые мать заказывала для него в оранжерее. Пошатываясь, он подходил иногда к роялю, но играл недолго: без Платона ему не игралось. Наконец, Евлалия Никандровна была извещена то ли телеграммой, то ли нарочным, как это все еще водилось у старообрядцев, о том, что Платон возвращается завтра. Лоллий был как-то необычно взволнован этой радостной вестью. Он не спал ночь, что последнее время повторялось все чаще и чаще, а наутро особенно озаботился своей внешностью. Тут были тоже проблемы, нелегкие для Евлалии Никандровны. С детства Лоллий не выносил, когда стригут ему волосы. Кроме здоровья, это была еще одна помеха для хождения в гимназию. Белесые локоны Лоллия опускались уже далеко ниже плеч. «Хоть косу заплетай», – шутила мать, изредка ими играя, от чего Лоллий болезненно поеживался. В то же время едва ли не более болезненное значение Лоллий придавал тому, чтобы никто не видел, как у него пробивается борода. Лоллий всегда брился сам, не терпя при этом посторонних глаз. Не сказывался ли в нем наследственный старообрядческий синдром, ощущающий брадобритие как смертный грех, когда при этом нечто вынуждало его как можно дольше делать вид, что борода все еще не растет? Так или иначе Лоллий никогда не брился не только в присутствии матери, но и в присутствии Платона. Бритву он сам себе купил, прятал под матрасом и сам направлял ее. Нечего и говорить, что бритва была опасная и очень острая.
После бессонной ночи при температуре, возможно, выше тридцати девяти Лоллий принялся бриться к приезду друга и порезался. Порез был в области горла и очень глубокий. Поговаривали даже о попытке самоубийства, но какие тому могли быть причины? Разлука с другом? Его опоздание? (Платон действительно задержался в дороге и вошел в квартиру часа на два позже, чем ожидалось.) Но так или иначе, кровь хлынула ручьем, и гемофилия не могла не проявиться. Лоллий имел обыкновение запираться, бреясь, в своей комнате. Так поступил он и теперь. Слишком долгое время он пытался остановить кровь сам, чтобы не пугать мать. Когда он все-таки отпер дверь и к нему наконец вошли, посреди комнаты валялось окровавленное полотенце, а Лоллий прижимал к порезу остаток разорванной простыни, которая тоже была уже вся окровавлена. Евлалия Никандровна не растерялась и срочно послала за лечащим врачом. Доктор Фридрих Госсе оказался дома и не замедлил откликнуться на зов. Войдя в комнату, он сразу начал энергичную борьбу с кровотечением и, по-видимому, сделал все, что мог, но откровенно сказал матери, что надежды практически нет: такой порез опасен и для здорового, а тут гемофилия, что ни говорите… В этот момент в комнату как ни в чем не бывало вошел со своим дорожным чемоданом Платон. Он побледнел, узнав, что произошло, но тут же поспешно раскрыл чемодан и принялся что-то судорожно искать в нем. Домашние не поняли, зачем распаковывает он чемодан не в своей комнате, а здесь, в присутствии умирающего, но Платон быстро отыскал среди своих пожитков и книг странной формы флакон, который он и протянул с торжеством доктору. Фридрих Генрихович только рукой махнул на гимназиста, но Платон продолжал настаивать и что-то горячо говорил доктору по-латыни.
– Вы говорите: чудеса творит? – вдруг переспросил доктор по-русски. – Это что, какой-нибудь местный православный чудотворец? – Доктор всегда боялся оскорбить религиозные чувства доброго, но, что ни говорите, полудикого народа, среди которого был вынужден практиковать.
Платон продолжал на чем-то настаивать по-латыни. Доктор прислушался к его словам внимательнее, но вскоре махнул рукой еще решительнее:
– Нет, нет! Слушать дальше не хочу! Quacksalber! Только этого не хватало. Я все-таки доктор с университетским дипломом, милостивый государь!
– War Paracelsus ein Quacksalber? – перешел на немецкий язык «милостивый государь».
– Я слышал это имя в молодости, поверьте мне, но тайные науки – не моя специальность.
Слово «Quacksalber» явно относилось к лесному старцу он же дедушка-ведмедушка (медведушка?). Платон, следовательно, изредка встречался с ним и в те годы. Наверняка поведал он ему о болезни Лоллия, и старец обещал приготовить для него бальзам. Изготовление бальзама требовало месяцев, а может быть, и лет. (По моим подсчетам, Платон прожил с Лоллием под одним кровом года три.) Одной из причин, по которым Платон загостился у матери после каникул, и была встреча со старцем; его никому еще не удавалось найти в лесу пока он сам не выйдет навстречу и всегда оказывалось, что жилье старца, его лаборатория со змеевиком, перегонным кубом и тиглем родом. На этот раз дедушка-ведмедушка вышел к Платону позже, чем Платон рассчитывал, и пришлось-таки поблуждать в лесу пока старец не вручил Платону обещанный флакон. Составом из флакона следовало смочить марлю или корпию и делать компрессы, если, не дай Бог, у больного пойдет кровь. Платон упомянул Парацельса, чтобы дать доктору Госсе хоть какое-нибудь представление о дедушке-ведмедушке (его настоящего имени тогда еще не знал сам Платон). «Вы хотите, чтобы напоследок у больного началось еще и заражение крови?» – упорствовал Фридрих Генрихович. К этому времени он уже взял пробу крови у Лоллия в специальную пробирку для последующего анализа, так как не утратил научных интересов, и впоследствии эта проба крови оказалась в Имморталистическом центре в Париже, а потом у доктора Сапса. Лоллий продолжал между тем истекать кровью. Лишь через несколько часов, когда Лоллий лежал в глубоком забытьи, не выпуская из своей руки руку Платона, и стало очевидно, что Лоллий умирает, доктор Госсе позволил себе откупорить диковинный флакон. Комната сразу наполнилась тяжелым запахом лесных цветов и трав. С непривычки этот запах мог показаться болотной затхлостью. Доктор Госсе понюхал флакон и поморщился. Но тут произошло непредвиденное. Умирающий глубоко вздохнул и принялся срывать у себя повязки. Доктор кинулся к нему, Лоллий выхватил у него флакон из рук, выпустив для этого руку Платона из своей, и принялся поливать из флакона кровоточащую рану у себя на горле. Доктор Госсе сразу же отнял у него флакон, но говорят, что кровотечение после этого остановилось, хотя остановиться оно могло, так как больше не было кровяного давления: Лоллий умер, вероятно, от внутреннего кровоизлияния, а лесное зелье могло бы спасти его. Так Платон потерял друга, полагаю, самого близкого друга в своей жизни, и с тех пор ежегодно отмечал его память, но не в день его смерти, а в день его ангела, 23 июня, как раз накануне Ивана Купалы.
Смерть Лоллия была не единственной переменой в жизни Платона к этому времени. Перемены в жизни Натальи и Платона начались за десять лет до этого, когда Наталья приняла роды у купеческой вдовы Капитолины и приняла нельзя сказать, чтобы удачно: Капитолина умерла родами (единственный случай в практике Натальи), но младенца Наталья спасла: то была девочка, нареченная в святом крещении Олимпиадой. Олимпиада приходилась внучкой одному из богатейших, если не богатейшему купцу Подмосковья. Его подлинное имя было Акиндин Мокеевич Обручев, но на улице, в окрестных городах и весях, на стоянках гуртовщиков, на отдаленных сибирских заимках, на Нижегородской ярмарке и на Московской бирже его называли за глаза просто Киндя Обруч. Киндя был приземист, кряжист, косолап. Несмотря на свои предполагаемые миллионы, он продолжал ходить в армяке или в поддевке, а зимой в овчинном тулупе, летом носил картуз, зимой же барашковую шапку Особенно привлекали внимание его поскрипывающие смазные сапоги. Никто никогда не видел Киндю в шляпе, а тем более в цилиндре или во фраке. Немецкой одеждой Киндя всю жизнь брезговал. Происходил Киндя из енисейских староверов, но забирался в молодости гораздо дальше на восток, не то что до Лены, даже до Анадыря. Промышлял он золотом и пушниной. Золотишко, говорят, давалось ему в руки, но в меховом промысле преуспел он больше. Меха-то и привели Киндю в Москву, где он женился на дочери известного московского скорняка Фомы Пыжова, который после дочерней свадьбы как-то слишком уж быстро помер, говорят, во время крупного разговора наедине с новообретенным зятем, когда старик Пыжов упал, будто бы оступившись, и ударился головой об острый край своего бюро, где имел обыкновение держать деньги, да и не встал больше. Ходили слухи, что тут не обошлось без Кинди. Слухи эти были подкреплены сибирскими россказнями, подтверждающими, что у Кинди на такие дела рука легкая. Унаследовав от тестя изрядный капиталец, Киндя счел за благо на некоторое время исчезнуть из Москвы и затерялся среди поволжских и донских гуртовщиков, присматриваясь к торговле скотом.
Но цепкий купеческий глаз Кинди теперь уже навсегда облюбовал Подмосковье. Киндя с первого взгляда заприметил тучные поемные луга вдоль Москвы-реки, в особенности там, где в Москву-реку впадает наша Векша. Киндя сразу смекнул, как выгодно выгуливать на этих лугах стада, пригоняемые из разных губерний, прежде всего с приволжских. Откормленный скот забивали на знаменитом тогда уже Мочаловском рынке, где говядину закупали московские мясники. Дело было большое и требовало финансовой подпитки. Одними пыжовскими капиталами Киндя не обошелся бы, тем более что он никогда не ликвидировал уже налаженного дела, так что скорняжное заведение Пыжова не просто продолжало существовать в Москве, но и процветало богаче прежнего. Остальные дела Кинди разворачивались не без сибирского золота, ибо сибирские промыслы также оставались в сфере его интересов, и Киндя наведывался в сибирские дали неоднократно, даже регулярно, пока был в силах, хотя даже домашние не знали иной раз, куда он исчезает. Но голубеющие поемные луга заворожили Киндю раз навсегда, подернутые летом от зари до зари светящейся млечной дымкой, всю ночь оглашаемые мощным, неумолчным соловьиным пением: в прибрежном ивняке соловьям счету не было. Думаю, перед этими звучно-раскатистыми далями Киндя не мог устоять, как я, но, должно быть, стада, бродившие по этим лугам, были для него важнее перепелов, перекликавшихся в траве, хотя и перепелов Киндя, говорят, лавливал. Киндя знал, как важно приветить покупщика, угостить, закормить его, и потому при самом устье Векши появилось особое заведение сперва для немногих избранных, где им подавали жирные щи из свежезабитой говядины с кулебяками и подовыми пирогами. Постепенно заведение стало круглогодичным и уже называлось «Услада». Пели там цыганские хоры, играли оркестры балалаечников, а для степенных старообрядцев был маленький залец с отдельными кабинетами и красавицами-смиренницами по вкусу гостей. Женское обслуживание не отменялось и во время постов, хотя скоромных блюд в ресторане тогда не подавали, потчуя гостей волжскими стерлядями, донскими балыками, и, возможно, подмосковной форелью из Таитянки. Скоро при ресторане появилась и гостиница для шибаев и прасолов иногда из очень дальних мест, буквально с Дону и с моря (в Киндиной гостинице мог останавливаться и отец Михаила Александровича Шолохова, торговавший, как известно, скотом). Была при гостинице и старообрядческая моленная в укромном покойце, где приходилось уживаться разным толкам, так что яростные споры прерывались лишь молитвами, подчас «умными», то есть читаемыми не вслух, но и до таких споров водились охотники, привлекаемые в гостиницу беседами от Святого Писания. Ресторан оправдывал свое название «Услада» патриархальным разнообразием варений, подаваемых к чаю: яблочных, грушевых, сливовых, вишневых, земляничных. Подавались у Кинди пироги с разными овощами, плодами и ягодами вплоть до пирогов с черникой и клюквой. Славилась «Услада» своими морсами и квасами, но особый гастрономический колорит придавали Киндиному заведению сбитни и меды в древнерусском вкусе, хмельные, иногда очень крепкие, с неповторимым ароматом, так как изысканнейший мед поступал из легендарного соседнего Лушкина леса, где цвели и благоухали вековые липы, от которых происходило название недальнего сельца Мочаловка и деревни Лыканино, чье прежнее название Луканино также не было забыто.
Предприимчивость Кинди не знала сытости, и, не довольствуясь торговлей мясом, он вздумал ставить кожевенный завод, хотя подобный промысел мог испортить воду стремительной, прыгучей Векши да и заразить самое Москву-реку. Тут-то и пригодилась Кинде Баклуша, которую местные жители давно уже кляли, так как она заболачивала крестьянские луга, мешала ездить на телегах, сотрясала воздух богатырским кваканьем рослых лягушек и притягивала к себе ребятишек, вязнувших в топком торфе дна, а изредка даже тонувших в тинистых ямах-бучилах, образующихся после паводка в самых неожиданных местах, где в прошлом году на них и намека не было. Говорили даже не о Баклуше, а о Баклушах, настолько мудрено было разобраться в извилистых рукавах, петлях и водомоинах, неисчислимых в дождливое лето, угрожающих и в засуху засасывающей зелено-коричневой жижей. Баклушей или Баклушами прозывалась живучая, упорно отказывающаяся пересыхать старица Векши, подпитываемая полыми и подпочвенными водами. Они просачивались, размывая скудный здешний торфяник (маленькому заводу, производившему торф на топливо, хватило сырья лет на сорок), так что Баклуша оказалась протяженнее Векши в ее нижнем течении, чье русло по своей прихоти выпрямил купец Трифон Орлякин, собиравшийся устраивать на Векше гребные регаты и подумывавший, не развести ли на ее берегах леса пробкового дуба в промышленных целях. (Не в память ли об этих замыслах по весьма косвенной ассоциации Баклушу все еще называли иногда Баклага?). Купил Орлякин-старший у разорившихся наследников и запущенную барскую усадьбу екатерининских времен, обветшалый дворец с башней, господствующей на своем холме над все той же поймой, где Векша впадает в Москву-реку. На холме был разбит и когда-то роскошный английский парк с прудами и темными аллеями. Из парка можно было любоваться готическим кружевом церкви, построенной по проекту самого Баженова. Орлякин-старший рьяно принялся восстанавливать дворец и парк, но скоропостижно умер. Его наследник, слишком известный в купеческих и в артистических кругах Мефодий Орлякин поспешил обратить в деньги недавно приобретенные отцовские владения, и приобрел их, естественно, безудержно богатеющий Киндя Обруч. Дворец и парк его нимало не интересовали, а для кожевенного завода трудно было найти место лучше Баклуши. Киндя вообще имел вкус к недвижимости и покупал землю ради нее самой, не извлекая из нее иной раз никакого дохода; руки не доходили. Такая слабость за Киндей, действительно, водилась, подтверждая его имущественное могущество.
Казалось бы, домостроевский гений Кинди должен был проявиться и в многочисленной патриархальной семье, но семья-то у Кинди, как на грех, не задалась. Супруга Кинди Улита Фоминична так и не оправилась от страха, вызванного внезапной подозрительной кончиной отца ее Фомы Пыжова. С тех пор она смертельно боялась мужа, боялась не тем благочестивым страхом, каким, по слову апостола, подобает бояться жене, а страхом изнуряющим, паническим, невыносимым, так что Улита вскоре умерла, родив Кинде единственного сына по имени Гордей. Гордей нисколько не походил на Киндю. Он был выше ростом, косая сажень в плечах, добрый молодец, да и только. До поры до времени Гордей не смел перечить отцу, да и неизвестно, перечил ли он Кинде когда-нибудь, хотя на то похоже. У Кинди были свои планы касательно сына. Уже давно Киндя подумывал о том, чтобы подняться на более высокий, так сказать, на международный уровень в купеческих делах, и кое-какие выгодные сделки с иностранцами он действительно провернул, но продавалась при этом исключительно пушнина, а Киндя предпочитал богатеть на кожах и тушах, да и банки начинали его интересовать, но тут, что ни говори, сказывалась Киндина необразованность: международные биржевые операции оставались для него лесом дремучим, да и куда там лесом: в тайге Киндя чувствовал себя как дома, а на бирже его иной раз пробирала все-таки оторопь, хоть он и знал себе цену. Надо было лопотать, а главное, читать по-басурмански, между тем Киндя и в русской грамоте был не вполне силен. Вот Киндя и вздумал приспособить к новейшей, немецкой коммерции Гордея, отдав его для этого даже в гимназию (сперва в классическую, потому в реальную), где Гордей обнаружил недюжинные способности, а главное, втянулся в изучение наук, что насторожило Киндю. Во-первых, сын явно отходил от древлего благочестия, а во-вторых (не во-первых ли?) мог взять со временем верх над отцом, чего Киндя никогда не потерпел бы. Скоро нашелся и предлог, чтобы забрать Гордея из гимназии. Гордей, как и Лоллий, начал тайно подбривать пробивающуюся бороду (не ходить же в гимназию с бородой). Киндя застал его за этим богомерзким занятием, беспощадно отхлестал его своим шибайским арапником, которым гонял, бывало, скот, и категорически запретил впредь ходить в гимназию. Конечно, бритоус всегда вызывал у старообрядца глубокое омерзение. Вспоминалось доброе старое время, когда бритых запрещалось хоронить в освященной земле. Молчаливо предполагалось при этом, что бритье усов и бороды сопряжено со склонностью к содомскому греху. Вот откуда стойкое неприятие петровских реформ. Но была у Кинди и другая, задняя мысль. Киндя вообразил статного красавца Гордея во фраке, гладко выбритого, присваивающего себе отцовский капитал в антихристовы времена, когда суды и власти на стороне бритоусов, а самому Кинде останется разве что холодная клетушка под лестницей. По правде говоря, Киндя не совсем представлял себе, как бритоусы оберут его, но смутные опасения приводили Киндю в тем большую ярость. Отвадив сына от гимназии, Киндя вроде бы успокоился и даже стал посылать Гордея в дальние поездки по делам, доверяя ему значительные суммы денег. Тут и произошло непоправимое. Из одной поездки за Волгу Гордей привез девушку-сироту. Это и была Капитолина. Киндя сначала не обратил на нее внимания, дескать, приблудная девка, и все. У него у самого всякое бывало в дальних поездках. Киндя не понимал только, зачем Гордей притащил девку домой, но по-настоящему Киндя взбеленился, когда услышал, что Гордей собирается обвенчаться с безродной бесприданницей. Киндя счел ее было гулящей, задурившей голову молокососу Гордею, но потом признал, что ошибся. Говорили, будто Киндя вдруг смолк, прекратил брань и проклятья, разглядев Капитолину (он тогда уже был подслеповат), но так или иначе он даже согласился, чтобы Гордей обвенчался с ней, хотя свадьбы устраивать не стал, то ли по скупости, то ли потому, что считал неприличной свадьбу с бесприданницей.
А месяца через два после свадьбы Киндя отправил Гордея в поездку, еще более дальнюю, чем прежние. Киндя утверждал потом, что поездка была задумана еще до Гордеевой свадьбы. Гордей поехал в Сибирь, но никто в точности не знал куда; теперь сказали бы: коммерческая тайна. По слухам, Киндя велел Гордею разведать, где за Енисеем лучше скупать пушнину. Как сказано, золотом и пушниной Киндя никогда не переставал промышлять. Странно было только, как это Киндя посылает в такую глушь своего единственного сына, Сибири не знающего и дотоле там не бывавшего. Киндя отвечал на это, что такого дела он не может доверить никому, кроме родного сына, что Гордею пора набираться опыта и что сопровождать его будет надежнейший человек, истый кержак, обученный в свое время лесному промыслу самим Киндей. Гордей все не возвращался да не возвращался из тайги к молодой жене. В народе уже прямо поговаривали, что Гордею лучше не спешить домой. Потом сам Киндя подтвердил, что Гордей пропал без вести, а в конце концов где-то близ Подкаменной Тунгуски нашли скелет, опознанный, насколько это возможно, как скелет Гордея. Уже и прежде ходил слух, что Гордей ищет в Сибири смерти и тому имеются веские причины, но, главное, найден был один скелет, а верного, надежнейшего человека и след простыл. Напрашивалось подозрение, не он ли порешил Гордея, убедившись, что при нем как раз та сумма, которую Киндя обещал верному человеку за убийство своего сына.
В окрестности никто не сомневался: Киндя начал жить со своей снохой сразу же после свадьбы, отъезд Гордея он задумал, когда Капитолина забеременела, а забеременеть ей было не от кого, кроме как от Кинди. Киндя отшил сына чуть ли не в ночь после свадьбы, установив что-то вроде права первой ночи, но такой первой ночью оставалась каждая ночь после этой первой, а иногда ночь наступала и среди бела дня, когда Киндя окончательно закусил удила. Киндя не то чтобы изнасиловал свою сноху или принудил ее к сожительству: скромница Капитолина, кажется, сама предпочла цепкие объятия Кинди Обруча целомудренному обожанию своего юного благоверного. Спрашивается, что помешало Кинде самому жениться на Капитолине?
Неужели он побрезговал венчанием с бесприданницей? Или Гордей все-таки опередил его с венчанием себе не на радость? А может быть, Киндю как раз разжигало то, что Капитолина обвенчана с его собственным сыном, а предпочитает его. Но тогда зачем было убивать Гордея? Все могло и дальше идти как по маслу, а Гордей тут же и был бы или мыкался бы в дальних поездках, пока не спился бы и не помер бы естественной для него смертью. Но Киндя не мог допустить, чтобы Гордей унаследовал его богатство. Он почувствовал к сыну лютое отвращение, когда увидел, как этот телок бреется. Киндя хотел завещать свой капитал другому своему сыну которого должна была родить Капитолина, а от Гордея надо было скорее отделаться, чтобы ему не досталась хотя бы часть капитала. (Киндя помнил, что он не молод, и Гордей, не ровен час, может завладеть капиталом и промотать его, чтобы обездолить своего «сына», а вернее, меньшого братца.) И Киндя избавился от Гордея исконным сибирским разбойничьим способом, но тут началось самое страшное. Еще до того, как слухи о смерти Гордея подтвердились, он начал являться беременной Капитолине во сне и наяву, угрожая неверной жене. Капитолина криком кричала от этих посещений. Пришлось держать ее взаперти, не выпуская даже во двор иначе как ночью. Капитолина не сомневалась, что умрет родами и родит мертвого ребенка. Ее кликушество ужаснуло самого Киндю, вообще говоря, не склонного к суевериям, и он задолго до родов пригласил к своей снохе лучшую в округе повитуху Наталью Чудотворцеву, и та пользовала Капитолину, не отходя от нее ни на шаг в последние недели перед родами. Предсказания кликуши удалось опровергнуть лишь наполовину. Роды были трудные; ребенок остался жив, а роженицу спасти не удалось. Киндя даже зубами заскрипел, услышав, что родилась девочка, но, говорят, после этого он в ногах валялся у Натальи, умоляя ее не покидать сироту. Что-то дрогнуло в душе Натальи. Липочка росла на ее попечении. Наталья отказалась жить под одним кровом с Киндей, и рядом со своим домом он выстроил ей отдельный домик, такой же, как в Гуслицах. Так Платон оказался среди заилившихся омутов и тинистых водяных ям Баклуши.
Но кроме этих болотистых колдобин, «окон» и ядовито зеленеющих чарус были соловьиные заросли и голубеющие луга с могучим благоуханием цветов и трав, незаметно переходящим в грибной и цветочный дух леса. Эти дубы и липы были лучше знакомы Платону, привыкшему встречать под их сенью лесного старца, но такие же дубы и липы росли в запущенном парке усадьбы, которую Киндя приобрел вместе с пастбищами и водомоинами, но не обращал на нее внимания. Дворец екатерининских времен так и стоял пустой в ожидании, пока отремонтируют его. В зале ветшала даже обширная библиотека, которой прежние владельцы не придавали никакого значения, вместе с дворцом предоставив ее на произвол покупателя. Библиотека состояла в основном из масонских мистических книг, иногда весьма редких, в чтение которых летом и погружался Платон. В этом парке и в бывшем дворце, практически предоставленном в его полное распоряжение, Платон пережил встречу и трагическое событие, оставившее в его душе еще одну вереницу незаживающих следов.
Толки о смерти Лоллия распространились и в гимназии, где учился Платон. Однажды на перемене к Платону подошел его одноклассник Валентин Заблоцкий и с вежливой осмотрительностью не без обиняков осведомился, правда ли, что у Платона есть эликсир, останавливающий кровотечение. Платон ответил утвердительно.
– У меня, видите ли, старший брат химик, – продолжал Валентин, – и не были бы вы так любезны показать этот эликсир ему, а быть может, и дать на анализ хотя бы каплю?
Куртуазная учтивость Валентина, изолировавшая его среди гимназистов, напротив, нравилась Платону. Он и в самом деле не знал, как ему дальше обращаться с таинственным эликсиром, хотя бы как хранить его, если уж на то пошло. Эликсир предназначался для Лоллия, а Лоллия не было в живых. Доктор Госсе раз навсегда отмахнулся от знахарского снадобья и не желал о нем слышать. Платон колебался. Можно ли показывать эликсир посторонним или тем более давать его на химический анализ? А с другой стороны, Платон видел, как эликсир действует. Что, если эликсир может спасти чью-нибудь жизнь? Не грех ли оставлять его без употребления? Но что скажет лесной старец? Увидеть его удастся, чего доброго, не раньше будущего лета. И Платон согласился встретиться со старшим братом Валентина.
Так Платон познакомился с Раймундом Заблоцким, студентом Московского университета. Раймунд был старше своего брата не намного, почти ровесник самому Платону, но Валентин безусловно признавал его авторитет, живя под его присмотром. Родители у братьев умерли, и Раймунд жил уроками, да еще содержал при этом брата, только еще начинающего подрабатывать тем же.
Братья снимали небольшую комнату в полуподвальном помещении на Спиридоновке. Когда Платон спустился по шатким ступенькам лестницы, дверь со скрипом открылась, и его встретил щуплый шатен в очках. Это и был Раймунд Заблоцкий. Вежливо предложив гостю стул, он сразу же спросил, не принес ли Платон эликсир. При всей своей изысканной учтивости Раймунд не мог скрыть нетерпения. Платон предпочел бы усмотреть в таком нетерпении научный интерес, но в нем угадывалось что-то другое, отнюдь не чуждое самому Платону.
Вместо ответа, Платон просто поставил на стол флакон лесного старца.
– Шел бы ты в читальню, Валентин, – обратился Раймунд к младшему брату, на польский лад подчеркивая ударение на предпоследнем слоге, что напомнило и об их родстве, и о старшинстве Раймунда. Валентин неохотно удалился.
– Вы позволите? – спросил Раймунд, уже откупоривая диковинный фиал, и Платон снова вдохнул дремотно вяжущий запах, распознавая на этот раз и благоухание меда, которым потчевал его лесной старец.
– Как хотите, а без Меркурия здесь тоже не обошлось, – сказал Раймунд.
– Я в этом ничего не понимаю, – робко ответил Платон. – Меркурий – это, кажется, ртуть…
– Ртуть-то ртуть, да не просто ртуть, – усмехнулся Раймунд с видимым облегчением, как будто возможная посвященность Платона обязывала бы его и сковывала бы, но убедившись, что перед ним профан, он как истый адепт немедленно принялся готовить своего собеседника к посвящению, интригуя его и одновременно вербуя.
Платон видел, что Раймунду не терпится идти в лабораторию, чтобы подвергнуть эликсир анализу. Раймунд просил разрешения взять хоть каплю из флакона, но Платон предоставил в его распоряжение весь фиал. Лоллия не было в живых, а можно ли пользовать им других, Платон все равно не знал. Он поспешил распроститься со своим новым знакомцем, условившись встретиться с ним через несколько дней. Когда они снова встретились, Платон увидел, что фиал по-прежнему почти полон. Раймунд отдал его Платону и сказал:
– Разумеется, химический анализ ничего не дал, как всегда в таких случаях. Почти ничего, – быстро поправился он.
– Из чего же все-таки состоит эликсир? – спросил Платон, чтобы сказать что-нибудь.
– Из лесных трав, как вы сами можете судить по запаху. Наперстянка, багульник, еще перга… Я же не медик и не ботаник. Меня интересовало другое…
– И этого другого вы не обнаружили?
– Обнаружил, и даже в изобилии. Но для современной науки это и значит ничего не обнаружить. Вы не будете любезны поподробнее рассказать мне, кто и где изготовлял это снадобье, если не секрет, конечно.
Платон вынужден был признаться, что он не знает имени лесного старца и не знает, как его найти, хотя встречался с ним неоднократно.
– А у него в лаборатории вы не бывали? – спросил Раймунд и тут же подробно описал эту лабораторию, не забыв упомянуть даже золотистые крупицы в перегонном кубе, которые Платон принял за крупицы меда.
– Так вы бывали там? – не удержался Платон.
– К сожалению, нет. Примерно так должна выглядеть лаборатория алхимика.
– Вы занимаетесь историей науки?
– Пожалуй, да, если считать, что история включает в себя не только прошлое, но и будущее.
Раймунд сухо и трезво изложил Платону суть расхождения между алхимией и химией. Современная химия, как и физика, все еще настаивает на том, что атом неделим. Алхимия допускает расщепление атома и занимается таким расщеплением, на чем и основано превращение всех элементов во все, «ad perpetrando miraculo rei unius» («осуществляя чудо единого»). Отсюда и популярные толки о золоте, изготовляемом алхимиками. Если атом расщепляется, все превращается во все, следовательно, и в золото также. Для алхимика драгоценно не само золото, драгоценен принцип его обретения, символом и подтверждением которого является зримое золото. Природное золото порабощает человека, обретенное алхимическое золото освобождает:
От заколдованных тенёт Избавит мудрая десница Тогда появится денница, Тогда свободою пахнёт.Цитирую в переводе Новалиса, которого Раймунд цитировал по-немецки.
Немецкие стихи настроили Платона на более серьезный лад, так как при слове «алхимия» он чуть было не улыбнулся по-писаревски пренебрежительно. Для него химия была естественной наукой, а естественные науки он воспринимал в позитивистском духе своего времени, почитывая Спенсера и Дюринга, так что алхимия для него ничего не могла означать, кроме устарелого смешного невежества, и даже лесного старца он числил по какому-то другому ведомству, хотя и поминал в связи с ним Парацельса и Якова Бёме. Платон и Шопенгауэра читал в это время с таким увлечением, так как Шопенгауэр давал возможность принимать естественные науки в их мужественной буквальности, доводя материальность мира до крайности, за которой угадывается нечто зловещее и бессмысленное: безучастная воля, вопреки которой остается только оплакивать мир, что и есть философия. Раймунд уверял Платона, что наука находится на пороге великого переворота, когда закон сохранения вещества будет опровергнут законом исчезновения вещества, если это можно назвать законом. Вещество исчезает в энергии, в излучении, которое Бог вызвал, сказав: «Да будет свет!» «Излучение, – задумчиво повторил Платон, – небытие, жаждущее бытия». Так определил он для себя волю по Шопенгауэру и немножко гордился своей первой философской формулировкой, возвращаясь к ней и впредь снова и снова на разных этапах своего пути. Но Раймунд как истый естественник был нечувствителен к метафизике. «Небытие? А что такое небытие? – пожал плечами он. – Энергия – это именно бытие, кроме которого ничего и нет. Бог, если хочешь, тоже энергия». Они к этому времени перешли на «ты», причем инициатива в этом принадлежала Раймунду, преодолевшему свою шляхетскую учтивость, хотя именно учтивость позволяла ему держать презрительную дистанцию по отношению к москалям, убившим его деда во время последнего польского восстания; отец и мать братьев Заблоцких умерли в сибирской ссылке. Расщепление атома, торжество алхимии над химией, должно было вот-вот осуществиться силами современной науки, вернув миру первичное излучение, в котором Бог помирится с Люцифером; их разлучило косное вещество, против которого Люцифер восстал первым, как подобает ангелу. В расщеплении атома Раймунд видел великую всемирную революцию, свергающую власть природного поддельного золота. Раймунд находил историческую справедливость якобинского террора в том, что был казнен Лавуазье, откупщик, поддерживающий власть ложного золота вместе с контрреволюционным законом сохранения вещества. «Как только будет расщеплен атом, начнется революция», – утверждал Раймунд. Впрочем, атом, по всей вероятности, был расщеплен алхимиками уже во времена тамплиеров, и якобинская революция лишь напомнила об этом, завещав свою благую весть Наполеону Бонапарту императору-тамплиеру, освободителю Польши. К своему крайнему удивлению, Платон заметил, что Раймунд регулярно ходит к мессе в костел. Платон склонен был счесть подобную набожность своего друга идеологической данью польскому мессианству, неотделимому, быть может, от иезуитской интриги, но Раймунд опровергал подобные подозрения, высказывая истины, еще более запредельные.
– Эх, пане Платоне, пане Платоне, – говорил он, ласково полонизируя имя своего друга в знак особой доверительности, – разве ты не слышал, как иные химики из недоучившихся или переучившихся семинаристов брали на анализ Святые Дары до и после пресуществления, и анализ ничего не показывал: хлеб и вино оставались хлебом и вином по своему химическому составу, а ведь причащаемся мы Телом и Кровью Христа.
Раймунд уверял Платона, что он верует: хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христову, когда священник возглашает: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое… сие есть Кровь Моя…» Не знаю, тогда ли задумал Платон Демьянович свою работу об эпиклезе, которую никогда не считал завершенной. Платон Демьянович полемизировал с католическим учением о пресуществлении Святых Даров, доказывая, что для их преложения нужна вся литургия, а не один ее момент, и преложение Святых Даров совершается нисхождением Святого Духа, призываемого особой молитвой (эпиклезой). Отсюда особая насыщенность и благолепность православной литургии, сменившаяся на Западе литургической скудостью, так как пресуществление приписывается священнику, «заместителю Христа» (подражание Христу?). В сказаниях о Граале Чудотворцев находил память о полноте православной литургии. Вот почему католическое духовенство никогда не упоминается, когда заходит речь о Граале, зато поэтически поминается Святой Дух, как у Вольфрама фон Эшенбаха:
Сегодня можно чуда ждать. Возобновится благодать. Сей камень в пятницу страстную Приемлет силу неземную, И, тайнодейственная птица, Слетает с неба голубица, Облатку белую неся, В которой сила камня вся.Вряд ли Платон возражал тогда своему старшему другу, хотя, слушая его, мог думать свою думу А Раймунд доверительно продолжал вполголоса:
– Вот где начало алхимии, пане Платоне. Понимаешь ты теперь, почему химический анализ не выявляет в твоем эликсире ничего, кроме цветов, трав и пчелиного духа?
Но Раймунд и на этом не останавливался. Он внушал Платону, что целительная сила и сила разрушительная, в сущности, одна и та же, разница только в дозировке, и в эликсире лесного старца таится намек на взрывчатое вещество (антивещество?), творящее мир и его преодолевающее.
– Пане Платоне, пане Платоне, – умоляюще шептал он, – как мне встретиться с твоим старцем? Ну зачем ты прячешь его от меня?
Платон заверял друга, что вовсе не прячет лесного старца; он приходит сам, когда хочет, но Раймунд продолжал запальчиво упрекать его. При этом Раймунд кое о чем проговаривался, а потом как будто жалел, что проговорился. У Платона наклевывалось подозрение, что Раймунд знает о старце куда больше, чем он сам. Так Раймунд говорил, что алхимик, расщепивший атом, должен быть жив, а если он жив, революция излучения давно началась и вот-вот победит. Неделимые атомы Раймунд называл языческими идолами, которые может уничтожить лишь излучение. Задохнувшись от патетического шепота, Раймунд срывался на крик: «Ну где же, где же твой старец? Сведи меня с ним, или я умру!»
И на Рождество Платон пригласил Раймунда в село Быково, где был сосредоточен Киндин торг и на отшибе высился его дом, а в доме верховодила Наталья. Сама она, как сказано, жила в другом домике, примыкавшем к хозяйскому В Натальином доме нашлась комната и для гостя. Оттуда можно было добраться и до Лушкина леса, где Платону случалось встречать старца, изредка появлявшегося и в Гуслицах и в Мочаловке. До сих пор зимой Платон в лес не ходил, проводя зимние каникулы над книгами. Раймунд заставил Платона встать на лыжи, которые Платон недолюбливал. Они вместе бродили на лыжах по зимнему лесу, но старца так и не встретили, отчего мрачное настроение Раймунда усугубилось. Он даже захворал слегка, и Наталья встревожилась, предположив, что городской гость с непривычки простудился.
Она вообще чувствовала к Раймунду расположение, может быть, радовалась, что у ее сына появился такой обаятельный образованный друг. И на лето Раймунд водворился в той самой комнате, где гостил зимой. Прежде всего, он оборудовал себе лабораторию в одном из погребов бывшего барского дворца и настоял, чтобы никто из прислуги, ни даже сам Платон туда никогда не заходил. Ни Наталья, ни Платон не придали этому условию особенного значения и охотно согласились. Наталья сочла это условие трогательной данью юношеской романтике, а Платон ценил конфиденциальные разговоры с Раймундом, нисколько не интересуясь его химическими опытами. Тем не менее пришлось послать специальную подводу за реактивами и другими материалами для лаборатории, где подвизался Раймунд. Впоследствии оказалось, что он даже отыскал ключ от двери, ведущей в погреб, и, работая в лаборатории, запирался изнутри, а, уходя, тщательно запирал дверь снаружи. Впрочем, Платон и не пытался нарушить его уединение. Раймунд спускался к себе в погреб, а Платон поднимался в библиотеку, где читал мистические книги на разных языках. Но время от времени, и судя по всему, довольно часто, Раймунд заходил к Платону в библиотеку и просил его, а то и просто умолял отправиться снова в лес. Они ходили и в Лушкин лес и в Луканинский, где под сенью лип скрывались старые каменоломни, напоминавшие языческие капища. В этих каменоломнях когда-то добывали известняк для белокаменных московских церквей, но лесной старец не появился ни в том, ни в другом лесу, и уныние Раймунда постепенно сменилось мрачным отчаяньем.
Все чаще и все упорнее Раймунд говорил о том, что движущей силой и средоточием истории является жертвоприношение, а высшая форма жертвоприношения – цареубийство. Так был принесен в жертву Царь Истинный рода человеческого Богочеловек Иисус Христос, чья смерть возвестила грядущее Царство Божие. Но подобной же кровавой жертвой было убийство короля Дагобера II 23 декабря 679 года в Арденнском лесу. Король Дагобер принадлежал к династии, то ли происходящей от Иисуса Христа по Прямой линии, то ли связанной с ним таинственными узами святой крови. Эта кровь и есть Кровь Истинная или царская, Sang Real, Светой Грааль. Пролить эту кровь – преступление, страшный грех, но без этого греха не было бы истории. Вот почему имя династии обозначается словом «чудо» («la merveil»). Чудо-кровь и есть чудо Единого, философский камень, превращающий материю в свет. Вот почему алхимия кроется в лоне этой обреченной династии, от которой всегда остается Пылающий Отпрыск, Плантард, Горицвет (Раймунд произнес это имя с польским ударением Горицвет). Но кто приносит жертву, тот обрекает в жертву самого себя. Таковы священные искупительные узы Истинной Крови. Так был принесен якобинцами в жертву король, потомок мажордомов, приносивших в жертву короля Дагобера и его потомков. Но принося искупительную жертву, якобинцы обрекали в жертву самих себя. И так же был принесен в жертву последний истинный русский царь Димитрий, клеветнически названный Лжедмитрием, но польская знать никогда не поддержала бы того, в ком не течет истинная королевская кровь. Марина Мнишек прокляла Романовых за убийство своего сына, и с тех пор приносят в жертву их: судьба царевича Алексея, Павла I, Александра II. Царствование Романовых может быть искуплено лишь последней, окончательной жертвой, иначе они останутся проклятым родом, а принесенные в жертву обретут святость: только жертва свята, и все святые – жертвы. Но кто приносит в жертву Романовых и их приспешников, тот обрекает в жертву себя:
Умрешь недаром. Дело прочно, Когда под ним струится кровь, —процитировал он вдруг Некрасова. Революция – жертвоприношение до Страшного Суда. Жертва искупает жертву, пока всех не искупит воскресение мертвых.
Не уверен, что Раймунд все это говорил. В моем изложении я руководствуюсь книгой Чудотворцева «Жертвоприношение в истории». Книга вышла в 1922 г., но работать над ней Чудотворцев начал сразу же после революции 1905 г. Книга «Жертвоприношение в истории» была страстным, но и строго продуманным откликом на октябрьский переворот, монументальным исследованием революции. Очевидно, Чудотворцев подошел в принципе по-новому к проблеме террора, указав на его мистическую природу, коренящуюся в древнем дионисийстве. Когда Чудотворцев был арестован, его обвинили в пропаганде террора против деятелей Коммунистической партии и Советского государства, и он чудом спасся от расстрела.
А тогда, в аллеях запущенного парка речи Раймунда прерывались отчаянными заклинаниями: «Где же, где твой старец? Я без него пропаду. Да и сам ты что такое без него, Чудотворцев?» В этой фамилии вместо задушевного «пане Платоне» Платону слышался горький сарказм.
Раза два в то лето Платон ездил в Москву, чтобы навестить Евлалию Никандровну, все еще оплакивающую Лоллия, и оба раза Раймунд давал ему свертки, которые Платон должен был занести по определенному адресу. Когда ему открывали дверь, Платон должен был сказать: «Mysterium Magnum» и отдать сверток тому, кто скажет в ответ: «In hoc signo vinces» («Сим победиши»). Платон в точности выполнил эти поручения и едва ли соотнес взрывы, последовавшие в кабинетах двух царских сановников, с вручением этих свертков. Между тем один сановник был убит, другому оторвало ноги.
В это же время Раймунда приехала навестить девушка. «Софья», – представилась она Наталье и Платону и Наталья устроила ее на ночлег в одной из пустующих комнат Киндиной гостиницы. Темно-русые волосы Софьи, ее черты, в особенности синие глаза напомнили Платону что-то такое, в чем он не смел себе признаться. Сперва Платон принял Софью за невесту Раймунда, тем более что ее одну Раймунд впустил к себе в «лабораторию» и даже уединился с ней там. Но Софья ненадолго там задержалась. Выйдя из «лаборатории», она охотно согласилась погулять с Платоном по бывшему английскому парку. Она явно предпочитала общество Платона обществу Раймунда, и Платон даже подумал, не поссорились ли они. Когда свечерело, Платон и София отправились в луга на берег Москвы-реки. Платон предложил Раймунду присоединиться к ним, но тот отрывисто отказался.
Платон не знал, о чем говорить с незнакомой девушкой, и невольно попал в колею своих разговоров с Раймундом. От французской революции он перешел к нынешним террористическим актам, о которых Софья информировала его скупо и точно. Платон вслух задался вопросом, почему террористические акты так распространены в православной России и всегда ли требует участие в террористическом акте разрыва с православием.
– Нет, не всегда, – ответила Софья. – Все, кого я знаю, православные.
Платон вздрогнул от ее внезапной откровенности.
– А как же «не убий»? – пробормотал он.
– А разве человека можно убить, если все воскреснут? – с неожиданной горячностью заговорила Софья. – Они же не просто убивают, они собой жертвуют за други своя. Убивает ненависть, а здесь любовь. Нужно из любви для любви на все решиться, – произнесла она слова, которые я прочитал у Бориса Савинкова в «Коне бледном», но думаю, что юный Чудотворцев слышал их все-таки от самой Софии.
Так она первая заговорила с Платоном о любви, и ее лазоревые очи осияли его при свете звезд, а в отдалении над лугами православная готика Баженова напоминала град Китеж. «Когда мы увидимся?» – спросил ее Платон. «Не знаю», – потупилась она, но наконец назначила ему свидание через три дня в Москве на Страстном бульваре.
Наутро Софья уехала, увозя с собой сверток, точно такой, как те, которые возил в Москву Платон, чтобы услышать: «In hoc signo vinces». A через три дня он ждал ее на Страстном бульваре у памятника Пушкину но Софья не пришла, и ему не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в Киндину слободку. Когда он вернулся, в доме была полиция. В погребе старого барского дворца произошел взрыв. Раймунд был буквально разорван на куски. Не было сомнений в том, что в своей «лаборатории» он изготовлял бомбы для террористических актов и подорвался на одной из них. Платон так и не узнал, была ли то случайная неосторожность… А еще через несколько дней Платон прочитал в газете, что в Москве арестована по подозрению в подготовке террористических актов курсистка Софья Богоявленская. Софью арестовали накануне дня, на который она назначила свидание Платону.
Арест по сходному подозрению грозил и гимназисту Платону Чудотворцеву, но это дело замял Киндя Обруч, причем отнюдь не только под влиянием или по просьбе Натальи. Киндя сам всю жизнь был не в ладах с полицией и на подозрении у нее за связи с крайними старообрядческими толками вплоть до немоляк, но также и подозрение в убийстве или в убийствах, продолжало тяготеть над ним, хотя никакому следствию до сих пор ничего не удалось доказать, что, впрочем, только усугубляло подозрения. Киндя как настоящий варнак недолюбливал власти, остерегался их и был не прочь досадить им или свергнуть их, а там будь что будет. Не исключено, что Киндя, подобно другим коренным русским купцам, давал деньги на революцию, и если он давал их не очень много, то лишь потому, что предпочитал получать деньги, а не давать их кому бы то ни было. Киндя мог догадываться и о том, кто такой Раймунд (трудно представить себе, чтобы Киндя не знал, кто живет у него в усадьбе). Киндя избегал знакомства с подозрительным поляком, но, вероятно, представлял себе его деятельность лучше, чем желторотый все-таки гимназист Платон. Даже взрыв в подвале не привел Киндю в ярость, какой можно было ожидать. Напротив, он пустил в ход все свои связи с властями, а на такие связи он никогда не скупился, без них купцу тоже не обойтись; раскошелился, по-видимому, Киндя и на этот раз. Арест Платона ударил бы по его собственной и без того сомнительной репутации, да и Наталья вряд ли осталась бы при доме, а Натальиной службой Киндя дорожил, но, главное, Киндя дорожил самим Платоном, привязался к нему и, по крайней мере, во время летних и зимних каникул разве что иногда отпускал его в лес (не повидаться ли с лесным старцем, о котором Киндя, разумеется, был наслышан). Все началось с того, что Киндя позвал как-то зимой Платона и велел читать себе вслух Священное Писание. Киндя вообще был охотником до чтения вслух. Бегло читать «про себя» он пожалуй что так и не научился, будучи не в ладах с гражданской грамотой, но и по-церковному читал он с натугой. К тому же Киндя явно страдал какой-то застарелой глазной болезнью, и то была чуть ли не трахома, болезнь пастухов, от которой, должно быть, ослеп сам библейский праотец Исаак, сослепу благословивший одного сына вместо другого. Но у Кинди сыновей больше не было, а который был, тот пропал не без его ведома, вернее же всего, по его наущению, вот Киндя и приблизил к себе Платона. В старости Платон Демьянович, многозначительно посмеиваясь, говорил, что и слепоту он унаследовал от Кинди вместе с многим другим, хотя зрение Платон Демьянович начал терять после инсульта, пережитого то ли во время допроса на Лубянке, то ли уже на Соловках. Действительно, среди учителей Чудотворцева наряду с Дионисием Ареопагитом, Шеллингом и Владимиром Соловьевым следует назвать и малограмотного Киндю Обруча, чья недоверчивая проницательность вошла необходимым элементом в жесткий анализ, которому Чудотворцев подвергал все проблемы, не только дольнее, но и горнее, и умное деланье было для Платона Демьяновича не только умозрительным, но и умственным, что давало повод говорить о его мистическом скептицизме, и когда Чудотворцев говорил: «Испытывайте духов», в его словах слышался не только первоисточник, то есть Иоанн Богослов, но и, с позволения сказать, Киндя Обруч. Думаю, не узнал ли сперва Платон и Дионисия Ареопагита из древлеправославных книг, читавшихся по требованию Кинди Обруча, ведь в гимназический курс Дионисий определенно не входил, а книги читал Платон все больше редкие и потаенные, так как старинные книги Киндя приобретал всю жизнь, не имея времени и даже не очень-то умея их читать. Киндя откладывал чтение этих книг на будущее, и это будущее наступило для него, как ни странно, благодаря слепоте, заставившей Киндю обратить внимание на многообещающего отрока Платона. А Платон, читая Кинде вслух, приобрел такое знание отцов Церкви, какого не приобрел бы не то что в семинарии, но и, чего доброго, в тогдашней Духовной академии, где неверующие профессора предпочитали протестантских ученых, если не Давида Штрауса заодно с Ренаном. Когда Платон уставал читать, Киндя рассказывал ему кое-что, и от Кинди Обруча Платон услышал, перенял, усвоил такое, чего не прочтешь ни в каких книгах: негласную весть сокровенной, преступной, но и Святой Руси. Вот откуда профессор Чудотворцев, казалось бы кабинетный затворник, узнал подоплеку русской жизни, сохранив ненасытное любопытство к самым неаппетитным ее проявлениям, ибо именно в них чуял и чаял некую святость. Невозможно себе представить, как однажды Киндя велел Платону читать себе Маркса, однако так оно и было. В отличие от Есенина, Киндя вытерпел гораздо больше пяти страниц из «Капитала», но наконец и у него вырвался ернический смешок, а когда Платон в ответ озадаченно прервал чтение, Киндя буркнул:
– Ежели работающему отдать все, что он заработал, ему работать негде будет.
Из дальнейших Киндиных реплик Платон понял, что Киндя высказался так о прибавочной стоимости. Хозяин, конечно, присваивает прибавочную стоимость, но тратит он ее не на себя, а на дело, а дело граничит где-то даже с умным деланием, хотя умное делание свято, а дело греховно и требует сперва покаяния, а потом искупления. (В своем позднем пересказе Платон Демьянович старательно подчеркивал все эти противительные «а».) И незаметно Киндя принялся вовлекать Платона в свое дело: то поручит ему перевести какое-нибудь письмо с немецкого или на немецкий, то предложит ему проверить какие-нибудь счета, за что Платон брался с не меньшим усердием, так как математикой никогда не пренебрегал и откликнулся на эти свои юношеские занятия в поздней книге, включив туда главу под названием «Финансовый гений тамплиеров». Кстати, Платон углубился в английский язык и довольно скоро усовершенствовался в нем, хотя читал не столько Адама Смита, сколько Беркли, Свифта и Карлейля, но деловую переписку Кинди то ли с английской, то ли даже с американской фирмой, заинтересованной в пушнине, вскоре взял на себя.
Так явился новый повод для Натальиных материнских тревог. Наталья не знала, как ей отнестись к сближению своего сына с Киндей. Добро бы Платон только читал ему божественные книги, но он уже работал на Киндю как простой конторщик, бойко щелкал на счетах, проверяя счета, и приказчики величали его как старшого Платон Демьянович. Были и другие знаки Киндиной доверенности, настораживавшие Наталью. Киндя советовался с Платоном, запершись у себя в «кибинете», как он говорил, и все чаще принимал решения, как Платошка подскажет. Но Платошкой он называл своего любимца только в разговоре с Натальей, а на людях со всем возможным и невозможным для Кинди вежеством обращался к Платону Демьяновичу. Очевидно, Киндя ценил в Платоне не просто начетчика или книжника, он наслаждался его проницательностью, которую сам же исподволь прививал. А главное, слепнущий Киндя доверял Платону, и это особенно пугало Наталью, знавшую, чем, бывало, оборачивалось Киндино доверие. Наталья по-настоящему ужаснулась, когда Киндя вряд ли всерьез обмолвился, что по соболиным делам на Енисей, кроме Платошки, и послать некого. Она-то помнила, как он послал на Енисей родного сына, чтобы тот не вернулся никогда. Не использует ли он Платона в каком-нибудь сомнительном деле, а потом… Кто его знает… Но опасения Натальи были неосновательны. Платону Киндя приписывал то, чего не находил в Гордее: европейскую образованность в сочетании с американской деловитостью, как впоследствии выразился бы Сталин. Впрочем, за деловитость Киндя принимал ненасытный интерес Платона к чему угодно: и к негоциям Кинди тоже. Правда, Киндю озадачивало, почему Платон никогда не просит у него денег, хотя мог бы и попросить, поскольку было за что. Неужели пренебрегает? А если пренебрегает, то чем или кем: деньгами или самим Киндей? При этом на бессребреника Платон тоже не был похож, и Киндя подозревал даже, не пренебрегает ли смышленый «вьюнош» мелкими подачками, чтобы со временем заграбастать все, но, странное дело, даже эта мысль Киндю не возмущала, а вызывала что-то вроде сочувствия, чуть ли не уважение, усугубляя Киндину симпатию к Платону А и впрямь, если не Платон, то кто же? Надо прямо сказать, что Киндя не был скуп и дорожил не столько деньгами, сколько своим искусством наживать их, ничуть не обольщаясь насчет того, что искусство это грешное, а то и преступное. У Кинди было твердое намерение со временем оставить все свое богатство и уйти в строжайший затвор на покаяние. Он уже и скит себе для этого облюбовал где-то за Енисеем, ближе к Лене, и если бы послал туда Платона, то не просто по соболиному или золотому делу, но и для того, чтобы Платон, знающий силу в святоотеческих писаниях, обревизовал этот скит: спасешь ли по ихнему уставу душу или нет. Но не то что в Сибирь, а и в Москву в гимназию отпускал Киндя Платона все с большей неохотой, и Наталья не то чтобы успокоилась, но лишь с некоторым облегчением согласилась, когда Киндя поручил Платону заниматься летом с Олимпиадой немецким языком (французскому ее учила сама Наталья).
Платону минуло в то время семнадцать лет, Липочке исполнилось одиннадцать. То была рыхлая, светленькая, с пышной косой девочка, не слишком подвижная, но очень послушная. Одна Наталья знала, что у нее на душе. Наталья должна была позаботиться, чтобы девочка как можно дольше не узнала того, о чем она давно догадывалась. Девочка занималась немецким языком добросовестно, как делала все, но в изучении французского успевала больше, быть может, благодаря постоянному общению с Натальей, которую она называла матушкой, как в свое время сама Наталья называла княгиню Нину. Да и Платон учил Олимпиаду с прохладцей, не слишком ею заинтересованный, так как мысли его в то время были заняты совсем другим (другой?). Об истинном направлении его тогдашних мыслей свидетельствует небольшое эссе, как теперь бы сказали, сохранившееся в бумагах Платона Демьяновича. По-видимому, гимназист Чудотворцев намеревался написать сочинение по литературе, но потом раздумал его представлять и хорошо сделал. Собственно говоря, это первый философский труд Чудотворцева. Сочинение называлось «Странная история Софии», и в таком названии, несомненно, присутствовала «Странная история» Тургенева, которой Платон уделял в своем юношеском трактате пристальнейшее внимание. Молодой философ анализировал функцию имени София в новейшей русской литературе и начинал, естественно, «Горем от ума». Выводы гимназиста Чудотворцева были весьма своеобразны и, конечно, радикально отличались от прописей гимназического курса. Чудотворцев считал настоящей героиней грибоедовской комедии Софью, перед которой, естественно, сходит на нет книжный резонер Чацкий, этот патетический двойник Репетилова. Во-первых, Софья способна на поступок, даже на подвиг. Разве не подвиг для дочери Павла Афанасьевича Фамусова полюбить бедного молодого человека вопреки отцовской декларации: «Кто беден, тот тебе не пара»? Далее Платон высказывает любопытные соображения по поводу того, какими сугубо личными мотивами руководствовался Грибоедов, предпочитая Софье Чацкого, отчего пьеса определенно проиграла в отношении драматическом. Ибо пьеса только выиграла бы в художественной достоверности и в драматизме положений, если бы вопреки любым обстоятельствам Софья осталась верна своему скромному избраннику, как и если бы она в нем разочаровалась. В «Горе от ума» Софья (София) представляет… философию, более того, она и есть истинная философия того времени. Легко усмотреть в этом пассаже наивный педантизм гимназиста-классика, помешавшегося на греческом языке и принимающего игру слов за высокую философию, но на самом деле перед нами первый, доподлинный, записанный чудотворцевский парадокс. Уже тогда Чудотворцев любил обосновывать свои парадоксы цитатами. Нельзя отказать Софье в образованности. «Ей сна нет от французских книг», – признает Фамусов. (Когда я читал это место, мне самому вспомнилась моя крестная Софья Смарагдовна, сказавшая мне, трехлетнему: «Я не соня, я никогда не сплю».) Очевидно, Софья усвоила философию Руссо; лучше сказать, она ее олицетворяет. Она любит Молчалина, ибо открывает в нем естественного человека, не испорченного культурой. (Как портит человека книжная культура, Софья могла убедиться на примере Чацкого.) В «Горе от ума» настоящая трагедия в том, что естественность Молчалина пренебрегает изысканной утонченностью Софьи, хотя именно эта утонченность склоняет Софью к самопожертвованию ради Молчалина, что Молчалин принимает со здоровой иронией: «Пойдем любовь делить плачевной нашей крали…» Полнокровное жизнелюбие Молчалина заставляет его предпочитать барышне служанку Лизаньку: «Веселое созданье ты! живое!» В этом с Молчалиным вполне согласен и глава дома Фамусов, также волочащийся за Лизанькой: «Ай, зелье, баловница». Так в комедии образуются два треугольника: с одной стороны, Фамусов – Лизанька – Молчалин, а с другой та же Лизанька – Молчалин – Софья. Казалось бы, наиболее угрожаемой стороной в обоих треугольниках является Молчалин, но эта ситуация из тех, о которых говорят: «Образуется», ибо не только дочь, но и ее ультраконсервативный отец оценивает Молчалина по достоинству:
Один Молчалин мне не свой, И то затем, что деловой.И действительно, в деловых качествах Молчалина сомневаться не приходится. (Здесь при всей философической иронии у дотошного гимназиста прорывается глубоко личная нотка: своим «образуется», повторенным неоднократно наперекор школьной стилистике, он кого-то успокаивает, Наталью ли Васильевну? Себя ли? Дело в том, что его собственная ситуация в доме Кинди напоминала, как увидим, только что обрисованную.) Там, где Грибоедов увидел Молчалина, – продолжал Платон, – Стендаль увидел бы Жюльена Сореля. (Чем не Молчалин в доме герцога де ла Моль, а Матильда де ла Моль чем не Софья?) Но в отличие от Жюльена Сореля Молчалин не убьет любимую женщину и непременно сделает карьеру Чацкий – разрушитель, а Молчалин – созидатель. На Молчалиных держится Российская империя. И не исключено, что Софья станет еще его женой, не отказываясь при этом и от услуг Лизаньки, необходимых, может быть, обоим супругам в счастливом браке. (Этот юношеский цинизм определенно предвосхищает В.В. Розанова.) Переселение «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» наверняка оказалось бы целительным для Софьи. Прикоснувшись к родным, патриархально-матриархальным корням, она «была бы верная супруга и добродетельная мать». Но возможен для нее и другой путь, пусть даже не для нее самой, но для ее аналога, для все той же Софии в другое время. Не таково ли происхождение тургеневской девушки, попадающей в «Странную историю» и заходящей гораздо дальше. А пока следует признать горе от ума или горе уму перед лицом Софии Премудрости. Недальновидный «ум» обнаруживает перед ней свою несостоятельность, ибо пути Премудрости неисповедимы, и только апофатическое смирение русского человека, обозначенного именем Молчалин, постигает Софию Премудрость, чуждую громогласному болтливому «уму».
Последний вывод может показаться несколько натянутым, но в нем уже прослеживается типично чудотворцевский ход мысли, заранее пародирующий к тому же сам себя. Но юный Чудотворцев на этом не останавливается. Он определяет еще одну функцию Софии. У Грибоедова она, как у Пушкина, «с французской книжкою в руках», и автор этой книжки не кто иной, как Руссо. У Достоевского София читает Евангелие Раскольникову пусть в лице Сони Мармеладовой, но все-таки она, София, читает о воскресении Лазаря, а ведь главный вопрос «Преступления и наказания», задаваемый, кстати сказать, следователем Порфирием: «И-и в воскресенье Лазаря веруете?» Раскольников совершает преступление, потому что отвечает на этот вопрос то так, то этак. «Я не верю в будущую жизнь», – говорит он Свидригайлову, а Порфирия (не самого ли себя?) пытается убедить: «Ве-верую». Уверовать в будущую жизнь – для убийцы искупительное наказание, невозможное, если бы не София, сопровождающая его, когда он идет на каторгу. И Степану Трофимовичу Верховенскому после его ухода читает Евангелие опять-таки София (Софья Матвеевна), книгоноша. Она так и несет Евангелие или крест, и Степан Трофимович, сам чувствующий себя одним из бесов, готов идти и проповедовать Евангелие вместе с нею, а она, София, заверяет: «Ни за что бы я их не оставила-с».
И наконец, в «Странной истории» юродивого Василия Никитича сопровождает все та же София, еще в свою «бытность барышней» знавшая: «Мертвых нет!» А Васенька сперва и показывал мертвых, подтверждая это. «Великой премудрости человек», – говорит о будущем юродивом трактирный слуга, невольно высказывая сокровенное: Васенькой владеет Премудрость Божия, он принадлежит Софии, она-то и уводит его в странствие. Так, Симона волхва сопровождала во времена апостольские то ли Елена Троянская, то ли падшая София. И на Святой Руси София Премудрость Божия сопровождает Раскольникова на каторгу, Степана Трофимовича на его евангельском пути, хоть он и не успевает на этот путь вступить, но зато по этому пути твердо идет юродивый Василий Никитич, и на постоялом дворе прежний светский знакомый узнает Софию по глазам: «Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза». Дома она ходила в голубом платье, а на бал приехала с бирюзовым крестиком. У Софии даже крест голубой. И в «Преступлении и наказании» у Софии голубые глаза, ее вечная примета. Что-то выстраданно-лирическое звучит при этом в сочинении Платона. Голубому облачению Софии Премудрости Божией уделят впоследствии пристальнейшее внимание П.А. Флоренский и Вячеслав Иванов: «Твоя ль голубая завеса…» А «Странная история Софии», написанная гимназистом Чудотворцевым, увенчивалась цитатой из Тургенева: «Я не понимал поступка Софи, но я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек, так же пожертвовавших всем тому, что они считали правдой, в чем они видели свое призвание».
Платон не представил своего сочинения гимназическому учителю литературы и, как сказано, хорошо сделал: за такое сочинение могли из гимназии исключить. Зато Платон показал «Странную историю Софии» своей матери, может быть, чтобы успокоить ее, чему были причины, но это Платону вряд ли удалось. Думаю, что, читая, Наталья Васильевна вспоминала свое девичье сочинение про Демона, то улыбалась, то хмурилась, а под конец все же нахмурилась. Она не могла не знать, что у ее сына далеко зашедший роман с женщиной по имени София, и у матери были основания бояться женщины с таким именем. Наталья Васильевна видела, что среди женщин Платон ищет Софию и не может устоять перед этим именем, какою бы опасностью ни грозила ему та, кто его носит, может быть, совершенно случайно, хотя бывают ли случайные имена, так-таки не оказывающие никакого воздействия на своих носителей (носительниц)? Эта София была земской фельдшерицей в Лыканине. Она была старше Платона лет на шесть, и о ней ходили слухи как о нигилистке. Это знакомство Платон, возможно, унаследовал от Раймунда и Софии Богоявленской (опять София, к тому же арестантка, ссыльная). Но земская фельдшерица не была, что называется, первой любовью Платона, а то, что предшествовало этому роману, вызывало у Натальи не просто материнскую ревность, но настоящую брезгливость, если не гневное отвращение.
Киндя приглашал Наталью, чтобы она заботилась только об Олимпиаде, но фактически на ее попечении оказалась вся его усадьба за исключением гостиницы «Услада», которой ведал сам Киндя. Как сказано, Наталья с Платоном жила в своем отдельном доме, а не в Киндиных покоях, где хозяйничала другая. Киндя называл эту другую то стряпкой, хотя она уже давно не стряпала, то подтирашкой, так как ненавидел все напоминающее барский обиход и слышать не хотел ни о каких горничных. Но ни для кого не было секретом, что эта стряпка-подтирашка приходит в Киндину спальню на ночь и днем нередко надолго уединяется с ним. Наверное, Наталья нахмурилась, прочитав в сочинении Платона, что София, сопровождавшая юродивого Васеньку, назвалась Акулиной. Киндину фаворитку звали именно так. Киндя называл ее Акулька или просто Кулек. И она действительно походила на туго набитый кулек: ядреная, рыжеватая, с раскосыми глазами, как у многих уроженок подмосковных Вялок, в чьем облике финское сочетается с монгольским. Акулька взяла в привычку слушать за дверью, как Платон ломающимся голосом читает Кинде писания святых отцов. Чтение это производило на нее впечатление более глубокое, чем можно было бы подумать, и за это впечатление она отплатила Платону по-своему: зазвала Платона в свою клетушку, молча задрала перед ним подол, и остальное не заставило себя ждать. То ли Акулька выразила таким образом благоговение перед книжным отроком, то ли она перенесла на него житийные повествования о том, как святые падали и спасались, мол, это не грех, а только падение, как говорят у старообрядцев, а может быть, она боялась, что Платон приобретает чрезмерное влияние на слепнущего Киндю, и надеялась, что, прослышав о произошедшем, Киндя прогонит своего любимчика со двора, а тогда, Бог даст, и Наталья уйдет. И действительно, как раз в это время Киндя напугал Наталью, заговорив о том, что ему по соболиному делу некого послать в Сибирь, кроме Платона. На самом деле Киндя души не чаял в Платоне и не представлял себе жизни без него. На свой лад он хотел польстить Наталье, и разговоры о сибирской поездке Платона завершились неожиданной концовкой: «Эх, окрутить бы их поскорее!» Наталья растерялась и не нашла что сказать, сообразив, что речь идет о Липочке и Платоне.
Она успокоилась при мысли, что даже за Киндины деньги никто не окрутит десятилетнюю с шестнадцатилетним. Неизвестно, за кого она при этом больше тревожилась: за своего сына или за сиротку Липочку. Но должны были пройти годы, и Наталья утешалась мыслью о том, что еще ничего не решено. Киндя был другого мнения. Он все решил, решенья своего менять не намеревался, и с его волей Наталья постепенно свыклась.
С каждым годом все менее охотно отпускал Киндя Платона в город на зиму. На историю с Кульком Киндя то ли закрывал глаза, и без того почти ничего не видевшие, то ли мирился с прытью будущего зятя. Тем не менее скрепя сердце Киндя не препятствовал поступлению Платона в Московский университет, понимая, что это необходимо для его социального статуса.
Платон избрал своей специальностью классическую филологию, еще в гимназии достигнув известного совершенства в изучении древних языков. В университете Платон блеснул мистификацией, убедив ученый мир, что Гераклиту принадлежит максима: «В логосе хаос, в хаосе логос». Греческий язык максимы был так искусно стилизован, что никто не мог разоблачить Платона, пока он сам не признался в мистификации. Любопытно, что признание в мистификации навлекло на Платона больше нападок, чем сама мистификация, так как многие филологи уверовали в принадлежность Гераклиту чудотворцевской максимы и, напротив, сочли претенциозной мистификацией и чуть ли не плагиатом само разоблачение мистификации, как это не раз будет случаться с Чудотворцевым впоследствии.
В память о первой серьезной философской работе Чудотворцева названа эта глава его биографии. Работа называлась, как вы представляете себе, «Платон и София», примыкая вплотную к «Странной истории Софии», что, правда, могла заметить лишь Наталья Васильевна. В этой работе молодой философ прослеживает историю слова «София» в ранней греческой традиции, пока еще не сопоставляя этого слова с древнееврейским «Хохма». Это сопоставление придет позже, когда Платон прослушает курс древнееврейского языка в Духовной академии и возьмет несколько уроков у Гавриила Правдина, он же Варлих, учившегося читать «Тору» и «Зогар» у знатоков.
В своей первой философской работе Чудотворцев анализирует легендарное высказывание Пифагора, обвинившего почитателей Софии в дерзновении, так как смертным (да и богам) подобает лишь. любить мудрость, а не выдавать себя за ее носителей. Так Пифагор вывел философское умозрение из эроса, вводя в него эрос, но при этом София утратила личность или возможность ее обретения. Философская любовь распространилась на однородное, игнорируя другой пол или не желая его знать. Жертвой такой философской любви пал Платон, для которого Диотима, провозвестница любви, осталась чужестранкой. Отсюда философская трагедия Платона, разрушившая трагедию поэтическую. Платон буквально сжег свою поэтическую трагедию, уничтожив при этом трагедию вообще, не узнав Софию в музе.
Наталья читала эту работу своего сына, улавливая в ней все тот же личный тон и еще недавнее колебание между Лоллием и Софией. Но кто же София на этот раз? Софья Богоявленская, осужденная за терроризм? Земская фельдшерица из Луканина? Или… или Акулина?
Первая работа Платона снискала настоящее признание, и Платон Чудотворцев был оставлен при университете. Между тем Липочке шел восемнадцатый год, и ее общение с Платоном давно уже приобрело другую окраску. Прогулки в темных аллеях по берегам прудов близ пустующего барского дворца, где подорвался Раймунд, становились все более длительными, чему Киндя откровенно потворствовал. Платон больше не оставался равнодушным к Липочкиным прелестям, но Наталья хорошо знала: ее приемная дочь – для Платона не София, а скорее та же Акулина, только помоложе, посвежее, поневиннее, так что заходить с ней слишком далеко еще рано. Но никто лучше Натальи не знал, что у Липочки своя тайна и эта тайна для нее тем страшнее, что она не тайна ни для кого. Чуть ли не с младенчества дома и на селе Липочку начали величать Гордеевной, и заметно было, что это не столько почтительность к дочери могущественного хозяина, сколько издевка, которой сам хозяин не мог запретить. Липочка называла Киндю тятенькой, и Киндя принимал это как должное, а девочке, стоило ей отойти подальше от Кинди, нашептывали, что у нее был другой тятенька, молоденький и этого тятеньку молоденького тятенька старенький… тут шептавшие осекались, и это было еще страшнее. Девочка заподозрила, что она не тятенькина дочь, а ей отвечали, что как раз тятенькина, но она Гордеевна, а не Акиндиновна, потому что случился грех. Наталья при всех своих усилиях не могла уберечь Липочку от этих нашептываний, и всякий раз, когда девочку называли Гордеевна, она вся сжималась, чувствуя на себе грех. Словоохотливая доброжелательница рассказала наконец девочке правду в виде сказочки: дескать, взял себе купец молоду жену, а сноха возьми да приглянись свекру старому, и подослал отец к сыну разбойников, и они зарезали его, а свекор стал жить с молодой вдовой как с полюбовницей, и родила она ему дочку, а сама от греха преставилась. Липочка, не дослушав сказку, вся в слезах прибежала к Наталье, и та как могла утешила ее, уверив, что Бог милостив. С того дня Олимпиада поклялась искупать родительский грех, считая во всем виноватой себя одну, и от этой клятвы она не отступалась всю жизнь. И за Платона замуж пошла, чтобы кротко и смиренно служить ему как заповедала ей Наталья.
Сразу же после того, как молодые повенчались, Наталья оставила Киндину усадьбу и отправилась в заволжский скит матушки Агриппины, откуда бежала четверть века назад. Первое время Платон ждал ее возвращения; Липочка ничего не говорила ему но она-то знала, что Наталья не вернется, вверив своего сына ее заботам. Года не прошло, как Агриппина передала свой скит Наталье, принявшей в иночестве имя Евстолия. Киндя же переписал все свое состояние на зятя, что потребовало времени: купеческий капитал Акиндина Мокеевича Обручева достигал шести миллионов. Киндя не сомневался, что умник Платон махнет рукой на университетскую карьеру и продолжит дело тестя, став полным хозяином. Несовершеннолетней Олимпиаде осталось лишь то, что не могло не остаться ей по закону. Когда все формальности были завершены, в доме появился истовый странник, опоясанный пеньковым вервием. Такие гости и прежде посещали Киндю, и трудно было определить, по делам они приехали или ради спасения души. Но этот гость, оказывается, приехал за Киндей из строгого скита, облюбованного Киндей себе под старость лет покаяния ради. Инок должен был сопровождать слепого Киндю в заенисейскую глушь. Киндя тоже не сказал зятю и дочери, что уезжает навсегда, но вернулся бы вряд ли: не стал бы жить у зятя на хлебах, даже если этот зять Платон Чудотворцев. Впрочем, до скита Киндя не доехал. Недель через шесть Платон получил официальную бумагу, уведомлявшую, что купец первой гильдии Акиндин Мокеев Обручев скоропостижно умер на заимке в тайге и смерть его засвидетельствована ссыльным врачом Абросимовым. Так Платон Демьянович в двадцать четыре года остался с капиталом в несколько миллионов и с юной женой, которая сразу же вся сникала перед ним, стоило ему сказать ей в шутку: «Гордеевна!»
Но Олимпиада не обижалась на мужа даже тогда, когда в шутку или не в шутку он ее так называл. Липочка была благодарна Платону за то, что он разделил с ней бремя «Гордеевны», а в конце концов даже избавил ее от этого бремени. В первые годы он никогда не говорил ей «Гордеевна», чтобы уколоть, а когда в будущем такое случалось, ее мучило уже не само прозвание, а намерение, с которым ее так называет Платон, хорошо знающий, что это для нее значит.
Впрочем, вскоре прозвание Гордеевна приобрело совсем другой неожиданный смысл. Киндя знал, что делал, переводя на Платона свои капиталы. Очень трудно, практически невозможно было получить их наличными, не терпя значительных убытков, вплоть до угрозы полного разорения. Дело было рассчитано на то, чтобы его продолжать, на что и рассчитывал Киндя. В эту ловушку и попался Платон. Сразу же после свадьбы он намеревался уехать пусть с молодой женой, но все-таки в Европу, посетив для начала святилища Древней Эллады, а оттуда и до Египта рукой подать. И такое паломничество по стопам Владимира Соловьева было задумано Платоном, хотя главной целью молодого философа оставались университеты Германии. Но не тут-то было. На другой же день на него обрушились счета, которые нужно было оплачивать, договоры, которые нужно было подписывать, решения, которые нужно принимать. Киндино дело процветало, но оно требовало дела, а Платон был всецело сосредоточен на другом деле. Он работал в то время над своим первым фундаментальным трудом, который упрочил его нарождающуюся известность. Книга называлась «Разномыслия в диалогах Платона». После выхода в свет этой книги за Чудотворцевым и закрепилось прозвание Новый Платон. Платон Демьянович умел пользоваться этим прозванием, хотя нельзя сказать, что оно его совсем не тяготило. Недоброжелатели Чудотворцева язвительно спрашивали, что было бы, если бы его звали не Платоном, а как-нибудь иначе, состоялся ли бы тогда философ Чудотворцев (если он состоялся, о чем можно и поспорить), и не продолжил ли бы Чудотворцев скотский, то бишь скотный промысел своего тестя. Имя Платон и все, что с ним связано, несомненно, тяготело над личностью Чудотворцева или даже определяло ее. При этом Платона Демьяновича втайне мучил разлад между именем языческого философа и вроде бы сугубо православной фамилией Чудотворцев. Иногда он бунтовал против своего имени, допускал язвительные выпады против своего языческого тезки, пытался даже развенчивать его, все равно оставаясь пусть новым, но все-таки Платоном, что прельщало его неким таинственным синтезом и одновременно склоняло к суровейшему покаянию.
Делать нечего, свой медовый месяц Платон Демьянович вынужден был посвятить наследию Кинди, то есть своему. Свадебное путешествие, обещанное Олимпиаде, пришлось отложить, как впоследствии выяснилось, навсегда, да Олимпиада и не слишком настаивала. Платон Демьянович занимался делами с неохотой, но и не совсем безуспешно: выгодных сделок не упускал, хотя и с явной досадой отвлекался от «Разномыслий в диалогах Платона». Жили молодые все в том же Натальином доме, сторонясь Киндиных покоев, где все еще слышались шаркающие шаги стареющей Акулины. А главное, в жизнь молодых с неожиданной быстротой вошло то, что Платон склонен был откладывать на будущее, более отдаленное, чем свадебное путешествие, и о чем, честно говоря, предпочитал пока не думать: беременность Олимпиады. Липочка забеременела сразу же, и беременность, несмотря на молодость и отменное до сих пор здоровье «молодой», оказалась тяжелой. Естественно, Платон привозил к Олимпиаде лучших московских врачей того времени, не исключая своего старого знакомого, многоопытного доктора Госсе, но при всей правильности врачебных советов и предписаний поводы для тревоги не исчезали. Врачи остерегались преждевременных родов, а роды, напротив, запоздали, и случилось так, что принимала их та самая земская фельдшерица из Лыканина по имени Софья, недавняя зазноба Платона, виновница материнских тревог, одолевавших Наталью. Полагаю, что Платон был несколько смущен ситуацией; Липочка, возможно, ничего не знала об отношениях своего мужа с фельдшерицей, хотя могла и знать: подобные слухи очень устойчивы на селе, но сама фельдшерица работала добросовестно и сделала, что могла; ребенок (это был мальчик) родился здоровым, хотя Олимпиада едва выжила, и больше детей у нее не было.
Так у Чудотворцева родился сын, которого назвали Павлом, и жизнь Олимпиады приобрела с этого момента свой истинный смысл. Платон не то чтобы сделался ей безразличен, но он существовал для нее лишь как отец ее сына, за что она была ему благодарна, но не более того. Все ее помыслы, все ее чувства, даже ее темперамент, не успевший пробудиться прежде, сосредоточился на сыне, вот почему Платон Демьянович, сперва называвший своего первенца Поль, стал называть его Полюсом. Едва оправившись после родов, Олимпиада сама предложила Платону Демьяновичу ехать за границу без нее, поскольку его ученые занятия требуют такой поездки, а она в ближайшем будущем не сможет его сопровождать. Платон Демьянович был обрадован таким предложением, но и больно задет. Страдало не только его самолюбие, но и чувственность. Он успел привязаться к своей юной жене, находя в ней то, чем в свое время прельстила его Акулина. Помню, как он тонко, горько и все еще страстно улыбался, когда наедине со мной заводил речь об Олимпиаде, и, помнится, почти всегда при этом у него вырывалось: «Афродита Пандемос», то есть Афродита простонародно чувственная, что в его устах отнюдь не говорило о пренебрежении. Могу предположить, что впоследствии он ни в одной женщине не нашел того, что нашел в Олимпиаде, быть может, потому что одна Олимпиада устояла перед его интеллектуальными чарами (в отличие даже от Акулины, между прочим) или, во всяком случае, наслаждалась его обаянием лишь до того, как появился Полюс. Не то чтобы Олимпиада пренебрегала им, ей было просто не до него. И он уехал в Европу с горечью, в которой не решался признаться самому себе и которую, боюсь, потом постоянно вымещал на Полюсе, что всегда отравляло отношения отца и сына.
Стоило Платону отбыть в Европу и Олимпиада нашла себя. Если Платон унаследовал деньги Кинди, то Олимпиада унаследовала его дело, вернее, его дарования, можно было бы сказать, во всем их блеске, если бы они не требовали как раз темноты, из которой, впрочем, Олимпиада окончательно вывела унаследованное дело, отнюдь при этом не прогадав. Фамилия Обручева ушла в купеческие предания после смерти Кинди, фамилия Чудотворцева к делу не привилась, слишком уж она с ним не вязалась. Вскоре не только прасолы, шибаи и мясники, но именитое купечество заговорило о Гордеевне. В этом прозвании сохранялся намек на что-то жуткое, темное, постыдное, но слышалось в нем и уважение, даже восхищение и зависть. Олимпиада Гордеевна принимала теперь свое отчество, оно же прозванье, как должное, сносила его, мирилась с ним ради сына Павлуши. Полюсом она его никогда не называла. Женская интуиция Гордеевны оказалась прибыльнее дикой Киндиной хватки. Из мясных отходов Олимпиада надумала делать колбасу, которую долго вспоминали старые москвичи. Не сама ли Олимпиада назвала эту колбасу «Гордеевна»? Так или иначе, колбаса «Гордеевна» царила в московских трактирах и чайных. «Хорошая была колбаса, – вздохнул однажды Платон Демьянович в период очередного советского дефицита. – Поел бы теперь такой». «Колбаса была похожа на нее», – добавил он. «Она сама была похожа на свою колбасу», – сказал Платон Демьянович в другой раз, и в его голосе я уловил нотку все той же обделенной чувственности, уже знакомой мне.
Видно, Платон Демьянович посовестился отправиться сразу в Грецию и в Италию, куда он собирался как-никак в свадебное путешествие. Как бы уступив Олимпиаде, он поехал сначала в Гейдельберг, но сразу же его очаровал соседний Фрайбург, где он свил одинокое академическое гнездо (не такое уж одинокое, как со временем выяснилось; Платон Демьянович всегда искал аскетического одиночества, но в поисках Софии Премудрости оно всегда нарушалось). И в Гейдельберге, и во Фрайбурге Платон Демьянович погружался в драгоценные фолианты, постигая идеи, школы и системы, на которых основывалось его исследование. Но своим глубочайшим философским переживанием Платон Демьянович называл фиалки, расцветающие весной в Шварцвальде у источника Катарины близ Фрайбурга. Их влажная прозрачная синева напомнила ему то (ту?), что он был обречен искать с младенчества. В одном из писем Олимпиаде Платон Демьянович отмечает, что в Шварцвальде не пахнут никакие цветы, даже черемуха. Платон Демьянович советует своей бывшей ученице перечитать в оригинале сказку Гауфа «Das kalte Herz» («Холодное сердце»), чтобы представить себе великолепные корабельные ели Шварцвальда, без которых не может быть построено утлое суденышко его философии. По-видимому, Олимпиада перечитала сказку Гауфа или хорошо ее помнила и без того, так как однажды у нее сгоряча вырвалось, что герой этой сказки – сам Платон Демьянович (она всегда называла его по имени-отчеству и говорила ему «вы», а он ей «ты») и у кого же холодное сердце, если не у него. Этот выпад, не только объяснимый, но, наверное, вполне заслуженный со стороны Олимпиады (кстати, она приписала Платону Демьяновичу «холодное сердце» в связи с Полюсом), я тем не менее не нахожу справедливым. Сердце Платона Демьяновича обладало странным свойством леденеть и раскаляться до белого каления, но и то и другое было не от мира сего, и то и другое отталкивало жгучим холодом или нестерпимым жаром. Чудотворцев мог быть холоден или горяч, но никогда не тепел, как сказано в Апокалипсисе, и я надеюсь, что Господь сохранит его и не извергнет из уст Своих (Откр., 3:16).
А Шварцвальду Платон Демьянович посвятил стихотворение на немецком языке:
Ich kann den Himmel nicht entbehren Auf diesen Bergen, wo, gebeugt, Wacholder mit den blauen Beeren Von dunklen Ewigkeiten zeugt. Und in dem städtischen Gewimmel, Wo weder Bremse hilft noch Brief, Erkennen werde ich den Himmel, Der hier gierig mich ergriff.Стихотворение посвящалось не только горам. Можжевельник (Wacholder), свидетельствующий своими синими ягодами о темных вечностях (вечности во множественном числе сами по себе многозначительны, их, по крайней мере, две, но может быть, и больше), этот можжевельник приобретает интимный лирический смысл, когда выясняется, что Чудотворцев снимал комнату в домике вдовы по имени Софи Адриенна Вахольдер. Софи Адриенна едва ли была старше Платона, жила с матерью и малолетним сыном. От нужды ее спасали уроки фортепьянной игры, которые она давала в бюргерских домах, и возможность сдавать комнату с полным пансионом. Эту комнату и снял Платон Демьянович. Его привлек маленький садик, где было множество цветов, соседство горного елового леса, где по ночам кричали совы, и роскошный рояль, право пользоваться которым он специально оговорил, договариваясь об условиях. Фрайбургские старожилы долго вспоминали сонаты Бетховена и мелодии Шуберта, доносившиеся из раскрытых окон, и некоторые знатоки ухитрялись даже различать, когда играет синеглазая хозяйка, а когда молодой философ из России (впрочем, случалось им играть и в четыре руки).
Чудотворцев говорил, что он бежал в католический Фрайбург от гейдельбергского катехизиса. Это исповедание реформированной церкви было напечатано в Гейдельберге в 1563 году, через четверть века после того, как Жан Кальвин выпустил в свет свое «Наставление в христианской вере». Не знаю, шутил Чудотворцев или всерьез доказывал, что суровый дух кальвинизма так и не выветрился в Гейдельберге. Правда, степени доктора философии он удостоился в конце концов в Гейдельберге, а не во Фрайбурге. Платон Демьянович рассказывал, как в окрестностях Фрайбурга крестьяне-католики простодушно говорили ему: «Мы одной веры с вами, мы тоже верим в Матерь Божию», и в этом было больше смысла, чем полагали католические теологи, не говоря уже о кальвинистах. Но и кальвинизму Платон Демьянович уделил немало внимания в своих исследованиях. Во-первых, он ценил строгий и ясный до артистизма стиль Жана Кальвина, образовавший французскую прозу на столетия вперед. Без Кальвина, пожалуй, не было бы Паскаля, хотя его «Мысли» несовместимы с «Наставлениями» Кальвина; Кальвин пришел бы в ужас иг чего доброго, сжег бы Паскаля, как сжег Сервета, если бы узнал об игре Паскаля, где ставка делалась на то, есть ли Бог, или нет Бога: если поставить на то, что Бог есть, выигрываешь все, если Он есть, и не проигрываешь ничего, если Его нет, но если делаешь ставку на то, что Бога нет, ничего не выигрываешь, если Бога нет, и проигрываешь все, если Бог есть. Чудотворцев был весьма заинтересован этой игрой и анализировал ее с точки зрения математической логики, проницательно замечая, что в игре сказалось религиозное отчаяние Паскаля, ибо вера в такие игры не играет: для веры ничего нет, если Бога нет, значит, нет и самой игры. Подобное же религиозное отчаяние, предвосхищающее Паскаля, Платон Демьянович находил и у самого Кальвина, в особенности в его учении об абсолютном предопределении; всемогущество Бога не было бы всемогуществом, если бы оно само сводилось к предопределению, и мир не мог бы существовать, ибо сотворение мира не может быть предопределено. Тем более трогательной представлялась Чудотворцеву обмолвка Кальвина, допускавшего, что искусство живописи и ваяния – дар Божий. В книге Чудотворцева «Метаморфоза. Знамение. Образ», только что вышедшей в свет якобы посмертно («бессмертно», – пошутил гроссмейстер Ярлов, полагаю, с ведома Клавдии), приводится такая цитата из Кальвина: «Наименее погрязшие в скверне идолопоклонства сказали бы, что почитают не идола и не изображаемого им духа, а считают изображение знаком того, чему должно поклоняться» (Кальвин Жан. Наставление в христианской вере. – М.: Издательство Российского гуманитарного университета, 1997. Т. 1. С. 102). Со свойственным ему ироническим смирением (некоторые называют подобное смирение юродством) Чудотворцев причисляет себя к этим наименее погрязшим и спрашивает достойного писателя, возможно ли изображение невидимого (а дух, несомненно, невидим). Платон Демьянович всегда отказывался причислять иконопись к живописи, ибо живопись изображает (запечатлевает) либо видимое, включая невидимое, либо невидимое, включая видимое, тогда как икона, будучи знамением, не изображает, а являет Невидимое, что возможно лишь по воле самого Невидимого и при его участии, так что иконописец никогда не считался автором иконы, являющейся умным очам через его художество. Вместе с князем Евг. Трубецким Чудотворцев признавал икону умозрением в красках, но возражал против красок, напоминая, что икона сперва знаменуется очертанием, потом пишется духовными очами, а не чувственными красками.
Но во Фрайбурге Чудотворцев любовался шедевром готического зодчества, башней собора, сложенной из красноватого камня и возносящейся на головокружительную высоту. Чудотворцев поднимался по винтовой лестнице на самый верх этой башни и установил, что ее высота соотносится с высотами окрестных гор, отчего и происходит особая гармония этой башни, которую Якоб Буркхардт назвал самой прекрасной башней христианства; отсюда, быть может, и винно-красный цвет ее, напоминающий виноградную лозу на окрестных склонах или Святые Тайны, Sang Real, кровь истинную царскую, святой (святую) Грааль, ради которой и воздвигались готические соборы.
Чудотворцев не мог не думать об этом, когда писал «Разномыслия в диалогах Платона». Колокольный звон, периодически доносящийся с башни собора, аккомпанировал его перу, и Чудотворцев говорил, что отзвуков этого звона не избежал ни один из философов, писавших во Фрайбурге, будь то Гуссерль или Хайдеггер. Эпиграфом к своей книге Чудотворцев избрал слова апостола Павла: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись меж вами искусные» (1 Кор., 11:19). В своей книге Чудотворцев исходит из того, что искусные открываются лишь в разномыслиях, а единомыслие убивает искусных, и во главе искусных в разномыслии новый Платон ставит Платона. При этом единомыслие Чудотворцев усматривает не только в идеологии, общеобязательной для всех, но и в стремлении отдельного философа свести свою собственную философию буквально к единой мысли, к жесткой, непротиворечивой системе, которая способна навязывать единомыслие другим. Образцом подобного системного, тотального, сказали бы мы теперь, единомыслия Чудотворцев считает философию Гегеля при всех ее эзотерических, мистических истоках. Не случайно Гегель становится в России идеологом западников, стремящихся навязать России другой путь развития, тогда как идеологом славянофилов остается философ мифа, стихийно-поэтический Шеллинг. В этом смысле вечным антиподом Гегеля остается Платон. До Чудотворцева историки философии пытались вычленить из диалогов единую компактно-монолитную философскую систему Платона. Чудотворцев установил, что философией Платона является сам по себе диалог, совмещающий различнейшие позиции и точки зрения.
Для начала Чудотворцев исследовал присутствие досократиков в диалогах Платона. Его книга и должна была сперва называться «Платон и досократики». К своему глубокому сожалению молодой исследователь тщетно искал в диалогах хотя бы намек на единственный сохранившийся фрагмент Анаксимандра: «Из чего же вещи берут происхождение, туда и гибель их идет по необходимости, ибо они платят друг другу взыскания и пени за свое бесчинство после установленного срока» (Микушевич В. Власть и Право. – Таллинн: Aleksandra, 1998. С. 75). Этому переводу Чудотворцев предпочитал добротный старый русский перевод из энциклопедии «Брокгауз и Ефрон»: «…из чего произошли все вещи, в это они, погибая, и возвращаются, по требованию правды, ибо им приходится в определенном порядке времени претерпевать за неправду кару и возмездие». Но позднейший гиперкритицизм Джона Барнета поставил под сомнение точность в передаче единственного фрагмента, приписываемого Анаксимандру Согласно Барнету, от фрагмента остались только слова: «…по необходимости: так как они выплачивают друг другу пеню и (несут) покаяние за свою неправду». Барнет предположил, что начало диалога с происхождением и гибелью было позднейшим привнесением под возможным влиянием Платона и даже Аристотеля: своего рода обратное воздействие Платона во времени, так что поиски Чудотворцева неожиданным образом подтверждались. Чудотворцев предположил, что диалог Платона не называет Анаксимандра, чтобы вобрать в себя его трагическое мироощущение и опровергнуть его, так как, по Чудотворцеву, именно Анаксимандр создал философию трагической эпохи, о которой писал Фридрих Ницше. Вот почему Чудотворцев предпочитает в переводе слово «правда» слову «необходимость». Вещь, обреченная на пеню и покаяние, и есть трагический герой, страдающий по необходимости, она же древняя правда. Трагическая вина героя в том, что он выделился из хора, без чего не было бы трагедии, но куда он обречен вернуться, искупая бесчинство своей единичности, так как хором в трагедии представлено Анаксимандрово Первоначало, неопределенная бесконечность (апейрон), откуда происходят вещи, чтобы возвращаться туда же «в определенном порядке времени». В диалоге Платона противоположность хора и героя снимается. Героем является каждый участник, и эти герои все вместе образуют хор, где каждый поет (говорит) по-своему Вот почему Ницше обвиняет Платона в том, что он разрушил трагедию.
Известно, что Гераклит высмеивал Пифагора, называя его как пример многознания, не научающего уму. А в диалогах Платона прославляется пифагорейский образ жизни и при этом цитируется мудрость Гераклита: «Ибо ничто никогда не есть, но всегда становится». Сократ в диалогах подтверждает правоту Гераклита относительно текучей природы бытия, выводя имена древнейших богов Реи и Кроноса из глагола «течь». Соглашаясь, что до нас дошли отдельные фрагменты досократиков, Чудотворцев объявляет фрагмент или высказывание основной формой их философствования. Трудно допустить, что до нас дошли отрывки спекулятивных трактатов. Такому предположению противится язык этих высказываний, что Чудотворцев подтверждает тщательным лингвистическим анализом. В этом смысле гении фрагмента Паскаль, Новалис, Ницше – досократики нового времени, хотя Паскаль и Новалис намеревались придать своим фрагментам более привычную, академическую форму, но судьба распорядилась иначе, удалив их из жизни до того, как они успели исказить истинную стихию своей творческой мысли. Итак, философия досократиков представлена исключительно их высказываниями, даже если эти высказывания сочетались между собой по некоему неизвестному нам принципу. Ницше, причислявший досократиков к философии трагической эпохи, усматривал в их философии утверждение, из которого выводится философия, сводясь к нему же: «Все есть одно». Этим одним для Фалеса была вода, для Анаксимена воздух, для Гераклита огонь. Трагическое заключалось в том, что некто (трагический герой) отпадал от этого «одного», продолжая принадлежать ему, как об этом свидетельствует в своем единственном, что знаменательно, фрагменте Анаксимандр. Но как раз Анаксимандр говорит о разных вещах, выплачивающих разные пени друг другу за свои трагические (тоже разные) бесчинства. У Пифагора числа не могут не быть разными, ибо, если число одно-единственное, оно не есть число. К тому же Пифагор, очевидно, различал число как простую сумму единиц, что не есть еще число, а скопление этих единиц, и число как неповторимое личностное единство, что воспринято в новое время профессором Н.В. Бугаевым, отцом Андрея Белого, а впоследствии, добавим от себя, П.А. Флоренским в его трактате «Пифагоровы числа». Так что подобные «числа-личности» не могут не быть различными. Что же касается знаменитого Гераклитова высказывания: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», его можно понимать двояко.
Первое возможное понимание обычно упускается из виду, для чего есть веские основания: нельзя дважды войти в одну и ту же реку ибо из нее нельзя выйти: вошедший в эту реку совпадает с ней, исчезает в первоначале, платя пеню за неправду своего мнимого исхождения, как сказал бы Анаксимандр, ибо, в сущности, нет ничего и никого, кроме этой реки, в особенности если река огненная. Но такое понимание вряд ли соответствует Гераклиту. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ибо река не бывает одна и та же. Гераклит говорит, что воды сменились: это уже другие воды и входящий в них другой. Философией Гераклита утверждается скорее различие в основе бытия, чем всеединство, соотношение которого с различием действительно является основным вопросом философии, но философия совершает роковую ошибку, выбирая одно из двух: материю или дух (рифма подчеркивает и пародирует эту ошибку), ибо если выбрать из двух одно, существенно, что оно одно, так что материя не отличается от духа, как и материализм не отличается от идеализма, только материализм страдает скорее близорукостью, а идеализм – дальнозоркостью. Но подобный дефект прозрения или умозрения требует гнетущего трактата. Высказывание предохраняет от него, а у досократиков царит именно высказывание.
Но высказывание тяготеет к другому высказыванию, они сталкиваются, отталкиваются, и из их соития образуется диалог, сочетающий и преображающий отдельные высказывания. Ни одно высказывание не остается в диалоге тем же, каким оно было (было бы) само по себе. Каждому высказыванию даровано в диалоге новое рождение, что и означает родить в прекрасном, как говорит в «Пире» пророчица диалога Диотима.
При этом неверно утверждение, будто в спорах рождается истина. Истина уже родилась, иначе не стоило бы вести о ней споры. Но истина спорна по своей природе, ибо созерцается с разных точек зрения, сопоставлению которых и посвящен диалог. Здесь новый Платон допускает первый иронический выпад против Платона древнего. Если вещь является лишь видимостью, мнимостью, тенью истинной идеи, как идея может быть сущностью вещи? Одно из двух: или в мнимом присутствует истинное, и тогда мнимое не мнимо, либо в истинном присутствует мнимое, и тогда истинное не истинно. Эту дилемму наивно разрешал, а не разрушал миф: присутствие вещи в бытии во всей неисчерпаемости такого присутствия, когда возможность совпадает с действительностью, а действительность остается возможностью. Миф – ситуация перед сотворением мира, которое совершается вечно, когда каждая вещь оборачивается миром, а мир оборачивается вещью. (Через тридцать лет Чудотворцев напишет «Материю мифа», за что будет приговорен к расстрелу, но расстрел заменят бессрочной ссылкой.) Первородный грех философии – разрыв с мифом; философия усугубляет и одновременно искупает этот разрыв новыми мифами, выдавая их за новорожденные истины и, как Понтий Пилат, вопрошая: «Что есть истина?» – хотя Истина стоит перед ней во плоти и прямо говорит о Себе: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь» (Иоанн, 14:6). Боги мифов не что иное, как идеи, но Бог не есть философская идея, ибо Бог – Истина. Следовательно, абсолютная личность, а потому философия может лишь признавать, но не познавать Бога. В этом вечная трагедия философии, остающейся лишь служанкой, а не союзницей богословия, ибо скрытая сущность философии – атеизм (Мартин Хайдеггер скажет об этом двадцать лет спустя), но это героический атеизм Кириллова, высшая форма нестерпимой тоски по Богу.
А древняя эллинская трагедия преодолевается в двух формах: во-первых, в форме христианской литургии, сохраняющей хор древней трагедии (Вячеслав Иванов назовет эллинскую трагедию Ветхим Заветом для язычников), но искупающей трагическую вину человека самопожертвованием Богочеловека, и, во-вторых, в форме диалога, предвосхищающего блаженство соборности, о чем Сократ говорит перед смертью: «И, наконец, самое главное – это проводить время в том, чтобы распознавать и разбирать тамошних людей точно так же, как здешних, а именно кто из них мудр и кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр; чего не дал бы всякий… чтобы узнать доподлинного человека, который привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея, Сисифа и множество других мужей и жен, которых распознать, с которыми беседовать и жить вместе было бы несказанным блаженством». Даже если допустить, что мудрые язычники и язычницы, упомянутые Сократом, не могут быть в христианском раю, Данте обрисовывает райское блаженство в духе этих слов Сократа.
Диалог начинается изречением оракула, которым руководствовался Сократ: «Познай самого себя!» Это изречение в принципе диалогично, поскольку включает не только таинственное «я» произносящего, но и «ты» внимающего: себя-тебя. В этом изречении обнаруживаются мисгериальные корни диалога: заранее заданные и заново угадываемые. От гадания диалог переходит к высказыванию, что и есть философия. Но любимое изречение Сократа предвосхищает Христову заповедь или даже оборачивается ею: «Возлюби ближнего, как самого себя», а для этого надо сначала познать себя, что позволяло некоторым отцам Церкви считать Ветхим Заветом для язычников не трагедию, а философию. Очевидно, чтобы познать самого себя, следует завязать диалог с самим собой. Но как самого себя заповедано полюбить другого, то есть принять его за самого себя, а самого себя следует опять-таки познавать. Такова златая цепь диалога, возможно попавшая именно оттуда в поэму Пушкина. Этот эрос любви-познания составляет движущую силу диалога. Библейский глагол «познать», совершенно эротичен, и от него рождается потомство, а назначение диалога в том, чтобы родить в прекрасном, как говорит мантинеянка Диотима, провозвестница диалогического эроса. О Боге как о Вожделении или об эросе говорят и христианские вероучители: святой Игнатий Антиохийский, Дионисий Ареопагит, Симеон Новый Богослов. Смысл диалога не в том, чтобы собеседник признал твою правоту, а в том, чтобы ты полюбил его правоту, как он полюбит твою (райский эрос: благая бесконечность любви). Истина не изучается, а познается в любви, познается взаимностью, а не своекорыстием. Вот почему так далеко заходит в диалоге любовь, чье слово – не просто сотрясение воздуха, не звук пустой, но плоть: «и слово плоть бысть» (Слава Богу, что в церковных кругах Чудотворцева читали немногие, но и среди этих немногих такая аналогия вызвала яростное осуждение, навлекшее на него преследования, как ни странно, при большевиках.) Диалогическая любовь к собеседнику может представляться хамскому взору вульгарной педерастией, не имея с ней, по существу, ничего общего. Недаром провозвестница диалогического эроса носит имя «Диотима» («Богочтимая»). В этом имени чаянье диалога, в котором Творец обращается к творению, возлюбив его (ее) как Свою невесту (Чудотворцев никогда не соглашался с так называемыми софиологами, приписывающими Софии Премудрости Божией нетварную природу. «София – творение, но не тварь», – говорил он). Эллинское словоупотребление лишало Софию личности, обозначая этим словом безличную мудрость, иногда даже просто разумение или умение. Философия и означает любовь к такой безличной мудрости. Но Диотима своим именем опровергает то, о чем сама же говорит: «Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры». Так тонко иронизирует эллинская мудрость над языческим баснословием. Но Диотима – Чтимая или Любимая Богом, и, следовательно, любит ее не один из мнимых богов, а иной Бог, Бог истинный. Диотима – эллинское имя Софии Премудрости, являющей себя мудрецу как личность, как возлюбленная Бога. В конечном итоге Диотима – языческое чаянье Церкви, когда диалогом предварена соборность.
Таким образом, диалог, по Чудотворцеву, – это не литературно-философский жанр, а форма бытия или даже само бытие, в основе которого эрос различий. Тут Чудотворцев позволил себе выпад, который дорого ему обошелся. Со времен Аристотеля на Западе диалектикой считают анализ или теорию противоречий, возводя диалектику к Зенону Элейскому. Между тем при этом происходит подмена понятий, когда за противоречие принимается различие. В такой подмене сказывается все та же идея абсолютного единства, когда все есть одно, что, согласно Чудотворцеву, сводится к небытию. Противоречие устанавливается чисто рассудочно, вернее, заимствуется из риторики, так как сам язык также основывается на различиях (членораздельность языка) и способность языка налагаться на реальность, обозначая ее, подтверждает реальность различий в бытии. Рассудочное сознание произвольно приписывает противоречия своей ограниченности природе или бытию, которое вообще не знает противоречий, ибо различие – не противоречие. Из жонглирования подобными предвзятыми противоречиями вырастает идеология, выдающая свободу за осознанную необходимость, хотя очевидно, что осознание необходимости диктуется самой необходимостью и может быть ей неадекватно, более того, необходимость может выдавать за необходимость фальсификацию необходимости, что обычно и происходит в идеологиях. Подобную фальсификацию Чудотворцев усматривал в гегельянстве (не путать с гностическими интуициями Гегеля) и в левом гегельянстве, то есть в марксизме. Диалектика противоречий и противоположностей коренится, восходит не к диалектике эллинского (платоновского) диалога, а к хитросплетениям Талмуда, преодолеваемого, правда, каббалой, в которой угадывается возврат к творческим первоосновам бытия. Любопытно, что чудотворцевскую критику новейшей западной философии приняли на свой счет оба главные западные философские течения: гуссерлианство и неокантианство. Сразу же после выхода «Разномыслий в диалогах Платона» на немецком и на французском языках (перевод русского слова «разномыслия» на оба языка оказался почти невозможным: по-немецки получилось «Meninungsunterscheide», по-французски «Les differences»), Чудотворцев был негласно отлучен от большой философии, и в Гейдельбергском университете вместо лекционного курса ему предложили вести лишь семинар по Платону.
Любопытно, что пятьдесят лет спустя в Советской России Чудотворцев, если вы помните, вел едва ли не в точности такой же семинар (разве что уровень семинаристов был пониже, и то не всегда), так что его деятельность в свободном мире и за железным занавесом ограничивалась в принципе одинаково. И там и здесь предполагалось, что Чудотворцев преподает не столько философию, сколько греческий язык, в котором квалификация его не отрицалась и даже афишировалась, и хотя семинар Чудотворцева посещали известнейшие философы, они сами и распускали слух, что Чудотворцев – не философ, а филолог или разве что историк философии. Тогда начала вырабатываться западная модель отношения к русской философии, и она была опробована именно на Чудотворцеве. Чудотворцеву было отказано в звании философа, так как его философия была философией многообразия, а не единообразия. Молчаливо предполагалось, что Чудотворцев – не философ, так как он отказывается отвечать на основной вопрос философии, что лежит в основе бытия: материя или дух, и этот вопрос для него как бы даже не существует. Иными словами, непререкаемой истиной считалось, что не философ тот, для кого все не есть одно, а, по Чудотворцеву над единством доминировала целостность, которую он определял как единство различного, возвращая диалектике ее исконный гераклитовский смысл. Не зная, что на это ответить, западные философские школы предпочитали игнорировать русскую философскую мысль, причисляя ее к явлениям литературы или религиозного визионерства. Чудотворцев говорил, что на Западе сформировалась философия права и секса, а на Руси философия свободы и любви (эроса). «Эрос – стихия, секс – раздражение», – любил он добавлять к этому. Любовь основывается на различии полов, образующих единую плоть (целостность), а секс единообразен, одинаков независимо от пола, как одинакова свобода, предписанная для всех, что, по Чудотворцеву, является не свободой, а принуждением. Русская философия объявляется тоталитарной, так как она ставит под вопрос общеобязательную свободу, к тому же единственно возможную, что и есть настоящий тоталитаризм (Герберт Маркузе назвал такую тоталитарную свободу одномерной). Но ситуация Чудотворцева на Западе осложнилась еще одним немаловажным обстоятельством.
В отличие от Шопенгауэра и Шеллинга, Чудотворцев имел успех как лектор, читая лекции по-немецки, по-французски и по-латыни, но именно этот успех дал повод выдавать его то ли за проповедника, то ли за вероучителя, то ли за странствующего волхва, завораживающего, а не убеждающего своих слушателей. Распространилось обыкновение буквально переводить фамилию Чудотворцев. По-немецки выходило «Wundertäter» или «Zanberkünstler» (то и другое с колоритом кабаре или даже цирка), а по-французски «le maître des miracles», что звучало тоже не слишком лестно. Когда маститый коллега обращался к Чудотворцеву «Herr Wundertäter», шутка дурного тона означала своего рода остракизм, выдворение Чудотворцева на периферию интеллектуальной жизни. Русского мыслителя предпочитали числить по разряду оккультизма, и для этого были определенные основания: в жизнь Чудотворцева вторгся его старый благодетель Мефодий Орлякин, подчеркивающий эти основания, как умел делать только m-r Methode.
Арлекин был, действительно, немолод в это время, ему было уже за пятьдесят, но он сохранился лучше и прожил дольше, чем можно было бы ожидать при его специфических наклонностях. Известно, что Сергей Дягилев, отличавшийся подобными же наклонностями, не дожил до шестидесяти лет и умер от болезни, симптомы которой весьма напоминают СПИД. (Напрашивается гипотеза, что СПИД существовал задолго до того, как наука выявила его вирус. Рассадниками СПИДа могли быть библейские города, обреченные Богом на уничтожение, например, Содом и Гоморра, чьи жители вожделели ангелов. Не синдромом ли иммунодефицита объясняется так называемая естественная смерть, наступающая гораздо раньше, чем следовало бы ей наступать, если предположить, что продолжительность человеческой жизни – все еще двести или триста лет, а кто, вообще говоря, ее устанавливал, кроме Бога?) В пятьдесят лет Мефодий Орлякин только начинал седеть, впрочем, его рыжие волосы выпадали быстрее, чем седина успевала их коснуться, а походка Арлекина оставалась такой же упругой и пружинистой, и приплясывал он перед собеседником с прежним азартом. Как-никак ему предстояло еще прожить более четверти века (он умер в 1930 году когда ему перевалило за восемьдесят). Подобное долголетие можно объяснить лишь тем, что Арлекин хранил верность своей первой любви, Демьяну, имея виды сначала на Платона, потом на Полюса, и умер, когда последняя его надежда не сбылась: Полюс навсегда остался для него вне пределов досягаемости, в чем Полюс винил опять-таки отца, уверенный, что Орлякин сделал бы из него великого артиста, но так или иначе, m-r Methode запечатлел своим обольстительным и роковым влиянием жизнь трех Чудотворцевых, в свою очередь зачарованный их родовым гением.
Наталья делала все для того, чтобы Платон не виделся с Мефодием наедине, и это ей удалось, хотя затруднительно было отказывать Мефодию в свиданиях с Платоном, получающим от Орлякина пенсию. При этих неизбежных свиданиях Наталья всегда присутствовала сама, и проходили они столь формально и сухо, что сам Орлякин утратил к ним интерес. Видно, Наталья полагала, что брак с Олимпиадой оградит ее сына от соблазнительных домогательств Арлекина; откуда было ей знать, что года не пройдет, как Платон расстанется с молодой женой и в чужих краях им завладеет m-r Methode.
Орлякин разыскал Чудотворцева во Фрайбурге, но не пришел к нему на квартиру и пригласил не в гостиницу где остановился или, как тогда говорили, пристал. M-r Methode пригласил письмом Платона в старинный горный ресторанчик, носивший название «Greifenegg» («Гнездо грифа»). Арлекин так и вспрыгнул, вскочил при виде Платона (я чуть было не написал «своей жертвы»), но не шагнул ему навстречу, а сразу же снова сел на стул, правда, радушно протягивая ему навстречу обе руки. Перед Орлякиным на столике стояла бутылка местного кисловатого вина, и на столик падала тень высокого бука (терраска ресторана располагалась на открытом воздухе). Орлякин для начала сердечно поздравил Чудотворцева с успехом «Разномыслий в диалогах Платона», но в поздравлении слышалась ирония; внимательный читатель помнит, почему. Впрочем, нельзя было не заметить, что Орлякин разве только листал объемистый труд Чудотворцева. Он вообще не был охотником до чтения, предпочитая книгам зрелища и салонную causerie (болтовню). В этом стиле он и начал разговор со своим заочным питомцем (как-никак Платоша рос у него на хлебах, о чем Арлекин пока не упоминал, хотя это подразумевалось). Орлякин говорил Платону «ты», а тот говорил ему «вы» и называл его «Мефодий Трифонович».
Орлякин потребовал стакан для Платона, наполнил его и предложил выпить на «ты». Платон смутился. Он вообще с трудом переходил на «ты», в моем присутствии говорил «ты» только Полюсу да Кире, и в разговоре с ними у него прорывалось «вы»; не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь сказал «ты» Клавдии; боюсь, что такого не бывало даже наедине, отчего Клавдия втайне страдала. Остальных «ты» Платона Демьяновича не осталось в живых к тому времени, когда я с ним познакомился. Орлякину Чудотворцев, несомненно, говорил «ты», и это было первой победой Арлекина над Платоном. Орлякин спросил Чудотворцева, неужели он так и намерен мумифицировать себя заживо в философских спекуляциях, а когда Платон смущенно промолчал, сообщил ему, что Аркадий Савский отзывался с похвалой о его композициях. Сам Платон не слышал особенных похвал от своего взыскательного учителя, если не считать похвалой пристальный интерес, который высказывал тот к его опытам-опусам.
– Это и есть высшая похвала, – щедро подлил масла в огонь m-r Methode. – Или ты не заметил, что он завидует тебе?
Кроме Аркадия, Платон показывал свои опыты только Лоллию, но тот остался сдержан, да и можно ли было ожидать, чтобы Люлли одобрил незрелое вагнерианство своего друга, который к тому же сам восхищался хрупким клавессинизмом Лоллия? Но Мефодий приветствовал как раз вагнеровскую монументальность в музыкальных опытах Чудотворцева, напомнил ему, что «Заратустра» Ницше был задуман как опера или как оратория, а если бы Заратустра так пел, а не так говорил, толку было бы больше, что понимал и сам Ницше, вымещавший свою досаду на Вагнере. «Sie sollte singen… diese neue Seele» («Она должна была петь… эта новая душа»), – процитировал Орлякин предисловие Ницше к «Рождению трагедии». Напомнил Орлякин Платону и о том, что Сократу перед смертью велел обратиться к музыке его демон. Слово «демон» m-r Methode многозначительно подчеркнул, но Наталья не показывала Платону писем Демьяна, подписанных «твой Демон», и не говорила ему, что Мефодий Трифонович так называл его отца.
Тут Мефодий напрямик объявил Платону, что «Действо о Граале» должен написать он.
– После Вагнера? – удивился Платон Демьянович.
– Вагнеру свое, Чудотворцеву свое, – парировал m-r Methode. – Вагнер написал «Парсифаля», а Чудотворцев напишет «Действо о Граали» (голосом он подчеркнул женский род имени). Чудотворцев напишет русскую Грааль, а как же иначе?
– А петь кто будет? (Чудотворцев все еще пытался отбояриться от бремени, возлагаемого на него Арлекином.)
– Как это кто? – Орлякин подпрыгнул на стуле. – Напишешь, тогда услышишь. И увидишь, Бог даст. Демон будет петь, сам Демон. Так-то, дражайший Платон Демьянович.
Тут уж Платон Демьянович не мог не догадаться, кого Мефодий называет Демоном, даже если он действительно этого не знал до тех пор, в чем я, по правде говоря, сомневаюсь. Беллетрист написал бы, что вихрь мыслей пронесся в голове героя, но я, как его биограф, могу лишь задаться вопросом, неужели он сразу же ни о чем не спросил своего собеседника. Впрочем, я могу допустить, что так оно и было, да и Платон Демьянович на этом настаивал. По-видимому, между ним и Орлякиным раз навсегда установился некий этикет, исключающий кое-какие вопросы при молчаливом предположении, что обоим кое-что и так известно, а если неизвестно, то об этом не стоит говорить. Для начала Чудотворцеву пришла в голову невероятная мысль, что его отец жив, что Мефодий лишь скрывал его все эти годы (четверть века с лишним), оберегая его (от собственной жены и сына?), приберегая для «Действа о Граали» в ожидании, когда оно будет наконец написано, а пока не деля Демьяна ни с кем, в особенности с Натальей, с женщиной, посмевшей замешаться между Арлекином и Демоном. Что если и пенсию Орлякин платил сыну Демьяна не потому, что виновен в его смерти, а как выкуп, как отступное… как аванс. Наклевывалась и мысль еще более невероятная. Что, если Орлякин думает превратить или уже превратил свой театр «Perennis» в пиренейское подобие мочаловского театра «Красная Горка», где играют… не только живые? (Платон Демьянович уже знал этот театр и, разумеется, обратил внимание на одну его актрису, в которой узнавал свою Софию, не догадываясь еще, что с ней можно встречаться запросто, но не тоска ли по этой актрисе влекла его к родным пенатам?) А что, если на представлении «Действа о Граали» (представление это будет или литургия?) появится Демьян… то есть отец, Бог знает откуда, как в театре «Красная Горка», и будет петь? Это будет по Блаватской (тоже София) или по Федорову, объявившему смыслом всей христианской культуры воскресение отцов? Но у спиритов духи стучат, пишут, играют на музыкальных инструментах, и что-то не слышно, чтоб они пели. Так или иначе, обсуждать подобные вопросы при первой встрече, едва ли не при первом знакомстве Платон Демьянович не решился со своим собеседником, да и вряд ли это было возможно в ту просвещенную эпоху между двумя представителями так называемого образованного общества даже с глазу на глаз, и Мефодий воспользовался замешательством Платона.
В тот же вечер Орлякин предложил Платону Демьяновичу ехать с ним в Пиренеи, как Рихард Вагнер, по преданию, туда ездил, задумав «Парсифаля». Платон сам задумал поездку в ближайшие дни, то должна была быть поездка в Париж по причинам весьма личным, о которых Платон предпочел бы не говорить с Орлякиным, но тот, не дожидаясь, согласится Платон или нет, сам заявил безапелляционно, что из Пиренеев они должны будут поехать в Париж, на что Платону нечего было возразить. Таков был стиль недомолвок и угадываний, навязанный Чудотворцеву Орлякиным, предполагающий посвященность собеседника, без чего откровенность кощунственна. Со временем Платон Демьянович научился блестяще пользоваться этим стилем, но на первых порах да и впоследствии Орлякин давал ему сто очков вперед и легко брал над ним верх. Чудотворцев подумал, что в Пиренеях Орлякин нечто откроет ему об отце или нечто откроется само. При этом Платон ни на минуту не забывал, что Наталья винит Мефодия в смерти Демьяна, но на его могилу в Пиренеях она ни разу не ездила, да и не собиралась ехать. Орлякин повез Платона именно в Пиренеи, а не в Испанию. Прадо Платону Демьяновичу так и не довелось увидеть. Целью их путешествия оказалась живописная долина, осененная восточными предгорьями Пиренеев. По меньшей мере на двух горных вершинах Чудотворцев заметил замки. Один из них оказался бывшей пресепторией тамплиеров, разумеется полуразрушенной. К этим развалинам Чудотворцев мог присмотреться лишь издали. Экипаж, заранее нанятый Орлякиным, пересек долину, направляясь к другой горе. К замку вела крутая, местами почти отвесная, осыпающаяся тропа. И этот замок, из долины казавшийся мощным и неприступным, был полуразрушен. У бывших ворот путников встретил бородатый, глухой старик, что-то шамкающий на языке, который Чудотворцев сперва вообще не понял, а потом стал разбирать отдельные слова, похожие на латинские. Старый сторож замка говорил по-провансальски и не представлял себе, чтобы посетители замка не понимали языка, на котором в старину говорили благородные рыцари.
– Вот тебе твердыня Монсальват, или Монсальвеш, – сказал Чудотворцеву Орлякин. – Об этом замке писал Вольфрам фон Эшенбах, о нем Доэнгрин поет в своей знаменитой арии. Здесь хранился святой Грааль… святая Грааль, быстро поправился он. – Присматривайся, запоминай! Здесь разыгрывалось действо о Граале, и здесь оно будет разыгрываться, когда ты его напишешь.
Орлякин с Чудотворцевым бродили по замку несколько часов. Уже вечерело, когда Орлякин напомнил, что пора возвращаться. Чудотворцев понял, что отсюда они поедут в Париж. Поездка в Пиренеи ограничивалась посещением этой развалины. И тут Платон не удержался.
– А могила моего отца… где-нибудь поблизости? – вдруг спросил он Орлякина.
– Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, – резко ответил Орлякин.
Можно было бы счесть эти слова дерзостью, если бы то не были слова Христа. Так ответил Христос человеку, собравшемуся идти за Ним, но вознамерившемуся сначала похоронить своего отца (Лука, 9:60).
Когда оба путешественника спустились с горы, Орлякин отпустил экипаж и предложил Чудотворцеву небольшую прогулку в сумерках, хотя совсем уже стемнело. Орлякин повел Чудотворцева по другой тропе, пологой (она пролегала в долине), но такой же заросшей. Видно было, что ходят по ней редко, но Орлякин знал тропу хорошо; минуя крупные горные камни в пыльной траве, он заботливо следил, чтобы и Чудотворцев не оступался. Прогулка потребовала времени. «Три мили от замка», – многозначительно уточнил Орлякин. Когда эти три мили были пройдены, перед ними возникла довольно большая, но аскетически строгая античная гробница в виде продолговатого параллелепипеда. Перед этой гробницей Орлякин остановился, не сомневаясь, что Чудотворцев тоже остановится. Гробница с виду была древняя, но Чудотворцев заподозрил, не ответ ли это на его вопрос о могиле отца. Но как понять подобный ответ? Орлякин принял выжидательную позу, поставив правую ногу на камень, торчащий из земли и напоминающий своими очертаниями уменьшенное подобие той же гробницы. Чудотворцеву показалось, что своей позой Мефодий копирует некий образец или первоисточник. Чудотворцеву не хотелось признаваться в том, что он не может вспомнить этого первоисточника, и, чтобы скрыть смущение, он все пристальнее всматривался в гробницу, пока на камне не проступили буквы, которых он не мог различить в темноте. Платон все равно не стал обращаться с вопросом к Мефодию и ждал, пока луна не выплыла из-за облачка. Тогда Мефодий услужливо чиркнул спичкой, как будто не догадался сделать этого раньше, и Чудотворцев прочитал надпись на гробнице:
«Et in Arcadia ego».
«Небезупречная латынь, – мелькнула у него мысль. – Римлянин сказал бы: „Et in Arcadia sum…“» Но филологическая придирка, мелькнув, сразу же забылась на долгие годы. Ее сменила другая мысль: Аркадия… Говорят, что Диотима мантинеянка, так как она владеет мантическим пророческим искусством, но ведь Мантинея как раз в Аркадии. И в Аркадии мистериальная любовь Диотимы? Et in Arcadia ego… Чье это ego, я? И при чем тут в предгорьях Пиренеев Аркадия?
– И кто же здесь похоронен? – не удержался наконец Чудотворцев.
– Этого, видишь ли, никто не знает, – снисходительно ответил Орлякин, явно подразумевая: никто, кроме него. – Разве что «Действо о Граали» прольет новый свет, – усмехнулся Арлекин, иронически кивая в сторону луны. И Чудотворцев заподозрил про себя, не есть ли эта гробница – ответ Орлякина на его вопрос, не увековечил ли m-r Methode таким классически загадочным образом память своего друга и возлюбленного, погибшего по его вине, не похоронен ли, короче говоря, в этой гробнице Демон Чудотворцев. Но мистериальный стиль недомолвок и угадываний не допускал прямого вопроса, и Платону Чудотворцеву оставалось только полагаться на «Действо о Граали», которое еще только предстояло написать и без которого ответа не будет.
Наутро Орлякин увез Платона в Париж, где подтвердилось: «Действо о Граали», как оно задумано Орлякиным, должно исполняться в замке, где оно в свое время совершалось, то есть в том самом замке, который они осматривали, и владелец замка, старый маркиз де Мервей, дед Изабели, будущей супруги доктора Вениамина Луцкого, не прочь продать замок, но Орлякин в данный момент не располагает нужной суммой денег, чтобы приобрести его. Сказав это, m-r Methode, по своему обыкновению, многозначительно замолчал, и Платон Демьянович вспомнил пенсию, выплачиваемую ему Орлякиным все эти годы аккуратнейшим образом. Неужели единственный наследник Киндиных капиталов упустит возможность поквитаться со своим благодетелем, да и сам Платон разве не заинтересован в «Действе о Граали» кровно, поскольку от этого «Действа…» зависит память или, кто знает… жизнь его отца? Требуемая сумма в несколько раз превышала всю сумму, выплаченную Орлякиным Платону за все эти годы, но Платон предложил ее Орлякину, и тот без колебаний принял ее: он давно привык добывать самыми неожиданными способами деньги, необходимые для его художественных проектов, на которых давно разорился. Чудотворцев распоряжался капиталом единолично, но дело было уже фактически в руках Олимпиады, и мысль о том, что она скажет, слегка тревожила Платона Демьяновича. Но нужно было ковать железо, пока горячо. Старый маркиз Ришар де Мервей ждал покупателей в своей более чем скромной парижской квартире. К своему удивлению, нельзя сказать, что неприятному, Платон Демьянович узнал, что замок покупается на его имя.
– А как же вы… ты… – пробормотал он, смущенно глядя на Орлякина. – Я бы не возражал…
– Полно, какие счеты между нами, – воскликнул m-r Methode. – Да и старик продает замок дешевле, узнав фамилию покупателя.
Платон Демьянович подумал, что маркиз – в прошлом тоже поклонник или друг Демьяна, и тем более удивился, увидев, что обозначен в договоре как Monsieur de Merveille (фамилия Чудотворцев – «Tchudotvorzev» – присовокуплялась в скобках).
– Помилуй, но какой же я «de Merveille»? – смущенно спросил Платон Демьянович.
– А кто же ты? Я просто перевел твою фамилию на французский язык, – объяснил m-r Methode. – Маркиз наслышан о восточно-европейской, скажем прямо, о русской ветви де Мервеев.
Платон Демьянович не сразу сообразил, что Monsieur перед его фамилией вместо обычной вежливой аббревиатуры «М» может означать принца королевской крови.
Старый маркиз никак не ждал, что найдется покупатель для давно развалившегося родового замка. Промотав несколько наследств, маркиз остро нуждался в деньгах, но мысль расстаться с родовым замком неприятно поразила его. Несколько утешило маркиза известие, что замок покупается, так сказать, однофамильцем, если не родственником, то сородичем по семейно-династическим соображениям. Глядя на Чудотворцева, маркиз прищурился и счел если не черты его лица, то высокий рост родовой приметой маркизов де Мервей. Чудотворцев тоже всматривался в маркиза. Маркиз был безупречно выбрит, иначе прямо-таки поражало бы его сходство со старым бородатым служителем, показывавшим замок. Очевидно, право многочисленных первых ночей, да только ли первых, не прошло бесследно для слуг и вассалов рода де Мервей. Маркиз без обиняков подписал договор о продаже, торжественно пожал руку новому владельцу и выразил удовлетворение по поводу того, что замок остается в родственных руках (dans les mains germaines). Впрочем, Чудотворцев не получил никаких документов на владение замком. Они остались у Орлякина вместе с доверенностью на управление замком, которую Чудотворцев немедленно ему выдал.
Эти документы (без доверенности) Орлякин показал Олимпиаде, как только приехал в Россию собирать деньги на свои проекты. Опасения Чудотворцева оказались напрасными. Олимпиада приняла к сведению покупку и даже одобрила ее (от Кинди она унаследовала страсть к недвижимости). К тому же единственным наследником замка был ее сын Павлуша Чудотворцев (ее чудо, тоже, что ни говори, de Merveille). Но склонность Платона Демьяновича к дорогостоящим покупкам за границей все-таки насторожила ее, и она обратилась к Мефодию Трифоновичу с не совсем обычным предложением выплачивать пенсию в том же размере теперь уже не Платону Демьяновичу, а его сыну Павлу Платоновичу, причем она, Олимпиада Гордеевна, будет негласно возмещать господину Орлякину всю сумму пенсии и давать кое-что сверх. Иными словами, Орлякину предлагалось отныне платить пенсию младшему Чудотворцеву деньгами Чудотворцева или Олимпиады Чудотворцевой, что все равно. Так Олимпиада решила оградить благополучие своего сына от вероятного отцовского мотовства. Предполагалось, что сделка должна сохраняться в строжайшей тайне от Платона Демьяновича (это было не совсем так), и, разумеется, Орлякин охотно согласился на такие условия, дорожа деньгами «сверх». Пенсия по-прежнему аккуратнейшим образом выплачивалась Полюсу, пока Олимпиада оставалась при деле, а потом, когда пенсия прекратилась, и тайна отпала вместе с ней. Полюс не упускал случая попенять отцу, чего он лишился из-за его прихотей.
Сразу же после покупки замка, действительной или мнимой, Платон Демьянович отправился в Лувр, где остановился перед картиной Пуссена «Аркадские пастухи», но если на картине и была изображена Аркадия, она в точности совпадала с пейзажем долины в предгорьях Пиренеев, где Чудотворцев совсем недавно стоял перед гробницей в лунную ночь, и Орлякин поставил правую ногу на камень, явно копируя позу одного из пастухов на картине Пуссена. На одной горной вершине Чудотворцев узнал пресепторию тамплиеров, а на другой замок, принадлежавший теперь ему Четко прочитывалась на гробнице надпись: «Et in Arcadia Ego». На что намекал Орлякин, показывая ему таинственную гробницу в лунную ночь? Неужели в этой гробнице был тайно похоронен Орлякиным Демьян Чудотворцев? Или Мефодий воздвиг для него такую же гробницу дальше в Пиренеях? Или гробница означает мнимую смерть, а надпись возвещает воскресение? Платон Демьянович выяснил, что впервые надпись «Et in Arcadia Ego» появляется между 1617 и 1624 годами на картинах Джованни Гверчино и означает она подземный источник, пробивающийся на Сицилии, но бьющий в Аркадии, откуда произошли цари Трои, основатели сакральной монархии на Востоке и на Западе. Et in Arcadia Ego, Sang Real, святая Грааль, истинная царская кровь, текущая чудом, впадающая в «Действо о Граали», вверенное ему, Чудотворцеву де Мервей.
С тех пор Чудотворцев испытывал особый, пристальный интерес к творчеству Пуссена, ставил его выше, чем Тициана и Рембрандта, находил в его живописи Иное, изображенное или обозначенное очертаниями и красками. По словам Чудотворцева, Пуссен увидел античность глазами Иоанна Богослова на Патмосе, созерцавшего одновременно начало и конец мира. Пуссен зарисовал Альфу и Омегу, вернее, Омегу и Альфу, она же Алфей, подземная река, текущая из Аркадии на Ортигию под морским дном. Другим любимым художником Чудотворцева был Сандро Боттичелли, на картинах которого тоже все течет и струится с влажным блеском глаз рождающейся Венеры. Но неизменно возвращаясь к Пуссену, Чудотворцев повторял, что Пуссен хранит ключ (загадочная фраза из пергамента, найденного в церкви Марии Магдалины по соседству с таинственной гробницей), а этот ключ есть совмещение Альфы и Омеги, Первого и Последнего.
К творчеству и личности Пуссена Чудотворцев обращался не раз, что не совсем обычно для него: среди его художественных интересов доминировала все-таки музыка. И в живописи Пуссена Чудотворцев находил музыку, уверяя, что Люлли, Рамо и отчасти Глюк ближе духу Пуссена, чем Корреджо или Джулио Романо. В книге «Метаморфоза. Знамение. Образ» Пуссену была посвящена отдельная глава, в которой, собственно, и говорилось об античности, увиденной глазами Иоанна на Патмосе. В смягченной форме эта мысль высказывалась Чудотворцевым и в книге «Античность в новое время», которая чуть было не вышла при советской власти, а именно в шестидесятые годы, но застряла на стадии верстки, может быть, именно из-за упоминания о сакральной монархии как раз в связи с Пуссеном. Но существеннейшее внимание Пуссену и загадочной надписи Чудотворцев уделяет в своей главной философской книге «Бытие имени», вышедшей в 1915 году. Картины Джованни Гверчино и Пуссена Чудотворцев рассматривает как иероглифику, рассчитанную на чтение, а не на простое смотрение. Иероглифы лишь расшифровываются буквами надписи: «Et in Arcadia Ego». Чудотворцева эта надпись возвращает к Диотиме, на ее родину, в Мантинею. Но если само имя Диотимы означает «Богочтительница» или «Богобоязненная» и она родом из города, именуемого мантическим или пророческим, существенно, что родина Диотимы Аркадия: Et in Arcadia Ego, она и в Аркадии, и потому не только в Аркадии, но может быть и везде. Алфей, Альфа-река, чьи воды не меняются, и в них входят навеки, что опровергает или подтверждает Гераклита. Но, главное, Чудотворцев прочитывает анаграмму надписи: «I tego Arcana Dei» («Там [здесь] храню тайну Бога»). По Чудотворцеву, сочетание слов не может быть придумано, чтобы обозначать некую внешнюю реальность, наоборот, внешняя реальность (природа, история, вообще действительность) – лишь иллюстрация к онтологической истине Слова, не обозначающего, а образующего бытие, так что загадочная надпись может означать: прежде мира и в мире Я, Тайна Бога. Проблема заключается в том, что восточные предгорья Пиренеев действительно таят гробницу, запечатленную Пуссеном, но на ней отсутствует или не видна никакая надпись. Сам я не был близ деревни Арк («Arc-en-ciel» – «радуга» – не Аркадия ли?), я вообще не был в Пиренеях или в их предгорьях, так что вынужден полагаться на свидетельство очевидцев, утверждающих: время изгладило надпись, но во времена Пуссена она могла еще быть. Существует целая литература об этой гробнице. Гностическое предание, приписываемое альбигойцам (а вся эта местность – их насиженное гнездо), настаивает на том, что в гробнице был похоронен не кто иной, как Иисус Христос, избежавший распятия. (Вот почему тайный ритуал тамплиеров предлагал адепту топтать распятие.) Другая легенда говорит, что в гробнице похоронен сакральный монарх, быть может, сам король Дагобер, предательски убитый по наущению церковников-папистов за уклонение от их канона: его обвиняли в арианстве, а возможно и верней всего, он исповедовал восточное христианство или православие. Когда в двадцатом веке гробницу вскрыли, она оказалась пуста… как Христова гробница в саду у Иосифа Аримафейского. Откуда же взялась надпись в ту лунную ночь, когда гробницу посетил Чудотворцев? Неужели Орлякин заранее подделал эту надпись специально для Чудотворцева? В конце концов, он мог и гробницу подделать, выдав за нее свою декорацию, на что m-r. Methode был мастер. Надо сказать, что Чудотворцев больше никогда не был в тех местах. «Приедешь и все узнаешь, когда будет готово „Действо о Граали“, – повторял ему Орлякин, – а пока „tu es chatelain, et je suis ton majordome“ („Ты владелец замка, a я твой мажордом“)». Но ведь именно мажордом убил короля Дагобера. Не намекал ли тем самым Арлекин на свою вину в смерти Демьяна? А пока он уверял Платона и Олимпиаду, что замок восстанавливается (на деньги, которые давала Олимпиада), но, как известно, замок остался руиной, как был, и ничего похожего на восстановительные работы или на их следы там никто не обнаруживал. А надпись… не имеет ли она свойства исчезать и появляться, как подземная река?
В Париже Чудотворцев занимался не только изучением Пуссена. У него было там свидание, которому предшествовали свидания в Гейдельберге, где и было назначено свидание в Париже, якобы решающее, но стало оно таковым или нет, вопрос, как почти всегда в этой истории, спорный.
Однажды в коридоре Гейдельбергского университета Чудотворцев заметил хрупкую стройную женскую фигуру Она напомнила Чудотворцеву кого-то, вернее, что-то мучительно знакомое; он поспешил за ней, но она стремительно удалялась, свернув за угол, а когда Чудотворцев тоже свернул, неподалеку оказался другой угол, и пришлось примириться с тем, что незнакомка исчезла или он потерял ее из виду.
На другой день в тот же самый час Чудотворцев уже был в том же коридоре, он старательно обогнул те же углы, потом вернулся на прежнее место, потом снова петлял по углам, пока не увидел, как она снова промелькнула за одним из них. Чудотворцев хотел окликнуть ее, но как окликнуть ту, в чьем имени ты не уверен или вовсе не знаешь его. Да Чудотворцев и не решился повысить голос в университетских коридорах, не располагавших к тому, чтобы говорить громко, где каждый шаг отдавался глухим эхом, а шепот усиливался многовековым резонансом. Так повторялось изо дня в день. Чудотворцев регулярно проходил этими коридорами, надолго задерживался там, напрягая в академических сумерках свое тогда уже небезупречное зрение и почти всегда бывал вознагражден мимолетным видением: девичья фигурка мелькала в отдалении, проскальзывала, обнадеживая, и безнадежно ускользала, по всей вероятности, не нарочно, а только потому, что не замечала Чудотворцева или не придавала значения его присутствию в коридоре, впрочем, кто знает… Иногда Чудотворцеву казалось, что она манит его, молча назначая свидание за одной из дверей. Но то была уже игра романтического воображения; «свидание» слишком громко сказано, когда неизвестно, кто она, а Чудотворцев для нее, по-видимому, просто никто. Чудотворцев во всем винил свою невнимательность или слабость своих глаз. Но даже если бы он встретился с ней в коридоре лицом к лицу, что сказал бы он ей, как обратился бы к незнакомой барышне? Чудотворцев робел перед коридорным призраком, как в эпоху Прекрасной Дамы робел бы гимназист перед Незнакомкой. Но встреча с ней лицом к лицу все-таки имела бы для Чудотворцева смысл. По крайней мере, он, может быть, вспомнил бы, кого она ему напоминает, или… или даже узнал бы ее, на что Чудотворцев едва отваживался надеяться и все-таки надеялся. Все упорнее думалось ему, что сообщнице Раймунда Софье Богоявленской удалось бежать с каторги и теперь она скрывается в уединенной лаборатории Гейдельбергского университета, куда и приглашает его настойчиво, но осторожно, вынужденная соблюдать правила конспирации.
И вот однажды Чудотворцев неуверенно постучал в дверь, за которой вроде бы она только что скрылась. «Entrez», – послышался из-за двери резкий голосок с хрипотцой, какая бывает у заядлых курильщиц. Чудотворцев открыл дверь, переступил порог и увидел ее в белом халате, склонившуюся над микроскопом. Ее поза действительно напоминала русскую курсистку. Она сидела, как «те лаборантши», по выражению Пастернака.
– Êtes vous venu pour donner votre sang? – спросила она с той же хрипотцой, в которой слышалось и нечто певучее.
Чудотворцев опешил, но тотчас же нашелся.
– Et pourquoi avez vous besoin de mon sang? – парировал он не без остроумия. (Когда вас спрашивают, не пришли ли вы сдавать кровь, не вправе ли вы осведомиться, зачем ее сдавать.)
Его таинственная собеседница оторвалась наконец от микроскопа, обернулась к нему, и он смог наконец заглянуть ей в лицо. С первого взгляда ему показалось, что он узнал Софью Богоявленскую, но предпочел скрыть это по соображениям все той же конспирации. В конце концов, он и видел-то Софью Богоявленскую раз в жизни в тот вечер, на берегу Москвы-реки, а на следующее свидание она не пришла, так как была арестована.
На тот же первый взгляд гейдельбергская лаборантша показалась Чудотворцеву совсем юной, но впечатление это быстро прошло, когда он вгляделся в ее продолговатое лицо странной белизны, в чем теперь усмотрели бы так называемую подтяжку, но и тогда ее кожа наводила на мысль о пластической операции, поддержанной питательными кремами, а по-тогдашнему белилами. Чудотворцев смущенно отогнал эту мысль, подумав, не объясняется ли бледность его собеседницы долгим пребыванием в сумеречной лаборатории, где солнечный свет мешал бы сложным экспериментам, которыми занималась прилежная исследовательница. С этой мыслью Чудотворцев снова увидел ее совсем юной, как на первый взгляд. И при дальнейшем общении она сохраняла свойство внешне менять возраст, на глазах становясь то моложе, то старше, не обнаруживая, правда, ничего похожего на настоящую старость. Она была шатенка, скорее светлая, чем темная, и Чудотворцев так и не смог с уверенностью определить, какого цвета у нее глаза. Иногда он видел в них слишком памятную ему небесную голубизну, но бывали они и сумрачно карими.
Когда она встала к нему навстречу со своего вращающегося сиденья, Чудотворцеву не осталось ничего другого, кроме как представиться ей. «Элен», – ответила она и, угадав его разочарование, в котором он не успел признаться самому себе, тут же поправилась: «Элен Софи», после чего снова села, указав Чудотворцеву место напротив себя, взяла со своего столика дымящуюся пахитоску, глубоко затянулась, и Чудотворцев понял, какой запах примешивается к запаху химических реактивов в лаборатории. Пахитоска Элен Софи напомнила ему Лоллия, но постепенно Чудотворцев распознал в тускло-белых, почти бесцветных клубах дыма аромат восточных курений; эти курения он сначала принял за духи, которыми якобы пользовалась его собеседница, что, как он думал, не очень идет ученой даме.
А Элен Софи без запинки тараторила уже по-русски, хотя при всей беглости ее речи давал себя знать некий неуловимый, но отчетливый акцент, с которым она говорила на всех языках, знакомых и незнакомых Чудотворцеву, как будто не было языков, которых она не знала. Чудотворцев слышал, как она говорила по-арабски и по-персидски, когда к ней в лабораторию заходили экзотические посетители все с той же целью сдать кровь. Чудотворцеву предстояло вскоре узнать, что, несмотря на свою внешнюю молодость, она доктор медицины и обладает авторитетнейшим сертификатом по химии. Назвала она Чудотворцеву и свою фамилию Литли, причем к ней чаще обращались «мадам Литли», но иногда «мадемуазель», а она позволяла себя величать и так и эдак. Чудотворцеву, как и мне впоследствии, так и не удалось удостовериться, с каким ударением следует произносить эту фамилию: Литли или Литли, то есть на английский или на французский лад. Это оставалось проблематичным, как и акцент мадам Литли, не позволяющий установить, от какого языка он происходит.
А Элен Софи продолжила не то тараторить, не то щебетать, подробно информируя Чудотворцева о своих исследованиях или о грандиозном эксперименте по изучению человеческой крови. Этот эксперимент (программа исследований) осуществляется уже давно (в таком обозначении сроков прозвучала некоторая уклончивость) Имморталистическим центром при семинарии Святого Сульпиция в Париже. Чудотворцев ответил, что никогда не слыхал о таком центре.
– Собственно, это не только церковь, но и семинария, – улыбнулась мадам Литли, – и основана она между 1627 и 1629 годом. А вы знаете, когда Католическая Церковь празднует день святого Сульпиция?
Чудотворцев не знал.
– День святого Сульпиция – 17 января, – многозначительно сообщила его собеседница, – через три дня после православного Нового года по старому стилю. Сочетание старого и нового стиля здесь важно.
Чудотворцев озадаченно осведомился, при чем здесь исследование крови, относящееся, насколько ему известно, к сугубо современным направлениям науки. Неужели они велись уже в первой трети семнадцатого века?
– Собственно (a proprement parler), они велись и раньше, гораздо раньше. – Элен Софи вновь заговорила по-французски. – Но в первой трети семнадцатого века, а вернее, раньше лет на сто, – уточнила она, – подобные исследования приобрели весьма актуальный смысл для Католической Церкви, и для Православной тоже, хотя на христианском Востоке это осознавали лишь некоторые, но они были едва ли не лучше осведомлены, чем западные адепты.
Чудотворцев насторожился, улавливая в ее словах нечто знакомое, а она продолжала по-русски, и ее сообщение подытоживалось таким примерно образом:
Исследования крови в католическом мире восходят к временам контрреформации, ибо идеологи реформированной церкви так или иначе ставили под вопрос или просто отрицали пресуществление Святых Даров. Известна крайняя точка зрения Ульриха Цвингли, согласно которой вкушение вина и хлеба лишь символизирует Тайную вечерю Христа. Мартин Лютер и Жан Кальвин не столь радикальны на первый взгляд, но более непримиримы по существу. Лютер признает присутствие Христа в хлебе и вине причастия, поскольку Христос вездесущ, а Кальвин признает в хлебе и вине великий знак, но все-таки только знак Христовой благодати, обретаемой верующими сообразно Слову Христа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Иоанн, 6:54). Кальвин полагает, что следует Августину, повторяя за ним: «…важно действие таинства, а не одно лишь видимое таинство; пребывающее внутри, а не снаружи, вкушаемое сердцем, а не зубами» (Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Книга IV, глава XVII, 34). Кальвин иронизирует над тем, кто воображает, что жует зубами тело Христа: «Отсюда нетрудно заключить, что, когда земные элементы привлекаются верой для духовного употребления, они претерпевают превращение только с точки зрения людей – постольку, поскольку запечатлевают для нас Божьи обетования» (Глава XVII, 15). Элементарии заходили еще дальше в этом вопросе, утверждая, что любая пища и питье могут быть причастием для того, кто постиг: нет ничего, кроме Бога. Что же касается классической реформации, то суть ее учения, объединяющего Лютера и Кальвина, была в том, что знак или символ не имеют ничего общего с означаемым. Отсюда яростные нападки на Католическую Церковь, учившую, что нельзя причащаться Тела и Крови Христа иначе, как Телом и Кровью Христа. Подлинный смысл этого учения сохраняется лишь в лоне Восточной, Православной, Церкви, верующей, что в образе реально присутствует Прообраз, а в символе то, что символ символизирует. Внешние обозначения недействительны. Символ не просто обозначает, символ знаменует Того, кого символ символизирует, обретая энергию символизируемого. Вот почему знамение энергетично. Крест не просто обозначает, а знаменует Христа, преисполняющего крест энергией Своей благодати. Так и Святые Дары не просто обозначают Тело и Кровь Христа, не просто являются Телом и Кровью Христа, они суть Тело и Кровь Христа.
Сомневаюсь, чтобы Элен Софи возвестила это православное учение с впечатляющей чудотворцевской силой, как он мне его излагал. Полагаю, она только упомянула православный взгляд на этот вопрос (боюсь, она так и выразилась), чтобы вызвать интерес у Чудотворцева и привлечь его к себе. Главное в ее словах было то, что католическая контрреформация не могла признать Святые Дары лишь земными элементами, вином и хлебом, и потому пусть негласно, втайне поощрила исследования человеческой крови, полузапретный опыт алхимиков, надеясь в человеческой крови постигнуть нечто Христово. Эти исследования вдохновлялись мыслью, согласно которой вочеловечение Христа изменило состав человеческой крови и это изменение фиксировалось бы, если бы удалось установить, какою была человеческая кровь до вочеловечения Христа, что вполне возможно, если проследить наследственность в направлении ее истоков, где все равно некому находиться, кроме Бога. Иными словами, в противоположность новейшим химикам из недоучившихся или переучившихся семинаристов, кощунственно разлагающих грубыми лабораторными способами вино и хлеб до и после пресуществления в Святые Дары, адепты святого Сульпиция пытались выявить присутствие Бога в человеческой крови, идя от крови к Святым Дарам, а не от Святых Даров к Христовой Крови.
При этих словах Чудотворцев не мог не насторожиться, вспомнив Раймунда. Элен Софи явно цитировала его. А что, если это все-таки Софья Богоявленская… на нелегальном положении? Что, если она сотрудничала с Раймундом Заблоцким не только в изготовлении бомб? Да и так ли уж далеко отстоит исследование крови от изготовления взрывчатых веществ? Чудотворцев услышал, как Элен Софи вскользь упомянула красный эликсир, универсальное лекарство, вдребезги взрывающее реторту, если процесс зайдет слишком далеко. Что, если Софья Богоявленская имитирует иностранный акцент на случай, если ее подслушивают? А как быть Чудотворцеву: показать ли, что он узнает ее или не нарушать конспирации? А Элен Софи без умолку рассказывала, как Имморталистический центр по всему миру собирает образцы человеческой крови, надеясь найти когда-нибудь Sang Réal, и не исключено, что образец ее уже находится среди других образцов, надо только увериться: это действительно Sang Réal.
Тут Элен Софи осеклась и после многозначительной паузы спросила вполголоса: «Что же вы не говорите, как там у вас в России мосье Ведро?» Чудотворцев опешил. Ведро – неужели это какой-нибудь пароль? Или его собеседница хочет сказать, что в России кровь для анализов заготовляется ведрами? Чудотворцев предпочел промолчать, а Элен Софи пригласила его заходить к ней в лабораторию, когда у него найдется время. Нечего и говорить, что время нашлось у него на другой день.
Вместо пароля Платон предъявил Элен Софи флакон лесного старца, все еще полный, по крайней мере, на две трети. Элен Софи так и впилась в таинственный фиал, едва успев откупорить его и вдохнуть медово-травянисто-болотное благоухание. «Это вам передал мосье Ведро», – произнесла она. Чудотворцев не понял, восклицанье ли это или ликующий вопрос, и предпочел промолчать, а молчание, как известно, знак согласия. Платону ничего другого не оставалось, кроме как подумать, что мосье Ведро и есть лесной старец (настоящего его имени он до сих пор не знал).
– Но почему же вы до сих пор не сдали мне кровь, если вас послал мосье Ведро? – кокетливо спросила Элен Софи, поигрывая иглой и стеклянным капилляром. – Неужели вы боитесь укуса нездешней пчелы (la morsure d'abeille d'au dela)?
Она интимно коснулась его руки, но прикосновение оказалось цепким. Чудотворцев постеснялся вырвать у нее руку (иначе освободиться было невозможно), а может быть, он втайне наслаждался этим зажимом, и укол в палец завершил это наслаждение, усугубив его. Кровь Чудотворцева растеклась по капилляру и капнула в пузырек. Элен Софи написала на пузырьке что-то неразборчивое и поставила его рядом с другим пузырьком, на котором была этикетка с более разборчивой надписью: «Lolli Polosow». Платон вспомнил, как доктор Госсе брал у Лоллия кровь на анализ незадолго до его смерти… А Элен Софи торжествующе улыбалась, и Платон впервые увидел, что губы на ее совершенно белом лице ярко-красные, как будто она пробует на вкус кровь, которую берет на анализ. Или это была такая особенная губная помада?..
Но даже если это и была помада, ее следов не оставалось на окурках пахитосок, то и дело закуриваемых Элен Софи, не оставалось просто потому, что таких окурков не было: либо мадам Литли докуривала свои пахитоски до конца, не боясь обжечь губ, или ухитрялась незаметно уничтожать окурки, чтобы они не попадались никому на глаза. Это была одна из ее маленьких тайн, и вся она состояла из таких тайн. Точно так же неизвестно было, какого происхождения ее ароматичные пахитоски. Или они поступали от какого-то неведомого производителя, или она сама изготовляла их для себя (вернее всего), но так или иначе она никого этими пахитосками не угощала, вынуждая собеседников довольствоваться их ароматом, впрочем, об этом Чудотворцеву и мне трудно судить: мы оба не курим, так что предлагать пахитоску ему не было смысла (как и мне).
Как ни скудны были познания Платона в новейшей химии, он не мог допустить, чтобы пузырек с кровью Лоллия просто стоял на полочке в душной лаборатории среди клубов ароматического дыма. Пробы крови должны были храниться как-то иначе, в специальных, более стерильных условиях, по крайней мере, при более стабильной температуре. Кровь Лоллия попалась ему на глаза не случайно, если это не была одна только этикетка. Элен Софи на что-то ему намекала, поставив пузырек так, чтобы он не мог не попасться Чудотворцеву на глаза. Может быть, она ждала прямого вопроса, а Чудотворцев как новый Парсифаль не решался задать его. Он только спросил через несколько дней, что показал анализ его крови.
– Вы не умрете… в ближайшее время, – усмехнулась она со своей характерной паузой.
Чудотворцев, которому едва исполнилось тогда двадцать семь лет, не придал ее словам серьезного значения и продолжал настаивать, выпытывая результаты анализа. Элен Софи явно предпочитала не отвечать ему. Паузы в ее ответах становились все более продолжительными. Она уже не тараторила и не щебетала, а все больше молчала в его присутствии. Можно было даже подумать, что она тяготится его присутствием. Неужели весь ее интерес к нему заключался в том, чтобы получить кровь на анализ? Или этот анализ разочаровал ее, не показав того, что она искала? Или он сам разочаровал ее, не узнавая в ней Софью Богоявленскую или… или кого? Впрочем, кое-что в ней (на ней) явно менялось. До сих пор Платон не видел ее иначе, как в белом халате, из-под которого проглядывало синее платье. «Синий чулок», – иногда думал он про себя раздраженно. Теперь она все чаще встречала его в голубом, лишь в его присутствии накидывая или, наоборот, небрежно стряхивая с плеч белый халат.
Такая перемена туалета обнадеживала, но ее молчание продолжало тяготить Чудотворцева. Он попытался рассказывать ей о своих исследованиях, но разномыслия в диалогах Платона, включая Диотиму, нисколько не интересовали ее. Казалось, ее интересует лишь мосье Ведро, о котором она продолжала расспрашивать, а Чудотворцев, не уверенный, идет ли речь о лесном старце, отвечал уклончиво. Такая уклончивость раздразнивала ее настолько, что она снова делалась словоохотливой. Однажды, в очередной раз услышав: «monsieur Vedro», Чудотворцев отважился пробормотать что-то про лесного старца. Элен Софи с готовностью закивала. «Да, да, лесной старец, не кто другой, как он», – сказала она по-русски со своим странным акцентом. Но через несколько дней Платон застал ее в крайнем волнении, насколько она вообще была способна волноваться. «Вы уже знаете? – встретила она его вопросом. – Мосье Ведро умер». С этими словами она протянула ему письмо, где на русском языке в совершенно нейтральных выражениях сообщалось: «В России от воспаления легких умер философ Николай Федоров». Только теперь Чудотворцев понял, кого означал в ее произношении «monsieur Vedro». Чудотворцев имел представление о трудах Федорова в то время, возможно, даже читал его. Тем более Чудотворцеву странно было видеть, как потрясена Элен Софи этим известием. Казалось, она испытывает настоящее горе, как будто потеряла действительно близкого человека, и только потом Чудотворцев убедился: это было лишь крайнее разочарование.
– Значит, он умер, умер, – почти причитала она на своем странном русском языке. – Выходит, это не он, не он… А я-то… а мы так надеялись, что это он. Но тогда бы он не умер… Не умер бы, нет! Значит, и лесной старец не он. А кто вам все-таки дал эликсир, покойный monsieur Vedro или лесной старец? – резко обратилась она к Чудотворцеву, и в ее голосе послышалась то ли следовательская, то ли инквизиторская интонация.
– Я же сказал вам: лесной старец, – покорно ответил Платон, и в ее только что темных, но вдруг прояснившихся, поголубевших глазах вспыхнул прежний интерес к нему. Очередная пахитоска зажглась не только между ее губ, но и в обоих зрачках, обволакивая глазницы клубящимся дымком.
– Когда вы с ним последний раз виделись? – допытывалась она.
Чудотворцеву пришлось признаться, что он не виделся с лесным старцем лет десять.
– И все это время вы возили эликсир с собой? Зачем?
– Посудите сами, где мне было хранить его? К тому же… к тому же я надеялся на встречу с вами и предвидел, что флакон заинтересует вас. (Чудотворцев явно хотел сказать собеседнице любезность, но ей было не до шуток.)
– Но качество эликсира таково, что он мог быть изготовлен вчера… сегодня… только что! Вы уверены, что прошло десять лет?
– Боюсь, что да.
– А вы знаете, где он сейчас?
– Кто?
– Лесной старец, кто же еще?
– Думаю, там, где я его всегда встречал.
– В лесу? Но ведь у вас теперь холодная зима. Мосье Ведро умер от воспаления легких.
– А у него тепло. Да я и не думаю, чтобы он когда-нибудь болел.
– Почему вы с ним так давно не виделись? Вы… что-нибудь нарушили?
– Не знаю, не думаю… Он всегда является когда захочет.
– А может он явиться… здесь?
Чудотворцев промолчал, а она и не настаивала на ответе.
– Вы знаете его имя? – спросила она не без иронии, как почудилось Чудотворцеву. Ему не оставалось ничего другого, кроме как снова промолчать, хотя он был почти уверен, что она это имя знает и ждет, не произнесет ли он, наконец, этот пароль. Никакого другого пароля и быть не могло, думалось ему. Но она молчала, хотя ирония в ее взгляде исчезла. Не думала ли она, что и он знает это имя, но не хочет назвать его?
С этой минуты Платон окончательно уверился, что Элен Софи – не Софья Богоявленская. С тех пор она напоминала ему то Весну-Красну, то ее дочь Снегурочку (в спектакле театра «Красная Горка» мать и дочь настолько походили одна на другую, что их можно было спутать). Перед отъездом из России Чудотворцев успел опубликовать статью «Новейшие тенденции в русском театре», как раз о театре «Красная Горка». Весеннюю сказку Островского он истолковывал как дохристианское религиозное действо. Противоестественный любовный союз Мороза и Весны-Красны нарушил сакральное равновесие стихий, угрожая славянскому космосу впадением в хаос. Вот почему перестал являться берендеям Ярила, чей жрец – юный Лель. Вот почему Снегурочка обречена на гибель как искупительная жертва, но мистериальная тайна «Красной Горки» (надеюсь, что Чудотворцев имел в виду все-таки театр) в том, что Весна-Красна и Снегурочка могут замещать одна другую, и в жертву принесена, быть может, Весна-Красна, и кто же теперь она, если не Снегурочка? На эту статью мало кто обратил тогда внимание, тем внимательнее прочла ее та, для кого статья предназначалась. Но жертва Снегурочки не состоялась бы, если бы не Мизгирь, вслед за нею, вместе с нею жертвующий собой, отчаявшийся бунтарь: «Боги-обманщики», и я догадывался, кто чувствовал себя Мизгирем, когда писал статью. В записных книжках юного Чудотворцева я обнаружил четверостишие:
Упырь не упырь, Мизгирь не мизгирь, Над белой дорогой Месяц двурогой.Пусть мизгирь – паук с пронзительным сочетанием звуков: «мизг! ирь!», с мизгирем сближается в этом стишке упырь, охочий до крови, как… как мадам Литли.
Разумеется, сходство Элен Софи с Весной и Снегурочкой уже не могло ввести Платона в заблуждение до такой степени, чтобы он допустил, будто она проскользнула в гейдельбергскую лабораторию со сцены театра «Красная Горка», но сходство это тем более интриговало его и волновало. Он видел в своей собеседнице то Весну, то Снегурочку, как будто внешность ее, оставаясь все тою же, менялась перед ним, как цвет ее глаз. А Элен Софи опять уже тараторила и щебетала, непринужденно переходя с французского на русский и на другие языки, живые и мертвые, от латыни до древнееврейского вплоть до языков, совершенно Чудотворцеву неизвестных. Элен Софи словоохотливо рассказывала о своих экспериментах, но так, что их суть едва ли становилась от этого понятной. «Стоит читать лишь то, что написано кровью», – эту довольно тривиальную мысль она варьировала на все лады, придавая ей какой-то иной смысл. «Le sang, c'est la vraie encre», – воскликнула она. «Кровь – чернила? – рассеянно переспросил он. – Какие же это чернила? Тогда это будут краснила». – «Oui, oui, краснила», – радостно согласилась она, а Платону опять померещилась Весна-Красна. «Не потому ли она и красна?» – мелькнула у него в голове. А Элен Софи стрекотала и стрекотала дальше. Собственно, книга крови совпадает с чернилами, которыми она написана, вернее, с краснилами, как Платон удачно выразился. Они текут, непрерывно текут, но в этих краснилах различаются буквы, отчетливо различаются. Одна и та же буква растекается не только в пространстве, но и во времени, из поколения в поколение.
– Представьте себе такую буковку, – хихикнула она. – Буква от истока до устья.
– Где исток, где устье? – спросил Платон.
– У каждой буквы исток и устье одно и то же, – ответила она. – Альфа и Омега, первый и последний. Алфей, с вашего позволения, – она многозначительно кивнула. – Из букв образуются слова, хотя каждая буква – уже Слово sui generis. Эти слова не что иное, как подводные течения (les courants sou-marins), и Слово – также подземная река (la rivière souterraine aussi), и все это кровь, кровь, кровь. Буква вливается в букву, но буква с буквой никогда не сливается. В слове прочитывается множество, но не бесчисленное, скорее сверхчисленное множество других слов; в каждом кровеслове (le sang-mot) таятся анаграммы.
У Чудотворцева зарябило в глазах от этого текучего, колышущегося красного моря, возникшего перед ним, будучи в нем. А Литли продолжала как ни в чем не бывало:
– Вот почему кровь прослеживается или, если хотите, прочитывается лишь в сопоставлении с другой, вернее, с тою же самой родственной кровью, чтобы штришок со штришком дали возможность прочитать букву, а из букв слагаются слова, но слова здесь проще прочитать, чем Слово. Теперь вы понимаете, почему я не готова ответить на ваш вопрос о результатах анализа вашей крови. Нужно выявить вашу кровь в родственной вам крови, а у вас в крови родственную вам кровь, я бы сказала даже одну и ту же, и тогда начнет вырисовываться, прочитываться алая буква, но для этого нужно еще кое-что… кроме крови из пальца.
При этих словах она сделала многозначительную паузу, Платону сразу представился пузырек с кровью Лоллия, а может быть, она даже снова показала ему пузырек, он точно не помнил. В тот момент Чудотворцев не успел задуматься, что такое «еще кое-что», может быть, какой-нибудь препарат или другие пробы крови. Платон ждал, что Элен Софи будет расспрашивать его о родственниках, ближних или дальних, но такого вопроса так и не последовало. То ли она сама их знала, как ни странно, то ли, что вероятнее, подразумевала под родственной кровью нечто иное.
– Но какова цель вашего анализа? Какой диагноз вы хотите мне поставить?
– Я вам после скажу, когда мы встретимся в Париже. А вообще цель наших исследований кровь истинная, le sang vrai или le Sang Real…
– Это тоже буква?
– Нет, это Слово, единое со своим обозначением, текучий в жилах иероглиф.
Ее ярко-красные губы дрогнули и крепко сжались. Чудотворцеву снова вспомнилась Весна-Красна. «Sangsue», – шевельнулось у него в голове, и он сам ужаснулся, сообразив, что по-русски это значит «пиявка». Казалось, она откликнулась на его мысль, встав, резко отодвинув стул и протянув ему руку. «Завтра я уезжаю в Париж», – сказала она. Он хотел пожать протянутую руку, но рука уклонилась от пожатия, ловко положив ему на ладонь жесткую миниатюрную карточку. Ему пришлось напрячь глаза, чтобы прочитать: «Helen Sophie Litli. Paris. La chapelle de Saint Sulpice». «Там вы можете найти меня в ближайшие три месяца», – сказала она, не допуская сомнения в том, что он будет ее искать.
По всей вероятности, Платон сразу же поехал бы за ней в Париж, если бы не поездка, в которую вовлек его Орлякин. Ночь, проведенная в предгорьях Пиренеев между деревнями Арк и Рен-ле-Шато, гробница с таинственной надписью, полуразрушенный замок, где должно разыгрываться «Действо о Граали», подземная река, то появляющаяся, то исчезающая, как надпись на гробнице, – все это отвлекло Чудотворцева от мыслей о мадам Литли и ее исследованиях, но в Париже эти мысли нахлынули с новой силой. И все-таки Чудотворцев отправился в семинарию Святого Сульпиция лишь после того, как стал формальным владельцем замка и простоял долгие часы перед картиной Пуссена. По-видимому, в это же время Чудотворцев усиленно работает над «Действом о Граали», выполняя заказ Орлякина, а идеи Федорова определенным образом вписывались в эту работу, так как для самого Чудотворцева речь шла, в конце концов, о воскрешении отцов (отца). Судя по всему, Чудотворцев отсрочивал свидание с Элен Софи до того места в «Действе», когда эта встреча станет обоснованной и неизбежной, иными словами, свидание в «Действе» должно было совпасть со свиданием в жизни в духе Соловьевских «Трех Свиданий», и в то же время спрашивается, не Элен ли Софи – чудотворцевская Кундри? (Сцена Парсифаля и Кундри была им написана.) Так или иначе, настал день, вернее, вечер, когда Чудотворцев вошел в семинарию Святого Сульпиция, и служитель незаметной внешности в сером подряснике проводил его до дверей комнаты, где Чудотворцева ждала мадам Литли (как будто она только и делала, что ждала его все эти дни). «Entrez», – откликнулся знакомый птичий голос на стук в дверь, которая оказалась незапертой, и Чудотворцев переступил порог. Жилище мадам Литли нисколько не напоминало будуар парижской дамы. Оно могло бы походить скорее на комнату петербургской курсистки, где в ранних сумерках не хватает света: нечто среднее между chambre garnie (меблированная комната) и монастырской кельей. Разница была лишь в одуряющем запахе восточных курений, чье происхождение подтверждалось все тою же пахитоскою, дымящейся между длинными пальцами мадам Литли, но этой пахитоски было явно недостаточно для клубов дыма, окутывающих стены и поднимающихся к потолку. Когда глаза привыкли к сумраку, можно было различить по углам тлеющие курильницы. Комната освещалась лишь яркой лампадой, по-православному зажженной перед образом. Сначала Чудотворцеву почудилось, что он узнает лесного старца, но, увидев орла, распростершего крылья над Книгой, он понял, что перед ним образ Иоанна Богослова.
«C'est vous enfin», – сказала Элен Софи, усаживая Платона рядом с собой на кушетку застланную тонкой, лоснящейся тканью. Ткань мягко вибрировала от прикосновения, будучи более роскошной, чем следовало бы в подобной келье. Сидя рядом с Платоном, Элен Софи искоса смотрела на него вопросительно, да и «enfin» (наконец) обязывало, и Чудотворцев начал рассказывать о работе над «Действом о Граали», не подчеркивая, но и не скрывая своего авторства и вскользь упомянув поездку в Пиренеи, где действо должно разыгрываться. «Et in Arcadia Ego», – чуть-чуть улыбнувшись, вдруг произнесла Элен Софи, не дожидаясь, когда сам Чудотворцев процитирует загадочную надпись. Чудотворцев запнулся. Неужели она в курсе его последних перемещений? Элен Софи произнесла латинские слова, как будто в Аркадии именно она. «А разыгрывать ваше „Действо“ будет театр „Красная Горка“?» – также внезапно спросила она по-русски.
– Нет, насколько мне известно, театр «Perennis», – смущенно пролепетал Чудотворцев.
– Oui, le Theatre Pyrénéen, – утвердительно кивнула она, – но разве это не один и тот же театр?
Чудотворцев совсем смешался.
– Разве тем и другим театром не руководит monsieur Vedro? – продолжала частить она. – Разве monsieur Vedro не преследует ту же цель, что и вы, monsieur de Merveille?
Она и это знала!
– Что же показал, наконец, анализ… моей крови? – кое-как пролепетал Чудотворцев, чтобы сказать что-нибудь.
– Чтобы завершить анализ, нужно еще кое-что, – сказала она, – выдернув из губ дымящуюся пахитоску, и губы ее показались еще более красными.
– Но какова же все-таки цель анализа? Что он должен показать? – настаивал Чудотворцев.
– Анализ должен показать, насколько вы предрасположены к бессмертию, – без всякого выражения ответила она по-русски, как будто речь идет об обыкновеннейшей вещи.
– К бессмертию души? – спросил он, пытаясь придать своему вопросу ироническую интонацию.
– Нет, к физическому бессмертию, если слово «физическое» здесь уместно, – сказала она.
– Но ведь Федоров предполагал воскрешение мертвых, а не бессмертие живых.
– Mais oui, chez monsieur Vedro est la résurrection atificiele, chez nous l'immortalité elementaire.
– У Федорова искусственное воскрешение, y нас (то есть у вас) элементарное или стихийное бессмертие, – зачем-то попытался он перевести ее слова.
– C'est vrai. Верно, – подтвердила она.
– Но согласитесь: это не одно и то же.
– Это общее дело, l'œuvre commune. Помните: «ибо воскрешение будет делом не чуда, а знания и общего труда», – процитировала она по-русски. – В этом общем деле и мы участвуем.
– Через ваши анализы крови?
– Да, бессмертие человека в его крови, и мы намереваемся вернуть человеку бессмертие через переливание крови.
– Но Федоров предлагает или предполагает собирать частицы умерших тел из сидерических, из звездных далей, из теллурических (земных) глубин. Для него вещество – это прах умерших отцов.
– Oui, la résurrection des pefés, воскресение отцов, – снова закивала она. – Этого вы и хотите достигнуть вашим «Действом о Граали». Но чтобы воскрешать, нужно по меньшей мере быть бессмертным самому, и для человека естественно быть бессмертным. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов; бессмертные будут воскрешать мертвых. Le Sang Real – это и есть бессмертие в человеческой крови. Капля бессмертной крови в принципе может вернуть естественное бессмертие человеческом уроду.
– У кого же эта капля?
– У некоторых. Может быть, у вас, monsieur de Merveille. Но наверняка у вашего лесного старца и у него. (Она кивнула в сторону образа, освещенного лампадой, нежно коснувшись руки Платона.)
– И тот, у кого эта капля, сам не умирает?
– Иногда умирает, бывает убит, но кровь его дарует бессмертие другим, даже его убийцам. Такова кровь истинная, царская кровь, Le Sang Real. В этом смысл жертвоприношений, отсюда тяга к цареубийству, отсюда же Святые Тайны, l'œuvre commune – la communion – общее дело…
Она уже не тараторила, она лепетала эти слова, и губы ее влажно и жарко алели в отсветах лампады.
– Но что такое бессмертие без воскресения? – спросил Платон, слегка отстраняясь от нее. – Можно ли представить себе Шекспира, бесконечно сочиняющего свои драмы, или Ньютона, бесконечно продолжающего изучать небесную механику, не говоря уже о нелепости бесконечного продолжения такой деятельности, какою прославились Александр Великий или Наполеон?
Не сразу он сообразил, что процитировал наизусть Владимира Соловьева, почувствовав, что сам он смешон и нелеп, хотя, может быть, это-то и спасло его.
Но мадам Литли не смеялась. Напротив, ее глаза подернулись тенью грусти, потемнели даже в сумраке комнаты, и трудно было себе представить, что они могли казаться голубыми.
– Ах, monsieur Solo-vieux, состарившийся в одиночестве! Non, c'est ne pas votre sort, не такова ваша участь! Ваш анализ крови уже показал, кто вы; для окончательного результата требуется еще кое-что…
– Что?
– Послушайте! Имя Лилит говорит вам что-нибудь?
– Лилит, первая жена Адама, еще до Евы…
– Верно. Сотворена не из ребра, из той же субстанции, что Адам. Всегда знала, что нельзя быть образом и подобием Бога, не имея ничего от Бога. Знала же, знала, что от Бога у Адама кровь, кровь истинная, Le Sang Real… Хотела, хотела его крови…
Она употребляла глаголы без местоимений, так что в прошедшем времени подразумевалась «она», но может быть, «я». Платон снова отстранился от нее.
– А что же Адам?
– Он не отважился… Он хотел только того, чего потом хотели все и стал, как все…
– А Адам был бессмертен?
– Был бы бессмертен, если бы не та… из его ребра. Она заставила его попробовать запретный плод, что в нем самом, чего не было в ней, и с тех пор он смертный, как она…
– А Лилит? (Он чуть было не сказал: «А вы?»)
– Вы знаете, как другое имя Лилит: Одем – Краснота…
И снова Чудотворцеву почудилось, что рядом с ним Весна-Красна с Красной Горки, она же Снегурочка, но не та, не другая, кого он искал. Сходство было несомненное, но запретное, отталкивающее, а не влекущее, как до сих пор.
– И чего же вам не хватает… для анализа крови? – спросил он уже с явной иронией, подчеркнуто отстраняясь от нее.
– Того, на что не отважился Адам! Osez, osez, monsieur de Merveille, отважьтесь! – навязчиво льнула к нему она, но он оттолкнул ее, как назойливую жрицу любви, и, не прощаясь, захлопнул за собой дверь. Уже на улице он вспомнил, что проба его крови осталась у нее, как и кровь Лоллия, и пожалел, что дал ей кровь на анализ, что нельзя вернуть эту кровь себе в жилы, хотя… хотя, может быть, он жалел уже и о том, что анализ не был доведен до конца, что бы это ни значило и чем бы это ни грозило.
Разрыв с Элен Софи нанес Платону Демьяновичу травму, от которой он так и не излечился. Со временем я начал понимать, кого он имеет в виду, когда среди наших длинных разговоров с глазу на глаз вдруг поминает «демона ночей» или «мать демонов». Не берусь утверждать с уверенностью, но боюсь, что он подозревал своего отца, Демона-Демьяна то ли в шашнях с этим женоподобным демоном, то ли даже в родстве с ней (с ним?), так что свою подверженность чарам Литли считал наследственной. «Прельщает бессмертием, а сама ангел смерти, с нами крестная сила! – говорил он не без оттенка юродства, крестясь обязательно двуперстием. – Берет кровь, а при этом впрыскивает свое…
У нее капля яда на мече или в крайнем случае на шприце; где она побывала, там еда и питье отравлены». Но долгая жизнь Платона Демьяновича заставляла усомниться в том, что его собеседница впрыснула ему смертельный яд, хотя он, угадывая мои мысли, все с тем же оттенком юродства называл бессмертие без воскресения затяжной, быть может, вечной смертью. Иногда мне думается, что и в Советской России он остался, чтобы избежать дальнейших встреч с ней. За «железный занавес» ей проникнуть не удавалось, и не для того ли понадобился «железный занавес», чтобы ограждать от нее? Действительно, как только «железного занавеса» не стало, она тут как тут, не у меня ли за стенкой, грешным делом, и наверняка знает, кого ищет.
Так или иначе, Платон Демьянович неоднократно приезжал из Гейдельберга в Париж, а потом возвращался в Гейдельберг, не то избегая, не то ища еще одной встречи или встреч, и я не исключаю, что в конце концов он поддался соблазну, дал на анализ то, что нужно, и узнал его окончательный результат Любопытно отметить, что и в Гейдельберге, и в Париже он слушает лекции по химии, по биологии, начинает даже изучать медицину, как будто собираясь поменять, вернее, приобрести профессию (в двадцать восемь лет еще не поздно). Занятия естественными науками скажутся в главах об энтелехии, вошедших в книгу «Бытие имени». На лекциях и не только на лекциях Чудотворцев встречался с молодыми русскими революционерами, продолжая и упрочивая знакомства, завязавшиеся еще при посредстве Раймунда Заблоцкого. Не рассчитывал ли он встретить среди них все ту же Софью Богоявленскую или хотя бы что-нибудь узнать о ней? Вероятно, поэтому Чудотворцев общается прежде всего с бывшими и настоящими террористами, но среди его знакомых упоминаются, кроме левых и правых эсеров, даже большевики, от которых, казалось бы, он должен был быть очень далек, но как раз кое-кто из большевиков интересуется его тогдашними идеями. Так среди его ближайших знакомых небезызвестные братья Варлих, чьи псевдонимы столь красноречиво соотносятся: Михаил Верин и Гавриил Правдин. Собственно, к большевикам примыкал, то и дело отдаляясь от них, Михаил Верин, а познакомил Чудотворцева с ним Гавриил Правдин, сам религиозный философ, отнюдь не единомышленник своего брата, и Чудотворцев сперва сблизился скорее с Михаилом Вериным, чей воинствующий атеизм явно тяготел к мистическим движениям определенного толка. Михаил Верин пристально занимался альбигойцами и тамплиерами, усматривая в этих аристократах духа и крови истинных предшественников революции, как якобинской, так и будущей пролетарской. Свои французские статьи Михаил Верин подписывал другим псевдонимом: Jacques de Foi, сочетая имя Жака де Моле, сожженного Магистра тамплиеров с родовым именем Эклармонды де Фуа, предводительницы альбигойцев. При этом «Foi» («вера») намекала и на русский псевдоним Верина. Михаил к тому времени уже выпустил свое «Исповедание террора», признавая героическую доблесть отдельных террористов, но опровергая целесообразность их действий, обосновывая необходимость массового террора, как он утверждал. Целую главу Михаил Верин посвятил все тому же таинственному старцу, причащавшему и крестившему французский народ кровью короля и аристократов. Верин цитировал при этом и Пушкина:
Кровавой чашей причастимся, И я скажу: «Христос воскрес!»Эту кровавую чашу Михаил Верин противопоставлял контрреволюционному христианскому причастию. (На эти пассажи Михаила Верина ссылалась черносотенная пресса, усматривая в них аргумент, подтверждающий виновность Бейлиса.) Конечно, общение с подобными авторами лишь усугубляло ходившие в России слухи о политической неблагонадежности Чудотворцева. Мне так и не удалось выяснить, было ли длительное пребывание Чудотворцева за границей действительно политической эмиграцией. (И после двадцатого съезда Чудотворцев продолжал считать эту тему опасной.) Но, по-видимому, полиция не переставала негласно наблюдать за ним как за неразоблаченным, но весьма вероятным пособником, соучастником и единомышленником Раймунда Заблоцкого. Новая книга Чудотворцева, как бы приуроченная к революции 1905 года, к тому же вышедшая за границей, должна была еще больше насторожить власти; она так и называлась «Власть не от Бога».
Название это в разгаре событий было подхвачено самыми крайними революционерами, мелькая и в большевистских изданиях. Не припомню другого случая, когда название книги по религиозной философии превращалось в революционный лозунг. Говорят, после Кровавого воскресенья на улицах появлялись черно-красные полотнища с надписью «Власть не от Бога», а в листовках этот лозунг попадался еще чаще. Нечего и говорить, что лозунг повторяли, главным образом, те, кто не прочитал в книге ничего, кроме ее названия. Между тем книга Чудотворцева отнюдь не претендовала на популярность. Она была такой же сложной, как другие его философские труды, и по меньшей мере такой же обстоятельной. Более того, книга нисколько не противоречила традициям православного богословствования, отчетливо вписываясь в них.
Чудотворцев, как ему свойственно, тщательно истолковывает известное высказывание апостола Павла: «Несть бо власть аще не от Бога» (Рим., 13:1) и приходит к выводу, что это высказывание не так однозначно, как принято считать. Апостол действительно призывает повиноваться властям, но называет при этом лишь высшие власти, так что вполне допустимо предположить что речь вообще идет лишь об ангельском чине Властей, откуда не следует, впрочем, что правы еретики-каиниты, произносившие: «О Власть, имярек, творю действие твое». Именно на этой формуле основываются всевозможные государственнические теории, приписывающие божественное происхождение любой власти. Утверждать, что от Бога любая власть, все равно что сводить основополагающую формулу ислама «Нет Бога, кроме Бога» к словам «нет Бога», а тринадцатый псалом Давида недаром начинается стихом: «Рече безуменъ в сердцѣ своемъ: несть Богъ». Слово апостола Павла недаром обращено к римлянам, ибо именно в Риме, как в Китае, существовала традиция обожествлять власть в принципе, будь то республика или империя. С точки зрения языка и смысла куда более обоснованно другое толкование: нет власти, если власть не от Бога, тогда власть не власть, а какая власть может быть властью от Бога, кроме власти Самого Бога? Признание любой государственной власти властью от Бога Чудотворцев прямо уподобляет нарушению первой заповеди: «Не сотвори себе кумира» (Исх., 20:4), и государство – быть может, худший из кумиров. Чудотворцев ссылается на пророка Самуила, возвестившего Богу требование израильтян поставить над ними царя: «…не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними (Кн. Царств, 1:8–7). Не потому ли израильтяне утратили Землю обетованную, что предпочли человеческую власть власти Бога, проявляющейся через пророков, они же судьи Израилевы? Очевидно, что все бедствия Израиля вплоть до рассеяния связаны с кризисом власти, пусть даже царской. Но если падение богоизбранного народа объясняется грехами царской власти вплоть до вероотступничества, не следует ли отсюда, что грех признавать над собой какую бы то ни было власть, если это не власть Самого Бога, а приписывать власть Бога кому-нибудь, кроме Бога, – грех еще худший. (Эту мысль Чудотворцева по-своему развил один из идеологов анархизма: если власть не от Бога – не власть, а Бога нет, то никакая власть – не власть.)
Но как все ранние, если не все вообще философские работы Платона Демьяновича, „Власть не от Бога“ исходит из Платона и вращается вокруг него, отнюдь не будучи его апологией. Чудотворцев сопоставляет государство Платона с царством Ветхого Завета. В государстве Платона Платон Демьянович видит первую утопию, которая дразнит читателя своей соблазнительной осуществимостью (исторический пример Спарты), но сам-то Платон ясно видит неосуществимость своего идеала (что это за идеал, если он осуществим: осуществленный идеал перестает быть идеалом и, следовательно, никогда им не был). Но Платон в то же время настаивает на его осуществимости (что это за идеал, который не влияет на историю, для чего идеал должен оставаться идеалом, то есть Недосягаемым). Все революционные идеологии ориентированы на „Государство“ Платона, на возможность (невозможность!) улучшить историю идеей или идеалом, тогда как даже если разум историчен, что сомнительно, но допустимо, то история неразумна или сверхразумна, если историю как целое созерцает лишь Бог, обнажая ее смысл в Откровении Иоанна Богослова. Платон же вообще не мыслит исторически, выводя разум из вечности, а вернее, выводя вечность из разума, что вряд ли разумно. Так формируется идеология Платона, предвосхищающая любую другую идеологию, ибо любая идеология – попытка улучшить историю идеей, в чем не нуждается ни история, ни идея, деградирующая в результате до идеологии. „Идеология – мертвая буква, которую оставил живой дух Идеи“, – пишет Чудотворцев, но поистине эта мертвая буква хватает живых и уничтожает все живое. Поздний Чудотворцев скажет, что идеология – это идея, овладевшая сознанием масс и потому переставшая быть идеей. Чтобы руководить массами, нужно принадлежать к массам, а что это за философ, который к ним, то есть им принадлежит?
Чудотворцев рассматривает аналогию между государством Платона и древнеиндийским арийским кастовым государством (государством трех варн). Чудотворцев находит подобную аналогию неточной, даже если предположить, что государство Платона действительно восходит к древнеарийскому прообразу государства. Допустим, философы – это брахманы, воины – кшатрии, а все остальные – вайшьи и, может быть, шудры. Но основная прерогатива брахманов, их сущностная особенность – быть вне власти, над властью, выше власти. В этом смысле их можно уподобить, разумеется, лишь функционально ветхозаветным пророкам, хотя фактически они ближе к левитам, к толковникам синедриона, к первосвященникам и книжникам. Властителями брахманы быть не должны. Цари происходят из кшатриев, то есть из воинов. Отсюда трагическая мистерия Будды, царевича Сиддхартхи, кшатрия с головы до ног. А философ, осуществляющий власть в государстве, потому что он философ, неизбежно перестает быть философом и теряет право на власть, если у власти должен находиться философ. Такова скрытая ирония, которую мог бы уловить Сократ, но неизвестно, сознавал ли ее сам Платон, предоставив это новому Платону. После знаменитого доклада о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ Чудотворцев говорил, что долгожданный философ у власти – это и есть Жданов, что философ у власти, будь он хоть Платон, хоть Гегель, не может не стать Ждановым.
Чудотворцев обратил внимание на то, что в платоновском государстве философы властвуют, а не философствуют. В самом деле трудно представить их ведущими диалоги, подобные платоновским. Между философами-властителями должно царить абсолютное единомыслие, ибо они должны созерцать одни и те же вечные совершенные идеи, по возможности вселяя отсветы своего созерцания в несовершенные души своих подданных, воинов-стражей и трудящихся. Таким образом, властвовать и философствовать для этих философов одно и то же, но, разумеется, философствовать – значит властвовать, а если бы для них властвовать значило философствовать, они первым делом отказались бы от государственной власти, как это сделал Гераклит. Но философы-властители не могут не быть художниками, а именно ваятелями, использующими вместо мрамора человеческий материал, чтобы изваять совершенного человека, насколько это возможно. Вот почему обычным художникам, даже наиболее искусным, нет места в государстве философов. Они работают над бездушным, заведомо несовершенным материалом, подражают природе, которая есть лишь видимость или тень вечных идей, так что обычные художники в лучшем случае создают видимость видимости, множат заблуждения, которые и так обрекают смертного на смерть. Чем искуснее художник, тем вреднее и преступнее его деятельность. (Эту мысль впоследствии подхватят и разовьют Паскаль, Руссо, Лев Толстой.) Истинный художник – это философ, он же ваятель бессмертных душ, которые тоже по-своему телесны, но их телесность более совершенна. Из этой более совершенной телесности философы формируют совершеннейшие подобия бессмертных богов. Истинными совершенными людьми являются лишь боги. (Отсюда их человеческие слабости, о которых, впрочем, подобает умалчивать, чтобы не развращать людей, оправдывая те же слабости в них.) Люди отличаются от богов тем, что люди смертны. Вслед за Владимиром Соловьевым Чудотворцев напоминает: в слове „смертный“ для эллина слышится некий упрек. Не называют же смертными животных, которые тоже умирают. Смертность человека – это не просто ущербность, это вина, эллинский вариант первородного греха, некая неосуществленная возможность. Это трагическая вина, но, в отличие от поэта-трагика, искупающего эту вину, а на самом деле закрепляющего ее художественным и потому мнимым очищением (катарсис), философ намерен реально устранить эту вину, восполнить этот изъян. Вот почему трагики не просто изгоняются вместе с другими художниками, искореняется сама трагедия как способ культивировать вину человека и тем самым увековечивать ее вместо того, чтобы постепенно, но навеки изгладить ее. В каждом человеке таится бессмертная часть, по-своему телесная: совсем бестелесного для эллинов не существует. Эта часть велика в самих философах; она меньше, но все-таки наличествует в стражах-воинах, даже трудящиеся не лишены бессмертия. Властитель-философ резцом своей мысли выявляет эту бессмертную часть в человеке, отсекая все лишнее, порочное, смертное. Часто это нуждается в восполнении, бессмертные части в людях восполняются государством до целого. Государство и есть это целое, совершенная статуя собственной идеи, изваянная правителями-философами из живого тела граждан-подданных.
Аналогию со Спартой не следует заводить чересчур далеко. В Спарте тоже три сословия, но высшее сословие, спартиаты, – отнюдь не философы, а как раз воины. Гораздо существеннее полное отсутствие собственности и семьи в государстве Платона. И собственность, и семья – дань смертности, ее консервация, они радикально отсекаются. Уже в книге „Власть не от Бога“ Чудотворцев заговорил о мистическом коммунизме Платона и неоднократно напоминал о нем, когда коммунизм реально начали строить; Чудотворцев упорно ссылался на свою книгу „Власть не от Бога“, что звучало по меньшей мере двусмысленно: с одной стороны, коммунизм действительно не от Бога, потому что Бога нет, а с другой стороны, если коммунизм не от Бога, традиционное русское сознание невольно задавалось вопросом, не от лукавого ли такая власть.
В книге „Власть не от Бога“ одна из глав называлась „Изгнание поэтов“. Эта глава занимает в книге, пожалуй, центральное, во всяком случае особое место. Чудотворцев, насколько мне известно, первым обратил внимание на один существенный нюанс в учении Платона о государстве. Поэты изгоняются из платоновского государства вместе с другими свободными художниками, развращающими нравы, так как отвлекают от истины, то есть, от философии. Однако с поэтами связана еще одна опасность, нетерпимая в хорошем государстве. Платон об этой опасности не говорит, может быть потому что особенно остро ее чувствует. Поэзия неразрывно связана с царской властью. В „Орлеанской Деве“ Шиллера король недаром говорит:
Drum soli der Sanger mit dem König gehen, Sie beide wohnen auf der Menschheit Höhen.(Потому поэт должен идти вместе с царем; они оба витают на высотах человечества.) Вероятно, Платон первым угадал неразрывную связь поэзии и царской власти, но подозрения Платона заходят гораздо дальше: один из поэтов может оказаться царем, иными словами, среди поэтов таится царь, и слова Пушкина, обращенные к поэту, не являются простой риторической фигурой: „Ты царь: живи один“. Можно ли точнее обозначить единоличную царскую власть! Пушкин озвучивает и формулирует невысказанное, но тем более отчетливое подозрение Платона с откровенностью, которая подчеркивает и подтверждает его. Власть поэта и царская власть или чрезвычайно близки одна другой или вообще одно и то же. Чудотворцев цитирует Новалиса, также высказывающего взрывоопасное подозрение Платона:
И ты, поэт, как принц наследный, Взойдешь на королевский трон.Напомню, что в последней прижизненной работе Чудотворцева, посвященной двухсотлетию со дня рождения Новалиса (1972), Чудотворцев писал: „…Новалис утверждает, что все люди должны быть годны для трона, ибо каждый произошел из древнего королевского рода. Таким образом, при монархии каждый подданный добровольно отрекается от престола в пользу государя, веруя в его более высокое рожденье и подтверждая тем самым собственное благородство, на что подвигает лишь поэзия“. Допускаю, что не без влияния Чудотворцева написаны через четверть века известные строки Бориса Пастернака:
Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.Та же платоновская идея, что у Шиллера, у Новалиса и у Пушкина трансформируется у Пастернака в чувство опасности, которой поэт невольно грозит в дни великого совета, куда, по Платону, входили бы философы, даже если в последние или в предпоследние дни они не отличались образованностью и могли даже не знать, кто такой Платон, но Чудотворцев называл их все же не иначе как философами, когда они проявляли свою власть тем или иным непредсказуемым образом, борясь то с космополитизмом, то с абстрактной живописью, и в том и в другом случае не очень отчетливо представляя себе, о чем, собственно, идет речь в общепринятом смысле слова. Эти философы советского времени были так же несовместимы с присутствием поэта в обществе, как были несовместимы с ним философы несуществующего платоновского государства.
Чудотворцев обращается к Ветхому Завету, исследуя эту несовместимость. Бог, оскорбленный требованием израильтян поставить над ними царя, как у других народов, тем не менее велит пророку Самуилу: „Послушай гласа ихъ и постави имъ царя“ (Кн. Царств, 1:8, 22). Существенно, что царя над народом ставит пророк, но примечательна и судьба этого первого царя израильского. Первый царь Израиля Саул был одержим лукавым духом, а юный Давид исцелял одержимого царя игрой на гуслях (на псалтири) и пением. Так проявлялась в Давиде целительная сила искусства, хорошо знакомая и древним эллинам (катарсис). Но в ответ на целебное пение царь Саул метнул в Давида копье, чтобы пригвоздить его к стене, и Давид вынужден был бежать. Бегство Давида от Саула весьма напоминает изгнание поэта из философского платоновского государства. Чудотворцев даже ссылается на мнение эллинизированных иудейских книжников, разделяемое ранними христианскими авторами, согласно которым Платон мог и даже должен был знать Ветхий Завет, хотя при этом говорили о Пятикнижии Моисеевом, но почему бы не дойти до эллинского философа и преданиям о великом царе Израиля? Саул возненавидел Давида за то, что Бог был с ним, и такая ненависть имеет что-то общее с ненавистью пушкинского Сальери к Моцарту. Поэтический дар царя Давида не вызывает сомнений; он поет свои псалмы, играет на арфе, он пляшет перед ковчегом Завета (на экстатическую пляску Давида любил ссылаться Распутин). Давид весь артистичен, как сказал бы современный человек; перед искусством Давида не может устоять не только царь Саул; очевидно, пение и пляска Давида угодны Самому Богу, и противодействие Давидову искусству доводит царя Саула до самоубийства, и это едва ли не первое самоубийство в истории.
Итак, Давид – царь-поэт и потому прообраз истинного царя. В истории никогда не изглаживалось представление о том, что истинный царский или королевский род ведется от царя Давида, и представление это поддерживалось преимущественно поэтами. Государь никогда не царствовал без поэта, если не был поэтом сам. При этом прослеживается одна рискованная тонкость. Если династия не могла доказать своего происхождения от царя Давида, возникали сомнения в ее легитимности, а если происхождение династии от царя Давида подтверждалось хотя бы в предании, тем самым подтверждалось еврейское происхождение династии, что не могло не навлекать на нее подозрения, презрения и даже ненависти в эпоху ненависти к евреям. Отсюда постоянная опасность, грозившая отпрыску истинного царского рода, почему он и звался Пылающий Отпрыск или Горицвет. Убийство Царя Истинного или Пылающего Отпрыска периодически повторяется в истории сакральной династии. Возможно, поэтому Лоэнгрину, сыну Парсифаля, запрещается называть свое имя, имя своего отца и свой род, но когда сын или внук Лоэнгрина, вождь крестоносцев Готфрид Бульонский, въезжал в Иерусалим, отвоевав его у мусульман, толпы на улицах и площадях кричали: „Осанна Сыну Давидову“, и это не было лишь благочестивым иносказанием. Не только в музыкальных драмах Рихарда Вагнера (убийство Зигфрида), но и в теоретических писаниях композитора дают себя знать следы этой проблематики. Коренная родовая знать боролась против законного короля как против потомка пришельцев или даже как против скрытого иудея, что подразумевалось, даже если не высказывалось вслух, но когда заговорщики возводили на трон своего ставленника, ему бывало отказано в легитимности, и она не приобреталась его потомками, сколько бы их поколений ни сидело на троне. В этой генеалогической несообразности коренится арийский миф, оживающий среди германцев, но происхождение самого царя Давида загадочно, ибо он был белокур по свидетельству Книги Царств (1:17, 42) и у Девы Марии, также происходившей из рода Давидова, были по преданию волоса златовидные, и на Свою Матерь, а следовательно, на Своего царственного праотца Давида был похож Богочеловек и Царь Истинный Иисус Христос.
Подобно царю Давиду, Сын Давидов Иисус был поэтом. Многое, если не все из того, что Иисус говорил, было стихом. Чудотворцев цитирует Слово Иисуса, посвященное Иоанну Предтече:
Чесо изыдосте въ пустыню видьте; трость ли вѣтромъ колеблему; Но чесо изыдосте видѣти; человека ли въ мягки ризы облеченна; Се, иже мягкая носящш, въ домѣхъ царскихъ суть. Но чесо изыдосте видѣти; пр'рока ли; Ей, глаголю вамъ, и литтптте пр'рока. Сей бо есть, о немже есть писано: Се Азъ посылаю аггела Моего пред' лицемъ Твоимъ, Иже оуготовитъ путь Твой пред' Тобою.Это, несомненно, поэма, совершеннейший образец свободного стиха, как и этот стих из Нагорной Проповеди:
И о одежде что печетеся; Смотрите крiнъ сельныхъ, како растут: Не труждаются, ни прядутъ. Глаголю же вамъ, Iако ни Соломонъ во всей славѣ своей облечеся, Iако единъ от сихъ. Аще же сѣно сельное, днесь суще и оутрѣ въ пещь вметаемо, Бгь тако одѣваетъ, Не много ли паче васъ, маловѣри.Великолепен и мощен контраст поэтических образов: полевые лилии роскошнее одежд Соломоновых, но они лишь „сено сельное“ (какова звукопись!) в сравнении с облачениями праведников. Поистине Иисус учил „яко власть имѣя, и не яко книжницы и фарисеи“, и только эта власть от Бога, чего не простили Сыну Давидову книжники и фарисеи, платоновские философы на иудейский лад.
Ибо члены Синедриона функционально соответствуют не судьям Израилевым, а именно философам, властителям платоновского государства. В Иерусалиме они основали философскую республику, отнюдь не руководствуясь принципами Ветхого Завета, так как среди них было немало саддукеев, не верующих в воскресение мертвых и настолько эллинизированных, что Платон мог для них значить больше, чем пророк Исаия или даже Моисей. Среди первосвященников Храма и в Синедрионе главенствовали именно саддукеи. Эти интеллектуалы правили философской республикой, в которой римляне, сами того не ведая, приняли на себя функцию стражей-воинов, а представители трудящихся или праздношатающиеся, что подчас одно и то же, требовали освободить разбойника Варраву, который стал бы стражем, если бы римляне ушли, а в ответ на вопрос Пилата об Иисусе Христе толпа кричала: „Распни, распни Его!“ Крик этот был на руку философам-саддукеям и, возможно, был ими подсказан. Известно, что саддукеи питали особую ненависть к потомкам Давида и какие бы обвинения они ни выдвигали против Иисуса, главным обвинением против Него был торжествующий возглас все того же народа на тех же иерусалимских улицах: „Осанна Сыну Давидову!“ Все, что Христос говорил о воскресении мертвых, для саддукеев ничего не значило и казалось им лишь злонамеренной пропагандой, рассчитанной на невежественный легковерный народ, „иже не весть закона, прокляти суть“, по словам саддукеев. Члены Синедриона и первосвященники Храма предавали на смерть не пророка (пророка побили бы камнями); они составили заговор против законного Царя, распятие было, в сущности, цареубийством, совершенным руками стражей-римлян. При цареубийстве должна пролиться царская кровь, и она пролилась, но цареубийство, подсказанное и осуществленное вождями философской республики, лишь подтвердило, что Иисус – Царь Истинный.
Режим первосвященников, толковников и членов Синедриона Чудотворцев определяет как теократический, признавая при этом теократией и государство философов по Платону. Чудотворцев не вступает в прямую полемику с Владимиром Соловьевым, понимавшим теократию буквально как боговластие, то есть как власть Бога над человеческим обществом и в человеческом обществе. Но уже соловьевское определение теократии представляется Чудотворцеву проблематичным: „…покорность власти, признание авторитета и участие в совете Божием – вот три последовательные ступени истинной теократии…“ (Соловьев В. История и будущность теократии. – СПб., 1883–1887. С. 338). „Покорность какой власти и признание какого авторитета?“ – спрашивает Чудотворцев. Приводят ли такая покорность и такое признание к участию в совете Божием или, напротив, делают такое участие невозможным, ибо Христос говорит нечто прямо противоположное: „…поклонишися Господу Богу твоему и Тому Единому послужиши“ (Лука, 4:8). Из этих слов явствует, что от Бога только власть Самого Бога и покорность любой другой власти недостойна человека. Миром правит совсем другая власть, враждебная Богу, и с этой властью Христос не имеет ничего общего: „Грядетъ бо сего мipa князь, и во мнѣ не имать ничесоже“ (Иоанн, 14:30). А какой другой авторитет может быть, кроме Христа, запретившего апостолам зваться наставниками и учителями? (Матф., 23:8). Но именно учителями и наставниками, по-современному идеологами, называют себя те, кто присваивает себе власть в истории. Такие режимы учителей и наставников и выступают в истории как теократические. Это теократия, ложная в своей основе, но исторически реальная, тогда как „История и будущность теократии“ Владимира Соловьева остается лишь грандиозным утопическим проектом, подобным тому же „Государству“ Платона и социалистическим утопиям. По Чудотворцеву, власть Бога не проявляется ни в каком политическом режиме. Истинный смысл слов: „Нет власти не от Бога“ раскрывается словом Христа: „Царство мое несть от мира сего“ (Иоанн, 18:36). Христианство невозможно без неприятия мира с его властями, говорит Чудотворцев, и это дало повод приписать ему мистический анархизм.
Чудотворцев действительно относил к теократическим все формы государственности в истории за единственным исключением, поскольку человек по своей природе готов подчиниться лишь божественному и приписывает божественность всему, чему вынужден подчиняться, чем и пользуется государство, обожествляющее себя. Это свойственно едва ли не в большей степени так называемым светским государствам, даже государствам атеистическим, подменяющим богов „свободой, равенством, братством“, а Бога исторической необходимостью. Для таких государств истинная свобода человека, его самоопределение, – действительно анархия, но человек, образ и подобие Бога, не может в принципе отказаться от свободы, не перестав быть самим собой, и потому в любом государстве инстинктивно видит „власть не от Бога“. В то же время свободы не может быть без Бога, ибо тогда человек был бы весь во власти бесчеловечного, таящегося в нем. Образ Божий не может не признавать своего прообраза, знаменуемого для человека лишь человеком. Теократии противостоит антропократия, которую Чудотворцев понимает не в духе рационалистического гуманизма, не как власть лучшего человека над другими людьми, а как присутствие Бога в человеке. Этому-то присутствию и покоряется человек. Это и есть истинная власть от Бога. Подданный подтверждает, что он образ Божий, признавая над собой образ Божий помазанника, монарха, избранного Богом. Таким образом, подданный, по Новалису, отрекается от престола, на который сам имеет право, иначе он не был бы подданным. Монарх не избирается большинством голосов, так как в большинстве обнаруживается бесчеловечное. Монархия в истории представлена династией, а избрание династии таинственно, у ее истоков так или иначе Сам Бог, Чье присутствие в человеческой крови сказывается в монаршей крови особенным образом. Отсюда преступное любопытство человека к монаршей крови, заставляющее проливать ее время от времени. Кровь монарха проливают, желая испытать ее истинность. Цареубийство – одновременно исток и кульминация всех революций. Но как только кровь монарха пролита, сразу же усиливается тоска по монархии, и выдвигаются разные претенденты, чья кровь подвергается такому же испытанию пролитием, что в значительной степени и составляет историю: истинность монаршей крови подтверждается, когда уже поздно, когда кровь пролита, и в конце времен, когда Давидов род будет невозможно с точностью проследить после всех цареубийств и самозванств, явится последний царь по чину Мелхиседекову, не нуждающийся в генеалогии, чтобы подтвердить истинность своей крови.
Учение Чудотворцева о монархии иронически назвали анархомонархизмом, что по-своему точно обозначает его суть.
Чудотворцев вскрыл монархическую подоплеку всех революций: разуверение в истинности царя и всей династии, цареубийство и сразу же чаянье нового истинного царя, судорожные поиски, выражающиеся в терроре и в диктатуре как в зловещей пародии на царство (пережив двадцатый век, добавим к этому, что культ вождя или фюрера относятся сюда же) и обретение истинного царя, возможное лишь в конце времен, хотя истинный, сокровенный царь таится среди народа всегда и неспособностью его найти усугубляется первородный грех человека, покорившегося власти философа Змия, чтобы стать „как боги“ (опять же философская идея), тогда как первые люди уже и так были богами, ибо образ и подобие Бога не может не быть богом, что подтверждает и Сам Бог: „Азъ рехъ: бози есте“ (Пс., 81:6). Таким образом, по Чудотворцеву, любая революция имеет монархический характер, и если бы не чаянье монархии, против которой революция вроде бы направлена, революций не было бы. Отсюда постоянный, я бы сказал, самоубийственный интерес Чудотворцева к большевизму и даже признание собственной близости к нему, с чем большевики до конца так и не согласились. Особое место среди революционных режимов Чудотворцев отводил США. В американской революции Чудотворцев усматривал резкое разочарование в английской монархии, свойственное самой Англии после того, как война Алой и Белой розы уничтожила истинных наследников монархии. Но Америка лишила себя монархической перспективы, увековечив своей пуританской конституцией теократию по Кальвину где вместо Бога и царя царит предестинация, то есть предопределение, столь абсолютное, что оно не нуждается в Боге, ибо Бог – личность и потому непредсказуем. Безусловное предопределение упраздняет историю. Лишив себя монархии не только в настоящем, но и в будущем, Америка лишила себя истории. Отсюда гнетущая атмосфера Америки, отсюда ее натужный оптимизм, за которым скрывается беспросветная скука и отчаянье. Так в начале века Чудотворцев предсказал „конец истории“, в конце века провозглашенный в Америке, чтобы распространить американскую безысходность на весь мир.
И в русской революции 1905 года Чудотворцев обнаружил разуверение в династии Романовых – идея, подробно обоснованная Аристархом Ивановичем Фавстовым в его книге „Империя Рюриковичей“, где легитимность Романовых была открыто поставлена под сомнение. А в 1906 году произошло нечто странное. По улицам русских городов смутьяны проходили под лозунгом „Власть не от Бога“, за этот лозунг арестовывали, а Чудотворцев, автор книги под этим названием, вышедшей за границей, взял да и вернулся в Россию. Как я полагаю, Чудотворцев бежал в Россию от чар мадам Литли, перед которой все еще боялся не устоять. Опасения оборачивались тоской по Афродите Пандемос, по законной супруге Гордеевне, чьи объятия сулили философу теплое и надежное пристанище, но, думаю, главное, что влекло Чудотворцева, была все-таки „Красная Горка“, театр, где брезжили синие очи Софии. Но, по-видимомуг стихия революции также влекла Чудотворцева, и подобное влечение не покидало его всю жизнь. Не обращался ли в 1906 году Чудотворцев вместе с Блоком к „Деве-Революции“:
О дева, иду за тобой — И страшно ль идти за тобой Влюбленному в душу свою, Влюбленному в тело свое?При этом Чудотворцеву не сулила ничего хорошего встреча с русской полицией, у которой Чудотворцев оставался на подозрении со времени взрыва, положившего конец его дружбе с Раймундом (если то был конец). Можно сказать, что Чудотворцев по доброй воле вернулся под надзор полиции, и это вряд ли обрадовало Олимпиаду, навлекая на нее новые расходы при доходах, сократившихся от забастовок и поджогов. Вероятно, Олимпиада кое-как уладила дело Чудотворцева, и стоило это недешево, но в полиции Олимпиаду Гордеевну уважали и знали, за что. Давала Олимпиада, как полагается дальновидной купчихе, и „на революцию“, но полицию по старой памяти оплачивала все же щедрее, да и революционеры, благодетельствуемые ею, были не из тех, кто поджигает усадьбы и заводы, а приезд Платона Демьяновича скорее усугубил, чем отвел угрозу поджога от кожевенного завода и колбасной фабрики Гордеевны. Дело в том, что поджигатели потянулись к Платону Демьяновичу, прослышав, что это он написал „Власть не от Бога“. Олимпиада вся напряглась, когда верные люди сообщили ей, что на кожевенный завод по недосмотру приказчика нанялся не кто иной, как Спирька Мордвин, знаменитый поджигатель с Волги, и нанялся по протекции Платона Демьяновича, как выяснилось, так что приказчик все равно не посмел бы ослушаться. Платон Демьянович только засмеялся, когда Олимпиада выразила ему свое недоумение и недовольство. Оказалось, что у Платона Демьяновича какие-то свои особые отношения со Спирькой, чья настоящая фамилия была Мельказин. С одной стороны, Спирька тяготел к большевикам, а с другой стороны, заправлял тайной мордовской сектой, почитающей Кузьку-бога (в 1908 году должно было исполниться ровно сто лет со времени его явления). Кузька-бог был то ли одержим богом Мельказо, то ли был его ипостасью или воплощением. Имя Верги-Мучки-Мельказо означало Дух Сына Громова. От этого Мельказо происходил и Спирька, что подтверждалось его фамилией. Спирька рассказал Чудотворцеву, что бог Мельказо мелькает в молнии и молнией изгоняет шайтана, поджигая дом, где шайтан поселился. Такой молнией божьей Спирька считал себя. В 1933 году Спиридон Мельказин, заведующий отделом пропаганды и агитации чуть ли не на республиканском уровне, собрался отмечать 125 лет Кузькина восстания, провозгласив Кузьку-бога стихийным революционером, но юбилейные торжества не состоялись: Спиридон Мельказин был разоблачен как анархист-мракобес и вскоре расстрелян. К ужасу Олимпиады Платон Демьянович распивал в своем кабинете чаи со Спирькой, коренастым и рыжеватым, как огонь, задерживающийся на пепелище после поджога, но так или иначе ни кожевенный завод, ни колбасная фабрика Гордеевны не были сожжены, о чем Платон Демьянович с усмешкой напомнил своей благоверной, когда Спирька рассчитался с завода и, по своему обыкновению, исчез.
Вообще же встреча с Олимпиадой не слишком обрадовала Платона Демьяновича. Сразу после родов Олимпиада начала полнеть, хотя и теперь ее дебелое тело, что называется, кровь с молоком, по-прежнему напоминало Афродиту Пандемос, пусть не в лучшем ее виде, но холодность Олимпиады к Платону Демьяновичу превратилась в тревожную настороженность. Она явно тяготилась его домогательствами и просто его присутствием. Кроме Павлуши, для нее ничего в мире больше не существовало. Олимпиада ревновала сына не только к отцу, но и к другим детям, которые могли у нее родиться. Эти еще не существующие дети самой возможностью своего рождения посягали на Павлушино благополучие, грозили обделить его. Поэтому Олимпиада всячески избегала новой беременности. Страх забеременеть превратился у нее в настоящую манию, и она едва скрывала желание как-нибудь отделаться от мужа, поскорее сплавить его куда-нибудь. Ссылаясь на грозящие неприятности, она посоветовала Платону Демьяновичу не мозолить глаза полиции, а навестить за Волгой мать Евстолию в ее скиту. Сама Олимпиада бывала там реже, чем хотелось бы (не пускали дела), но все же неоднократно возила внука к бабушке, так что дорога в скитскую глухомань была проторена, и Платону Демьяновичу ничего другого не оставалось, кроме как послушаться.
Евстольин скит (его теперь так и называли, хотя еще недавно он звался Агриппинин или по-местному Аграфенин) был затерян среди ветлужских лесов, где старообрядцы, бывало, прятались от полицейских преследований. Во время революции власти снова стали присматриваться к скитам, но до Евстольиных добраться было и полиции нелегко. Впрочем, как сказано, для Платона Демьяновича тропа была проторенная, и уже через несколько дней он предстал перед светлые очи своей матери по плоти. Не от земных ли поклонов мать Евстолия держалась прямо и не горбилась до самой кончины, а прожила она без малого девяносто лет. В пятьдесят с небольшим лет она была уже седа как лунь под своим монашеским куколем, вернее, как зимняя луна, заиндевевшая над ветлужскими дебрями, а ее зоркие серые глаза, когда-то казавшиеся по-восточному карими, тем ярче сверкали, отливая несвойственной им прежде синевой. Особых нежностей между матерью и сыном и прежде в заводе не было, а теперь перед Платоном сидела на скамье из грубо обструганных досок строгая молитвенница, суровая властительница скита. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, твердой рукою ока откинула наметку с глаз, чтобы лучше видеть сына. Она почти ни о чем не спрашивала, только пытливо всматривалась в него. Платон почувствовал, что она знает чуть ли не каждый его шаг и в России и за границей. Евстолия не стала говорить о книгах Платона, но он не сомневался в том, что она их читала. За привычной игуменьиной суровостью угадывалось все то же материнское колебание: таким ли она хотела вырастить сына, не лучше ли было стать ему уставщиком по древлему благочестию, как желал его учитель Парфений Гуслицкий, или преуспевающим купцом, достойным наследником Кинди Обруча за изъятием его злохудожеств? Неожиданно мать Евстолия упомянула Орлякина. „Как поживает monsieur Methode?“ – спросила она, величая его с изысканным французским произношением, которого так и не перенял у нее Платон Демьянович, свободно говоривший, впрочем, по-французски и по-немецки. И Платон Демьянович рассказал ей о ночном паломничестве в Пиренеи и о таинственной могиле, которую он принял было за отцовскую. Евстолия внимательно слушала его, опустив наметку себе на глаза.
– А кровь свою ты дал ей до этого или после этого? – вдруг спросила она его.
– До этого, матушка, – ответил он, не решившись сказать „мама“. – Я хотел узнать…
– Знаю, что ты хотел узнать, – прервала она его, и Платон Демьянович не понял, знает ли она, что он хотел узнать, или она знает то, что он хотел узнать.
– Знаю и то, что она хочет, – продолжала Евстолия. – Клади поклоны. Я скажу тебе, когда довольно будет.
Платон Демьянович отвесил, как он думал, поклонов сто, так что с непривычки заболела поясница. Боль показалась ему особенно острой, когда, он услышал слова матери Евстолии:
– Коли ты уж в наших местах оказался, сходи на озеро на Светлое. Там как раз на третью ночь от нынешнего дня будет, что бывает…
Благословлять сына на посещение озера Светлоярого Евстолия не стала, только напомнила ему, что находится он вблизи от невидимого града Китежа, если не в самом невидимом граде, где блазнят, правда, и еллинские прелести, которые сделал своей профессией тезка языческого философа, слывущего, впрочем, и предтечей православного богомудрия, так что мать Евстолия могла бы и благословить сына на хожение во град невидимый. Ко святым местам, как известно, не ездят, а ходят, но Евстолия предоставила сыну лошадей, чтобы он не опоздал к празднику и доехал, докуда можно.
Проезжая глухими лесами, а потом идя вслед за молчаливым проводником по зыбкой, колышущейся под ногами торфяной тропе, Платон Демьянович думал, как невероятно сочетаются в русском имени Иван Купала суровейший, непреклоннейший аскет Иоанн Предтеча (строгость его пустынничества ставили в пример Самому Иисусу Христу) и страстно веселый, необузданный бог оргий Дионис, вроде бы совершенная противоположность всякому аскетизму и в то же время бог страдающий, умирающий и воскресающий, тоже в своем роде предтеча Иисуса Христа. Предтекать, предтечь, течь и купать – разве не синонимы? А само имя Иван Купала – Иоанн (Божья благодать) и Купала, вроде бы Креститель (отсюда же купель), но этимологически Купала родствен Купидону происходит от слова „кипеть“, а не „купать“. Страсти Христовы, но бывают страсти по Дионису, и они тоже умерщвляют, испепеляют плоть; Дионис и родится из пепла Семелы, из ее бывшей плоти, испепеленной молнией. Мельказо – сын Грома, а старец Иоанн Громов… Озеро-то зовется Светлый Яр… И тут Чудотворцеву вспомнился Михаил Серафимович Ярилин-Предтеченский, единственный гласный руководитель театра „Красная Горка“. А ведь „Снегурочка“ идет в театре „Красная Горка“ как раз сегодня… Не ради ли этого спектакля Чудотворцев приехал из-за границы? Он мог бы сегодня увидеть ее, „красавицу с очами лазурными“, посмотреть, не Весна ли Красна та, берущая кровь на анализ, пусть хоть Снегурочка, но похожа ли она на нее или нет… А ему отвели глаза святыней, отвлекли, завлекли сюда, пусть во град невидимый, но Красная-то Горка там, а не здесь. Неужели мать Евстолия в сговоре… с Гордеевной? А София? Или она оставила его? Или он отошел от нее, сам не заметив как?
На этом месте Платон Демьянович всегда замолкал и молчал, пока я не задавал ему один и тот же вопрос:
– Но вы же видели, Платон Демьянович, Невидимый Град в озере?
И Чудотворцев отвечал мне с небольшими вариациями одно и то же:
– Но хоть вы-то знаете, дитя мое, что град Китеж не в озере, а на холмах прибрежных. По-видимому (что я говорю! По-видимому, хотя град-то невидимый), холмов этих тоже семь, как в первом и в Третьем Риме. Когда Иванова ночь кончается, на рассвете Невидимый Град отражается в Светлом озере, и некоторые его видят и слышат звон его колоколов.
– Вы видели, Платон Демьянович?
На этот вопрос Чудотворцев отвечал многозначительным молчанием, дескать, сам понимаешь.
– А колокола вы слышали? Звон колоколов?
– Был звон, был. И теперь звенит…
Но Чудотворцев не был бы Чудотворцевым, если бы не добавлял, усмехнувшись:
– А может быть, в ушах у меня до сих пор звенит.
Когда Платон Демьянович вернулся в скит и заговорил было с Евстолией о малолетнем Полюсе, игуменья пропустила его слова мимо ушей, удовлетворившись известием, что мальчик здоров. Как Олимпиада не хотела других детей, чтобы они не обездолили Павлушу, так Евстолия знать не хотела внука, ибо вся ее взыскательная жестокая любовь сосредоточилась на сыне. Но и она, сколько могла, удерживала Платона от возвращения домой, опасаясь то ли полиции, то ли Бог знает кого по имени София. Она напомнила Платону, что ему пора навестить родню между Кубанью и Тереком и что там его ждут. Евстолия, еще в бытность свою Натальей, ездила туда с Платоном лет восемь назад. Она получила известие, что отец ее Василий Евдокимович лежит при смерти без языка и не худо бы дочери проститься с отцом, показать ему внука, а тогда, может быть, он и простит ее, кто знает. Но когда Наталья приехала с Платоном на отцовский хутор, Василия Евдокимовича уже не было в живых, он был отпет и похоронен, а родня не обратила особого внимания на студента Платона; один из дядьев дал ему только несколько уроков верховой езды.
Эти уроки пригодились Платону Демьяновичу, когда ему навстречу выехал верхом двоюродный брат Натальи Питирим Троянов. Поджарый, статный, как сама Наталья, он являл еще больше горских черт в своем облике. Темно-русая борода, изрядно прихваченная сединой, была по-горски подстрижена. Питирим носил черкеску с газырями, папаху с малиновым верхом, был опоясан кинжалом в дорогой серебряной оправе и сидел в седле так, что знаток с первого взгляда мог предположить: такой всадник должен был в свое время взять немало призов за джигитовку. Платон Демьянович только что сошел с арбы, которую нанял, чтобы добраться до здешних мест. Вершины снежных гор, освещенные закатным солнцем, радужно розовели, казалось, неподалеку. Питирим вел за собой оседланного коня, и со снисходительной усмешкой смотрел, как Платон Демьянович рассчитывается с ногайцем-возницей. Тот почтительно приложил руку ко лбу и к сердцу, когда Питирим взмахом руки отпустил его. Платон с недоумением посмотрел на дядю. „А как же я…“ – заикнулся было Платон. „А вот, – указал ему Питирим на оседланного коня, – конек добрый! Довезет в аккурат“. Питирим подождал, пока арба исчезнет за поворотом, потом положил Платону руки на плечи и негромко произнес:
– Светбог!
– Святбог! – ответил Платон, вспомнив, чему его учили вместе с верховой ездой.
– Сватбог, – заключил Питирим и только после этого обнял племянника и приторочил его дорожный чемодан к своему седлу. Платон Демьянович с опаской сел в седло, дядя бережно держал ему стремя. Путь оказался неблизкий, да еще в темноте, наступившей по-южному быстро. Несколько раз Платон вцеплялся руками коню в гриву, чтобы не вывалиться из седла. Настоящий казачий конь сбросил бы такого всадника, но этот оказался покладистым, специально объезженный, чтобы возить гостей. Когда приехали на хутор Питирима, сразу же сели за ужин. Хозяйка, бабука Маланья, сидела рядом с Питиримом. На стол собирали невестки. Красавица казачка поставила перед Платоном вареники с творогом и кулагу с вишней. Ели молча, пили чай с медом. После ужина сам Питирим указал гостю его комнату „Вот тебе кунацкая, – сказал он, – почивай, а завтра потолкуем“. И Чудотворцев непривычно скоро заснул под мелодичное завывание шакалов.
Когда Платон Демьянович проснулся на другой день, в доме никого не было. Питирим ушел со всеми на дальние луга косить. Одна из невесток поставила перед Платоном глиняную миску полную кислого молока, и положила перед ним тонко раскатанный хлеб, похожий на горский чурек. В красном углу перед образом Богородицы старинного письма горела лампадка. К обеду никто не вернулся, и Платон Демьянович похлебал щей в одиночестве. Зато к вечеру со всех сторон потянулся народ. Платон Демьянович не знал ни в лицо, ни по имени свою многочисленную казачью родню, чем некоторые были явно задеты, хотя и скрывали свою досаду. Платона Демьяновича расспрашивали о жене, о сыне, пеняли, зачем не привез его (Полюсу так и не довелось побывать в тех местах), вполголоса осведомлялись о матушке Евстолии; у нее в скиту кое-кто из старших бывал. Среди гостей Платон Демьянович заметил горцев. Питирим говорил с ними на их языке. Закололи барана, и начался пир, продолжавшийся до поздней ночи. Вина не было выпито ни капли, хотя вино в доме водилось: на другой день (на третий после Платонова приезда), когда Питирим приступил наконец к беседе с гостем, в его покое на столе стоял глиняный кувшин вина, напоминающий греческую амфору. Редом с кувшином лежала книга „Власть не от Бога“.
Осенив стол крестным знамением, Питирим снова произнес: „Светбог“, подождал, пока племянник ответит: „Святбог“, и заключил: „Сватбог“. Потом он заговорил о книге Чудотворцева, которую прочитал внимательнейшим образом. В целом Питирим одобрил книгу, посетовал только, что царская родословная дана там не полностью. Царь Ампир даже не упомянут. Чудотворцев не сразу понял, о ком идет речь. Оказалось, что Ампир – Приам (точная анаграмма этого имени). Троянские цари, согласно Питириму, происходят из страны Медведии. Чудотворцев подумал, что речь идет о Руси, и Питирим не отрицал этого, но его Русь простиралась гораздо дальше, чем принято считать. Оказалось, что Медведия – это Аркадия, и царь Давид ведет свой род оттуда. Там был царь Енох, а в Троицыном Царстве царь Ампир, то ли дед, то ли прадед царя Давида. Тут Чудотворцев вспомнил, что Ампир (empire) по-французски означает „царство“. „А как же иначе“, – удовлетворенно кивнул Питирим. Троицыным царством Питирим называл Трою: „Оттуда и тропа Троянова, оттуда Трояновы, мы с тобой“. Чудотворцев понял, что царем Енохом Питирим называет Энея. „Енох ведь не умер, – проронил он. – Они там (он указал в сторону гор) зовут его Идрис“. Трою основала светлая Троица: Светбог, Святбог, Сватбог. Темная троица, Блудбог, Блядбог и Бледбог, наслала на Трою свои полчища. Человек тоже троичен: Блудбог овладевает духом, Блядбог – душой, а Бледбог – телом. Рать Светбога красная, рать Бледбога белая. Троянская царица Елена, но есть и Лже-Елена: Лилька-кровопийца. При этих словах Платон Демьянович должен был вздрогнуть, а Питирим не мог не заметить этого, но продолжал как не в чем ни бывало: „Илион – Ильин град. Там царит Троян. Супротив него Ятрон, истребляющий царей. Белый царь падет, но грядет красный царь…“ Питирим вдруг замолчал, открыл дверцу старинного поставца, достал оттуда книгу в кожаном переплете и пергаментный свиток. „Сверь-ка, племяш, что писано здесь, а что писано там“, – сказал Питирим. Книга в кожаном переплете оказалась написанным по-славянски родословием, в начале которого был поименован царь Ампир. Свиток же был написан по-гречески, но греческому языку предшествовали письмена, которых Чудотворцев не мог разобрать. Они походили на древнееврейские, но отличались от них. Списывать Питирим не позволил; впоследствии Чудотворцев предположил, что начинался свиток по-сирийски и в начале свитка стоял Енох. „Значит, начала и ты не можешь прочитать“, – усмехнулся Питирим то ли с удовлетворением, то ли с огорчением, убрав книгу и свиток на место. Только потом Чудотворцев спохватился, что не догадался заглянуть в конец обоих родословий, но больше он их не видел, так и не узнав, куда девались книга и свиток после смерти Питирима.
Разумеется, Питирим беседовал с Платоном неоднократно, и, наверное, не все подробности этих бесед Чудотворцев сообщил мне. Наступил Ильин день, и к вечеру Питирим пригласил племянника следовать за собой. Они углубились в горы, и в сумерках поднялись по крутой тропе. Чудотворцеву то и дело приходилось хвататься за колючий кустарник, чтобы не загреметь в тихие долины, полные свежей мглой. На вершине гора перестала казаться высокой. Там собрались люди. Чудотворцев узнал кое-кого из своей родни. Среди казаков стояли горцы, которых он привык видеть вокруг Питирима. Питирим подвел племянника к обуглившемуся дереву Должно быть, в него ударила когда-нибудь молния. Слышалось громкое журчание. Из-под корней дерева бил ключ, срывающийся небольшим, но упругим потоком с каменистого склона. Поддеревом были сложены грубые каменные глыбы, на которых лежали вязанки хвороста. Рядом был привязан баран, запутавшийся рогами в колючем кустарнике. Мальчик держал барана за привязь, хотя в этом не было нужды. То был младший внук Питирима, племянник Платона Аверьяшка. Он только что родился, когда Платон приезжал в первый раз. Платону рассказывали, что Аверьяшка долгое время не выговаривал своего имени, называя себя Авель-Ян. Рядом с ним стоял его старший брат, пятнадцатилетний Кондратий. Питирим твердым шагом подошел к Аверьяну. Он остановился под сожженным деревом. Платон видел, как шевелятся его губы. Вдруг Питирим выхватил кинжал, и мальчик зажмурился под лезвием, засверкавшим в последнем луче заходящего солнца. Платон Демьянович уверял меня, что не сомневался в это мгновение: на Питирима накатило и он заколет мальчика. Но он заколол барана.
Барана тут же освежевали. Чудотворцев думал, что его будут жарить, но тушу обложили хворостом, а хворост подожгли. Баран сгорел целиком, и тогда раскаленные камни жертвенника облепили тонко раскатанными пластами теста. Когда хлебы испеклись, Питирим начал переламывать их, протягивая каждому по куску. Горячий хлеб запивали ключевой водой из одного и того же ковша. Когда каждый получил по куску хлеба, испеченного на камнях, где только что сожгли барана, Питирим простер обе руки к востоку и произнес:
– Светбог!
– Святбог! – откликнулись все присутствующие хором, подчеркивающим гортанные голоса горцев.
– Сватбог! – торжественно воскликнул Питирим, и на востоке без грома сверкнули одна за другой три молнии: красная, голубоватая и зеленая. „Хызр“, – выдохнули горцы при виде зеленой молнии. „Илья“, – сурово подтвердили казаки. „Идрис“, – отчеканил седобородый горец, и Платон увидел, что его голова повязана зеленым тюрбаном. „Хызр – человек-ангел, дарующий бессмертие живой водой. Ангел в зеленом или сам зеленый, – сказал Питирим, когда они спускались с горы, хотя Чудотворцев ни о чем не спрашивал его. – Идрисом они называют Еноха, а Илья он Илья и есть. С Христом на горе являлся“. Наверное, Чудотворцев вспомнил барана, заколотого под сожженным деревом, когда в кабинете Михаила Верина Кондратий сказал ему, что своими руками убил Аверьяна, оказавшегося белым, а дед Питирим, узнав об этом, умер на другой день. Все трояне, последователи Питирима, поддержали большевиков, и все были расстреляны большевиками.
Вернувшись осенью 1906 года в Москву, вернее, в Быково, Платон Демьянович вдруг болезненно почувствовал, как он одинок в своей благополучной семье, среди своих подозрительно настроенных коллег, да и среди своих читателей, не столь уж малочисленных. „Власть не от Бога“ принесла ему некоторую известность, более широкую, чем он рассчитывал, но не такую, какую он предпочел бы. Естественнее всего он чувствовал себя все-таки среди „взыскующих Града“, как называл он своих читателей из народа, какие бы фантастические или фанатичные толкования его книги они на него ни обрушивали. Обозначение „взыскующие Града“ было вполне обоснованно, так как едва ли не каждый из них начинал и заканчивал разговор словами апостола Павла: „Града, зде пребывающего, не имамъ, грядущего града взыскуемъ“ (Евр., 13:14). Платон Демьянович говорил, что это и есть настоящая формула русской революции, ее идеология вкратце. Что же касается читателей более подготовленных, будь то земский, чеховский интеллигент, эстетствующий декадент или университетский профессор умеренно либерального толка, все они сторонились Чудотворцева, остерегались его, будучи не в состоянии уследить за изгибами его ищущей, парадоксальной мысли. Для всех, включая революционеров, Чудотворцев был чересчур революционен и при этом чересчур православен. Такое сочетание представлялось столь невероятным, что Чудотворцева в печати предпочитали не упоминать. Скрытая неприязнь к Чудотворцеву царила и в церковных кругах, где ходили слухи о его принадлежности если не к масонству, то к Спасову согласию, но от нападок на него воздерживались, ибо эти мистические завихрения (так называли в доверительных разговорах идеи Чудотворцева) были канонически так строго обоснованы, что возразить на них никто не решался, чтобы невольно не разоблачить собственного невежества. Тридцатилетие Платона Демьяновича прошло не то что незамеченным, о нем не вспомнила сама Олимпиада, и не с того ли дня Чудотворцев избегал отмечать свои дни рождения?
Он избегал их, как Олимпиада избегала своего законного супруга. Прежде всего, она старалась оградить от отцовского влияния Павлушу, уже начавшего учиться музыке и обнаружившего недюжинные способности. Конечно, о вокальных данных было еще рано говорить, но от отца мальчик унаследовал музыкальную память и не от деда ли Демьяна музыкальный слух, о чем Олимпиада пока боялась говорить, чтобы не сглазить, но уже видела или даже слышала в сыне материнским внутренним слухом настоящего великого певца, каким должен был стать и не стал его дед. То была эпоха шаляпинских триумфов, но чем больше Олимпиада восхищалась Шаляпиным, тем упорнее верила в своего Павлушу которому предстояло добиться того же и в свое время Шаляпина превзойти. Олимпиада по возможности не пропускала ни одного шаляпинского концерта, очень рано начала брать на эти концерты Павлушу и даже наняла в Москве небольшую (из трех комнат) квартиру, чтобы сразу после концерта можно было уложить Павлушу спать, хотя, взволнованный пением, он все равно не засыпал до поздней ночи. Поистине Олимпиада слагала в сердце своем некоторые приметы. Так, она была поражена тем, что любимой мелодией Павлуши стал романс Демона „На воздушном океане“ и сразу же после концерта мальчик принялся напевать его. Голос Демьяна не сохранился в записи, но легенда о его Демоне не была забыта. Олимпиада с детства слышала и от Натальи, и от Мефодия, как Демьян пел Демона.
Иногда на концертах Шаляпина вместе с женой и сыном появлялся Платон Демьянович, но Олимпиада предпочитала, чтобы это происходило как можно реже, во-первых, потому, что после концерта общение отца и сына очень трудно было ограничить, и Олимпиада замечала, с каким интересом Павлуша прислушивается к рискованным отцовским высказываниям, а во-вторых, „в маленькой квартирке“ ей самой труднее было уклоняться от близости с законным супругом, чем в отеческих хоромах, где ей легче было уединиться, ссылаясь на нездоровье, на посты или просто на усталость после напряженного рабочего дня (она действительно вынуждена была заниматься „делом“ то далеко заполночь, то с раннего утра, просматривая счета или читая коммерческую переписку, и на супружеские объятия у нее не оставалось времени по вполне законным, уважительным причинам). Платон Демьянович думал сначала, что за Липочкиной холодностью скрывается ревнивая обида на любовные интриги, случавшиеся в его жизни чаще, чем ей хотелось бы, но вскоре он убедился, с каким безразличием она к этим интригам относится вплоть до того, что она даже склонна эти интриги поощрять, приглашая в дом в качестве прислуги непритязательных красоток, способных, по ее мнению, вызвать интерес Платона Демьяновича. В подобной снисходительности к мужниным слабостям можно было усмотреть и своего рода патриархальную супружескую любовь, если бы Олимпиада была, скажем, старше своего мужа и не привлекала бы его, но дело обстояло, в общем, не так или не совсем так. Наверное, только после смерти Олимпиады Платон Демьянович постепенно догадался, что едва ли не больше, чем новой беременности, Олимпиада боялась отцовского влияния на сына, так как весь ее жизненный интерес сосредоточивался на другом, вернее, все на том же Полюсе. Она не то чтобы физически боялась новых родов и всего того, что им предшествует, она боялась, как бы Павлушу не обидели. Но в Олимпиадиной отчужденности трепетала и совсем особенная жилка, которой Платон Демьянович не мог не чувствовать, но тем более не решался определить. Быть может, не смея признаться в этом себе самой, Олимпиада давно уже заподозрила, что заняла в его жизни не свое место, что он принадлежит на самом деле той, кого он всю жизнь ищет, а может быть, и нашел (откуда ей было знать?). Кротко снося раздражение Платона Демьяновича, она уклонялась от близости с ним, как только могла, а он видел в ее отчужденности лишь продолжение той враждебной изоляции, которой подвергала его отечественная интеллигенция, и все чаще с его уст срывалось язвительное „Гордеевна“, отчего Липочка болезненно сжималась, как будто ее хлестнули кнутом.
Опасения Олимпиады подтверждались изысканиями, которым Платон Демьянович предавался в это время. Олимпиада вообще следила за трудами своего супруга пристальнее, чем он думал. Она, во всяком случае, читала все, что он писал, как бы ни были сложны его философские сочинения, но и замыслы Платона Демьяновича не ускользали от ее тревожного внимания, хотя она сплошь и рядом интерпретировала эти замыслы по-своему Допускаю, что Платон Демьянович мог ей казаться чернокнижником, но за святого она его тоже принимала. Она знала, что он ищет, и в этих исканиях совершенно верно угадывала нечто личное. В те годы Платон Демьянович погружается в изучение Священного Писания, вникает в необозримую традицию, ветвящуюся вокруг Ветхого Завета. Для этого Чудотворцев давно уже изучал древнееврейский язык. Несколько лет с перерывами он посещал занятия по древнееврейскому языку в Духовной академии и для углубленного изучения источников сблизился со старшим из братьев Варлих Гавриилом Львовичем, писавшим по псевдонимом Правдин.
На сближение и даже на дружбу с Гавриилом Правдиным Чудотворцева подвигла не только библеистика. По-видимому, Чудотворцев страдал в это время от одиночества болезненнее, чем признавался даже впоследствии мне. „Вехи“ не упомянули Чудотворцева, как и другие респектабельные философские издания, но многое, если не все в этом сборнике было направлено против чудотворцевской „Власти не от Бога“. Прямо на свой счет Чудотворцев относил, например, следующий пассаж: „Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной“. Не решусь утверждать, что Чудотворцев мечтал о слиянии с народом (сам он, вероятно, сказал бы, что ему и сливаться не надо было бы, что можно было понимать двояко: не надо сливаться, потому что он и без того к народу принадлежит, но если бы и не принадлежал, то не стал бы сливаться), но вот благословлять эту власть он категорически отказывался, что вызвало интерес к Чудотворцеву и даже что-то вроде приязни у красного Михаила Верина, но в конце концов Чудотворцев предпочел все-таки Гавриила Правдина, быть может, потому, что Верин так и революционерствовал за границей, а Гавриил Львович туда только эпизодически выезжал в поисках нужных ему редких материалов, предпочитая обитать в России.
Это не могло не импонировать отцу братьев Верин-Правдин известному банкиру Льву Елизаровичу Варлиху. Лев Елизарович (Лейб бен Элиезер) был по-своему личностью колоритной. Владелец весьма солидного банка, распространившего свои операции не только на Восточную, но и на Западную Европу, начинавшего уже осваивать американские пространства, Лев Елизарович был, прежде всего, религиозный иудей, что не мешало ему быть русским патриотом, причем самого что ни на есть консервативного, монархического толка. Ему только православия не хватало, чтобы полностью сомкнуться с крайне правыми, примкнуть к Союзу русского народа или даже к Союзу Михаила Архангела (кстати и сын у него звался Михаил). Говорят, на коронации Николая II Лев Елизарович преподнес государю в дар от еврейской общины свиток Торы, и государь будто бы поцеловал этот свиток, чем приобрел пламенного приверженца в лице банкира Варлиха. Лев Елизарович был непоколебимо, непререкаемо убежден, что кондовое, религиозное еврейство, преданное древнему закону, может сохраниться лишь в православной, самодержавной России, а не на растленном, либеральном Западе, ассимилирующем еврея, что не сулит еврею ничего хорошего. Кажется, Лев Елизарович отчасти предвидел истребление евреев немецкими национал-социалистами, тем более что по Европе он ездил много и по-немецки (а не только на языке идиш) говорил и писал свободно, так как в детстве посещал не только хедер, но и немецкую гимназию. Лев Елизарович твердо верил, что еврейство может дождаться Мессии только в России (самую рифму „Мессия-Россия“ он считал провиденциальной). Лев Елизарович был закоренелым, непримиримым противником сионизма, поскольку еврейское государство в Палестине невозможно до пришествия Мессии, ибо такова воля Божья, чему Лев Елизарович находил недвусмысленные подтверждения у пророков. Даже в черте оседлости Лев Елизарович усматривал нечто благодетельное как в надежной ограде от растлевающего безбожия, и поездки набожных евреев в Иерусалим к Стене Плача он финансировал лишь при условии, что паломник подпишет обязательство вернуться в Россию, иначе деньги, затраченные на поездку, будут с него беспощадно взысканы.
Банк, возглавляемый Львом Елизаровичем, назывался „Варлих и сыновья“, и Лев Елизарович произносил это название иногда с гордостью, иногда с горькой иронией, но не отказывался от него, хотя сыновья-то как раз не имели к банку никакого отношения, а мужья дочерей, хотя и служили тестю верой-правдой, все-таки не были сыновьями, называвшимися в пику отцу Верин-Правдин. „Не называть же банк „Варлих и зятья““, – отшучивался Лев Елизарович, втайне гордившийся обоими сыновьями, и революционером, и философом. Собственно, сначала он прочил в банкиры Гавриила, старшего, но перенес свои надежды на Михаила, когда Гавриил обнаружил редкий вкус и способности к талмудической учености. Лев Елизарович вспомнил, что первенца надлежит посвящать Богу, и тешил себя мечтою о том, как его сын станет светочем иудаической премудрости; от этой мечты он не отказался и тогда, когда Гавриил поступил в Московский университет. Единоверцы Льва Елизаровича возмутились, когда стали появляться труды Гавриила с явно христианской, более того, с православной тенденцией, хотя Гавриил формально православия не принимал, а его выдающихся познаний в древнееврейской мудрости отрицать никто не мог. Когда Гавриил углубился в древние книги, Лев Елизарович вознамеривался передать руководство банком Михаилу, поощряя его интерес к экономике, но Михаил увлекся политикой, и уже в последних классах гимназии из него выработался революционер, наводящий ужас на солидную еврейскую буржуазию, не говоря уже о русской. Михаил был настолько красным, что даже иные социал-демократы сторонились его. Лев Елизарович также избегал общения с обоими своими сыновьями, втайне страдал от этого, втайне обоими сыновьями гордился и финансовой поддержки обоим сыновьям не прекращал, хотя и ограничил ее. Как ни настораживало партнеров и клиентов название банка „Варлих и сыновья“ (все слишком хорошо знали, кто эти сыновья: один едва ли не вероотступник, другой же отчаянный революционер), Лев Елизарович категорически отказывался изменить название банка, руководствуясь то ли суеверием, то ли подлинной верой: недаром он в свое время дал сыновьям имена первых ангелов Божьих, в них он продолжал видеть ангелов-хранителей.
Платон Демьянович с интересом читал труды Гавриила Правдина, и на занятиях в Духовной академии он слышал о нем как о величайшем знатоке древнееврейского. Платон Демьянович стал искать знакомства с Гавриилом Львовичем и достиг своего: Гавриил Правдин пригласил его в свою московскую квартиру. Платон Демьянович признавался, что ожидал увидеть сочетание некой местечковости с кричащей восточной роскошью в духе „Тысячи и одной ночи“ и был очень удивлен, оказавшись в скромной квартире, где не было ни персидских ковров, ни горного хрусталя, а из кухни пахло обыкновенными, хотя и хорошо сваренными русскими щами, которые гостю предстояло отведать. Платона Демьяновича встретила в гостиной невысокая, круглолицая, вполне русская женщина, назвавшаяся Ольгой Евграфовной. Ее льняные волосы, завязанные в незатейливый узел, резко контрастировали с пышной, черной азиатской бородой супруга… если то был супруг. Платону Демьяновичу предстояло узнать, что с этим вопросом сопряжены проблемы, придающие тревожное выражение ласковым глазам хозяйки. Ольга Евграфовна была дочь православного священника, и она не была обвенчана с Гавриилом Львовичем, так как он категорически отказывался креститься, да она и не смела его принуждать. Их две дочери, Анна и Елизавета, крещенные в православную веру, оставались незаконнорожденными. Гавриил Правдин утешал свою невенчанную жену непререкаемой верой в закон, который не может не восторжествовать и, следовательно, уже восторжествовал. Согласно этому закону, их брак был законным, а дочери законнейшими. В своих ранних работах Гавриил Правдин доказывал, что закон Моисеев, безусловно, совпадает с категорическим императивом Канта, и, следуя Закону человек поступает, как надлежит поступать во всех аналогичных случаях сообразно единственно разумному решению, в чем и заключается категорический императив. Благодаря этим трудам Гавриил Правдин приобрел известность и авторитет в неокантианских кругах, и значение его работ признавал, говорят, марбургский лидер неокантианцев Герман Коген. Свою диалектику Гавриил Правдин выводил не из Гегеля, а исключительно из Канта, предпочитая говорить об антиномиях, а не о противоречиях, и решительно отказываясь признавать противоречия в бытии, так как для Бога нет противоречий. Как известно, одна сторона антиномии (тезис) так же обоснована (и так же необоснована), как и другая (антитезис). Гавриил Правдин доказывал, что, поскольку тезис бессмыслен без антитезиса, антиномия, прежде всего, едина (что ошибочно истолковывается как единство противоположностей), и, следовательно, кто говорит: „Бога нет“, тот подразумевает, что Бог есть, иначе его утверждение бессмысленно, но и тот, кто говорит: „Бог есть“, подразумевает, что, с другой стороны, Бога нет, и, действительно, такого Бога, каким его представляет себе тварное сознание, быть не может. Этим Гавриил Правдин обосновывал диалектику Ветхого Завета, вершину которого он усматривал в Книге Иова. Утешители Иова в своих теодицеях, то есть в попытках оправдать Бога, терпят поражение, как и другие авторы теодицей, так как для них Бог – не существо, а отвлеченный принцип, Он или Оно, а оно в конечном счете ничто. Напротив, Иов прав перед Богом, так как для Иова Бог „Ты“, Собеседник, Личность, и обвинение, выдвигаемое против Бога, есть высшая форма богопочитания, так как Бог не может быть прав, если не может быть неправ, в особенности если Его правота непостижима, как непостижима уже вещь как таковая (Ding an sich). Иов же прямо призывает Бога к ответу, что и есть Вера: „Вот, я завел судебное дело; знаю, что буду прав… Удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне“ (Иов, 13:18–22). Отсюда Гавриил Правдин выводил древний запрет на произнесение имени Божьего. Бог для человека не „Он“ и не „Я“, а исключительно „Ты“. Когда человек произносит истинное имя Божие, он присваивает это имя себе, выдает себя за Бога: „Яхве, то есть Я Сущий“. Но тогда нарушается изначальное соотношение Бога и человека, как будто нет ни Бога, ни человека. В этом смысле Гавриил Правдин понимал слова Кириллова из „Бесов“ Достоевского: „Если нет Бога, то я Бог“. Такое самозванство есть, в сущности, самоубийство, что Кириллов самоубийством и доказывает. Особую остроту вопрос о Божьем „Ты“ приобретал, когда Гавриил Правдин переходил к диалектике Нового Завета. Отношение Гавриила к Христу и без крещения резко и непоправимо отсекало его от иудейских ортодоксов. На вопрос, кто есть Иисус Христос, Гавриил Правдин твердо отвечал: „Сын Божий“, но тут же повторял слова Христа: „Не написано ли в законе вашем: „Я сказал: вы боги““? При этом Гавриил Правдин обычно напоминал, что слова эти из псалма Давидова: „Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы!“ (81:6). Так что Христос лишь возвещает, что Богочеловеком является каждый человек, иначе он, по Кириллову, самоубийца-человекобог. (Гавриил Правдин даже написал отдельный труд „Метафизика Богочеловека“.) Диалектика Нового Завета заключалась для Правдина в том, что Бог един и боги все, „къ нимже Слово Божiе бысть“ (Иоанн, 10:35). Столь же упорно Гавриил Правдин напоминал, что Христос сказал в Нагорной проповеди: „Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить“ (Матф., 5:17). Гавриил Правдин ссылался на древнее толкование, согласно которому Моисей сам не знал всех законов, данных ему. В то же время к своим иудейским и христианским противникам Гавриил Правдин также обращал слова Христа: „Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите – как поверите Моим словам?“ (Иоанн, 5:46–47). Как ни странно, не столько Ветхий, сколько Новый Завет вовлекал Гавриила Правдина в изучение каббалы, принцип которой он тоже прочитывал в словах Христа: „Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет“ (Лука, 16:17). Из черт слагаются буквы, а постижение их тайного, бытийного смысла и составляет суть каббалы. Как правоверный кантианец, Гавриил Правдин излагал свои изыскания в области каббалы в форме исторических исследований, маскируя эрудицией собственный духовный опыт, но он всерьез верил, что мир сотворен из 22 библейских букв, что антиномии – лишь частный случай в отношениях одной буквы к другой или в расхождениях между значениями букв и значениями слов, образующихся из этих букв, причем значения букв первичны. Гавриил Правдин мобилизовывал все свои обширные знания, чтобы доказать: произошла подмена понятий, и диалектика как была, так и осталась искусством рассуждать, а ученые стали называть диалектикой каббалу, чтобы тайное осталось тайным. Такое учение о диалектике буквально выводило марксиста Михаила Верина из себя, что и привело в конце концов к высылке Гавриила Правдина из красной Совдепии, но сама ярость Михаила Верина подтверждала правоту Гавриила Правдина, задевавшую его брата за живое, так как высказывалось то явное, что Михаил Верин предпочел бы оставить тайным.
Но при всех своих диалектических (они же каббалистические) интерпретациях бытия Гавриил Правдин не мог не сознавать разлада между своим кантианством Моисеева закона и магическими практиками каббалы. Гавриил Правдин пламенно доказывал с блеском в своих темно-карих глазах, напоминающим блеск отдаленных молний в средиземноморской ночи, что и в занятиях каббалой он остается непоколебимым приверженцем Закона, на котором основывается и сама каббала, но иногда, когда он случайно ловил тревожно-грустный взгляд своей невенчанной жены, и его глаза подергивались тенью, как будто грозовая туча со своими молниями угрожающе приближалась. Нетрудно было заметить, что он пытается успокоить Ольгу, заверяя, что русская революция есть торжество закона, не зависящего от условий места и времени, и если нужна революция, чтобы узаконить их супружеские отношения, а также их дочерей, то пусть будет революция. Гавриил Правдин называл первую русскую революцию Ильиной революцией, ссылаясь на слова Христа: „Правда, Илия должен придти прежде и устроить все“ (Марк, 9:12). Гавриил Правдин напоминал, что в самом Иисусе видели Илию, и сам Иисус сопоставлял или даже отождествлял Илию с Иоанном Крестителем: „Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них“ (Матф., 17:12). Илия, как и Енох, два бессмертных или неумерших человека, согласно Ветхому Завету, а согласно Новому Завету, Илия вместе с Моисеем присутствует на горе Фавор, когда Иисус преображается перед апостолами, и позволительно допустить, что Преображения без Илии не могло быть. Илия – предтеча, свидетель Божий и устроитель; вот почему, согласно русской традиции, ему сопутствуют громы и молнии, от которых загораются барские усадьбы. Когда Платон Демьянович рассказал Гавриилу Правдину о поджигателе Спиридоне Мельказине, тот переспросил: „Спиридон? А не Илья? Ну, если не Илья, то наверняка Ильич!“ Без Ильича, по Гавриилу Правдину, русская революция состояться не могла, поэтому в Ильиче Ленине он видел нечто от Ильи-пророка, в чье бессмертие народ поверил и даже засвидетельствовал его мавзолеем.
Но до настоящего мрака сгущались тени в глазах Гавриила Правдина, когда его мысль касалась разлада между Законом и Богом. Что такое Бог, если Закон – единственное, что человек знает о Боге, а знать больше запрещает – Закон? Зачем человеку Бог, если есть Закон, и не обходится ли без Бога тот, кто закон выполняет? Ведь Закон не говорит, что Бог и Закон одно; Закон скорее запрещает так думать. Что мешает утверждать: Закон есть, а Бога нет? Но тогда почему Закон есть Закон? А если Закон не есть Закон, что же тогда есть? Со временем Гавриил Правдин все откровеннее высказывал свою навязчивую идею: если есть Бог и есть Закон, и то и другое для человека непостижимо, и человек обречен жить по закону, которого человек не знает. В эмиграции эта мысль окончательно овладеет Гавриилом Правдиным. Подтверждение для нее он найдет у Кафки, доведшего, по мнению Правдина, Талмуд до его законного конца, до абсурда. В начале тридцатых годов в Париже выйдет последняя книга Гавриила Правдина „Голем и землемер. Между Мейринком и Кафкой“. Каббалу в книге олицетворяет Голем, человекоподобное изделие, действующее, но немыслящее, а землемер – олицетворение закона: он служащий замка, куда не имеет доступа, и потому не знает, что он меряет и по какой мерке. Так диалектика Гавриила Правдина завершилась философией абсурда, что и принесло ему мировую известность в эпоху, когда Гитлер был уже у власти, а для самого философа проектировалась газовая камера.
В ту пору, когда Чудотворцев брал у него уроки древнееврейского, Гавриил Правдин был занят странными изысканиями, традиционными для каббалы, но недопустимыми по закону: Гавриил Правдин пытался разгадать или вычислить тайное имя Бога, единственное, что о Боге могло быть известно вне Закона, ибо кто знает Имя, тот знает его Носителя. Вообще, имя Бога „Сущий“ известно, но Его произнесение запрещено Законом, как будто Бог не есть Сущий и Закон предписывает не веровать в Него. Но тайное имя не есть запретное для того, кто его узнает, а произносить его не следует лишь потому что, произнесенное некстати, оно перестанет быть тайным, то есть перестанет быть Именем. Гавриил Правдин ссылался на предание, согласно которому Иисус творил чудеса, узнав тайное имя Бога. По-видимому, в поиски тайного имени Божьего Гавриил Правдин вовлек и Чудотворцева.
Чудотворцев, по всей вероятности, читал исследование Гавриила Правдина, посвященное литургии. Исследование это осталось незаконченным и не опубликовано до сих пор, я знаю его исключительно со слов Платона Демьяновича. На обширном материале Гавриил Правдин доказывал, что христианская литургия является лишь модификацией богослужения, совершавшегося в Иерусалимском храме. В особенности это относится к православной литургии, наиболее традиционной, потому и называющей себя православной. Но, продолжал Гавриил Правдин, в древних книгах так мало говорится о богослужении в Храме, ибо смысл его был скрыт даже от тех, кто совершал его, пока не пришел Христос. Гавриил Правдин настаивал на том, что в Храме совершались два богослужения, одно для народа, другое для немногих избранных. По мнению Гавриила Правдина, Христос изгнал торгующих из Храма, чтобы литургию для избранных отслужить для всех, а тогда выявится, кто избран, а кто только зван. Этим Гавриил Правдин объяснял слова Христа: „Много званых, мало избранных“ (Матф., 20:16). Потому и ревнители тайного богослужения обвинили Иисуса в намерении разрушить Храм, где оно происходит. Главным в тайном богослужении был возглас „Премудрость!“, вошедший и в православную литургию вместе с призывом удалить оглашенных и затворить двери, превращая богослужение для всех в богослужение для верных, для избранных, для немногих. Словом „Премудрость!“ обозначалось присутствие Бога в бытии, присутствие, наделенное лицом, присутствие как существо женского пола, как невеста Божия, чей монолог написан (записан) царем Соломоном, построившим Храм: „Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони… Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь перед лицом Его во все время“ (Притчи, 8:22–30). И Гавриил Правдин делал вывод: от Бога Закон, от Премудрости Божией искусство, Песнь Песней или каббала.
Предпринимались недоброжелательные попытки преувеличить влияние Гавриила Правдина на Чудотворцева, но не исключено, что, наоборот, Чудотворцев повлиял на Правдина в его поисках Премудрости Божией, хотя, несомненно, доступ к древнееврейским источникам открыл Платону Демьяновичу Гавриил Правдин. В эти годы Чудотворцев пишет книгу, которая выходит в 1910 году Новая книга Платона Демьяновича называлась „Искание Софии“. Самое ее название показалось иным читателям двусмысленным и загадочным, на что, собственно говоря, трудно возразить. Действительно, вполне естествен вопрос, ищут Софию или София ищет. Книга Чудотворцева не дает ответа на этот вопрос, позволяя предположить: кто ищет Софию, того ищет она сама, даже если они не находят друг друга.
На первый взгляд книга Чудотворцева представляет собой монументальный свод гностических писаний, тщательно составленный и откомментированный. Нужно знать биографию Платона Демьяновича хотя бы настолько, насколько ее знаю я, чтобы уловить в переводах с древнегреческого, с древнееврейского и сирийского страстный до болезненности личный тон, но, уловив его, уже не отделяешься от него, и над головокружительными философскими полетами возникнет лирическая нота, без которой вся эта философия теряет смысл. От книги Чудотворцева, действительно, исходит тонкий интеллектуальный и, смею сказать, эротический соблазн. Боюсь, что чудотворцевским „Исканием Софии“ навеяна русская софиология, балансирующая на грани ереси, разоблаченная самим Чудотворцевым (правда, лишь после его предполагаемой смерти), но смутившая и прельстившая лучшие умы среди русских религиозных философов и гениальнейших русских поэтов Серебряного века. Основная мысль софиологии в том, что София Премудрость Божия не сотворена, нетварна, что она изначально сосуществует Богу и с Богом, то ли входя в Троицу как четвертое ее лицо, то ли даже предшествуя Троице. Ничего подобного, правда, в книге Чудотворцева мы не прочтем, но в книге сказано, что Премудрость Божия неотделима от Бога, так как Бог невозможен без своей Премудрости, а тогда Бог и Премудрость Божия образуют единство, которому подобна едина плоть мистического брака, и Премудрость Божия воистину предшествует рождению Сына Божьего прежде всех век, ибо Сын Божий, несомненно, родится от Бога и Его Премудрости. В этом духе Чудотворцев истолковывает празднование иконы Софии Премудрости Божией на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Она же София Премудрость Божия, и тайна сия велика есть.
Чудотворцев опровергает гностическую легенду о падшей Софии. София Премудрость Божия не могла и не может пасть, ибо она Премудрость Божия. И все же у нее появился некий двойник, схожий с нею до неотличимости, но тем более зловещий, так как неизвестно, насколько он ей чужд. Быть может, это превратная эманация Софии, издержка ее излучающего изобилия, светотень или отсвет ее, уловленный и плененный падшим ангелом (плененный в двух смыслах: захваченный в плен или прельстившийся печальной красотой падшего). Но так или иначе, эта мнимая София сопутствует бытию, оставаясь отсветом истинной мудрости. Гностическая легенда называет эту Софию Ахамот (древнееврейское имя истинной мудрости Хохма). Ахамот причастна к сотворению несовершенного мира. Это она породила демиурга, не знающего даже, кем он порожден. Отсюда все грехи и беды этого мира, само мнимое творение которого – грех и катастрофа. Ахамот, прельщенная Демоном, сама не есть безусловное зло. Она тоскует о воссоединении с Мудростью Истинной, но продолжает грешить, выдавая себя за нее, хотя воссоединение не может совершиться, пока Ахамот не покается в своем отпадении. Ахамот надеется воссоединиться с Богом через Божью кровь, которая в Богочеловеке, и в человеке, ибо человек – подобие Божие. Ахамот обладает свойством порождать все новых и новых, но всегда одних и тех же своих двойников, в каждом из которых она сама. Такой двойник ее Ил Тли, или Лилит, охочая до Крови Истинной и потому напавшая на Адама. Выстраивается череда двойников, дразнящая дурной бесконечностью: Ахамот – Лилит – царица Савская – Елена Троянская, сопутствовавшая Симону Волхву, когда тот выдавал себя за Христа, как та же Елена-Лилит выдавала мнимую Трою за истинную Троицу. Не среди ли этих двойников и Диотима, истинная или ложная, но так или иначе муза философа, ибо среди этих двойников является и София Истинная, оберегающая Кровь Истинную от охотниц за нею, но кто знает, не от Ахамот ли происходит Фило-София, не осмеливающаяся назвать себя Софией, предостерегающая от ложной Софии любовью или, напротив, прельщающая ею. Вот искание Софии: ищут Софию, и София ищет (какая из них?).
До сих пор не обнаружены все источники, которыми пользовался Чудотворцев, воссоздавая это предание. В библиографии они перечислены, но, по крайней мере, некоторые из них отсутствуют во всех книгохранилищах, где я (и не только я) пытался установить их наличие. Не только исследователи, но и кое-кто из последователей Чудотворцева опять-таки позволяют себе говорить о высокоинтеллектуальной мистификации, имеющей, впрочем, свой философский смысл (так в сугубо научную книгу А.Ф. Лосева „Музыка как предмет логики“ вошел музыкальный миф, якобы переведенный автором „из одного малоизвестного немецкого писателя“), но у меня нет оснований видеть в „Искании Софии“ мистификацию, и я скорее склонен прочитывать в комментарии Платона Демьяновича лирическую поэму, написанную гениальным современником русских символистов, поэму, где слышится неподдельная „тоска по милой“, по возлюбленной, при всей философичности звучащая своей особой музыкой, так что вспоминаются слова известного музыканта: „…математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа… этими двумя антиподами ограничивается и определяется вся творческая духовная деятельность человека“.
Работая над „Исканием Софии“, Чудотворцев не пропускает ни одного спектакля в театре „Красная Горка“, что снова подводит нас к творческой проблематике этого влиятельнейшего театра, о котором почти ничего неизвестно, кроме легенд, и не последняя среди них – легенда Чудотворцева. Даже репертуар этого театра установить затруднительно, ибо не только исполнители ролей, но и название пьесы, как правило, не объявлялось, так что зрители сами угадывали то и другое, и нередко выходило по их свидетельствам, что одного и того же числа на одной и той же сцене театра игрались разные пьесы. Несомненно, накануне Ивана Купалы игрались „Снегурочка“ Островского, и столь же несомненно, что в начале двадцатого века и гораздо позже в театре шла чеховская „Чайка“, причем главную женскую роль в обеих пьесах явно исполняла одна и та же актриса, особенным чарующим голосом произносившая: „Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа – это я… я… Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь“. „Монолог Софии“, – записал Чудотворцев в своей записной книжке; спрашивается, какой Софии, истинной или мнимой?
После спектакля Чудотворцев обыкновенно бывал приглашен Федором Ивановичем Савиновым ночевать у него на даче, где чай обычно разливала молодая женщина. „Богоявленская“, – представилась она Платону Демьяновичу однажды, и тот начал было расспрашивать ее, давно ли она освободилась из ссылки, но она только улыбнулась уклончиво. „Софья“, – представилась в другой раз по-домашнему дама, разливавшая чай, и Чудотворцеву оставалось только винить свою близорукость в том, что он не уверен, одна ли она и та же, недавно виденная им на сцене. И постепенно в Чудотворцеве усиливалась горечь, нарастала обида, и, глядя на ее волосы, как будто обсыпанные липовым цветом, ему хотелось при всех по-детски крикнуть: „Для чего ты оставила меня?“
Прочитав однажды при лунном свете название улицы, где находилась дача Федора Ивановича, Чудотворцев должен был воспринять его как обидную, хотя и вещую насмешку: улица Софьина. Скорее всего, такое название улице в дачном поселке было дано в подражание московской Софийке, впоследствии переименованной в Пушечную. Переход от Софии к пушке на другой почве подтвердил анализ русского философа В. Эрна, усмотревшего триумф немецкой философии в пушках Круппа. Кстати, как раз на Софийке находилось окошко, где принимали в разгар террора в тридцатые годы передачи для заключенных. Читая название „улица Софьина“ иные обитатели Мочаловки полагали, что был некий Софьин, то ли домовладелец, то ли просто именитый купец, и улица названа в его честь, к тому же улице предшествовал обширный Софьин сад, где преобладали старые липы (никто не помнил их иначе, как старыми), а вела улица на кладбище. Но когда на Софийке принимали передачи для заключенных, улица Софьина уже была переименована в улицу Лонгина, чему предшествовали грабежи, случавшиеся при молодой советской власти на улице Софьиной (sic!) чуть ли не каждую ночь, так что в народе улицу переименовали в улицу Сонькину (в честь Соньки Золотой Ручки). Название „улица Лонгина“ было спущено откуда-то из высших сфер сразу же после высылки философов, и мочаловские обыватели думали, что это какой-нибудь видный большевик. Им в голову не приходила мысль, что Лонгин – римский воин, проткнувший копьем бок распятого Христа. Кровь полилась чудом, так как Христос был уже мертв, а из мертвого кровь не течет, и эту-то Кровь Истинную Иосиф Аримафейский собрал в чашу, известную под именем Грааль. Дача Федора Ивановича Савинова превратилась в Совиную дачу под номером 7 уже на улице Лонгина. То, что улица Софьина была переименована в улицу Лонгина, конечно, знаменье времени, истолкованное Чудотворцевым не без мстительного злорадства, за что он и был наказан. Платон Демьянович вообще верил в мистическое значение имен. Думается, и мне-то он все-таки доверял из-за моего имени Иннокентий, означающего „Невинный“. Сомневаюсь, что я действительно заслуживаю такого имени, но не могу забыть, как Платон Демьянович обмолвился однажды предсказанием, что имя последнего перед светопреставлением русского царя будет Иннокентий.
В это время Чудотворцев писал главный философский труд своей жизни „Бытие имени“. Эта книга уже тогда принесла бы Чудотворцеву мировую известность, если бы не мировая война (книга была закончена в 1913 году). Сейчас книга переведена на множество языков и настолько широко известна, что нет нужды излагать ее так подробно, как приходится пересказывать книги Чудотворцева, менее распространенные. Но нельзя не уделить ей некоторого внимания, так как она определила в жизни Чудотворцева слишком многое.
„Бытие имени“ перефразируется как „Имя бытия“ или „Имя – бытие“; отсюда не следует, правда, что бытие есть имя. Но отсутствие имени есть отсутствие бытия, или не есть бытие, оно меон (иное). Чудотворцев говорит, что смысл слова „меон“, если можно говорить о смысле не сущего, засвидетельствован его анаграммой: Nemo, что по-латыни означает „Никто“, а по-русски латинское „никто“ произносится как „немо“ (беззвучно, бессловесно, безымянно, точнее не скажешь). Ив то же время немо – то (тот), кого нет: никто. Чудотворцев считает анаграмму не просто признаком, но сутью имени, раскрывающего свой смысл как раз в перестановках звуков. Одновременно с Чудотворцевым к подобному выводу приближался Фердинанд де Соссюр, усматривавший начало поэзии в подражании звукам священного имени, то есть в осмысленных перестановках этих звуков. Звук, по Чудотворцеву, обладает своим таинственным значением, первичным по отношению к букве и даже по отношению к значениям отдельных слов. То, что каббала приписывает буквам, Чудотворцев относит к звукам. Каждый звук из образующих имя есть уже само имя. Но поскольку одни и те же звуки входят в разные имена, имя включает в себя другие имена, а имена образуют имя бытия, без которого бытие – не бытие (небытие). Таким образом, имя есть само бытие, даже если бытие не есть имя, ибо иначе не было бы ничего, кроме имени, то есть не было бы самого имени.
Центральное место в книге занимает философия Лейбница, связующее звено между античным пантеизмом и христианским персонализмом. Лейбница Чудотворцев считал величайшим философом всех времен. Новый Платон противопоставлял его древнему Платону, сводя со своим тезкой сложные трагические счеты. По Лейбницу, бытие состоит из уникальных, универсальных единств, называемых монадами или простейшими субстанциями, хотя сложнее монады разве что сам Бог, но и Бог – верховная монада. Каждая монада зеркало вселенной и, следовательно, в ней присутствуют все остальные монады. Имя относится к монаде. У каждой монады есть имя, даже если это имя неизвестно никому, кроме Бога. Но если у монады есть имя, то монада и есть имя, а имя есть монада, что подтверждается энергией, излучаемой или образуемой именем. Простейший пример: носитель имени откликается на свое имя, оборачивается, делая при этом иногда очень резкие движения. Все проявления энергии связаны с именем ее носителя. Но на свое имя отзывается и Бог, чему подтверждение – молитва, никогда не остающаяся без ответа. Любое существо есть единство имени и энтелехии, особой личностной энергии, образующей это существо. Без имени энергия рассеивается, убывает до полного небытия. Человек воскресает благодаря своей энтелехии, образующей новое тело, и это тело, разумеется, не имеет ничего общего с тем, что сгнило и разложилось после естественной (неестественной) смерти. Но энтелехия сохраняется лишь вместе с именем. Поминая имена усопших, мы способствуем их воскресению. Если утрачено имя, утрачена энтелехия, но имя не может быть утрачено, пока его помнит Бог, а может ли Бог забывать? Что может быть названо, то уже имеет имя. С именем в человеке связано личностное, неповторимое, а, по Чудотворцеву, только особенное, индивидуальное действительно существует. Чудотворцев обвиняет современную науку в пренебрежении индивидуальным и прослеживает личностное даже на уровне анатомии (очевидно, используя лекции, которые он слушал в Гейдельберге и в Париже). Эти главы, связанные с личностным в человеке на телесноэнергетическом уровне как с предпосылкой воскресения, дали повод для сближения Чудотворцева с Федоровым. Усугубили они и слухи о том, что Чудотворцев не столько философ, сколько христианский оккультист своего рода, что вряд ли справедливо, так как эти главы в „Бытии имени“ возводят тело человека к телу Богочеловека, и это возведение представлено, возвещено именем. Имена нарицательные от человека. Их дал тварям Адам, в чем и заключалось его предназначение. Но собственные имена от Бога, что проявляется в родословиях, основанных не на чередовании поколений, но на чередовании имен. Все эти имена в конце концов (и в начале начал) восходят к имени Божьему. Здесь Чудотворцев вступает в открытую полемику с Гавриилом Правдиным. Имя Божье не может быть запретным, даже если оно тайное. Не называя Бога по имени, мы оскорбляем Бога, так как ставим под вопрос его существование, низводя его к меону (не кощунство ли это: Бог – Nemo, никто). Чудотворцев формулирует основную идею своей книги (и, быть может, всей своей философии): Имя Божье есть Бог, даже если Бог не есть имя.
Работа Чудотворцева над „Бытием имени“ совпала с имяславским движением в православных монастырях. Неприятели Чудотворцева обвиняли его в том, что он-то и был истинным теоретиком этого движения, осужденного Святейшим Синодом в
1913 году одновременно с выходом книги „Бытие имени“ в свет. Но Чудотворцев настаивал на том, что его философские изыскания предвосхищены, вдохновлены, наветы духовным опытом православных аскетов-подвижников. Книга схимонаха Илариона „На горах Кавказа“ выходит в 1908 году, когда Платон Демьянович уже работает над своим фундаментальным исследованием, но прозрения аскета нечто подтвердили для Чудотворцева, нечто внушили ему, хотя Платон Демьянович говорил, что имяславие неотделимо от православия, что имяславие присутствовало в православии всегда, а Григорий Палама и Григорий Синаит лишь выявили эту тайную суть православия, и тайное сделалось явным. Признавал Чудотворцев и вдохновенное исповедание афонского иеромонаха Антония (Булатовича): „Воистину имя Божие есть словесное действие Божества… Всякое имя Божие, как истина Богооткровения – есть Сам Бог, и Бог в них пребывает всем существом Своим, по неотделимости существа Его от действия Его“. Философия добавила к этому, что Бог не есть имя, хотя имя Божье есть Бог. Таково само имя Иисус, постоянное призывание Которого в безмолвном произнесении преображает человека Божественной энергией, как Сам Христос преобразился перед апостолами на горе. На мысленном призывании имени Божьего основывается умное делание или умная молитва, творимая в уме. Без призывания имени Божьего не действовало бы и Причастие, в котором воистину имя Божие соединено с Божественной энергией. Но причащаясь Божеству по энергии, человек не может оставаться чуждым Божеству и, следовательно, сам становится богом, как возвестил Сам Бог: „Азъ рѣхъ: бози есте“ („Я сказал: вы – боги“) (Пс., 81:6). Чудотворцев напоминает, что грехопадение совершилось, когда человек, уже будучи богом, пожелал быть „как боги“, которых нет. А когда Бог говорит: Азъ ръхъ, он называет свое имя Сущий, так что Бог творит Своим Именем, в котором Он Сам. „Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово“, – первый стих Евангелия от Иоанна. Богъ бѣ Слово, но что это было за слово, если не Имя Божие, Оно же Сам Бог?
Эти богословские тонкости вызвали бурю, которой, казалось бы, меньше всего можно было ожидать. Высшие церковные круги ополчились против имяславия. По некоторым сведениям сотни монахов-имяславцев были удалены с Афона и разосланы по монастырям России, что весьма напоминало меры, принимаемые против революционеров. Но, как впоследствии говорил Платон Демьянович, революционерами были вовсе не гонимые имяславцы, а как раз их гонители, имяборцы (не богоборцы ли?). Чудотворцев полагал, что революция шла в России не снизу, а сверху, из разлагающихся церковно-государственных верхов, отвергающих православную монархию и вместе с ней православную веру (неверующие церковные чиновники смыкались в этом с тайной полицией, боявшейся оказаться не у дел при народной монархии). Именно эти силы вызвали революцию, спущенную сверху в низы, чтобы потом уничтожить и верхи, чего верхи не могли предвидеть, полагая, что уже без них-то не обойдутся, и отчасти их расчеты оказались правильными. Преподаватель Петербургского духовного училища выдвигал против имяславцев такие аргументы: „Имена сами по себе нисколько не связаны с предметами. Ни один предмет сам по себе в наименовании не нуждается и может существовать, не имея никакого имени. Имена предметов нужны только нам для упорядочения своей психической деятельности и для передачи своей мысли о предмете другим… Имя есть лишь условный знак, символ предмета, созданный самим человеком“. Собственно говоря, такие формулировки вполне вписывались бы в „Материализм и эмпириокритицизм“ Ленина. Рассказывают, что некий высокий иерарх, член Св. Синода, бросал на пол разорванную бумажку с именем Бог, доказывая, что имя Божие лишь приписано Богу людьми и никакой энергией не обладает. Не подобным ли жестом сбрасывали с церквей кресты и взрывали самые церкви как созданные самими людьми символы несуществующего Бога? Боюсь, что на этот вопрос Чудотворцева история ответила утвердительно.
За этот вопрос Чудотворцев поплатился, так сказать, заранее. Его критики иронически уподобляли Чудотворцева Максиму Горькому, в своем богоискательстве обожествляющему человека; на это Чудотворцев отвечал, что богоискатели исходят все из того же кирилловского „если нет Бога, то я – Бог“, не утруждая себя самоубийством для подтверждения такого притязания, вернее, обрекая на коллективное самоубийство своих последователей, тогда как он говорит: „Если Бог есть, то я бог во имя Божие и через имя Божие“. Но над Чудотворцевым к этому времени начали сгущаться тучи, так и не рассеявшиеся до сих пор. „Бытие имени“ сопоставляли с „Властью не от Бога“. Репрессии против имяславцев едва не затронули Платона Демьяновича уже тогда, и они действительно затронули его пятнадцать лет спустя, чтобы никогда уже окончательно не прекратиться.
Это было тем более чувствительно для Платона Демьяновича, что к тому времени его жизнь упорядочилась, достигнув некоторого, по крайней мере, внешнего благополучия. Чудотворцев был уже профессором Московского университета; формально его специальностью продолжала считаться античная философия, паче же всего диалоги Платона. Пришлось обзавестись более обширной и основательной квартирой в Москве, где он жил в последний период своей жизни, где я жил с Кирой. Олимпиада не поскупилась на эту квартиру. В конце концов, ее деньги по-прежнему были деньгами Платона Демьяновича, а „Гордеевна“ приносила хорошие, все возрастающие доходы. Олимпиада и сама проживала с гимназистом Павлушей в этой квартире, где Платон Демьянович работал над „Бытием имени“, частенько отлучаясь то в Германию, то во Францию, то в Италию. И летом 1914 года Чудотворцев отправился в Германию, предполагая задержаться там подольше, подальше от ожесточенных нападок на „Бытие имени“ (кажется, нападающие не возражали бы, чтобы смутьян профессор задержался в Германии или остался там навсегда), но пребывание Чудотворцева в его любимом Фрайбурге было сокращено или прекращено угрожающими признаками начинающейся мировой войны.
Эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник престола Австро-Венгрии, был убит 28 июня 1914 года по новому стилю, и сразу же на улицах немецких городов начались антисербские демонстрации (убийцей эрцгерцога был, как известно, сербский студент Гаврила Принцип). Антисербские демонстрации мгновенно перешли в демонстрации антирусские. Дело было даже не только в том, что Россия поддерживала Сербию против Австро-Венгрии и Германии, угрожавших ей. Дело было скорее в том, что в Германии взорвалась исконная тевтонская ненависть к православно-славянскому миру, и в сербах немецкий обыватель видел русских, а в русских угадывал сербов (что недалеко от истины и всегда происходит в моменты исторических потрясений). Но и этим дело не ограничивалось. Главное, на улицы немецких городов хлынула толпа, еще вчера совершенно немыслимая на этих улицах, до абсурда не гармонирующая с патриархальными домами, элегантными и в то же время уютными виллами, утопающими в зелени садов, и, в особенности, с величественной готикой соборов. Непонятно было, откуда взялись на улицах лица, которых еще накануне невозможно было на этих улицах встретить. Нечто подобное Бердяев заметил на улицах русских городов после октябрьского переворота 1917 года: „В стихии большевистской революции меня более всего поразило появление новых лиц с не бывшим раньше выражением. Произошла метаморфоза некоторых лиц, раньше известных. И появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные“. Бердяев мог объяснять это явление войной; проводя, кстати, аналогию с тем же человеческим типом в Европе: „Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашистский“. Чудотворцев увидел этот тип человека перед мировой войной, которая и была вызвана этим антропологическим типом. Конечно, настоящие бурные демонстрации с криками „Долой Сербию!“, „Долой Россию!“ происходили не в тихих провинциальных городах, а в Берлине, куда Чудотворцев срочно выехал из Фрайбурга, почувствовав, куда ведут события. Но вместо нового антропологического типа Чудотворцев и в провинциальных немецких городах увидел другое явление, куда более зловещее: исчезновение человеческого лица. На улицы немецких городов вышли не люди нового типа, на улицы вышли массы, а у масс лица нет. Лица отдельных индивидуумов, составляющих, нет, не образующих массу ибо масса не имеет образа, расплываются, уничтожаются, и вместо них остается зияющая ревущая пустота, с которой для Чудотворцева начался новый век, наступающий с опозданием, как начинался он раньше календарного срока взятием Бастилии 14 июля 1789 года. Таким образом, девятнадцатый век продлился дольше своего срока ровно на четверть века. Фрагменты той же самой зияющей ревущей пустоты Чудотворцев увидел в первые месяцы мировой войны уже в России, когда начались погромы магазинов и аптек, владельцами которых были немцы. Поистине, массовая пустота интернациональна, и Чудотворцев не имел с ней ничего общего, выделяясь в толпе долговязой фигурой, мешковатой осанкой и беспомощными близорукими глазами за толстыми стеклами очков. „Ich bin mengenunfäig“, – говорил он по-немецки („Я не пригоден для толпы“).
Вернувшись в Россию, Чудотворцев оказался тем более одинок. Ему ничего не говорил всеобщий патриотический угар, а первым робким антивоенным настроениям он оставался чужд. В первые же месяцы войны Чудотворцев понял, что началась мировая война, а мировая война не есть война одних государств против других, это война одной исторической силы против другой. „В 1914 году массы начали войну против народов“, – говорил Платон Демьянович, а когда я спрашивал его, чем народ отличается от массы, он отвечал мне: „Народ – единство, массы – множество“. Трагический фарс усугубляется тем, что средний человек принадлежит одновременно к народу и к массе, сам не замечая, когда и в каком качестве он чувствует и действует, воюя против самого себя, а кто воюет против самого себя, тот перестает быть самим собой. Так народ постепенно поглощается массами. Иногда вместо слова „массы“ Чудотворцев употреблял слово „легион“, усматривая в этом слове антиимя, которым назвался бес, когда Христос, изгнав его из бесноватого, спросил: „Как тебе имя?“ Характерно, что назвавшись легионом, бес вселился в свиное стадо, так что недаром участники некоторых фашистских движений называли себя легионерами. В Румынии „Лига национально-христианской защиты“ преобразуется в 1927 году в „Легион Михаила Архангела“, хотя Сатане (он же легион), кощунствующему над телом Моисея, именно Михаил Архангел сказал: „Да запретит тебе Господь!“ – так что само сочетание Михаила Архангела с легионом невозможно и кощунственно. Но и высший орден Франции, учрежденный Наполеоном в 1802 году, называется орденом Почетного легиона, выдавая, на чьей стороне Франция в битве света и тьмы, и какому легиону она принадлежит. Говоря так, Чудотворцев улыбался, и можно было подумать, что он шутит, но, иронизируя над союзом Российской империи с Антантой, Платон Демьянович утверждал, что Антанта воюет на два фронта: с Германией и с Россией. „Легион против Третьего Рима“, – усмехался он, и я не сомневаюсь, что эти слова он впервые произнес в 1914 году.
У Платона Демьяновича был в это время один единомышленник. Аристарх Иванович Фавстов видел в союзе трех империй, Германии, Австро-Венгрии и России, спасение христианской Европы. Воюя одна против другой, каждая из этих империй воюет против самой себя, на что и рассчитывают лукавые карлики-финансисты, желающие гибели всем трем империям. Неудивительно, что Платон Демьянович старается чаще видеться с моим дедом Аристархом Ивановичем, то и дело приезжая в Петербург, тогда уже переименованный в Петроград. В 1914 году Чудотворцев приостанавливает работу над философскими трудами, сосредоточиваясь на „Действе о Граали“. Поглощенный музыкальным действом, Чудотворцев кроме „Красной Горки“ посещает другие театры. Так он впервые увидел Аделаиду Вышинскую.
Она танцевала Жизель, а этот балет считался священным на русской сцене, по слову Тамары Карсавиной. В то же время все хорошо помнили, хотя и не говорили вслух о том, как Вацлав Нижинский был уволен из труппы Мариинского балета за непристойность, якобы допущенную в костюме графа Альберта. Может быть, потому так робок и бесцветен был Альберт в постановке, которую видел Чудотворцев. Эротизмом Вацлава Нижинского возмутилась, по преданию, сама вдовствующая императрица Мария Федоровна; недаром ее звали „Гневная“ в кругах, близких к царствующей императрице Александре Федоровне. Вот новый граф Альберт и боялся ее разгневать, как будто она и есть главная виллиса, умершая до свадьбы и мстящая оставшемуся в живых. Но настоящей виллисой была на сцене Аделаида, и уж она-то ничего не боялась, вся желание и жалоба, а тогда желанию нет утоления, кроме продления, и она не прощает неверного возлюбленного, но хранит его, ибо без него ее не будет. Аделаида – Жизель была бесплотна и телесна, поистине ни жива ни мертва, бессмертна без воскресения, и ее ненасытному, прозрачно-непроницаемому телу не оставалось ничего, кроме танца, грозящего сорваться в пляс, о чем напоминали неизбежные прикосновения ступней к полу, эти намеки на похороны, преодолеваемые музыкой летучих мускулов; танцовщица не позволяла себе хаоса, но танец ее прельщал магической пляской, невозможной в балете и тем более соблазнительной, ибо в ней угадывается запретный хаос. Так могла бы танцевать и, возможно, танцевала в свое время мадам Литли. Тела танцуют, живые или мертвые, плоть пляшет страстно и покаянно. Эта фраза из письма, которое Чудотворцев написал Аделаиде после спектакля. Он писал письмо ночью, не смыкая глаз, писал днем и продолжал писать на следующую ночь, пока не заснул, уткнувшись в исписанный лист, но во сне снова увидел ее, летящую и неулетающую. При этом танец Аделаиды поражал безупречным, классическим мастерством, напоминавшим Чудотворцеву Пуссена, но когда мастерство – само существо танцовщицы, это уже мистерия, магия или чудо (искусство – чуть ли не чудо, чуткое чуть-чуть). А что, если наоборот: танец преодолевает и тем самым продлевает свою телесность, пляс же вырывается за пределы тела? Словом, здесь неизбежно слово „Несказанное“, если это слово, а не само бытие на своем особом уровне. Несказанное танцует, Слово пляшет. „Пред троном плясало Слово“, – напишет Н. А. Клюев не в тон ли Чудотворцеву?
Нельзя сказать, что Несказанное появилось в письме Чудотворцева к Аделаиде впервые. Несказанное упоминается так или иначе во всех его работах, причем необязательно как альтернатива Слову В самом Слове присутствует Несказанное, это те его значения, которых мы не сознаем, когда произносим или воспринимаем Слово, ибо Слово в конечном (бесконечном?) счете означает все, так что между Словом, нами воспринятым, и всем, что оно означает, пролегает Несказанное, тайное в Слове, которому предстоит стать явным, как сказал Христос. Но в письме к Аделаиде оформились другие направления, противоположные философии Чудотворцева, какой она была до тех пор. Слову Чудотворцев предпочел Несказанное, проявляющееся, но не являющееся в танце, так как явиться оно не может, не перестав быть Несказанным, то есть не перестав быть. Увидев Аделаиду, Чудотворцев предпочел Слову Несказанное, что было в духе той эпохи, и в Несказанном новому Платону почудился отклик на мировую войну. Новую работу, овладевшую его замыслами, Чудотворцев называл некоторое время „Философия танца“, следуя Фридриху Ницше, призывавшему: „Горе имейте и ноги ваши, добрые плясуны, а еще лучше: станьте-ка также и на голову“. (Не забудем, что в немецком языке между танцем и пляской нет различия; глагол „tanzen“ означает и „танцевать“ и „плясать“, и Чудотворцев видел в таком совпадении упоительный хаос войны, то, что Томас Манн называл „Schicksalsrausch“, „Хмель судьбы“.) Но танец, тем более пляска, и философия слишком уж не вяжутся друг с другом, и Чудотворцев думал назвать свой новый труд „Философия музыки“, явно ссылаясь на Ницше с его рождением трагедии из духа музыки, но не точнее ли было бы называть новую философию нового Платона „Философия Несказанного“, ибо она вызывающе противостояла „Бытию имени“? Очевидно, в новой философии Чудотворцева прорвался бунт против его прежней философии, и, самое странное, против самой Софии. Чудотворцев восстал против Софии, отчаявшись встретиться с ней. Он вообразил, что София смеется над ним, как там, на улице Софьиной за чайным столом на даче № 7. Не бунтом ли против Софии была русская революция, вызванная мировой войной? Двенадцать в поэме Блока вовсе не идут за Христом (если это Христос ходит „с кровавым флагом“, а не какое-нибудь наваждение), они стреляют в этого Христа, и Блок с ними заодно. „Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак“, – записывает Блок в дневнике, а кто этот женственный призрак, если не София Премудрость Божия, воспетая тем же Блоком как Прекрасная Дама»?
Не знаю, что случилось бы с Чудотворцевым, если бы он в это время встретился с мадам Литли, но вышло иначе: Аделаида откликнулась на его письмо и пригласила Платона Демьяновича посетить ее незамедлительно. Так Чудотворцев оказался в зимнем саду Аделаиды, где она сама обосновалась недавно. Как и моя тетя Маша, Чудотворцев избегал говорить, о чем они беседовали наедине, но бывать у молодой балерины он стал часто, а вскоре как-то само собой сложилось так, что Платон Демьянович останавливался у нее всегда, когда приезжал в Петроград. При этом не следует делать слишком далеко идущих выводов вроде «пришел, увидел, победил». Платон Демьянович был тогда отнюдь не первой молодости, но не секрет, что и в глубокой старости он имел успех у женщин, завораживая их магией своего интеллекта, а женщины, что бы о них ни говорили, не могут устоять перед подобной магией, которой едва ли не одновременно были подвержены еще не старая бабушка Кэт (моя прабабушка) и ее юная дочка, ma tante Marie. Какие бы сплетни ни распространялись об Аделаиде Вышинской, доступностью она не отличалась. По всей вероятности, при первых встречах с Платоном Демьяновичем она больше слушала, чем говорила (недаром она была служительницей Несказанного), а это тоже верный способ покорить собеседника, если он философ, и вскоре Платон Демьянович уже сопровождал на фортепьяно ее хореографические упражнения. Разумеется, он был при этом не только аккомпаниатором. Аделаида всем своим существом впитывала его идеи, замыслы и помыслы, нуждаясь в нем, как душа нуждается в духе, а танцующее тело Аделаиды и было ее душой. Первым плодом их тайного союза стал балет «Саломея», где Аделаида танцевала практически одна (Ирод и его придворные лишь смутно угадывались в полумраке, из полумрака ей кто-то протягивал блюдо с отрубленной головой Иоанна Крестителя, и последним жестом своего упоительного танца она протягивала эту голову во мрак, отрывая от себя самое дорогое, и голову эту во мраке хищно хватала ее невидимая кровожадная мать). Аделаида Вышинская выступала не только как исполнительница, но и как автор балета на музыку Лоллия Полозова. Имя Чудотворцева не упоминалось, но избранным было известно, что ни балет, ни музыка не обошлись без него. Следующим балетом Аделаиды оказалась «Панночка», и Платон Демьянович с тех пор не называл Аделаиду иначе. Нетрудно догадаться, что это балет по гоголевскому «Вию», где, правда, партия Хомы Брута стала второстепенной, так как для нее не нашлось достойного исполнителя (мне так и не удалось выяснить, кто его танцевал, хотя, быть может, в этом сказались традиции «Красной Горки»). В балете о любви падшей Софии (Панночки) к незадачливому философу партию философа должен был бы исполнять Чудотворцев, и Аделаида говорила, что она танцует в балете именно с ним, кто бы ни был на его месте, и невозможность этой партии для Платона Демьяновича была для Аделаиды такой же незаживающей раной, как несостоявшаяся партия Машеньки в качестве ее сценического двойника. Но Чудотворцев уже предлагал Аделаиде балет «Елена» на музыку композиторов барокко, в котором Аделаида должна была танцевать Елену, в прошлом Елену Троянскую. Она сопутствует Симону Волхву, который выдает себя ни много ни мало за Логос (представляете себе танец Логоса?), а Елена не кто иная, как опять-таки падшая София. Во всех трех балетах действует судорожная ирония философа над Софией, а гениальным беззащитным орудием этой иронии становилась Аделаида, за что ей предстояло поплатиться в будущем, что она предчувствовала и на что жертвенно соглашалась.
Танец основывается на повторах, и в зимнем саду Аделаиды многое повторялось (Чудотворцев говорил о вечном возвращении танцующего божества, по Ницше). Однажды, когда Платон Демьянович остался наедине с Панночкой в девичьей горенке за дверью в стене, в эту дверь тихонько постучали, вошла та же самая монголоидная горничная с повадками субретки и вполголоса доложила: «Аделаида Ксаверьевна, вас Григорий Ефимович спрашивает». (Года два спустя то же самое повторится, когда со своей Адей в девичьей горенке уединится ma tante Marie, тогда еще Машенька.) Не уверен, что Аделаида сказала Чудотворцеву: «Коли не хочешь, не выходи, сердечко мое…» Едва ли она вообще обращалась к Платону Демьяновичу на «ты», но наверняка она сказала ему: «Я от него скоренько отделаюсь». И Чудотворцев, как Машенька, последовал за ней и там же, в зимнем саду, впервые встретился с Распутиным.
Встреча эта для них обоих много значила. Когда Распутин говорил: «Я Зеленому подвержен», он, по всей вероятности, имел в виду Чудотворцева. Правда, когда Распутина однажды спросили, где живут зеленые, он ответил, что в Швеции, но еще неизвестно, где находится эта Швеция, не Suetia ли это, не страна ли света Светень, сиречь Святая Русь, где к тому же обитают свей (свои?). А где Швеция, там Дания, родное дно, дань или данность, откуда со своей Русью на Русь пришел Рюрик, побывав перед этим при дворе у Карла Лысого, где в это же время подвизался Иоганн Скот Эриугена, самое имя которого обозначает происхождение из Ирландии, а Ирландия – Зеленый остров, куда святой Патрикий занес древлеправославное благочестие, ознаменованное все тою же Святою Граалью. Стало быть, Зеленый для Распутина – не Иоанн ли Ирландский (Скот Эриугена), переведший с греческого на латынь православную мудрость Дионисия Ареопагита? Дионисий поведал об именах Божественных, не к ним ли восходит чудотворцевское «Бытие имени» и апофатическая тьма священного безмолвия? Так что Чудотворцев для Распутина – Зеленый, как Скот Эриугена, напутствовавший Рюрика, первого государя Святой Руси: «…Дарован будет государь Граалью, как бывало встарь». А пылающий отпрыск царского рода, горицвет, не зеленый ли? Гитлер не обмолвился ли, назвав Распутина единственной силой, способной привить славянскому элементу здоровое миропонимание? (Пикер Генри. Застольные разговоры Гитлера. – М.: Русич, 1998. С. 45). Да и у самого Распутина не вырвалось ли однажды, как вспоминала ma tante Marie, в присутствии Распутина имя Хызр, вызвавшее зеленую молнию над горами Кавказа (она сверкнула, когда Питирим произнес: «Сватбог»). Или Распутин тогда просто откашлялся? Но при первой же встрече он определенно сказал Платону Демьяновичу: «Я умру, а ты не умрешь».
Вся западноевропейская философия, включая Альберта Великого, Якова Бёме и Гегеля, восходит к Дионисию Ареопагиту в истолковании Иоанна Ирландского, который, очевидно, намекает на Пылающего Отпрыска своим «Разделением Природы» (Natura, quæ non creatur et créât, Natura, quæ creatur et créât, Natura, quæ creatur et non créât, Natura quæ non creatur et non créât: Природа, несотворенная и творящая, Природа, сотворенная и творящая, Природа, сотворенная и не творящая, Природа, не сотворенная и не творящая). Как известно, Платон Демьянович дважды переводил Ареопагитский Корпус, и оба раза его перевод с комментариями пропадал, сначала изъятый компетентными органами при аресте философа, потом, восстановленный и заново откомментированы^ сгоревший во время немецкой бомбардировки на даче в Мочаловке, где его прятали от нового обыска (то не была дача № 7 по улице Лонгина, хотя зажигательная бомба, по всей вероятности, предназначалась для этой дачи в расчете на то, что из горящей дачи нечто вынесут).
Чудотворцев усугубил и обострил неприятие мировой войны, и без того уже свойственное Распутину, но тому, что тлело в старце на уровне почвенного, инстинктивного ясновидения, Платон Демьянович придал если не философскую, то отчетливую, так сказать, идейную форму Собственно, Зеленым был для Распутина и Аристарх Иванович Фавстов, недавно опубликовавший «Империю Рюриковичей» и буквально накануне мировой войны представивший в Министерство иностранных дел, а вернее, самому государю обстоятельную записку с предостережением от этой гибельной для России войны. От Зеленого (или от зеленых) исходило предостережение, согласно которому войну против России, как против Германии и Австро-Венгрии, ведет республика финансистов Антанта (империя Инфляция против Третьего Рима). Уничтожив три европейские империи, империя Инфляция, включая США, должна была уничтожить христианство, или Европу (по Новалису), что впоследствии и удалось. Распутин всем существом воспринял предостережение зеленых, и погиб, отстаивая православное Царство, убитый заговорщиками, как в свое время император Павел, точно так же пытавшийся предотвратить войну с будущим императором Наполеоном, против которого ополчилась тогдашняя Антанта во главе с ростовщической Англией, организовавшей преступный заговор против русского императора.
Надо сказать, что Аристарх Иванович Фавстов избегал слишком близкого общения с Распутиным, едва ли не брезговал его обществом, так что Распутин тем более тянулся к Чудотворцеву Не исключено, впрочем, что Аристарх Иванович боялся навлечь на Распутина какие-то неприятности и потому сторонился его, но Распутина это не спасло. В конце концов, Чудотворцев, в отличие от Фавстова, не был посвящен в государственные тайны, которые могли бы бросить на Распутина тень, но этой тени он все равно не избежал, и не она ли убила его? А с Чудотворцевым Распутина сближало еще и чаянье народной монархии, как я отваживаюсь теперь сказать (оба они этого выражения избегали, хотя, думаю, с глазу на глаз ни о чем другом не говорили). Платон Демьянович полагал, что сословная монархия была свергнута в России революцией Ильина дня (1905 года). Чудотворцев отказывал даже потомственному русскому дворянству в под линном аристократизме, напоминал, что слова «дворянин» и «дворовый» одного происхождения. Истинную русскую знать, аристократию, как сказали бы на Западе, почти поголовно уничтожили Иван Грозный и Петр Великий, предпочитавшие, чтобы знатность не наследовалась, а выслуживалась. (Отсюда стих Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».) Аристократ выслуживал себе дворянство, участвуя в уничтожении себе подобных, о чем еще Пушкин писал в «Моей родословной»:
Родов дряхлеющих обломок (И по несчастью не один), Бояр старинных я потомок; Я, братцы, мелкий мещанин.Здесь кроется некая тайна русской истории. Русских аристократов убивали, чтобы среди них убить кого-то определенного, кого, впрочем, не удавалось определить. Так царь Ирод убивал вифлеемских младенцев, рассчитывая убить среди них Царя Иудейского. Не в этом ли корни русского террора, когда убивают многих, чтобы не упустить кого-нибудь одного (или весьма немногих)? Такому террору и обязаны своим происхождением некоторые дворянские фамилии, отличившиеся на подобном поприще. С другой стороны, тот же Пушкин сетовал на то, что истинная знатность в России есть нечто неприличное или даже крамольное. Чудотворцев испытывал к этой проблеме пристальный и какой-то тревожный интерес. Так, в своем исследовании о «Хованщине» он напоминал, что Модест Петрович Мусоргский – как-никак прямой потомок Рюрика в тридцать втором колене, и не потому ли обе его главные оперы посвящены проблеме престолонаследия.
Таким образом, сословная монархия изначально заключала в себе плебейско-демократический принцип заслуги или выслуги, и не секрет, как и чем такие заслуги приобретаются, даже если это государственная тайна, не подлежащая разглашению. Народная монархия, как ни странно, связана с родовой аристократией, чье присутствие угадывается скорее в простом народе, чем в так называемых высших сословиях. Революция на Руси всегда чает родовой народной монархии и всегда сбивается на ложный путь, вырождаясь в русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но вождь этого бунта всегда должен намекать своей личностью на истинного народного царя, у которого Кровь Истинная (Sang Real). Отсюда самозванство вождя или культ личности на худой конец. Вот что сближало Распутина с Николаем Вторым, сомневающимся в своей царственности и при этом чающим народной монархии. (Царица только этим чаяньем и жила и потому жить не могла без Григория.) А Григорий Ефимович Новых нуждался в Чудотворцеве, чтобы самому не затеряться в своей кровно-духовной стихии, когда начинала говорить мать сыра земля. Чудотворцев не сомневался в том, что мать сыра земля противится Столыпину, что продажный земельный надел и столыпинский галстук, в сущности, одно и то же; удавка на шее матери-Земли, с которой православный царь, бывало, венчался, познавая в ней Софию Премудрость Божию, и пахарь в этом смысле был царем, а царь пахарем, откуда происходит Домострой и все то, что Пушкин называл тайной свободой, а Максимилиан Волошин – свободой частной жизни, не нуждающейся в политических свободах, и, быть может, несовместимой с ними. Соборным Давидовым плясом, по Распутину, должно было завершиться венчание истинного православного царя и Русской земли, на что направлены все русские бунты и мятежи, называемые революциями. Эту распутинско-чудотворцевскую ноту подхватили после Октября 1917 года крестьянские поэты, за что и были так беспощадно уничтожены коммунистами, выдающими себя за большевиков:
Низкая деревенская заря, — Лен с берестой и с воском солома. Здесь все стоит за Царя Из Давидова красного дома.Странным образом сюда вписывается неожиданная чуткость Льва Троцкого к поэзии Клюева. А для Чудотворцева органическое различие коммунизма и большевизма, более того, их кровная кровавая несовместимость – тайная, но тем более основная тема его позднего философствования. В этой несовместимости коренится красный террор, когда борьба коммунистов против большевиков сменяется борьбой большевиков против коммунистов и волны эти смешиваются до неразличимости: «Бежит волна-волной, волне хребет ломая», – как сказал Осип Мандельштам. Именно Платон Демьянович обратил мое внимание на загадочное, но знаменательное единение Клюева и Мандельштама, коренящееся в неких распутинских чаяньях, может быть неприемлемых для Мандельштама, но существенных и для него.
И еще один существеннейший для Чудотворцева импульс, несомненно, исходил от Распутина. Чудотворцев реализовал этот импульс в своей книге, изданной уже после Октября под названием «Эрос и аскеза в поздней античности» (настоящее название книги «Эрос и аскеза у христианских подвижников»). В последний период своей жизни Чудотворцев работал над фундаментальным исследованием «Грех и покаяние в судьбах мира». Исследование это считается незаконченным; Клавдия только что опубликовала новые разделы книги. И в «Эросе и аскезе», и в «Грехе и покаянии» Чудотворцев откровенно исходит из мистического опыта Распутина, придавая этому опыту форму философии. Грех твари заключается в ее удалении от Бога, в разлуке с Богом, но произвольное сближение твари с Богом едва ли не более греховно. Оно приводит к заблуждению, даже к падению (см. «Искание Софии»). Исчезновение твари в Боге, называемое суфиями «фана» (не отсюда ли «фанатик»?), есть отрицание творения и, следовательно, отрицание Творца. Тварь должна отличаться от Бога… чтобы любить Его. Если бы не было этого различия, Богу некого было бы любить, кроме Себя, но чтобы любить Себя, все равно нужно от Себя отличаться (это изначальное, нетварное отличие в сущности Бога явлено ипостасями Троицы). Трагедия твари в том, что она грешит отпадением от Бога и грешит совпадением с Ним (всегда мнимым). Тварь приобщается к Богу лишь по энергии, а не по сущности, чтобы не совпасть с Ним, чтобы не исчезнуть, чтобы любить Его как Другого. Таким образом, само бытие твари – грех, что бы она ни делала и как бы ни поступала. Особенно опасна для твари общепринятая нравственность, ибо нравственность усугубляет иллюзию хорошего поведения, как будто можно спастись без Бога и помимо Бога. Но только Бог может спасти человека, жертвуя ради него Собой, в чем и состоит подвиг Христа. Кто думает спастись хорошим поведением или нравственностью, отрекается от крови Христа, без которой нет спасения. Сам Христос говорит: «не пршдохъ бо призвати праведники, но грешники на покаяние» (Матф., 9:3). Спрашивается, что же это за праведники, остающиеся без Христа? Очевидно, таких праведников просто нет. Кто отрицает свою греховность, тот отрицает Христа, отвергает Его спасительный подвиг, кощунствует над крестной мукой. Нет спасения, кроме покаяния. Так обнаруживается недалекий от истины смысл высказывания, иронизирующего над богопознанием: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». Это высказывание опровергается, но и подтверждается другим парадоксальным высказыванием: «Кто кается, тот не грешит, но кто не грешит, тот не кается». «По-вашему, лучше грешить и не каяться, что ли? – спрашивал Распутин с усмешкой. – А единение греха и покаяния есть любовь, но и Бог есть любовь, как писал Иоанн Богослов (Иоанн, 1:4, 8). Новый» (Новейший?) Завет любви и возвещал Григорий Ефимович Новых (в просторечии «Распутин», ибо для нечистых душ любовь – распутство). Великим учителем покаяния был Распутин, говоривший о себе: «Я маленький Христос». Вспоминаются и другие его слова: «Для меня что к бабе прикоснуться, что к чурбану». При этом он сам продолжал играть роль «Распутина», но его поклонницы недаром говорили, что Григорий Ефимович все шутит и на себя наговаривает. Высшей формой покаяния для Распутина была напраслина без «напрасности». («Нет никакой напрасности», – говорил он.) Подвиг покаяния в том, чтобы пострадать за напраслину, как страдал Христос. Женщина, гордившаяся своей чистотой, должна была пожертвовать своей репутацией, прослыть распутницей, как Распутин слыл «Распутиным». Высший подвиг – сохранить при этом чистоту, но если чистота мешает покаянию, ради покаяния стоит пожертвовать ею, чему Распутин мог иногда способствовать, жертвуя, в свою очередь, репутацией «старца» ради покаяния, грозящего гибелью, чем и закончился его жизненный путь. Ибо покаяние без любви тщетно, и стихией Григория Новых была любовь, соединяющая с Богом, Кто есть, как сказано, любовь.
Трудно поверить, но имеются все основания полагать, что райский эрос, воспетый Чудотворцевым (иначе не скажешь), открылся философу не без участия Распутина. У Чудотворцева в это время отчетливо прочитывается полемика с В.В. Розановым, и в ходе этой полемики он высказывает идеи, на которые даже возражать не решались блюстители черного православия не потому, что были с ним согласны (Боже упаси!), а потому, что не отваживались сослаться на чудотворцевщину (такой термин появился уже тогда) даже в полемических целях. Подумать только: Розанов осуждал аскетизм, противопоставляя ему животный, теплый, супружеский эрос, а Чудотворцев истинным эросом объявил ни много ни мало как раз аскезу, утверждая, что только схимник, затворник, пустынник, словом, аскет проникает в тайну божественного брака, постигает истинный запредельный, райский эрос. (Сначала Чудотворцев хотел назвать свою книгу не «Эрос и аскеза», а «Райский эрос», но даже он на это не отважился.) Между тем плотское падение, которым бес прельщает подвижника, по Чудотворцеву, есть убогое воздержание в сравнении со сверхполовым восторгом аскезы. Бесстрастие подвижника не есть нирвана или угасание. Напротив, апостол говорит: «Духа не угашайте» (Фес., 2:4, 19). Аскетическое бесстрастие есть изживание земных убогих страстей, угашающих горение райского эроса чадным тлением. Этим страстям предается тот, кто не холоден и не горяч, а обуморен, теплохладен, согласно Откровению Иоанна Богослова, и кого Господь изблюет из уст Своих (Откр., 3:16). Райский эрос – восхитительное, сверхчувственное единение личных энергий (сверхчувственное не потому, что оно подавляет чувственность, а потому, что бесконечно ее превышает). Блаженство – это вечное проникновение энергии в энергию (в энергии дух и плоть заодно); проклятие – это замыкание энергии (энергий), иными словами, ад – это индивидуальность, вечно сжигающая сама себя. Помню, что любимой книгой Платона Демьяновича всегда была «Divina Commedia» Данте, разумеется, он читал ее в оригинале. Исследуя райский эрос, Чудотворцев ссылается на песнь света из десятой песни «Рая»: «е l'canto di quei lumi era di quelle…» (Par. X, 73). Буквально двумя строками ниже поют эти пылающие солнца («quelli ardenti soli»), и вся поэма завершается строкой: «l'amor che move il sole e l'altre stelle», то есть солнцем и другими звездами движет эрос, или любовь.
Свою песнь песней новый Платон пропел не кому иному, как Аделаиде. В эти годы Чудотворцев переживает вершину своей жизни. (В 1916 году ему исполнилось сорок лет.) Балеты, исполнявшиеся Аделаидой для избранных, были сплошной хореографической песнью песней. Эти балеты завораживали, но и ужасали зрителей своей откровенностью. Они были навеяны, внушены, проникнуты Чудотворцевым. Аделаида одновременно танцевала его объяснения в любви и свой ответ. Говорили, что это танцы взаимности, но не было нужды ни в объяснении, ни в ответе: на сцене совершалось воспетое Чудотворцевым соитие энергий, когда танцевало тело, духом которого был он. Это было настолько откровенно, что о балерине и немолодом философе, переживающем при зрителях свою философию танца, не могли не говорить в обеих столицах. Ни для кого не было тайной, что в этом ослепительном соитии так или иначе участвовал Распутин. Говорили, что Распутин и Чудотворцев делят Аделаиду, пользуясь ею совместно, но высказывалось и предположение, будто оба разыграли ее в орлянку, и танцовщица досталась Чудотворцеву Впрочем, трудно представить себе, чтобы Аделаида позволила собой играть, не говоря уже о том, чтобы так себя разыгрывать, но нет сомнений, что Распутин венчал этот мистический брак и под его водительством они перешли заветную черту в своей близости. Их роман, слегка перефразируя Блока, называли звездной бурей. Стоило Аделаиде некоторое время не появиться на сцене, как начинались игривые перешептывания о ее беременности, распространявшиеся, правда, в самом узком кругу, а в более широких кругах Аделаиде приписывали совсем другое, связанное с Марфой Бортниковой. Впрочем, балеты Аделаиды все чаще называли балетами Аделаиды – Чудотворцева, а то и Аделаиды Чудотворцевой, чтобы при этом тем красноречивее осечься и тут же попросить извинения за оговорку. А балеты становились все более утонченно-страстными, все более сверхчувственными, но что-то нарушилось в них, как только убили Распутина.
Не то чтобы балеты Аделаиды сошли со сцены. На своей камерной или интимной сцене Аделаида продолжала танцевать Саломею. Готовился будто бы балет «Беатриче», где должны были звучать подлинные мелодии трубадуров. Как я недавно слышал, на репетиции этого балета впервые прозвучала мелодия, три четверти века спустя пропетая как «Есть город золотой», что-то вроде гимна золотой молодежи в девяностые годы двадцатого века. Для Аделаиды подыскивали уже партнера на роль Данте, но с партнерами в балетах Аделаиды всегда были проблемы: с одной стороны, искусство партнера должно было быть безупречным, а, с другой стороны, самому ему предлагалась почти полная незаметность, роль тени при балерине, у которой был другой, настоящий партнер, отсутствующий на сцене, но присутствующий в ее жизни, а ее жизнь была тогда танцем, ничем иным. И вот с этим-то партнером отношения сразу же начали разлаживаться без Распутина. Они не расстались. Приезжая в Петербург, Чудотворцев фактически жил у Аделаиды, хотя для приличия всегда снимал скромный номер в гостинице. Но близость их дала трещину Более того, сразу же после смерти Распутина Аделаида начала уклоняться от этой близости, что затронуло не только Платона Демьяновича. Я с удивлением узнал, что и со своей ненаглядной Машенькой («сердечко мое!») она с тех пор перестала видеться (или моя юная тетушка-бабушка перестала с ней видеться?). Но ma tante Marie перестала видеться и с Платоном Демьяновичем, а ведь по соседству с ним в Мочаловке она жила долгие годы. И разумеется, вне круга их общения оказался князь Лик, даже когда его освободили из-под домашнего ареста, а как выяснилось, до убийства князь Лик виделся и с Чудотворцевым, не избежав его влияния. Причем у меня складывается впечатление: Аделаида, княжна Горицветова и, возможно, Платон Демьянович перестали видеться с князем Ликом не потому, что обвиняли его в убийстве Распутина, а потому, что чувствовали виноватыми себя, и не только перед убитым Распутиным, но и перед его убийцей. Если князь Лик убил Распутина из ревности, как убеждала меня тетя Маша, не они ли дали Ликушке повод ревновать Распутина… к ним и к нему? Но самое главное, им всем была нанесена глубокая интимная рана, так и не зажившая с тех пор. Что-то ушло от них (из них?), оставив незаживающий кровавый след. Не это ли имела в виду Кира и не слова ли Платона Демьяновича повторяла (она часто повторяла слова своего отца, как бы за это не злилась на него и на себя), когда на широкой запущенной кровати шептала мне, срываясь на крик: «Убив Распутина, революцию кастрировали».
Платон Демьянович действительно называл Февраль семнадцатого года кастрированным бунтом, иронически улыбаясь, когда при нем говорили о Февральской революции. То, что называют Февральской революцией, по мнению Чудотворцева, сводилось к одному событию: к отречению Николая И. Платон Демьянович полагал, что государь решился на отречение сразу же после убийства Распутина, а задумал его гораздо раньше. «Империя Рюриковичей» Аристарха Ивановича Фавстова не прошла для Николая бесследно, поколебав его уверенность в своей легитимности, если эта уверенность не была поколеблена гораздо раньше, Ходынкой, Кровавым воскресеньем, вообще, революцией девятьсот пятого года, единственной настоящей русской революцией. Но Николай намеревался не просто уйти, царству он в глубине души предпочитал святость, которой в конце концов и сподобился. Не забудем, что Распутин давно уже склонял его именно к отречению, а без Распутина царство вообще утратило для Николая смысл, так как пропало чаянье народной монархии. Убийство Распутина означало окончательную победу Антанты над Святой Русью, а этой победой было предопределено убийство русского царя, каким бы верным союзником Антанты царь ни был, что только способствовало его гибели. Кампания против немки Алисы Гессенской, хотя она была скорее англичанкой, а точнее, против православной русской царицы велась и после отречения Николая, направленная в первую очередь против него. В этом смысле убийство Николая II было аналогично убийству Павла I, а убийство Распутина нанесло царю смертельную рану. От убийства Распутина до отречения Николая прошло всего два месяца. Трагедия завершилась в эти два месяца, а события с февраля по октябрь Чудотворцев считал политическим фарсом.
Платон Демьянович говорил мне, что октябрьский переворот был неизбежной заслуженной реакцией на этот фарс и что Октябрь он приветствовал, даже не распознав еще в тот момент его истинного значения, для чего потребовалось время; злосчастный выстрел Авроры и штурм Зимнего были слишком будничными происшествиями на фоне всеобщей разрухи, но Чудотворцев, безусловно, не принял Февраля, а Октябрь принял, хотя вполголоса называл Октябрьскую революцию октябрьской контрреволюцией, «если уж на то пошло», – добавлял он.
Прежде всего, Октябрь означал разрыв с Антантой, хотя и не означал выхода из мировой войны, продолжавшейся на протяжении всего двадцатого века и вторгающейся в третье тысячелетие христианской эры, что далеко не всеми осознано даже в наше время. Таким образом, верный союзник Антанты Николай II поплатился и за разрыв с Антантой, хотя отнюдь не был виновен в этом разрыве. Возможно, тайные идеологи Антанты полагали, что, если бы монархия в России была ликвидирована раньше, Октября не последовало бы и Россия не вышла бы из войны. Во всяком случае, страны Антанты не выразили особой готовности предоставить убежище русскому царю, отрекшемуся от престола, и подобная нерешительность союзников способствовала гибели царской семьи. Но аналогия с убийством Павла I остается отдаленной, проблематичной и несколько натянутой, что, правда, и придает ей некую извращенную достоверность. Аналогия эта в своей жуткой зыбкости не исключает другого истолкования вроде бы противоположного. Убийство царя, отрекшегося от Престола, – продолжение октябрьской контрреволюции, ее центральное событие, парадоксально связанное с установлением (с восстановлением?) самодержавия, упраздненного Февралем. О большевистском или о комиссарском самодержавии говорила и писала либеральная эмиграция, как правило, не подозревая, какое пророчество кроется в публицистическом штампе. К цареубийству явно вело разуверение народа в династии, но за цареубийством непременно следует искание нового, истинного, вечного царя. Такова движущая сила всех революций (см. «Власть не от Бога»). В то же время цареубийство – испытание царской крови на истинность, жертвоприношение, если была пролита кровь истинная, и мученичество, если была пролита просто кровь. Но бывает ли кровь неистинная? Этот вопрос приобретает особый смысл в связи с цесаревичем Алексеем, чья несворачивающаяся кровь требовала распутинского врачевания и была окончательно пролита после того, как Распутина убили. Проблематика крови, интимно связанная для Чудотворцева с Лоллием и Раймундом (и еще кое с кем), была затронута в его труде, изданном после октябрьского переворота («Жертвоприношение в истории», 1922). Возможно, первоначальное название труда – «Цареубийство в истории», чем он и привлек сочувственное внимание некоторых интеллигентных большевиков, как говорили злые (и не только злые) языки. Разумеется, «Жертвоприношение в истории» просто по цензурным соображениям не могло впрямую коснуться екатеринбургского убийства, но находились читатели, от которых не ускользнул зашифрованный или иносказательный анализ этого убийства в книге. Чудотворцев едва ли не первым заговорил о мученичестве царской семьи, что и фигурировало в обвинениях, выдвинутых против него уже при первом аресте.
В жизни Чудотворцева происходили в это время события тягостные и гнетущие, вполне соответствующие духу наступающего безвременья. Супружеские отношения Платона Демьяновича с Олимпиадой окончательно прекратились задолго до звездной бури с Панночкой. Не только в Быковской усадьбе, но и в обширной квартире на Арбате супруги жили не просто в разных комнатах, но на разных половинах. За квартиру продолжала платить Олимпиада, но Платон Демьянович предпочитал все эти годы жить на собственный счет, на свое профессорское жалованье и на гонорары от своих книг, хотя формально ему по-прежнему принадлежали все доходы от обручевского купеческого дела и даже от колбасы «Гордеевна»; фамилия Чудотворцев не могла не фигурировать в мире российского предпринимательства, хотя эту фамилию следовало бы употреблять исключительно в женском роде: «Чудотворцева». Впрочем, Платон Демьянович истратил изрядные суммы из Киндиного наследства (одна покупка замка чего стоит), и Олимпиада никогда ему не отказывала, но, может быть, именно поэтому он сам постепенно отказался от купеческих доходов. Олимпиада не отказывала супругу в деньгах, но и не навязывала их ему, предназначая свои доходы исключительно сыну Павлуше. Полюс получал блестящее музыкальное образование, стоившее весьма недешево. Как раз в это время у него ломался голос, и Олимпиада жила в напряженном, болезненном ожидании, продолжая верить, что Павлуша унаследовал голос деда Демьяна (он же Демон).
И материнское чаянье было вознаграждено раньше, чем ожидалось. У Полюса прорезался бас, и не оставалось никаких сомнений в его выдающихся вокальных данных. Но случилось это в послеоктябрьском хаосе, в самом конце 1918 года. Нечего и говорить, что дело Олимпиады к этому времени окончательно рухнуло, перестало существовать. Оно переживало упадок с самого начала войны, хотя «Гордеевна» еще продолжала приносить внушительные доходы, и на имя Павла Чудотворцева исправно продолжала поступать пенсия от Орлякина, ухитрившегося-таки заранее уехать за границу (кажется, через Скандинавию). Но в 1917 года все предприятия Олимпиады встали окончательно еще до того, как они были формально национализированы. Пенсия от Орлякина тоже сразу же прекратилась. Впервые в жизни Олимпиада оказалась на полном иждивении у мужа. Конечно, Платон Демьянович был обеспечен не ахти как, но за лекции ему кое-что перепадало; шла речь об издании его трудов, и когда какой-то издатель ухитрился переиздать «Власть не от Бога», сразу стало заметно, что книга приобрела иное звучание, вернее, сохранила прежнее, крамольное, хотя власть переменилась и сама признавала, что она не от Бога. Но это сошло Чудотворцеву с рук, поскольку книга его все еще вписывалась в легенду о революционном 1905 годе, давая пищу слухам о том, что Чудотворцев – неофициальный идеолог большевизма, а теперь и в официальные метит, но, главное, это давало вполне осязаемую пищу самому Чудотворцеву и его семье. Лекции Платона Демьяновича были тогда совершенно аполитичны. Он читал все о том же Платоне, о гнозисе, о средневековых ересях, в частности, об альбигойцах, его слушателями были революционные солдаты и матросы, сознательные, а то и несознательные пролетарии, и все они слушали профессора с интересом, ощущая самую возможность его слушать как одно из своих завоеваний. За лекции Чудотворцеву перепадала все та же тогдашняя «пша» и вобла, но в таком количестве, что семью кормить он кое-как ухитрялся, читая по две, по три лекции в день (день включал в себя вечер и значительную часть ночи). Разумеется, Полюсу с его голосом требовалось не такое питание. Знаменитый московский преподаватель вокала Яков Семенович Бунин заверил Олимпиаду, что ближайшее будущее Полюса – Большой театр, а в дальнейшем, вероятно, «Ла Скала». Он давал уроки Полюсу теперь уже бесплатно, по своей тщательно разработанной системе, вовлекал юношу в поющий мир, щадя при этом его неокрепший голос. Полюс дневал и ночевал в обширной квартире своего наставника, благо квартира находилась в Мерзляковском переулке, неподалеку от квартиры Чудотворцевых. В квартире Якова Семеновича нашлась для Полюса еще одна наставница, впоследствии самая главная для него, уже тогда одарившая его своим любовно-бдительным присмотром. Это была дочь Якова Семеновича, подающая надежды пианистка Марианна. Воспитанная на легендах об Антоне Рубинштейне, с раннего детства воображающая себя наследницей его пианизма, она бредила «Демоном», в этом смысле истая преемница Нины Темрюковой и Натальи Темляковой, теперешней матери Евстолии. Марианна с детства концертировала, не успев повзрослеть, утомленная судьбой вундеркинда. Это была высоконькая, стройная девушка, уже привыкшая к длинным концертным платьям, но внешне выглядевшая моложе своих лет (Марианна была старше Полюса на два года, но казалось, что он в своей преждевременной мужественности старше нее). В быту Марианна одевалась небрежно (Яков Семенович давно овдовел, и Марианна не успела испытать материнского влияния). По мере того как Марианна становилась знаменитой, она переносила небрежность в одежде на концертную эстраду и под старость выступала чуть ли не в затрапезе. Ее девичья худоба как-то незаметно и довольно рано перешла в аскетическую худобу старицы, но и тогда она оставалась привлекательной для многих. Особенно поражали ее глаза, черные, но сияющие. Марианна рано начала седеть, и седина только подчеркивала смуглую бледность ее лица, все еще молодого. В юности Марианна была брюнетка, жгучая и потому светлая, если можно так выразиться: при лунном свете ее длинные косы, завязанные узлом (короткую стрижку она предпочла лишь под старость), начинали светиться золотистым отливом, который должен был кое-что напоминать Платону Демьяновичу, а если также и Полюсу, то в этом уже сказывалась наследственность не иначе как мистическая. С Полюсом она вела себя как старшая сестра, хотя, как было сказано, у Полюса были другие намерения в отношении Марианны. И она сама противилась этим намерениям с разной степенью решительности, что не могло не обнадеживать Полюса, в особенности когда вдруг в самый разгар антирелигиозных гонений, чуть ли не во время суда над патриархом Тихоном, Марианна крестилась.
В самом конце 1918 года или в самом начале 1919 года (старый и новый стиль тогда еще путались) Чудотворцев сидел в своей обширной холодной квартире наедине с Олимпиадой, как почти всегда теперь. Полюс был у Буниных. Он там действительно дневал и даже ночевал, так как занятия музыкой требовали времени, и Яков Семенович подчинил жизнь своего ученика особому режиму, да и представления о приличиях уже сдвинулись. Марианна уже тогда аккомпанировала Полюсу на уроках, как впоследствии в его немногих концертах. Яков Семенович не видел ничего дурного в сближении дочери с многообещающим певцом, да и в квартире они были не одни: кроме Якова Семеновича, там жила младшая сестра и старший брат Марианны, собиравшийся жениться, к тому же то и дело приезжали родственники из голодной промерзшей провинции, так что спать приходилось чуть ли не вповалку.
Платон Демьянович только что вернулся после лекции, и Олимпиада согрела на примусе пшенную кашу, которую запивали морковным чаем. Это было относительным благополучием в те времена. Олимпиада сильно кашляла, и Платон Демьянович уверял себя, что кашель у нее от дыма. Буржуйка немилосердно дымила, а Олимпиада не переносила дыма, предпочитая ночевать в комнате, совсем не топленной. Кашель мешал ей говорить, но в этот вечер она заговорила с мужем, преодолевая кашель, который все равно прерывал ее на каждом слове.
– Слушай, сказала она вдруг, – почему ты не уезжаешь с ней… (тут прорвался кашель и надолго прервал ее) к ней, – выговорила она наконец.
Охотно верю, что Платон Демьянович и впрямь не сразу понял, о ком идет речь. Олимпиада заговорила с ним об Аделаиде в первый раз, хотя не могла не знать о ней все эти годы. В тот вечер, давясь мучительным кашлем, Олимпиада предложила Платону Демьяновичу уехать с Аделаидой за границу при одном условии: он возьмет с собой Павлушу, чтобы тот стал там великим певцом, как его дед.
– Увези ты его, Христа ради, – продолжала Олимпиада, – Чудотворцевым здесь житья не будет.
Платон Демьянович содрогнулся при этих словах, зловеще подтвержденных захлебывающимся кашлем Олимпиады. А Олимпиада настаивала на своем, сквозь кашель выдавливая из себя все новые, несомненно, заранее тщательно продуманные аргументы:
– Аделаида – великая балерина. Ее в Европе с распростертыми объятиями встретят. А с нею и тебя. Ты же… ты тоже… (кашель взрывался при каждом слове) ты же великий философ. Только не забудь, что сын твой – великий певец, как отец твой, дед его… (Чудотворцев не расслышал, сказала ли она «Демьян» или все-таки «Демон»). Уезжай, слышишь? Обещай мне…
Платон Демьянович был смущен… и поражен. Действительно, он давно не виделся с Аделаидой, что можно было объяснить перебоями с железнодорожным транспортом и необходимостью ради хлеба насущного читать по нескольку лекций в день. Но, честно говоря, он и раньше виделся с Аделаидой не так часто, как можно подумать. В конце концов, он был профессором Московского университета, хотя читал лекции и в Петербургском, и тогда ему случалось жить у Аделаиды по нескольку дней. И Аделаида приезжала в Москву частенько… тогда, но не теперь. Очевидно, Олимпиада даже не подозревала, какую трещину таила звездная буря после убийства Распутина. Это было нечто более горькое и постыдное, чем охлаждение, хотя о разрыве ни тот ни другая даже не заикались, лишь про себя чуть ли не радовались любому предлогу отложить очередное свидание, неизбежно напоминающее… его, о нем, как о нем ни молчи. Так что октябрьская смута была обоим даже на руку Но не говорить же обо всем этом Олимпиаде. А она продолжала свое, задыхаясь от кашля:
– Уезжай, уезжай немедленно. Уезжай с Павлушей! Обещай мне!
– Но как же я тебя оставлю… – пробормотал Платон Демьянович.
– Обо мне не беспокойся. Я уйду… в скит уйду… к матушке Евстолии… Я давно решила… И она знает…
– А как же… как же По… как же Павлуша… без тебя? – отважился выговорить Платон Демьянович.
– Знаю, что на этом свете больше никогда не увижу его. Но это ради него… ради него, – твердо выговорила она. В этот момент даже кашель замер у нее в горле, лишь слезы текли по ее бледным, одутловатым щекам. – Но не бойся, ты уедешь не с пустыми руками. Правда, у тебя там замок, – усмехнулась она, – но и я кое-что припасла… на черный день.
Олимпиада поставила перед Платоном Демьяновичем на стол внушительную шкатулку и, когда она открыла ее, при жалкой стеариновой свечке засверкали драгоценности. Олимпиада росла все-таки без матери, да ее мать и сама была бесприданница, так что приданого, приличествующего купеческой невесте, унаследовать Олимпиаде было не от кого, и некому было его для Олимпиады собрать. Она сама скупала драгоценности, предвидя худшие времена, которые и наступили.
– Это все для Павлуши… и для тебя. – Кашель надолго прервал ее. – Имей в виду: на границе все это могут конфисковать. Но она… не сомневаюсь, твоя панна все провезет. Знаменитую балерину даже они обыскивать не посмеют. А свой вклад в скит я уже внесла.
Отношения Олимпиады со скитом никогда не прерывались. Она регулярно посылала матушке Евстолии письма, в которых, как могла, подробно описывала жизнь Платона Демьяновича, не упрекая его ни в чем и не жалуясь на него. Некоторые из этих писем чудом сохранились. Сохранилось и письмо матушки Евстолии, благословляющее Олимпиаду на расставание с мужем и сыном, а также на уход в скит. Примером для Олимпиады была сама Евстолия, без липших слов обрекшая себя никогда больше не видеть ни внука… ни сына. По крайней мере, Олимпиада могла быть уверена, что в скиту больше никто не назовет ее Гордеевной.
Олимпиада засобиралась в скит на другое же утро, но днем позже слегла в страшном жару, задыхаясь от непрерывного кашля. Доктора Госсе давно уже не было в живых. Старенький доктор, которого позвал Чудотворцев, нашел у больной крупозное воспаление легких. У нее уже началось кровохарканье, а она по-прежнему лежала в нетопленой комнате, где температура упала ниже нуля, а на улице стоял трескучий мороз. Когда Чудотворцев спросил, что же делать, старичок только руками развел, совсем как его предшественник доктор Госсе:
– Платон Демьянович, все под Богом ходим…
Не успел доктор уйти, как в квартиру снова кто-то позвонился, как тогда говорили. Платон Демьянович подумал, что это Полюс пришел, но, когда он открыл дверь, ему предстал… лесной старец в своей белой овчине. Платон Демьянович не видел его много лет и подумал, что лесной целитель пришел исцелить больную. Но вошедший молча благословил Платона Демьяновича и затворился в комнате с больной. Через некоторое время он вышел оттуда, еще раз молча благословил Платона Демьяновича, запахнул свою милоть и скрылся за дверью. Только тогда Платон Демьянович понял, что приходил не лесной старец, изготовитель эликсиров, а старец Иван Громов. Олимпиада отошла вскоре после его ухода. Полюс ворвался в комнату буквально в последнюю минуту. Он пришел с очередного урока. Олимпиада запрещала говорить сыну, насколько серьезно она больна. С растерянным видом он стоял у материнской постели. Олимпиада тихо улыбнулась ему, перекрестила сына, взяла его за руку да так и умерла, не выпуская его руки из своей. Олимпиаду похоронили на кладбище в Быкове, рядом с Киндей Обручем. В гробу отвезли ее туда на санях. Могилу едва успели выдолбить в мерзлой земле, и среди копавших могилу был кто-то очень похожий на лесного старца. Едва ли не он же прочитал молитву над могилой. Яков Семенович скрепя сердце отпустил Полюса на похороны матери. От мороза мог пострадать его голос. Но с Полюсом поехала даже Марианна, хотя тогда еще она не была православной. После похорон негде было даже обогреться, и в свою клетушку их пригласила та самая, уже вся седая фельдшерица Софья, в свое время более чем близкая знакомая Платона Демьяновича, принимавшая у Олимпиады Полюса и теперь поселенная новой властью в общежитии, то есть в бывшем доме Кинди Обручева. Вся усадьба была национализирована сразу же после октябрьского переворота.
А Платон Демьянович все еще вспоминал и обдумывал последние или предпоследние слова Олимпиады. И в предсмертном бреду она была скупа на слова, но воспоминаний и обдумываний последних Липочкиных слов Платону Демьяновичу хватило на всю его долгую (кто-то сказал: нескончаемую) жизнь. Когда он пытался успокоить Олимпиаду насчет Павлуши, дескать, пенсия от Орлякина вот-вот возобновится, Олимпиада только усмехнулась. (И то сказать, Арлекину к тому времени было больше семидесяти лет, и за границей он далеко не процветал, что Чудотворцеву следовало бы знать.) Но умирающая не удержалась и спросила своего благоверного:
– Неужели ты до сих пор не понял?
– Что не понял? – откликнулся Платон Демьянович, колеблясь, не в бреду ли она говорит.
– Да эту пенсию… я платила с тех пор, как ты замок свой купил.
И за несколько минут до того, как в комнату ворвался Полюс, она чуть слышно прошептала:
– Я была тебе верной женой… как умела. Но Бог знает, была ли я тебе женой… У тебя же другая есть… Уж она-то тебя не оставит…
Можно было подумать, что она говорит об Аделаиде, но тут вбежал Полюс, и у Чудотворцева осталось предположение, что Олимпиада чего-то не договорила и вообще не Аделаиду имела в виду. Так или иначе, после смерти Олимпиады Чудотворцев окончательно прекращает работу над «Действом о Граали» и решительно приступает к исследованию о православной эпиклезе, почувствовав себя свободным от обязательств перед Орлякиным. По некоторым словам Платона Демьяновича можно заключить, что работу над «Действом» запретил ему старец Иоанн, но это все-таки мой домысел. По сохранившимся от «Действа» фрагментам можно судить, как необычно оно было задумано. По Чудотворцеву Парсифаль сначала попадает не в замок страждущего короля Анфортаса; то, что он видит, – лишь наваждение Клингсора, в точности воспроизводящее, впрочем, твердыню Мунсальвеш (Монсальват) с Граалем и всеми его ритуалами, так что Парсифаль одновременно виновен и невиновен: виновен, потому что не спросил, чем вызваны страданья короля; не виновен, так как, хранимый Провиденьем, не поддался искушению, пусть невольно, чтобы извлечь из искушения урок и задать свой вопрос, когда вопрос действительно целителен, а не тогда, когда его целительную силу может присвоить себе Клингсор, присваивающий своему замку имя La Merveille. По фрагментам видно, как тщательно разрабатывалась Чудотворцевым линия Кундри и как артистично старался он уйти от влияния Рихарда Вагнера. Сохранился танец Кундри, отчасти напоминающий «Весну Священную» Стравинского, но на другой мелодической основе, скорее всего, на кельтской, не без шотландских волынок, настоящий зародыш балета, наверняка дававший пищу мечтаниям Аделаиды.
Не прошло и сорока дней после смерти Олимпиады, как Аделаида объявилась в Москве. «Почуяла мертвечину», – обмолвилась бабушка Кэт. Аделаида вела какие-то переговоры насчет своих возможных гастролей в Москве, но истинной целью ее приезда было, конечно, свидание с Чудотворцевым; и тот, разумеется, не мог уклониться от этого свидания. Аделаида предложила ему буквально то, на чем настаивала перед смертью Олимпиада, как будто Аделаида сговорилась с покойницей. Напрашивалось подозрение, не поторопила ли Олимпиада свою смерть, чтобы развязать Платона Демьяновича для скорейшего отъезда в свободный мир, как сказали бы позже. Именно это и предложила Платону Демьяновичу Аделаида, включая отъезд Полюса (о его вокальных данных она успела навести справки, да и сама она верила в легенду о голосе Демона). Для самого Платона Демьяновича она добилась приглашения читать лекции в Сорбонне о платонизме ранних схоластиков. «Бытие имени» было к тому времени уже переведено на французский язык. Сама Аделаида должна была показать в Париже свои, то есть чудотворцевские балеты. Чудотворцеву трудно было отказаться от подобных перспектив, но, как впоследствии выяснилось, это не значило, что он согласился.
И Олимпиада, и Аделаида недооценили прочность «железного занавеса», о котором В.В. Розанов тогда уже написал, но и он вряд ли представлял себе бюрократическую будничность и непроницаемость этого апокалиптического образа. Казалось бы, новая власть не должна препятствовать отъезду тех, кто, мягко говоря, не совсем ей сочувствует, и следовало бы поощрять их добровольную, лояльную эмиграцию, так как ожесточенных, скрытых противников внутри страны хватало и без них, но, оказывается, для того чтобы выехать за границу, нужно долго и упорно «убежденно» доказывать свою лояльность к советской власти и брать на себя торжественное обязательство не бороться против нее ни при каких обстоятельствах, что, кстати, и в принципе невозможно, если отъезжающий так лоялен, как он вынужден утверждать. Всему этому Аделаида подверглась на всю катушку. Для нее было полной неожиданностью встретить среди начальников, решающих вопрос о выезде, таких утонченных ценителей ее искусства. Они столь проникновенно говорили о значении классического балета для Советского государства и о ее, Аделаиды, хореографическом гении, что она сама, кажется, заколебалась, уезжать ли, и убеждая Платона Демьяновича, убеждала сама себя. Аделаида слово в слово повторяла аргумент Олимпиады: «Чудотворцевым здесь житья не будет». Напомнила она ему и о недавнем расстреле Аристарха Ивановича Фавстова. Аделаида была совершенно убеждена, что без Платона Демьяновича ее искусство не имеет будущего, а, следовательно, ее дальнейшая жизнь без него не имеет смысла; она пускала в ход всю свою упоительную нежность, чтобы убедить Платона Демьяновича, и тот высказывал что-то вроде согласия. Она даже пробовала хлопотать за него перед начальниками, занятыми ее делом, но они, улыбаясь двусмысленно, лишь спрашивали Аделаиду, кто уполномочил ее говорить от имени известного философа и, в конце концов, чужого ей человека. Если бы она была хотя бы его супругой… – тонко улыбались ее собеседники, совсем непохожие на неотесанных пролетариев, хотя, быть может, и преображавшиеся в них, как только за панной Вышинской закрывалась дверь. Но даже тогда Аделаида не допускала мысли о том, чтобы выйти замуж за Платона Демьяновича. Во-первых, слишком мало времени прошло после смерти Олимпиады, а во-вторых, она была непоколебимо убеждена, что замужество для нее запретно, что она обречена на безбрачие своим искусством, что она монахиня в миру, как она говорила моей юной тетушке-бабушке. Так что Аделаиде не оставалось ничего другого, кроме как настаивать на том, чтобы Платон Демьянович сам наконец обратился к властям по поводу своего выезда. «Вы рискуете, Платон Демьянович, своей и моей жизнью», – говорила она. (Аделаида с ним оставалась на «вы», кроме, может быть, самых интимных мгновений их близости, как и другие женщины, не исключая его законной, венчанной жены: Олимпиада окончательно перешла со своим супругом на «ты» лишь при последнем объяснении, то есть, накануне смерти.) И Платон Демьянович не возражал, возможно, даже ходил куда-нибудь, но в точности неизвестно, ходил или нет. Мне, во всяком случае, не удалось обнаружить никаких подтверждений того, что Платон Демьянович ставил тогда перед властями вопрос о своей поездке за границу; разве что он зондировал почву через третьих лиц, но и то сомнительно. А главное, тут возникло обстоятельство, позволявшее Чудотворцеву отложить или, скажем, прервать переговоры с властями по поводу своего выезда, если такие переговоры велись. На некоторое время Чудотворцев должен был уехать из Москвы, правда, недалеко, но причина не приезжать в Москву была уважительная. Короче говоря, Чудотворцеву принимая во внимание понесенную им тяжелую утрату предложили восстановить силы в здравнице для ученых, только что организованной под Москвой, и он с благодарностью согласился.
Здравница находилась в Кратове, откуда до Быкова рукой подать, и Мочаловка, и Москва в пределах досягаемости. Впоследствии эту здравницу переквалифицировали в санаторий для старых большевиков. Но нельзя же пользоваться благами здравницы, столь драгоценными в столь тяжелое время, и каждый день добираться до Москвы, чтобы ходить по разным учреждениям, как того требовали хлопоты об отъезде ни много ни мало за границу. К тому же в здравнице был установлен режим, нестрогий, щадящий, но все-таки обязательный. Отсутствуя даже по уважительной причине, пациент рисковал трехразовым питанием, составлявшим важнейшее преимущество здравницы. (Слово это уже приобрело неизгладимо советский колорит, сочетающий доброжелательность с принудительностью, оздоровительное с исправительным.) Десять лет спустя Чудотворцев понял, что режим здравницы был предвестием тюремно-барачного будущего. Но тогда он даже режим принимал как должное. После тяжелой зимы, которой, казалось, конца не будет, Чудотворцева застигла врасплох ранняя, можно сказать, неожиданная и потому особенно бурная, подмосковная весна. Сначала Чудотворцева поразило журчание ручьев, переходящее в рокот и в грохот. Можно было подумать, что большая река разлилась, хотя неизвестно какая; Москва-река текла далеко в стороне, а вокруг было настоящее половодье. Рядом с могучими, гулкими потоками сквозь островки смерзшегося, потемневшего снега пробивались ручейки, кроткие, вкрадчивые, мутные в тени, а на солнце совершенно голубые, сливающиеся с голубизной паводка, чтобы вместе с ним вобрать в себя небесную голубизну, где на закате таял и все никак не мог растаять расплывчатый, но четкий молодой месяц:
Не успеешь выбежать из дому Ни назад не глянешь, ни вперед; Солнцем подожжет весна солому Целиком глаза в себя вберет.И над этими глазами весны, курлыкая, крякая и гогоча, кружили перелетные птицы:
И увидишь ты свои угодья, В новолунье различишь свой герб Лебединым оком половодья, Синевой с хрусталиками верб.И тут же возле студено вскипавшей воды пробивались цветы, млечные подснежники, голубые пролески, солнечно-желтая мать-и-мачеха. И на мрачном по-весеннему фоне хвойного леса выделялась черная рамень лиственного, пока еще коричневатая на солнце, – грифельная доска, сквозь которую начинают пробиваться зеленые письмена.
Каждый день Платон Демьянович надолго погружался в это звучное, изобразительное изобилие, отвлекаясь от рукописи, привезенной с собой. Вероятно, он готовил к печати «Жертвоприношение в истории», но, может быть, там, в здравнице, появились и первые наброски книги «Материя мифа», где так ощутимы веяния природы, чувственно-упоительный диалог со стихиями. Но в кратовской здравнице Чудотворцев частенько отвлекался от рукописей, привезенных из Москвы, и начал писать кое-что другое. Дело в том, что свою комнату он делил не с кем иным, как с Гавриилом Правдиным, и обоим было о чем поговорить. На них обоих действовала головокружительная весна, располагавшая к бессонницам, хотя соловьиное пение они услышали лишь в конце своего здравничного срока. У обоих были поводы не спать по ночам, что располагало философов к длинным разговорам, но ночные разговоры пришлось прекратить не только по требованиям режима: и Чудотворцев, и Правдин вскоре заподозрили, что режим проявляется не только в запрещении разговоров, но и в подслушивании из-за стены или даже из-за двери в коридоре. Первым насторожился Чудотворцев, чей слух обострялся по мере того, как зрение слабело. Он дал себе труд зажечь лампу (они разговаривали в темноте) и на листке бумаги написал: «Не подслушивают ли нас?» Гавриил Львович усмехнулся и черкнул свой вопросительный ответ на том же листке: «Неужели у нас появились анонимные эккерманы?» Этот намек на «Разговоры с Гёте» заставил Платона Демьяновича тоже улыбнуться. Оба философа сперва отнеслись к подслушиванию с юмором. Они не говорили ничего такого, за что советская власть могла бы их преследовать, а времена, когда расстреливают за случайное слово, прошли, хотелось бы верить, и еще не вернулись. Но к осторожности призвал Платона Демьяновича как раз Гавриил Львович, громко напомнивший, что по ночам нужно спать, и вполголоса тут же предложивший Платону Демьяновичу записать свои интереснейшие аргументы, что Платон Демьянович и сделал, не гася лампы. Гавриил Львович утром прочитал их и утром же сел писать ответ. Так началась переписка двух микрокосмов, разместившихся в одной комнате. Любопытно, что ни тот ни другой не заметили каких-либо попыток читать эти письма, хотя они открыто лежали на ночных столиках (письменный стол был в комнате один, и они писали за ним, сидя друг рядом с другом), а в комнату, когда философы отправлялись на прогулку, каждый день заходили под предлогом уборки. Судя по всему, то, ради чего велось подслушивание, можно было только услышать, а не прочитать.
Гавриил Львович держался тогда с наигранным оптимизмом, сквозь который прорывалась, однако, тревога, смятение, даже отчаяние. Февральская революция решила главную проблему его личной жизни, узаконила его брак с Ольгой Евграфовной, и его дочери Анна и Елизавета перестали быть незаконнорожденными. Но законность этих его почти взрослых дочерей оказалась призрачной, так как советская власть вообще отвергла различие между детьми законными и незаконными, поскольку не стало ничего законного… после разгона Учредительного собрания, – добавлял Правдин вполголоса. Гавриил Львович писал Платону Демьяновичу что история знает революции двух типов: революцию Закона и революцию беззакония, но поскольку само слово «революция» означает «возврат», революция возвращается к Закону возвращает миру Закон, и такой революцией в России была Февральская революция. В этом смысле Правдин понимал стихи Осипа Мандельштама:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля.Самодержавие было беззаконно, ибо оно устанавливало власть, основанную не на Законе, а на воле, пусть это даже воля Божья, но, насколько человеку известно, с волей Божьей совпадает Закон, и иначе, как через Закон, воля Божья не проявляется.
Чудотворцев отвечал на это, что законных революций не бывает: революция всегда направлена против закона, движимая и обуреваемая стихией. Революция напоминает человеку что воля Божья непостижима, а Закон, даже если он от Бога, – лишь адаптация Непостижимого к человеческому пониманию. Таковы даже законы природы, которые говорят больше о человеческом сознании и об его ограниченности, чем о безграничности бытия, что подтверждается и современной физикой, усматривающей в законах лишь статистически распространенное: до сих пор, как правило, бывало так, но это вовсе не значит, что иначе быть не может. Иными словами, закон есть слишком человеческое, а человек рано или поздно восстает против слишком человеческого, и он прав; «ибо сила греха – закон» (1 Кор., 15:56). Революция есть чаяние чуда, без чего человек впадает в бесчеловечное, а бесчеловечного в нем хоть отбавляй.
Правдин отвечал на это, что если даже сила греха – Закон, значит, нет другой силы в мире, и вне мира, а грех (в частности, революция беззакония) есть лишь злоупотребление тем же Законом, ибо, не будь Закона, не было бы и злоупотреблений. Но если Закон един для всех времен и народов, какой смысл имеет существование различных государств? Разве все войны и, в конце концов, мировая война происходят не от этого различия? Худший источник зла – государственные границы: «Они пахнут трупами». (Тут Гавриил Правдин процитировал Велимира Хлебникова.) Соединенные Штаты Европы могли бы стать вторым шагом к Соединенным Штатам Земного Шара (первым шагом были Соединенные Штаты Америки). Точно так же дело ближайшего будущего – соединение Евразии и Еврафрики (термин «Еврафрика» предложил, насколько мне известно, именно Гавриил Правдин возводя его к Римской империи, видя в ней торжество Закона вместе с Иосифом Флавием, писавшим: «И если тебя кто-нибудь спросит, где твое счастье, где твой Бог, ответь: в большом городе Риме». В этом смысле Гавриил Правдин понимал и принимал Третий Рим, если в нем установится Закон, распространяющийся на весь мир, чем, по учению Гавриила Правдина, не может не завершиться мировая война, впадающая в мировую революцию и в конечном счете совпадающая с ней). «Мой исторический оптимизм непоколебим», – писал Правдин, хотя в самой категоричности такого заявления таилось, как было сказано, нечто иное. Гавриил Правдин настаивал на том, что он признает мировую революцию Закона, и это приводило в особую ярость Михаила Верина, усматривавшего в революции Гавриила Правдина настоящую контрреволюцию и, хуже того, пародию на то, что считал революцией он сам. Особенно бесило его скрытое родство и даже конечное тождество обоих концепций, которого он не мог не чувствовать: и то и другое было перманентной революцией, которую Михаил Верин отстаивал с пеной у рта, а Гавриил Правдин объявлял революцию Михаила Верина революцией беззакония. Но Правдин и на этом не остановился: по мнению Михаила Верина, его брат дискредитировал и другую марксистскую идею, если не говоря прямо об отмирании государства, то подразумевая его. Гавриил Правдин подтверждал в письме к Чудотворцеву, что разделение властей отпадает во всемирном царстве Закона: какая может быть законодательная власть, когда Закон дан раз навсегда, а тогда исполнительной властью пользуется каждый законопослушный гражданин, ибо что ему еще и делать, если не исполнять Закон. Из трех властей, установленных Монтескье, остается лишь власть судебная, основанная на толковании Закона. Гавриил Правдин объявлял нормой и целью истории не Книгу Царств, а Книгу Судей, напоминая, что Бог осудил израильтян, когда они потребовали себе царя вместо судьи, хотя у них уже был Закон, и требовать себе нечто кроме и сверх Закона означает революцию беззакония. Торжество Закона в мире, по Гавриилу Правдину, означает, естественно, конец истории, о котором Правдин, как и Чудотворцев, заговорил задолго до Фукуямы, но, в отличие от Чудотворцева, в духе своих Соединенных Штатов объявлял конец истории не только позитивным, но и сакральным.
«Апокалипсис со знаком плюс», – ответил ему на это Чудотворцев. Платон Демьянович счел бестактным указывать на более чем идейное родство братьев Верин-Правдин. Он только позволил себе спросить, что будет происходить после конца истории, в царстве чистого Закона. Царство, где Закон царит безусловно и непреклонно, уже существует, и это царство – ад, как он представлен, скажем, у Данте. Так не будут ли Соединенные Штаты Земного Шара распространением ада на Новый и на Старый Свет, поскольку Закон не предусматривает милосердия и, следовательно, не допускает его?
Это письмо, по-видимому, смутило Гавриила Львовича, и его ответ написан в другом тоне, как будто он высказывает то, что предпочел бы не высказывать и в то же время не может не высказать. Гавриил Львович напоминает свою главную идею: закон Моисея совпадает с категорическим императивом Канта, и в этом совпадении – Божественный Закон, единственная реальность. Загадка действительно в том, насколько человек может вместить эту реальность, даже если ему вверен Закон. И здесь Гавриил Львович ссылается на Фрейда, чей психоанализ должен стать подлинной жизнью под властью Закона. В предисловии к своей книге «Тотем и табу» Фрейд пишет, что табу, это древнейшее чаянье и проявление Закона, не что иное, как бессознательный категорический императив, действующий принудительно. Но категорический императив, по Канту, сама сознательность. В этом соотношении сознательного и бессознательного в категорическом императиве и кроется загадка бытия, это и есть единство противоположностей или осознанная необходимость, хотя и в самом осознании сохраняется соотношение осознанного и неосознанного. Фрейд лишь подошел к этой проблеме, ее истинную суть постигает лишь каббала, утверждающая, что в основе мира лежит пол; каждая душа раздвоена и обречена искать свою половину. Это искание души и составляет либидо. Здесь Фрейда дополняет Вейнингер. Если бы он не покончил самоубийством, вместо фрейдизма было бы, по всей вероятности, вейнингерианство. Вейнингер порицает или отрицает женственность как несовершенную половину, которая перестает быть половиной, воссоединяясь в целом, как сочетаются буквы Торы, тоже имеющие пол и образующие бытие. Но все двадцать две буквы образуют человека, а человек образует космос. В этом пункте Фрейд сближается с Эйнштейном, чья формула относительности совпадает в конечном счете с психоанализом в сочетании букв и чисел (сефирот). С восстановлением Закона возвращается Адам Кадмон, Человек Небесный, в котором оба пола, буквы и числа заключают между собой мистический брак, не оставляющий места аду и не нуждающийся в милосердии, так как это брак с Богом. (Письмо явно выдает симпатию или даже принадлежность Гавриила Правдина к элементариям.)
Платон Демьянович ответил на это письмо без обычного иронического скептицизма. Он отдавал должное грандиозному единению разрозненного человечества в Адаме Кадмоне и спрашивал только, при чем тут психоанализ, основывающийся все же на высказываниях пациента, настолько ложных, что никакой психоаналитик не доберется сквозь них до подсознания или до бессознательного, ибо оно совпадает с Несказанным и проявляется скорее в музыке или в пляске, а не в говорильне, где царит психоаналитик. Но на сеансах психоанализа, безусловно, не музицируют и уж никак не пляшут, что практикует скорее антропософия Штейнера. На сеансах психоанализа говорят, говорят, говорят, и не подсознание становится осознанным, а, напротив, сознание оказывается бессознательным, что выдается за сознательность. Такую бессознательную сознательность и прививают массам идеологи (камешек в огород Михаила Верина, также связывавшего с психоанализом коммунистическое будущее, где «не будет ни неврозов, ни религии, ни философии, ни искусства», «так что нам с Вами там делать нечего», – добавлял Платон Демьянович. Конечно, психоаналитик может приобретать власть над внутренним миром своего пациента, но тайна внутреннего мира при этом не разгадывается, а подавляется или даже отсекается, так что вместо Закона властвует законник, психоаналитик или идеолог, все равно. Правдинская революция Закона может обернуться худшим беззаконием, что диалектически. не исключает адской законности, выдаваемой за историческую необходимость. Чудотворцев испытывал органическое недоверие к власти, которая не от Бога. Может быть, худшее в октябрьском перевороте как раз то, что в нем начинает распознаваться революция Закона, а Закону большевики, в отличие от коммунистов, бессознательно предпочитают искание Царства, в просторечии называемое анархией, но в анархии и в монархии сказывается София Премудрость Божия, единственная истинная властительница мира, именем Которой Великий Новгород скреплял свои постановления и законы (вот где истинная законность). Так анархомонархизм, сколько бы над ним ни иронизировали, переходит в софиократию, чаемую русским бунтом, якобы бессмысленным и беспощадным; София правит миром через любовь и лепоту, а что это такое, вы увидите, если посмотрите в окно: несмотря ни на какие революции, в своей синеве царствует Весна-Красна, и настоящие красные за нее и с ней.
Так заканчивается последнее письмо Чудотворцева к Правдину («Чудо против Правды», – вот единственное, что написал тот в ответ), но Платон Демьянович целыми днями пропадал уже в лесу, куда начал ходить, как только просохли тропинки. Может быть, он искал встречи… с кем-нибудь, но никто ему тогда все равно не встретился. И все-таки последнее письмо к Правдину, написанное в одной комнате с ним (в одной сфере?), свидетельствует, что Чудотворцевский бунт против Софии, поднятый в отчаянье, завершился новым чаяньем все той же Софии.
А по ночам в Кратове запели соловьи, и Платон Демьянович ночи напролет вслушивался в соловьиные коленца, будто это членораздельная речь, возвещавшая нечто или предвещавшая. И соловьиное предвестие сбылось. Чудотворцев получил вдруг телеграмму: «Жду Вас Мочаловке Софьина 7 срочно приезжайте А.В.». Боюсь, что улица Софьина значила для Платона Демьяновича в тот момент больше, чем подпись, хотя он не мог не узнать инициалы Аделаиды. Чудотворцев поспешно простился с Правдиным и уехал из Кратова, чтобы никогда больше не возвращаться в здравницу (да она вскоре и была передана старым большевикам). Не доехав до Москвы, Платон Демьянович высадился в Мочаловке с чемоданом, где, правда, не было ничего, кроме книг и рукописей (остальной багаж, включая единственное зимнее пальто, он оставил на попечение Гавриила Львовича, и тот аккуратно доставил его на Арбат).
В доме 7 по улице Софьиной Платона Демьяновича действительно ждала Аделаида, и в ту ночь совы в саду молчали, лишь соловьи надрывались. Хозяева тактично не показывались, на пороге дачи Платона Демьяновича встретила Аделаида. Платон Демьянович и Аделаида провели свою последнюю ночь не просто в комнате, а в покоях, отведенных Варварой Маврикиевной отъезжающей панночке. Она получила нужные документы и уезжала за границу буквально завтра якобы на гастроли, но, откровенно говоря, без намерения возвращаться. (Ей категорически не советовал возвращаться ее осведомленный однофамилец или родственник пан Анджей Вышинский.) Аделаида убедила себя, что верит и в скорый отъезд Платона Демьяновича. Вот он вернется в Москву, пойдет наконец в нужное учреждение, получит нужные документы, и они свидятся, нет, навсегда соединятся в Париже. Не убедив себя в этом, Аделаида не смогла бы уехать. Кажется, и Платон Демьянович не исключал своего отъезда в ту ночь. Они обсуждали свои планы на будущее, и в то же время и она, и он знали, что не свидятся больше никогда. Аделаида никогда не переставала писать Платону Демьяновичу из-за границы, и в первые годы после ее отъезда он получал эти письма, даже отвечал на них. После ареста он, естественно, перестал получать любые письма, хотя она продолжала писать ему (Письма Аделаиды сохранились, надеюсь когда-нибудь опубликовать их.) Первое время Аделаида ездила по Европе со своими балетами, вдохновленными еще Чудотворцевым, но потом искусство панны Вышинской катастрофически пошло на убыль (в особенности когда она убедилась, что Платон Демьянович не воспользовался высылкой философов, чтобы выехать к ней). Восемь лет спустя Аделаида поступила послушницей в монастырь цистерцианок близ границы с Германией, потом постриглась в монахини под именем Илария и к сороковому году была уже игуменьей (очевидно, постриг Аделаиды последовал за арестом Чудотворцева). Мать Илария во время немецкой оккупации прятала у себя в монастыре евреек, выдавая их за своих монахинь. Так она спрятала дочерей Гавриила Львовича Анну и Елизавету. В конце концов оккупационные власти арестовали строптивую игуменью и вместе с мнимыми монахинями отправили ее в концлагерь в Аусшвиц (Освенцим) на родной для нее польской земле, где Аделаида-Илария и погибла, вернее, надеюсь, спасла свою душу, в газовой камере. Теперь, в Католической Церкви, кажется, стоит вопрос о беатификации матери Иларии, чему препятствуют лишь воспоминания о ее гностических балетах. А Платон Демьянович всегда настораживался и долго не мог уснуть, когда в Мочаловке начинали петь соловьи. «Реквием по рабе Божией Аделаиде», – пробормотал он, вслушиваясь в соловьиные раскаты, и я с тех пор слышу в них реквием. И у Аделаиды в ту весеннюю соловьиную ночь, как у Олимпиады в зимнюю ночь в нетопленой квартире, вырвались слова, которые невозможно сказать на «вы»: «Я же знаю, у тебя есть другая; она с тобой и останется», и вину перед этой другой, кто бы она ни была, Аделаида искупила всей своей дальнейшей жизнью и мученической, что ни говорите, смертью, а улица, где эти слова были сказаны, все еще называлась тогда Софьиной.
Высылка философов затронула Платона Демьяновича вполне определенным образом. Вне всякого сомнения, он этой высылке подлежал, и проблемой исторического исследования остается вопрос, как он ее избежал. Театр Ярлова «Реторта» посвятил этой проблеме пьесу, и я уже рассматривал ее (проблему и пьесу) с разных точек зрения в моей книге (см. главы 4 и 5). Можно с уверенностью утверждать одно: возможность остаться на родине возникла для Платона Демьяновича в связи с идеей мавзолея, которую он подал большевикам (или коммунистам?) еще при жизни Ленина. Под влиянием этой идеи решение о высылке Чудотворцева было неожиданно и почти мгновенно пересмотрено. Мне трудно поверить, что Чудотворцев нарисовал мавзолей при разговоре с Михаилом Вериным. Во всяком случае, никакие другие рисунки Платона Демьяновича не сохранились, и сам я никогда не видел, чтобы он рисовал. По всей вероятности, Чудотворцев показал Михаилу Верину фотографию или рисунок, изображающий ступенчатую пирамиду майя, а именно пирамиду Пернатого Змея. Ее конструкция довольно точно воспроизводится мавзолеем на Красной площади. Очевидно, ступенчатая конструкция мавзолея – существеннейший его элемент, позволяющий достойному подниматься на мавзолей, стоять на усыпальнице вождя, вписываться в символ его бессмертия и приобщаться к нему, чтобы вместе с ним или после него быть воскрешенным. Воскрешен будет тот, кто поднимался на мавзолей по его ступенькам или хотя бы просто входил в мавзолей (отсюда длинные очереди на такое вхождение), но право на воскрешение имеют и все те, кто живет в стране, чья столица (Третий Рим) включает в себя мавзолей. Вот чем объясняется яростное сопротивление сносу мавзолея или выносу мумии из него. В результате чающие воскрешения лишатся такой возможности и права. С другой стороны, те, кто верует в воскресение, а не в искусственное воскрешение мертвых, питали и питают мистическое отвращение к мавзолею, сулящему вечное пребывание в аду мнимого бессмертия. Но так или иначе, в отличие от египетской пирамиды, дарующей вечную сохранность человеческому существу в царстве мертвых, ступенчатая пирамида майя возвещает воскресение или воскрешение мертвых, и этим архетипическим образом Чудотворцев заворожил большевистских (коммунистических?) вождей.
Но тут напрашиваются и другие толкования и подозрения. Не был ли через мавзолей внедрен в красной России заокеанский культ Пернатого Змея? Не с Пернатым ли Змеем соотносится Ленин, то ли его воплощение, то ли тайный адепт? Пернатый Змей – поистине великолепный символ Коммунистического интернационала. Не библейский ли это Левиафан, водное океаническое божество, пожирающее материки и вместе с ними монархию? В Перу имя Пернатого Змея – Амару, отсюда и происходит наименование «Америка» (совпадение с именем Америго Веспуччи – вещая случайность). Так что прельстив Михаила Верина пирамидой Пернатого Змея, Чудотворцев не только ускользнул от высылки, но и разоблачил тайный американизм Ленина, маскирующийся интернационализмом; иными словами, пирамида Пернатого Змея свидетельствует, что Ленин – коммунист, а не большевик, чем и объясняется отвращение большевика Владимира Маяковского к мавзолею:
Я боюсь, чтоб шествия и мавзолеи, поклонений установленный статут, не залили б приторным елеем ленинскую простоту.Спрашивается только, почему Чудотворцев захватил с собой именно это изображение, когда ночью за ним пришли? Конечно, эрудиция Чудотворцева включала в себя и древнеатлантические мифы, как он их называл, исследуя Атлантиду, упоминаемую старым Платоном, но почему в эту ночь с ним было это изображение, зачаровавшее и Верина, и Дзержинского? Как известно, Гавриил Правдин был тогда выслан по настоянию своего брата безо всяких околичностей и не особенно противился высылке, куда отправлялся со своей теперь уже законной женой и дочерьми. Кто бы мог подумать, что семь лет спустя сам Михаил Верин будет выдворен большевистскими властями за границу, а еще восемь лет спустя ему размозжат череп в Перу старинным индейским томагавком, только что привезенным с высоких гор и принесенным в резиденцию Михаила Верина, чтобы тот мог полюбоваться, какое оружие изготовляли поклонники Пернатого Змея Амару, в честь которого названа Америка и воздвигнут мавзолей в Москве, откуда и пришел тайный приказ ликвидировать коммуниста Михаила Верина по возможности вместе с его американо-евразийским интернационалом.
Хочется думать, что Аделаида в глубине души до конца своей жизни заставляла себя верить, будто Платона Демьяновича не выпустили к ней из большевистской России. Она не могла бы смириться с мыслью, что он не только не предпринял ничего для выезда, но и противодействовал ему как мог. В то же время Аделаида (быть может, она одна), не могла не догадываться, что (кто) удерживает Чудотворцева в России. Вплоть до своего будущего ареста Платон Демьянович не пропускал ни одного спектакля театра «Красная Горка», не выезжавшего, как известно, на гастроли, а после спектакля Чудотворцев верил и не верил, что в доме номер семь теперь уже на улице Лонгина разливает за столом чай та, из-за которой он не уехал.
С отъездом Аделаиды и с высылкой Гавриила Правдина всегдашнее одиночество Платона Демьяновича превращается в настоящий вакуум. Его лекции собирали много слушателей, его труды продолжали выходить (правда, нередко за его счет), но интеллектуальная работа Чудотворцева не вызывала никакого отклика в шумной пустыне двадцатых годов. К тому же уклонение Платона Демьяновича от почетной высылки вызвало среди интеллигенции здесь и там настороженность и отчуждение. Предполагалось, что Чудотворцев преподнес большевикам большие идейные авансы, чем это допускает интеллигентский кодекс чести, и то, что эти авансы пока никак не сказывались на его деятельности, лишь усугубляло подозрения. Но в жизнь Чудотворцева в это время вошло нечто иное, обаятельное, хотя и грозящее осложнениями.
Когда Платон Демьянович вернулся из кратовской здравницы, задержавшись на одну ночь в Мочаловке (мы знаем зачем), он попытался открыть дверь в свою арбатскую квартиру своим ключом, но дверь оказалась запертой изнутри. Платон Демьянович вынужден был позвонить, и ему отперла незнакомая, как ему показалось, девушка. Марианна вся вспыхнула, почувствовав, что он не узнает ее. (Так она всегда вспыхивала, когда убеждала себя в своей правоте, а внутри нее уличало ее и стыдило нечто само по себе постыдное, как она полагала, например чувство старомодного приличия.) Еще поднимаясь по лестнице, Платон Демьянович услышал фортепьянную прелюдию Листа и ушам свои не поверил: неужели это Полюс упражняется? Но Полюс в это время занимался со своим учителем у него на квартире, и Яков Семенович сам ему аккомпанировал. Квартира была переполнена провинциальной родней, так что место около рояля удавалось освободить с трудом, а для занятий Марианны места просто не нашлось. К тому же ей мешал постоянный шум в квартире. «Гвалт», – говорил с примирительной улыбкой сам Яков Семенович. Марианна вынуждена была последовать приглашению Полюса и начала заниматься в просторной пустой квартире Чудотворцева, где также был великолепный рояль, купленный еще Олимпиадой для сына. Полюс получал от Якова Семеновича и домашние задания, которых не выполнял бы без Марианны, так что она надолго задерживалась в квартире и в присутствии Полюса, практически переселилась туда, вытесняемая не только приезжими, но и домашними: только что женился ее старший брат, чья женитьба также привлекла в дом многочисленную родню. Марианна отвечала на пылкие признания Полюса уклончиво, но он уже считал ее своей невестой, и для смущения при неожиданном возвращении Платона Демьяновича у нее были основания. Но Платон Демьянович сам смутился, уверившись, что не узнал пианистку, уже восхищавшую его своим искусством. К тому же перед ним стояла дочь Якова Семеновича, готовившего его сына в великие певцы. Словом, зрение опять подвело Платона Демьяновича. И то сказать: до сих пор он видел пианистку лишь изредка, в отдалении концертного зала или в квартире Буниных, где она скользила в коридоре, как мимолетное виденье или… или как мадам Литли в коридорах Гейдельберга. Однако взаимное смущение у обоих быстро прошло, возможно, именно потому, что оно было взаимным. Марианна неумело разогрела остатки пшенной каши, заварила чай (настоящий, к приятному удивлению Чудотворцева) и продолжала музицировать (вернее, теперь уже они продолжали, так как Платон Демьянович тоже сел за рояль, хотя давно не упражнялся в фортепьянной игре). Так и хочется написать: они играли Крейцерову сонату, и Марианна действительно подготавливала тогда Бетховенскую программу, а Платон Демьянович играл ей своего любимого Грига и, может быть, танец Кундри собственного сочинения. (Фрагменты «Действа о Граали» он играл Марианне наверняка, выдавая ей свои позднейшие импровизации за эти фрагменты даже тогда, когда работу над «Действом…» он окончательно прекратил.) В этом первом разговоре Платона Демьяновича с Марианной главное было сказано музыкой, но Платон Демьянович, наверное, рассказал ей и о переписке космосов (неудобно называть их микрокосмами) в одной комнате; он мог показать ей и письма Гавриила Львовича (Правдин скопировал письма Платона Демьяновича и отдал ему копии, прощаясь перед отъездом, а незадолго до смерти в Париже опубликовал свою переписку с Чудотворцевым отдельной небольшой книжицей. Платон Демьянович был тогда в заключении).
Когда через несколько часов вернулся Полюс, он сначала вздохнул с облегчением: отец принял Марианну и не возражает против ее присутствия в квартире, куда Полюс привел ее, не спросив у отца разрешения. Но отец и Марианна продолжали музицировать, едва среагировав на его приход. Уже в тот день Полюс почувствовал холодок отчуждения, пахнувший на него со стороны Марианны. Не то чтобы ее отношение к нему резко переменилось. Она по-прежнему следила за его «успеваемостью» (после каждого урока Яков Семенович ставил ему оценку), прорабатывала вместе с ним домашние задания, подолгу аккомпанировала ему, когда это требовалось, готовила его к поступлению в консерваторию, куда Полюс осенью и поступил, успешно сдав экзамены. Что касается остального, то она и раньше особенно не обнадеживала его, хотя Полюс намеревался представить ее Платону Демьяновичу как свою невесту, но теперь она дала ему понять, что об этом не может быть и речи. Уже в те первые дни после возвращения Платона Демьяновича она сказала ему фразу, тяготевшую над Полюсом в течение всей последующей жизни: «Будем жить как сестра и брат», и Полюсу пришлось удовольствоваться двусмысленностью этой фразы, ибо фраза, несомненно, намекает на большую близость или в прошлом, или… может быть, даже в будущем. Во всяком случае, Полюсу хотелось так думать. Марианна старалась относиться к Полюсу ровно и сдержанно, но это удавалось ей не всегда. «В конце концов, ты тоже Чудотворцев», – вырывалось у нее время от времени. Полюс чувствовал, что она терпит его только (или не только?) ради отца, и винил отца в этом тоже.
Марианна практически переселилась к Чудотворцевым, хотя оставалась прописанной у Якова Семеновича. Так она прожила долгие годы, пока не получила свою квартиру уже как заслуженная артистка Союза ССР. Несмотря на постоянную перенаселенность, Буниных к тому же еще и уплотнили, как полагалось при военном коммунизме, а просторной чудотворцевской квартиры уплотнение почему-то не коснулось, и Марианна смогла занять не одну комнату, что само собой разумелось, а целые апартаменты. Платон Демьянович мирился с ее многочасовыми музыкальными занятиями (Марианна никогда не давала себе в этом никаких поблажек), хотя, казалось бы, они должны были ему мешать, но он даже находил время для участия в них, в известном смысле руководил занятиями Марианны, даже если его влияние на нее вряд ли могло сравниться с влиянием на Аделаиду.
Так что Полюс оказался невольным свидетелем их сближения, столь стремительного, что даже Полюс вынужден был закрывать на него глаза: «При музыке? Но можно ли быть ближе…» Против музыки Полюс бунтовать пока еще не решался, слишком поглощала она тогда его самого и слишком многое сулила. Полюс все еще полагал, что отец работает над «Действом о Граали» (или «О Граале», в такие тонкости Полюс не вникал), и в этом «Действе» главная роль, роль, предназначавшаяся для деда Демона, теперь предназначается ему. Отец только откладывает завершение «Действа» до того времени, когда Полюс станет полноправным певцом. Тогда и Марианна авось перестанет относиться к нему, как сестра к брату. Полюс вслушивался в музыку, доносящуюся из-за закрытых дверей, и, когда не узнавал ее, пытался уверить себя, что слышит будущее «Действо о Граали». Он придавал таинственное значение даже паузам, становящимся все более затяжными, как при Лоллии, и паузы действительно имели таинственное значение, но не для него… А Полюсу мерещился собственный, родовой замок в Пиренеях (он слышал про него), и под сводами этого замка его ария, которая прославит его в этом и в ином мире, и Марианна воцарится в замке как сеньора де Мервей… А пока, чтобы все было именно так, нужно прилежно учиться пению и терпеть музицирование отца с Марианной…
Первый удар по этим мечтам нанесла высылка философов, от которой отец уклонился. Значит, отъезд за границу откладывается, а там Полюс получил бы музыкальное образование, Которого требует «Действо о Граале». Но Полюс не отчаивался, уверял себя, что отъезд только откладывается, и напропалую самостоятельно работал над своим голосом, перенапрягая его, нанося ему ущерб вопреки указаниям своего опытного учителя и отчасти в пику ему. Полюс даже закрывал глаза на то, как длительные уединения Платона Демьяновича с Марианной перешли в совместную жизнь, что уже ни для кого не было секретом, но в двадцатые годы, в особенности при жилищном кризисе подобные отношения были свободными, непрочными, еще не такое бывало, и Полюс продолжал надеяться. «Ждал своей очереди», – как съязвил молодой муж младшей марианниной сестры, тоже вышедшей замуж. Полюсу оставалось утешаться тем, что отец все-таки не женился на Марианне даже после того, как она крестилась; значит, крестилась она… для другого. А Марианна всю жизнь была религиозно озабочена, она и в старообрядчество не перешла лишь потому что курила.
Полюс не мог поверить, что отец прекратил работу над «Действом о Граали», напротив, он был уверен, что Чудотворцев ни над чем другим не работает, что все его остальные работы либо предваряют, либо дополняют «Действо» (так ли уж он был при этом неправ?). Отец вынужден засекречивать свою работу над «Действом», иначе рукопись изымут, конфискуют. Долгое время Полюс полагал, что либретто «Действа» и его партитура хранятся в заветной Олимпиадиной шкатулке и из своеобразного пиетета перед памятью матери не позволял себе заглядывать в шкатулку старался, чтобы она не попадалась на глаза посторонним, прятал ее даже от Марианны, в особенности от Марианны, в особенности когда наступило в ее жизни с его отцом то, в чем он уже не мог сомневаться. Чем больше одинок становился Полюс, тем больше тосковал он по умершей матери, и в старости плакал о ней пьяными слезами. Со временем Полюс все громче обвинял отца в смерти матери, сильно преувеличивая его вину Такую форму принимала у Полюса ревность, и Платон Демьянович терпел это, свою вину чувствуя. При этом в самые мрачные времена «железного занавеса» Полюс был совершенно уверен, что отец, даже арестованный, может выехать за границу, если только захочет. По существу он обвинял отца в том, что отец лишил его орлякинской пенсии. Полюс продолжал рассчитывать на нее не только после смерти матери, платившей, как он теперь знал, эту пенсию, но и после смерти Орлякина (разве он, внук и преемник Демона, которого m-r Methode так любил, мог быть не упомянут в его завещании?). Так что все дело в том, чтобы выехать за границу, а Чудотворцев и не на такое способен. Марианна рано или поздно поедет на гастроли туда и останется там с ним, с внуком Демона, и все образуется. (Это словечко из «Анны Карениной» Полюс очень любил и частенько повторял про себя, не помня, по какому поводу оно сказано.)
Полюса пригласили петь в Большой театр до того, как он окончил консерваторию, может быть, потому он ее и не окончил. Речь шла о возобновлении рубинштейновского «Демона» с Полюсом в заглавной роли, но до сцены дело так и не дошло по многим причинам, прежде всего, из-за самого Полюса, вернее, из-за той легенды, ради которой его, собственно говоря, и пригласили в Большой театр. У Полюса, бесспорно, был голос, но, каков был голос его деда, помнили слишком немногие, как, например, Орлякин и Наталья Чудотворцева, нынешняя мать Евстолия. Но Орлякин был «далече», а мать Евстолия виделась в последний раз со своим внуком до того, как его голос установился. (Олимпиада брала сына с собой в заволжский скит еще до мировой войны.) Другие поклонницы Чудотворцева (деда и внука в одном образе) говорили, что слышали голос Демона во сне. А выходу Полюса на сцену начала препятствовать его фамилия, способствовавшая сперва тому, что его пригласили в Большой театр. Фамилия Чудотворцев не только говорила о непролетарском происхождении (не из реакционного ли духовенства?), но и бросала вызов торжеству диалектического и исторического материализма. А выйти на сцену под другой фамилией Полюс категорически отказывался, сознавая, что без фамилии Чудотворцев он никто и ничто. (Полюс вряд ли до конца прочитал «Бытие имени», но испытывал влияние отцовского труда.) Внешность Полюса, пожалуй, действительно, подходила к роли Демона, но и она привлекала к себе нездоровый интерес, наводя на мысли, с позволения сказать, антисоветские: пепельные волосы Демона, а сам не то добрый молодец из русской сказки (не из черной ли сотни?), не то этакий московский Лоэнгрин, рыцарь Грааля. Окончательно испортили дело с постановкой скандалы, которые Полюс начал устраивать в нэповских ресторанах от неопределенности своего положения, отводя душу в кругу своих поклонников и поклонниц. Скандалы эти быстро приобрели весьма опасный для того времени колорит. Они были отрепетированы на домашней сцене, где Полюс устраивал их не Марианне, конечно (перед ней он все-таки благоговел), но растущей Марианниной родне, пытавшейся распространиться с новорожденным потомством на чудотворцевскую территорию. И Платон Демьянович, и сама Марианна, честно говоря, были заинтересованы в противодействии этой экспансии, но молчали, предоставляя Полюсу такое противодействие, и оно, естественно, вскоре перешло домашние границы, в скандалах этих отчетливо зазвучала антиеврейская нота, подхваченная и распространяемая чудотворцевским кругом, а Полюс оказался в милиции. «Шутки с этой подоплекой» в то время пахли расстрелом, и Платону Демьяновичу пришлось обратиться все к тому же Михаилу Львовичу Верину с мольбой о спасении своего заблудшего сына. Верин был еще настолько влиятелен, что сразу же добился освобождения Полюса, но согласился на это лишь при условии, что Платон Демьянович позволит ему почитать свой новый труд в рукописи. Платон Демьянович дал ему почитать свою работу о невидимом граде Китеже, посвященную опере Римского-Корсакова, но не только. Впоследствии работа вошла в «Материю мифа», тенденцию которой Верин уловил один из первых. Полюса освободили, а в московской газете «Красная стража» появилась статья «О чудотворцевщине», где ресторанные скандалы новоявленного «демона» Павла Чудотворцева уподоблялись предполагаемым постановкам опер «Демон» и «Сказание о невидимом граде Китеже»: и то и другое (то есть скандалы и постановки, еще не осуществленные) выводилось из литературно-философской деятельности Платона Чудотворцева, воинствующего мракобеса, бывшего и настоящего черносотенца. Правда, немедленных репрессивных последствий статья не имела, только работу над постановкой «Демона» приостановили, а книга П.Д. Чудотворцева «Материя мифа» была неожиданно напечатана уже после высылки Михаила Верина, опубликовавшего за границей за своей подписью статью все с тем же названием «О чудотворцевщине»: само пребывание мрачно известного Чудотворцева в Советской (?) России свидетельствует-де о реакционных реставраторских тенденциях режима, и этот философ в отличие от других, справедливо высланных, оставлен в России как воплощенное чаянье контрреволюционного чуда. Очевидно, «Материю мифа» срочно издали в ответ на публикацию Верина, дескать, враг народа нам не указ. По этому случаю Чудотворцева даже освободили из заключения на очень короткий срок (и тут срок); тираж книги был практически немедленно конфискован (лишь несколько экземпляров затерялось в частных собраниях), а самого Платона Демьяновича тут же снова арестовали.
Освободившись из милиции, Полюс продолжал прежний образ жизни, восприняв произошедшее как некое поощрение. Ресторанные кутежи возобновились. Одна поклонница сменялась другой. Но даже спьяну Полюс не водил их в квартиру, где жила Марианна, и не пытался жениться. Деньги на ресторанные кутежи у него были. Уезжая в кратовскую здравницу, Платон Демьянович позаботился о его пропитании. Будущий певец не мог жить на хлебах у своего учителя, да этих хлебов просто не хватило бы на него. Платон Демьянович впервые вынул из Олимпиадиной шкатулки побрякушку, как он думал, и отнес ее Якову Семеновичу, не уверенный, что это достаточная компенсация за уроки и за питание Полюса в течение месяца. Но Яков Семенович побрякушку охотно взял, а когда Платон Демьянович вернулся из Кратова, честно сказал ему, что побрякушка оказалась настоящей драгоценностью и стоит гораздо больше, чем, возможно, думал Платон Демьянович. Яков Семенович предложил вернуть ему деньги, оставшиеся сверх самой щедрой оплаты за уроки и пропитание, но Платон Демьянович, разумеется, отказался, напомнив, что подарков назад не берут. А Яков Семенович вполголоса осведомился, не осталось ли от покойной супруги других подобных безделушек (тут он понизил голос почти до шепота), а то времена теперь тяжелые, и сама Олимпиада Гордеевна наверняка рассталась бы кое с чем, чтобы обеспечить сыну хотя бы сносное питание, не говоря уже о прочем, она же так верила в его талант.
И Яков Семенович познакомил Платона Демьяновича с дамой, которой в этих делах можно доверять, как он сказал. То была пышная блондинка (крашеная) не первой молодости, но сохранившая форму (она сохраняла ее и в глубокой старости). Звали даму Агата Юрьевна. Так ее и называла «вся Москва», а фамилию ее знали далеко не все ее клиенты (если и знали, то предпочитали не помнить, хотя социальное положение дамы было вполне легальным). Ее фамилия была то ли Макошина, то ли «Мокошина». Агата Юрьевна всю жизнь жила замужем, вернее, за мужем или за мужьями, как за каменной, чуть ли не за Кремлевской стеной. Она и за Кремлевской стеной могла бы жить, по крайней мере, временами, но туда не имели бы допуска ее клиенты, так что Агата Юрьевна предпочитала добротную старую «вольную» квартиру на Бронной. Агата Юрьевна (в православном крещенье Агафья) была дочь модистки или белошвейки и высокопоставленного отца, у которого была другая семья, как она деликатно выражалась. Ее отец был то ли генерал (статский), то ли сенатор, и о побочной дочери заботился не настолько, чтобы обеспечить ее, но при большевиках это оказалось благом: Агата Юрьевна была трудящаяся, дамская портниха, обшивающая, правда, исключительно знаменитых актрис и высокопоставленных советских дам. Эта клиентура Агаты Юрьевны была просто помешана на драгоценностях, сначала негласно, а с распространением советского червонца более или менее гласно. С другой стороны, московские (и не только московские) дамы из бывших, в прошлом барыни или купчихи, вынуждены были расставаться с фамильными драгоценностями, чтобы прокормиться или чтобы избавиться от домашних сокровищ, когда грозил обыск. В России трудно было найти сколько-нибудь обеспеченную семью, у которой не было бы таких драгоценностей, так что Москва и Подмосковье изобиловали домашними кладами. Реализация драгоценностей в значительной степени обеспечивала даже театральные постановки, не говоря уже о пышных туалетах. К этому следует прибавить золотые русские рубли, сохранившиеся у многих с недавнего времени, когда золотом платили жалованье, так что многие аккуратные мочаловские старички и старушки безбедно жили на собственных дачах, умело реализуя блестящие, иногда ослепительные крохи прежнего, и все они знали или находили дорогу к Агате Юрьевне.
Агата Юрьевна брала драгоценности на комиссию; хорошо изучив вкусы и возможности своих клиенток, она безошибочно определяла, что кому предложить. Могла Агата Юрьевна и принять вещь на хранение, если перед обыском или перед арестом владельца. Агата Юрьевна славилась тем, что всегда возвращала вещь, если владелица (реже владелец) возвращалась или соответственно возвращался. Отдавала она вещи и наследникам, уверившись в их легитимности. Но если за вещью никто не приходил, а такие случаи учащались и в тридцатые годы стали чуть ли не правилом, вещь, естественно, оставалась, доставалась ей. Солидный доход приносили Агате Юрьевне комиссионные, но богатство ее основывалось на таких оставшихся, доставшихся ей вещах. Ее самое ограждали от обысков высокопоставленные советские мужья, щедро вознаграждаемые в случае развода и сохранявшие с Агатой Юрьевной приязненные отношения. Агата Юрьевна безошибочно угадывала, когда с мужем развестись, и нередко после развода бывший муж бывал арестован, но мужья, так сказать, нынешние, от ареста были застрахованы, как и вещи, хранившиеся у Агаты Юрьевны. Слишком влиятельные лица были заинтересованы в ее деятельности.
С ней-то и познакомил Яков Семенович Платона Демьяновича, предоставив ему впредь сноситься с Агатой Юрьевной непосредственно. И Платон Демьянович зачастил к ней, да и сама Агата Юрьевна его привечала, чувствуя симпатию к профессору-вдовцу: мало ли что в жизни бывает, чем черт не шутит. Правда, Платон Демьянович был беспартийный, а Агата Юрьевна предпочитала партийных мужей, зато Чудотворцев пользовался каким-то таинственным покровительством властей (такие слухи ходили), был как-никак профессором консерватории, куда устроил его тот же Яков Семенович, и где Платон Демьянович читал эстетику (Бог знает, что это такое, но человек-то уж больно интеллигентный). К тому же Платон Демьянович приносил такие хорошие вещи, и каждый раз чувствовалось, что вещь у него не последняя. А Платон Демьянович всякий раз открывал заветную шкатулку Олимпиады не без колебаний и не без угрызений совести просто потому, что шкатулка напоминала ему Олимпиаду Но ведь шкатулка предназначалась исключительно для Полюса, Платон Демьянович помнил это, и самая память Олимпиады обязывала открывать шкатулку, но издание его трудов требовало расходов, а доходов никаких они не приносили, напротив, грозили опасностью автору и, следовательно, его сыну. Но разве театральная карьера Полюса никак не зависела от отцовской известности? Так что и эти расходы касались Полюса хотя бы косвенно, не говоря уже о том, что главные расходы были связаны с ним: расходы на его выучку, расходы на питание, приличествующее певцу а когда Полюс узнал дорогу в рестораны, то и эти расходы оплачивались все из той же шкатулки. Правда, Полюс не отваживался сам заглядывать в шкатулку из своеобразного суеверия или из благоговения, какие бы скандалы он отцу ни устраивал. Полюс полагал, что в шкатулке его будущее, «Действо о Граали» или сам Грааль, и это роковым образом откликнулось в дальнейшей жизни Платона Демьяновича. Марианна делала вид, что вообще не знает о существовании шкатулки, хотя найти ее было проще простого: в кабинете Платона Демьяновича она стояла на книжной полке, заставленная греческими фолиантами, и любая домработница могла наткнуться на нее, обтирая с книг пыль, на чем Платон Демьянович никогда и не настаивал. Но Полюсу в деньгах он не отказывал, а поскольку настоящей цены драгоценностям Платон Демьянович не знал, на Полюса фактически тратились суммы, в иные годы, вероятно, даже превышавшие мнимую орлякинскую пенсию.
Платон Демьянович видел, что ресторанные кутежи губят Полюса, а деньги продолжал ему давать, заглаживая так свою вину перед Олимпиадой, при этом понимая, что лишь усугубляет ее, вернее же всего, для собственного спокойствия, чтобы Полюс пореже устраивал скандалы.
Как сказано, Платон Демьянович не представлял себе реальной цены на «брюлики», выносимые им на продажу. (Слово «брюлики» он услышал впервые от Агаты Юрьевны.) Но Платон Демьянович не мог не обратить внимание, как она вся насторожилась, когда он принес ей перстенек с изумрудом. Агата Юрьевна принялась настоятельно расспрашивать его, нет ли у него еще таких камушков и, желательно, покрупнее. «Изумруды сейчас в большой моде», – доказывала ему она. Дело дошло до того, что одно время она перестала у него брать другие камушки, дескать, слишком упали на них цены. Агата Юрьевна даже познакомила его со своим оценщиком, экспертом, которого мало кто в Москве знал. Звали его Илья Маркелович Вяхирев, и обитал он в полуподвальной квартире все на той же Софийке, можно сказать, под боком у ЧК. Илья Маркелович один из последних представлял старинную династию московских скопцов (если можно назвать династией череду поколений, рождающихся от огненного лезвия). Платон Демьянович, вероятно, знал стихи Н.А. Клюева:
О скопчество – арап на пламенном коне, Гадательный узор о незакатном дне, Когда безудный муж, как отблеск маргарит, Стокрылых сыновей и ангелов родит!Одним из этих стокрылых сыновей и был Илья Маркелович, в духе своей династии искуснейший ювелир, а главное, непререкаемый оценщик драгоценных камней, с первого взгляда определявший настоящую цену брюлика и назначающий цену сообразно обстоятельствам не без лукавства и не без презрения к блудному стаду, как в его сужающемся кругу называли «внешних», то есть всех остальных. Илья Маркелович был высокий тучный старик с бритым наголо черепом, отвислыми щеками и высоким голосом, которым Илья Маркелович пел иногда псалмы и другие странные песнопения. Пел он их и на скопческих радениях, происходивших несколько раз в год, все в той же Мочаловке, на уединенной даче. Ради этих радений Илья Маркелович облачался в мирской сюртук и с радельным облачением в чемоданчике ехал на извозчике (а потом, наверное, и на такси) на Казанский вокзал. В своем полуподвальном, жарко натопленном жилище Илья Маркелович всегда носил один и тот же пышный, цветастый, ваточный халат, а голый череп его прикрывало что-то вроде тюбетейки, но тюбетейка эта, в отличие от настоящей, была на беличьем меху. С Ильей Маркеловичем в его полуподвальном затворе обитал, как полагается, «вьюнош», по имени Пронюшка, уже оскопленный. Когда Пронюшка проходил медицинскую комиссию в связи с военным учетом и его спросили, кто это с ним сделал, Пронюшка, глядя ясными очами в глаза вопрошающим, с готовностью ответил: «Не помню» и с такой же готовностью получил белый билет. Правда, белый билет у Пронюшки был с краснинкой, как тогда перешептывались, ибо Пронюшка не просто проживал у Ильи Маркеловича по соседству с Лубянкой, но и был туда вхож, по слухам, в любое время дня и ночи, даже чуть ли не оттуда носил своему наставнику горячее в термосе: особенным образом сваренные постные щи с маслинами. Эти щи варил ему будто бы особо искушенный повар, готовивший также и для высшего начальства. Мяса Илья Маркелович в рот не брал, позволяя себе только рыбу как правило красную («из уважения к власти», – шутил он своим высоким голосом, но белорыбицу тоже признавал). Вообще же Илья Маркелович питался инжиром, финиками, черносливом, всевозможными восточными печеньями, приносимыми ему все тем же неутомимым «вьюношем» Пронюшкой. Пронюшка постоянно раздувал самовар, так как Илья Маркелович пил чай непрерывно с различными вареньями, с изюмом и с медом: сахаром он брезговал. На его меню не сказывались никакие социальные передряги. Не было сомнений в том, что в Илье Маркеловиче лубянские соседи чрезвычайно нуждались, так как поиски алмазных россыпей или, проще говоря, брюликов в частных и не только в частных скрынях были важнейшим направлением их деятельности, и со временем работы у Вяхирева становилось все больше, особенно в тридцатые годы; Пронюшка оказался способнейшим учеником, успевал и самовар ставить, и щи с маслинами приносить, и оценивать брюлики, хотя в наиболее ответственных случаях без Ильи Маркеловича невозможно было обойтись.
Кроме Пронюшки, в покоях Ильи Маркеловича обитал огромный черный пес по кличке Баской (что значит по-сибирски «красивый»). Целыми днями Баской смирнехонько лежал у ног своего хозяина, зимой и летом обутого в мягкие пушистые туфли, однако рассказывали, что Баской однажды насмерть загрыз ловкого вора, ухитрившегося открыть замысловатый замок в двери. Иногда ночью Илья Маркелович выходил на улицу подышать свежим воздухом, и Баской непременно ему сопутствовал. Илья Маркелович никогда не водил своего пса на поводке. Баской и без того повиновался беззвучному, казалось бы, движенью хозяйских губ, чуть слышному свисту, даже взгляду. Редкие прохожие подолгу не могли позабыть эту странную пару в ночных московских переулках. Начитанные мальчишки пустили в ход кличку Баскервиль, называя так не то хозяина, не то собаку, чья настоящая кличка Баской казалась аббревиатурой от Баскервиля. Не могу удержаться от одного замечания. По-моему, нет никаких оснований полагать, что собаку Баскервилей пристрелил Шерлок Холмс и иже с ним. Застрелена была поддельная собака Стэплтона. А сверхъестественная, таинственная, призрачная, словом настоящая собака Баскервилей убила очередного Баскервиля, мнимого Стэплтона, а разве Стэплтон – не двойник Гуго Баскервиля, из-за которого, собственно, и явилась роковая смертоносная собака? Глядя на портрет Гуго Баскервиля, Холмс узнает в нем Стэплтона, вернее, в Стэплтоне узнает Баскервиля и говорит при этом фразу, существенную и для моих изысканий: «Изучая фамильные портреты, поневоле начнешь верить в доктрину реинкарнации».
Не знаю, зачем Агата Юрьевна привела Платона Демьяновича к Илье Маркеловичу и сама поспешно удалилась, оставив их наедине, если не считать Баского. Конечно, она не должна была водить своих клиентов к Вяхиреву, чья засекреченность требовала безусловного пиетета с ее стороны. По всей вероятности, она надеялась, что Вяхирев скорее, чем она сама, убедит Платона Демьяновича кое с чем расстаться, а в том, что у него кое-что есть, Агата Юрьевна не сомневалась. Илья Маркелович надел золотые очки, рассмотрел сквозь лупу очередной чудотворцевский изумруд и своим высоким голосом произнес: «Сам-Град!» Бог знает, через сколько лет Платон Демьянович снова услышал слово, слышанное им во младенчестве от синеокой няньки Софии. «Смарагд», – тотчас же поправился Илья Маркелович, напомнив, что смарагд – четвертый камень в основании Нового Иерусалима, возвещенного Откровением Иоанна Богослова. Илья Маркелович хлопнул в ладоши, его пухлые длани издали хлюпающий звук, и Пронюшка, будто того и ждавший за дверью, принес чаю с медом, с пряниками и с грушевым вареньем. За чаем Илья Маркелович обстоятельно рассказывал своему собеседнику о таинственных свойствах изумрудов, как будто он продавец, набивающий цену, а Платон Демьянович – покупатель, хотя дело обстояло вроде бы как раз наоборот. И Платон Демьянович не удержался; чтобы не остаться в долгу, рассказал гостеприимному хозяину древнее сирийское предание. Когда упал с неба Люцифер, сын Зари, называемый также Денницей, он лишился своего третьего глаза, в котором было его совершенство, уронил его, и глаз застыл смарагдом, изумрудом, из которого ангелы выточили чашу куда пролилась Христова кровь. Чаша эта – Грааль. Впрочем, Вольфрам фон Эшенбах говорит, что Грааль так и остался камнем, но камень этот может найти лишь тот, у кого кровь истинная, то есть тот же камень, растворенный в крови. Вся история заключается в том, что Люцифер ищет свой третий глаз и не может его найти, ибо Истинная Кровь была у Богочеловека, а не у него, и Грааль может найти лишь тот, у кого Sang Real, Кровь Истинная, кровь Богочеловека. Само око чисто, ибо оно принадлежало Люциферу когда тот был совершеннейшим ангелом, но если он завладеет своим оком теперь, миру придет конец, а кто найдет око Денницы и отдаст его Деннице, тот Антихрист. «Не потому ли так ценятся изумруды, что каждый из них может оказаться оком Денницы?» – спросил Платон Демьянович едва ли не в шутку, и в том же духе ему ответил Илья Маркелович вопросом на вопрос:
– А вы знаете улицу Изумрудную?
Платон Демьянович не знал.
– А ведь граф Сен-Жермен привез кое-что в Россию, – продолжал Илья Маркелович. Имя графа Сен-Жермена прозвучало так неожиданно в подобных устах, что Платон Демьянович поперхнулся горячим чаем, а когда откашлялся, услышал нечто еще более невероятное.
– Не у нас ли в Мочаловке Сам-Град находится, где же еще? – Илья Маркелович при этих словах так лукаво подмигнул Платону Демьяновичу что тот поспешил откланяться, подумав, не сумасшедший ли с ним разговаривает. Он чуть было не забыл свой изумруд, но Илья Маркелович, вежливо провожая гостя до двери, вернул ему драгоценный предмет. По дороге домой Платон Демьянович все повторял про себя:
Обратился к мудрецу, К звездочету и скопцу.А на следующую ночь его арестовали.
Казалось бы, естественнейшим обвинением против Чудотворцева могла быть спекуляция валютными ценностями, но против него сразу же было выдвинуто обвинение в контрреволюционной, террористической деятельности. Главным предлогом для первого ареста стала вышеупомянутая попытка издать за свой счет тоненькую брошюрку, посвященную Марселю Прусту, чье творчество, правда, рассматривалось в несколько неожиданном ракурсе в связи с тамплиерами, якобинцами и террором. Выше я уже писал об этой брошюрке. Она называлась «Якобинская голова» и была уже опубликована по-французски под названием «Une tête jacobine» (цитата из романа Пруста). Этот фрагмент появился во Франции после того, как цензура изъяла его из книги «Жертвоприношение в истории». По-видимому, Чудотворцев сам перевел его на французский язык, хотя настаивал на том, что фрагмент опубликован за границей без его ведома. (Вероятно, к публикации имел отношение Гавриил Правдин.) Статья появилась на французском языке через год после смерти Пруста, в 1923 года, то есть шесть лет назад, и тогда Чудотворцеву не предъявили никаких обвинений.
– Что ж, руки не дошли, – сказал Чудотворцеву следователь. – Идеологические преступления не имеют срока давности. Да и опасность вашего сочинения обнаружилась лишь в последнее время.
Чудотворцева обвиняли не столько в написании статьи, сколько в том, что вопреки цензурному запрету он намеревался издать ее отдельной брошюркой, которая была уже отпечатана, хорошо, что ее успели изъять вовремя. Цензор, пропустивший эту брошюрку и не вспомнивший, что текст ее исключен из другой книги, был снят с работы и впоследствии арестован. Возникал вопрос и о том, на какие средства печатались контрреволюционные сочинения Чудотворцева. Ответ на этот вопрос не вызывал сомнений. При аресте в квартире обвиняемого был произведен тщательный обыск и вместе с его архивом была найдена и унесена заветная Олимпиадина шкатулка, почему-то, впрочем, не присовокупленная к вещественным доказательствам преступления. Когда шкатулку нашли за греческими фолиантами, Полюс, потеряв голову («якобинская голова»), бросился защищать шкатулку, даже попытался оказать сопротивление представителям власти, крича что-то про Грааль, что было принято к сведению, хотя самой попытке сопротивления значения не придали, объяснив ее нервным срывом молодого талантливого певца.
А против самого Чудотворцева выдвигались крайне тяжелые обвинения не просто в обычной антисоветчине, а в создании вооруженной контрреволюционной организации, ставящей себе целью путем террора восстановить (установить) в России теократическую монархию. На вопрос, как Чудотворцев мог создавать вооруженную организацию при столь ограниченном круге общения, ведя затворнический образ жизни, ответ был прост: членами его контрреволюционной организации были слушатели его лекций, в особенности те из них, кто посещал лекции регулярно, а таких слушателей было немало, помимо студентов, обязанных слушать профессора, что не снимало подозрений и с них; некоторые слушатели Чудотворцевских лекций были арестованы и приговорены к различным срокам заключения. Обвиняли Чудотворцева и в связях с врагом народа Михаилом Вериным, оставившим его в стране для подрывной контрреволюционной работы. Об идее мавзолея при этом не вспоминали. Словом, обвинение тянуло на высшую меру, и, судя по всему, подобный приговор был даже вынесен, но приведение его в исполнение откладывали в течение двух лет, пока Платон Демьянович не был вдруг освобожден, как уже упоминалось, в ответ на заграничную публикацию Михаила Верина, вроде бы подтверждающую худшие обвинения против Чудотворцева. С подозрительной быстротой вышла в свет и «Материя мифа», над которой Чудотворцев работал в последние годы перед арестом, но на книгу сразу же снова обрушились тяжелейшие идеологические обвинения. Чудотворцев доказывал реальность мифа, а его обвиняли в том, что он объявляет нереальной материю, предлагая считать ее мифом. По Чудотворцеву, миф – присутствие вещи в мире со всеми ее взаимосвязями, из которых и образуется вещь, а Чудотворцева обвиняли в том, что он провозглашает мифом социализм и коммунизм. Книга, как уже говорилось, была сразу же изъята, а Платон Демьянович снова арестован.
Правда, на этот раз о расстреле речь не шла. Чудотворцев был только отправлен на Беломорканал, где по состоянию здоровья его освободили от самых тяжелых работ, и по ночам он даже ухитрялся писать. Не там ли писалась «Премудрость гоголевского Вия», которую Григорий Богданович Лебеда ошибочно датировал 37-м годом?
В 1933 году Чудотворцев снова внезапно освобожден. Предпринимаются даже попытки его трудоустройства. О преподавании в Консерватории уже не может быть речи, и Чудотворцев устраивается (его устраивают?) в педагогический институт, из которого формируется тот институт, где учился я. За Чудотворцева, очевидно, хлопочет Игнатий, тогда еще Люцианович Криштофович, но в судьбе Чудотворцева, кажется, принимает участие и кто-то куда более высокопоставленный. Говорят, будто сохранился экземпляр «Жертвоприношения в истории» с карандашными пометками самого Сталина, хотя сам я этого экземпляра не видел. Складывается впечатление, что Чудотворцева арестовывают и освобождают в зависимости от конъюнктуры вокруг его имени на самом верху, где таинственная борьба завершается все тем же указанием: «Изолировать, но сохранить». Действительно, Чудотворцеву удается писать даже в заключении. А тогда в 1933 году он переводит Дионисия Ареопагита и Иоанна Ирландского (Скот Эриугена), чей труд «О разделении природы» в переводе Чудотворцева должен выйти, но не выходит в серии «Стихийные материалисты и диалектики прошлого». Книгу должна была предварять обширная статья Чудотворцева о кельтско-германско-русском мифе или присутствии на Западе и на Востоке Европы. Согласно Чудотворцеву Дионисий Ареопагит через Иоанна Ирландского (Скот Эриугена) вдохновляет Рюрика, отправляющегося со своей Русью княжить в Новгороде Великом. Статья не была дописана до конца. В 1934 году Чудотворцев был арестован в третий раз.
В сравнении с этим арестом первые два выглядят предварительными, черновыми при всех тяжелых обвинениях, которые выдвигались против Платона Демьяновича. Третий арест привел к выдворению Платона Демьяновича из Москвы, куда он не должен был больше вернуться, однако его возвращали неоднократно и окончательно вернули через шесть лет, что по тем временам было еще одним чудом, сгустившим вокруг Платона Демьяновича подозрения и домыслы. Ему посчастливилось быть арестованным в 1934 году. Если бы его арестовали в 35-м в связи с убийством Кирова или в 37-м, когда расстреливали направо и налево, Чудотворцев был бы расстрелян почти наверняка. Расстрельные обвинения были выдвинуты против него и при третьем аресте, но в следственную рутину вторглось или закралось нечто необычное и необъяснимое, связанное с личностью подследственного.
В первые месяцы 1935 года Чудотворцев был приговорен к десяти годам тюремного заключения, из которых отбыл семь (считая первые аресты), а к 1940 году (когда его не то чтобы освободили, но вернули в Москву, что делалось и до этого, затрудняюсь сказать, сколько раз), он уже три года жил на берегу Белого моря как ссыльный, хотя и под весьма строгим надзором. И в 1940 году Чудотворцева лишь поселили в его собственной квартире, и в течение всей последующей жизни он мог считаться освобожденным лишь условно. Характерно, что в лагерях Чудотворцев практически не бывал, и в тюрьмах его старались держать отдельно от остальных заключенных, как бы ни были переполнены камеры в те годы. Делалось все возможное, чтобы изолировать Чудотворцева. Неужели это и значило в те годы «сохранить»? Даже тюремной охране запрещалось разговаривать с Чудотворцевым без крайней необходимости. Охранник, нечаянно услышавший те или иные слова Чудотворцева, должен был подробно отчитаться, что именно он слышал, но и подробнейший отчет не снимал с него подозрений, даже если слова заключенного были самые обиходные. Вспоминаются легенды о скопческом христе Кондратии Селиванове, склонявшем в свою ересь каждого, кто заговаривал с ним, для чего Селиванову, прозванному Молчанкой, и говорить не требовалось. По-видимому, остерегались, как бы Чудотворцев не сказал такого, чего не полагалось слышать не только охранникам, но и следователям. И сами следователи вели допрос так, чтобы не услышать лишнего, за что их самих могут расстрелять, а что такое это лишнее, они сами не знали.
Следователю не оставалось ничего другого, кроме как излагать подследственному состав его преступления, чтобы подследственный по возможности не говорил ничего, кроме «да» и «нет», а главное, безропотно подписывал протоколы допросов, так что со стороны могло показаться, будто следователь дает показания Чудотворцеву, а не Чудотворцев следователю. Итак, под видом допроса следователь изложил, вернее, зачитал Чудотворцеву список предъявляемых ему обвинений. Еще в гимназии Платон Чудотворцев был завербован польским националистом Раймундом Заблоцким в террористическую организацию и участвовал в подготовке террористических актов (из слов следователя трудно было заключить, является ли ликвидация царских сатрапов смягчающим или, напротив, отягчающим вину обстоятельством, как посягательство на основы империи, которой предстояло трансформироваться в Советский Союз). Когда Раймунд Заблоцкий признался обвиняемому Чудотворцеву в намерении отойти от террористической деятельности под влиянием некоего лесного старца, обвиняемый Чудотворцев по поручению террористки Софьи Богоявленской ликвидировал Раймунда Заблоцкого, заложив взрывное устройство в лабораторию, где Заблоцкий работал (между прочим, лаборатория находилась в доме, принадлежавшем впоследствии тому же Чудотворцеву). Будучи за границей, Чудотворцев вступил в преступную связь с так называемым имморталистическим центром в Париже, под видом научных исследований отравляющим и заражающим смертоносными инфекциями кровь трудящихся. Вернувшись в Россию во время революции 1905 годв, Чудотворцев становится фактическим идейным вдохновителем террориста и реакционного мордовского националиста Спиридона Мельказина, готовившего контрреволюционное восстание в Поволжье, за что Мельказин и был приговорен к расстрелу Чудотворцев был идеологом контрреволюционного казачества, и через секту так называемых троян или трояновцев готовил на территории от Дона до Терека восстание против советской власти. Племянником Чудотворцева оказался и представитель реакционного казачества, недавно расстрелянный Кондратий Троянов, предотвративший по прямому указанию ренегата и диверсанта Михаила Верина высылку Чудотворцева за пределы советской страны, чтобы Чудотворцев продолжал свою подрывную работу, оставаясь в Советской России. Проповедуя так называемое имяславие и софиократию, Чудотворцев мобилизует против Советской власти наиболее реакционные, непримиримые круги церковников и мракобесов. Особую опасность представляют связи Чудотворцева с необезвреженной еще группой Евстолии, скрывающейся в сибирской тайге. Есть все основания подозревать, что именно через Чудотворцева осуществляется связь этой контрреволюционной группы с остатками реакционного казачества на Дону, на Кубани и на Тереке. (На самом деле местопребывание матери Евстолии было давно уже неизвестно даже Платону Демьяновичу. Вскоре после смерти Олимпиады Евстолия, все еще крепкая физически и духовно, увела своих монахинь за Урал, основав новый скит за Енисеем, не в тех ли местах, куда направлялся Киндя спасать душу. Сыну она предпочитала не писать, чтобы не навлекать на него подозрений, изредка с ним сносясь через нарочных.) В конечном же счете, подытожил следователь, к Чудотворцеву сходятся все нити монархического заговора, прибегавшего и готового в дальнейшем прибегать к террору для достижения своих далеко идущих целей.
Разумеется, в следственном деле было, по крайней мере, несколько десятков других имен, которых Платон Демьянович не знал, не помнил, а если и помнил, то твердо отказался признать их именами своих соучастников или хотя бы знакомых. Главным образом, это были, как сказано, слушатели его лекций, причем особые подозрения властей вызывали не столько студенты, хотя их тоже было немало среди арестованных, сколько солдаты, матросы, кое-кто из комсостава, почему-то посещавшие лекции о гностицизме или средневековых ересях. Этих слушателей следствие рассматривало как участников монархического заговора и потенциальных террористов. От Чудотворцева следствие требовало, чтобы он подтвердил их виновность, но при всех трех арестах профессор категорически отказывался это сделать. Он безоговорочно признавал себя виновным по всем предъявленным обвинениям, какими бы невероятными, нелепыми и невозможными они ни казались, но ни одного другого имени не называл, не признавал, не подтверждал, как бы ожесточенно следователь ни требовал такого подтверждения. Нельзя сказать, что такое поведение Чудотворцева совсем не устраивало следователя. Подследственный мог назвать какое-нибудь имя, узнав которое сам следователь рисковал оказаться подследственным или пропасть без суда и следствия просто за то, что он его узнал. Обвиняемые по делу Комальба (коммунистические альбигойцы), а впоследствии по делу Исткома (истинные коммунисты) называли своим тайным соучастником товарища Сталина, и следователи, по простоте душевной внесшие это имя в протокол, были расстреляны. Но если бы они не внесли его в протокол, они тоже могли бы быть расстреляны за преступную халатность, а вернее, просто за то, что они слышали это имя в такой связи. Чудотворцев же мог назвать еще какое-нибудь Имя (недаром он написал «Бытие имени»), и следователя расстреляли бы за то, что он это имя узнал, а поди догадайся, какое это имя. С другой стороны, если подследственный не называл вообще никаких имен, что же это был за монархический, террористический заговор, в котором участвовал один Чудотворцев? Можно было, конечно, представить подследственного выжившим из ума антисоветчиком, не находящим реальной поддержки в советском обществе, но, похоже, от следствия требовались как раз имена и, не дай Бог, то самое имя, которое следователь вполне резонно остерегался узнать. И он, в конце концов, временно освободил подследственного от допросов, дал ему карандаш и бумагу и предложил собраться с мыслями и написать собственноручные показания, так как чистосердечное признание может облегчить участь подследственного.
Только это и надо было Чудотворцеву Он вряд ли сознавал, какую сильную позицию занял на допросах и оттого она была еще сильнее. При третьем аресте Чудотворцев уже не сомневался: его расстреляют, и уверенность в этом составляла его силу перед которой пасовал следователь. Смерть нисколько не страшила Платона Демьяновича, она представлялась ему желанным исходом. В первую же ночь в тюрьме он увидел перед собой надпись: «Et in Arcadia Ego» и услышал звон китежских колоколов. Являлись Платону Демьяновичу и синие очи, сиявшие в последние годы лишь со сцены театра «Красная Горка» и по которым он с младенчества так стосковался.
Вместо собственноручных показаний Чудотворцев написал краткий анализ эпохи. Революция миновала стадию разуверения в истинности царя и династии. Над революционной смутой возобладало чаянье нового истинного царя. Это чаянье воплощено в личности Иосифа Виссарионовича Сталина, недаром пришедшего с восточных окраин христианского мира, где Византия граничит с манихейским Ираном. Искание царской крови всегда сопряжено с кровопролитием, и эту миссию Сталин берет на себя, обозначая вековую борьбу света и тьмы манихейским термином «обострение классовой борьбы». Чуткий слух улавливал в этом анализе и неискоренимую тонкую чудотворцевскую иронию, столь схожую с древлеправославным юродством, что в одних читающих должно было вызывать ярость, а в других настороженное благоговение. Короче говоря, вместо собственноручных показаний Чудотворцев представил краткий очерк своего будущего, так и оставшегося незаконченным труда, название которого в точности не установлено или не установилось: то ли «Гений Сталина», то ли «Оправдание зла».
Трудно сказать, кто был среди первых читавших этот очерк. Во всяком случае, следователь, потребовавший от Чудотворцева собственноручных показаний, исчез, и его дальнейшая судьба неизвестна, а когда Чудотворцева снова вызвали на допрос, в том же кабинете его ждал другой следователь.
Чудотворцев так и не определил, какого пола этот следователь. Интересно, что конвоир, вводя Чудотворцева в кабинет, обратился к следователю по имени: «Товарищ Марина! Подследственный Чудотворцев». Чудотворцев поднял глаза, ожидая увидеть женщину, а увидел нечто иное (чуть было не написал «некого», как будто некого было видеть). Следователь был одет во френч защитного цвета, как тогда говорили, и в такие же брюки, заправленные в сапоги, но не в кирзовые и не в хромовые, то были щегольские лоснящиеся сапожки, которые могли быть и дамскими (Чудотворцеву предстояло вскоре убедиться, какие у них каблуки). Стрижка у следователя была короткая, но волосы у него были прямые, черные, не вьющиеся, и на лоб ему опускалась жесткая прядь, то ли чуб, то ли челка, из-под которой собеседника издали буравили глубоко запавшие, близко посаженные один к другому черные глаза. Были минуты, когда в следователе проявлялась настоящая женская, кошачья привлекательность (лучше бы таких минут не было), но была в нем (в ней) и слишком уж мужская, пружинистая жесткость. Оценив южную внешность следователя (смуглый цвет лица), Чудотворцев подумал было, что конвойный назвал не имя, а фамилию следователя: Marino (в XVI–XVII веках был итальянский поэт с такой фамилией, автор поэмы «Адонис», так почему бы его потомку или однофамильцу не объявиться в красной Москве), но потом Платон Демьянович остановился все-таки на имени или фамилии Марина (с возможной анаграмматической вариацией, естественно придерживаясь официального обращения: «гражданин следователь»).
Товарищ Марина вежливо указал-указала Чудотворцеву на стул. Голос у следователя оказался то ли высокий мужской, то ли низкий женский, скрипучий, крякающий, но иногда и мурлыкающий:
– Ну-с, что скажете, подследственный Чудотворцев? – проскипел-проскрипела товарищ Марина.
– Я написал собственноручные показания, – ответил Платон Демьянович.
– Вас спрашивают не о том, что вы написали, а о том, кого вы сейчас назовете, – крякнула-крякнул товарищ Марина.
– Мне некого назвать, кроме самого себя, – сказал Чудотворцев.
– Изволите симулировать манию величия? Значит, вы и есть истинный царь, Платон Первый? – взвизгнул-взвигнула товарищ Марина.
– Я этого не сказал, – пробормотал Платон Демьянович.
– Так скажите же, скажите хотя бы это, – промурлыкал-промурлыкала товарищ Марина.
Чудотворцев молчал.
– Вам сказано: назовите имя так называемого Истинного Царя, больше ничего от вас не требуется, – настаивал-настаивала товарищ Марина.
– К сожалению, я не могу назвать его, – ответил Платон Демьянович.
– Но ведь вы же написали «Бытие имени». Для чего вы его написали? – фистулил-фистулила товарищ Марина.
– «Бытие имени» – философский труд, – сказал Платон Демьянович.
– Ладно, давайте займемся философией, – лирический тенор товарища Марины перешел в колоратурное сопрано.
Следователь встал-встала из-за стола, подошел-подошла к Платону Демьяновичу, чуть ли не ласково, но цепко взял-взяла его за плечи. Меньше всего Платон Демьянович мог ожидать дальнейшего. Товарищ Марина ударил-ударила его каблуком в пах, выбил-выбила из-под него стул и продолжал-продолжала избивать ногами лежащего на полу. Платон Демьянович, которого до сих пор никогда в жизни не били, в первую минуту схватился было за избивающий его сапог, но сапог с легкостью пресмыкающегося выскользнул из его руки и хищно наступил на кисть этой руки, так что она хрустнула. В голове Платона Демьяновича мелькнула мысль, что теперь он не сможет писать, и в ближайшие дни – сколько было этих дней и ночей, он вспомнить не мог – ему писать действительно не пришлось. А пока избиение продолжалось. Товарищ Марина умел-умела избивать, причиняя оглушительную боль без внешних телесных повреждений. (Внутренние повреждения могли быть и наверняка были.) Избиение походило на пляску, при которой плясун-плясунья монотонно вопросительно повторял-повторяла имена заговорщиков, якобы связанных с Чудотворцевым: Иванов? Петров? Сидоров? Такие фамилии тоже были в списке арестованных, а может быть, товарищ Марина называла-называл и какие-нибудь другие, Чудотворцев не помнил. Он только бормотал в ответ на каждую фамилию: «Нет… нет… нет… Не знаю…», и каждое «нет» сопровождалось новым ударом сапога. Чудотворцев подумал, не копытом ли его избивают, но тут же решил, что сапог бьет больнее копыта. Его «нет… нет… нет» перешли в невнятные стоны, а товарищ Марина, не сбавляя темпа, совершенно спокойно продолжала-продолжал комментировать: «Лучше назовите кого-нибудь из них. Все равно они все арестованы, и всех их допрашивают, как сейчас вас… по вашей вине. А потом придется расстреливать. Так что избавьте их и себя хотя бы от дальнейших допросов». И Платон Демьянович снова откликнулся своими «нет… нет… нет».
– Нет? – взвизгнула-взвизгнул товарищ Марина и проскандировал-проскандировала по слогам, каждый слог подчеркивая ударом сапога. – Ну, на-зо-ви-те хо-тя бы и-мя Ис-тин-но-го Царя! Нам, в конце концов, все равно, какое имя вы назовете. Назовите хотя бы ваше имя: Платон Первый. Чем вы не царь, monsieur de Merveille? (Ее-его французское произношение оказалось вполне удовлетворительным.) А как насчет вашего замка в Пиренеях? Контрреволюционный центр под видом театра, которого, впрочем, нет. Ведь на имя будущего русского царя покупал его Орлякин (удар сапога под ложечку), убивший вашего отца, народного певца (удар сапога) самородка (удар сапога) Демьяна Чудотворцева за отказ с ним сотрудничать. Что скажете, monsieur de Merveille?
И на Чудотворцева обрушился такой удар, что вместо стона у него вырвался нечленораздельный крик. Товарищ Марина удовлетворенно хихикнула-хихикнул:
– Вот она, ваша настоящая философия.
Но и этот крик был прерван очередным ударом сапога в ребра, от которого у Чудотворцева захватило дух. Последнее, что поразило его, была жуткая ослепительная красота товарища Марины, метящей-метящего сапогом ему в лицо…
Очнулся Чудотворцев уже на стуле, вдыхая знакомый травянисто-медово-болотный запах и сквозь обморочное оцепенение удивляясь, что за все эти годы не забыл его. Товарищ Марина, заботливо склоняясь над ним, держал-держала все тот же фиал лесного старца. «Откуда у них эликсир? – мелькнула у Чудотворцева мысль. – Неужели и его они арестовали?»
– А что, если он работает на нас… в отличие от вас или, вернее, так же, как вы, – кокетливо улыбнулся-улыбнулась товарищ Марина. – Ибо вы работаете на нас, даете нам возможность выявить монархические настроения в обществе. Мы не расстреливаем вас, чтобы расстреливать ваших сторонников. И все-таки вернемся к нашим баранам. Может быть, вы все-таки назовете имя так называемого Царя Истинного? Если это ваше имя, не стесняйтесь, назовите его.
Чудотворцев молчал.
– Может быть, вы все-таки предпочтете спасти жизнь хотя бы некоторым из тех, кого мы расстреляем из-за вашего молчания? Ибо мы будем расстреливать всех подряд, пока среди расстрелянных не окажется Истинный Царь. Или вам все равно, ибо Царь Истинный вы?
Чудотворцев молчал.
– В таком случае продолжим.
И товарищ Марина снова выбил-выбила из-под него стул, и Платон Демьянович скорчился под ударом ее-его танцующих сапог. Но теперь сквозь невыносимую боль Платон Демьянович ждал, когда он потеряет сознание и снова вдохнет травянисто-медово-болотный запах эликсира, напоминающий родные леса.
Платон Демьянович не помнил, сколько раз это повторялось: падение со стула, удары сапогами до потери сознания и снова на стуле травянисто-медово-болотный запах, который он предвкушал и ради которого готов был терпеть удары. Впрочем, была еще и обворожительная улыбка товарища Марины. Чудотворцев, когда сознание к нему возвращалось, так и не мог определить, требовала ли, требовал ли товарищ Марина, чтобы он удостоверил перечисленные им-ею имена, назвал бы какое-нибудь другое имя или выдал бы имя Истинного Царя. Чудотворцевское «нет» никого из арестованных не спасло. Никто из них не был освобожден, а кое-кто был даже расстрелян. Удары сапог с возвращением на стул и вдыхание травянисто-медово-болотного эликсира приобрели регулярность медицинской процедуры, но однажды, когда Чудотворцев в очередной раз пришел в себя, перед ним сидел другой следователь. Товарищ Марина что-то сказал-сказала ему из-за двери, но до Чудотворцева донеслось только имя нового следователя: товарищ Цуфилер, как будто товарищ Марина доводил-доводила это имя до его сведения. «Zu viel, слишком многий, – машинально перевел Чудотворцев про себя… – Имя им легион».
Подследственному вовсе не обязательно было знать фамилии допрашивающих его следователей, и Чудотворцев не мог не обратить внимания, как броско и старательно эти фамилии вбивались ему в голову. Товарища Марину назвал конвоир, а товарища Цуфилера назвал-назвала сам-сама товарищ Марина.
Чудотворцев со своим инстинктивным вкусом к анаграммам сразу же переформовывал про себя эти фамилии в их духе и на допросах только прикидывал подспудно, дьявольские ли это псевдонимы или настоящие имена, насколько «они» могут быть настоящими. Он поднял глаза на своего очередного следователя и… почти ничего не увидел, такой нестерпимо яркий свет сверлил его зрачки, действительно, в духе имени Цуфилер, хотя свет был всего-навсего электрический, но товарищ Цуфилер, в ходе допроса регулирующий этот свет обычно в сторону усиления, сам, несомненно, уступал в яркости товарищу Марине, был субъектом тусклым и еле различимым, может быть, от яркого света, и внешность его не запоминалась.
– Ну, как вы себя чувствуете, подследственный Чудотворцев? – осведомился товарищ Цуфилер с кислой вежливостью.
– Пока еще чувствую себя, – с трудом выговорил Платон Демьянович, только что в очередной раз избитый сапогами товарища Марины.
– Мы заинтересованы как раз в вашем самочувствии, – кажется, кивнул товарищ Цуфилер. – Но переходим к делу. Что вы можете сказать об Оке Денницы?
Меньше всего такого вопроса можно было ожидать в учреждении, где находился Платон Демьянович. С трудом ворочая языком, он начал было рассказывать сирийское предание о третьем глазе, который утратил падший Люцифер, но товарищ Цуфилер только рукой махнул, как штатский, отчего ремни на его защитном френче скрипнули, эти ремни (затянутые на его френче крест-накрест), отличали его от товарища Марины, носившей-носившего такой же френч:
– Эту легенду мы и без вас знаем. Поберегите ее для ваших слушателей… если они еще у вас будут, что зависит от вас. А мне вы скажите, в конце концов, Око Денницы – взрывчатое вещество, отравляющее вещество, некое новое секретное оружие или кодовое название террористической акции, направленной против нас, а может быть, не только против нас?
– Ни то, ни другое, ни третье, – ответил Платон Демьянович, по привычке загибая пальцы. – Ни четвертое, – хотел сказать он, но только застонал: как раз безымянный палец у него не согнулся, напомнив, как наступил-наступила на него товарищ Марина.
– Видите, наши методы себя оправдывают, – кажется, усмехнулся товарищ Цуфилер, хотя его усмешка исчезала в потоке яркого света. – По крайней мере, вам не удается использовать все ваши пальцы для введения нас в заблуждение. Будет еще больнее, уверяю вас, если вы сейчас же не скажете, что такое Око Денницы и где оно находится.
– А оно не у вас? – едва выговорил Чудотворцев.
– Может быть, и у нас, вас это не касается, но вас более чем касается то, что вы ответите на мой вопрос.
Платон Демьянович повторил, что такое смарагд, из которого выточена чаша, куда точится Sang Real, Святой (Святая) Грааль, Кровь Истинная.
– Это похоже на дело, – буркнул Цуфилер. – И это было у вас в шкатулке, как показал при обыске ваш сын, певец Павел Чудотворцев?
– Вам лучше знать. Шкатулка-то у вас, – ответил Чудотворцев, корчась от нестерпимого света.
– Вы могли заранее вынуть это из шкатулки и передать кому-нибудь на хранение, может быть, даже за рубеж вместе с рукописью «Якобинской головы».
Если на все вопросы товарища Марины Чудотворцев однозначно отвечал «нет», то на вопросы товарища Цуфилера он отвечал более уклончиво, настаивая на том, чтобы товарищ Цуфилер определил, о чем идет речь, иначе он не может ответить на его вопросы, и Цуфилер пришел наконец в ярость:
– Вы были инициатором переименования улицы Софьиной в улицу Лонгина? Вы прячете там Око Денницы на даче номер семь?
Чудотворцев почти потеркл сознание от режущего света, а товарища Цуфилера несло, и он уже не контролировал поток своей речи, явно говоря подследственному липшее. Оказывается, на даче № 7 по улице Лонгина, обыски проводились неоднократно со странным результатом: исчезали проводившие обыск и те, кого они заставали на даче. Можно было подумать, что обыскивающих в свою (в их) очередь арестует другая инстанция того же учреждения за то, что они не нашли Ока Денницы или за то, что они его искали, но другая инстанция тоже устраивала обыск, и обыскивающие тоже исчезали. Впрочем, те, у кого проводили обыск, исчезали вместе с обыскивающими. Так, исчез юрист-контрреволюционер Федор Иванович Савинов. «Если приговор к десяти годам без права переписки считать исчезновением», – промелькнуло в затуманенной голове Платона Демьяновича. Но, по-видимому, один отдел ЧК иногда, действительно, считал или называл исчезнувшими арестованных другим отделом, действительно теряя их из виду… Так, впоследствии исчезнувшей считалась Антонина Духова, когда вместо нее была арестована руководительница Комальба Антуанетта де Мервей, правнучка маркиза, продававшего Чудотворцеву де Мервей замок в Пиренеях, а Антуанетта де Мервей считалась исчезнувший, когда арестовали руководительницу Исткома Антонину Духову, как будто Антонина Духова и Антуанетта де Мервей не одно лицо. (Что-то подобное в свое время творилось и с Черубиной де Габриак, вместо которой арестовали Елизавету Васильеву, урожденную Дмитриеву.) Долгое время исчезнувшим считался и Вениамин Яковлевич Луцкий, продолжавший делать невероятные операции. (В период этого исчезновения у него даже родился сын Адик.) Правда, Вениамин Яковлевич был действительно вполне реально арестован по делу врачей-вредителей и, слава Богу, также реально освобожден, хотя и умер вскоре после освобождения. Но главной исчезнувшей (исчезающей) оставалась все-таки Софья Богоявленская (не в ее ли честь была названа улица Софьина в Москве и в Мочаловке, по соображениям конспирации переименованная в улицу Лонгина?).
– Мы же знаем: в вашу контрреволюционную монархическую организацию входит и некая Софья Смарагдовна, по фамилии Богоявленская, – сквозь беспамятство до Чудотворцева донеслось контральто, от которого он пришел в себя и открыл глаза (сверлящего электрического света уже не было, а перед ним сидел-сидела все та же (тот же) товарищ Марина.
– Нет! – выдохнул Чудотворцев, и стул тут же был выбит из-под него, и сапоги товарища Марины заплясали на его ребрах, вдавливая их в грудную клетку до самого сердца и легких, успевая при этом ударить и по почкам. «Перед троном плясало Слово в испепеляющих сапогах», – почему-то пронеслось в голове у Чудотворцева. А товарищ Марина снова выплясывал-выплясывала на нем свой список.
– Антуанетта де Мервей?
– Нет! – простонал Чудотворцев.
– Никита Духов?
– Нет!
– Софья Богоявленская?
– Нет! – прохрипел Чудотворцев, надеясь на этом «нет» потерять сознание, чтобы вдохнуть запах эликсира, но ему пришлось еще раз выкрикнуть «нет» в ответ на имена священнослужителя Ивана Громова и Фавста Епифановича (не тогда ли он впервые услышал это имя?)
Так это и шло дальше: товарища Марину сменял товарищ Цуфилер, товарища Цуфилера с менял-с меняла товарищ Марина. Пляску на чудотворцевских ребрах сменяла пытка режущим светом, а когда электрический свет ослабевал с исчезновением товарища Цуфилера, товарищ Марина начинал-начинала скандировать свой список с новыми фамилиями, в ответ на очередное чудотворцевское «нет» выбивал-выбивала из-под него стул и вытанцовьшала-вьгганцовьшал на ребрах Платона Демьяновича свой адский танец. Платон Демьянович не мог определить, продолжалось ли это несколько часов или несколько дней. Он был только уверен, что из кабинета за дверь, обитую черной клеенкой, его не выводили так же, как не давали ему спать: сон заменяли потери сознания с последующим веяньем травянисто-медово-болотного духа. Кажется, иногда ему вливали в рот какую-то горячую жидкость, то ли чай, то ли тюремную баланду. По-видимому, в углу кабинета было оборудовано что-то вроде санузла, но Платон Демьянович не помнил, чтобы его туда водили.
– Ярилин-Предтеченский, – выкрикнул-выкрикнула товарищ Марина, надавливая танцующим каблуком Платону Демьяновичу на селезенку, но он все-таки икнул в ответ: «Нет!»
– Царь! Царь! Царь ваш… – продолжал-продолжала плясать товарищ Марина, но Платон Демьянович успел потерять сознание.
– Продолжайте, товарищ Станас, – сказал-сказала высоким тенором товарищ Марина, отнимая от ноздрей Чудотворцева фиал лесного старца, а глаза Чудотворцеву сверлил уже адский свет, и за столом перед ним тускло маячил товарищ Цуфилер. «Значит, Станас Цуфилер», – подумал Чудотворцев, механически выстраивая анаграмму этого имени. Чудотворцев давно уже определил про себя, что в этой анаграмме (для конспирации, что ли?) не хватает третьего «а».
Платон Демьянович заметил, что оба его следователя нервничают. Первым-первой заволновалась-заволновался товарищ Марина, сразу же начавший-начавшая приходить в ярость от вечных чудотворцевских «нет», хотя и ярость товарища Марины могла быть наигранной. Но и товарищ Станас (Цуфилер) едва скрывал раздражение, заметное при всей его тусклой внешности, какого бы яркого света он ни включал (не сама ли ярость товарища Цуфилера переходила в пыточную яркость света?).
Сказывалось преимущество чудотворцевской позиции: готовность к худшему даже желательность, лишь бы все это кончилось, так что следователям ничего другого не оставалось, кроме как превратить в свое оружие самоё позицию подследственного: это будет продолжаться сколько нужно, сколько нам нужно, пока ты не сдашься.
– Когда же наконец это кончится, – вырвалось у Чудотворцева, когда он услышал имя или очередную партийную кличку: «Товарищ Станас».
– Что кончится? – До Чудотворцева донеслась сквозь сверлящее сияние тусклая ухмылка товарища Цуфилера.
– Должны же вы в конце концов расстрелять меня. – Чудотворцеву надоело сдерживаться, и он выдал себя.
– Ах, вот вы о чем! Будьте спокойны, мы не собираемся расстреливать вас.
– Но разве то, в чем вы меня обвиняете, не карается расстрелом?
– Карается, но согласитесь: карать важнее, чем покарать. В аду не расстреливают.
– в аду?
– А вы разве все еще не заметили, что вы в аду? Ад – это длительность, принудительная, бесконечная длительность. Вы не боитесь и даже хотите расстрела, потому что воображаете себя бессмертным, но вот оно, бессмертие, о котором вы так хлопочете. Кто попадает в рай против воли, попадает все в тот же ад. Принудительное воскрешение, поверьте мне, хуже расстрела. В этом смысле monsieur Vedro – наш человек. Как и вы, monsieur de Merveille.
– Потому вы меня здесь и держите?
– А где же вас держать? Может быть, забегая несколько вперед, сообщу, что вам, по всей вероятности, будет вынесен приговор: «Изолировать, но сохранить». Как иначе воздать вам должное за вашу идею мавзолея? Мавзолей тоже означает «изолировать, но сохранить». Так что подобный приговор не должен вас радовать или успокаивать. «Изолировать, но сохранить» можно только в аду, где мы с вами и беседуем. Поверьте мне, другого бессмертия не бывает.
Вероятно, Чудотворцев отключился после этого на некоторое время, убедившись, что от яркого света можно терять сознание, как и от истерической пляски товарища Марины, только товарищ Станас не давал ему понюхать эликсира и просто ждал, пока подследственный придет в себя.
– Чего же вы в таком случае добиваетесь от меня? – выговорил кое-как Чудотворцев.
– Чтобы вы были с нами, ничего больше, – ответил товарищ Цуфилер. – Вы же представляете себе, какой вы интересный собеседник. Товарищ Марина скажет вам, сколько народу расстреляно на основании ваших монотонных «нет», которые надежнее подтверждают виновность подозреваемых, чем подтверждали бы ваши «да». (Товарищ Станас перечислил несколько имен, из которых ни одно не запомнилось Чудотворцеву) Но товарищ Марина, как всегда, упрощает. У них и задача проще. Если уничтожать методически одних за другими, среди прочих уничтожишь и участников любого заговора и самого Царя Истинного, каково бы ни было его имя, не все ли равно. Испытание царской крови, как вы говорите.
Товарищ Цуфилер убавил свет настолько, чтобы Чудотворцев мог видеть, как фамильярно товарищ Станас ему подмигивает:
– Вы же знаете: нет в мире невиновных.
– Нет в мире виноватых, – машинально поправил Чудотворцев.
– Лучше сказать, каждый за всех виноват, что фактически значит, каждый из всех виноват.
– В чем?
– В том, что существует. Бытие – величайшая вина по отношению к небытию. Мы-то знаем, что никакого бытия не существует, но приходится работать с теми, кто настаивает на противоположном. Сотворение мира – конечно, иллюзия, но это катастрофа и преступление, за которое мы не можем не карать.
– Власть не от Бога, – сказал Чудотворцев.
– Вот за это мы вас и караем, – бесцветно сообщил товарищ Цуфилер.
– А вы настаиваете на том, что ваша власть от Бога? – В чудотворцевском вопросе послышалась ирония, несмотря на усилившийся свет.
– Разумеется, наша власть от Бога, поскольку Бога нет, – ответил Цуфилер. – Мы обвиняем вас в том, что вы распространяете идею, будто есть какая-то власть, кроме нашей.
В ответ Чудотворцев молча перекрестился и поднял руку, чтобы перекрестить Цуфилера, но тот исчез в потоке ярчайшего света, и на Чудотворцева обрушились сапоги товарища Марины, а когда Чудотворцев снова оказался на стуле, глотнув травянисто-медово-болотного духа, он убедился, что не может поднять вывихнутую руку для крестного знамения, и перед ним снова замаячил в электрическом свете товарищ Станас.
– Так-то лучше, – хмыкнул он. – Но давайте подводить итоги. Расстреливая направо и налево, товарищ Марина ликвидирует любой заговор и имеет шансы добраться до вашего Истинного, а по-нашему, так мнимого Царя. По вашей же теории его историческая миссия – быть ликвидированным. Тут товарищ Марина и без вас обойдется. А вот Око Денницы требует вашего сотрудничества или, по крайней мере, консультации. Тут Маркелычем с Пронюшкой не обойдешься.
– Будто вы сами не знаете, что такое Око Денницы.
– Мы знаем, что мы знаем. Но мы были ангел света, когда оно у нас было, а когда его у нас нет, мы не узнаем его, даже если оно попадет к нам… в когти. Мы продолжаем посылать наших… странствующих рыцарей на поиски Святого Грааля (Sang Real), но они не находят его, даже если допустить, что они его находят, перебирая изумруды, пробы крови и тому подобное. Есть мнение, что вы тот, кто может вернуть нам Око Денницы.
– Но зачем, зачем Люциферу, то бишь, извините, товарищу Цуфилеру третий глаз? У вас и так всего слишком много… – недоумевал Платон Демьянович, может быть, отчасти притворно. Товарищ Цуфилер убавил свет чуть ли не до полумрака.
– Мы сами хотим испытать, что будет, когда оно у нас будет. Для этого мы установили нашу власть в Третьем Риме и установим ее, где будет нужно. Мы рассчитываем, что когда у нас будет Око Денницы, больше не будет ничего. Согласитесь, это интересный эксперимент. Неужели вы не хотите в нем участвовать?
– В чем должно выражаться мое участие?
– Просто в том, что вы сейчас на это согласитесь.
– А если я вам скажу, что Око Денницы в замке де Мервей в Пиренеях?
– Мы найдем способ немедленно доставить вас туда, и вы нам его передадите.
– И что тогда?
– Тогда ваше дело закончится. Тогда вы станете как один из нас, зная добро и зло или, вернее, зная, что нет ни добра, ни зла, так как нет ничего.
– А если я скажу, что я не знаю… что такое Око Денницы?
– Мы вам не поверим, так как вы Чудотворцев и сами о себе не все знаете. Но тогда придется опробовать другого кандидата в консультанты, который у нас тоже есть.
– Вот и опробуйте, – сказал Чудотворцев.
– Мы начнем все-таки с вас.
В кабинете загорелся ровный, электрический, официальный свет. Обитая черной клеенкой дверь отворилась и, к удивлению Чудотворцева, вошел конвоир, а не товарищ Марина. Чудотворцева вывели в коридор и куда-то повели, он подумал было не расстреливать ли, но его вывели во двор (Чудотворцев забыл, когда в последний раз вдыхал свежий воздух), посадили в машину (на окнах Платон Демьянович увидел решетки), но и сквозь решетки он узнавал московские улицы своими отвыкшими видеть глазами. Машина выехала за город. Стояла глубокая ночь. Чудотворцев отчетливо почувствовал за решетчатыми окнами подмосковные леса. Через некоторое время машина въехала в населенный пункт, остановилась, и Чудотворцева повели в дом, в котором он узнал дачу № 7 по улице Лонгина. В саду раздавались странные крики. Чудотворцев не сразу догадался, что это кричат совы. «Вы участвуете в следственном эксперименте, – вежливо сказал Чудотворцеву один из конвоиров в штатском. – Потрудитесь найти то, что вам только что поручили найти». – «А хозяева арестованы?» – спросил Платон Демьянович. «Извините, но это к делу не относится», – ответил конвоир в штатском. Никто из хозяев не попадался Чудотворцеву на глаза. Его водили по комнатам, где, очевидно, шел обыск. Впрочем, никакого беспорядка не наблюдалось. Каждую вещь брали, осматривали и аккуратно клали на место… «Вы ведь знаете этот дом?» – спросили Чудотворцева. Платон Демьянович подтвердил, что знает. У него было отчетливое ощущение: обыскивающие старательно ищут, но боятся найти то, что ищут. Чудотворцева остановили перед старинным поставцом. «Видели вы эту вместимость раньше?» – спросили Чудотворцева. Чудотворцев признал, что видел. «И как вы думаете, что в ней?» – «Старинная посуда», – ответил Платон Демьянович без особой уверенности, но ответ его как будто всех удовлетворил. Обыск или следственный эксперимент на этом кончился. Чудотворцева отвезли назад и через несколько дней сообщили, что он приговаривается к тюремному заключению на десять лет.
Когда в камере прервалось тяжелое забытье, более похожее на прежние потери сознания, Платон Демьянович не ощутил дневного света, скудно, но все-таки проникавшего в камеру. Были все основания думать, что его лишил зрения свет Цуфилера. Каждое движение причиняло острую или тупую боль. Не уходи, да мысль о том, что допросы должны продолжиться. «Ад – это длительность, принудительная бесконечная длительность». Чудотворцев так и не узнал, сколько времени провел он за дверью, обитой черной клеенкой. Вероятно, чуть больше суток, но и в камере тянулась адская длительность. Чудотворцев только впоследствии оценил послабления тюремного режима, допущенные для него. Так, ему разрешили лежать днем, в дальнейшем этого ему не разрешали годами. Любопытно, что мысль о смерти не приходила Платону Демьяновичу в голову, а если приходила, то лишь как упущенная возможность. Смерть связывалась исключительно с расстрелом, а расстрел ему заменили адом. В аду не умирают. Даже невероятный в условиях тюремного режима визит врача в камеру (или то был просто костоправ?) воспринимался как продолжение вчерашней (вчерашней ли?) пытки. Медицинский работник даже не спросил заключенного Чудотворцева, как он себя чувствует. По-видимому, на него распространялось предписание не разговаривать с Чудотворцевым, так что медработник осматривал пациента на ощупь, и его прикосновения, выстукивания, а также переворачивания с боку на бок и со спины на живот напомнили Платону Демьяновичу пляску товарища Марины. Чудотворцев то и дело вскрикивал от подобного осмотра, и у него даже стало вырываться, рассчитанное на товарища Марину, машинальное: «Нет… нет… нет…» Но медработник оказался опытным; разновидностями пытки Чудотворцев счел вправление вывихов и некий грубый, но весьма действенный массаж конечностей. Медработник не обращал ни малейшего внимания на стоны и вскрики пациента, но вскоре после его ухода Чудотворцев убедился, что может передвигаться без посторонней помощи. Лишь зрение к Чудотворцеву не возвращалось, и он уже приучал себя к мысли, что больше никогда не заглянет в книгу Впрочем, его глаза уже реагировали на маленькое тусклое тюремное окошко. Потом туманно проступили немногие наличествующие в камере предметы, например миниатюрный, но намертво привинченный к полу столик. Чудотворцев принял за галлюцинацию стопку писчей бумаги на столике, но бумага на нем действительно лежала, как и остро зачиненный карандаш, буквально приглашающий заключенного Чудотворцева писать. Чудотворцеву вернули его прежние очки, но он сквозь них ничего не увидел. Ему принесли другие очки, также слишком слабые. Чудотворцева не водили в кабинет окулиста, выпуклые сильнейшие очки были подобраны и так. Первое, что написал Чудотворцев, было требование в тюремную библиотеку как отрывисто предложил ему надзиратель, старавшийся перед этим не смотреть заключенному в глаза. Платон Демьянович практически вслепую нацарапал требование, заказав Апокалипсис и «Эннеады» Плотина (то и другое по-гречески), и эти книги не сразу, но все-таки были ему предоставлены. К тому времени, когда их принесли, Платон Демьянович уже писал. И в режиме питания были некоторые поблажки, выражавшиеся, главным образом, в том, что заключенному давали чай. Так продолжалось недолго, и через несколько дней с хлебной пайкой утром приносили лишь кипяток, а потом баланду и кашу. При этом Платон Демьянович был уверен: если бы к ним в руки попался Царь Истинный, режим для него был бы таким же по принципу: «Изолировать, но сохранить», разумеется, если бы его тоже не расстреляли, хотя Царя Истинного вряд ли побуждали бы писать, как Чудотворцева, и Чудотворцев только улыбался про себя, вспоминая, как сам доказывал: «Богу угоден царь-поэт, а не царь-философ, царь Давид, а не Марк Аврелий, и даже не Соломон, хотя Соломон был и поэтом, воспевавшим Софию». Думал Чудотворцев и о том, что Сократу было свыше велено заняться музыкой, так не велено ли то же самое новому Платону?
Но в тюремной камере Чудотворцев разве только прислушивался к внутренней музыке. Нет никаких данных о том, чтобы Чудотворцев писал в тюрьме музыку; работа над «Действом о Граали», кажется, прервалась навсегда, хотя музыка идей, наверное, присутствовала в написанном, а писал Чудотворцев тогда практически непрерывно, хотя написанное им регулярно исчезало и не возвращалось к нему (за редким исключением). Чудотворцев не перечитывал написанное; у него не было на это времени, да и разобрать свои карандашные каракули ему не удавалось. Оставалось только утешаться тем, что и Плотин, чьи «Эннеады» Чудотворцев перечитывал в камере, избегал сам себя перечитывать, правда, не потому, что у него изымали написанное, а потому, что слабое зрение не позволяло, и это роднило Чудотворцева с ним. Мог Платон Демьянович вспомнить и Боэция, писавшего в заключении среди пыток свое «Утешение философией», но то, что писал в тюрьме Чудотворцев, на Боэция не походило, даже если служило Платону Демьяновичу утешением в тот момент, когда писалось. Очевидно, Платон Демьянович писал бы, даже если бы знал наверняка, что написанное им уничтожается. Может быть, так оно и было; тюремные рукописи Платона Демьяновича не вернули ему даже после условного освобождения. Я чуть было не написал, что не встречал ни одного человека, читавшего эти рукописи, но, по-видимому, их читал, скажем, Григорий Богданович Лебеда, этот чудотворцевовед, как выразился в моем присутствии Игнатий Лукьянович Криштофович. Неужели тому и другому давали эти рукописи на отзыв, а может быть, для дешифровки неразборчивых мест или для реферирования? Кто-то явно читал тюремные рукописи Чудотворцева, причем читал с жадностью в нетерпеливом ожидании продолжения, вот почему эти рукописи с такой быстротой изымались, иногда прерванные на полуслове, как рассказывал Платон Демьянович. Ждали, что Чудотворцев напишет вот-вот нечто очень важное, и одиночное заключение было надежнейшим способом это важное засекретить. Я вынужден ограничиваться домыслами, но многое свидетельствует о том, что Чудотворцева читали на самом идеологическом верху Маловероятно, чтобы оттуда спускали ему указания, как писать, так что остается предположить, что импульсы шли в обратном направлении: от заключенного Чудотворцева наверх. Не влиянием ли Чудотворцева объясняется идеологическая эволюция советской власти от пролетарского интернационализма к великодержавному патриотизму с элементами православия? Ходят слухи, что в тюремных рукописях Чудотворцева впервые употреблено и выражение «сумбур вместо музыки», отнесенное к Шостаковичу, хотя у Чудотворцева шла речь о пролеткультовском авангардизме. Во всяком случае, о Вагнере и Мусоргском речь в тюремных писаниях Чудотворцева шла, так что новый Платон в заточении отдал дань музыке, как Сократ, следуя инспирациям своего Демона, ибо слышать живую музыку Платон Демьянович в тюрьме не мог иначе, как во сне. Тюремную одиссею Платона Демьяновича трудно проследить, его переводили из тюрьмы в тюрьму, иногда «далеко от Москвы», как назывался модный роман сталинского времени, но везде ему была гарантирована одиночная камера и любые книги, какие бы он ни заказывал, даже если они поступали с опозданием в несколько недель.
При этом свежих газет Платону Демьяновичу не давали, да он и не требовал газет, но газеты предлагались ему тоже с опозданием на несколько дней, уже в виде подшивок. Как правило, это была, разумеется, «Правда», реже «Известия». Видно, кто-то все-таки контролировал информацию, поступающую к Платону Демьяновичу, да и насколько можно было по газетам судить о происходящем в стране? Чудотворцев обнаруживал иногда поразительную проницательность в том, что он тогда писал; то была догадливость на грани пророчества. Если газеты и поступали, он разве только заглядывал в них, схватывая главное между строк иногда в смысле прямо противоположном напечатанному. Он реставрировал ход событий, как историк, по скудным данным, дошедшим до него, хотя Чудотворцев был не историк, а современник реставрируемых событий (если про него вообще можно сказать «современник», правда, сам о себе он никогда не сказал бы, как Мандельштам: «Нет, никогда ничей я не был современник», так как чувствовал свою со-временность всему, что было, и многому из того, что будет). Иногда до Чудотворцева доходили без всякого требования с его стороны и совершенно недоступные рядовому советскому человеку материалы, чуть ли не засекреченные, рассчитанные на самых высокопоставленных партийных работников, как, например, иностранные газеты (высокопоставленные работники в своей массе, правда, были не в состоянии их читать за незнанием иностранных языков; то, что для них не переводили, Чудотворцев читал в оригинале). Интересно, что среди этих материалов преобладали немецкие, так что Платон Демьянович был осведомлен о событиях в национал-социалистической Германии лучше, чем о событиях в Советской России.
Но зрение не позволяло Платону Демьяновичу слишком пристально вглядываться в газеты; он едва заглядывал в них и редчайшие книги заказывал иной раз ради одной-единственной цитаты. Он и своих-то писаний не перечитывал уже потому, что их у него изымали. Написанное в те годы Чудотворцев восстанавливал тридцать лет спустя, диктуя Клавдии книгу под шокирующим названием «Оправдание зла» (до сих пор из этой книги печатаются лишь отдельные фрагменты). Могу сказать одно: вряд ли эта книга сочинялась в шестидесятые годы заново. Принимая во внимание поразительную память Платона Демьяновича, я склонен считать, что в основном он действительно восстанавливал написанное в тюремной камере в тридцатые годы (с некоторыми неизбежными позднейшими комментариями). В последнее время у меня даже появилась возможность сравнивать (возможность, несколько проблематичная, так как фрагменты из подлинных тогдашних рукописей Чудотворцева предлагает мне не кто иной, как Всеволод Викентьевич Ярлов, якобы имеющий доступ к секретным архивам). Конечно, это не карандашные чудотворцевские подлинники: их, вероятно, теперь я и сам не разберу То, что мне приносит или присылает Ярлов, уже перепечатано ПРАКСом, готовящим будто бы рукопись Чудотворцева к изданию под прежним названием «Гений Сталина». Кстати, остается спорным, давал ли Чудотворцев своей рукописи такое название или с самого начала называл ее «Оправдание зла». Второй вариант названия представляется мне более обоснованным, так сказать, более чудотворцевским. Не секрет, что кое-кто из прошедших внутреннюю тюрьму на Лубянке, пытался потом писать апологии Сталина, причем иногда совершенно искренние, даже фанатические. Как правило, такие апологии не спасали от долгих лет заключения, а то и от расстрела. Когда Осип Мандельштам написал свое известное антисталинское стихотворение, Сталин распорядился изолировать, но сохранить его («…ведь он же мастер, мастер» – слово Сталина о Мандельштаме, откуда, возможно, происходит название булгаковского романа «Мастер и Маргарита»), впрочем, когда Мандельштам попытался написать оду Сталину, Сталин утратил к нему интерес и не препятствовал его дальнейшей лагерной судьбе с неизбежной гибелью.
Не знаю, насколько достоверны фрагменты, предоставленные мне Ярловым, хотя сомневаюсь, чтобы ПРАКС располагал фальсификаторами, способными с такой достоверностью подделать стиль Чудотворцева и, главное, его эрудицию, но, даже судя по этим фрагментам, то, что писал в тюрьме Чудотворцев, трудно признать апологией Сталина; пусть выражение «гений Сталина» в книге часто встречается и подробно анализируется, Чудотворцев нигде не пишет, что Сталин – гений. Выражение «гений Сталина» во многом противоположно этому ходячему идеологическому догмату Чудотворцев употребляет слово «гений» в древнем смысле как синоним слова «демон». Слово «гений» происходит от латинского «gens» («род») или от «gigno» («порождать»). Гений – это мужская сила, не совпадающая со своим носителем, но нападающая на него, обуревающая, движущая им. В этом смысле Джугашвили движим гением Сталина, причем гений – далеко не обязательно добрый гений, скорее напротив, как и демон (да и бывает ли стихия доброй или злой?). Свой гений есть не только у отдельного человека, но и у города или у державы. Так, по Чудотворцеву, гений Сталина в определенный период становится гением Третьего Рима. Чудотворцев даже позволяет себе по этому поводу цитировать Владимира Соловьева:
Смирится в трепете и страхе Кто мог завет любви забыть..Как я слышал, мнения московских антропософов по поводу Сталина в тридцатые годы разделились. Одни считали Сталина воплощением древнего законодателя Ману (Ману – Наум, библейский пророк, сказавший: «Щит его героев красен…» (Наум, 2:3), другие, напротив, полагали, что в Сталине действует Ариман (товарищ Марина?). Естественно, Чудотворцеву ближе вторая точка зрения, хотя он и не разделяет ее полностью. Чудотворцев усматривает в жизни Сталина (Джугашвили) приверженность древнему манихейству, тайному мироощущению христианского Востока, и ссылается на слухи, будто из Духовной семинарии Иосиф Джугашвили был исключен вовсе не за увлечение марксизмом (кто тогда не увлекался марксизмом?), а за вхождение в некую мистическую, по всей вероятности, манихейскую секту; и самый марксизм истолковывается с тех пор гением Сталина как модификация манихейства. Великий вероучитель Мани видел в бытии вечное противоборство Света (Ахурамазда или Ормузд) и Тьмы (Ангро-Манью или Ариман). Ману, Наум, Мани – не одно ли и то же имя, а в имени Мани не прочитывается ли к тому же «аминь» («истина»)? Гений Сталина принимает сторону Аримана не потому, что он на стороне Аримана, а потому, что полагает: Аримана можно преодолеть лишь его собственной силой, усиливая ее до самоуничтожения. Гений Сталина руководствуется тайным принципом: зло преодолевается злом, что может пониматься как оправдание зла, к чему и сводится история по Чудотворцеву. Отсюда столь характерное для Сталина вполне манихейское противопоставление двух лагерей, социалистического и капиталистического, или двух миров (Света и Тьмы), ведущих между собой непримиримую войну. В отчетном докладе XVII съезду партии Сталин прямо говорил: «Вы помните, конечно, что эта война сплотила всех трудящихся нашей страны в единый лагерь самоотверженных бойцов, грудью защищавших свою рабоче-крестьянскую родину от внешних врагов» (Сталин И. Вопросы ленинизма. – М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. С. 547). Выражение «внешние враги» явно манихейского происхождения: тьма внешняя.
В тюремной книге Чудотворцева угадывается строгая композиция, как и в других его книгах. Это не разрозненные «Мысли», не «Опавшие листья». Но связь между отдельными фрагментами прослеживается с трудом. Допускаю, что память Чудотворцева удерживала изъятые фрагменты и сохраняла определенную последовательность между ними. Возможно, тогдашний гипотетический читатель Чудотворцева также видел эту последовательность, располагая всеми фрагментами по мере их поступления. Я лишен такой возможности, поскольку не читал всего, написанного Чудотворцевым в тюремных камерах. Фрагменты не датированы. Их соотношение для меня определяется лишь злобой дня, которой Чудотворцев уделяет внимание. Но злоба дня соотносится в книге с древним и вечным. Автор надолго уходит от нее, исследуя, скажем, мистический большевизм Платона. А, главное, такая книга обречена остаться незаконченной, как незакончено и «Оправдание зла», ее поздняя реставрация. «Оправдание зла» должно заканчиваться, как я полагаю, Страшным судом, выявляющим тщету зла.
Ибо конечный вывод из книги Чудотворцева все-таки такой. Когда зло преодолевается злом, лишь накапливается зло. Чудотворцев подмечает одно обстоятельство. Грехопадение не было лишь познанием зла. Это было познание добра и зла, как будто добро не познается, либо даже не существует без зла. Чудотворцев считает это диалектическим заблуждением, ибо добру и злу предшествует Благо, вмещающее всю полноту бытия, и грехопадение было отречением от Блага. Отсюда тщетность попытки преодолеть зло злом. Восстанавливаются внешние атрибуты мистического Царства, но не само Царство, так как Царства не бывает без Царя, а Царем стать невозможно. Гений Сталина все время ссылается на будущее, но будущего он лишен, как лишено будущего зло. Искание Царя ни к чему не приводит, ибо гений Сталина должен отречься от себя, чтобы найти Царя, а если гений Сталина отречется от себя, искание Царя прекратится, и не останется ничего, кроме перманентной революции, по Михаилу Верину Гений Сталина впадает в тщету несмотря на свои отдельные блестящие победы, которым Чудотворцев отдает должное и для которых даже кое-что рекомендует, хотя и в самых эффективных его рекомендациях я, по крайней мере, улавливаю сокрушительную чудотворцевскую иронию.
Вероятно, ее улавливал не только я. Тюремные писания Чудотворцева кого-то разочаровали, хотя заинтриговывали все равно. Над личностью мыслителя был поставлен зловещий эксперимент. Три года его заставляли только писать в пифагорейском безмолвии. (Пифагореец проводил в полном молчании пять лет, чтобы удостоиться посвящения.) За три года Чудотворцев не говорил практически ни с одним человеком (слова, которыми он обменивался с конвоирами и тюремными надзирателями, не в счет; если те что-то и говорили ему, то, как правило, ему не отвечали). Чудотворцев только писал и писал, писал непрерывно, не перечитывая написанного, но сколько бы он ни писал, а писал он, по существу, разные труды, объединенные общим названием, то ли «Гений Сталина», то ли «Оправдание зла», он все глубже затягивал своего читателя, кто бы он ни был, в свою проблематику. И над Чудотворцевым поставили другой эксперимент: изменили ему меру пресечения, что преследовало другие, более сложные цели.
Утренний завтрак, пайку хлеба и кружку кипятку, Чудотворцеву передавали через окошко в двери. Чудотворцев привык уже давно к тому, что днем ему нельзя лежать: надзиратель заходил в камеру, чтобы придраить постель к стене, так что заключенный мог только сидеть и писать. Тот же надзиратель обычно изымал у него написанное за несколько дней, иногда за один день, а иногда чуть ли не за час, так что иные фрагменты прерываются на полуслове, что, возможно, также подтверждает их подлинность. В то утро надзиратель отрывисто объявил заключенному Чудотворцеву, что его вызывают «с вещами». Чудотворцев схватился сначала за свою рукопись, но надзиратель привычным движением взял ее у него из рук. Чудотворцев принялся собирать книги, но вспомнил, что они библиотечные, оставил их на попечение надзирателя и в конце концов предстал перед начальником тюрьмы с пустыми руками. Тот сообщил заключенному Чудотворцеву, что остальной свой срок он будет отбывать вне тюрьмы. Слово «ссылка» при этом не было употреблено, Чудотворцева только обязали являться для регистрации через каждые два дня на третий.
Оказывается, уже несколько месяцев Чудотворцев сидел в тюрьме на берегу Белого моря. Ему не говорили, откуда и куда его везут, и в поезде его все равно везли отдельно от других, как правило, при закрытом окне, так что купе не отличалось от тюремной камеры; к тому же и в купе Чудотворцев продолжал писать, и написанное в тряском вагоне едва поддавалось прочтению, но читатели у Чудотворцева были квалифицированные, а главному читателю написанное передавалось в перепечатанном виде. Чудотворцеву выдали шубу, как будто в шубе его арестовали, хотя он хорошо помнил, что это не так. На регистрацию ему полагалось явиться тотчас же по выходе из тюрьмы, имея на руках справку Что в справке написано, Чудотворцев не разобрал. Выйдя за тюремные ворота, Чудотворцев услышал глухой шум моря. В воздухе кружились отдельные крупные снежинки. До учреждения, куда ему полагалось явиться, было недалеко. Там Чудотворцеву выдали другую справку и посоветовали зайти на почту На почте Платона Демьяновича ждал денежный перевод, что-то около тысячи рублей, сумма по тем временам изрядная. Деньги выслала Марианна Бунина, порывавшаяся выслать их уже давно, но ни посылок, ни почтовых переводов у нее до сих пор не принимали. Как выяснилось, шубу Платону Демьяновичу прислала тоже она, воспользовавшись какими-то своими связями по линии культуры. На почте Чудотворцеву доброжелательно посоветовали, где снять комнату, а при очередной регистрации ему даже предложили работу: преподавать латынь в местном медицинском училище.
Стояло у самого Белого моря сельцо Святосхимово. Судя по названию, на месте села таился когда-то старообрядческий скит. При советской власти сельцо получило статус города, а прежнее название села преобразовалось в Осоавиахимовск. В городе Осоавиахимовске (в бывшем Святосхимове) Чудотворцеву и предстояло находиться «вне тюрьмы».
Чудотворцев пошел по адресу, указанному ему на почте, среди других изб разыскал избу, построенную из почерневших от ветра, но все еще добротных бревен, и постучал в дверь. Ему открыла сухощавая старуха в платке, заколотом по-старообрядчески. Похоже, приход Платона Демьяновича не был для нее неожиданностью: она обратилась к нему по имени-отчеству до того, как он ей представился. Старуха даже знала, где Платон Демьянович будет работать и сколько будет получать: триста рублей в месяц. За комнату она спросила с него сто рублей, вызвавшись за эту же сумму обстирывать его и готовить ему. Наверняка она слышала и о денежном переводе, полученном Чудотворцевым на почте, так что предложила ему молоко от собственной коровы, и цена за клетушку в избе с отоплением, освещением и обслугой скоро перевалила за двести рублей. Чудотворцев, окончательно забывший в заключении счет деньгам, рассеянно согласился. Старуха продолжала брать с него эти деньги и тогда, когда обслуживанием Чудотворцева занялась другая.
Когда Чудотворцев пришел в следующий раз на регистрацию, его вежливо попросили подождать. У Чудотворцева мелькнула даже мысль, не собираются ли водворить его обратно в тюрьму, благо ее здание виднелось в окне. Но через несколько минут Чудотворцеву предложили пройти дальше по коридору Дверь, обитая черной клеенкой, напомнила ему кое-что, и ассоциация оказалась правильной: за дверью Чудотворцева ждал товарищ Цуфилер. Чудотворцев и без яркого света узнал его тусклый образ. У Платона Демьяновича заныли ребра; он привык, что товарища Станаса сменяет товарищ Марина. Но на этот раз Цуфилер был один. Он вежливо осведомился о здоровье Платона Демьяновича (оно оказалось лучше, чем могло бы быть) и преподнес собеседнику новые, усовершенствованные очки. Очки прямо относились к предмету дальнейшего разговора. Товарищ Цуфилер вручил Чудотворцеву письмо. Оно было на немецком языке с частым, но непоследовательным использованием готических букв, почерк был странный, и нельзя сказать, чтобы разборчивый. Чудотворцев сразу разобрал только обращение: «Негг de Merveille» и подпись: «Klingsohr». И то и другое выглядело как мистификация. Платон Демьянович признался, что ничего не может разобрать, и товарищ Станас положил перед ним распечатку письма. Стиль письма был странен, как почерк. Автор старался выдержать в письме тон старомодной австрийской любезности, но в тяжеловесно вежливые обороты, претендующие на интеллектуализм и поэтичность, вторгались резкие, даже вульгарные выражения, более уместные для политических митингов. Чудотворцев сразу же обратил внимание на фразу: «У кого нет чувства истории, тот подобен глухому или уроду». Далее речь шла о красотах архитектуры, автор писал о них с несомненным знанием дела: «Колдовское очарование Флоренции и Рима, Равенны и Сиены или Перуджи, а как прекрасны Тоскана и Умбрия». Автор письма явно умел ценить это колдовское очарование и писал о нем, чтобы убедить адресата в своей посвященности, чтобы адресата по возможности очаровать. Чудотворцев уловил особый свет, проливаемый на письмо следующей фразой: «Думаю, что Сицилия тоже чудесное место». Чудотворцев понял соотношение этой фразы с подписью «Клингсор». В этом свете раскрывался и вопрос автора к адресату, а также деловое предложение, с которым Клингсор обращался к господину де Мервей. Автор письма просил уточнить местоположение замка де Мервей в Пиренеях и назвать условия, на которых этот замок мог бы быть приобретен.
– И кто же такой господин Клингсор? – спросил Чудотворцев, сам не решаясь поверить своим догадкам/
– А как вы думаете? – кажется, улыбнулся Цуфилер в своей ускользающей зыбкости, но он не стал настаивать на том, чтобы Чудотворцев первым назвал имя, которое тут же назвал сам: Адольф Гитлер.
Это имя действительно приходило в голову Платону Демьяновичу, когда он читал письмо. Он был неплохо знаком со стилем Гитлера. Среди немецких публикаций, почему-то доводимых до его сведения в тюремной камере, присутствовали не только многочисленные, пространные речи фюрера, но даже «Mein Kampf», и Чудотворцев уделил известное внимание в «Оправдании зла» феномену Гитлера, как он его понимал. Но чтобы на это упоминание откликнулся сам Гитлер… Тут было над чем задуматься, тем более что Чудотворцев писал по-русски, писал в одиночном заключении и отнюдь не рассчитывал на распространение своих опусов за границей, а получение письма оттуда в то время почти наверняка влекло за собой арест и лагерный срок; что же касается письма от Гитлера, получатель такого письма мог быть и расстрелян без дальнейших околичностей. Чудотворцев, конечно, подумал об этом, поднимая глаза на Цуфилера, и Цуфилер понял его мысль, поспешив заверить Чудотворцева, что расстрел ему не грозит, «несмотря ни на что», – подчеркнул Цуфилер; даже в тюрьму Чудотворцева возвращать не собираются.
Чудотворцев собрался с мыслями и вспомнил, что среди книг, поступавших к нему, была одна под названием «Die Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral» («Мировая история в свете святого Грааля»), изданная в Австрии то ли в 1927, то ли в 1928 году Чудотворцев не заказывал этой книги и прочел ее с тем большим интересом. В книге рассматривались предполагаемые реальные исторические события, положенные Вольфрамом фон Эшенбахом в основу его поэтического романа «Парсифаль». Автор книги по фамилии Stein («Камень», что тоже знаменательно) предполагал, будто прототип короля Анфортаса, страдающего от незаживающей раны, – король франков Карл Лысый, внук Карла Великого, мучительно искупающий свою вину перед сакральным королевским родом, жаждущий восстановить и упрочить кровную связь с Пылающим Отпрыском пусть по женской линии (как известно, подобной жаждой был движим и Наполеон Бонапарт, расторгший брак с любимой женой Жозефиной, чтобы заключить династический брак с австрийской принцессой из дома Габсбургов).
Мы помним, что как раз накануне ареста Чудотворцев работал над исследованием, посвященным событиям при дворе Карла Лысого, где философ Иоанн Ирландский (Скот Эриугена), западный толкователь Дионисия Ареопагита, мог (должен был) встретиться с варяжским воином Рюриком, отправляющимся на Русь, а Рюрик – не один ли из тех знатнейших отпрысков, которых растят рыцари Грааля, чтобы Земле, лишенной государя, был «дарован государь, Граалем, как бывало встарь»? Чудотворцеву было что написать по поводу книги об истории в свете Святого Грааля. Обширные извлечения из тюремной работы Чудотворцева были переведены на немецкий язык (ведомству товарища Цуфилера хватало квалификации на подобные начинания) и отосланы в Германию за подписью «Plato de la Merveille». При этом были приняты агентурные меры, чтобы в Германии послание попало в собственные руки Гитлера.
Между тем, как выясняется, еще в 1912 году в некой книжной лавке в Вене Гитлер приобрел экземпляр «Парсифаля» и перечитал его, оставив на полях многочисленные, иногда весьма пространные пометки-комментарии. Эти-то пометки, по всей вероятности, и были использованы в книге «Die Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral». К заметкам Гитлера, возможно, восходит и предположение, будто исторический прототип мага Клингсора – Ландульф И, действовавший на Сицилии, где он совершал некие зловещие магические ритуалы. Не отсюда ли неожиданная фраза в письме к господину де Мервей: «Сицилия – тоже чудесное место»? Но разве чудо – не la merveille? В романе Вольфрама фон Эшенбаха упоминается «chastel Merveille», замок, принадлежавший Клингсору. В этом замке томятся женщины, плененные магом. По некоторым сведениям, Гитлер считал себя реинкарнацией Клингсора. Но помнится, новым Клингсором бабушка Кэт, еще сравнительно молодая, называла как раз Чудотворцева. Мнительный Гитлер не мог не насторожиться от одной подписи «De la Merveille», и в нем пробудилось чувство оккультного соперничества. Известно, что Гитлер был одержим какой-то манией, и не исключено, что это была мания Грааля. Не скрывается ли за так называемой гражданской войной в Испании стремление Гитлера завладеть замком Грааля Монсальват (де Мервей?) в Пиренеях? Так что по-своему вполне естествен вопрос Гитлера о местонахождении замка де Мервей, обращенный к господину де Мервей в России. Письмо Гитлера к Чудотворцеву (де Мервей) также свидетельствует о том, что Гитлер сомневался, можно ли захватить силой замок де Мервей, тем более Монсальват, и потому был не прочь приобрести его с миром, как бы двусмысленно это не читалось.
– Должен ли я отвечать ему? – неуверенно спросил Чудотворцев.
– То есть разумеется, – закивал товарищ Цуфилер из своего сумеречного далека. – Желательно на немецком языке, в аргументации мы вас не ограничиваем. Так и обращайтесь к нему: Herr Klingsohr. Отвечайте ему, как вы сами считаете нужным, иначе он заподозрит, что мы вами манипулируем, а тогда ваша с ним переписка потеряет смысл, хотя как знать… Если он сочтет вас конфиденциальным медиумом нашей информации, тоже будет неплохо. У нас к вам только одна просьба: каждое ваше письмо во тьму внешнюю должно сопровождаться письмом в противоположном направлении, так сказать, во внутреннюю сферу или в лагерь света. Это придаст насыщенность и подлинность вашим эпистолам, поскольку вы автор диалектический или диалогический, чуть было не сказал, идеологический. Итак, во внешней тьме ваш адресат – господин Клингсор, а во внутреннем свете – товарищ Амиран.
– Ариман? – переспросил Чудотворцев. («Товарищ Марина», – пронеслось у него в голове.)
– Нет, именно Амиран, – подтвердил Цуфилер. – Разве вы забыли? Вы же сами находили такую анаграмму к имени Ариман и совершенно справедливо усматривали в Амиране яфетическую параллель к Прометею, его более чем вероятный и более древний прообраз. Кстати, не худо было бы познакомить с Амираном и господина Клингсора. Скажу вам прямо: мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать в господине Клингсоре миролюбивые чаянья и не лишать его надежды приобрести замок де Мервей мирным путем, хотя и уступать ему этот замок мы вам не советуем.
В голосе товарища Цуфилера послышалась нотка угрозы, но до Чудотворцева дошло наконец, почему он должен находиться «вне тюрьмы». Для господина Клингсора переписка тоже потеряла бы смысл, если бы он узнал, что ему пишут прямо из учреждения, ему самому служившего образцом.
Честно говоря, Платон Демьянович не был в «своем» замке с той ночи, когда вместе с Орлякиным читал надпись на гробнице: «Et in Arcadia ego». Все документы, связанные с приобретением замка, так и остались у Орлякина, теперь уже покойного, и Платон Демьянович при всем желании не мог бы кому-либо «уступить» замок. В письме к «высокоуважаемому господину Клингсору» Платон де Мервей написал, что замок расположен во французских, а не в испанских Пиренеях и расставаться с ним он намерения не имеет. Не потому ли Гитлер утратил интерес к испанской войне и форсировал войну с Францией, не оккупируя в то же время ее южных областей, чтобы не захватывать замок грубой силой, но все-таки завладеть им?
А Чудотворцев писал мнимому Клингсору, что в пиренейском замке де Мервей должно состояться «Действо о Граале», в котором Парсифаль не задает вопроса о происходящем, но оправдание Парсифаля в том, что Клингсор выдает замок де Мервей за Монсальват, и Парсифалю предстоит обрести подлинный Монсальвеш (Монсальват) и с ним замок де Мервей, который есть ничто без Грааля, а с Граалем и замок де Мервей оказывается Монсальватом, где можно услышать мелодию бессмертия.
Письмо ушло к немецкому адресату, и Чудотворцев тут же подготовил письмо к товарищу Амирану, где тоже упоминал «Действо о Граале» с возможной мелодией бессмертия, которую заглушает сумбур вместо музыки. Что же касается Клингсора, он напоминал, что Клингсор – не Парсифаль и потому не может завладеть Граалем, хотя не существует без него, как и Парсифаль. Но как замок де Мервей, так и замок Монсальват (Монсальвеш) исчезают в Невидимом, подобно граду Китежу когда в них вторгается недостойный, и Клингсор стремится завладеть замком де Мервей и замком Монсальват «с миром» (отсюда претензия на мировое господство, хотя в немецком языке «der Frieden» (мир) и «die Welt» (мipъ) – слова разные). При этом замок Монсальват (Монсальвеш) и замок де Мервей могут оказаться одним и тем же замком (Граалю закон не писан), и потому Клингсор не прочь заключить мирный договор со своим противником ради того, чтобы вернуть себе замок, хотя замок этот может оказаться для него мнимым, даже призрачным. И вслед за этими поэтическими загадками, весьма далекими от исторического материализма, Чудотворцев излагает доктрину А.И. Фавстова, обосновывающую союз трех империй (Германской, Австро-венгерской и Российской) как залог и единственную предпосылку мира в Европе (иначе мировая война, в которой не может быть победителей). Чудотворцев представил это письмо в учреждение, куда ходил регистрироваться (там не отважились прочесть его, сразу же отправив наверх), а Платон Демьянович сосредоточился на своей собственной рукописи.
Товарищ Цуфилер появился в Осоавиахимовске быстрее, чем можно бы ожидать. Клингсор ответил на письмо Платона де Мервей! Письмо было написано в резко агрессивном тоне (не без ухищрений куртуазной вежливости, впрочем). Господин де Мервей со своей проницательностью не может не понимать, что он, Клингсор, уже владеет Граалем и предлагает господину де Мервей добром уступить замок исключительно из вежливости. Разве господин де Мервей не знает: кто владеет Граалем, тот владеет Копьем, а Копье пронзает видимое и невидимое, нанося незаживающие раны? Не противоестественно ли, что он, Клингсор, владея Граалем, не владеет замком де Мервей? Кто как не господин де Мервей заинтересован в том, чтобы исправить подобную противоестественность? У Клингсора даже возникают сомнения, действительно ли господин де Мервей владеет своим замком, иначе он вернул бы замок Клингсора Клингсору, не вынуждая его, Клингсора, пустить в ход Копье.
Товарищ Цуфилер спрашивал Чудотворцева, как он думает, не означает ли это, что Гитлер уже владеет секретным оружием, обеспечивающим ему победу при любых обстоятельствах? Чудотворцев ответил, что он так не думает, но хотел бы изложить свое мнение в более привычной для него форме письменного анализа, обращенного и к господину Клингсору, и к товарищу Амирану. Такая двойная обращенность уточняет и углубляет истину. Товарищ Цуфилер даже задержался в Осоавиахимовске в ожидании обоих писем. Клингсору Платон де Мервей писал: кто владеет Граалем, тот не может не владеть замком де Мервей, и стремление приобрести замок де Мервей позволяет (заставляет) усомниться в том, владеет ли господин Клингсор Граалем и не заблуждается ли как по поводу замка де Мервей, так и по поводу Грааля. В этом месте письма вежливое обращение к господину Клингсору во втором лице сменяется нейтральным упоминанием Клингсора в третьем лице. Если бы Клингсор владел Граалем, он не написал бы своего письма, и вообще не было бы их переписки, так как не было бы мира: мир был бы уничтожен, ибо для Клингсора небытие совершеннее бытия. Вот почему Клингсор вряд ли может владеть Граалем, это было бы нарушением Традиции, а без Традиции и Грааль не Грааль, а мнимое его подобие. Кроме копья Грааля, существует еще меч Зигфрида, он же солнечный герой Амиран. Отец Амирана неизвестен, ибо засекречен: очевидно, он нарт, осетин, то есть ариец. (Не отсюда ли слух, что Чудотворцев написал в конце тридцатых годов работу по расовому вопросу?) Волк Фенрир, согласно Старшей Эдде, проглатывает солнце; Амиран, проглоченный драконом вешапи, освобождается из его брюха сам и освобождает солнце. Амиран кует себе меч и похищает с неба свет в образе небесной девы (Камари или Камар (карма?). За это Амиран наказан, прикованный к высочайшей вершине Кавказа. Печень ему клюет орел, что напоминает незаживающую рану Анфортаса. Амиран таится в скале, как император Фридрих, и не Амиран ли – истинный властитель мира, который рано или поздно после мучительного искупления восстановит всемирное царство? (Чудотворцев писал по-немецки «das Reich».) Не потому ли Гитлер, когда его войска вторглись на Кавказ, первым делом послал эсэсовцев-альпинистов из «Братства Люцифера» на вершину Эльбруса, чтобы они водрузили там черное знамя со свастикой, то ли увековечивая заточение Амирана, то ли пытаясь вступить с ним в союз? Не напоминает ли в данном случае свастика знак вопроса, который должен задать Парсифаль, чтобы исцелить короля Анфортаса и обрести Грааль? Чудотворцев как бы по рассеянности то и дело пишет вместо «Amiran» «Ariman», играет этой магической анаграммой, наводя на мысль о неизбежном соперничестве и неизбежном сотрудничестве Люцифера и Аримана.
А товарищу Амирану Чудотворцев писал более кратко и деловито, возможно, предполагая, что письма Клингсору читает и товарищ Амиран, а Клингсор письма Амирану не читает. Гений Сталина стремится преодолеть зло злом, демон Гитлера не различает добра и зла, считая весь мир, само бьггие отвратительной катастрофой. Не случайно древние германские верования начинаются с конца мира и сводятся к такому концу. Таким образом, своим высшим предназначением демон Гитлера, быть может, не вполне сознавая этого или не признаваясь в этом даже самому себе, считает уничтожение мира, завершающееся самоуничтожением. Отсюда культ самоубийства, которым втайне руководствуется Гитлер. Самоубийство для него – высшая арийская доблесть. В этом привлекательность Гитлера для масс и для женщин. Но демону Гитлера нельзя начинать самоубийством, он должен лишь кончить им, предварительно уничтожив все, что можно уничтожить. (Действительно, в свое время Шпеер скажет, что Гитлер совершенно сознательно пытался добиться, чтобы вместе с ним погибло все.)
Таким образом, для Гитлера самоубийство является победой. (Вспомнил ли об этом Гитлер 30 апреля 1945 года, окруженный сталинскими войсками, стреляя в себя и в новобрачную Еву Гитлер или только в себя, тогда как Ева приняла яд?) При этом, продолжал Чудотворцев, демон Гитлера на определенном отрезке своего пути сближается или смыкается с гением Сталина. Гений Сталина уничтожает зло злом, демон Гитлера уничтожает все и в конечном счете самого себя. Гений и демон сближаются через уничтожение. Но демон Гитлера – ненадежный союзник, так как всеобщим уничтожением уничтожаются любые обязательства. Тут следует вспомнить пророческую строку Александра Блока: «И нам доступно вероломство». «Вероломный» в точности совпадает с немецким нибелунговским «treubrüchig». Когда гений Сталина столкнется с демоном Гитлера, победит тот из них, кто первый произнесет магическое слово «treubrüchig». Как известно, Сталин произнес это слово первым, а Гитлер дал ему повод это произнести.
Чудотворцев написал не два и не три, а гораздо больше писем к господину Клингсору и к товарищу Амирану. Я привожу здесь лишь весьма сжатое резюме этих писем. Надеюсь в будущем опубликовать их все, так как они составляют неотъемлемую и, может быть, наиболее существенную часть книги под предполагаемым названием «Оправдание зла» (или все-таки «Гений Сталина»?). Сомневаюсь, чтобы господин Клингсор отвечал на каждое письмо Чудотворцева, но иногда отвечал. Товарищ Амиран не отвечал Чудотворцеву никогда или отвечал, так сказать, своими действиями, но, когда Чудотворцев писал Клингсору, он одновременно писал и товарищу Амирану, что составляло диалогический стержень этого «трактата в письмах», и наклевывается подозрение, не писал ли Клингсор Чудотворцеву в расчете на то, что читать его будет товарищ Амиран.
А пока Чудотворцев переписывался с Тьмой и Светом, на дворе практически не светало. Тянулась мрачная северная зима, которой, казалось, конца не будет. В городе Осоавиахимовске (это название не все жители умели выговаривать; старухи шамкали: «Осасхимов») было всего несколько улиц, и Чудотворцев кое-как научился передвигаться по этим улицам в шубе и валенках, купленных на деньги Марианны. Первым делом Чудотворцев записался в городскую библиотеку (так ему посоветовали в учреждении, где он регистрировался) и по межбиблиотечному абонементу заказывал такие книги, что библиотекарша и названий не могла прочесть. Не ее ума было это дело. Книги приходили не без задержек, но отказов не было никогда. По-видимому, приходили и книги, которые Чудотворцев не заказывал, так как не знал, что они вышли в свет, например, последние труды Гавриила Правдина (его к тому времени уже не было в живых). Эти книги приходили в особой упаковке, которую библиотекарше запрещалось вскрывать. Очевидно, кого-то интересовало мнение Чудотворцева об этих книгах. И Чудотворцев многое высказывал в труде, который начал писать, когда северная ночь пошла на убыль, продолжал его диктовать при мне и не завершил до сих пор. Труд этот обозначался одним словом: «Софиократия». В этой книге Чудотворцев высказывает мысль, что реальной властью в мире от его сотворения и до конца обладает лишь София Премудрость Божия, но эта власть – не произвол, и потому род человеческий в своем ослеплении может этой власти не замечать. Софиократия составляет самую суть Святой Руси (в Новгороде Великом София Премудрость Божия почиталась как истинная государыня). Софиократию Чудотворцев резко противопоставляет зарубежной софиологии, в которой усматривает прельщение русской религиозной философии. Если София не сотворена, тогда неизвестно, сотворен ли мир, а если мир не сотворен, то и Бог не Творец; тогда Бог исчезает в гностическом абсолюте; основная же особенность абсолюта в том, что в абсолюте Бог не отличается от дьявола, и Премудрость Божия либо не существует, либо она не Премудрость, а безумие Бога, что тогда одно и то же. София, говорит Чудотворцев, действительно, не тварь, но Творение, явленный Самим Богом образ Его Премудрости. Поскольку в Боге все живое и личное, то и София – живое деятельное лицо. Вот почему истинное умозрение Софии представлено не философскими спекуляциями, а православной иконой. Удивителен в книге анализ иконы Софии Премудрости Божией, находящейся на Соловках. Не удалось установить, когда Чудотворцев эту икону видел. На иконе София – багряная заря бытия, и такую зарю Чудотворцев мог видеть, когда заканчивалась зимняя ночь в бывшем Святосхимове.
Всю зиму Чудотворцев через день ходил в медицинское училище преподавать латынь. Кажется, этот курс ввели специально для него. Девушки с трудом осваивали столь чуждый их слуху язык, так что пришлось организовать для них дополнительные занятия. Кроме того, директор училища попросила профессора проводить факультативные беседы о прогрессивной античной культуре, которую, как она слышала, Маркс называл нормальным детством человечества. И Чудотворцев начал проводить такие беседы. Студенткам, не посещавшим эти беседы, ставили на вид, а некоторых, посещавших слишком ретиво, отчислили и даже кое-кого из них арестовали, как и раньше бывало в подобных случаях. Весной в Осоавиахимовск неожиданно приехала Марианна. Приехать до этого ей не позволяли гастроли, да и допуск в режимный город было не так просто получить. В Осоавиахимовске пианистке делать было нечего. В городе не имелось ни одного даже плохонького фортепьяно: обходились гармошками. Даже траурный марш на торжественно-траурных митингах ухитрялись исполнять на баяне. Когда Марианна вошла в клетушку Чудотворцева, она сразу увидела, что за ним присматривают, и присмотр этот женский. Чудотворцев явно жил не один. Марианна не надолго задержалась в Осоавиахимовске (гастроли, гастроли!), но деньги Чудотворцеву и после своего скоропалительного отъезда продолжала аккуратно высылать.
Работала в медицинском училище Серафима Карелова, происходившая из местных беднейших крестьян, так что никаких претензий по части классовой к ней быть не могло. Родителей своих она не помнила: они умерли в одну из голодных зим, а девчонка выжила. Она скиталась по всяким дальним родственникам, пока не закончила кое-как семилетку и не поступила в медицинское училище. Но учеба у Серафимы не задалась, училища она так и не закончила, уходить ей было некуда, так что она пристроилась работать в том же училище техничкой, то есть уборщицей, присматривающей также за отоплением. Гардероб тоже входил в круг ее обязанностей, но студенты и преподаватели раздевались и одевались сами, а воровать в режимном Осоавиахимовске было некому. И вот эта-то Серафима вдруг начала посещать дополнительные занятия по латинскому языку и по прогрессивной античной культуре. Платон Демьянович на нее сперва и внимания не обратил, а может быть, и обратил, судя по дальнейшему Внешность Серафимы подтверждала ее фамилию: Карелова. Жесткие белесые волосы (Кира унаследовала их), приземистая, глаза голубые, но мутные, как разводы на осеннем небе над Белым морем, лицо одутловатое, склонность к полноте, только трудно было определить, жиреет ли она или пухнет с голоду. Словом, замечалось в ней какое-то сходство с покойницей Олимпиадой, и Платон Демьянович это сходство в конце концов разглядел. Серафима была старше студенток, но тридцати лет ей еще не исполнилось. Говорят, она побывала замужем, но неудачно и недолго. Она вызвалась прибирать квартиру Платона Демьяновича, и старуха домохозяйка с удовлетворением предоставила ей эту обязанность, хотя деньги за уборку продолжала брать. Серафима задерживалась в клетушке Платона Демьяновича все дольше, пока не осталась насовсем. От знакомства с Марианной она, впрочем, уклонилась и ночевала где-то у добрых людей. Время шло. Непрерывная ночь сменилась таким же непрерывным солнечным днем, и в его магическом освещении Серафима выглядела как-то иначе, то ли царевна-лягушка, то ли Сольвейг. (Неужели Платон Демьянович представлял себе Сольвейг такою? А что, если она такой и была?) Глава о Сольвейг-Ярославне в «Софиократии», кажется, посвящена Серафиме, но едва ли она что-нибудь поняла, разве что почувствовала. Платон Демьянович пытался ей диктовать, но у Серафимы из этого ничего не получилось: писала она чересчур медленно, безграмотно и сама не могла разобрать, что написала. Платон Демьянович был старше нее на тридцать с липшим лет, но нелепы слухи о том, что в Осоавиахимовске он растлил несовершеннолетнюю. Когда наступила новая зимняя ночь, оказалось, что Серафима беременна. Платон Демьянович осведомился в учреждении, куда ходил на регистрацию, как ему зарегистрировать брак с Кареловой Серафимой, и брак был зарегистрирован без всяких околичностей и проволочек (Серафима говорила «проволочки», а не «проволочки»). Вскоре после регистрации брака произошло нечто потрясшее Платона Демьяновича (он свалился чуть ли не при смерти). Пропала рукопись «Софиократии». Письма господину Клингсору и товарищу Амирану Чудотворцев сам представлял куда следует, не оставляя себе копий (таково было строжайшее предписание, но память не подводила Платона Демьяновича и в глубокой старости). «Софиократию» же Чудотворцев писал без ведома властей, пряча рукопись под тюфячком своей постели, на которой спал с Серафимой. В клетушку никто не заходил, кроме Серафимы и старухи, впрочем, той и заходить было незачем, на что она и указала Платону Демьяновичу и тот, придя в себя, смирился с пропажей рукописи, говорил, что мог по рассеянности захватить ее с собой в училище, забыл ее в аудитории и студентки использовали бумагу вполне определенным образом. Двенадцатого марта 1939 года родилась у Серафимы девочка; ее назвали Кирой. Старуха-хозяйка помогла ее окрестить. Жизнь в одной комнате с маленькой девочкой была невыносима, но Чудотворцев сразу же начал восстанавливать «Софиократию». Так прошло полгода. 23 августа 1939 года был заключен договор о ненападении между Советским Союзом и гитлеровской Германией. На третий день после подписания договора был расстрелян мой отец Федор Аристархович Фавстов, а неделю спустя Платона Демьяновича Чудотворцева с женой и дочерью затребовали в Москву Платона Демьяновича не освободили, а именно затребовали в Москву на учрежденческой машине отвезли его с женой и малышкой-дочкой в Архангельск и посадили в поезд; правда, Чудотворцев не видел в поезде вблизи себя охраны, но своим глазам он не верил, тем более что видели они едва-едва и все чаще повторялись затяжные припадки почти полной слепоты (спазмы, как говорили доктора). В дороге Платона Демьяновича не покидала мысль, что везут его во внутреннюю тюрьму Лубянки, где его ждет нестерпимый свет товарища Цуфилера и пыточные сапоги товарища Марины, но доставили его в собственную квартиру на Арбате, и дверь открыла ему Марианна, как более чем полтора десятка лет назад. Чудотворцев не сразу ее узнал. Она давно уже отрезала свои великолепные черные косы с золотым отливом, и челка, чуть спадающая на лоб, поблескивала сединами, но лицо оставалось молодым, теперь уже можно было сказать «моложавым», и таким оно осталось уже навсегда. Кожа приобрела благородный цвет ивория (слоновой кости), но кость есть кость. Несмотря на свои сенсационные успехи на концертах и международных конкурсах, Марианна ссыхалась, но не блекла: все ярче сияли ее черные глаза. Марианна отчужденно пригласила Платона Демьяновича и Серафиму войти, комнаты для них были приготовлены, очевидно, их ждали. А через час-другой в квартире зазвонил телефон. Платону Демьяновичу звонил Криштофович, которого Платон Демьянович не сразу вспомнил, а вспомнив, назвал по старой памяти Игнатием Люциановичем, хотя уже приближалось время, когда «Люцианович» окончательно преобразится в «Лукьяновича». Штофик сообщил Платону Демьяновичу, что он восстановлен на работе в Пединституте («мифологию будете читать», – несколько неопределенно выразился Криштофович, а также предложил Платону Демьяновичу как можно скорее подготовить к печати учебник латинского языка для пединститутов (о соавторстве пока не было речи; Игнатий Люцианович предлагал «старому товарищу» лишь свое сотрудничество, в котором тот определенно нуждался из-за слабости глаз, но сотрудником Платона Демьяновича вскоре оказался Григорий Богданович Лебеда, единственным же автором учебника – Игнатий, тогда уже определенно, Лукьянович Криштофович). Но трудоустройство опального профессора этим не ограничилось. Телефон зазвонил снова, и Платону Демьяновичу предложили ни много ни мало читать спецкурс в другом институте, куда принимали далеко не всех желающих, а лишь отборные кадры. Спецкурс носил громкое название «Немецкая классическая философия как источник марксизма», но в скобках его тема уточнялась: «Диалектика Гегеля». «Мы диалектику учили не по Гегелю», – дружелюбно пошутил в телефоне голос, предлагающий Платону Демьяновичу эту работу На другой день в одной из московских газет было объявлено, что в ведущем учебном заведении Москвы будет читаться курс немецкой философии. Фамилия Чудотворцев при этом не упоминалась. (Не называть же лектора в печати «профессор де Мервей»), но было очевидно, что так проводится в жизнь договор с Германией о ненападении. Платон Демьянович между тем осматривался в своей квартире. Поздно вечером, вернее, уже ночью откуда-то вернулся Полюс изрядно навеселе. Таким он возвращался едва ли не каждую ночь, и теперь уже Марианне приходилось терпеть его пьяные скандалы. В отсутствие отца он тем более неистово домогался ее благосклонности, но она непоколебимо продолжала жить с ним «как сестра». Впрочем, столь же неприступной она оставалась и с другими, что давало пищу слухам о ее тайном постриге. Марианне сходила с рук откровенная православная религиозность, ее защищала репутация пианистки с мировым именем. Некий высокопоставленный деятель, ведающий культурой, даже снисходительно пошутил после поездки Марианны в Осоавиахимовск: «Передайте Буниной, что мы ее мученицей не сделаем». Начальственная шутка явно предназначалась для всей Москвы так же, как неофициальный телефонный разговор Сталина с Пастернаком об арестованном Мандельштаме. А вот жизнь Полюса при всем желании нельзя было назвать благополучной. Он все еще числился в Большом театре, где получал небольшую зарплату, как он сам о себе говорил. Арест отца вроде бы не отразился на его жизни или отразился лишь косвенно. Полюса не трогали, но и на сцену не выпускали. Не выпускать же на сцену певца по фамилии Чудотворцев, а выступить под другой фамилией Полюс по-прежнему не соглашался, отлично зная: если он не Чудотворцев, то он ничто. Вся его репутация держалась на том, что он внук легендарного Демона, Демьяна Чудотворцева. Полюс втайне боялся, что под другой фамилией он потеряет голос. Не решался он выступить даже под фамилией Демьянов, что ему настоятельно предлагали. Демьянова уха, – брезгливо морщился Полюс, хотя в дружеском кругу поклонники чудотворцевского гения подчеркнуто называли его Демьянычем, а никак не Платонычем. Откуда было мне знать, какую участь накличет на человека, более мне близкого, чем я думал, подобная же игра в отчество «Федорыч». Пока я только вспоминал жесткие слезы Киры при словах: «А ты попробуй поживи с фамилией Чудотворцева».
Серафиму огромная профессорская квартира окончательно подавила. У нее в голове не укладывалось, что это квартира Платона Демьяновича, то есть ее квартира, что она будет здесь жить. Она не могла понять, какие отношения связывают обитателей квартиры между собой. Так она решила, что Марианна Яковлевна – жена Павла Платоновича (она и впредь не называла их иначе, как по имени-отчеству) и по некоторым признакам определила, что они в разводе, но вынуждены жить в одной квартире, так как квартира очень большая, а другой жилплощади нет. И то сказать: в такой квартире можно расселить две, три семьи, да куда там, больше. Серафима неловко переодела ребенка (за пять месяцев она так и не научилась ухаживать за дочкой). Собственно говоря, она не умела ничего, кроме как мыть полы, подбрасывать дрова в топку да варить кое-какое хлебово. Осмотревшись, она убедилась, что ее оставили в комнате одну. Платон Демьянович и Марианна Яковлевна затворились в другой комнате дальше по коридору. Через некоторое время оттуда донеслась громкая музыка. Допускаю, что Серафима не слышала рояля до тех пор, разве что по репродуктору, да и то не особенно прислушивалась. А тут играли так, что не слушать было нельзя. Музыка разбудила Киру, и та заплакала. Но и тогда Серафима не посмела постучать в комнату, где музыка. Так дала себя знать проблема дальнейшего совместного проживания. Кира плакала долго, громко, и Марианна не могла не услышать захлебывающегося детского плача. Ей надо было заниматься. Предстоял очередной концерт. Из-за Кириного плача Марианна играла хуже, и в музыкальных кругах зашептались, что она начала выдыхаться.
А Платон Демьянович выразил желание немедленно поехать в Мочаловку. Сопровождать его было некому. Марианна репетировала. Не тащить же в Мочаловку Серафиму с ребенком, и Платон Демьянович дня через три отправился один. Он то и дело оглядывался, не увязался ли за ним кто-нибудь, но слишком плохо видел, для того чтобы убедиться в наличии или отсутствии хвоста. Он отвык ходить по улицам, отвык от пригородных поездов. Багряно-лазурно-золотая феерия мочаловской осени ослепила его и вернула ему зрение. Он без труда нашел дачу № 7 на улице Лонгина. Дарья Федоровна только заплакала, узнав его. Она была на даче одна с маленьким Адрианом. Вениамин Яковлевич уже несколько дней не приезжал из своей клиники. Дарья Федоровна пожалела об отсутствии мужа. Платону Демьяновичу нужно непременно ему показаться после всего, что было… Дарья Федоровна осеклась на этих словах. Она предложила Платону Демьяновичу переночевать, а потом и пожить на даче несколько дней, наслаждаясь чарами бабьего лета, но к вечеру на дачу наведался прихрамывающий Михаил Серафимович Ярилин-Предтеченский, руководитель театра «Красная Горка», и его отчество напомнило Платону Демьяновичу, что в московской квартире его ждет как-никак жена. Платон Демьянович осведомился, бывают ли еще спектакли. «Иногда бывают», – загадочно улыбнулся Ярилин-Предтеченский. Платона Демьяновича подмывало спросить об одной актрисе, но он постеснялся, все еще не зная, как назвать ее, не просто же Софья. В сумерках, в саду, пламенеющем сквозь мглистую дымку, Платон Демьянович услышал не то крик, не то пение. «Что это?» – насторожился он. «Совы кричат», – ответила Дарья Федоровна.
Когда Платон Демьянович поздно вечером вернулся на Арбат, оказалось, что к Серафиме заходила гостья и совсем недавно ушла, научив ее, как лучше кормить Киру. «Кто она такая?» – недоверчиво спросил Платон Демьянович. «Софья… Смарагдовна», – с запинкой выговорила Серафима. Не из ее ли уст Платон Демьянович впервые услышал это отчество? А на другой день в квартире объявился другой гость, вскоре превратившийся почти в домочадца. То был Григорий Богданович Лебеда, присланный Игнатием Лукьяновичем, чтобы способствовать Платону Демьяновичу в работе над учебником латинского языка. Григорий Богданович прилежно ходил в библиотеки за выписками, писал под диктовку Платона Демьяновича, а главное, читал ему вслух древних авторов, щеголяя произношением, вынесенным из классической гимназии.
Серафима тоже не оставалась предоставленной сама себе. Очень скоро у нее завязались более чем непринужденные отношения с Полюсом. Полюс даже домой начал возвращаться раньше. Он фамильярно называл свою мачеху «Сера», говорил ей «ты», а она ему «вы», будучи моложе его лет на десять, и Платону Демьяновичу сквозь монотонное чтение Лебеды случалось услышать за стеной захлебывающийся смешок Серафимы (по мере того как зрение у Платона Демьяновича притуплялось, слух у него обострялся) и жовиальный басовитый возглас Полюса: «Сераль! Сераль!» Особенно усердствовал Полюс в отношении Серафимы, когда Платон Демьянович уединялся с Марианной. Полюс то ли просто развлекал Серафиму, как умел, то ли отвлекал ее от мужниных досугов, а может быть, брал реванш над отцом, принудившим его самого жить с Марианной как брат и сестра.
А вообще говоря, что ей делать в арбатской квартире, Серафима толком не знала. За Кирой она ухаживала, руководствуясь уроками Софьи Смарагдовны, благо та иногда заглядывала (всегда в отсутствие Платона Демьяновича, читавшего в это время свои лекции о диалектике Гегеля). Бывали у нее и кое-какие другие гости, но об этом после. Так или иначе, Серафима подолгу оставалась одна, вернее, она была одна и тогда, когда Платон Демьянович занимался с Лебедой или общался с Марианной. Только Полюс иногда скрашивал ее одиночество. Дня не проходило, чтобы Серафима не мыла полы в той или иной комнате или в коридоре. Как сказано, готовить она не умела. Впрочем, не умела готовить и Марианна, а Платон Демьянович становился по части питания все более разборчивым и привередливым. Он вернулся к строгому соблюдению постов, что отнюдь не исключало гастрономических изысков, скорее поощряло их. Платон Демьянович требовал рыбы, а рыбу он признавал только хорошую: семгу, белугу, осетрину. Заказывал он расстегаи, закрывая глаза на то, что приносят их из ресторана. Между тем заработки у Платона Демьяновича были скудные, в институт его взяли на полставки, за лекции он получал гораздо меньше, чем рассчитывал, кое-что перепадало, правда, от Игнатия Лукьяновича под будущий учебник. Но имя Чудотворцева не появлялось в печати, что делало гонорары маловероятными, и роскошествовать можно было только на деньги Марианны. Серафима очень скоро поняла это, что тем более заставило ее мириться с Марианниным музицированием, то и дело будившим Киру. (Не потому ли Кира, уже взрослая, только делала вид, что любит музыку?) Платон Демьянович не имел представления о московских ценах и полагал, что зарабатывает достаточно, Марианна продолжала приходить на Арбат не с пустыми руками и после того, как получила наконец собственную квартиру куда Кира привела меня, когда мы вернулись из Рождествена.
Товарищ Цуфилер как будто оставил Чудотворцева в покое. Письма от господина Клингсора до него тоже больше не доходили, хотя господин Клингсор не переставал наводить справки о Граале и замке де Мервей. До его сведения было доведено, что господин де Мервей читает в Москве лекции о немецкой философии, и он пытался заполучить хоть какую-нибудь информацию об этих лекциях, в чем ему не было отказано. Лекции господина де Мервей заинтриговали его. Он, кажется, раза два писал своему прежнему корреспонденту, но ответа не получал, что должно было приводить господина Клингсора в раздражение. Ведомство товарища Цуфилера, по-видимому, считало переписку господина де Мервей с господином Клингсором излишней, полагаясь на договор о ненападении. В июне 1941 года Платон Демьянович с Серафимой и Кирой жил на даче в Мочаловке, естественно, по адресу: улица Лонгина, дом 7. Там его и застало начало войны, за которым последовали бомбардировки, причем немецкие зажигательные бомбы, казалось, метили прямо в дачу № 7, что делало проживание на даче с двухлетней Кирой неудобным, и Чудотворцевы вернулись в Москву.
Господин Клингсор дал возможность товарищу Амирану первым произнести: «вероломное нападение», но это не значит, что такая возможность не застала товарища Амирана врасплох. Не было никаких реальных оснований в тот момент нарушать договор, столь тщательно подготовленный. Очевидно, то, что Клингсор называл Граалем, значило для него больше, чем думали политики-прагматики. Не успел Чудотворцев переступить порог своей квартиры, как зазвонил телефон. Наверняка это был не первый звонок. Чудотворцеву пытались дозвониться и раньше, но не заставали его, а привоз или привод Чудотворцева из Мочаловки исказил бы или лишил бы смысла то, чего от Чудотворцева ждали. Платон Демьянович сразу узнал в телефоне голос товарища Цуфилера. Тот предложил по возможности незамедлительно написать обоим своим прежним адресатам, как он выразился, письма по поводу начавшейся войны, и Чудотворцев сел писать, продолжая писать даже в бомбоубежище, то есть на станции метро, куда приходилось спускаться на ночь из-за воздушной тревоги и откуда Чудотворцева отвели было в милицию, когда одна бдительная старушка, заглянув ему через плечо, увидела, что он пишет по-немецки. Впрочем, в милиции догадались позвонить куда следует, и Чудотворцев был немедленно освобожден.
На этот раз письма господину Клингсору и товарищу Амирану были практически идентичными, различаясь только языком, на котором написано каждое из них. (Интересно, что и письма товарищу Амирану Чудотворцев подписывал: «Платон де Мервей».) Обоим вождям Чудотворцев напомнил, что мир в Европе и во всем христианском мире был бы гарантирован священным союзом трех монархий: Австро-Венгрии, Германии, России. Такой союз был бы просто невозможен без Австро-Венгрии с династией Габсбургов. А Третий Рим и Третий рейх не могли заключить между собой подобного союза, так как чаянье сакральной монархии не делает страну монархией и еще вопрос, являются ли Советский Союз и Германский рейх государственными образованиями или просто обширными территориями под управлением своих вождей, а договоренность между вождями – не есть договор между государствами. Чудотворцев напоминал товарищу Амирану о магическом значении слова «вероломный» и на этот раз писал Клингсору, что слово «treubrüchig» оборачивается против него.
Через некоторое время Чудотворцева предупредили по телефону, что к нему (не за ним) придут. Посетитель не представился, только сказал: «От товарища Цуфилера» и передал Чудотворцеву очередное письмо Клингсора, уже перепечатанное на машинке. У Чудотворцева мелькнула мысль, не ведомством ли Цуфилера изготовлено это письмо, чтобы испытать его, Чудотворцева, но Платон Демьянович отбросил эту мысль: пожалуй, сейчас Цуфилеру не до него, и ответ действительно требуется. Сотрудник сказал, что не может оставить письма. Чудотворцев должен прочесть его и ответить по памяти. Письмо Клингсора было написано в ярости, которую тот пытался выдать за торжество. Слово «treubrüchig» не относится к нему Он задал вопрос и не получил ответа. Кто захватывает мир, тот обретает Грааль и рано или поздно находит его. Клингсору очень жаль, но господин де Мервей не оставил ему другого выбора. Завоевания Клингсора были бы невозможны, если бы Грааль уже не принадлежал ему «по праву». В этом «по праву» Чудотворцев уловил неуверенность и ответил, что Клингсор задал не тот вопрос, ибо вопрос Парсифаля исцеляет рану, а Клингсор ее наносит, но наносит он рану при этом самому себе; Грааль все равно скрыт от него: победа над Граалем невозможна. На неуверенность, которую Клингсор маскирует своей агрессивностью, Чудотворцев указывал в соответствующем письме товарищу Амирану Очередное письмо от Клингсора было передано Чудотворцеву скорее, чем можно было бы ожидать. Гитлер почти сбросил маску Клингсора. Ему сопротивляются лишь потому что боятся быть расстрелянными собственным командованием. Такое сопротивление он сломит, к зиме возьмет невидимый град господина де Мервей и сделает его действительно невидимым, когда сотрет его с лица земли.
Чудотворцев ответил на это, что Клингсор заблуждается. Если солдату все равно, кто его уничтожит, захватчики или свои, такой солдат действительно не сопротивляется. Но воинство Клингсора испытывает на себе, как ему сопротивляются. Воинство Клингсора – механическое множество, наткнувшееся на сплоченное единство, а единство всегда берет верх над множеством. Самопожертвование выше самоубийства, и перед лицом самопожертвования ничего, кроме самоубийства, не остается.
Клингсор ответил на это странным письмом. Поистине высшая арийская доблесть – самоубийство, но самоубийство – лишь тогда самоубийство, когда ему предшествует уничтожение всего, что можно уничтожить. Он, Клингсор, неоднократно говорил, что, одержав победу удалится на покой. Господину де Мервей следовало бы знать, что это за покой и что ему предшествует.
Чудотворцев написал в ответ, что копье Грааля повисает в воздухе, когда его мечет Клингсор, и самоубийство, пожалуй, не стоит откладывать, если намереваешься уничтожить все, что можно уничтожить. (Чудотворцев при этом употреблял в письме безличное немецкое «man»: «Wenn man die Absicht hat, alles zu vemichten, was zu vernichten ist».)
А события шли своим чередом. Полюса призвали в армию, вернее, в ополчение, так как ему уже было под сорок. В ближайшие же недели в битве под Москвой Полюс был ранен в грудь. Полюс выжил, и голос у него остался, но петь по-прежнему он не мог: не хватало дыхания, и с Большим театром пришлось расстаться. С тех пор Полюс лишь пытался руководить различными кружками пения, но из этого мало что выходило, и неизвестно, как бы он жил, если бы Марианна не продолжала давать ему время от времени деньги.
Когда начался новый учебный год, курс немецкой философии, читаемый Чудотворцевым в элитном, как сказали бы теперь, учебном заведении, был отменен. И тут произошло неожиданное. Слушатели Чудотворцева все как один, насколько мне известно, подписались под заявлением с просьбой сохранить этот курс, необходимый в условиях войны. Я не читал этого документа, но слышал, будто в нем приводились слова Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается». Все подписавшие заявление были немедленно лишены брони и посланы на фронт, где почти все погибли. Несколько подписавших были арестованы за прогерманские настроения и попали сначала в лагеря, а потом в штрафные войска. Двое или трое из этих арестованных кончили войну героями Советского Союза. Как ни странно, и посланные на фронт, и арестованные писали письма Платону Демьяновичу, и он отвечал на письма, которые до него доходили. Надеюсь когда-нибудь опубликовать эту переписку, уникальный исторический и человеческий документ.
Между тем немецкие войска приближались к Москве. Другие ученые эвакуировались, а Чудотворцев с Серафимой и Кирой оставался в своей квартире на Арбате. Едва ли про него просто забыли. Не забыли же его ознакомить с очередным письмом Клингсора. Можно предположить, что Чудотворцева не эвакуировали, так как те, от кого зависела его эвакуация, знали: Москва не будет сдана. Но, говорят, товарищ Цуфилер высказывал другие соображения. Если даже Чудотворцев попадет в руки Гитлера, Гитлер все равно не узнает от него то, чего не узнали мы, а влияние Чудотворцева на Гитлера останется прежним. Даже письма к господину Клингсору и товарищу Амирану будут писаться по-прежнему. Так что, в конце концов, все равно, в чьих руках Чудотворцев, ибо он, как он сам сказал бы, в руках Божиих.
Может быть, слишком далеко заходит предположение, будто Гитлер покончил самоубийством под влиянием Чудотворцева, но война закончилась самоубийством Гитлера, как Чудотворцев предсказывал, так что и он внес свой вклад в победу над Третьим рейхом, но, когда гитлеровская Германия была разгромлена, Чудотворцев оказался не у дел, а в 1946 году к своему семидесятилетию был снова арестован.
На этот раз Чудотворцева допрашивали не товарищ Марина и не товарищ Цуфилер, а самые заурядные следователи. Ему даже не предъявляли никаких ложных обвинений, как водилось в то время. Чудотворцев обвинялся в том, что во время войны писал письма не кому иному, как самому Гитлеру. (Письма Клингсора к Чудотворцеву в деле не фигурировали.) Можно предположить, что переписка Чудотворцева с Гитлером и Сталиным, роль нового Платона в победе над Германией должна была остаться тайной, и для этого проще всего было бы Чудотворцева снова изолировать, а сохранять его уже не обязательно (учитывая, что ему исполняется семьдесят лет). Чудотворцев отвечал следователю, что сам никогда не отправлял писем в Германию, что переписка с Клингсором и Амираном была лишь литературным приемом, используемым в книге «История в мифах». Неизвестно, как обернулось бы дело, если бы Чудотворцев сослался на Цуфилера, но он не называл никаких имен, кроме Клингсора и Амирана, Аримана и Люцифера, и через полгода Чудотворцева освободили так же неожиданно, как арестовали.
После освобождения Чудотворцев остался, как сказано, не у дел. Не было и речи о возобновлении его курса по немецкой философии. Учебник латинского языка был издан и переиздан под одним именем: И.Л. Криштофович. Имя Чудотворцева по-прежнему не появлялось в печати, Платон Демьянович по-прежнему прозябал на полставки в Педагогическом институте, откуда к нему на квартиру ходили немногие аспиранты заниматься греческим языком. Лебеда заходил гораздо реже, и Платону Демьяновичу вслух читали по-гречески эти самые аспиранты, для которых чтение было частью учебного процесса. Денег не хватало катастрофически. Серафима даже пыталась устроиться на работу, но она могла работать лишь уборщицей, а на такую должность профессорскую жену не брали (почему-то о том, что она профессорская жена, или знали заранее, или узнавали очень быстро). Серафима сблизилась с дворничихой, и та находила ей кое-какую работу: Серафима время от времени мыла окна и полы в квартирах зажиточных граждан. А Платон Демьянович работал над какой-то рукописью. В институте считалось, что он пишет историю античной литературы. На самом деле Платон Демьянович писал новую версию «Софиократии».
Неизвестно, как существовала бы семья Чудотворцевых, если бы не помощь Марианны. Большую часть своих гонораров она отдавала Серафиме. Кое-что перепадало Полюсу. Стоило Полюсу получить немножко больше обычного, он запивал. Впрочем, пил он и в долг, его долги приходилось оплачивать той же Марианне. Воспитанием подрастающей Киры тоже занималась она, тетя Маря, как называла ее Кира. Серафима не отваживалась вмешиваться в воспитание дочери. Марианна платила Дарье Федоровне за летнее проживание на даче в Мочаловке (та дорого не брала). Оплачивала она и уроки немецкого и французского языка для Киры (первые уроки этих языков она дала Кире сама). Девочка оказалась способной к языкам и уже читала книги по философии слепнущему отцу У Киры была цепкая память, и она механически запоминала читаемое, даже не совсем понимая или совсем не понимая его. (Вот откуда Кирина эрудиция, поражавшая меня в институте при знакомстве с ней.) Читать приходилось много, и Кира возненавидела это чтение. Платон Демьянович по-прежнему получал почему-то книги, которых не выдавали в библиотеках, например Хайдеггера, Сартра и Камю. В пику отцу Кира постепенно начала предпочитать философов, которых он порицал или отвергал. В школе Кира учила английский язык и точно так же в пику отцу сосредоточивалась на этом языке, впрочем, не в ущерб немецкому и французскому, которые уже знала недурно. Марианна давала ей и уроки музыки, правда, эти уроки прерывались гастрольными поездками Марианны, но Кира все-таки кое-чему научилась, хотя занималась музыкой с отвращением. Кира вообще была изнурена занятиями и особенно чтением вслух, которого слепнущий отец требовал все настоятельнее. Девочку спасало только простонародное здоровье, унаследованное от матери, да летние месяцы в Мочаловке с ее сосновым духом, с благоуханием лип и с купанием в озере. Подруг у Киры не было. Общалась она летом исключительно с Адиком, но для этого общения было препятствие: Адик слишком прилежно упражнялся в игре на скрипке. Серафима перед дочерью благоговела, как и перед ее отцом. Серафиме даже не верилось, что это ее дочь. Но сходство дочери с матерью было явное даже на ощупь: Кира унаследовала от Серафимы белесые жесткие волосы.
Так все продолжалось годами. В 1950 году здоровье Платона Демьяновича вдруг резко ухудшилось. Сидя за столом, он потерял сознание. Такие обмороки стали повторяться и становились все более затяжными. Вениамин Яковлевич Луцкий настоял на том, чтобы положить Платона Демьяновича к себе в клинику (тот долго противился), где сам сделал ему операцию на мозге. Операция удалась, и Платон Демьянович ожил. Даже зрение у него немного улучшилось, и он почти не отрывался от своей рукописи. Но не прошло года, и эту маленькую семью постигло трагическое. Где-то в первых числах мая Серафима отправилась в Мочаловку, прибирать комнаты к переезду на дачу (Она давно обещала помочь в этом Дарье Федоровне.) Кира была в школе; вернувшись, она должна была разогреть отцу обед, что ей случалось делать и раньше. Платон Демьянович, склоненный над рукописью, только рассеянно передал привет Дарье Федоровне. Он не придал значения тому, что жена не вернулась не только к обеду, но и к ужину. На другой день ее тоже не было. Только к вечеру Платон Демьянович позвонил Дарье Федоровне и осведомился, почему Серафима не возвращается. Дарья Федоровна ответила, что Серафима должна была приехать еще вчера вечером. Она засобиралась домой еще до сумерек. Платон Демьянович встревожился, но не знал, что предпринять. Звонить в милицию рука не поднималась, да и телефона он предпочитал не знать. Ему ничего другого не оставалось, кроме как сосредоточиться на своей рукописи, авось все остальное как-нибудь образуется. Но в квартире вдруг зазвонил телефон, что редко бывало в последнее время. Чей-то голос, вежливый, но настоятельный, спросил Павла Платоновича. Разумеется, Полюс отсутствовал. Он вообще норовил улизнуть из дома под любым предлогом и старался проводить у себя в квартире как можно меньше времени. Голос попросил передать Павлу Платоновичу, чтобы, вернувшись, он немедленно позвонил по телефону номер такой-то. Это встревожило Платона Демьяновича. Он подумал, не вызывают ли Полюса «туда», чтобы «там» его задержать и не выпустить. Платон Демьянович даже засомневался, стоит ли говорить Полюсу, что ему звонили: может быть, «там» забудут, и все обойдется. Но по телефону звонили в течение вечера еще несколько раз, а Полюса все не было. Может быть, произошла нестыковка в работе разных отделов (Платону Демьяновичу случалось испытывать такую нестыковку на себе) и Полюс уже арестован? Платон Демьянович спохватился, что и посоветоваться-то ему не с кем, не с Кирой же, которой только что исполнилось тринадцать лет. Марианна уехала на гастроли, кажется, в Омск, а Серафима… Где же все-таки Серафима? И Платон Демьянович снова углубился в свою рукопись, чтобы не думать ни о чем другом. Полюс вернулся домой поздно вечером, лучше сказать, ночью, совершенно пьяный, и передавать ему что-либо было бесполезно: он сразу завалился спать. Но рано утром телефон опять зазвонил, и когда Полюс кое-как доплелся до телефона, ему велели никуда не уходить: за ним приедет машина. Платон Демьянович только руками всплеснул: значит, все-таки очередь Полюса пришла, его повезут в тюрьму, куда же еще? Платон Демьянович принялся неумело собирать для сына вещи, Полюс еще более неумело помогал ему. Оба они не знали, где что лежит, к тому же Полюс невыносимо страдал от похмелья. Но когда за Полюсом действительно приехала машина, и отца, и сына заверили, что никаких вещей с собой брать не надо: это не арест, и Павла Платоновича привезут обратно точно так же, как увезли. Просто по одному вопросу нужна его помощь. Слово «помощь» тоже насторожило Платона Демьяновича. Он понял это слово вполне определенным образом. До сих пор Платон Демьянович был уверен в одном: какие бы скандалы Полюс не устраивал, такого рода помощи по отношению к отцу он до сих пор не оказывал. Но Полюса повезли не «туда», а в морг. Он должен был опознать женщину попавшую под поезд. Тело было закрыто каким-то полотнищем. Полюса попросили взять себя в руки и откинули полотнище. Лицо женщины осталось, если можно так выразиться, поезд раздавил грудную клетку. Полюс опознал покойницу (если можно назвать покойницей умершую такой смертью). Он подтвердил, что это, действительно, Серафима Федуловна Чудотворцева, его «мачеха» (Полюс осекся на этом слове). Впрочем, спрашивавшие в этом и не сомневались: Серафиму опознали по отпечаткам пальцев, которые были сняты еще в Осоавиахимовске.
Непонятно было, как Серафима оказалась там, где она попала под поезд. Это случилось не на мочаловской станции, где останавливалась электричка, на которой Серафима приехала из Москвы. С этой же станции она должна была бы и вернуться в Москву, а погибла она в нескольких километрах от этих мест в Лушкином лесу между деревней Корешки, где находится картофельный институт, и Грибанью. Не за грибами же она отправилась на ночь глядя, да и какие грибы в начале мая, кроме сморчков? Но в это обстоятельство никто не собирался вникать. Дескать, ее личное дело, куда она шла, а погибла она от несчастного случая. Домой отвозить ее решительно не советовали. Все равно хоронить гражданку Чудотворцеву придется в закрытом гробу, так что не лучше ли отвезти ее из морга прямо на мочаловское кладбище, где уже и место для нее выделено? Нечего и говорить, что деньги на гроб дала Марианна. На погребении были, так сказать, все свои: кроме Платона Демьяновича с Кирой, Марианна, Дарья Федоровна и дворничиха, Серафимина приятельница. Она уже приехала под хмельком, а уезжала совсем пьяная, так как выпила все, что можно, на даче № 7, где было устроено что-то вроде поминок. Платон Демьянович как окаменел, узнав о смерти жены; Кира тоже молчала, потупившись. Тихо плакала только Дарья Федоровна, а дворничиха пыталась даже голосить, но ее властно остановили двое в штатском, сопровождавшие гроб и следившие, чтобы его не открывали. Больше всех смертью Серафимы был потрясен Полюс. Когда гроб начали опускать в могилу, он вдруг запел: «На воздушном океане». Дойдя до слов: «Будь к земному без участья и беспечна, как они», голос его прервался то ли рыданьями, то ли спазматическим кашлем, как это обычно бывало, когда он пытался петь. Кашель Полюса должен был напомнить Платону Демьяновичу умирающую Олимпиаду. Оказалось, что перед смертью Серафима тщательно прибрала комнаты на даче для мужа и дочери. Дарья Федоровна подумала, что она кого-то ждет. После уборки Серафима пила чай как-то особенно медленно. Соседи потом видели, что и по улицам она ходила долго, будто кого-то встречала, да так и не встретила. Софья Смарагдовна в тот день на Совиную дачу не заходила. По всей вероятности, дойдя до станции, Серафима вдруг повернула и пошла в сторону Лушкина леса.
А на третий день после похорон произошло нечто совсем уж странное.
Кира, принявшаяся вдруг после смерти матери рьяно ухаживать за отцом, открыла окно, чтобы проветрить его кабинет, пока Платон Демьянович был в институте. В окно ворвался весенний ветер, пахнущий черемуховым цветом, подхватил бумаги, скопившиеся на столе, и разбросал их по полу. Кира кинулась их собирать, и в глаза ей бросился лист бумаги, такой же, как другие листы, на которых писал Платон Демьянович, но исписанный другим, корявым почерком чуть ли не по-печатному. Кира догадалась, что это писала ее мать и прочитала следующее:
«Сердечноуважаемый Платон Демьянович!
Пусть, пожалуйста, Кира не читает Вам этого, а попросите Павла Платоновича или Марианну Яковлевну. Я должна уйти и больше не вернусь. Не думайте, что меня кто-нибудь обидел, а мне иначе нельзя. Меня заставили секретно сотрудничать еще в Осоавиахимовске, чтобы я сообщала о врагах народа, и в медучилище девчонок из раскулаченных забирали с моих слов. Честное слово, к Вам я пришла сама, потому что Вас пожалела и Вы мне понравились, как Вы хорошо, хотя и непонятно говорите. Но как только я к Вам пришла, меня вызвали, специально из Москвы приехали и велели сообщать о Вас. А приехали не мужчина, не женщина, до сих пор не знаю кто, только звали их товарищ
Марина. Они рассказали мне и показали, как Вас били и будут еще бить, если я не буду о Вас сообщать, а я не могу чтобы Вас били. Ваше писание тогда взяла я, мне обещали, что посмотрят и вернут, а сами не вернули. Спрашивали, знаю ли я, что Вы с Гитлером переписываетесь, а я сказала, что так товарищ Луцифер велит, он же у них работает. Мне сказали, что враг закрадывается всюду и к ним тоже, а Вы, Платон Демьянович, знаете имя самого главного врага, пишете ему, а назвать не хотите. Уже здесь, в Москве, когда Вы ходили на работу, приходили смотреть Ваше новое писание, говорили, что Вы пишете все сплошь имена врагов народа, спрашивали меня, кого Вы называете Просыхаль и Леня Грин. Я так поняла, что Лонгин на самом деле Леня Грин, и нельзя спрашивать, как его настоящее имя; я боялась случайно проговориться, небось Леня Грин – родня Вениамина Яковлевича, тоже ведь еврей, а какой хороший, Вас вылечил. Есть у Вас и какой-то Годвред, год вредительства, что ли… Еще говорили, имеется у Вас какое-то настоящее писание, которого не могут найти, где написано, кто у нас царь будет. Стали требовать, чтобы Кира переписывала для них все, что Вы пишете, она же знает по-иностранному. А я не могу, чтобы Кира стала, как я. Боюсь, если у Вас опять возьмут Ваше писание, Вы не переживете. Вот я и ухожу, чтобы меня не нашли и на похороны тратиться не пришлось. Только пусть Кира ничего не знает. Служила я Вам, как умела, Платон Демьянович, но ведь знаю я, что есть у Вас Настоящая, она помогала мне Киру растить. Сердечный поклон ей, Павлу Платоновичу и Марианне Яковлевне.
Навеки ВашаСерафима».Неизвестно, откуда взялось это письмо на столе Платона Демьяновича. Не весенний ли ветер занес его с улицы вместе с черемуховым цветом? Или Серафима оставила письмо на столе, уходя, а Платон Демьянович не заметил письма и не прочел (он видел все хуже и хуже). Или он прочел письмо и подумал, что Серафима, как Олимпиада, собралась в скит к матери Евстолии, но Евстолии уже пять лет как не было в живых. Девяностолетняя старица умерла в своем тайном таежном скиту узнав, что сын ее снова в тюрьме. О смерти матери Платона Демьяновича известили чуть ли не через год, когда в калитку дачи № 7 постучалась нищенка, пожелавшая непременно поговорить с Платоном Демьяновичем Чудотворцевым. Она-то и передала Платону Демьяновичу весть из скита, хотя сама была не оттуда, лишь последняя среди многих передатчиц. Вестница приняла небольшую милостыньку (большей у Платона Демьяновича не оказалось) и сразу удалилась, отказавшись зайти.
С другой стороны, если Платон Демьянович все-таки читал письмо, он не мог не понять, куда уходит Серафима. Мне хочется думать, лицо Серафимы не было раздавлено, так как, ложась поперек рельсов, она не удержалась и уткнулась в свежую весеннюю траву, напоследок вдохнув ее запах. Кира не стала читать письма отцу, припрятала его у себя и лет через пятнадцать дала прочитать его мне. Я сразу запомнил его наизусть и воспроизвел его теперь, думаю, в точности, может быть, разве что без некоторых особенно вопиющих орфографических ошибок. «Что ты от меня хочешь, моя мать сексотка», – говорила мне Кира в очередном приступе отчаяния. С тех пор Кира окончательно возненавидела рукописи отца, погубившие ее мать, но Кира усвоила при этом, что самого слепнущего отца нужно беречь вместе с его рукописями, за что ее мать пожертвовала жизнью, так и не прочитав их по малограмотности.
Судя по письму Серафимы, дело врачей-вредителей уже тогда подготавливалось под определенным углом зрения: Леня Грин, Годвред, евреи, хорошие и плохие. Так все это преломлялось в несчастном сознании Серафимы, пока не сломалась она сама: хоть про нее уже нельзя было сказать: «красивая и молодая», но «любовью, грязью иль колесами она раздавлена – все больно».
Сразу после «ухода» Серафимы, в квартире на Арбате снова водворилась Марианна. Собственно, она никогда не покидала этой квартиры: трудно себе представить, как жили бы ее обитатели без постоянной помощи тети Мари. Ее собственная родня прервала с ней всякие отношения за то, что знаменитая пианистка всеми своими заработками помогает чужим, а не своим, но Марианна осталась верна своей первой любви к Чудотворцеву (Полюс утешался тем, что он тоже Чудотворцев, и еще неизвестно, кто из них…) Не у Марианны ли хранились обширные фрагменты того «настоящего писания» от Чудотворцева, в которое так хотели заглянуть сотрудники товарища Марины. Но за этим чудотворцевским писанием надзирал товарищ Цуфилер («Луцифер», как назвала его по простоте душевной Серафима), и, спрашивается, не под товарища ли Цуфилера с его искомым третьим глазом подкапывался-подкапывалась товарищ Марина, фабрикуя дело врачей? Когда по этому делу был арестован Вениамин Яковлевич Луцкий, Чудотворцев (как и Сталин, кстати говоря) остался без врачебного надзора, но операция, сделанная Вениамином Яковлевичем, оказалась настолько удачной, что Платон Демьянович продержался еще четверть века (если не больше) и даже не совсем ослеп: иногда зрение к нему возвращалось (хоть и ненадолго; это бывало скорее прозрение, чем зрение).
В квартире началась чехарда домработниц: Марианна не могла обойтись без них и ни одной из них не доверяла. В отличие от Олимпиады и Серафимы, даже в отличие от панночки Аделаиды, Марианна до конца дней своих мучительно ревновала Платона Демьяновича к другим или к той Другой, чьих прав на Чудотворцева она отрицать не могла. Не отсюда ли резкие нападки в некоторых ее письмах на гностический культ «нетварной Софии», означающий, по ее словам, отпадение от православия и уничтожающий обновленческую философию Флоренского? Марианна даже предпочитала называть Софию ее древнееврейским именем Хохма, иронически меняя ударение: «хохма». Слышали от нее и мнение, будто сакральный дурман в «Авесте» Хаома есть искаженная анаграмма слова «Хохма» (или наоборот), но тут уже угадываются языковые игры Чудотворцева. Он вообще подшучивал над Марианной, называя ее «Мэри-мудрица» (слово это подхвачено Андреем Платоновым в «Епифанских шлюзах»), а также «Марфа-Мария-Диотима», в чем Серафиме слышалось «Идиотина».
Как пианистка Марианна славилась исполнением сонат Бетховена (его музыку не запрещали даже в разгар борьбы с космополитизмом), но болезненную приверженность она испытывала к музыке Шопена и Чайковского. Этой музыкой она исповедовалась в своей страсти, в этой музыке переживала шопенгауэровское отчаяние и шопенгауэровское утешение. В пристрастии к Шопену сказывались, возможно, симптомы болезни, которой Марианна втайне страдала. Все чаще она выдавала за гастрольную поездку очередное пребывание на обследовании в больнице. Долгое время это оставалось тайной даже от ее воспитанницы Киры, которую она любила вспыльчивой, придирчивой любовью, на что Кира отвечала такой же истерической взаимностью. Но болезнь Марианны осталась тайной и для лечащих врачей. Окончательный диагноз так и не был поставлен. Если бы Платон Демьянович лучше видел, жаркий блеск Марианниных глаз мог бы напомнить ему Лоллия. Похоже, что Марианну снедал тот же недуг. Все чаще и чаще, вместо того чтобы играть самой, она просила сыграть что-нибудь Платона Демьяновича. Тот начинал импровизировать, но вскоре сквозь импровизацию прорывалось «Действо о Граали», и Марианна оживала, а вместе с нею и Полюс, если ему доводилось услышать за закрытой дверью музыку, на которую была нацелена вся его жизнь.
Однажды Марианна привела к Платону Демьяновичу высоконькую девочку с длинной золотистой косой. «Познакомьтесь, Платон Демьянович: Клавдия – моя любимая ученица», – как-то слишком уж просто сказала она. Кира сразу ревниво насторожилась, а Клавдия, в ответ на требовательную просьбу своей учительницы, села за рояль и начала играть Грига, да так, что Платон Демьянович и сама Кира заслушались.
– Кто она: Лорелея или Сольвейг? – галантно осведомился Платон Демьянович.
– По-моему, Сольвейг, – с неожиданной твердостью ответила Марианна. – Уверяю вас, у нее есть и другие таланты. Вы просили почитать вам «Die Geburt der Tragödie», Платон Демьянович. Я сегодня что-то не в голосе. Думаю, Клавдия справится с этим лучше.
И Клавдия начала читать по-немецки «Рождение трагедии» Ницше. Сперва она читала неуверенно, но потом освоилась, и Платон Демьянович освоился с ее странным произношением. Немецкий язык был для Клавдии почти родным. Она росла среди ссыльных немцев. И отец ее был швейцарско-австрийско-немецкого происхождения: Антон Владимирович (Вольфрамович) Адлерберг, точнее, граф фон Адлерберг, о чем он старался не напоминать. По образованию Антон Адлерберг был горный инженер, специализировался по добыче алюминия и даже не был выслан в Сибирь, а сам приехал туда работать по специальности. Там и жену себе нашел. Она происходила из мест более восточных, чуть ли не с Ангары, едва ли не от бурятов, и облик у нее был монголоидный. Звали ее Евдокия Пешкина, и работала она в родильном доме санитаркой. Осмотрительный Антон Вольфрамович, несмотря на кажущуюся дружбу с Германией (Клавдия родилась в 1940 году), велел записать ее по фамилии матери: Пешкина. Он как в воду смотрел, ибо, едва началась Отечественная война, его арестовали и как-то слишком уж быстро расстреляли, так что Клавдию Евдокия растила одна. Она уехала из тех мест, где помнили ее расстрелянного мужа, но так случилось, что она нашла работу в Омске, куда выслали опять-таки немцев, быстро разобравшихся, какого Клавдия происхождения; отсюда ее знание немецкого языка. Среди ссыльных оказалась и учительница музыки, обратившая внимание на способности золотокудрой малютки с непролетарской внешностью. Клавдию приняли в музыкальную школу все в том же Омске, куда на гастроли приехала Марианна Яковлевна Бунина. Игра Клавдии произвела на знаменитую пианистку такое впечатление, что та взяла ее с собой в Москву, чему Евдокия не препятствовала. Пятнадцатилетняя Клавдия должна была сначала кончить среднюю школу, после чего ей светила Гнесинка, где преподавала Марианна. Марианна поселила девушку у себя. Музыку она ей преподавала сама, но она пригласила к ней также учительницу французского языка, лишь впоследствии стало ясно для чего. Клавдия должна была догонять своих московских соучениц по всем предметам, но по немецкому языку была первая и свое произношение быстро исправила. Однажды Марианне предложили длительную зарубежную гастрольную поездку в Нидерланды, в Бельгию и во Францию, а Платона Демьяновича не на кого было оставить: очередную домработницу только что уволили. Тогда Марианна и привела к нему Клавдию (не с первого ли взгляда обрекла она ее такому служению, зная, что сама долго не проживет, а на Киру плоха надежда). Клавдия была воспитана по-немецки и умела делать все, даже готовить; Платон Демьянович с удовольствием ел ее картофельные пудинги или драчену по-русски. Непостижимо, как успевала Клавдия не пропускать занятий в школе (десятый класс), не запускать языки в отсутствие Марианны, ухаживать за Платоном Демьяновичем, да еще читать ему вслух по-немецки и по-французски (теперь уже он сам исправлял ей произношение, слушая, как она читает Паскаля). Кире Марианна поручила присматривать за своей квартирой, куда та и привела меня. Кира в это время жила своей жизнью. По-видимому, Платон Демьянович не возражал против ее слишком уж раннего брака с Адиком Луцким и с пониманием относился к ее намерению поступать в институт не под своей фамилией Чудотворцева. Предполагалось, что молодые будут жить в просторной московской квартире профессора Луцкого; его самого уже не было в живых, хотя он и был освобожден после дела врачей-вредителей. В квартире должно было хватить места и Адику с юной женой, и его старшей сводной сестре Антонине Духовой, недавно вернувшейся из лагеря, но Кира там бывала не очень часто, а если и бывала, то общалась скорее с Антониной, чем со своим мужем, которого вскоре арестовали.
Когда Марианна возвратилась в Москву после своих блистательных гастролей (она была принята королевой Бельгии), оказалось, что Платон Демьянович уже не может обойтись без Клавдии. Сознавая, что Клавдии нужно заканчивать школу, он все-таки находил время диктовать ей (вернее, она находила). Клавдия окончила школу, поступила в Институт имени Гнесиных и проучилась там три года до смерти Марианны. Марианне сделали за это время несколько операций, пересаживали ей костный мозг, но болезнь остановить не удалось. В актовый зал института гроб с телом пианистки увозили из квартиры Чудотворцевых, где ее отпевал православный священник (не отец ли Иоанн Громов?). Когда священник совершил свой обряд, Платон Демьянович неожиданно сел за рояль. Присутствующие музыканты ожидали услышать траурный марш Шопена или Грига, а Платон Демьянович заиграл нечто другое, неведомое, чарующее, и стоявшие близ гроба уверяли потом, что в застывших чертах покойницы проступила улыбка. А на кладбище Полюс начал свое «На воздушном океане», но его все еще великолепный бас опять прервался рыданьями, перешедшими в спазматический кашель.
Марианну похоронили на мочаловском кладбище неподалеку от Серафимы, хотя и не рядом с ней. Ясно было, для кого оставлено место рядом с Серафимой, и Платону Демьяновичу, которому к тому времени перевалило за восемьдесят, предстоит покоиться на мочаловском, а не на быковском кладбище, где похоронена Олимпиада. Не знаю, кто принял такое решение, Полюс, Кира или кто-нибудь еще, но, во всяком случае, не Клавдия: она никогда не допускала мысли о смерти Платона Демьяновича, а в квартире к тому времени безраздельно царила она. Клавдия не обижалась на то, что мы называем ее «Клавиша»; она ничему не придавала значения, кроме своих обязанностей, как она их понимала. Ради этих обязанностей она бросила институт решительно, как делала все. Правда, заниматься музыкой она продолжала с прежним рвением и подолгу играла каждый день (иногда ночью тоже), но играла она исключительно потому, что это нравилось Платону Демьяновичу. В остальном жизнь Платона Демьяновича никогда и никем не регулировалась жестче: еда в определенные часы, прогулка во дворе или в саду, если дело происходило на улице Лонгина (Лоэнгрина?), послеобеденный сон, и с регулярными перерывами работа, работа, работа, когда Клавдия читала Платону Демьяновичу или писала под его диктовку Иногда приходили аспиранты – читать по-гречески. Я мечтал когда-нибудь заменить их, но моим мечтам не суждено было осуществиться. Читать по-латыни Клавиша уже выучилась сама. Для меня она не делала никаких поблажек, но видеться с Платоном Демьяновичем все-таки позволяла, пусть не каждый день. Платон Демьянович все чаще сам спрашивал обо мне, и Клавдия предоставляла мне занимать его, когда уходила на кухню, в магазин или в библиотеку Она ревниво слушала, как я читаю на тех же языках, что и она, хотя в диктовке я не мог сравниться с ней, и если кое-что записывал за Платоном Демьяновичем, то для себя, а не для него. Клавдия потребовала сначала, чтобы я показывал мои записи ей, подвергала их довольно строгой цензуре и даже изымала некоторые листки, но потом стала доверять мне больше и даже просила меня побыть с Платоном Демьяновичем, только чтобы я не слишком утомлял его. Нечего и говорить, что я тогда уже не просто бывал в квартире на Арбате, а был там постоянно, если не был в институте, где все чаще пропускал занятия, благо на мои прогулы смотрели сквозь пальцы, так как я продолжал пользоваться покровительством проректора по научной работе Криштофовича. Во-первых, он тоже интересовался, что Платон Демьянович сказал (моих записей я ему все-таки не показывал), во-вторых, с третьего курса я начал публиковать в соавторстве с ним (предполагалось, что он в соавторстве со мной) обзорные статьи о лингвистических дискуссиях в зарубежных журналах. Штофик не очень-то свободно читал по-немецки и по-французски, а по-английски совсем не читал. Честно говоря, я дневал и ночевал в квартире Чудотворцева, как ни двусмысленно это звучит: Клавдия без всяких околичностей предоставила нам с Кирой отдельную комнату. Жилплощадью в квартире распоряжалась она, хотя в этой квартире и вообще в Москве не была даже прописана. Другую комнату занимал Полюс, но он практически предоставил ее нам, так как все реже ночевал дома. Постаревший, пьющий, опустившийся Полюс продолжал нравиться женщинам и после смерти Марианны, оплакивая ее до конца своих дней, пытался утешаться с другими. «Опять женился», – подмигивал он мне, изредка встречая меня в коридоре. Но насколько мне известно, своих кратковременных браков он ни разу не регистрировал и очередных жен в отцовскую квартиру не водил, как будто продолжал стесняться покойницы Марианны. Дома (у тети Маши) я сначала бывал со второго дня на третий, потом раз в неделю, потом раза два в месяц. Она предлагала мне деньги, но я не брал их, так как зарабатывал кое-что сам (Штофик делился со мной гонорарами, а иногда отдавал весь гонорар целиком: он заинтересован был не в деньгах, а в том, чтобы его имя мельтешило в печати. Кстати сказать, весь гонорар отдавал он мне тогда, когда публикация появлялась лишь за его подписью без моей, что я сам предлагал ему все чаще; я-то нуждался в деньгах).
Кира тоже навещала мою тетушку-бабушку, предпочитая делать это в мое отсутствие. Надо сказать, что ma tante Marie ничего против нее не имела. Помню, как однажды, тщательно протерев пенсне, она надела его и строго осведомилась, какие у меня намерения в отношении Киры Платоновны. В первый раз Киру при мне назвали по имени-отчеству, и это настолько не вязалось с моим представлением о ней, что я потерялся было но взял себя в руки и вежливо спросил, что ma tante имеет в виду.
– Я имею в виду, когда вы женитесь на ней, mon enfant, – ответила она.
Я напомнил ей, что Кира замужем и что муж ее в тюрьме.
– Тем более, не находите ли вы ваше поведение и в отношении нее, и в отношении него непорядочным? – В голосе тетушки-бабушки послышались металлические нотки, хотя и с трещинкой.
Я спросил в ответ на это, будет ли более порядочным бросить Киру одну в таких обстоятельствах.
– Она не одна при живом отце и старшем брате, – парировала ma tante Marie, но как-то неуверенно.
Я напомнил ей, что отцу Киры за восемьдесят, а у брата своя жизнь, и ей известно какая. На это тетушка-бабушка не нашла что ответить. Я почувствовал, что поставил в затруднительное положение княжну Марью Алексевну. Конечно, она предпочла бы, чтобы я жил у себя дома, у нее на глазах, пусть даже с Кирой, лишь бы это был законный брак, а жить под одним кровом с Чудотворцевым для Фавстова опасно, и не только для Фавстова: Адик Луцкий получил такой большой срок, потому что он зять Чудотворцева. Не знаю, догадывалась ли моя проницательная тетушка-бабушка, что если бы я надумал делать предложение, то сделал бы его не Кире, а Клавдии, чьи золотистые волосы никогда не переставали оказывать на меня магическое действие, хотя для меня она была Лорелея, а не Сольвейг. И она ко мне относилась иначе, чем к другим, даже к Чудотворцеву пускала, оставаясь, впрочем, настолько неприступной, что я и заикнуться не посмел бы о своих намерениях, даже если бы решился объясниться. И меня передернуло не только от Кириного цинизма, когда однажды ночью, лежа со мной в постели, Кира вызывающе спросила: «Как ты думаешь, она спит с ним?» Напускным, как всегда у Киры, цинизмом маскировалась элементарная ревность. Уж Кира-то заметила, как я отношусь к той (Лорелея она или Сольвейг), и ревновала меня к ней, а ее к отцу, сознавая при этом, что заменить ему ту она сама не может. Клавдия в свою очередь осуждала Киру за пренебрежение к отцу (она всех за это осуждала). Так формировалась их вражда, от которой я страдаю и теперь.
А тетушкины опасения неожиданно подтвердились. Я закончил институт, меня распределили в аспирантуру, но не приняли. На экзамене по общему языкознанию я получил не «отлично», как требовалось, а всего лишь «хорошо» с натяжкой. Неожиданно меня спросили о значении орфографической реформы в истории русского языка. Я ответил, что в результате реформы исчезло различие между словами «м1ръ» и «мир» и нынешняя борьба за мир восходит в лингвистическом отношении к латинскому «pax romana – pax Dei». Члены экзаменационной комиссии переглянулись, и мне даже послышалось слово «чудотворцевщина». Так что в результате орфографической реформы меня не приняли в аспирантуру, мотивировав это тем, что мне следует сначала приобрести опыт практической педагогической работы. Поговаривали, правда, что, если бы в комиссию входил проректор Штофик, он бы отстоял меня, настоял бы на моем принятии, но Штофик уехал, как на грех, на курорт, совершенно уверенный, что меня примут. Меня самого больше всего огорчало одно: я не смогу теперь на законном основании учиться у Платона Демьяновича греческому языку Конечно, я и без того виделся с ним почти каждый день и мог бы заниматься греческим самостоятельно, пользуясь его консультациями, но Платон Демьянович предпочитал разговаривать со мной на другие темы, все более личные; в подобных разговорах прошли последующие годы, и на них в значительной степени построена эта книга.
Тетя Маша совсем пала духом, узнав, что меня не приняли в аспирантуру и что при этом было произнесено слово «чудотворцевщина» (сколько раз я потом жалел, что повторил при ней это слово). «Теперь тебя никуда не примут», – горько вздохнула она и тут же достала мне перевод с немецкого по линии картофельного института. (Она уже была на пенсии, но переводы на дом брала все время). Чтобы успокоить ее, я согласился на этот перевод, хотя писал очередной обзор для Штофика, и она, признав, что для Игнатия Лукьяновича тоже работать важно, сделала этот перевод за меня сама. И как я теперь подозреваю, крушение моей научной карьеры совпало с крушением другой величайшей надежды, которой она жила, надежды на возвращение моей матери Веточки Горицветовой (Фавстовой). Может быть, одно другим было подтверждено или даже вызвано. Я писал о том, как моя тетушка-бабушка время от времени бросалась прибирать комнату, считавшуюся Веточкиной. И вдруг она поняла, что прибирает ее напрасно: Веточка никогда не вернется. Раньше она отгоняла эту мысль повседневными заботами о Веточкином сыне, но теперь этот сын, то есть я, отдалился от нее, вроде бы не нуждался в ее заботах, и жестокая мысль напала на нее со всей беспощадностью. Не могу простить себе, как во время моих редких визитов убеждал себя, что ничего особенного не происходит, ведь ma tante Marie до сих пор никогда не позволяла себе болеть, и она была лишь немного старше шестидесяти, но она таяла на глазах; однажды ранним утром на квартиру Чудотворцева позвонили, и женский голос сообщил мне, что Марья Алексеевна скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Хоронили Марию Алексеевну несколько ее старых подруг; от института, где она проработала всю жизнь, был только чахленький венок, зато букет из живых цветов (настоящие белые хризантемы) положил на свежую могилу, которую сам же и выкопал, седовласый бородатый богатырь в какой-то грубой хламиде. «Неужели князюшка Муравушка?» – мелькнула у меня мысль, но я только предложил ему деньги, которых он не взял, буркнув: «За все заплачено уже». Но что действительно поразило меня, так это реакция Платона Демьяновича на известие о смерти Марии Алексеевны Горицветовой. Мне показалось, что слезы навернулись на его водянисто-голубые глаза.
– Что же вы не позвали меня… на похороны? – с трудом выговорил он. По-видимому, юная гимназистка княжна Mari Горицветова значила для него больше, чем я думал и о чем он так и не рассказал мне никогда.
Не с памятью ли о юной m-lle Mari связана забота Платона Демьяновича о моем трудоустройстве? Он передал мне перевод греческой мифологии для детей с немецкого, который предложили было ему а он ограничился лишь редактурой. К этому времени материальное положение Платона Демьяновича изменилось. После того как в ученых записках нашего института появилась наконец его «Лира и свирель в народной культуре древних эллинов», книги Чудотворцева снова начали выходить. Вышла «Система античной мифологии», перелицованная «Материя мифа». Массовым тиражом вышла биография Платона. Подготавливалась к печати «История античной философии». Первый том ее вскоре вышел тоже. Но деятельность Платона Демьяновича строго ограничивалась античностью с редкими выходами в немецкий романтизм. О русской религиозной философии, не говоря уже об издании «Софиократии», не могло быть и речи.
Платона Демьяновича даже не пытались вовлечь в хрущевскую «оттепель». Несмотря на длительное тюремное заключение и ссылку, фигура Платона Демьяновича стойко ассоциировалась со сталинским наследием. Этим ситуация Чудотворцева напоминала Мартина Хайдеггера, которого попрекали нацистским прошлым, как будто он сам загонял своих коллег неарийского происхождения в душегубки, хотя ни в чем подобном Хайдеггер замечен не был, а могли этим заниматься скорее те, кто теперь нападал на него и кому многое прощалось за верность исторической конъюнктуре. Вот конъюнктуру-то Платон Демьянович и не использовал. От него ждали, когда же он разоблачит Сталина, поиздевается над «Марксизмом и вопросами языкознания», а ничего подобного не последовало. Прогрессивная интеллигенция сделала отсюда вывод, что старый мракобес, выживший благодаря покровительству тирана, рассчитывает на восстановление сталинизма в той или иной форме. Кира, проповедующая социализм с человеческим лицом, яростно поддерживала подобные домыслы. «Он так и застрял между товарищем Амираном и господином Клингсором», – язвила она.
Многие шестидесятники склонны были видеть в православии и в русской религиозной философии крайнюю степень, так сказать, скрытого тоталитаризма и намекать на родство Сталина с этой традицией, а Чудотворцев не отрицал этого. «Теперь управлять будут из мавзолея», – сказал Платон Демьянович, когда из мавзолея вынесли Сталина. Чудотворцев, подсказавший в свое время самую идею мавзолея, называл режим, установившийся после двадцатого съезда, некрократией. Платон Демьянович по-своему комментировал строку Маяковского: «Ленин и теперь живее всех живых». «Это значит, что остальные еще мертвее, – говорил он. – А все, что делают мертвые, бесперспективно. Бог же не есть Бог мертвых, но живых…» Киру бесила моя приверженность к чудотворцевщине, хотя, с другой стороны, ее устраивало то, что я развлекаю Платона Демьяновича и даже что-то записываю за ним («все равно не напечатают», – уверяла она меня и себя), но в самой этой приверженности Кира угадывала скрытый флирт с Клавдией и не прощала мне этого. Между нами нарастало отчуждение, хотя о полном разрыве не было речи. Все чаще я ночевал в моем одиноком загородном домишке, где все напоминало мне тетушку-бабушку И работать над переводами там было удобнее. Не мешало развязное Кирино шестидесятническое общество, да и словарями ma tante Marie запаслась редкостными. Когда из ссылки вернулся Адриан, он позвонил Кире далеко не в первый день, а Кира даже не подумала о разводе с ним. Адриану вообще было все равно, женат он на Кире или нет. На таких условиях, правда, он и женился на ней. Кира не говорила уже: «мы аки» (с Адрианом она и тем более я виделись крайне редко, хотя дача № 7 на улице «Лени Грина» принадлежала ему), но в своем браке с ним Кира продолжала видеть форму социальной (и сексуальной) свободы, которой, боюсь, я пользовался гораздо больше, чем она (если она вообще ею пользовалась помимо меня).
И точно так же помимо меня шла настоящая работа Платона Демьяновича. Я знал, что с Клавдией он восстанавливает «Оправдание зла», диктует ей «Софиократию» и совсем уже загадочную книгу под названием «Записки о Христе», а со мной он вел нескончаемые беседы, все более откровенные, допуская признания настолько интимные, что я не всегда решаюсь воспроизвести их в моей книге. Все чаще мне казалось, что он забывает о моем присутствии, хотя нуждается в нем, то ли принимая меня за кого-то другого, то ли обращаясь к этому другому (к другой?) лишь в моем присутствии. Платон Демьянович исповедовался и упивался подробностями, которых Клавдия определенно предпочитала не слышать, так что, когда мадам Литли впервые вошла ко мне, я знал о ней больше, чем она думает (а может быть, она на это и рассчитывала).
Девяностолетие Платона Демьяновича было отпраздновано торжественно, но как-то не всерьез. Подчеркивали скорее долголетие ученого, чем его научные заслуги, среди которых отмечались лишь труды, вышедшие в последнее десятилетие (как будто до восьмидесяти лет Чудотворцев ничего не делал). Объяснять столь странную ситуацию сталинскими репрессиями стало дурным тоном; упоминать их, по крайней мере, вслух опять не полагалось, так что о Чудотворцевском долголетии говорили со скрытой иронией, а кое-кто даже хохмил по поводу Хохмы. Чудотворцевское словцо «некрократия» распространилось, но в ответ на него раздраженные шестидесятники-хохмачи пустили в ход другое словцо «некрософия». Под этим знаком столь же издевательски при всяких внешних знаках уважения и даже благоговения перед патриархом отечественной классической филологии (о философии предпочитали не говорить) начали подготавливать столетний юбилей Платона Демьяновича задолго до того, как этот юбилей наступил. Все более откровенно подчеркивали смешную сторону юбилея: дескать, что спрашивать со столетнего, на что он годится, кроме юбилея? А между тем Платон Демьянович отнюдь не дряхлел. Часами диктовал он Клавдии какие-то новые труды. (Никто, кроме Клавдии, не знал в точности, что он диктует: Клавдия писала, лишь оставшись наедине с ним, и над этими уединениями тоже подшучивали.) Мысль Платона Демьяновича была по-прежнему остра, память не изменяла ему, разве только зрение совсем ослабело, но назвать его слепым язык не поворачивался, у Платона Демьяновича бывали минуты прозрения, когда он, право же, видел… Даже впадения в забытье, когда Платон Демьянович говорил про себя, не совсем связно то, что говорить, может быть, не следовало, поражали иногда ослепительной проницательностью, юродствующей мудростью не отсюда. И все-таки со временем становилось очевиднее и очевиднее: настоящие труды Платона Демьяновича при его жизни обнародованы быть не могут. Его могучее долголетие способствует лишь появлению новых трудов, которые не могут выйти в свет, как и старые.
Настало нестерпимо жаркое лето 1972 года. В подмосковных лесах горели торфяники, и до Совиной дачи, где, по обыкновению жил Платон Демьянович, доносился едкий запах гари. Кира, плохо переносившая жару, по своему обыкновению, собралась в Юрмалу одна: я был занят очередной работой. Но против обыкновения должна была уехать и Клавдия: она получила из Омска какие-то тревожные известия о болезни своей матери; Клавдия, до сих пор не покидавшая Платона Демьяновича ни на один день, с матерью не виделась четверть века. Кире и Клавдии пришлось обсудить складывающиеся обстоятельства, хотя обе они давно уже предпочитали одна с другой не разговаривать. Оказалось, что для отъезда обеих нет препятствий; нашлась удивительная сиделка, которой Платона Демьяновича вполне можно доверить. Обе они согласились, что это так, хотя каждая каждую не преминула попрекнуть предстоящим отъездом. Я ушам своим не поверил, когда услышал, что обе они уехали, и немедленно направился на Совиную дачу навещать Платона Демьяновича. Несмотря на нестерпимый зной, в саду вокруг дачи № 7 цвели липы, и сквозь их аромат из-за ветшающего забора доносился молодой удивительно знакомый женский голос: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих искони… Тогда я была при Нем художницею и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время». И тут я услышал голос Платона Демьяновича: «Как ты думаешь, а не обо мне ли это сказано, и не мне ли следует сказать себе: „Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто“». Скажи мне, стоит ли исписанная бумага стольких жизней, включая мою собственную?»
А она ответила ему:
– Не бывает познания без любви. О тебе другое сказано: «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
Дальше я не отважился слушать и потихоньку ушел, чтобы не нарушать их уединения. Стоит ли говорить, что я узнал голос моей крестной Софии Смарагдовны?
Не прошло недели, как до меня дошло известие: профессор Чудотворцев умер и даже похоронен уже на мочаловском кладбище. Похоронами занимался Полюс, единственный, кого удалось известить о смерти Платона Демьяновича. Похороны нельзя было откладывать в такую жару, а Полюс то ли не знал, то ли потерял адреса, по которым можно было бы известить Киру и Клавдию. Мудрено ли, что моего адреса он тоже не вспомнил? В институте, где Платон Демьянович все еще числился профессором, была пора летних отпусков, так что на мочаловское кладбище Полюс явился лишь с двумя или тремя своими собутыльниками и с новой женой, продавщицей мороженого, отпросившейся на этот день с работы. Полюс и тут запел «На воздушном океане», но голос его сорвался уже на четвертой строке: «Хоры стройные светил». Он постеснялся вести такую компанию на Совиную дачу, так что Платона Демьяновича помянули прямо у могилы и продавщица мороженого еле-еле дотащила Полюса до ближайшего леска, чтобы он проспался. Потом Полюс не мог вспомнить, кто обмывал покойника и кто положил его в гроб, да и гроба он, по-видимому, не заказывал.
Когда Кира и Клавдия вернулись, они обвинили в случившемся одна другую и окончательно прекратили отношения между собой. Вскоре после похорон Платона Демьяновича начали выходить из печати его труды, публикация которых при его жизни была немыслима. Их публиковала Клавдия и продолжает публиковать. Среди этих трудов попадаются работы невероятной новизны, в которых анализируются последующие события, как мог бы их анализировать лишь пророк… или прозорливый современник. Невозможно определить, публикует ли Клавдия только то, что ей было продиктовано Платоном Демьяновичем (сама она настаивает на этом), восстанавливает ли она его работы по памяти или… или сама пишет их «в духе худшего Чудотворцева», как утверждает Кира. Лично я не сомневаюсь, что эти работы принадлежат Платону Демьяновичу. Я слышу в них его голос; в глубине души я верю Клавдии, когда она говорит, что Платон Демьянович не умер и продолжает ей диктовать. И сам я отчетливо слышу, как он спрашивает меня: «Скажите, а крестную вашу вы давно видели?»
Глава десятая ЦАРЬ-ВЕНА
Et c'est la même artefe, et c'est la même veine,
Et c'est le même sang et la trouble fontaine.
Charles Péguy[1].В ЛЕТО от сотворения мира 7091 (1583) на третий день после Покрова Святой Богородицы в Москве по Красной площади по первому снежку катился колобок, оставляя за собой брызги крови. Колобок обогнул собор Покрова Пресвятой Богородицы что на рву и покатился дальше, пока не скатился на первый хрустящий ледок у берега Москвы-реки. Ступить на этот ледок было еще опасно (подальше от берега Москвы-реки еще и не думала замерзать), и толпа преследователей побежала по берегу, силясь не потерять колобок из виду В то же время ледок не позволял спустить на воду лодку надо было сперва разбить лед, а колобок-то катился да катился, окрашивая хрупкий ледок отпугивающим багрянцем. Когда лодка преследователей со скрипом и скрежетом выгреблась на середину реки, колобок уже скрылся из виду; преследователи на берегу видели только, как он скатился с ледка в сумрачную по-зимнему воду и поплыл себе, поплыл вниз по реке, разве только не пропел при этом: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…» Особо пристальные видели, что за колобком тянется по воде длинная седая борода, перепутанная с такими же длинными белыми волосами. Впрочем, то могли быть и клубы тумана, поднимающегося из воды. А колобок все плыл да плыл, минуя московские улицы, подмосковные посады, слободы и монастыри, пока слева не обнаружилось устье речки Векши, в которую неподалеку впадала скрытная, напористая Таитянка, а не в этом ли месте Лушкин лес сошелся бы с Луканинским, когда бы не разлучала их Москва-река, а в лесах между Таитянкой и Векшей таилась уже Мочаловка со своим истинным наименованием «Ковала мочь», – как сказал о ней тот, чья голова доплыла дотуда колобком. А пока голову-колобок ловили, тело было унесено неизвестно кем неведомо куда. В тот день на площади перед Иваном Святым (он же Иван Великий) по приговору царя Ивана Васильевича Грозного был обезглавлен по обвинению в чернокнижии некий Фавст. Со временем удалось мне установить его полное имя и звание: Фавст Епифанович, князь Меровейский.
Думаю, что все-таки моя фамилия Фавстов заставила меня особенным образом заинтересоваться Фаустом, хотя, быть может, как раз «Фауст» Гёте пролил для меня особенный свет на мою фамилию. Тетушка-бабушка не поддерживала моего интереса к моей фамилии, полагая, что это опасно, но уже с детства я обратил внимание в расписании поездов на остановку Фаустово и как-то спросил Марью Алексевну, не наше ли это было имение в прошлом. «Считай, что это простое совпадение, mon enfant», – строго ответила тетушка, привычным жестом надевая пенсне, чтобы спрятать от меня свои глаза. В ответе ее мне послышался, как в других подобных случаях, особенный призвук. Изучая немецкий язык, я не мог не знать, что по-немецки «die Faust» означает «кулак» (в прямом смысле слова кисть руки с прижатыми к ладони пальцами, а не лицо, подлежащее раскулачиванию; любопытно, что по-немецки «кулак» женского рода). Со временем я узнал, что имя «Faust», омонимически совпадая с немецким словом «die Faust» («кулак»), не имеет к нему никакого отношения, так как происходит от латинского «faustus» («счастливый, благополучный»). Но в точности такого же происхождения православное имя Фавст. Следовательно, русский Фавст звался бы в Германии Фауст, а Фауст на Руси звался бы Фавст. Но работая на втором курсе института над докладом «Фауст и Прекрасная Елена», предназначенному для юбилейной чудотворцевской конференции, я оставлял за скобками русские параллели. Внимание мое привлекло другое. В основе гётевского «Фауста» предание, изложенное в так называемой «Истории доктора Йоханна Фауста» (1587) или в народной книге о Фаусте, но у Гёте Фауст стар, и Мефистофель омолаживает его, в народной же книге Фауст сравнительно молод, что явствует уже из того, что Мефистофель заключает с ним договор на 24 года (стало быть, Фаусту предстоит прожить по меньшей мере эти двадцать четыре года, то есть почти четверть века, и ничего не говорится о том, что его жизнь будет продлена с помощью дьявола). Правда, согласно народной книге, Фауст является доктором теологии, а такое звание не присуждалось лицам моложе тридцати лет, но, очевидно, что это не престарелый Фауст Гёте. С другой стороны, у Гёте срок договора с дьяволом обозначен мгновением, которому Фауст скажет «продлись», а такое мгновение названо у Руссо в его «Грезах на одиноких прогулках» (Прогулка пятая): «Едва ли среди наших живейших наслаждений найдется хоть одно мгновение, когда сердце поистине могло бы сказать нам: я хотело бы, чтобы это мгновение длилось всегда…» «Грезы» Руссо писались одновременно с «Фаустом» Гёте, и мотив «длящегося мгновения» либо носился в воздухе, либо Гёте воспринял его от Руссо. Но так или иначе, условие, выдвинутое Фаустом, таило в себе одну закавыку не замеченную, кажется, Мефистофелем: либо Фауст будет обманут и скажет: «Продлись» мгновению, которое продлится (остановится) в аду, так как именно в это мгновение истечет срок договора и Мефистофель завладеет Фаустом, либо мгновение, которому Фауст скажет: «Продлись», будет угадано верно; оно уведет Фауста из-под власти Мефистофеля, и обманут будет Мефистофель, что, собственно, и происходит во второй части «трагедии», где Фауст спасен Вечной Женственностью (Софией, сказал бы православный Восток). Существеннейшее различие между Фаустом народной книги и Фаустом Гёте таится здесь. В народной книге Фауст гибнет, у Гёте спасается. В этом своеобразие гётевского Фауста среди многих других «Фаустов», и в этом у Гёте был один, зато весьма примечательный предшественник. Фауст спасается также в незаконченной драме Лессинга (по некоторым сведениям драма Лессинга «Фауст» была закончена, но рукопись ее потеряна или похищена). Среди русских славянофилов ходил слух, будто Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) был славянского происхождения, и его настоящее имя Боголюб Ефрем Лесник (лесной старец?). По замыслу Лессинга Фауст спасается тем, чем рассчитывает погубить его дьявол: жаждой знания, то есть в конечном счете все тою же Софией Премудростью, которую строгий просветитель (и в то же время мистик) Лессинг не поминает всуе, но, очевидно, если Фауст спасается, то спасается он Софией. «Я только твой, познание – София!» – говорит в стихотворении Бунина Джордано Бруно, тоже Фауст в своем роде, я сам слышал, как София Смарагдовна говорила Чудотворцеву перед его смертью, может быть мнимой: «Не бывает познания без любви». Когда в драме Лессинга дух является Фаусту, этот дух выдает себя за… Аристотеля. Но разве Ермолай Варвар не предлагал дьяволу свою душу при условии, что дьявол истолкует ему термин Аристотеля «энтелехия», и не с энтелехией ли связано бессмертие человека или воскресение мертвых? Главный парадокс лессинговской драмы заключается в том, что не только дьявол являет Фаусту призрак Аристотеля, но Бог позволяет дьяволу искушать лишь призрак Фауста, и этот призрак исчезает, когда дьявол намеревается завладеть Фаустом, а сам Фауст видит все это во сне и просыпается, спасенный. У Лессинга Фауст не старик, а юноша. Вызывание духов происходит во всех версиях Фауста. Духи являются Фаусту, и Фауст являет духов, скажем, императору Карлу V. Но и в «Буре» Шекспира Просперо, законный герцог Милана, искушенный в магии, повелевает духами, вызывает образы языческих богинь Ириды, Цереры, Юноны, а, главное, ему служит дух Ариель, которого на прощание Просперо отсылает к стихиям или к элементам; и в народной книге Фауст подписывает с дьяоволом договор своей кровью, так как желает постигнуть элементы (этот мотив очень силен в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, где Фауста зовут Адриан), а когда Фауст начинает вызывать духов, среди них его посещает адский дух Ариель. Он один из семи дьявольских курфюрстов, и упоминается он в книге под названием «Доктора Фауста троекратное заклятье ада» (1407). Итак, Ариель служит Фаусту и служит герцогу Просперо, хотя Ариель Просперо – стихийный, а не адский дух, но имя одно и то же. Имя «Просперо» означает, в конце концов, то же, что имя «Фауст»: и «Prosperus» и «Faustus» – по-латыни «счастливый», «преуспевающий». Из этого можно сделать вывод, что Просперо у Шекспира – тот же Фауст, а Фауст в народных книгах – тот же Просперо, но можно сделать и другой вывод, что Фауст не один, а их несколько, хотя у них у всех есть общее, фаустическое или фаустианское. (Фаустической или фаустовской Шпенглер называет культуру Запада, из чего не следует, однако, что своих Фаустов не было на Руси.)
И у Гёте, и в народных книгах упоминается Прекрасная Елена, из-за которой пала Троя, и любовный союз Фауста с нею, заключенный при участии дьявола. Согласно народной книге, Фауст заключает этот союз в последний год срока, обозначенного в договоре с Мефистофелем. В некоторых источниках упоминается и пребывание Фауста в Москве при дворе княгини Елены Глинской. Елена Глинская была моложе своего супруга Василия III на четверть века (продолжительность фаустовского срока). Первый брак Василия III был бездетным. Четыре года не было детей и у Елены. Не Фауст ли лечил ее от бесплодия? Не отсюда ли то жуткое и причудливое, что было в личности Ивана Грозного? А что, если Прекрасной Еленой, доставшейся Фаусту и была Елена Глинская? Что, если Иван Грозный – русский Эвфорион, сын Фауста? Почему бы царю, убившему своего сына, не казнить и своего отца? Но, спрашивается, обязательно ли этому Фаусту быть немцем? Что, если то был русский Фавст?
Помню, каким странным дребезжащим смехом рассмеялся Платон Демьянович, когда я изложил ему эту версию как предположительную, разумеется.
– Ну, вы Фавстов! – воскликнул он, совсем как его дочь Кира. – Так вот почему вы выбрали для вашего доклада такую специфическую тему! Еще бы! «Фауст и Прекрасная Елена»! Но, милый мой, это не может быть научным докладом! Это роман, роман! Тогда поистине эта штука будет посильнее, чем «Фауст» Гёте!
Я подумал, что Платон Демьянович издевается надо мной, и слегка обиделся:
– Полагаете ли вы, что Фавстов не может написать научного исследования о русском Фаусте, Платон Демьянович?
– Напротив, милый мой, напротив! Именно этим вам и стоило бы заняться. Или вы полагаете, что роман – обязательно нечто низшее по сравнению с научным исследованием? Не советую вам руководствоваться идеями Платона в этом вопросе. Вспомните лучше Аристотеля, более близкого к вашей теме по вашим же данным. Помните, что Аристотель говорил о различии между историком и поэтом: «Различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы быть». Но откуда нам, вообще, знать, что было? Единственное, что мы знаем: было то, что могло бы быть. «Поэтому, – как говорит Аристотель, – поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном». Отсюда и скептицизм Шопенгауэра в отношении истории. А роман по преимуществу поэтичен и потому более философичен. О Граале мы узнаем из романов, а не из исторических исследований.
Я сразу понял, о каких моих данных говорит Платон Демьянович. В одной из версий Фауст утверждает, что, если бы все труды Платона и Аристотеля были утрачены, он восстановил бы их своим гением в еще большей чистоте, как израилит Ездра восстановил разрушенный Иерусалимский храм. Кстати, в каббале, если не ошибаюсь, имя Ариель означает не духа воздуха, как у Шекспира, и не адского духа, как в «Заклятии ада», приписанном доктору Фаусту. «Ариель» в каббале значит «Лев Божий» («Лев из колена Иудина»?).
Сколько проблем в шутку обозначил Платон Демьянович! Едва ли не главной проблемой при издании моего «Русского Фауста» был вопрос, что это: роман или научное исследование? Если роман, то в нем слишком много реакционной мистики, если научное исследование, то оно недостаточно документировано, а я боюсь, что такие же проблемы возникнут и с биографией Чудотворцева, даже если она будет документирована лучше.
После того разговора с Платоном Демьяновичем книга о Фавсте окончательно переплелась для меня с книгой о Чудотворцеве. Одну книгу я уже не представлял себе без другой, со временем я все более склоняюсь к мысли, что это одна и та же книга. Мой предположительный доклад перерос в обширное исследование о разных версиях Фауста, и нашлось издательство, которое было не прочь такое исследование издать. Другое издательство предлагало мне написать популярную биографию Фауста, что, несомненно, упрочило бы мое материальное положение и мою репутацию писателя, но мое намерение написать «Русского Фауста» настораживало издателей, вызывало скептические улыбки или откровенное, довольно примитивное издевательство: «Значит, Россия – не только родина слонов, но и родина Фауста». Таких интеллектуалов раздражало, что фаустовская культура приписывается России, к тому же я с европейскими материалами в руках доказывал: фаустовский или фаустический дух задолго до Шпенглера означал стремление мыслить первоэлементы, то есть ими овладеть, сочетая две апостольские заповеди: «Духа не угашайте» (апостол Павел) и «Испытывайте духов» (Иоанн Богослов), правда, фаустовский дух заходил слишком далеко в испытании духов. И Парацельс, например (еще один Фауст), прямо говорил, что принудил бы самого дьявола служить себе, если бы мог, ибо не видит греха в том, чтобы дьявол служил добру и сама Церковь заклинает дьявола, чтобы изгнать его. Здесь-то и кроется главная проблема Фауста, его оправдание или осуждение: заклял ли Фауст адских духов троекратно, чтобы они служили ему в целях, быть может, более благих, или Фауст вступил в договор с адскими духами, отрекся от Бога, и тогда он заклят адскими духами, то есть проклят. В этой проблеме – существо Фауста, кто бы он ни был, и на Руси вместе с Фавстом ее разрешал Иван Грозный (Псевдо-Фауст, Анти-Фауст или Фауст на троне, с позволения сказать), отрубая Фавсту голову не для того ли, чтобы выявить, кто из них истинный Фауст.
Итак, я предположил, что Фауст, принятый в Москве при дворе Прекрасной Елены Глинской, и есть Фавст, обезглавленный за полгода до смерти Ивана Грозного. Сам я был совершенно уверен, что этот Фавст – русский, чему, как ни странно, нашлись доказательства при обстоятельствах столь же странных. Главным доказательством для меня самого была моя собственная фамилия и мое существование, хотя я понимал, что для других это не доказательство, но как для кого. Оказалось, что материалов, подтверждающих мою версию, не так уж мало, но они имеют свойство то появляться, то исчезать, как подземная река Алфей, текущая из Аркадии. Так, в библиотеках или архивах мне могли показать редкую книгу или рукопись, где упоминался Фавст, а во второй раз этого материала получить было невозможно, и ни в каких картотеках он даже не числился, просто пылился столетиями где-нибудь в уголке, а стоило мне взглянуть на него, как он исчезал бесследно, так что не только мне, но и сотруднику архива приходила в голову мысль, не во сне ли нам пригрезилось то, что мы недавно держали в руках, и подобным грезам на одиноких прогулках по коридорам книгохранилищ были подвержены и сотрудники издательства, вздумавшие меня проверить, так что «Русский Фауст» в конце концов вышел в свет, снабженный осмотрительным подзаголовком: роман-исследование.
Во многих источниках встречалось само имя «Фавст». С давних времен известно было заклинание: «Фавсте, Фавсте, принеси нам счастье», что соответствовало смыслу имени «Фавст». Особенно выразительно это звучало в диалектах, где выговаривали: «Хвавсте…» «Хвавст», естественно, переосмысливался в «Хвост», и тогда говорили: «Хвосте, Хвосте, приходи к нам в гости». Подобным образом в Белоруссии закликают дзядов. Хвост при этом понимался как нечто ведовское, но не ведьмовское, как нечто сопутствующее и неотъемлемое: где мы, там и наш хвост (Фавст). Я бы даже отважился сказать, что имя Фавст, Хвавст, Хвост кое-где на Руси и среди восточных славян употребляется синонимично восточному Хызру, а Хызр временами разительно напоминает Фавста. Даже зеленый цвет Фавсту сопутствует, хотя ходит Фавст в белой хламиде или в белой овчине (милоти), но у него очень часто охапка пахучих, целебных трав или ветвей, а его длинные седые волосы перевязаны плетеницей из хмеля. Он приносит и цветы, когда пожелает.
Так, в образе русского Фавста проступают черты Яр-Хмеля, Ярилы или Ивана Купалы. Купальское в образе Фавста подтверждается и тем, что Фавст связан с водой или с водной стихией. Так, в ответ на заклинание «Фавсте, Фавсте, выйди нам на счастье!» старец в белой хламиде с длинными белыми волосами и бородой выходит в Косине из Святого озера. Это озеро, находящееся на самом краю Москвы, сочетается с двумя другими озерами Белым и Черным. Святое озеро славится чудотворной иконой Божьей Матери, и само по себе оно странное и необычное. Начать с того, что этого, в сущности, московского озера никто не видел (впервые его увидели и сфотографировали только с вертолета), и к нему невозможно подойти, так как озеро окружено болотом, настоящей трясиной, где буквально некуда ступить, но само озеро нисколько не заболочено: вода в нем кристально чистая, поистине ключевая. Повторяю, среди высоких болотных трав виден лишь самый краешек озера, и у самого своего берега оно достигает 10–15 метров в глубину. А подальше от берега глубина озера превышает 30 метров. На дне его, говорят, остались деревья, и среди этих деревьев церковь, ушедшая на дно, когда воину Вуколу явилась над озером Пречистая Дева. Исцелился Вукол, то ли больной, то ли раненый, в лесном скиту, где подвизался некий святой старец, чье имя доселе неведомо (Иоанн? Фавст?). До того как больной или раненый Вукол достиг скита, он отличался отвагой и свирепостью в бою, о чем говорит само его имя: Вукол – уподобляющийся волку Вукол по благословению старца поселился на лесистом холме (теперь это Боровицкий холм в Кремлевских стенах), но каждое воскресение ходил к старцу, совершавшему Божественную литургию в своем скиту Холм, на котором жил Вукол, кающийся волк, омывался некой рекой. Именно Вуколу, бывшему волку, в сонном видении явлено было грядущее падение Киева. И с Боровицкого холма неведомый старец указал Вуколу на реку, омывающую холм, и рек: «Сок вам!» А что это, как не Москва? Когда над скитской церковью неведомого старца сомкнулись хрустальные воды Святого озера, старец из озера вышел, указал на него и произнес: «Ось икон», а вместо этого говорят «Косино», как будто ось икон в последние времена покосилась. И действительно, зеркало озера совершенно круглое, и у него должна быть ось. Озеро, повторяю, невидимо, ибо к нему не подойдешь: трясина не пускает. Таков московский Китеж, и, говорят, под водой и под землей озеро сообщается с озером Светлый Яр в Заволжье, где таится невидимый град Китеж. Из этого-то озера и выходит старец с белыми власами и белой бородой, облаченный в белую хламиду. Его давно уже не окликают: «Фавсте, Фавсте», но это имя осталось в родовом имени «Фавстов»; имя «Фавст», быть может, и всегда было родовым.
Вукол, со своим кровопролитным прошлым уподоблявшийся хищному волку, тоже оставил след в окрестностях. «Ковала мочь», – сказал некто, и вышла «Мочаловка». Но в Мочаловке проступает и другая зловещая анаграмма: «Мочаловка – моча волка». В новейшее время Мочаловка приобрела репутацию преступной слободки, где разрастались «малины», и впрямь имевшиеся в Мочаловке, даже по-своему не чуждые духовной жизни с культом Есенина (см. «Будущий год», глава «Сестра и друг»). Но почву для преступности подготовила именно Мочаловка как «моча волка». Ибо в этих местах с давнишних времен свирепствовали волки-оборотни. Они-то и были настоящими преступниками, завсегдатаями мочаловских «малин». В новейшие времена они сами не всегда знали, что в них волчья кровь (моча волка), но тем кровожаднее и коварнее они от этого становились (см. там же главу «Эра волка»), и не было на них управы, кроме лесного старца, но тот же лесной старец под сенью лип, где находится Софьин сад и где играет иногда на открытом воздухе театр «Красная Горка», осмотрелся однажды, указал руками на все четыре стороны и произнес: «Пир дорог!» – что и означает «пригород». Кто был этот старец: Фавст? Иоанн Громов? А вдруг новый Платон Чудотворцев?
В этом пире дорог, в пригороде Третьего Рима я был гостем-уроженцем, не из самых почетных, зато коренным. В шестидесятые годы я постоянно жил в домишке, опустевшем после смерти тети-мамаши. Мои отношения с Кирой разлаживались то и дело, потом вроде налаживались, как ей казалось, но мне от этого не было легче. Я предпочитал приезжать на Арбат из Мочаловки и возвращаться туда, ссылаясь на то, что у меня работа (переводческая), других моих работ Кира не признавала или делала вид, что не признает. Сама Кира после института сразу же устроилась в Институт национально-освободительных движений, сперва переводчицей, потом научным сотрудником, начала работать над диссертацией (что-то об африканском социализме по Леопольду Сенгору или о негритюде), но диссертацию так и не защитила. Главным на работе для нее было общение, нескончаемые разговоры о демократическом социализме в коридорах, за чашкой кофе (интересно было бы подсчитать, сколько этих чашек в день выпивалось и сколько сигарет выкуривалось; для меня демократический социализм – до сих пор запах черного кофе в дыму сигарет). То же самое продолжалось и дома в наших (?) комнатах, включая комнату Полюса. Сюда приходили барды; однажды Кира попыталась устроить у себя в квартире выставку художников-нонконформистов, но этому воспротивилась Клавиша, яростно защищающая покой Платона Демьяновича, и Кире пришлось отступить. Тем более возмущали Киру мои занятия чудотворцевским мракобесием, за которым кроется обыкновенный сталинизм, как она с намеком выражалась после появления фильма «Обыкновенный фашизм». О Чудотворцеве разрешалось говорить в Кириных апартаментах лишь как о жертве сталинских репрессий, хотя шаркающие шаги и диктующий голос Платона Демьяновича можно было расслышать за стеной, когда прерывалось гитарное бренчанье очередного барда. А когда к чудотворцевщине в моих занятиях присоединилась еще и фавстовщина, Кира просто рвала и метала, издеваясь над этим опусом: «Фавстов о Фавсте, или Потомок Фауста», – назвала она мою будущую книгу уверенная, что такая книга не будет напечатана; выход этой книги в свет она восприняла как личную обиду При этом что-то втайне импонировало ей в моих занятиях Фавстовым и новым Платоном, и Кира, может быть, даже поддержала бы меня, если бы в моих трудах не давала себя знать установка на Клавишу, как яростно шептала Кира иногда по ночам.
После смерти Платона Демьяновича кое-что сразу же изменилось. Во-первых, осенью 1972 году вышло «Бытие имени» на французском языке (полный, не всегда удачный, но весьма добросовестный перевод). Во-вторых, Кира узнала о существовании во Франции (и в Европе) некоего таинственного или тайного общества «Verdor», изучающего наследие Чудотворцева в связи с проблемой физического бессмертия и технического воскрешения. Я спросил было в шутку, не означает ли «Verdor» «золотого червя» (le ver d'or), но потом я узнал, что «Verdor» восходит все к тому же monsieur Vedro и должно пониматься как «зеленое золото» – «vert d'or». В структуре общества просматривалось ответвление элементариев; вполне органичен был их интерес и к новому Платону, и к Фавсту, чего Кира не могла не признать. Наконец, в-третьих, Адик Луцкий получил разрешение эмигрировать в Америку и перед отъездом формально развелся наконец с Кирой. Кира сохранила фамилию Луцкая (лишь бы не Чудотворцева) и могла бы стать полной хозяйкой Совиной дачи (уезжая, Адик уступил бы ей свою подмосковную недвижимость), но она категорически настояла, чтобы дача осталась за Адиком. Адик по-своему воспользовался Кириным великодушием, предоставив дачу в полное распоряжение Клавдии, которой после смерти Платона Демьяновича буквально негде было преклонить голову. Кира была задета, но приняла решение Адика как должное. По-настоящему Кира осиротела в 1965 году, когда уехала во Францию и не вернулась провозвестница коммунистического альбигойства Антонина Духова (Антуанетта Луцкая де Мервей). Я уже упоминал, что Антонина умерла во Франции в 1968 году, пятидесяти трех лет от роду, успев подписать протест против советского вторжения в Чехословакию. Думаю, что ближе Антонины у Киры никого на свете не было, но она крепилась и не подавала виду, что одинока. Правда, после развода с Адиком она стала особенным образом смотреть на меня и многозначительно молчать при наших нечастых встречах. Не ждала ли она, что теперь я сделаю ей предложение? Но я сделал предложение не ей.
Благопристойно выждав, когда после смерти Платона Демьяновича пройдет год, я собрался с духом и предложил Клавдии стать моей женой. Помню вопросительно-испытующий взгляд, которым она мне ответила. Потом я неоднократно чувствовал на себе этот взгляд, уверившись, что так она смотрела на меня и раньше, просто я еще не научился придавать значение этому взгляду.
– А вы разве не знаете, что я замужем? – просто, без малейшего намека на заднюю мысль спросила Клавдия.
Я не понял, что она имеет в виду и судорожно копался в мыслях, пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. При всей своей внешней невозмутимости Клавдия, во-видимому, втайне наслаждалась моей растерянностью.
– Неужели и вы не верите, что мой муж – Платон Демьянович Чудотворцев? – произнесла она с внезапной горечью.
Я не мог ответить: «Верю!», – ибо что же значило мое предложение, если я верю? Но сказать ей: «Не верю!» – я тоже не мог. Про себя я подумал, что такое замужество не следует понимать слишком буквально и означает оно лишь верность усопшему, но Клавдия не позволила мне так думать:
– Или вы тоже считаете, что Платон Демьянович умер? Уверяю вас, он жив, и мы с ним работаем, как работали до сих пор.
Мне оставалось либо заподозрить психическое здоровье Клавдии, а этого я ни за что не хотел, либо принять сказанное все-таки за взвешенное иносказание, на что я и решился в конце концов. Но не скрою: в глубине души у меня шевельнулось что-то вроде понимания, более глубокого, чем хотелось бы мне самому, как будто я предвидел ответ Клавдии и был бы разочарован, если бы она ответила мне по-другому.
Наш разговор не прошел бесследно. Клавдия была удовлетворена моей реакцией и как будто даже по-женски благодарна за мое предложение, которое должна была отклонить. Разговор этот сблизил нас. Между Клавдией и мною что-то выяснилось.
В то время Клавдия начала трогательно заботиться обо мне, часто заходила ко мне и даже наводила чистоту в доме, напоминая тетушку-бабушку, вдруг бросавшуюся прибираться к приезду Веточки Горицветовой. Я же думал, на что Клавдия живет, хотя она упорно отказывалась говорить со мной на эти темы. Насколько мне известно, она сдавала комнаты на даче № 7, но эти деньги должны были уходить на помержание дачи в жилом состоянии, чтобы, по крайней мере, крыша не текла. Давала Клавдия и уроки иностранных языков (немецкого и французского), но спрос-то был тогда на английский язык. Девочки ходили к ней заниматься музыкой; их не могло быть много, поскольку известно было, что Клавдия «ничего не кончила», но она была ученицей Марианны Буниной, и одна или две ее ученицы отличились впоследствии на международных конкурсах.
Тогда уже вовсю полыхал спор между Кирой и Клавдией из-за чудотворцевского архива. В распоряжении Киры были старые работы Платона Демьяновича, опубликованные и неопубликованные, а когда возник спрос на его работы последних пятнадцати лет, оказалось, что все они в распоряжении Клавдии, и без Клавдии их не подготовить к печати. При этом законной наследницей была одна Кира (Полюс пережил отца на два года и довольствовался тем, что перепадало ему от Киры). Кира попыталась сама подготавливать отцовские рукописи к печати, но ей не хватало ни навыка, ни усидчивости, и приходилось делиться с Клавдией гонорарами, чтобы та могла работать. Но конфликт между ними вскоре опять обострился. Кира согласилась на сокращения и даже на изменения в книге Чудотворцева «Государство Платона». Либерал-редактор оказался единомышленником Киры в стремлении избавить Чудотворцева от чудотворцевщины. В ответ на это Клавдия выпустила в швейцарском издательстве полный текст книги, подвергая себя опасности репрессий, тем более что у нее не было ни московской прописки, ни официальной работы. Кира пришла в ярость, но демократическая социалистка и диссидентка не решилась апеллировать к властям, а власти почему-то закрывали глаза на происходящее, не решаясь трогать даже мертвого Чудотворцева и связанное (связанную) с ним. Но в Советской России невозможен был выход в свет книги под названием «Оправдание зла», когда и «Оправдание добра» Владимира Соловьева было под запретом, так что тоталитарная идеология, разоблачаемая Кирой в тесном кругу единомышленников, на самом деле защищала ее интересы. Клавдия смогла издавать новые работы Чудотворцева, доводившие Киру до бешенства, лишь в конце восьмидесятых – в начале девяностых годов, когда я начал писать эту книгу.
Я написал, что Клавдия одно время бывала у меня и даже чуть ли не пыталась вести мое хозяйство со своей немецкой аккуратностью, но посещения Клавдии прекратились, когда она застала у меня Клер.
Я называл ее Клер с тех пор, как давал ей уроки французского языка, и это имя пристало к ней, так что даже родной дед не называл ее иначе. Вообще же ее звали Калерия, Калерия Даниловна, хотя она должна была бы зваться Дарвиновной; ее мать Алла Параскевина (лишь после ее смерти я узнал, что ее настоящее имя Каллиста) вышла замуж за человека по имени Дарвин Петрович Мастерков. Алла и Дарвин погибли в автомобильной катастрофе, когда Клер едва исполнилось три года. Малышка Лера (так ее тогда звали) ехала с ними. В больнице пришли к выводу, что она тоже умерла, и ее тельце выдали деду Николаю Филаретовичу Параскевину, известному зубному врачу (у него в дипломе было написано: врач в области головы). И произошло нечто вроде чуда: у деда девочка ожила. Переломы срослись. К семи годам она уже ходила и говорила, хотя речь ее была несколько затруднена. Ma tante Marie навещала ее и дала ей первые уроки французского языка, чтобы развить ее речь. Незадолго до смерти тетушка-бабушка строго-настрого наказала мне эти уроки продолжать. Я продолжал их с перерывами, ибо девочка оказалась не очень способной к языкам. По настоянию Николая Филаретовича я пытался обучать Клер немецкому, но также без особых результатов. Может быть, мы занимались недостаточно регулярно, и занятия наши прерывались на годы, возобновляясь периодически, время от времени. Языки так не учат. Клер представлялась мне заурядной девочкой. В школе она тоже училась посредственно, не проявляя особой склонности ни к одному предмету. Окончив школу, Клер даже не пыталась поступить в институт, а выучилась на медсестру и пошла работать в Реацедос. Реацедосом сокращенно назывался Реанимационный центр доктора Сапса. В такой центр была переоборудована больница, куда привезли Клер после автомобильной катастрофы. Впоследствии на основе Реацедоса был создан Трансцедос (Трансплантационный центр доктора Сапса, где Клер работала в регистратуре). Тогда-то Клер и выразила желание брать у меня уроки английского языка, так как в Реацедос прибывали пациенты из-за границы, их становилось все больше, и без английского языка трудно было сохранить рабочее место, которым Клер дорожила. Теперь уже не я ходил к ней на параскевинскую дачу, а она заходила ко мне после работы. Английский язык давался Клер с трудом; нужны были все новые и новые уроки, чтобы она его не забывала, а хотя бы элементарное знание английского языка требовалось ей в повседневной работе. Наши уроки затягивались, и Клер постепенно начала вести мое хозяйство. Взыскательная аккуратность Клавдии не была ей свойственна, зато она готовила, стирала, мыла полы с неподдельным увлечением, как будто играла в куклы. Казалось, у нее было одно призвание – домоводство. (Я написал это невольно и вздрогнул: буквально то же самое говорила та tante Marie о моей матушке Веточке Горицветовой (Фавстовой). И у Клер были светло-каштановые волосы (винно-ореховые, как у Веточки?). Боюсь, не подумала бы тетушка-бабушка, будь она жива, что с приходом Клер вернулась Веточка Горицветова и теперь сама прибирает комнату для себя, как прибирала эту комнату для нее до самой своей смерти ma tante Marie.
Мне совестно признаться теперь в том, что я тогда не придавал значения хлопотам Клер, вернее, принимал их как должно е, настолько я привык, что в доме кто-то хлопочет; наоборот, пустота в доме казалась мне временной, противоестественной, но я сам ничего не делал для того, чтобы как-то заполнить эту пустоту, дескать, все образуется. Так все и образовалось; теперь-то я знаю, к чему это привело, но всему свой черед. Я был слишком занят тогда моими изысканиями по Фавсту, скитался по московским библиотекам и музеям. Наведывался в подмосковные усадьбы, упрашивал показать мне ту или иную редкую книгу, а то и рукопись, и мне, как правило, шли навстречу, хотя у меня не было ни научной степени, ни каких-либо внушительных документов. По-видимому, фамилия Фавстов что-то сохранила от магического воздействия имени Фавст, и, надеюсь, я не слишком злоупотреблял этим воздействием. Клер прибиралась у меня в доме в мое отсутствие. Она починила тетушкину пишущую машинку и перепечатывала мои выписки и мою пока еще неготовую рукопись. А я по крохам собирал скудные исторические сведения о Фавсте. Задача осложнялась тем, что эти сведения приходилось принимать на веру при всей их легендарности. Вообразите себе невероятность, засвидетельствованную документально. С такими-то сведениями и приходилось работать мне. Было бы проще признать, что я занимаюсь легендой о Фавсте. Я же уверился в том, что это предание или история.
Фавст появляется в Москве при дворе Василия Третьего. Появление его совпадает с женитьбой князя Василия на Елене Глинской, но из этого не следует, что Фавст принадлежал к литовскому окружению Елены. Судя по всему, он родился на Руси, но установить точную дату его рождения мне так и не удалось (где-то между 1501 и 1505 годами). Складывается впечатление, что ко двору московского князя он откуда-то приехал, возможно, все-таки с Запада; хотя невозможно установить, как он туда попал, не исключено, что он учился в западных университетах (в Болонском или в Феррарском, где изучал медицину Парацельс). Так или иначе, при дворе он сразу прославился как врач, вернее, как знахарь, ибо он не столько лечил, сколько исцелял. Фавст был великим знатоком целебных трав, которые вряд ли мог изучить в западных университетах. Он умел находить свои травы в подмосковных лесах. В связи с Фавстом упоминают и Адамову голову, и тирлич, и сон-траву. Сведения об этих колдовских травах действительно встречаются в польских книгах, начавших проникать на Русь как раз при Елене Глинской и особенно распространившихся при самозванцах. Но Фавст собирал самые обыкновенные травы, иной раз даже на городских пустырях, излечивая лопухами и крапивой различнейшие болезни. От Фавста, говорят, идет известный на Руси обычай предохраняться от черной немочи копытом лося: «землю ранней весной целовать не губами, копытом». Из рогов лося Фавст варил снадобье, излечивающее от смертельных воспалений. Упоминают особую приверженность Фавста к лосю, чуть ли не родство с ним вплоть до смутных толков о том, что Фавст иногда оборачивался лосем. Но ко всем целебным снадобьям, которые приготовлял Фавст, он прибавлял нечто, составлявшее суть его лекарского искусства. Это нечто, несомненно, происходило от пчел. Прежде всего, Фавст лечил медом, но мед у него был какой-то особенный. Если производить слово «Мочаловка» от мочала, на месте нынешнего поселка должны были быть обширные липовые леса. В этих лесах Фавст находил таинственные борти, чей мед позволял оживлять мертвых младенцев, если им вовремя смазать этим медом губы. А мочалом Фавст перевязывал раны и гнойные язвы, заживляя их. Немалое значение при этом имело само прикосновение Фавста. Возвращаясь к пчелам, Фавст, кроме меда, получал от них и другие целебные дары. Каждая пчела готова была поделиться с ним своим цветочным взятком, а пчелиной кашицей Фавст прикармливал чахлых младенцев, так что из них вырастали могучие воины. Извлекал Фавст из ульев и маткино млеко, таинственный секрет, вырабатываемый пчелиной маткой, ради которого каждая пчела из данного роя жертвует собой, так как иначе не может жить. Этим секретом Фавсту случалось воскрешать если не умерших, то обмерших или обмирающих. Самого Фавста пчелы никогда не кусали, но мертвые или умершие оживали иногда, когда их кусали Фавстовы пчелы, что современная медицина уподобила бы инъекциям. Как сказано, Фавст лечил бесплодие, и не от его ли снадобий забеременела первая супруга князя Василия Третьего, забеременела, да поздно: она уже была насильно пострижена в монахини за бесплодие. Но и Елена Глинская, говорят, забеременела не без участия Фавста, и Бог весть, что это было за участие.
Когда бы я ни вернулся домой, меня ожидала прибранная комната, приготовленный обед или ужин, перепечатанные страницы моей рукописи, а нередко и сама Клер. У нее давно уже был свой ключ от моего дома. Мне определенно не хватало ее, когда она отсутствовала, и однажды перед тем, как проститься с ней, я не удержался и сказал не совсем всерьез, что, если бы она была моей женой, и она ответила мне: «да!» с такой непререкаемой готовностью, что я не мог взять своих слов назад. Право же, я не ожидал такого решительного «да» и сказал то, что я сказал, повторяю, не совсем всерьез, если не просто в шутку: как-никак я был старше нее почти на двадцать лет и напомнил ей об этом.
– Еще неизвестно, кто моложе, – загадочно ответила она, потупив свои сумеречные глаза (неловко назвать их серыми).
Не могу не упомянуть, кого она мне напомнила, и через это тоже надо было переступить, и не перед этим ли я не устоял тогда, как и прежде.
Мне предстояло сдавать экзамены в институт, а у меня разболелись зубы, и ma tante Marie повела меня к своему хорошему знакомому, записному мочаловскому дантисту Николаю Филаретовичу Параскевину, предпочитавшему называть себя «врач в области головы». Он славился своим умением удалять зубы без боли, как было написано на вывеске, красовавшейся на его калитке. Николай Филаретович действительно удалял зубы без боли, что приписывалось особым анестезирующим снадобьям, а к этим снадобьям будто бы имел какое-то отношение кухонный мужик Николая Филаретовича, настоящий богатырь огромного роста, седовласый, с раскидистой белой бородой, в бороду вроде бы запутались лесные цветы, так что, казалось, вокруг нее всегда жужжат пчелы. И в приемной Николая Филаретовича пахло не лекарственной химией, а цветами, травами, лесной свежестью, и запах этот не выветривался даже зимой. Может быть, его поддерживала елка, наряженная в приемной к Рождеству а не к Новому году, а может быть, лесное благоухание исходило от золотистых веников, которыми седобородый богатырь мел полы. Мне кухонный мужик Параскевина кого-то напоминал, я был практически уверен, что это он еще недавно продавал гриб чагу вместе с целебными травами на мочаловском рынке. Но не он ли навещал нас, когда я был еще маленьким, принося тете Маше на именины букетик подснежников и время от времени медовые соты? Неужели ma tante Marie называла «князюшка Муравушка»… кухонного мужика? Впрочем, чего не бывает при советской власти? Николай Филаретович окликал его: «Вавка!» – как мне послышалось. «Безголовый черт!» – крикнул однажды на весь дом, не находя какого-то инструмента в своей зубодерне, «врач в области головы». Но когда тетушка-бабушка привела меня к Параскевиным в первый раз, нас встретил именно кухонный мужик, церемонно раскланялся с ней и что-то пробормотал. Я ушам своим не поверил. «Permettez moi, princesse, soigner ce plantard docile», – донеслось до меня. Слишком уж не вязались эти куртуазные французские слова с дремучей бородой. Я понял, что «ce plantard docile» («податливый отпрыск») – я, и обо мне просит разрешения позаботиться кухонный мужик Параскевина. Ma tante Marie только любезно кивнула ему в ответ. Вскоре я уже сидел в зубоврачебном кресле. Старик Параскевин осмотрел мои зубы и сказал, что один-придется удалять. «Моя дочь, молодой специалист, это сделает лучше, чем я», – сказал Николай Филаретович. Не скрою, что я похолодел от страха. «Неужели вы так меня боитесь? – раздался мягкий женский голос, жеманно растягивающий гласные. – А один мальчик, мой маленький поклонник, спросил меня недавно, прочитав вывеску: «Скажите, Алла Николаевна, это фамилия у вас такая: „Безболи“»? Ко мне бесшумно приблизилась девушка или совсем юная женщина. Она нисколько не походила на своего приземистого пузатого отца. Тоненькая, стройная, пышные каштановые косы туго обмотаны вокруг миниатюрной головки. Вся она походила на туго натянутую проволочку, и от нее исходил ток. О ней говорили в поселке, что она очень легкомысленна, что у нее много поклонников и перед ней трудно устоять. Я взглянул на ее маленькие ручки. Неужели они способны рвать зубы? Но она мне уже сделала обезболивающий укол (во рту запахло медом, а не медицинской химией), и через несколько минут зуб был вырван действительно без боли, что с удивленным облегчением я вынужден был признать. «Видите, – улыбнулась она, – скажете, по знакомству я рву зубы вместе с головой?.. Надеюсь, вы больше не боитесь меня? Зайдите ко мне послезавтра вечером, я взгляну, как заживает у вас лунка». Лунка заживала хорошо, и врачиха, бросив на меня быстрый взгляд, вдруг предложила полувопросительно: «Пойдем погуляем…» Я подумал, не на знаменитую ли мочаловскую танцплощадку она меня приглашает. Место славилось на всю Московскую область, хотя слава у него была недобрая. Танцплощадкой считалась прогалина между старыми липами, примыкавшая к Софьину саду. Иногда на этой прогалине играл театр «Красная Горка», обычно же там просто собиралась молодежь, приносили патефон и танцевали. Место это имело другое, более фамильярное название «Пятачок». К танцующим нередко присоединялись блатные, с которыми у меня были свои отношения. Говорят, на танцплощадке вопреки всем запретам своего строгого отца царила Алла Параскевина. Лишь в последнее время, окончив стоматологический институт, она перестала туда ходить. В тот вечер Алла повела меня в противоположном направлении к отлогому спуску. Внизу совсем недалеко от параскевинской (и от Совиной) дачи, крадучись, копошилась Таитянка.
Не буду еще раз вдаваться в бесконечный спор, как правильно называть ее: «Таитянка» или «Таитянка». Конечно, «Тайгянка» правильнее: она таится в сочных, высоких травах, в жирных, как-то особенно пышно цветущих бальзаминах, имея при этом свойство вообще исчезать и снова появляться. Иногда она разливалась целым озерком, среди которого возвышались старые деревья (кстати, обширное Мочаловское озеро тоже образовывалось той же Таитянкой); ниже по течению она скрывалась в мусорных торфяниках, чтобы снова пробиться на свет. Так повторялось неоднократно до впадения Таитянки в Векшу. В этих-то речках Федор Иванович Савинов и разводил, по преданию, форель, которую будто бы все еще вылавливали изредка в Таитянке, сам я не рыболов, но слышал, казалось, как она плещется, и вроде бы видел, как она выпрыгивает из воды. Удивительно, но об истоках Таитянки до сих пор спорят, как долгое время спорили об истоках Нила. В своих верховьях (громко сказано!) речка возникала из двух безымянных протоков, теряющихся в лесных болотах. Одно можно с уверенностью сказать: истоки Таитянки находятся совсем недалеко от истоков Векши, так что обе речки сливаются не только в устье Таитянки, но и в своих истоках (почти что). Обе речки текут в одном направлении, но у них как будто общее сердце, и Векшу я бы сравнил с артерией, а Таитянку с веной, как бы ни дико это звучало с медицинской точки зрения.
В тихо струящихся водах Таитянки чувствуется пульсация или напор кровяного давления, а между обеими речками расположен остров Мочаловка, и в лунные ночи мне приходила в голову сумасшедшая мысль, не из той ли же Аркадии течет наша Таитянка, тем более что старожилы помнят ее исконное название Македоница, что, впрочем, означает змею: то ли название говорило о том, что вдоль речки змеи водились (таились), то ли сама речка уподобляется извивающейся змее.
На берегу Таитянки Алла села на поваленный ствол старой ольхи и пригласила меня сесть рядом с собой. «А теперь расскажите мне о наследниках престола», – сказала она, заглянув мне в глаза.
Дело в том, что уже не первый годя втайне от тетушки-бабушки «толкал романы», как говорят блатные (они-то в основном и были моими слушателями). Полагаю, что тетушка-бабушка была осведомлена об этих моих импровизациях, но понимала, что запрещать их бесполезно: я и так скрывал от нее, чем я занимаюсь, уходя по вечерам из дома якобы гулять. Не знаю, что больше пугало ее: мое общение с блатными или то, что я им рассказываю, за что по тем временам действительно могли исключить из школы или даже посадить. Полагаю, что ma tante Marie, в свою очередь, втайне надеялась, не узнаю ли я от блатных что-нибудь о Веточке Горицветовой, что, если кто-нибудь из них встречал ее в каком-нибудь лагере. И я рассказывал странную историю с бесконечными продолжениями, соединяя в одном устном повествовании Вальтера Скотта и Дюма-отца, приписывая д'Артаньяну родство с графом д'Артуа и возводя его родословную к самому королю Артуру Три мушкетера так преданы д'Артаньяну, ибо чтут в нем священную королевскую кровь, о которой он сам не подозревает, но инстинктивно ведет себя как принц крови; государь может от него, в конце концов, произойти; поэтому три мушкетера берегут д'Артаньяна, хотя уберечь его трудно. Теперь я сопоставил бы д'Артаньяна с выходцем из священной Артании, которую исследует Олег Фомин (Мочаловка в Артанию, безусловно, входит). А тогда я, не боясь анахронизмов, незаметно отождествлял д'Артаньяна с Черным Рыцарем из романа «Айвенго», породнив их именем Пылающий Отпрыск (Plantard). Меня встревожила мысль, не читала ли Алла «Трех мушкетеров» или «Айвенго», и потому я не решился толкать р́оман, как привык это делать. «Что бы такое рассказать вам?» – осторожно спросил я. «А то, что вы обычно рассказываете», – ответила она.
Я предупредил ее, что у меня свой д'Артаньян, не совсем такой, как у Дюма, д'Артаньян – историческое лицо, он даже оставил мемуары, – добавил бы я теперь, – эти мемуары читал и пересказывал в светской беседе Виктор Гюго, подчеркивая пикантные подробности. Я начал рассказывать и увлекся, чему способствовала ее головка, зачарованно опускавшаяся мне на плечо, и упоительный ток Таитянки передавался мне через ее косы. Взошел месяц, и донеслось благоухание липового цвета, как будто это месяцем пахло. «Продолжение следует, – вдруг сказала она, что следовало сказать мне. – Ты проводишь меня?» – «Разумеется, Алла Николаевна», – промямлил я. «Просто Алла», – поправила она меня, мягко, но решительно беря меня под руку. Она распахнула передо мной калитку с вывеской «Без боли». «Ложитесь спать, Вавушка», – сказала она как ни в чем не бывало, когда нам открыл дверь седоволосый богатырь, деликатно отводя от меня глаза. Алла повела меня прямо в свою комнату и сразу принялась стелить постель. Через открытое окно пахло липовым цветом или месяцем. Я подумал, что здесь, как и на берегах Таитянки, должны были надрываться соловьи, но они замолчали совсем недавно, может быть, накануне. Я уходил под утро, и калитку за мной запирала она сама. «А можно… можно с вами еще увидеться?» – спросил я. «Приходи завтра», – ответила она, утвердительно поцеловав меня в губы. Наутро ma tante Marie ни в чем не упрекнула меня, видно, считала, что пора уже этому случиться. Ее заботило только, готовлюсь ли я как следует к экзаменам в институт. Я готовился днем, но каждый вечер шел все туда же. Алла непременно вела меня сначала на берег Таитянки, как будто именно Таитянка связывала нас. Там она просила продолжить мое повествование, и я продолжал сначала нехотя, потом увлекался. «Значит, царская кровь течет, как эта речка, незаметно, но неиссякаемо?» – спросила она меня однажды. Не помню, что я ответил, может быть, промолчал. Каждое наше свидание заканчивалось в комнате Аллы. Свидания прервались на время, пока я сдавал экзамены, но возобновились, как только я убедился, что поступил в институт. Только теперь я начал задумываться, к чему же это должно привести. Советоваться мне было не с кем. С незамужней тетушкой-бабушкой я не позволял себе говорить на такие темы. И вот однажды незадолго до рассвета у калитки я без особой уверенности спросил Аллу, не согласилась ли бы она стать моей женой. Алла засмеялась в ответ громче, чем, по-моему, следовало бы, только потом, вспоминая этот смех, я расслышал в нем горечь. «Вы мальчик, – сказала она мне на „вы“, как в первый день нашего знакомства. – Гениальный мальчик… Я же старше тебя на целых восемь лет». Не скрою, я выслушал этот ответ с облегчением, но и с обидой. До первого сентября оставались еще три-четыре вечера, но я больше не заходил к ней. А потом начался учебный год, вводный фонетический курс, когда мне пришлось подгонять под институтские стандарты мое немецкое произношение, усвоенное от тетушки-бабушки. Так незаметно пролетел сентябрь. А в первых числах октября я узнал, что Алла Николаевна Параскевина вышла замуж за своего сослуживца зубного техника Даниила Петровича Мастеркова. К свадьбе старик Параскевин подарил дочери машину. О Параскевине всегда говорили в Мочаловке, что он старик денежный. Кстати, я так и не узнал, сколько заплатила ему ma tante Marie за лечение моих зубов, но я уверен, что он взял с нее деньги непременно, несмотря на старое знакомство: когда дело доходило до денежных расчетов, Николай Филаретович не делал исключения ни для кого. Как зубной техник имея легальный доступ к золоту, он приятельствовал в свое время с Агатой Юрьевной и у самого Ильи Маркеловича Вяхирева бывал. У него водились и царские червонцы, и брюлики, и долларами он заблаговременно успел запастись. Я не видел Аллу после нашего последнего объяснения, даже зубы лечить ходил к стоматологу в общедоступную мочаловскую поликлинику. Я слышал, что у Аллы родилась дочка, что назвали ее Калерией. Алла водила машину только сама, мужа к рулю не пускала, и однажды машина сорвалась под откос, едва миновав мост, как раз там, где Таитянка впадает в Векшу…
Мы жили уже с Клер как муж и жена, а меня мучили сомнения. Я вспоминал эротическую щепетильность Лотарио в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Лотарио порвал с любимой невестой, узнав, что ее мать была его кратковременной любовницей. С другой стороны, не литературный герой, а вполне реальный человек, мой любимый поэт Вячеслав Иванов женился на Вере Шварсалон, дочери своей первой жены. Второй пример явно перевешивал. Я спросил Клер, когда мне поговорить с ее дедом насчет нашего брака. К моему удивлению, Клер воспротивилась: «Нет уж, пожалуйста, не говори с ним. Дай мне подготовить его. Я сама тебе скажу когда». Я понял Клер в том смысле, что дед против нашего брака даже не из-за разницы в возрасте (этому он не придал бы значения: и не такое бывает), но для деда Параскевина я законченный неудачник, нигде не работаю и ничего не зарабатываю. Случайные гонорары за переводы запустил, так как слишком втянулся в свои фаустовские (фавстовские) штудии.
Русского Фавста с немецким Фаустом связывало что-то, кроме имени. Допускаю, что он встречал доктора Фаустуса при дворе Елены Глинской, где тот побывал, как и Парацельс бывал в Московии по некоторым сведениям. Два Фауста должны были слиться в один образ, так что похождения одного приписывались другому. Но, по-видимому, Фавст Епифанович встречался с доктором Йоханном Фаустом и за рубежами Руси, где Фавст бывал неоднократно. По моим сведениям, Фавст знал не только греческий язык, читал, писал и говорил по-латыни, что в те времена открывало доступ к тогдашней западной учености. Очевидно, Фавст говорил по-польски (русская знать осваивала в то время этот язык), но Фавст знал также немецкий и различные романские volgare (французское, итальянское, провансальское); у меня голова кружится, когда я представляю себе Фавста, читающего Данте, Петрарку, Боккаччо и произносящего (поющего?) кансоны трубадуров, но это слишком уж невероятно, как невероятно, впрочем, и само явление Фавста на Руси. Не исключаю, что Фавст посещал Запад, выполняя некие тайные поручения посольского приказа, но и медициной заниматься ему сперва не возбранялось, а где медицина, там алхимия и другие тайные науки. Я не сразу понял, почему несколько источников сообщают: у Фавста была кобыла. Не землю же на этой кобыле он пахал, хотя почему бы и нет; сакральная вспашка земли – дело княжеское. Я предположил, что кобыла имеет какое-то отношение к воинскому снаряжению: Фавст участвовал во взятии Казани, причем как воин, а не только как лекарь. Случалось ему сталкиваться и с немецкими рыцарями; из этих столкновений он выходил победителем, чему способствовало его могучее телосложение, но также его кобыла, на чем настаивают западные источники, где пишется, разумеется, caballo. Я подумал, не связана ли кобыла с родословной Фавста, не есть ли Кобыла собственное имя мужского рода, тот Кобыла литовского происхождения, от которого ведутся знатнейшие русские фамилии (скажем, Сухово-Кобылин, опять-таки Фауст в своем роде). Но и это предположение казалось недостаточным: контекст предполагал нечто иное. И в конце концов я пришел к выводу, что фавстовская кобыла не что иное как алхимическая cabala, пишущаяся с одним «b» в отличие от иудаической каббалы. «Кобыла», действительно родственна этому «cabala» или «caballio», что выдает кентаврическую природу великого искусства (Ars magna), напоминая Китовраса (Centaurus), без него царь Соломон не мог построить храма, а, согласно древнерусскому книжнику Ефросину, Китоврас – сын Давидов, старший брат Соломона, Богозверь (судите сами, от кого в таком случае происходит Фавст и кем он является, ибо тогда его предок рожден царицей, купавшейся в море, где на нее наплыл Богозверь, но царица была сама царского рода, царевна, царь-вена, по которой течет Кровь Истинная из моря в море (сын Богозверя Моревей, де Мервей, Меровейский), a «cabala» по-русски пишется «ковала», и потому «ковала мочь» Мочаловка, негласная вотчина Фавста Меровейского, а если «князь» происходит от слова «Konung», то «Konung» происходит от слова «Kunst» («мочь») и сродни этому слову вестница Грааля Кундри. Если доктор Йоханн Фаустус хотел мыслить элементы, то Фавст ведал тайной Божьей силой в русском духе, и не ему ли принадлежит высказывание: «Нет ничего, кроме Бога», на которое ссылаются элементарии, они же фаустианцы, путающие Фавста с Фаустом.
Фавст оказал Фаусту услугу, быть может, сомнительную, но оцененную Фаустом по достоинству На семнадцатый год своего договора с Мефистофелем, то есть за семь лет до его истечения Фауст впал в уныние и прислушался к увещеваниям своего старого соседа, как повествует народная книга. А старый сосед склонял Фауста к покаянию, ибо Бог не хочет смерти грешника. Эти слова пророка Иезекииля имели обыкновение повторять русские цари, начиная с Ивана Грозного. И Фауст склонился было к расторжению договора, подумал, что еще не поздно и покаяться, но поскольку эти мысли происходили не от веры, а от уныния, уныние же есть смертный грех, адский дух воспользовался этим, напал на Фауста с новой силой и едва не оторвал ему голову (а может быть, и оторвал для острастки, насадив на прежнее место, с него станется). Казалось бы, Фаусту нечего больше терять, и ничего не могло с ним случиться страшнее того, что ему предстояло, но Фауст испугался, подчинился адскому духу, а тот заставил его написать и подписать новый договор, не во всем совпадающий с прежним. Напрашивается даже мысль, что второй договор заключал с Фаустом не тот же самый адский дух, а другой (Чудотворцев немало мог бы рассказать о том, как они чередуются). В первом договоре Фауст предается телом и душою адскому князю Востока и его посланцу Мефистофелю, за что адские духи обязуются служить ему двадцать четыре года, после чего они могут унести Фауста в свою обитель. Нет сомнений в том, что адский князь Востока – Люцифер, или Денница, но имя его не названо, зато назван по имени его посланец Мефистофель, обязанный служить Фаусту 24 года. Во втором договоре имя Мефистофеля не названо, зато назвай великий Люцифер; специально оговорено, что тело и душу Фауст предает именно ему, так что оба договора один другому не противоречат, но и не совершенно идентичны, как если бы Чудотворцеву предложили сначала договор с товарищем Мариной, а потом с товарищем Цуфилером (Чудотворцев, насколько мне известно, не подписал договора ни с тем ни с другим, а Фауст подписал). Первый договор выполняется, главным образом, во внешнем мире, где Фаусту предлагается колобродить в разных странах и в разных стихиях, выкидывая разные штуки при императорском дворе. Второй договор касается внутреннего мира Фауста, его помыслов и намерений. Так Фаусту запрещается преклонять слух к любому увещеванию, направленному на спасение его души, исходит ли такое увещевание от человека «временного или духовного». При этом именно после того, как был подписан второй договор, Фауст залучает к себе на ложе Прекрасную Елену, что совершается не только извне, но изнутри, из любви к Елене, даже если Елена – призрак, о чем догадывались уже древние; тогда и Симона-волхва сопровождал призрак, а возможно, Симон-волхв был первый, удостоившийся впоследствии магического латинского имени Faustus, то есть первый в череде Фаустов. Показать Елену студентам доктор Йоханн Фаустус мог и с помощью Мефистофеля (студенты сочли Елену скорее небесным, чем земным творением); привести это небесное творение на ложе к Фаустусу был способен лишь сам Люцифер в последний год перед окончанием срока. Но главное во втором договоре – возможность по его истечении укорачивать или продлевать жизнь доктора Фаустуса, как будет угодно Люциферу.
Такая возможность упомянута во втором договоре, но не из чего не явствует, что доктору Фаусту она представилась. Сразу же по истечении договора Фауст исчез, и в его комнате остались лишь страшные следы последней борьбы: брызги крови, выбитые зубы, глаза, вырванные из глазниц, и по всей комнате студенистые куски мозга. По-видимому, дьявол напоследок размозжил Фаусту голову, ударяя ею то в ту, то в другую стену Но с последними годами Фауста связано предание о некоем эликсире, по-своему преломившееся у Гофмана в «Эликсирах дьявола». По сведениям, которыми я располагаю, этот эликсир обладал именно свойством продлевать человеческую жизнь, что практически равнозначно бессмертию. Адский дух предложил Фаусту эликсир жизни (если это жизнь) сразу после подписания второго договора, и Фауст не преминул отведать эликсира, но потом восстал против его действия, вскоре начал тяготиться бессмертием, которое обрел, и теперь уже предпочитал монотонной длительности конец, предусмотренный договором. Странная ситуация, когда на выполнении договора настаивает будущая жертва, а не тот, кому этой жертвой предстоит завладеть. Желание Фауста пренебречь эликсиром приводит дьявола в ярость, и свидетельство этой ярости – то, что осталось от Фауста в комнате, откуда он исчез. Дьявол чувствует себя обманутым, как он обманут по Гёте. Быть может, беса бесит фаустовское пренебрежение эликсиром, которым у дьявола есть все основания гордиться. Но от действия эликсира освобождает только одно: того же эликсира должен отведать кто-нибудь другой, причем по собственной воле, с пониманием последствий, и так случилось, что Фауста от эликсира освобождает наш Фавст, опять-таки уподобившись в этом Фаусту, то есть испив эликсира.
Вспоминаются многочисленные преданья о колдунах и колдуньях, которые никак не могут умереть, пока не передадут своего колдовского искусства кому-нибудь другому. Напрашивается вопрос, жили бы они вечно или, по крайней мере, до Страшного суда, если бы желающий перенять их тайну так и не нашелся бы? Сколько таких ведунов и ведуний среди так называемых долгожителей. А может быть, живущие не одно столетие и даже не одно тысячелетие также встречаются среди людей, разными способами скрывая или маскируя свой сверхестественный (или слишком естественный) возраст? Но исторический, пусть легендарный Фауст (не гётевский) был не настолько стар, чтобы тяготиться жизнью. Что же заставило его предпочесть монотонной, но все-таки привычной продолжительности ужасный конец? Неужели жизнь в союзе с дьяволом, само общество нечистого стало внушать ему такое отвращение, что он предпочел ей доподлинный ад, лишь бы что-нибудь переменилось? Я подумал, что искушение бессмертием переживает хоть раз в жизни каждый человек, и что, если кое-кто становится в этот момент бессмертным, а потом не знает, как от этого бессмертия избавиться: одним это удается, а другим нет? Что, если сама смерть – лишь маскировка бессмертия и умирают лишь для окружающих, а не для самих себя, как раз тогда-то и начиная ощущать свое бессмертие, не всегда желательное, что хорошо знали эллины, отличая посмертное состояние тени, потерявшей память, от подлинного бессмертия богов? Рационалистическое глумление над бессмертием и вообще над потусторонним, столь характерное для рационалистического восемнадцатого века, не вызвано ли фаустовским опытом бессмертия? «Бессмертные не воскресают», – вспомнилась мне фраза Чудотворцева, сказанная моей юной тогда тетушке-бабушке после лекции «Мистерия Орфея». Чудотворцев обещал продолжить эту тему, назначив Машеньке свидание на другой день, но в ночь убили Распутина, и я не знаю, состоялось ли их свидание когда-нибудь. Очевидно, бессмертие не всегда способствует, а иногда даже противодействует воскресению мертвых.
Фавст избавляет Фауста от участи более страшной, чем та, которую сам он для себя уже избрал. Такое заключение я вправе сделать из данных, которыми я располагаю. Требуется немалое мужество для того, чтобы принять на себя бремя, невыносимое для самого Фауста. Но, спрашивается, неужели мало было вокруг Фауста желающих выпить эликсир бессмертия по легкомыслию, из любопытства или из страха смерти, столь знакомого и тем, кто впоследствии издевался над бессмертием? К самому Фавсту жаждущие эликсира слетались как мухи на мед. Не был ли Фавст просто первым встречным, которого доктор Фаустус опоил дьявольским эликсиром? Я полагаю, Фавст уже тогда знал, что делал. Избавляя Фауста от эликсира, он избавил и тех, кто по недомыслию этот эликсир мог выпить. Для их спасения Фавст рисковал собой. У меня нет никаких сведений, позволяющих заподозрить, что Фавст предложил или хотя бы позволил хоть кому-нибудь выпить эликсир. Было только одно исключение, на мое несчастье, вопреки воле Фавста или по его недосмотру Но об этом речь впереди. Ярость, с которою дьявол набрасывается на Фауста при его кончине, разрывая его тело чуть ли не в клочки, объясняется не только тем, что Фауст пренебрег ухищренным адским снадобьем. Перед смертью Фауст произносит весьма странные слова. Он говорит, что умирает как христианин одновременно добрый и дурной. Сами по себе эти слова Фауста являются нарушением договора, обязывающего его к отречению от христианства и к борьбе против него. (Воинствующие безбожники более позднего, а для нас недавнего времени по своему невежеству не знали, чем руководствуются и кем руководимы.) Фауст признает себя дурным христианином, так как тело свое он готов предоставить Сатане, но он считает себя добрым христианином, так как, пренебрегая своим телом, он кается и молит Бога спасти его душу. Не считает ли он себя добрым христианином потому, что не прельстил малых сих эликсиром, а передал его богатырю, способному противостоять демонским стреляниям?
Пусть Фавст принял эликсир из сострадания к Фаусту, чтобы добрый христианин Фауст возобладал над христианином дурным в надежде на невозможное спасение (но разве для Бога есть невозможное? «Невозможная у человѣкъ возможна суть у Бога» (Лука, 18:27); не сюда ли восходит невнятное, но неизгладимое сказание о том, что Фауст все-таки спасся?). Но Фавст руководствовался не только состраданием к Фаусту. Несомненно он был движим той жаждой знания, которая только и могла быть оправданием Фаусту, если Фауст спасся. Недаром у Фавста была кобыла-кабала. Препятствуя распространению эликсира, Фавст решил исследовать его, а главное, изготовить свой эликсир, который воздействовал бы так же, но без дьявольского содействия. Для того чтобы достигнуть этой цели, нужны были, может быть, столетия. И этими столетиями Фавст располагал с тех пор.
Житие Фавста Епифановича подтверждает: он из тех Фаустов, которые если заклинают духов, то сами не позволяют духам себя заклясть. Власть над нечистыми духами дает апостолам Христос (Марк, 6:7), так что заклятие нечистых духов само по себе не является запретным для христианина. Другое дело – договор, согласно которому Фауст сам предался дьяволу. Нет никаких указаний на то, что Фавст заключил такой договор. И все же ситуация Фавста двойственна. Эликсир, предложенный Фаусту дьяволом, Фавст все-таки выпил. Фауст избавился от эликсира с помощью Фавста, а сам Фавст? Ему оставалось уповать лишь на помощь Божию. Фавст заклинал духов, изгонял бесов, а злые языки говорили о нем, что бесы у него на побегушках, что он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского, и Фавсту ничего другого не оставалось, как напомнить им, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет и если Сатана Сатану изгоняет, как устоит царство его? (Матф., 12:24–26). На Святую Русь Фавст Епифанович возвращается, приобретя славу великого врача, не чуждого чернокнижию. И Фавст оборудует свою лабораторию в подмосковных лесах, черпая целебную силу в Святом озере, где ось икон, в Македонице-Таитянке и в прыткой Векше. Туда заводит Фавста его кобыла, и она «ковала мочь» там, где прежде была «моча волка», зараза оборотничества. Такова Мочаловка, где Фавст начал исследования, продолжавшиеся четыреста лет.
Нельзя сказать, что я совсем забросил переводы, изучая все это; кое-что я переводил от случая к случаю, выбирая по возможности то, что имело отношение к моей теме, хотя выбор был довольно ограничен: публикации на такие темы в то время не поощрялись, но гонорары время от времени я получал и все до копейки отдавал Клер, а уж она мне потом выдавала деньги на карманные расходы, сведенные мною к минимуму: в основном я тратился на транспорт в поисках нужных мне материалов, но мои поиски ограничивались окрестностями Москвы. Я убеждал себя, что наши расходы не превышают моих заработков и сносный образ жизни объясняется лишь тем, что Клер – хорошая хозяйка, хотя, честно говоря, я и тогда не мог не видеть, насколько наши расходы превышают мои жалкие заработки. Мне ничего другого не оставалось, как подавлять мои сомнения по этому поводу, иначе я бы не смог работать над «Русским Фаустом», не говоря уже об изысканиях по Чудотворцеву, но как бы я ни заглушал моих сомнений сплошной работой, в глубине души я и тогда понимал, что мы живем на зарплату Клер, да и этой зарплаты не должно было бы хватать на двоих. Оставалось думать, что единственной внучке помогает богатый дед, но возможно ли это, если дед не одобряет моих с ней… отношений? И вот однажды Клер не без торжественности вручила мне конверт. На конверте ничего не было написано, но она сказала, что ей поручено передать его мне. Я не нашел в конверте никакого письма и вынул из него лишь деньги, 150 рублей, по тем временам сумма не такая уж ничтожная, учитывая, что максимальная пенсия составляла тогда 120 рублей. «От кого это?» – удивленно спросил я. Помню, как она замялась. «От деда», – сказала она наконец, и я почувствовал, что она предпочла бы не говорить об этом дальше. Я не знал, что думать. Казалось бы, отношение Николая Филаретовича ко мне изменилось, если он предназначает эти деньги лично мне, и нам с Клер пора, так сказать, узаконить наши отношения, но как только я заводил об этом разговор, Клер настаивала на том, что дед по-прежнему категорически против. «Он этого не допустит, пока он жив, так он говорит», – повторяла она, а я находил эти слова циничными, как будто мы обречены ждать его смерти, чтобы пожениться. Тогда зачем же он передает мне деньги через внучку вместо того, чтобы просто давать деньги ей самой? Неужели он платит мне за то, что я на ней не женюсь? Я выразил намерение зайти к Николаю Филаретовичу, чтобы по меньшей мере поблагодарить его, но про себя я предполагал решительно с ним объясниться и, может быть, даже отказаться от его денег, сознавая, правда, при этом, как трудно будет нам без них жить. Или Николай Филаретович так дорожит заботами своей внучки; но весь поселок знал, что для этого у него есть, кроме кухонного мужика и ассистента, сравнительно молодая верная домработница, она же повариха и сиделка, так что внучка скорее мешает деду в его домашнем обиходе. Не платит ли он и деньги мне, чтобы Клер поменьше бывала дома? Но ему ведь уже тогда было за восемьдесят, возраст вроде бы не тот, хотя кто его знает. Или он по-прежнему считает позором брак своей внучки с литератором-неудачником, но помогает ей из жалости, так как она все еще не хочет с этим литератором порвать? Зачем тогда давать деньги этому литератору, с которым он сам и видеться-то отказывается? В конце концов, думалось мне, не вечно же это будет продолжаться, ему до девяноста недалеко… Но это продолжалось и продолжалось. Каждый месяц Клер с подчеркнутой аккуратностью вручала мне конверт с деньгами, как будто некий ритуал выполняла (так впоследствии она передавала мне квартирную плату в долларах от мадам Литли), а я вынимал те рубли из конверта и отдавал их ей же. Клер догадывалась о моих терзаниях. «Дед хочет, чтобы ты закончил свою книгу», – сказала мне она однажды. Может быть, он хочет выдать внучку за признанного все-таки автора книги, когда книга выйдет в свет? Так думать было удобно, и я остановился на этой мысли, не задаваясь даже вопросом, какой это дед передает мне деньги.
С тех пор как Фавст Епифанович воротился на Святую Русь, сняв с плеч доктора Фауста бремя бессмертия и возложив его на свои могучие плечи (не был ли Фавст среди студентов, прощающихся с Фаустом и внимающих его последнему слову накануне последней страшной ночи?). Фавсту на Руси сопутствует слух об эликсире бессмертия, который у него есть. (Кстати, уже тогда избранные понимали, что эликсир не ограничивается фиалом, где он содержится, не убывая от употребления; эликсир не обязательно пьется, но и впрыскивается, а главное, эликсир – это также рецепт его изготовления, возможного лишь при участии духов, лучше не говорить каких.) Слух этот на Руси распространяется не вслух (опять плохой каламбур, но иначе не скажешь). Этикетная или сакральная древнерусская словесность предпочла бы обойтись без самого слова «эликсир» именно потому, что это слово было ей знакомо; не лучше ли сказать «зелье», а «эликсир» или «бальзам» лишь писать, не произнося магические словеса всуе? Царь Иван Васильевич, которого скоро назовут Грозным, при всей своей склонности к удальству и озорству, нередко кровопролитному и непристойному, был охоч и до книжного учения, не чураясь и Великого Искусства, именуемого по-латыни Ars Magna. Царь был пытлив, а пытливость при неограниченной власти дает возможность ставить эксперименты, которые вызывают ужас утех, над кем они ставятся, и то, что подданным представляется террором, с точки зрения властителя, не выходит за рамки эксперимента. Фаустовское стремление мыслить элементы весьма и весьма не чуждо Ивану Грозному Тяга к элементам начинается для него с ядов (что может быть элементарнее?). Яды играют огромную роль в его личной жизни, по его мнению, а если таково мнение самодержца, значит, так оно и есть. Иван Васильевич уверен, что его первая жена Анастасия изведена ядом (не следует ли это понимать шире: если отравлена Анастасия, чье имя означает «Воскресение», не отравлено ли для царя само воскресение мертвых, и не отсюда ли странные то ли благочестивые, то ли кощунственные церковные службы, которые он совершает с опричниками?). Иван Васильевич прямо обвиняет в смерти Анастасии князя Курбского с его единомышленниками, то есть высшую русскую знать: «А и з женою вы меня про что разлучили? Только бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было». В Кроновой жертве усматривают иногда содомский грех, творимый царем с Федором Басмановым, но не соотносится ли Кронова жертва и с философским эросом Платона, прельщающим царя, когда у него отняли «юницу», сиречь Анастасию, сиречь Воскресение? Иван остро чувствует свою смертность, «адамов грех», от которого царь не избавлен: «аще бо и порфиру ношу». Скрываясь под псевдонимом Парфений Уродивый, царь обличает смрадную телесность, и ангел для него смертоносный: «Людие божии благочестнии и вся племена земьстии, егда видите смертное тело на земли повержено и вонею объято – помолитеся ко ангелу смертоносному о мне да ведет душу мою в тихое пристанище». Вполне фаустовское противопоставление: «Смертное тело на земле повержено и вонею объято» и душа, которую смертоносный ангел ведет в тихое пристанище, тело дурного христианина, душа христианина доброго. Но Иван полагал, что и вторая жена его Мария Темрюковна отравлена (в семьях Темркжовых-Темляковых и Трояновых сохранились об этом предания). Страх перед отравлением, вообще перед насильственной смертью заводит царя так далеко, что он готов просить у королевы Елизаветы Английской убежище для себя со всем своим родом. Против всего русского народа царь выдвигает обвинение в том, что этот народ никогда не любил царских предков (каких царских предков царь на самом деле имеет в виду?). В это же время Иван приближает к себе немецкого (голландского?) лекаря Елисея Бомелия, «лютого волхва». Это тоже фигура фаустовского типа, так сказать, Лжефауст, которому Мефистофель служит, потому что он сам служит Мефистофелю. Елисей Бомелий был мастером отравлений, употребляя яды против тех, кто, по мнению царя, злоумышлял против него, и неудивительно, что царь самого Елисея Бомелия велел заживо изжарить на гигантском вертеле; поджариваясь, лютый волхв назвал множество имен; подозреваю, что он выкрикнул имя Faust (на немецкий лад), что и было учтено, когда смертный приговор выносился Фавсту.
Царю Ивану угрожали и мерещились яды (страх перед ядом – не худшая ли отрава?), Фавст находил для ядов противоядия не только в снадобьях, но и во внутреннем мире царя. Такие противоядия вырабатывались в ходе бесед с глазу на глаз. Не к этим ли беседам восходит царский псевдоним Парфений Уродивый, которым подписано и «Послание неизвестному против люторов. Творение Парфения Уродивого». Парфений значит «Девственник». Так царь Иван назвал себя, вступая в четвертый брак, а Парфений Уродивый выступает против тех, кто женится после смерти жены. В этом его юродство (Уродивый – Юродивый). Не знаю, стоит ли употреблять слово «амбивалентность», когда «юродство» и точнее и шире. Владимир Карпец предлагал мне перевести имя Кретьен де Труа как Юродивый Троянец. Иван же Грозный – Юродивый Девственник, женившийся семь раз. Если не Юродивого Троянца, то другие рыцарские романы Юродивый Девственник (не Троянец ли?) тоже читывал.
«Где ли Екати темные и страшные мечты, и Трофиниева по земли играния и волшвения?» – цитирует Иван Грозный Григория Богослова в первом послании Курбскому, но цитата эта читается как собственный вопрос царя Ивана, в ней слышится его собственный голос, напоминающий тайные беседы, а в них, кроме Курбского, наверняка участвовал и Фавст Темные и страшные мечты Гекаты были сокровенной областью Фавста (не говорили ли в свое время о фавстовщине, как теперь говорят о чудотворцевщине?). Фавст знал толк и в дионисийстве: «И Дионисия и стегну болящая и без времени рождения, яко же другоицы глава прежде; и фивеем безумие, сего почитающи и Семелию моления покланяема, и макидонским юношам сгружаемым ранами имиже почитается богиня». Не из области ли тех македонских юношей, стружаемых ранами, брала свое начало Македоница, она же Таитянка? Гласы и плища и плясания не пожелает ли повторить сам царь Иван Васильевич со своими опричниками, чье прозвание «кромешники» прямо напоминает древние оргии? Но Фавсту принадлежит и магическая острота «опричник-порченик», и одной такой остроты было достаточно для смертного приговора и мучительной казни. Фавст едва ли культивировал древние оргиастические культы при царском дворе, скорее он лечил подобное подобным. Испытанным противоядием для царя была шахматная игра, в которую вовлек его Фавст. В толковании Фавста шахматы означали притчу о царе (короле) в истории. Король проигрывает, потерпев мат, когда ему некуда отступить, а когда король выигрывает, ему некуда ступить, так как игра закончена и фигуры убраны с доски. Так что государь всегда не у дел, но без него в истории делать нечего. Все в истории совершается ради государя, но король терпит мат, отрекается от престола, когда начинает действовать. Так Иван Грозный дважды терпел мат, отрекаясь от престола: в 1564 году, когда он уехал в Александровскую слободу, и в 1575 году, когда он посадил на московский престол поддельного государя Симеона Бекбулатовича, но всякий раз, отрекаясь от престола, царь начинал действовать, нарушая правила царской игры, что королю не подобает, как свидетельствуют шахматы: король правит одним своим присутствием. Отсюда предание о «праздных королях» Меровингах, чье сакральное звание было клеветнически переосмыслено: король празден, пока он не делает зла, а когда он делает зло, он больше не король. Из праздных королей в романе «Айвенго» Черный Рыцарь, «Le Noir Faineant», он же Ричард Львиное Сердце, Plantard, Пылающий Отпрыск; того же происхождения в русской литературе Илья Голубиное Сердце, тезка Ильи Муромца, хоть и Обломов.
Как известно, Иван Грозный умер за шахматной доской. Уже первое отречение от престола едва не стоило Ивану жизни. Из Александровской слободы царь вернулся тяжело больным. Приближенные не все узнавали его. В тридцать два года царь почти совершенно облысел. Диагноз его болезни затруднителен даже с точки зрения нынешней медицины. Право же, тогдашняя хворь царя походила на опасное отравление. Что же такое иначе умножение струпий телесных и душевных, на которое жалуется царь? Нет сомнений, что страх перед отравлением определяет в хворях Ивана Грозного многое: вопрос в том, вызван ли этот страх пережитым отравлением, или от страха перед отравлением происходят все его симптомы, включая смерть? От яда, вызывающего струпья телесные и душевные, требовались, как сказано, соответствующие противоядия, одним из которых, как полагал Фавст, была игра в шахматы, развлекающая и предостерегающая. Предположим, Фавст вылечил Ивана Васильевича после его возвращения из Александровской слободы эликсирами и шахматами, а через двадцать лет на царя нападает подобная же хворь, тело его пухнет, и вокруг шушукаются об отравлении, и царь при смерти расставляет шахматные фигуры; не помогут ли они ему, как помогли когда-то, не сядет ли напротив него лекарь, пользовавший царя от хвори и отравы, хоть лекарю царь велел отрубить голову полгода назад, но не для того ли отрубали ему голову, чтобы он воротился столовой на плечах, а если голова не вернулась к нему на плечи и Фавст не вернулся к царю, значит, царь так устал, что обезглавил самого себя, оставив себе голову на плечах лишь для виду.
Приговаривая Фавста к обезглавливанию, царь Иван Васильевич испытывал эликсир бессмертия, о котором наверняка слыхал не от самого ли Фавста? Умрет ли на плахе обезглавленный, если он выпил эликсир? Не прирастет ли тут же голова к его туловищу? Если не прирастет, то какой же это эликсир бессмертия? Тогда Фавст – обманщик. А если прирастет, значит, Фавст – изменник: как он смел отказать царю в этом эликсире, чтобы навсегда исцелить царя от страха отравления и от самой смерти, чтобы на престоле сидел Бессмертный.
Отношение Ивана Грозного к смерти проникнуто духом подобного фаустовского экспериментаторства. Анастасия умирает (не от яда ли), и, лишившись Воскресения, Иван испытывает смерть. Говорят, что вторую свою жену Марию Темрюковну отравил уже он сам. Если даже это легенда, она красноречивее факта. Иван берет себе третью жену, Марфу Собакину, зная, что она смертельно больна, «испорчена», но царь при этом на что-то рассчитывает, и действительно, известно, что Марфа умерла (умерла ли?), выпив некий эликсир и через 360 лет обнаружена была в гробу, бледная, но как живая, «не тронутая тленом», а поскольку муж и жена – едина плоть, не искал ли царь Иван подобного же нетления, вступая в брак с умирающей, и не эликсир ли бессмертия она выпила, только эликсир не явил по той или иной причине всей своей мощи? Четвертая жена царя на другой день после свадьбы была посажена в колымагу, запряженную дикими конями, и кони унесли колымагу в пруд, где молодая царица утонула и была съедена рыбами, которых потом подавали к царскому столу как особенно вкусных. (Получив церковное разрешение на этот именно брак, царь и назвался Юродивым Девственником.) Конец пятой царской жены точно не известен (хорошо, если это был всего лишь монастырь). Шестая жена Ивана Василиса Meлентьева исчезает при столь же загадочных обстоятельствах, настолько загадочных, что высказывалось сомнение в самом ее существовании (оно, впрочем, подтвердилось). Седьмая жена Ивана Мария Нагая, мать царевича Димитрия, который был бы самозванцем, даже если бы взошел на престол он, а не Лжедмитрий (если Лжедмитрий не был истинным Димитрием, то есть царевичем, за которого себя выдавал). Царь Иван по-своему использовал незаконность брака с Марией Нагой, сватаясь к английской королеве Елизавете (ею был очарован и английский алхимик Джон Ди (еще один Фауст), а когда Елизавета отказала Ивану, он едва не обручился с леди Марией Гастингс. «А будет королевина племянница дородна и того великого дела достойна и государь наш… свою оставя, зговорит за королевину племянницу», – писал царский посол в Лондоне. Это последнее сватовство Ивана Грозного, возможно, проливает свет на загадку его брачно-эротических исканий. Каждую из своих жен царь Иван Васильевич подвергает испытанию, которого не выдерживает ни одна из них (кроме, может быть, Анастасии-Воскресения, которую-которое у царя отнимает наглая смерть). Таинственные искания царя Ивана продолжались в жизни и в смерти его второго сына (от Анастасии) царевича Ивана. Царевич не дожил до тридцати лет, а сменил уже трех жен, вернее, их сменил ему царь-отец. Вряд ли Иван Иванович выбрал их и тем более отказался от первых двух по собственной воле. За Евдокией Сабуровой в монастырь последовала Петрова-Соловая, а третью жену царевича царь Иван Васильевич избил, когда та была беременна, так что у ней произошел выкидыш, а когда царевич попытался вступиться за жену царь убил его (смертельно ранил?) ударом посоха. Кажется, особую ярость царя вызывал будущий ребенок: не тот, не от той, и эта ярость перекинулась на собственного сына, как будто он тоже не тот, и не удается найти для него жену истинно царского рода, царь-вену, чтобы через нее передавалась Кровь Истинная. Вот что искал царь Иван в крови царских жен и, не находя, проливал ее. Царь требовал, чтобы Фавст определял, истинная ли кровь течет в очередной жене; Фавст отказывался отвечать, царь обрекал очередную женщину страшной участи и винил в этой участи Фавста. Отсюда и поиски царской невесты в Англии, где сохранились пылающие отпрыски, знатоком которых является Фавст, но Фавст и тут промолчал, так что царю не оставалось ничего другого, кроме как обезглавить Фавста.
Иван Грозный вообще испытывал влечение к отрубленным головам, потому-то и было их столько отрублено в его царствование. Отрубленной голове царь придавал особое значение. Князь Ростовский был обезглавлен в Нижнем Новгороде, а его голову царь затребовал к себе в Москву. Чтобы предостеречь князя Мстиславского от измены, царь распорядился метать ему под двор отрубленные головы. Но голова Фавста предназначалась царем для другого употребления. Иван Васильевич не очень-то верил тому что отрубленная голова Фавста прирастет к его туловищу какие бы эликсиры Фавст не пил при жизни. От эликсира должна была остаться живой голова Фавста: вот на что рассчитывал Иван Грозный. Царь слыхал о говорящей голове, почитаемой тамплиерами. Тамплиеры были разгромлены, а голова осталась. Ходил слух, что это голова Иоанна Крестителя. Но и сам царь крещен Иоанном, и у Фавста своя причастность к Предтече: где Предтеча, там поток. Слыхал царь и о бородатой голове, которую зовут Бафомет. Не означает ли это имя Отец Мудрости или Отец Понимания, но оно также означает «источник», а не от этого ли источника ведется царь-вена? Все это царь намеревался исследовать, отрубая голову Фавсту, чья отрубленная голова должна была поведать царю то, о чем Фавст молчал, и пропажу его головы царь пережил лишь на полгода.
У царя Ивана был к Фавсту главный вопрос: о себе самом. Нетрудно было понять, кого имеет в виду Курбский, когда пишет в первом же послании Ивану: «Слышах от священных писаний, хотящая от дьявола пущенна быти на род кристьянский прогубителя, от блуда занятого богоборнаго Антихриста… В закони Господне в первом писано: „Моавитин и аммонитин, и выблядок до десяти родов во церков Божию не входят…“» Если Курбский считал незаконным расторжение Васильева брака с Соломонией Сабуровой, то тем более незаконным был для него брак Василия III с Еленой Глинской, и уж совсем незаконным был отпрыск этого брака Иван Васильевич, даже если он действительно был Васильевич и на Западе не назывался бы более вежливым словом «бастард» вместо русского не совсем пристойного, хотя и церковного и потому более точного «выблядок». Кто же тогда Димитрий-царевич, даже тот настоящий, убитый в Угличе (если он был убит)? Отпрыск незаконного седьмого брака с отпрыском незаконного второго брака, и еще неизвестно, чей был тот отпрыск, что, если Фавста Меровейского, чья говорящая голова и должна была ответить царю Ивану.
Фавст Меровейский присутствовал при московском дворе не только как лекарь, и он не первый князь Меровейский, присутствующий при дворе. Но и доктор Фауст был не единственный, и даже не первый Фауст. (Первый Faustus был, как сказано, Симон Маг, тоже слывший возлюбленным Елены, она же София.) Князья Меровейские связаны кровными узами. Мы не можем сказать того же о Фаустах, хотя и к фаустовщине могла быть наследственная предрасположенность. В западных источниках упоминается еще один Фауст, Faustus Sabellicus (Сабинский? Савский?). Нашего Фавста зовут Фавст Епифанович, о Епифане Меровейском ничего не известно, кроме его отчества Савельевич. Что, если Савелий Фавст тоже родом из Руси, что, если он дед Фавста Епифановича? Не смею слишком далеко заходить в своих гипотезах, но Иван Третий был женат на Софии-грекине (Зое) Палеолог вторым браком; внука Димитрия (роковое имя для русского царевича) дед Иван III заточил в тюрьму, а наследником Ивана III стал сын от второго брака Василий III, чей сын – Иван IV Грозный (если он его сын, ибо о его матери Прекрасной Елене Глинской рассказывают разное). Цепкий, подозрительный ум Ивана Грозного не мог не усматривать во всем этом аналогий. Что, если Савелий Фавстус со своей западно-восточной образованностью и лоском был фаворитом Софии Палеолог, как внук его Фавст Епифанович очаровал Прекрасную Елену Глинскую? А тогда кем же доводится Фавст царю Ивану Васильевичу? Троюродным братом или… или отцом? А тогда как не отрубить голову Фавсту, доведшему Ивана своим молчанием до убийства сына, и не скажет ли отрубленная голова, что он, Иван, тоже пылающий отпрыск наперекор ядовитому намеку беглого Курбского?
Присутствие князей Меровейских на Москве, а до этого в Киеве и в Новгороде Великом легендарно и все же очевидно. Говорят, что князья Меровейские – Рюриковичи, но не вернее ли было бы сказать, что Рюрик – князь Меровейский? Столь же сомнительны споры о том, происходят ли князья Меровейские от франкских Меровингов или, наоборот, франкские Меровинги происходят от князей Меровейских. В определенном смысле верно и то и другое. Все дело в именах Меровей, Меровия, которые я анализирую, руководствуясь «Бытием имени» Чудотворцева. Родовое имя Меровейские иногда писалось как «Мировейские», как будто оно происходит от церковного мира, то есть от миропомазания. В более позднее время тем самым принималось или оспаривалось княжеское достоинство Меровейских, как будто к миропомазанию не может восходить княжеский род. Но гораздо отчетливее в «Меровейских» мера. Меровей – тот, кто веет мерой, отвеивает неподходящее, негожее, несуразное. Глагол «веять», родственный имени ведического бога Ваю (веды тоже веют), напоминает, как Дух Божий носился над водами, когда тьма была отделена (отвеяна) от бездны. Мера же явно соотносится с мipoм, ибо мip есть мера, а без меры хаос. Потому где мip (мера), там также мир (строй, лад, но также сообщество, согласие). Согласие меры и мipa (мир) не может устанавливаться само по себе или по закону, каков бы ни был этот закон. Такое согласие даруется лишь чудом, а чудо есть Бог, как сказал поэт, хотя Богом не может быть ничего, кроме Бога, отсюда проблематичная мудрость элементариев (начиная от Фавста Меровейского?): нет ничего, кроме Бога. Может быть, лучше сказать: без Бога нет чуда, и отсюда происходит старофранцузское «Merveille», также родовое имя, совпадающее с родом Меровейских, и это совпадение говорит о родстве князей Меровейских с Меровингами больше, чем сомнительные родословия, достоверные, по Чудотворцеву, лишь как поэтические произведения (Книга М). О Мелхиседеке, особо чтимом Святой Русью, апостол Павел пишет, что он без отца, без матери, без родословия, и не потому ли последний царь Святой Руси будет царем по чину Мелхиседекову, и не потому ли лубянские следователи так упорно выпытывали у Вениамина Яковлевича Луцкого, кто скрывается под именем Мелхиседек, царь мира, как-то связанный и с Антуанеттой де Мервей (Духовой). Похоже, следователи что-то пронюхали, так как Мелхиседек действительно присутствует в роду Меровейских де Мервей, как его невозможный, но тем более реальный родоначальник (чудо есть чудо). Говорили же, что Мелхиседек – ветхозаветный Христос до Своего рождения от Девы Марии.
Меровей – веющий море, и в его имени оно отчетливо слышится (немецкое «das Меег», «mehr» – больше, «vermehren» – умножать). Меровей зачат в море сыном Давидовым, старшим братом Соломона Китоврасом, он Конечеловек, и по-немецки же кляча «Mähre» (магическая кобыла Фавста), в то время как «Мäге» – сказание, и «Песнь о Нибелунгах» начинается строкой: «Es ist in alten mären wunders viel geseit» («в древних сказаниях много говорится о чуде», wunder – чудо, – не la merveille ли?), «Mären» – сказания, и «Mähren» – Моравия, так в совпадении «моря», «сказания» и «конечеловека» образуется Меровия, Мировия, Меровея, Русь Мiровеева, как пишет Владимир Карпец, море, в котором (которым?) зачат Меровей, – Кровь Истинная, где богозверя-конечеловека приемлет царь-вена, она же царевна, она же царица. В Крови Истинной свет, что знал Парацельс, а где Свет, там Слово, что в начале, ибо откуда же: «Да будет свет»? Слово, Свет, Имя; их единство – Кровь Истинная, и потому в ней таится Несказанное, «священная загадка».
Фавст Меровейский при дворе царя московского был безудельным князем, как и Андрей Курбский, что не могло не быть замечено Иваном Грозным. Но уделы князей Меровейских не упоминаются ни в каких источниках. Значит ли это, что князья Меровейские были захудалым, вымирающим родом? Если так, то они вымирали всегда и продолжают вымирать, когда процветающие роды уже вымерли. Удел князей Меровейских был не то что засекречен; упоминать его всуе было не принято, не принято до сих пор, ибо этим уделом была Святая Русь или Меровия, царство мира и меры, отвеивающей греховный хаос. Потому-то в русском языке и «Рим» анаграмматически совпадает с «миром», на что обратил мое внимание Платон Демьянович, когда я в первый раз увидел его воочию. Тайным царем Третьего Рима мог быть только князь Меровейский, и в этом смысле на Руси всегда был тайный царь, которого сравнивают со скрытым имамом у шиитов. Но с другой стороны, имя этого царя должно быть Иван (анаграмма слова «Вина», а где вина, там покаяние; вот почему говорят «русский Иван»: Третий Рим стоит до Страшного суда, чтобы каяться). Это наводило Ивана Грозного на мысль, вполне определенную. Курбский попрекнул его сомнительным происхождением. «Бог наш Троица, – ответил ему Иван Грозный, – Им же царие величаются». Таким образом, самодержец происходит от Бога по имени Троица, ибо Троица анаграмматически читается «То Цари». Вот о чем идет тайный спор между князем и царем. Курбский первый сослался на Троицу: «Да и ныне не мни мене молчаща ты о сем: до скончания моего буду непрестанно вопияти со слезами на тя безначальной Троице, в нея же верую и призываю в помощь херувимского владыки Матерь, надежду мою и заступницу, владычицу Богородицу и всех святых избранных божиих, и государя моего праотца князя Феодора Ростиславича, иже целокупно тело имеет, во множайших летех соблюдаемо и благоухания, паче же аромат, от гроба испущающе…» Но целокупно тело имела и усопшая жена Ивана Марфа Собакина, и не Фавстов ли эликсир сохранил ее в нетлении на 360 лет. «Ты величаешь государем своего праотца Феодора Ростиславовича, пусть святого, и жалуешься на царя Троице, а Троица и есть отец царя», – вот что, в сущности, внушает Курбскому Иван. Курбский бежал, Фавст при дворе, но что, если он остался… в роли Курбского? Не станет ли царь Иван IV вечным царем Руси, если выпьет эликсира, которого не дает ему Фавст Меровейский, злоумышляющий на царя со своим сородичем Курбским? Вот за что Фавст был обезглавлен Иваном Грозным.
Но и царь Иван Васильевич Грозный не решился совершенно искоренить род князей Меровейских, чтобы Русь не распалась без меры и мира. У Фавста были сыновья. Царь оставил их род, их кровь, и даже имя их отца, записав их не Меровейскими, но Фавстовыми. Так и повелись на Руси дворяне, о княжеском происхождении которых все знали, но предпочитали не упоминать, боясь незнамо чего. Так повторилась история Темрюковых и Темляковых. Другая ветвь Меровейских-Фавстовых утратила дворянство, вписалась в духовенство, и ее отпрыски назвались Чудотворцевыми, а это родовое прозвание как раз и переводилось на французский: De la Merveille.
Обезглавленный Фавст начал являться еще при жизни Ивана Грозного, и видели его с головой на плечах как ни в чем не бывало. Этого Фавста и заклинал перед смертью Иван Грозный шахматными фигурами, но Фавст не ответил на его немую мольбу, и царь Иван умер: король без ферзя потерпел вечный мат. Зато впоследствии не было на Руси ни одного царствования, при котором Фавст хоть раз не явился бы при дворе. По моим сведениям Екатерина II (тогда еще царевна) сама пригласила Фавста в свои интимные покои, где имела с ним еще более интимный разговор. Екатерина только что получила от императрицы Елизаветы через свою приближенную камер-фрау Чоглокову индульгенцию на супружескую измену и даже прямое предписание забеременеть от кого угодно, если это невозможно от законного супруга (будущего Петра III). Екатерина обратилась к Фавсту с вопросом, знакомым ему со времени Ивана Грозного: как зачать от Крови Истинной? При этом она кокетливо смотрела на седовласого богатыря, как бы вопрошая, на что способен он сам в свои двести с лишним лет при голове, говорят, некогда отрубленной.
– Ma medecine peut guérir la stérilité, madame, si vous êtes sterile, – ответил Фавст на неожиданно изысканном французском языке с несколько архаическим призвуком. – Mais la conception provient de Dieu[2].
– Et vous, monsieur, ne pouvez-vous pas substituer le bon Dieu dans ce cas délicat?[3] – спросила ученица французских вольнодумцев.
Фавст молча улыбнулся и дал Екатерине какие-то капли (по слухам, не столь достоверным, даже сделал ей какую-то инъекцию, как сказали бы теперь), после чего цесаревна действительно забеременела, и родился император Павел со всеми странностями своего царствования, полу Гамлет, полу Иван Грозный, к тому же гроссмейстер Мальтийского ордена, то есть иоаннитов, чей покровитель Иоанн Предтеча с отрубленной головой. Хоть Фавст и отказал Екатерине в ее конфиденциальной просьбе, он дал ей или впрыснул некое снадобье, а фавстовские снадобья чудодейственны, так как в них есть капля Истинной Крови; говорят, Фавст иногда добавлял в свои эликсиры свою собственную кровь.
В девятнадцатом веке о явлениях Фавста при дворе нет речи, хотя это не значит, что не было самих явлений, просто говорить о них стало дурным тоном: представьте себе русского шестидесятника, говорящего о живом Фаусте. В то же время учение Николая Федорова о воскрешении мертвых отмечено явным влиянием Фавста, по крайней мере, слухами о нем. Впрочем, в конце девятнадцатого – в начале двадцатого века толки о великом русском алхимике касаются скорее взрывчатых веществ, отсюда смертельное томление Раймунда Заблоцкого, тоскующего по встрече с Лесным Старцем, но взрывчатое странным образом сочетается с воскрешающим (мадам Литли и М. Vedro). Эту линию я предпочел обойти в моей книге по возможности избегая событий двадцатого века.
Сказка у меня сказывалась нескоро, как нескоро и дело делалось. Книга «Русский Фауст» вышла лишь в 1989 году. Раньше она наталкивалась на цензурные препоны, вежливо называемые редакционными или издательскими. Представляю себе, что было бы, если бы книга вышла хоть на пять лет раньше, а если на десять, а если на пятнадцать… Но тогда это была бы другая книга, ибо, пока книга лежала в редакции, я вносил в нее изменения, а от изменений проистекали новые трудности. Книга вышла слишком поздно, хотя раньше выйти не могла. В перестроечном угаре на нее не обратили внимания, и она затерялась в пестром хламе книжных развалов. Гонорар за книгу был настолько ничтожен, что о нем не стоило говорить. Меня это не особенно огорчило. Я был рад, что могу теперь всецело сосредоточиться на Чудотворцеве. Я срочно перевел с английского книгу под броским названием «Все об ангелах» и запасся кое-какими деньгами. Дело в том, что денежные поступления в конвертах, до сих пор приносимые Клер с неизменной регулярностью, вдруг прекратились. Может быть, это произошло от инфляции. Прежние сто пятьдесят рублей превратились в копейки. Вместо них нужно было приносить что-то вроде миллиона. Может быть, мой меценат, пожелавший оставаться неизвестным, разорился? Но дед Параскевин вел прежний образ жизни, жил, пожалуй, даже шире прежнего, насколько это возможно, когда тебе за восемьдесят; подражая новым русским, он даже окружил свой по-мочаловски обширный участок стенообразным забором из металлических листов. Или Николай Филаретович окончательно поставил на мне крест, когда моя книга вышла, ничего не изменив в моем положении? Я недолго раздумывал об этом, тем более что вскоре появилась мадам Литли с тремястами долларами за комнату, которую она у меня снимала. Деньги приносила мне все та же Клер каждый месяц все с той же аккуратностью, даже если мадам Литли в течение этого месяца ни разу не заглянула в комнату Она вообще отсутствовала подолгу, и в ее отсутствие мы жили с Клер по-прежнему Ни Клер, ни тем более я сам не решались обсуждать между собой вопрос, когда же ее дед, наконец, умрет, чтобы нам пожениться. Но я чувствовал: что-то тяготит мою Клер. Регистрация брака и модное теперь церковное венчание были для нее предметом сокровенных мечтаний. Она не могла желать смерти деду, но… но… но… Это немое «но» походило на понукание клячи-судьбы. За прошедшие годы я совершенно поседел, а Клер совершенно не менялась. Право, она была такой же, как в двадцать лет. Однажды на улице я встретил деда Параскевина, и что-то в его внешности поразило меня. Дело было даже не в том, что он шел, правда, с массивной тростью, но твердой поступью и нисколько не горбился. Я подумал о Клер. В ее чертах проступало необъяснимое сходство с дедом, хотя ему должно было стукнуть девяносто лет, а ей не было еще сорока.
После моей рецензии на спектакль «Троянова тропа» ко мне зачастил Всеволод Викентьевич Ярлов, влиятельный руководитель театра «Реторта», куратор неких эзотерических программ, словом, гроссмейстер Ярлов. Он не отказывался от намерения приобрести мой ветхий домишко, предлагая мне взамен недвижимость, где я только пожелаю, скажем, в Пиренеях. Ярлов предлагал также профинансировать («проплатить», как он выражался) и мою биографию Чудотворцева; я упорно отказывался, может быть, потому, что мне хватало трехсот долларов от мадам Литли, но, когда Ярлов предложил издать жизнеописание Чудотворцева в издательстве театра «Реторта», я не мог пренебречь таким предложением и вступил с ним в переговоры, что дало повод Ярлову посещать меня чаще. Ярлова неизменно сопровождал мой молодой двойник, так называемый Федорыч. Я невольно приглядывался к нему, и мне иногда казалось, что он моложе, а иногда, что старше своих лет. «Молодой человек трудной судьбы», – говорил о нем Ярлов, и я думал, не вышел ли он только что из лагеря, а может быть, скрывается от призыва в армию. Ярлов спрашивал, не сдам ли я Федорычу комнату; я отказался, сославшись на то, что комната уже сдана, хотя не сомневался, что Ярлов платил бы мне не меньше, может быть, больше (я догадывался, кто мне приплачивает за мою рецензию через мадам Литли), но деньги от Ярлова меня настораживали. Не приобретает ли он таким способом какое-то право, пусть моральное, не только на мою работу, но и на мой дом? Моя антипатия к Ярлову дошла до настоящего отвращения, когда я понял, кого мадам Литли называет «мосье Жерло». Мне же самому в фамилии «Ярлов» отчетливо слышалось «лярва».
Федорыч однажды даже ночевал у меня, о чем настоятельно просил Ярлов. Я не мог предоставить гостю комнату, за которую платила мадам Литли, хотя комната давно пустовала, и Федорыч ночевал на раскладушке в моей комнате. На вопросы он отвечал односложно, делал вид, что хочет спать, и я оставил его в покое, хотя ночью убедился, что Федорыч не может уснуть.
А потом произошло знаменательное событие: Николай Филаретович купил внучке машину. Он почти прекратил зубоврачебную практику, но деньги у него по-прежнему водились. Я вспомнил, как он подарил когда-то машину своей дочери Алле к свадьбе, и подумал, с кем же может быть свадьба у Клер, если не со мной. Как-никак ей тоже, между нами говоря, почти сорок… Клер стала реже бывать у меня, так как ей надо было учиться, чтобы получить водительские права. Между тем до меня дошли слухи, что у Клер появился молодой поклонник. О нем было известно только одно: он тоже водит машину, хотя, кажется, не свою. Клер действительно отсутствовала дольше обычного, но потом пришла, объяснила свое отсутствие все тем же получением водительских прав и передала мне очередной конверт от мадам Литли. Я сказал, что завтра мне надо быть в офисе Ярлова на Ярославском шоссе (адепты «Реторты» уже называли шоссе «Ярловским»). Клер сказала, что хочет обновить машину и заедет за мной. Я согласился.
Офис Ярлова размещался в здании театра, которое Ярлов недавно приобрел и переоборудовал по своему вкусу. Он вообще усиленно скупал недвижимость (арбатская квартира Чудотворцева, Совиная дача и мой дом в Мочаловке тоже входили в сферу его интересов). Здание театра стояло в стороне от Ярославского шоссе, дальше возвышались уже деревья лесопарка «Лосиный Остров». Ярлов принял меня с распростертыми объятиями, распорядился подать кофе с коньяком, сказал, что заранее согласен на любые мои условия, я попросил его сначала назвать свои. «Мои условия совпадают с вашими» – любезно парировал Ярлов. Честно говоря, я не знал другого издательства, склонного издать биографию Чудотворцева, а Всеволод Викентьевич положил передо мной готовый договор. Единственной уступкой автору в договоре были сроки. Издательство театра «Реторта» обязалось издать биографию Платона Демьяновича Чудотворцева, когда бы автор ее ни представил. А в остальном условия были не ахти какие. Авторский процент возрастал вместе с «продаваемостью книги», как выразился Ярлов, а при отсутствии продаваемости сводился к минимуму равному квартирной плате от мадам Литли за один месяц. Этот минимум выплачивался автору при подписании договора. «Не может быть условий выгодней; это же будет бестселлер, и дополнительные тиражи без конца», – широко улыбнулся Ярлов. Я подписал договор, получил триста долларов и только тогда сообразил: договор не ограничивал в сроках не только автора, но также издательство, получающее исключительные права на биографию Чудотворцева на неопределенное время, практически навеки. «Снявши голову по волосам не плачут», – подумал я, как подобает потомку обезглавленного Фавста. Мне ничего другого не оставалось, как откланяться. Ярлов долго жал мне руку на прощанье.
Из ярловского офиса я вышел несколько подавленный. Клер ждала меня в машине у парадного подъезда. Я впервые увидел эту машину. Меня неприятно поразил ее грязно-красный цвет. «Кто выбирал машину?» – спросил я. «Я выбирала», – вызывающе ответила она, и я почувствовал, что предстоит неприятное объяснение, может быть, окончательный разрыв. «Что же, чему быть, того не миновать», – успокаивал я себя. Клер вела машину молча. Ничего праздничного в этой поездке явно не было. Я сидел рядом с Клер. В открытое окно веяло пробензиненным асфальтом, но время от времени и лесным духом. Мне даже захотелось остановить машину и погулять с Клер в лесу. «Нет уж, поедем», – возразила она и опять замолчала. Я хотел спросить ее, куда она торопится, но не решился. Я жадно, как будто в последний раз, любовался влажной сочной зеленью по обе стороны шоссе, пока машина не выскочила на Кольцевую.
– Ну что, подписал ты договор с Лярвой? – спросила Клер, произнося это имя вслух с таким же отвращением, как я произносил его про себя.
– Да, подписал, – ответил я.
– И конечно, попался к нему на крючок. Так я и знала: этому конца не будет.
– Чему не будет конца?
– Твоим книгам. Ты будешь писать их одну за другой, все об одном и том же…
– Тебе разонравился «Русский Фауст»? Ты же сама перепечатывала его.
Ее передернуло.
– Перепечатывала. Сама напросилась. А теперь вижу: все об одном и том же, об одном и том же.
– Но позволь: я же подписал договор на книгу о Чудотворцеве.
– Все вы Чудотворцевы. Я на себе чувствую, какие чудеса вы вытворяете. Дал он тебе триста долларов?
– Дал. Хочешь – возьми их…
– Оставь их себе. Теперь триста долларов в месяц тебе обеспечены… на веки вечные…
– Это от мадам Литли?
– Она же тоже Чудотворцева де Мервей. А помнишь, как ты сто пятьдесят рублей получал?
– От твоего деда? Если это было в долг, я попытаюсь выплатить… Только я не помню, за сколько месяцев… за сколько лет.
– От деда, да не от моего! И теперь ты получаешь от него, за него, все равно!
– Ты говоришь, не от твоего, но тогда от какого же такого деда?
– А ты все еще не догадался? От твоего, конечно. – Я покосился на нее, подумав, не сошла ли она с ума. – Не знаю, как сказать: от твоего пра-пра-пра-пра… Как назвать его, если он жил пятьсот лет назад. Фавсте, Фавсте, выйди нам на счастье! – Она махнула рукой влево, где промелькнул краешек одного из Косинских озер, правда, Черного, а не Святого.)
– Так что же, мне Фавст по сто пятьдесят рублей в месяц платил?
– Разумеется, Вавушка-Муравушка. Помнишь его? Он у моего деда работал, а зарплату тебе передавал.
– Послушай, Клер, это ни на что не похоже, – возмутился я. – Твои шутки явно дурного тона. Если тебя раздражает мое присутствие, дай мне выйти из машины.
– Ну нет, милый. Из машины ты не выйдешь, пока не выслушаешь все, что я хочу тебе сказать.
– Останови хотя бы машину! Мы разобьемся.
– Ах, как было бы хорошо! Туда нам и дорога! Только я-то не разобьюсь…
– Ты считаешь, что так хорошо водишь машину?
– Я знаю, до чего меня довели. Я уже разбилась однажды насмерть, это он выходил меня, оживил, воскресил… как это у вас называется…
Я предпочел не отвечать ей. За окном опять мелькали деревья пригородного леса. Как мне хотелось выйти из машины и затеряться в пыльном кустарнике. А Клер не умолкала ни на минуту:
– Он меня на руках носил, а я пряталась у него в бороде. Борода пахла медом, цветами, лесом. Вот мы сейчас проехали через лес, и опять запахло его бородой. Если бы ты знал, как я любила его… До сих пор люблю… Этому конца не будет. Ужасно, правда? Но ты не понимаешь… Я и с тобой связалась, чтобы родить такого, как он. В тебе же его кровь течет, через тебя… А я еще маленькая хотела, чтобы она через меня текла. Я не знала, что он опоил меня своей кровью. Ваша кровь медом пахнет. Этому конца не будет, не будет конца! Ты не понимаешь: люди любуются небом, цветами, друг другом, потому что они знают, что все это на время, и они на время. Любуетесь всем этим благодаря смерти. А для меня смерти нет. Всему, что я вижу, не будет конца. И тебе конца не будет. Ах, как я хотела родить Фавста, такого, как он, богатыря! Но я никого не рожу, такие, как я, не рожают, не женятся, не посягают, кажется, так? Вот ты и не женился на мне, потому не женился, что я не умру правда? Ах, ты хотел, ты хочешь, ты готов на мне жениться? Я живу с тобой? Нет, это ты живешь со мной, а я с тобой не живу, я с тобой не умираю… как мой дед… Он сказал: пока я жив, ты за него не выйдешь. А он не умирает и не умирает… И я такая, как он. Иначе бы я умерла тогда, когда вся разбилась. Фавст выпоил меня своим зельем, а дед выпил его зелья тайком, нашел его фиал и выпил, без спросу. Вот мой дед и живет и мне жить не дает, а я не умру, я знаю, что я не умру. И замуж за тебя не выйду, пока дед жив, а дед не умрет… Он у Фавста украл эликсир и знает, что не умрет, никогда не умрет. А меня Фавст выпоил, и я не умру. Господи, что мне делать, солнце в небе, луна, снег, зелень, желтые листья, снова, снова, этому не будет конца. Ты знаешь, я хотела уйти от тебя, чтобы хоть что-нибудь было по-другому, хоть что-нибудь. А тот мальчишка… Тот мальчишка тоже ваших кровей… Куда мне деваться, Господи, куда мне деваться… от ваших кровей? Зачем он выходил меня? Я теперь никогда не умру, никогда не умру и никого не рожу… А я хочу, хочу родить фавстенка, и на фавстенка напоролась… Этому не будет конца.
Она гнала машину с явным превышением скорости. Люберцы уже остались позади. Я знал, что мы должны проехать мимо поста ГАИ и надеялся, что ее остановят. Вероятно, нам сигналили, но она не обращала внимания ни на что. Должно быть, нас преследовали, но не могли догнать. На бешеной скорости я с трудом распознавал окрестности, но все-таки угадывал приближающийся мост через Векшу. Клер искоса глянула на меня. Ее сухие глаза были полны отчаянья.
– Слушай, хочешь, я приторможу, и ты соскочишь. Ну, выйдешь, выйдешь… Зачем тебе со мной? Ты же мальчик… гениальный мальчик… – К стыду своему я не вспомнил тогда, чьи это слова. – Вот я сказала это, и мне тебя стало жалко, как было жалко ей. Тебе не нужно того, что нужно мне. Ну, выпрыгивай, выпрыгивай, что ж ты? Ушибешься чуть-чуть, но это же пустяки. Неужели ты до сих пор так и не понял, почему дед не разрешает мне выйти за тебя? Потому что он считает, что я твоя дочь. Не знаю, знал Дарвин или нет, от кого беременна моя мать. Может быть, предпочитал думать, что я все-таки от него. А я не сомневаюсь, что я сама ваших кровей. Потому я и не беременею… от вас. Нет, чтобы забеременеть надо умереть. Может быть, ты все-таки сойдешь? В последний раз спрашиваю. – Она буквально на секунду затормозила, но машина сразу же рванулась дальше.
– Значит, хочешь со мной? Моя мать по тебе тосковала. А я не знаю, что ты такое для меня. Когда мы ехали мимо озера, я тебя ненавидела… а сейчас… сейчас не знаю… Я сама ваших кровей… Но хочу… хочу попробовать, как моя мать…
Она резко направила машину влево, и мы с лязгом и скрежетом сорвались туда, где Таитянка впадает в Векшу.
Очнувшись, я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, не мог поднять головы. Я был не только весь забинтован, я был замурован в гипс. «Вот как чувствовал себя рыцарь в латах», – подумал я. Пытаясь позвать на помощь, я издал какой-то слабый звук. И тут же надо мной склонилась круглая бритая голова с подстриженными усами, напоминающими тюленя. Сходству способствовали и руки-ласты, ловко придавшие мне самое удобное для меня положение. Я не сразу вспомнил, кто это. До сих пор я видел его только издали. Надо мной склонялся сам доктор Дан Данович Сапс.
– Что с Клер? – еле-еле пролепетал я.
– Как вам сказать, – словоохотливо ответил доктор, – Калерия Дарвиновна (как мне показалось, он иронически подчеркнул ее отчество), Калерия Дарвиновна жива. Могу вам даже сообщить, что ее жизнь вне опасности, хотя она без сознания, и я затрудняюсь вам сказать, когда сознание к ней вернется. Но Калерия Дарвиновна – случай специфический. О ней нам не раз придется говорить. Советую вам сосредоточиться на вас самих. Не скрою: ваше положение не опасно для жизни, но достаточно серьезно. У вас переломы обеих рук и левой ноги, в каком состоянии ваши ребра, лучше пока умолчать. Правда, позвоночник не переломлен, что дает основания надеяться. Я передаю вас, так сказать, в родные руки. Ну-ка, Мурашка, займись им.
Знакомый мне с младенчества, седобородый богатырь принял меня в свои объятия и уложил еще удобнее. И этого-то богатыря доктор Сапс называл «мурашка»!
Признаюсь, во время смертельной гонки в машине Клер бывали моменты, когда я успокаивал себя мыслью, не сдвиг ли это по фазе, как теперь говорят, не рехнулась ли моя Клер, начитавшись «Русского Фауста»: своего кухонного мужика, доморощенного знахаря, за Фавста приняла. Вот что значит авторское самолюбие. Теперь всеми своими переломанными костями я чувствовал реальность ее отчаянного монолога. В те дни, не отличавшиеся от бесконечных ночей, я не сомневался, что меня в моем гипсовом панцире переворачивает и совершает со мной какие-то загадочные процедуры сам Фавст. Я впервые вдохнул медово-травянисто-болотный запах, о котором столько раз слышал и столько раз писал. Фавст поил меня своими пахучими зельями и впрыскивал мне что-то, запахом напоминающее ладан. Может быть, он просто курил ладаном в моей палате, куда никто не входил, кроме Фавста и доктора Сапса (изредка). Я заметил, что Фавсту не нравятся и даже мешают визиты знаменитого хирурга. Доктор Сапс принюхивался к запахам в моей палате, право же, он что-то вынюхивал. Аяв полубреду подсчитывал, сколько же Фавсту лет. Ему должно было быть за восемьдесят, когда ему отрубали голову. Иван Грозный убедился в действии эликсира, прежде чем поставить свой эксперимент. Теперь у меня была уникальная возможность расспросить самого Фавста. Но что, если необычный, но, несомненно, очень опытный медик примет меня за сумасшедшего? Надо сказать, что Фавст почти не говорил со мной и ни о чем не спрашивал. Не говорил он и с доктором Сапсом. На моих глазах он говорил до сих пор только с моей тетушкой-бабушкой. И все-таки авторская жилка оказалась во мне сильнее осмотрительности, и однажды после очередной дозы эликсира у меня вырвалось:
– Но ведь вам отрубили голову!
В ответ Фавст раздвинул свою дремучую бороду вместе с клубящейся сивой гривой, и я увидел красный рубец, опоясывающий его могучую шею.
– И что же, голова приросла оттого, что вы пили эликсир? – спросил я, сознавая всю неуместность моих слов и несоответствие их тому, что я хотел узнать, но в ответ послышался густой, негромкий бас Фавста:
– Выпил аки выпь. А еликсир значит: ели риск.
До меня не сразу дошел смысл его ответа. Речь Фавста была элементарна. В ней сочетались разные века и разные языки. В основном она напоминала писания древнерусских книжников, но были в ней вкрапления резко современные из научного, даже из молодежного сленга. Величественное витийство переходило в заумь юродивого, но я убедился в том, насколько осмыслен был язык юродивых, иногда поистине язык ангельский. Так иными языками говорили первые христиане. Фавст говорил иероглифами, переставляя в словах звуки, так что звук превращался в слово, а слово в звук. Что такое еликсир, если не ели риск? Кто лечится, тот рискует, что может быть рискованнее бессмертия? «Храп в могиле», – говорил Фавст, и от этого слова веяло первобытной Жутью, а потом я догадывался: в могиле прах, и кто храпит, если не прах; ангелы не храпят. Я раздумывал, кто такой нем яд певчий, и вдруг меня осеняло: это же Демьян Чудотворцев, Демон. «Демон моден», – утвердительно кивал головой Фавст. Речь Фавста могла казаться отрывистой в своих иероглифах, но потом из них образовывались периоды, «пероиды», – как говорил Фавст, а из пероидов собор; «Собор оброс», – присовокуплял мой предок. Пероиды – перья, и я понимал, что такое «выпил, аки выпь», цапля в совиных перьях (Совиная дача?).
– А у вас лекарь был? – спросил я.
– Река ль, лекарь, – ответил он, и вместо лекаря являлся рекаль, который лечит, ибо речет, но река тоже никуда не девалась, пробивалась из-под земли, чтобы исчезнуть: истая Таитянка.
– Царевна – царь-вена, – произнес Фавст, сделав мне очередную инъекцию, и я понял, что больше он мог бы ничего не говорить. Я сказал, что записал в моей книге легенды о нем.
– Легенды – гены, – отозвался Фавст.
Сквозь сон я слышал, как Фавст что-то напевает про себя. До меня доносилось что-то вроде «елень», перешедшее в какое-то подобие английского «alone», потом я различал «лоно», и доносилось «halo», «halos», ореол или корона вокруг луны. До меня дошло, что Фавст поминает Елену Прекрасную.
О ней он никогда не говорил, но я от него узнал многое, главное. Когда Фавст выпил эликсир бессмертия, он почувствовал себя в аду. «Ад – это длительность», – говорил товарищ Цуфилер Чудотворцеву. А мне вспоминалось отчаянье Клер: «Этому конца не будет». Эликсир бессмертия от лукавого для того и предназначен, чтобы вызвать отвращение к бессмертию, ибо отвращение к бессмертию и есть ад. Вот почему доктор Йоханн Фауст предпочел адской длительности в земной жизни срок, обусловленный первым договором. Фавст Епифанович в договор с дьяволом не вступал, обладая силой изгонять, то есть заклинать духов, адских в том числе. Но он выпил по доброй воле эликсир, изготовленный при пособничестве темной силы и узнал, что такое ад, как узнал его Данте. Но в отличие от Йоханна Фауста Фавст насытил и преодолел длительность своими изысканиями. Он поставил себе цель: без помощи темных сил силами человеческими изготовить эликсир, приносящий бессмертие до Страшного суда. Черной магии Фавст противопоставил белую. Сам по себе эликсир бессмертия не содержал в себе никаких дурных ингредиентов. Дурным был только его секрет, секрет от лукавого, применяемый с дурной целью. Когда я спросил Фавста, правда ли, что в эликсире бессмертия должна быть Кровь Истинная, Фавст промолчал, но молчание его можно было счесть знаком согласия. Фавст вообще предпочитал прорицанию молчальничество, так как его ответы неверно воспринимались смертными; не потому ли прорицания осуждаются Церковью. За молчание Иван Грозный велел обезглавить Фавста, надеясь от его головы услышать запретное, но от царя укатился колобок («око колб», – усмехнулся Фавст-алхимик).
– И вы воскресли? – по-мальчишески не удержался я.
– Воскрес? Воск сер, – строго ответил Фавст. – Христос воскрес, больше никто… пока.
– Но не скажете же вы, что вы жили… с отрубленной головой? – не отставал я.
Насколько я понял ответ Фавста, он очнулся в скиту, а шея его была обвязана мочалом, а мочало было пропитано медом.
Пользовал Фавста лесной старец в белом облачении. «Голова логова», – пояснил Фавст. «Иоанн Громов», – догадался я. А когда Фавст вышел на воздух под звездное небо, он увидел перед собой озеро, «Ось икон». Из озера вытекала речка. «Таитянка», – решил я про себя. А Фавст понял, что он в невидимом граде, где не умирают до Страшного суда. «Шамбала? Валгалла? Агартха?» – подсказывала мне моя смешная эрудиция. Фавст прочитал эти подсказки, как в открытой книге.
– Скорее уж Беловодье, коли на то пошло, – молвил он. – Се Сам-Град, Меровия, Алтарь. Рекут еще: Третий Рим, но и Третий Рим – град невидимый, Гардарик. Вся Святая Русь – град гевидимый, где невинно убиенные и убившие их, кающиеся.
– Где, дедушка? – впервые я отважился так назвать его.
– Здесь, – ответил он, – мы с тобой во граде невидимом.
Так я узнал, что невидимый град везде для тех, кому дано войти туда, и нигде для тех, кому туда войти не дано.
– Но здесь, дедушка, Мочаловка, – допытывался я.
– Пригород, – улыбнулся Фавст, – висит мочало, начинай сказку сначала.
– А лесной старец разве не ты? – не отставал я.
– Я тоже, – кивнул он.
И я узнал, как Фавст столетиями изготовлял свой эликсир бессмертия, считая это дело своим призванием, послушанием, покаянием. Фавст постиг, что это общее дело. «Федоров, m-r Vedro», – мелькнуло у меня в голове. «На то куль утра», – сказал Фавст. «Куль утра – культура», сразу смекнул я. Эликсир бессмертия от лукавого Фавст прятал, никому не давая ни капли, а все хотели именно дьявольского эликсира, выманивали его у Фавста, затевали войны, революции, террор, чтобы завладеть именно дьявольским эликсиром. Единственным, кому удалось почти по ошибке глотнуть запретного эликсира, был дед Параскевин, у которого в кабинете Фавст опробовал свои зелья. Врач в области головы выследил, где безголовый черт, как он называл Фавста, хранит свой фиал, ничтоже сумняшеся глотнул оттуда и стал бессмертным, что погубило жизнь Клер и мою тоже. Клер была первой, кому Фавст дал свой, настоящий эликсир бессмертия, изготовленный без помощи темных сил, но дедов глоток исказил действие эликсира, и с Клер произошло то, что произошло.
– А теперь я ухожу, – сказал Фавст, – делать эликсир для нее и для таких, как она. Бог не хочет смерти грешника. Потому и я не умираю, и дай мне Бог воскреснуть с праведными.
– А как я… без тебя? – воскликнул я.
– Выздоровеешь, не бойся. – Фавст перекрестил меня. – С ней хуже.
– Постой… Она говорила про мальчишку наших кровей. Он-то кто?
– Сны у тебя, – отчетливо сказал Фавст, тихонько затворяя за собой дверь. Теперь мне кажется, что я уже тогда понял его, и от этого тяжелее моя вина.
Я проснулся утром, чувствуя, что мне гораздо лучше. Я был даже готов принять все мои беседы с Фавстом за сны. Передо мной сидел улыбающийся, как всегда, словоохотливый доктор Сапс:
– Молодцом! Вы Фавстов, ничего не скажешь. Скоро гипс будем снимать.
– А что с ней, с Клер? – спросил я.
– С ней хуже. Знаете, это тот случай, когда эвтаназия обоснованна. Она не умирает и не приходит в себя. Боюсь, она мучается, но не может сказать. У нее здоровое сердце, так и пересадил бы его кому-нибудь. Но об этом и думать нечего. Эдак она до Страшного суда протянет. Всего хорошего, пока. Вверяю вас вашей сестре.
Доктор Сапс вышел, а ко мне в палату вошла Клавдия и с ней моя крестная Софья Смарагдовна. Клавдия поправила мне подушки и снова вышла. Софья Смарагдовна улыбалась мне со стула, где только что сидел доктор Сапс.
– Клавдия сюда действительно сестрой устроилась, не знаете? – первым делом спросил я.
– Мне ли не знать! Пора тебе знать, что Клавдия твоя сестра.
– Как сестра?
– Очень просто… и не просто. Веточка Горицветова осталась там, в Сибири, беременной, когда расстреляли твоего отца, а Мария Алексеевна тебя у меня прятала. Помнишь: я никогда не сплю. Веточка мыкалась по добрым людям, пока не пришло время ей рожать. В родильном доме нянюшкой работала Дуся Пешкина. Веточка умерла родами, и дочку ее собирались отсылать в дом ребенка. Муж Дуси услышал фамилию покойницы и сразу вспомнил ее. Антон Вальдемарович Адлерберг был племянником Оленьки, бабушки твоей; она за Аристархом Ивановичем замужем была. Вот Антон с Евдокией и удочерили Клавдию, дали ей фамилию «Пешкина».
В эту минуту Клавдия вернулась в палату.
– Что же вы не сказали мне, что вы моя сестра? – спросил я, как спрашивают, который час.
– А зачем было говорить? Я была уверена, что вы знаете.
– Откуда же мне было знать?
– Через Платона Демьяновича. Да и разве не прожили мы с вами всю жизнь как брат и сестра?
Глава одиннадцатая РЕТОРТА
Я ВСЕ еще лежал в отдельной палате, и на душе у меня было неспокойно; я знал, что мою отдельную палату в Трансцедосе у доктора Сапса оплачивает Ярлов. В бескорыстие Ярлова я не верил. Я был уверен, что мне придется поплатиться за его щедроты. Что же ему все-таки от меня нужно? Биографию Чудотворцева он уже заполучил. Она по договору достанется ему если я ее когда-нибудь напишу, о чем пока что не могло быть и речи: руки были скованы гипсом, Клавдия кормила меня с ложечки, лишь кисть левой руки начинала едва-едва шевелиться. Или Ярлов хочет завладеть моим домом? Эта мысль вызывала у меня особую тревогу. Дело в том, что на другой день после встречи с Ярловым в его новом офисе я должен был идти в поселковый совет Мочаловки (теперь он назывался администрацией) насчет закрепления за мной моего участка. (А это называлось приватизацией земли.) Ходили слухи, будто участки, приватизированные своими давнишними фактическими владельцами, скупят некие воротилы из новых русских или выходцы с Кавказа, вьетнамцы, китайцы, арабские шейхи, словом, Гог и Магог. На приватизацию участков выделялось всего несколько дней (по слухам). Надо было для этого отстоять в длиннейшей очереди, в которой стояли день и ночь. Очередь не расходилась даже по ночам, когда двери администрации были заперты. Говорили об обмороках в очереди, даже о смертных случаях: так, от сердечного припадка умер под утро ветеран войны, у которого ничего не было, кроме развалюхи на клочке земли, где старик выращивал картошку питаясь исключительно ею; пенсии ему не хватало даже на хлеб. В эту смертельную очередь должен был встать и я. Опасения были небезосновательны. Неприватизированный участок могли отобрать по закону, которого пока еще не было, но у нас еще не то бывает. Впрочем, приватизация тоже не всегда спасала. Приватизированный участок предлагали немедленно продать, а в случае отказа сжигали ветхий домишко на этой земле, и тогда поневоле приходилось участок продать. Разумеется, на вырученные деньги невозможно было приобрести даже плохонькое жилье, а нередко деньги крали сразу после получения, и обобранные старушки мыкались пока по знакомым, кое-кто жег костры на пустырях или у наших речек Векши и Таитянки, не надеясь пережить ближайшую зиму. Вырубили знаменитую мочаловскую березовую рощу. На ее месте выросли уродливые махины, называемые коттеджами. Строились и отвратительные подобия замков, уродливо сочетающие готику, барокко и модерн. Сгорело деревянное здание мочаловского летнего театра, где играл иногда и театр «Красная Горка». Этот пожар был воспринят коренными жителями как примета хуже некуда. Безжизненные кирпично-железобетонные драконы подползали к улице Лонгина и к Софьину саду. Под угрозой была Совиная дача, но Клавдия ничего не могла предпринять. Она же так и оставалась бесправной жиличкой. Адриан у себя в Америке, наверное, даже не слышал о развитии событий у нас. Впрочем, на Совиной даче обосновался ПРАКС, а Клавдия дневала и ночевала в Трансцедосе, преданно ухаживая за мной.
На следующую же ночь после ухода Фавста мне приснился недостроенный, но уже разрушающийся на глазах особняк грязно-красного цвета, как автомобиль Клер, обрушенный ею под откос и валявшийся возле устья Таитянки вместе с нашими переломанными костями. То и дело от особняка отваливался кирпич, грозя упасть мне на голову, но безликие строители подбирали кирпич и водворяли его куда следует. Я шел в особняк, потому что мне некуда больше было идти, – особняк был построен на месте моего дома, и такая же безликая охрана пропустила меня, стоило мне сказать, что меня ждет гроссмейстер Лярва (может быть, я сказал: «Ярлов», но сам себя не расслышал). Я поднялся по крутой лестнице, но тут же оступился и по другим ступеням, которых раньше не заметил, скатился в открытый погреб, которого, входя, не заметил. Я скатывался в погреб, как недавно летел вместе с Клер под откос, и на дне погреба я услышал, как меня в погребе замуровывают кирпичами. Так в новелле Эдгара По «Бочонок амонтильядо» был замурован в винном погребе Фортунато (счастливчик).
Я проснулся, вернее, очнулся с мыслью, что надо бежать в исполком, в поссовет, в администрацию в очередь на приватизацию, но кошмар продолжался; я не мог шевельнутся, замурованный в гипс. Я хотел закричать, позвать на помощь, чтобы сняли гипс, мне же доктор Сапс обещал…
Но в дверь вежливо постучали, и в ответ на мое слабое «да» в комнату впорхнула все та же неизменная мадам Литли.
– Comment ça va, monsieur? – приветствовала она меня. Votre santé est inébranlable, je suis sure. Votre sang est la meilleure medecine. Votre sang survivra tous difficultés de votre vie, je vous garantie. Poussin garde… mais non, votre sang garde la clef.
С этими словами она мне сунула под подушку конверт. Не было сомнений, что там триста долларов.
– C'est dommage, – вздохнула она. – Notre charmante messagère est hors-jeu. Oui, Clair, la pauvre… Mais son destin est clair comme son nom… Elle survivra aussi… Ne vous faites-vous le mauvais sang! Avec votre sang elle survivra elle-même[4].
Последние слова насторожили меня, но я не решился уточнить их смысл и предпочел понять ее в том смысле, что она спрашивает ключ от своей комнаты, то есть от моего дома (ее комната не запиралась), она же заплатила… Я попросил ее обратиться к медицинскому персоналу ключ должен был остаться в кармане моего пиджака, если там что-нибудь осталось. Действительно, я предпочел бы, чтобы в доме кто-нибудь был, хотя бы мадам Литли, может быть, хоть ее присутствие защитит пока дом от Ярлова. Но мадам Литли покачала головой:
– Mais non! Зачем мне ключ от вашего дома, если там нет вас? Будем пока видеться здесь, – кокетливо добавила она, как будто свиданье назначала. С этими словами мадам Литли выпорхнула из палаты.
Но меня не оставляли одного. Не успела исчезнуть мадам Литли, как на стул около моей постели сел, потирая руки, сверкая очками и лысиной, сам мосье Жерло. Я сразу же обратился к нему с просьбой прислать мне священника.
– Не беспокойтесь, мой дорогой, – отозвался Ярлов. – Первое время ваше состояние, действительно, внушало опасения. И этот бородатый господин, медбрат, который опекал вас, кажется, его зовут Фауст… как вашего героя, нуда, есть по Казанской дороге остановка Фаустово, да и ваша фамилия… У нас ведь распространены имена в честь литературных героев. Помнится, на радио был музыкальный редактор Онегин Гаджикасимов. А недавно сожгли котгедж вместе с хозяином, с предпринимателем по имени Прометей. Так вот, этот господин Фауст приводил к вам священника, кстати удивительно похожего на него самого. С такой же бородой, знаете, в белом облачении. Так вот, он принял у вас глухую исповедь, вы же были без сознания.
«Старец Иоанн Громов», – подумал я.
Я не удержался и заговорил о том, что мне нужно в очередь на приватизацию. Ярлов добродушно рассмеялся:
– Вы о вашем домовладении беспокоитесь? Полноте, Иннокентий Федорович. Вы же наш автор. Ваша собственность вместе с вами самими под колпаком… ну, скажем, под эгидой ПРАКСа. Вы не забыли, что значит ПРАКС? Православно-коммунистический союз! Партию в шахматы? Может быть, это развлечет вас?
Неизвестно откуда на столике у моей постели появилась шахматная доска. Ярлов неторопливо расставлял на ней фигуры. У меня захолонуло внутри. Мне вспомнился Иван Грозный, умерший за шахматной доской. «Не на это ли он мне намекает? – подумал я. – Он же читал „Русского Фауста“. А Ярлов, расставляя шахматы, продолжал балагурить:
– Конечно, медбрат Фауст слишком стар и вряд ли мог быть назван в честь вашего Фауста. Скорее, здесь замешан гётевский Фауст, вряд ли Фауст Марло. Ну что ж, белые начинают. Не каждому доводилось играть с гроссмейстером Ярловым. Ваш ход, господин Фавстов… Ах да, вы не можете двигать рукой! Извините, но вы так хорошо выглядите, что я совсем забыл об этом. Ну что ж, ваш ход за вами. А вас мы развлечем другим способом. Все-таки пока что лучше не утомлять вас.
Ярлов встал со стула. Я спросил его, нельзя ли мне видеть молодого человека, которого все называют Федорыч. Ярлов заговорщически мне подмигнул:
– Я рад, что этот молодой человек трудной судьбы заинтересовал вас. Я передам ему, что вы о нем спрашивали. Но сейчас, к сожалению, Федорыч в командировке, в очень ответственной командировке.
Ярлов затворил за собой дверь, но через несколько минут дверь снова отворилась, и в мою палату внесли телевизор. У меня едва шевелились только пальцы левой руки. Я не мог даже книгу листать. Кое-что вслух мне читала Клавдия. Но кнопки на пульте я мог перебирать, так что на некоторое время я погрузился в телевидение.
До сих пор по моему плохонькому старенькому телевизору я смотрел только новостные программы, последние известия, как раньше говорили, ловил я иногда „Взгляд“ и „600 секунд“. Теперь я мог оценить магию телевидения в полной мере. Как ни странно, больше всего меня заинтересовала реклама, вызывающая всеобщее раздражение и нарекания. Реклама была интересна тем, что она и не рассчитана была на то, чтобы нравиться, сохранив навязчивость и настоятельность советского агитпропа. Реклама вовсе не вызывала желания купить рекламируемый товар, она убеждала, что нельзя не купить его, грозя за непослушание неизъяснимыми карами, болезнью, смертью, выселением из дома, неким отлучением от образа жизни, который реклама навязывала. Кто не следовал требованиям рекламы, тот становился отщепенцем, отбросом общества. Складывалось впечатление, что все рекламные ролики рекламируют одно и то же и грозят одним и тем же. Угроза отлучения была страшна, и она заставляла подчиняться рекламе, а не тот соблазн, который от рекламы должен был бы исходить. Если реклама прельщала, то она прельщала прежним советским образом жизни. Купишь то, что рекламируется, и восстановится прежний образ жизни, при котором не было рекламы, так что единственный способ избавиться от рекламы – купить все тампаксы или все памперсы, которые навязываются. Тогда избавишься от всех неудобств жизни, перестанешь рождаться и рожать, а не на это ли нацелена, в конце концов, реклама? Неудивительно, что по мере учащения рекламных вкраплений на телевидении и на радио падала рождаемость и возрастала смертность. Было очевидно, что в конечном счете рекламируется прекращение жизни, насильственное или естественное, тогда, по крайней мере, рекламы не будет, а вдруг ад – тоже реклама, если он так назойливо рекламируется? Складывалось впечатление, что именно реклама образует на экране один и тот же бесконечный фильм, прерываемый другими „художественными“ фильмами (так их называли тоже для рекламы), и среди них выделялись добрые, старые, советские фильмы, лишь в сочетании с рекламой обнаруживающие свой подлинный смысл. Не понимаю, почему обвиняют в кровопролитии голливудские фильмы. Там убийство – все-таки отклонение от нормы, и убийца, какой бы ни был он симпатичный, попадает в тюрьму или должен туда попасть. Добрые советские фильмы все были замешаны на кровопролитии Гражданской войны, ибо чем же другим занимались „комиссары в пыльных шлемах“, в сравнении с которыми гангстер-громила выглядел неуклюжим дилетантом. Сколько должно было пролиться крови, сколько лагерей должно было функционировать, сколько доносов должно быть написано для того, чтобы эти фильмы снимались? Главный вопрос был в том, неужели вся эта кровь, „кровь людская – не водица“, пролилась для того, чтобы теперь без конца показывать рекламу. Я смотрел „Белое солнце пустыни“ и думал, что зрители этого фильма не могут не напасть друг на друга, ни на что другое не рассчитано это общедоступное пособие по ведению гражданской войны. И теперь, когда показывают, что происходит в Ичкерии, или в Чечне, нетрудно убедиться: с обеих сторон воюют зрители „Белого солнца пустыни“ и никакой ваххабизм не вооружил боевиков лучше, чем крылатая фраза: „Восток – дело тонкое“, на что, вообще, как на всякую пошлость, нечего возразить.
Я поделился своими соображениями с Ярловым, который аккуратно навещал меня каждый день, иногда несколько раз на дню. Тот театрально захлопал в ладоши:
– Браво! Вы блестящий аналитик. ПРАКС нуждается в таких, как вы. Могу вас поздравить: вы утверждены экспертом Чудотворцевского фонда, работающего под колпаком… то есть под эгидой ПРАКСа. Ваши соображения всегда нами учитывались, теперь тем более.
Ярлов придвинул стул ближе к моей постели и заговорил еще доверительнее и задушевнее:
– Вы совершенно правы. Реклама на то и рассчитана, чтобы вызывать отвращение к тому, что рекламируется. Не все заказчики рекламы понимают это, но приноравливаться к этому вынуждены все. Мы не пропускаем на экраны другую, буржуазную рекламу западного толка. В конце концов, у всего нашего телевидения и, прежде всего, у рекламы одно назначение: вызвать отвращение к тому, что сейчас происходит (такое отвращение вызвать нетрудно, происходящее само вызывает его), вызвать ностальгию по настоящему, как выразился поэт, то есть поскольку все, что сейчас происходит, ненастоящее, какой-то идиотский карнавал или, скажем, дьявольское наваждение, пляска опричников в личинах, то настоящее видят в прошлом. Отсюда то, что нужно ПРАКСу, – тоска по Империи. На этом основывается наша стратегия и тактика. Неужели вы не обращали внимания на одну любопытную тенденцию: о советском, имперском прошлом тоскуют не только те, кто работает и не получает зарплаты, кто не может прожить на свою пенсию, кому нужна срочная операция, а ему не делают ее бесплатно, по советскому прошлому тоскуют преуспевающие, покупатели вилл на Лазурном Берегу, так называемые „новые русские“ (русские ли они, это другой вопрос). За примерами далеко ходить не надо. Вот Бенедикт Витальевич Биркенцвейг, банкир, нефтяник, телеворотила, учредил премию „Восторг“. Премия довольно внушительная в нищей стране: 150 000 долларов. Не баран наплакал. Такой премией и западная звезда не пренебрежет. И кто получает ее? Не какие-нибудь диссиденты или андерграундники. Нет, прежние лауреаты Ленинских и Государственных премий или те, кто получил бы Ленинскую премию в наше время, если бы эта премия присуждалась. А вот конкурент Биркенцвейга Алеко Вольфович Гансинский, владелец отдельного телеканала. Что происходит на этом телеканале? На нем решительно царит шоу „Русское поле“. Надеюсь, мне нет надобности напоминать вам советский шлягер: „Поле, русское поле, я уж давно человек городской“? Городской человек Алеко Вольфович возделывает на экране „Русское поле“, в то время как настоящие русские поля зарастают сорняками. Я слышал, что Алеко Вольфович подумывает о фестивале „Союз нерушимый“. Странная у нас буржуазия, не правда ли? Ничего похожего на буржуазную культуру она не создает, и не просто по бездарности, поверьте мне. Во-первых, советская культура была достаточно буржуазна, буржуазнее некуда. А во-вторых, они отлично знают, что их нынешние миллионы и миллиарды не их, а неизвестно чьи, вот в чем ужас. И Запад не принимает их, так что приходится культивировать своего рода патриотизм, национальную идею. Они хотят русского патриотизма, а получается советский, созданный такими же, как они; уверяю вас, ночью, просыпаясь в холодном поту, и Биркенцвейг и Гансинский мечтают о советском прошлом, когда первый был бы академиком, а второй знаменитым режиссером. На Западе им ничего не светит, кроме тюрьмы, там не принимают их в свою компанию, вот и приходится платить разработчикам национальной идеи, выдающим казнокрадство за общинный дух славянства, хотя община и общак – не одно и то же.
Мне вспомнились мои ночные строительные кошмары.
– Но скажите, Всеволод Викентьевич, спросил я, – зачем строить эти уродливые громадины, в которых жить неудобно, противно и страшно? Они же разрушаются по мере того, как строятся. К чему так бессмысленно даже не выбрасывать, а уничтожать деньги? Чтобы все видели, что эти деньги шальные или, скажем прямо, краденые? Или они не собираются в этих пышных трущобах жить? Разве этот ампир на свалке – не вернейший способ вызвать к себе ненависть, причем всеобщую? Неужели они полагаются на свою охрану? Но охрана ненавидит их не меньше, чем все остальные, и, пожалуй, собственной охраны им надо больше всего опасаться. Зачем это омерзительное бессмысленное столпотворение?
– Как „зачем“? Для отчетности, – ответил Ярлов. – Для отчетности перед ПРАКСом. Неужели вы вообразили, что на Святой Руси будет когда-нибудь капитализм и рыночная экономика? Мы даем им деньги, или они воруют с нашего ведома. А особняки – это их отчетность, как и присуждение премии „Восторг“, как и „Русское поле“. Кстати, в ПРАКСе обсуждается вопрос, не присудить ли вам за „Русского Фауста“ премию по номинации „Семь пядей во лбу“?
Я постеснялся спросить о денежном содержании премии.
– Но я боюсь, что утомил вас. – Ярлов перешел к заключительным аккордам нашей беседы. – Завтра, с вашего позволения, я приду не один. Нельзя допустить, чтобы вы скучали. К тому же мне понадобится ваше экспертное заключение.
Как только Ярлов откланялся, в палату вошла Кира. Оказывается, она заходила несколько раз, пока я лежал в беспамятстве. Кира принесла мне яблоки и апельсины. Она была сердечнее обычного, всплакнула даже.
– Говорила я тебе: „Не езди!“ Но разве ты когда-нибудь слушал меня? Вот и доездился.
– Не мог же я домой не ездить.
– Давно бы мог продать эту развалюху и жить со мной.
Это было что-то новое. Такого она до сих пор не предлагала. Я подумал, что как-никак мы с ней связаны всю жизнь. Но в палату вошла Клавдия, и Кира, не здороваясь и не прощаясь, ушла, как будто они с Клавдией не прослезились в объятьях одна у другой на премьере „Трояновой тропы“. Очевидно, их отношения снова обострились до непримиримости. Я даже не успел сказать Кире, что Клавдия – моя сестра. Я не сказал этого также потому, что не был уверен, не сочтет ли Кира это известие очередным злоумышлением против себя.
Меня мучила мысль о Клер. Чем я могу помочь ей? Я бы попытался что-нибудь предпринять, но я сам лежу без движения. Я решил предложить доктору Сапсу триста долларов из-под моей подушки, когда он придет, но вместо доктора Сапса в палату вошел Ярлов и с ним еще двое. Я сразу узнал обоих. Один из них был Аскер-Али-Муса, в прошлом Аскольд Нестоялов, а теперь признанный лидер движения, называющего себя РОИС (Российский исламский социализм). Аскер-Али-Муса был по-прежнему одет в строгий серый костюм. Правый пустой рукав был аккуратно подколот. Пустой рукав уподоблялся персональному знамени Аскера-Али. Таким майор Аскольд Нестоялов вернулся из афганского плена, куда попал, тяжело раненный, потеряв сознание. „Я и жил до этого без сознания, – говорил Аскер-Али. – Пришел в себя, только читая Коран“. Пустой рукав своеобразно сочетался с зеленым тюрбаном, без которого Аскер-Али-Муса не появлялся на людях. Аскольду Нестоялову ампутировали руку в афганском плену. „Хирург не спрашивал, какой я веры“, – говорил Аскер-Али-Муса. Пустой рукав не позволял усомниться в его личном мужестве. „Ислам не для трусов“, – говорил он. Аскер-Али-Муса сохранил офицерскую выправку и был по-военному немногословен. „Нечего болтать, – говорил он. – В Коране все сказано“. Высшее командование предпочитало не замечать отставного майора, отдельные генералы отзывались о нем иронически, не смея отрицать его воинской доблести. „Что поделаешь, рехнулся человек от ран“, – рекомендовалось говорить о нем, но среди младшего и среднего офицерского состава Аскер-Али-Муса пользовался несомненным авторитетом. Мусульмане твердо признавали его лидерство, и уже бывали случаи перехода в ислам под его влиянием. Существенно, что Аскер-Али-Муса распространял не просто ислам, но исламский социализм, причем российский.
Ярлов был суетливо почтителен с Аскером-Али-Мусой. Я не видел, чтобы он за кем-нибудь так ухаживал. Очевидно, Ярлов нуждался в Аскере-Али, а Аскер-Али в нем не нуждался. Ярлов подал даже Аскеру-Али стул, и тот вежливо осведомился, как я себя чувствую. Я оценил его сочувствие. Пустой рукав обязывал однорукого к солидарности со мной, безруким, по крайней мере, в данный момент.
Другой вошедший с Ярловым кинулся ко мне, как старый знакомый, в отличие от однорукого Аскера, протягивая мне руку, так что мне пришлось извиняться перед ним за то, что я вынужден отклонить его рукопожатие. (Неужели Ярлов не предупредил его, и протянутая рука не была очередным красивым жестом?) На самом деле я знал его мало, и встречались мы, помнится, у того же Ярлова. Но я много слышал об интеллектуальной величине по имени Игорь Кончак. Как видите, само имя его – красивый жест, карнавальный коллаж из „Слова о полку Игореве“. (Говорят, что его настоящая фамилия – Кончик.) Игорь и Кончак в одном лице – эффектный символ движения, идеологом которого является этот невысокий черноволосый человечек с брюшком, давно приобретший привычку суживать глаза, чтобы придать себе облик монголоида. Своим именем Игорь Кончик точнее обозначил свое движение, чем наименования, которые он неоднократно менял и все никак не мог подобрать. Сначала движение Игоря Кончака идиллически называлось ЛИСТ, и только посвященные знали, что это означает „Лес и степь“. Название „Евразия“ не удовлетворяло Игоря Кончака тем, что в этом названии первенствует „Евр“, то есть Европа (кое-кто по простоте душевной спрашивал, не еврейская ли это Азия?). Названия же, в которых первенствует „аз“, слишком легко превращалось в нечто вроде „Азеф“, что никак не устраивало Игоря Кончака. Он предпочел бы удовольствоваться самоназванием своих поклонников „кончаковцы“, но под таким названием трудно зарегистрировать партию, а Игорь Кончак мечтал о победе хоть на каких-нибудь выборах. В последнее время Игорь Кончак экспериментировал с названием „Орда“, дискредитированным либеральными историками, тогда как орда – позитивное начало русской истории (ставленником и союзником, если не героем орды был Александр Невский), и само слово „орда“ таит эзотерические смыслы; орда – дао (за вычетом „р“), орда рода, орда – радо (что? чему?). Отдельные молодежные группировки под названием „Орда“ образовались в подмосковных городах и кое-где в провинции, но Игорь Кончак претендовал на большее.
Рассадив гостей возле моей постели, гроссмейстер Ярлов с подчеркнутой рассеянностью, как бы машинально расставляя на доске шахматные фигуры (другие подобным образом перебирают четки), занимал гостей вкрадчиво неторопливым разговором.
– Прежде всего, господа, рекомендую: Иннокентий Федорович Фавстов, эксперт Чудотворцевского фонда, так сказать, душеприказчик великого русского мыслителя. „Сегодня приказчик, а завтра царства стираю в карте я“, как сказал поэт. Иннокентий Федорович попал в небольшую автомобильную неприятность, но пусть это не смущает вас, доктор Сапс быстренько поставит его на ноги, а мысль Иннокентия Федоровича и так на ногах, даже, если хотите, на крыльях. Но шутки в сторону, господа! Не до шуток „среди нашей нешуточности“, как сказал другой поэт. Я думаю, мы все согласны в том, что дальше так продолжаться не может. (Ярлов обвел глазами собеседников.) Что вы на это скажете, уважаемый Аскер? (Я догадался, что Ярлов не торопится предоставлять слово Игорю Кончаку, способному говорить много часов подряд.)
– Я пока послушаю, что скажете вы, – ответил Аскер-Али-Муса, чья природная сдержанность усугублялась мусульманской молчаливостью.
– Тогда я, с вашего позволения, продолжу. – Ярлов приосанился за шахматной доской. – Полагаю, что все мы объединены идеей великой евразийской империи, которой всегда была и, по-моему, остается Россия, Святая Русь, она же Третий Рим. Будем называть вещи своими именами. Эта империя всегда была и не может не быть православно-коммунистической. Точнее, не бывает неправославного коммунизма, но и православие не может не быть коммунистическим. Главным достижением Советской России было единение православия и коммунизма, совершенно традиционное для Руси с ее соборно-общинным духом. Говорят, при этом пострадали священники, но то были протестантствующие обновленцы, не видевшие в православии коммунизма, а в коммунизме православия, и потому не знавшие самого православия. Единство православия и коммунизма воплощено в личности Сталина. Выражением „культ личности“ зашифровано сакральное единство, и никаким партийным либералам не удалось осквернить этот культ. Но единство было поколеблено походом Хрущева против Сталина и против православия. Нельзя не заметить, как совпало одно с другим. Хрущев доказал, что, нападая на Сталина, нападают на православие. Эти нападки закончились крушением Советского Союза. Но Святая Русь осталась. ПРАКС намерен заявить об этом во всеуслышанье. Рассчитываю на вашу поддержку.
Игорь Кончак изнывал от желания поговорить, но Ярлов любезно кивнул в сторону Аскера-Али-Мусы.
– Вопрос в том, что поддерживать, – отозвался он. – Мы поддерживаем одно: исламский социализм. Если ПРАКС поддерживает исламский социализм, мы поддержим ПРАКС.
– Но согласитесь, – неуверенно заговорил Ярлов, пасуя перед солдатской прямотой Аскера, – Россия – все-таки православная держава. Я не уверен, что в России ислам может существовать без православия.
– А православие без ислама точно не устоит. Оно будет уничтожено Западом, вместе с Россией, кстати говоря.
– Я готов с этим согласиться, если ислам готов поддержать православие.
– Ни одна вера не может поддерживать другую, в особенности истинная вера, каковой является ислам. Мы поддерживаем православие, поскольку православие ведет к исламу, как это делает ПРАКС. Поэтому я с вами разговариваю, только поэтому.
– Ценю вашу откровенность, но все-таки… (Для меня непривычно было видеть смущение Ярлова. Я слышал, что он придает сношениям с РОИСом особое значение, но не настолько же…)
– Россия – мусульманская страна, – со спокойной уверенностью проговорил Аскер-Али-Муса. – Она сама этого не знает, но это так. Целомудрие русской женщины тоскует по чадре. Только исламский социализм положит конец ростовщическому банковскому капиталу. Мы перераспределим и будем постоянно перераспределять доходы в пользу бедных, и бедных у нас не будет, как заповедано Кораном. Не было и не может быть другого социализма. Вместо налогов закят, спасающий души.
– Закат Европы? – неудачно сострил я.
– Закят, – повторил Аскер-Али-Муса, – пытаясь произнести слово по-арабски. – Закат Запада, ибо Запад – это ростовщический капитал.
– Джихад? – спросил Ярлов.
– Джихад, – подтвердил однорукий воин. – Великий русский поэт выразил суть джихада:
Мужайся, презирай обман, Стезею правды бодро следуй, Люби сирот и мой Коран Дрожащей твари проповедуй.– Пушкин?
– Да, Пушкин. Пушкин был мусульманин в душе. Никто, кроме мусульманина, не написал бы таких „Подражаний Корану“. За это его и убил европеец, крестоносец, пытавшийся обесчестить его жену… и Россию вместе с ней. Россия – мусульманская страна, если ее величайший поэт – мусульманин.
– А русский царь? – спросил я.
– Не может быть русского царя, кроме праведного халифа. А праведный халиф у нас был.
– Кто? – снова спросил я.
– Конечно, Сталин, – ответил Аскер-Али-Муса. Он встал со стула, собираясь уходить.
– Но вы поддержите нашу акцию? – встрепенулся Ярлов.
– Поддержим, насколько нам позволит наша вера и наша совесть.
С этими словами Аскер-Али-Муса закрыл за собой дверь.
– Но вы согласны с нами в главном? – почти крикнул ему вслед Ярлов.
– Мы уже условились об этом. Так Аллах велит, – ответил Аскер-Али-Муса из-за двери.
– Все-таки не может быть другой веры, кроме веры предков, – изрек Игорь Кончак, не дожидаясь, пока к нему обратится Ярлов. – Только вера предков исключает религиозную вражду, ибо вера предков не допускает прозелитизма; нельзя принять не своих предков за своих, и потому нельзя перейти в другую веру. Предков не меняют. Чингисхан следовал этому принципу и завоевал мир, оберегая все религии. Чингисхан наряду со Сталиным – вдохновитель ПРАКСа. Орда, орда, орда – вот истинный прообраз советской империи.
Он говорил бы еще долго, но Ярлов прервал его:
– Ваша позиция мне ясна. Поддерживаете ли вы нас в главном?
– Конечно! Безусловно! – с пафосом зажил Игорь Кончак, хотя я заметил, что вопрос смутил его.
– Тогда позвольте вас проводить. Мы рискуем утомить Иннокентия Федоровича, который все-таки не совсем здоров.
Ярлов обернулся ко мне:
– До свиданья, завтра я тоже приду к вам не один.
Я рассчитывал спросить его наедине, о какой акции идет речь, но Ярлов откланялся и в тот день больше не появлялся, оставив меня на попечение Клавдии, а с ней я предпочел ничего не обсуждать, чтобы не тревожить ее. Я не забывал, насколько она зависит от Ярлова и ПРАКСа, хозяйничающего в доме, где она живет.
На другой день Ярлов вошел ко мне с двумя молодыми людьми, яростно спорившими еще в коридоре. Оба они были одеты в одинаковую камуфляжную форму, и только по голосу я определил, кто из них девушка, а кто юноша. Девушка оказалась лидером возрожденного Комальба, юноша представлял Истком. Обе организации клялись в непререкаемой верности заветам Антонины Духовой, и оба лидера обвиняли друг друга в отступничестве. Я не сразу понял, в чем суть их разногласий, так как Ярлов не предоставлял слова ни юноше, ни девушке, лишь подливая время от времени масла в огонь их спора. Лидер коммунистических альбигойцев своим звонким голоском требовала абсолютной добровольности при формировании народной армии. Всеобщую воинскую повинность она объявляла посягательством на свободу личности, а профессиональную армию считала продажным охвостьем ростовщического капитала. Напротив, лидер Исткома еще не устоявшимся юношеским баском требовал всеобщей воинской обязанности без всяких скидок на здоровье и возраст. Весь народ должен состоять из воинов. Человек рождается воином и воином умирает. Любая работа, даже уборка мусора на улицах, рассматривается как работа для фронта. Добровольность при этом объявлялась лазейкой для предателей, извращенцев и других врагов народа. На это представительница Комальба яростно возражала. Комальбовская добровольность не допускает отказа от службы в армии, она лишь испытание на приверженность свету или тьме (рецидив подлинного альбигойского учения.) Кто отказывается добровольно вступить в комальбовскую армию, тот подлежит немедленному уничтожению, чтобы он снова мог родиться и в новой жизни искупить грех уклонения от священной войны с тьмой. Точно так же уничтожению подлежат и те, кто уклоняется от исткомовской всеобщей воинской повинности. Не совсем понятно было, как, согласно военной доктрине Комальба, поступать с младенцами. Если все рождаются воинами, согласно Исткому, то в чем же Комальбовская добровольность? Тут, возможно, опять обнаруживались корни старинного альбигойства. Рождение само по себе считалось грехом, а воинская служба понималась как искупление. Но, согласно Исткому и согласно Комальбу, уничтожению подлежали все, кто уклоняется от военной службы. Истком и Комальб наперебой заявляли о своей готовности поддержать акцию ПРАКСа, даже не спрашивая, в чем эта акция заключается.
– Главное то, что объединяет нас, а не то, что разъединяет, – наставительно подытожил дискуссию Ярлов. – А в главном вы согласны с ПРАКСом, не так ли?
Комальбовка и исткомовец заверили в один голос, что в главном они с ПРАКСом согласны, хотя ни на какие компромиссы в идеологической борьбе не пойдут. Ярлов вышел из палаты вместе с ними, так что мне опять не удалось спросить, какая акция предстоит и в чем главное, не допускающее разногласий.
Я чувствовал себя Лениным в саркофаге, у которого происходят некие таинственные совещания.
На другое утро меня безучастно осмотрел незнакомый врач и ретировался, не сказав ничего определенного. Буквально вслед за ним в палату вошел Ярлов. „Сегодня я надеюсь развлечь вас“, – доверительно сообщил он, потирая руки и привычно расставляя шахматы, как будто шахматные фигуры непременно должны были присутствовать при конфиденциальных переговорах, которые вел Ярлов. Я собрался задать ему мои вопросы, но Ярлов, угадав мою мысль, заверил меня, что в ближайшее время он сам объяснит мне все. В дверь постучали, и в палату торопливо вошел вихрастый очкарик; его лохмы были бы огненно рыжими, если бы их не обесцвечивала седина. „Валерий Фимченко“, – представил Ярлов вошедшего мне, а потом повторил дежурные слова об эксперте Чудотворцевского фонда. Новоприбывший принялся излагать свои идеи, явно довольный тем, что его слушают. Валерий Фимченко, классный программист, едва не стал хакером, но его отвлекли задачи другого рода, Он заложил в свой компьютер хронологию всемирной истории и пришел к выводу: она не что иное, как зашифрованный прогноз. Единственной достоверной книгой в истории человечества оказался Апокалипсис. Ключом к хронологическому шифру было звериное число 666. Из него выводились все сколько-нибудь знаменательные даты в истории, о подлинном значении которых можно судить по их нечистому источнику. Исторические события либо измышлялись, либо фальсифицировались Антихристом, предшествующим Христу согласно Фимченко. Рождество Христово произошло на тысячу лет позже, чем принято считать. Слуги Антихриста приписали христианской эре лишнюю тысячу лет, чтобы высмеять бессилие христианства. Крестовые походы начались, чтобы предотвратить распятие Христа. Крестом и распятием крестоносцы привлекали все новых и новых участников, и распятие Христа удалось предотвратить: крестоносцев возглавил сам Христос. События, предшествовавшие Рождеству Христову, происходили на материках, прекративших свое существование не так давно, как принято думать: гибель этих материков засвидетельствована Апокалипсисом. Армагеддон не что иное, как Троянская война, которой завершилась история Атлантиды. Змеи, задушившие Лаокоона и его сыновей, – первые волны начинающегося потопа. Деревянный конь, от которого предостерегает Лаокоон, эмблема, хорошо знакомая по кораблям викингов. Лаокоон погиб, не поверив, что надвигается потоп. Викинги – потомки троянцев, уплывшие на деревянных конях мстить ахейцам. И те и другие – обитатели Атлантиды, междоусобной войной погубившие свой материк. Индия и Китай – названия затонувшего материка Лемурия. „Махабхарата“, „Рамаяна“, „Троецарствие“ посвящены событиям на этом материке, также погибшем. Избранный народ Ветхого Завета – народ Рос, о котором говорит пророк Иезекииль. Это русские, тоже потомки атлантов-троянцев. Будущее, настоящее и прошлое то и дело меняются местами в историографии. Так произошло, например, с убийством русского царя Александра II, которое выдается западной историографией за убийство короля франков Дагобеpa II, произошедшее якобы в первом тысячелетии после Рождества Христова (что Рождество Христово было на триста с лишним лет позже убийства Дагобера II, мы уже знаем). Через пять лет после цареубийства в России священник Беранже Соньер получает назначение в деревню Рен-ле-Шато в предгорьях Пиренеев. Через десять лет после цареубийства он находит таинственные документы, возрождающие или фабрикующие миф о сакральном королевском роде Меровингов. Любоцытно, что Октябрьской революции тоже еще не было. То, что рассказывают о ней, относится к русской революции, которая должна произойти в конце первого тысячелетия после Рождества Христова, то есть, по Фимченко, в конце мнимого двадцатого, а на самом деле десятого века. Ярлов многозначительно подмигнул мне, но Валерий Фимченко сам обратился ко мне:
– Я давно собирался встретиться с вами. Ваша книга „Русский Фауст“ показывает, как живуча инерция привычной историографии. Историк подтверждает значение события, совершившегося у него на глазах, перенося его в прошлое. Это всего лишь прием, не более, я понимаю. Вы не можете не знать, что Фавст Епифанович был обезглавлен не в 1583, а в 1983 году, на четыреста лет позже. Обезглавила Фавста некая секта. Ее глава, называемый своими последователями „Иван Грозный“, очень хотел побеседовать с головой Фавста. В случае эксгумации вы найдете в одной из могил на мочаловском кладбище обезглавленное тело, уверяю вас.
В его словах, по-исследовательски нейтральных, была такая жуткая убедительность, что я весь сжался в моем гипсовом саркофаге, подумав, не я ли обезглавленный Фавст. Ярлов небрежно передвигал фигуры на шахматной доске.
– Мы оба с интересом выслушали вас. – Ярлов поднял глаза на Фимченко. – Судьбу вашего труда, который вы нам предложили, будет, откровенно говоря, решать Иннокентий Федорович. Надеюсь, он прочтет или ему прочтут ваш труд в ближайшем будущем в зависимости от событий, которые произойдут или не произойдут, согласно вашему прогнозу. Звоните мне… после этих событий.
Ярлов выпроводил Фимченко, и сразу же в дверь снова постучали. В ответ на ярловское „войдите“ в палату вбежал низенький кругленький человечек. Его обширная лысина была обрамлена венчиком жестких черных волос. Его глаза пугливо бегали, а своим глазам я не поверил: передо мной нервно приплясывал сам Бенедикт Витальевич Биркенцвейг, протягивая Ярлову увесистый дипломат:
– Вот! Здесь все – как мы уславливались. Можете не пересчитывать.
– Не сомневаюсь. Вы же не о двух головах, – величественно произнес Ярлов.
– Теперь я могу лететь? Препятствий не будет?
– Летите, голуби, летите, – промычал Ярлов. – И подольше не возвращайтесь. Может быть, лучше вам не возвращаться совсем.
– А на присуждении премии „Восторг“ вы не позволите мне присутствовать? Мы намереваемся присудить эту премию вам… как главному режиссеру театра „Реторта“.
– Что ж, присуждайте, – милостиво согласился Ярлов. – Только при одном условии: таким же „Восторгом“ вы отметите Иннокентия Федоровича Фавстова с его книгой „Русский Фауст“.
– Разумеется, разумеется.
– И не обижайтесь, если узнаете, что в России национализирована ваша собственность. Сами понимаете: собственность была предоставлена вам на время. Я бы предложил вам управлять вашей национализированной собственностью, как это делалось в Китае, но вы слишком уж непрофессиональны: любое дело развалите. Так что довольствуйтесь вашей виллой на Лазурном Берегу и счетами в заграничных банках… До поры до времени.
Биркенцвейг засеменил к двери, где столкнулся с долговязым субъектом, в котором я с не меньшим изумлением узнал Алеко Вольфовича Гансинского.
– Так это ты все устроил, Алик! – взвизгнул Биркенцвейг. – Может быть, и тебе премию „Восторг“ присудить? Вот уж режиссер режиссера видит издалека!
– Смотрите, как бы вам обоим не присудили что-нибудь другое, – изрек Ярлов. – Принесли, Калека Вольфович?
Мне показалось, что, закрывая за собой дверь, Биркенцвейг вздохнул с облегчением, заметив, как Алеко Вольфович передает Ярлову аналогичный дипломат. Ярлов не постеснялся тут же раскрыть его. С моего одра я увидел, что весь дипломат набит толстыми пачками долларов.
– Не пересчитываю, так как умею считать до двух и знаю: вы не о двух головах, – повторил Ярлов.
– Я же не так богат, как Беня, – неожиданно высоким голосом взвизгнул Гансинский.
– Теперь богатый не богат, – процитировал Ярлов „Книгу о бедности и смерти“ Рильке.
– Но я могу… могу лететь? Препятствий не будет?
– Рожденный ползать летать не может, – опять процитировал Ярлов. – Препятствий не будет. Но помните: мы достанем вас, где бы вы ни были, и в лучшем случае предложим выбор между здешней и тамошней тюрьмой, где условия лучше… а в худшем… сами понимаете. Но пока ваши дела не так плохи. Мы, вероятно, все-таки запустим ваше телешоу „Союз нерушимый“. Чего доброго, и вы „Восторга“ удостоитесь.
Гансинский поспешно откланялся. Кажется, он и вправду торопился на самолет.
– Вот, теперь можно поговорить по душам, – обратился Ярлов ко мне, но дверь без стука открылась и на пороге появился мрачный тяжеловес в камуфляжной форме:
– Виленин Владиславович Типунов, – угрюмо доложил он.
Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел щуплый человек среднего роста, тоже в камуфляжной форме. Он снял офицерскую фуражку, и среди редких волос обнаруживалась изрядная плешь.
– Виленин такой молодой, и юный Октябрь впереди, – фальшиво пропел Ярлов. – Садитесь, Виленин Владисловович, не стесняйтесь нашего эксперта. Сразу скажу вам: ваше дело в шляпе.
– Предвыборная программа готова, Всеволод Викентьевич?
– Не только предвыборная, но и президентская. Вся она заключается в тексте гимна, который имею честь вам предложить.
– Так это гимн?
– Гимн, как вы заказывали.
Шагает рать ретивая. Вперед, не трусь! Свободная, счастливая, Святая Русь! Воистину спасение, Для всех пример! Ты жизнь, ты воскресение, СССР!– Хорошо, – одобрил Виленин Владиславович. – Только правильно ли обращаться к Руси с призывом: „не трусь“?
– Так это же не к Руси. Это к ретивой рати. А вообще если вы подберете другую рифму то я ничего не буду иметь против. Мне, кроме рифмы „гусь“, ничего больше в голову не приходит.
– Неуместно, – согласился Типунов.
– Баян Орфеевич Ганимедов с минуты на минуту представит музыку.
– Орфеевич? – насторожился Типунов.
– Кажется, он действительно Орфеевич. Музыкант в третьем или даже в четвертом поколении. Но в народно-патриотической аудитории он именуется Баян Ерофеевич.
– Вы уверены, что гимна достаточно?
– Вполне достаточно. Дело даже не в гимне. СССР – вот что обеспечит вам победу при любых обстоятельствах. И не придерешься: СССР – Свободная Счастливая Святая Русь. Кто устоит перед этим? В этом вся ваша программа. Все остальное от лукавого.
– Пожалуй.
Виленин Владиславович встал и на прощание пожал кончики моих пальцев на левой руке. Опытным глазом он определил, что можно у меня пожать. Ярлов пошел проводить его. На несколько минут в моей палате воцарилась Клавдия. Она взбила мне подушки, накормила супом, очистила апельсин, но поспешила уйти, как только вернулся Ярлов.
Я понял, зачем Ярлов оплачивает мне отдельную палату. Не найти лучше места для конфиденциальных встреч и совещаний. И пресса не имеет сюда доступа. Неужели это заговор, и я в него вовлечен явочным порядком, так как не могу встать и уйти? Но на что я им нужен?
Между тем вернувшийся Ярлов неторопливо передвигал шахматные фигуры. Я снова вспомнил смерть Ивана Грозного. Вспомнил я и неоконченную партию на шахматном столике в апартаментах, где убивали Распутина.
– Чувствую, мне пора высказаться, – начал Ярлов. – Наконец представился момент. О многом вы должны были сами догадаться. Да, в ближайшие дни, может быть, в ближайшие часы предстоит наша акция. Это мягко говоря. Но не хочется употреблять слов более громких. Нам нет нужды захватывать власть. Мы и так у власти. Мы были у власти с тех пор, как существует Русь. Самое слово „Русь“ ввели мы. Достижением последнего времени, лично моим, с вашего позволения, является слово „ПРАКС“. Все скверное у нас произошло потому, что слово это найдено было слишком поздно. Но раньше оно не могло быть найдено. Ислам, действительно, был бы предпочтительнее для нашей евразийской родины, но что поделаешь. Остается исламизировать православие и опровославить ислам. У нас общие святыни и общие цели. Посмотрите, с какой быстротой исламизируется просвещенная Европа. А коммунизм… Наш коммунизм в том, что для нас на миру и смерть красна. Вот почему мы, красные, против белых и розовых с их общечеловеческими ценностями. Мы можем допустить любые свободы, любые формы собственности, лишь бы человек был наш. И все останется по-прежнему. А кто наш, кто не наш, решаем мы, и ненаших устраняем.
– В этом и будет заключаться акция? – спросил я.
– Не совсем. Мы просто заявим, что мы у власти, вернее, власть у нас, и нам никто не сопротивляется, по крайней мере, открыто.
– А что будет после акции?
– Ничего. Все останется по-прежнему. В этом наш принцип. Остается только провозгласить его. Мы только сбросим гнет мондиализма с его общечеловеческими ценностями. Телевидение, в особенности, реклама сделали все, чтобы эти ценности опротивели русскому человеку, не говоря уже о самой жизни, которую он тоже связывает с этими ценностями, хотя жизнь останется, в общем, такой же и без них, но все-таки без них. Это уже завоевание. Так что не победить мы не можем, поскольку мы уже победили. Мы только напомним об этом и отпразднуем победу.
– А потом? Будут ли, например, выборы?
– Вот о чем вы беспокоитесь! Не ожидал от вас. Как и до сих пор, будут выборы, но не будет выбора. Все равно избран будет наш человек. Другого мы не допустим.
– Виленин Владиславович Типунов?
– Хотя бы. Он наш человек, человек государев.
– Государев? Кто же государь?
– ПРАКС. Кто же еще? Соборное самодержавие – вот сокровенная суть ПРАКСа. Любому нашему человеку мы можем доверить всю полноту власти, потому что власть над ним у ПРАКСа.
Этого я не ожидал. Я молчал.
– Что же вы не спрашиваете о самом главном? – продолжал Ярлов. Всех, на кого мы рассчитываем, я спрашивал, согласны ли они на главное. Наш человек не боится крови. Вот главный признак нашего человека. Таким образом, главное – это смертная казнь. Вы услышите, какой радостный вопль поднимется, когда мы возвестим, что смертная казнь увековечивается. И тот, кто обрадуется этому будет прав. Смертная казнь – сакрализация человеческой жизни. Отказ от смертной казни – безразличие к человеку, чего человек не выносит. В смертной казни отказывает человеку тот, кто не верит в бессмертие души, в воскресение мертвых. А внутри социального организма смертная казнь – лишь целительная ампутация, при которой ампутированный член регенерируется, реинкарнируется. Существует, наконец, оргазм смертной казни. Вырастают же под виселицами мандрагоры от спермы, изливаемой повешенными. Итак, согласны ли вы с ПРАКСом в самом главном?
– Нет, – твердо ответил я.
– Рассчитываю переубедить вас в ближайшее время. А теперь я настрою для вас телевизор. Утром пораньше просто включите его, и все. А теперь покойной ночи.
Ярлов ушел, оставив на шахматной доске расставленные фигуры.
Я долго не мог уснуть, забылся беспокойным сном лишь к утру и проснулся позже обычного. Немедленно я включил телевизор. Сон тут же как рукой сняло. На экране двигались танки, двигались неуклонно, неумолимо, безостановочно. Долгое время я обращал внимание только на улицы, по которым они двигаются. У меня сложилось впечатление, что танки занимают позиции по всей Москве. Удивляло отсутствие комментариев. Потом голос диктора с деланым спокойствием произнес: „Ввиду чрезвычайных событий происходит передислокация бронетанковых войск“. И сразу же вслед за этим объявлением по экрану поползли титры: „ПРАКС… ПРАКС… ПРАКС…“ В первый раз я увидел это слово на экране телевизора.
Передвижение танков сменилось на экране православным церковным богослужением. Молодой подтянутый епископ, носящий церковное облачение как военную форму, торжественно возглашал: „С нами Бог!“ И тут же по экрану побежали те же титры: „ПРАКС… ПРАКС… ПРАКС…“ Я подумал, всели зрители знают, что такое ПРАКС. Через некоторое время голос за кадром призвал население сохранять спокойствие и объявил, что поддержание общественного порядка гарантируется. Затем по экрану снова поползли танки в сочетании с титрами: „ПРАКС… ПРАКС… ПРАКС…“ Становилось скучновато, но я подумал, что скука – необходимая принадлежность этого действа, если угодно, его цель. Скука подтверждала, что все остается по-прежнему.
Я спохватился и посмотрел, по какому каналу это все показывают. Обозначение канала я нашел не сразу. В левом углу экрана еле различалась цифра 0. Итак, это был нулевой канал. Мне очень хотелось посмотреть, что показывают по другим каналам, но я боялся, что потом не найду нулевого, никак не обозначенного на пульте.
А танки все шли, шли, шли, перемежаясь церковными богослужениями, трогательными пейзажами, милыми заброшенными деревушками, памятниками православной архитектуры, мимо которых тоже шли танки. Теперь уже и на танках можно было прочитать: „ПРАКС“.
Внезапно зрелище оживилось. Стали показывать телешоу с голыми девицами всех цветов кожи. Зазвучала мелодия марша демократической молодежи, впрочем, без слов, но старшее поколение помнило слова: „Дети разных народов, мы мечтою о мире живем“. Я понял, что это идет телешоу Гансинского „Союз нерушимый“. Вдруг на эстраду выбежали молодые люди обоего пола в спортивных костюмах, иногда просто в трусах. Они держали в руках пучки березовых прутьев. На прутьях кое-где сохранились листья, так что пучки походили на банные веники. Но, как выяснилось вскоре, это были розги, которыми новоприбывшие принялись хлестать участниц телешоу. Хлестали напоказ, но, по-видимому, хлестали больно, так как слышались взвизги, не лишенные, впрочем, эротизма. Трудно сказать, во что превратилась сцена: в баню, в застенок, или шло всеобщее радение; было непонятно, кто кого хлещет. Но вот к микрофону подбежала голая дива и завизжала: „Грешна! Грешна! Грешна!“ Хлипкий юноша в трусиках хлестнул ее еще раз, на нее накинули серую хламиду, а юноша сказал: „Иди и больше не греши!“ Участницы телешоу подходили к микрофону одна за другой, покаянно визжали и уходили со сцены в серых хламидах. Правда, казалось, что некоторые возвращаются, голые, их опять секут, и вся процедура повторяется, пока по экрану бегут титры: „ПРАКС… ПРАКС… ПРАКС…“ „Прах-с“, – впервые мелькнуло у меня в голове, и я удивился, как это не приходило мне в голову до сих пор.
Потом показали Красную площадь. Туда также вышли молодые люди, слишком легко одетые для поздней осени. В воздухе заметны были снежинки. Вышедшие на площадь неумело размахивали метлами, лопатами и вилами. Они выметали, ворошили, отвеивали что-то невидимое. „Прах-с“, – повторили про себя. А подметальщики, ворошилыцики, веяльщики начали что-то ритмически выкрикивать. Наконец, я расслышал, что, занятые своим таинственным делом, они кричат: „Меро-вей! Меро-вей! Меро-вей!“ А на экране все те же титры: „ПРАКС! ПРАКС! ПРАКС!“
Вдруг сборище сбилось с ритма и, толкаясь, поспешно, чуть ли не в панике покинуло площадь. На Красную площадь входили танки, как будто сюда-то они и двигались. На танке ехал Ярлов в кожане, с непокрытой лысиной, с курительной трубкой в руке на манер Сталина. На танке было написано красными буквами: „ПРАКС“. Танк остановился напротив мавзолея. Я думал, что Ярлов поднимется на мавзолей, но он остался на танке.
– Товарищи! – размеренно произнес Ярлов. – Октябрьская революция продолжается. („Все-таки продолжается, – подумал я про себя. – По Фимченко, она только начинается“.) Да, революция продолжается. Мы сбросили ненавистный гнет заокеанского владычества. Мы выпалываем ядовитые плевелы сатанизма, заполонившие русское поле. Объявляю вам, товарищи! Смертная казнь возвращается! Мы за смертную казнь!»
Голос Ярлова потонул в ликующем реве. Танк с Ярловым поехал дальше. Только на его лысину была водружена казацкая папаха. Танк Ярлова показывали то на той, то на другой улице. Танк останавливался, и Ярлов возглашал: «Смерть сатанистам!», «Смерть мондиалистам!», «Смерть паразитам!». Вскоре, впрочем, Ярлов начал повторяться и все чаще просто кричал: «Смерть! Смерть! Смерть!» – и толпа хором ревела: «Смерть!». Только на Пушкинской площади Ярлов счел нужным расшифровать свою магическую аббревиатуру. Перед памятником Пушкину он снял папаху и торжественно провозгласил: «Товарищи! Православно-коммунистический союз вернет смертную казнь!» И толпа заревела: «ПРАКС! ПРАКС! ПРАКС!»
Тут произошло нечто совершенно невероятное. Не надевая папахи, Ярлов объявил: «Товарищи! Соотечественники! Православные! Слово предоставляется патриарху отечественной философской мысли профессору Платону Демьяновичу Чудотворцеву». И на танке рядом с Ярловым оказался Платон Демьянович. Я понял, что самое главное, для меня по крайней мере, совершится сейчас.
Трудно было представить себе место, менее подходящее для Платона Демьяновича, чем танк. Кроме того, кто лучше меня помнит дату его смерти. И все-таки я не сомневался, что на танке Чудотворцев. «Сестра! Сестра! – слабо крикнул я. – Клавдия!» Но она не шла, а Платон Демьянович говорил:
– Товарищи! – обратился он к толпе, как привык обращаться к своей аудитории за долгие годы советской власти. – Помните ли вы, Кто сказал: «Царство Мое не от мира сего»? – (Толпа молчала. Я не расслышал никакого ответа, а Чудотворцев расслышал, или непревзойденный мастер диалога сделал вид, что расслышал.) – Да, это сказал Христос. Тот, Чье царство не от мира сего, смертью смерть попрал. Так что же еще можно сказать о смерти после того, как Он воскрес?
Я увидел, как судорога пробежала по лицу Ярлова. Чудотворцев сказал не то, на что рассчитывал Ярлов. А чего он, собственно, ждал? Неужели он рассчитывал манипулировать Чудотворцевым… теперь? Танк тронулся. На некоторое время он исчез с экрана. А когда танк снова показали, Чудотворцева рядом с Ярловым уже не было. Только обозначение канала изменилось. Вместо нуля появилось оо, эмблема бесконечности. Но меня такая бесконечность больше не интересовала. Я переключил телевизор на другой канал.
Тут в палату вошла Клавдия.
– Знаешь, я только что видел Платона Демьяновича, – не удержался я.
– Очень рада за вас. Я тоже смотрела… вместе с медперсоналом.
Несмотря ни на что, мы все-таки оставались на «вы». «Ты» в общении с ней прорывалось кое-когда только у меня.
– Так вы видели его? – зачем-то снова спросил я.
– Конечно, видела. Но для меня в этом нет ничего особенного. Я с ним вижусь постоянно. Мы работаем.
– А как вам вообще вся эта ярловская акция?
– Акция вполне удалась. Только, по-моему правильней назвать ее чудотворцевской акцией.
– Вы считаете, что Платон Демьянович…
– Я не считаю, я убеждена. В чем же смысл этой акции, если не в том, что Платон Демьянович наконец обратился к православному народу, к русским людям?
– И вы согласны… со всем остальным?
– С ним я всегда согласна.
– Ас господином Ярловым?
– Всеволод Викентьевич своей акцией лишь послужил Чудотворцеву. Жаль только, что новая книга Платона Демьяновича не вышла к этому дню. Кира Платоновна сделала все, что в ее силах и даже сверх своих сил, чтобы этому воспрепятствовать.
– Какая книга?
– «Записки о Христе». Мы работали над этой книгой в последнее время.
– Разве он писал ее… при жизни?
– Он и завершил ее при жизни… вот сейчас… совсем недавно… Неужели вы тоже не верите… как она?
– Почему же она… воспрепятствовала?
– Давайте не будем обсуждать этого. Вы все-таки еще не здоровы. Она доказывает, что Платон Демьянович не писал этой книги, что ее написала я. Как будто я могла бы написать что-нибудь подобное!
– Но книга выйдет?
– Да, Всеволод Викентьевич издает ее в своем издательстве… вопреки всем усилиям Киры Платоновны.
И все-таки я не мог не спросить ее снова:
– И вы во всем… во всем согласны с господином Ярловым?
– В этом, повторяю, я с ним согласна.
– А в главном?
– Это и есть главное для меня, как, надеюсь и для вас.
– А Всеволод Викентьевич вас не спрашивал, согласны ли вы с ним в главном… для него?
– Нет, не спрашивал. Думаю, что и для него главное Чудотворцев.
– К сожалению, нет. Он сам называет главным для себя возвращение смертной казни.
– Но ведь это только слова, рассчитанные на эффект. Всеволод Викентьевич – человек театра. Вы же слышали, что сказал о смерти Платон Демьянович, и Всеволод Викентьевич не прервал его…
– А по-моему, прервал. Он дал знак танку двинуться, а когда танк снова появился на экране, Платона Демьяновича уже не было.
– Платон Демьянович есть. И всегда будет. Меня не будет, а он будет. – Слезы послышались в голосе Клавдии, но я не мог не добиться от нее решительного ответа).
– Скажите, а если бы Ярлов спросил вас, как он спрашивает всех, за смертную ли вы казнь, что ответили бы вы?
– Я ответила бы, что я против.
– Даже если бы он пригрозил вам, что не издаст новую книгу Чудотворцева?
– Его книгу нельзя не издать. На вопрос о смертной казни я бы ответила: «Нет!» Но, слава Богу, мне он такого вопроса не задавал.
Я вздохнул с облегчением. Все-таки она моя сестра. Свое «нет» она произнесла с той же интонацией, что и я. Так мне показалось.
Клавдия вышла из палаты. Я включил телевизор и прошелся по всем программам, везде напарываясь на рекламу. Все передачи шли своим чередом, как будто ничего не случилось. И в новостях не шла речь ни о чем особенном. Сообщали о конкурсах красоты, о громких преступлениях, о неплатежах. Показывали улицы Москвы, на которых не было никаких танков. Куда они девались? Так быстро ушли? Но ведь они были на всех улицах, даже на Красной площади. Почему молчат об этом? Неужели акция все-таки не удалась? Где Ярлов? Я подумал было, не арестован ли он, но тогда об этом тоже сообщили бы. Лишь в самом конце новостей ведущая кокетливо сообщила о премьере телеспектакля «ПРАКС» на новом телеканале. Несколько журналистов отдали дань своеобразному искусству известного режиссера Всеволода Викентьевича Ярлова, чей театр «Реторта», истинная лаборатория магического жеста, использует некоторые приемы легендарного театра «Красная Горка». Тут на экране появился Чудотворцев со словами: «Да, это сказал Христос», так что появление Платона Демьяновича подавалось как театральный прием, не более. Показали кадры с движущимися танками, похвалив технику монтажа. На мгновение промелькнули веяльщики с лопатами, издалека донеслось: «Меро-вей!» Но самое главное с криками «Смерть! Смерть!», на экран так и не выплеснулось. Неужели Ярлов потерпел поражение в главном, добившись лишь вялых комплиментов своему театрально-телевизионному искусству? С другой стороны, разве сам Ярлов не заверял меня, что все останется по-прежнему, и в этом его победа? Но чего стоит победа Ярлова… без смертной казни, когда он требует именно смертной казни? Значит, его победу растворили в ненавистном плюрализме, которому Ярлов противопоставлял полифонию, ссылаясь на Чудотворцева? Все-таки Ярлов рассчитывал не на это, а на что-то другое. Наверное, были и танки, и народные толпы, скандирующие: «Смерть мондиалистам», хотя большинство (а что такое толпа, если не большинство) не понимает, что такое «мондиализм», невольно меняя в этом слове «о» на «а». Признаться, я уже устал видеть Чудотворцева на танке, повторяющего: «Да, это Христос сказал». Но поздно вечером ситуация переломилась. В новостях безучастно сообщили, что обстреляна машина известного режиссера гроссмейстера Ярлова. Некоторое время поддерживалось тревожное ожидание, наконец, в информацию внесли уточнения. Машина Ярлова обстреляна из автоматов по дороге на дачу режиссера в пригороде. Преступный мир попытался избавиться от непреклонного борца с преступностью. Сам режиссер не пострадал, но погиб его водитель. У меня заныло сердце. «Кто? – мучительно думал я, – неужели…» Я бы позвонил на телевидение, но руки мои были все еще скованы гипсом, да и телефона в палате не было, вообще, никого не было, только телевизор. Позвать сестру я не решался. Что я ей скажу? Что для меня водитель Ярлова? На экране появилась роскошная машина, изрешеченная пулями. У машины ораторствовал Ярлов, жестикулируя трубкой. Вот к чему приводит господство мнимых общечеловеческих ценностей. В коррумпированном обществе царят убийцы. Тут требуется террор, террор… «Не побоюсь этого слова, – вещал Ярлов. – Да, террор… „Реторта“ – не просто театр, это школа борьбы с преступностью». Тут на экран прорвались толпы, ревущие: «Смерть! Смерть! Смерть!» Ревом толпы был изысканно оттенен патетический голос Ярлова: Для него это личная потеря… Но не только для него… Молодой человек трудной судьбы обещал многое. Погиб не просто водитель, погиб будущий предводитель Святой Руси. Чтобы убедиться в этом, достаточно вглядеться в его лицо. (На экране крупным планом показали портрет Федорыча, как будто давно ждали такого случая.) Достаточно услышать его имя… И Ярлов со значением произнес: «Погиб Михаил Федорович Меровейский… Где был нынешний Иван Сусанин?»
Почему Меровейский? При чем здесь Иван Сусанин? Ах да, Михаил Федорович… Слов нет, эффектная концовка телеспектакля… Может быть, и обстрел машины, и убийство водителя – лишь режиссура «Реторты»? Я сам себя чувствовал в реторте, всю ночь не смыкая глаз. «Сны у тебя», – слышался мне голос Фавста. Рано утром Ярлов уже был в моей палате:
– Вы уже все знаете? Жаль, что наше торжество омрачено таким трагическим событием и нынешний день приходится начинать не поздравлением, а искренним соболезнованием вам.
– Разве это не был телеспектакль?
– Помилуйте, что же такое история, если не телеспектакль? Вспомните Просперо: «We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep». – (Ярлов щеголял английским произношением, а мне снова послышалось: «сны у тебя»). – Да, да, погибший был ваш родной сын.
«Что же Фавст морочил меня? – подумал я. – Но разве я сразу не понял: „сны у тебя, сын у меня“?»
– Почему же он Федорыч? Почему Меровейский?
– Неловко объяснять подобные вещи родному отцу такого сына. – Ярлов говорил, не скрывая издевки. – Почему ваш сын имеет право на фамилию Меровейский, вы сами убедительнейшим образом доказали в книге «Русский Фауст»… А Федорыч… Мы называли его Федорыч по отчеству деда, как Полюса называли не Платоновичем, а Демьянычем, Демоновичем. У парня не было никаких документов. Я сразу привязался к этому юноше трудной судьбы. Мы сказали, что его документы потеряны. Пришлось понести некоторые расходы, и он получил паспорт на имя Михаила Федоровича Меровейского.
– Вы уверены?..
– Совершенно уверен. Анализы мадам Литли неопровержимы. Она и установила факт вашего… родства. Я вижу, вы стесняетесь спросить о его матери. Кира Платоновна здесь, в морге, где лежит несчастный Федорыч. Она не поднимается к вам только потому, что не хочет встречаться с Клавдией, э-э, Федоровной. Так что во всех вас Кровь Истинная, не сомневайтесь.
Я рванулся из моих гипсовых оков:
– Это ты убил его! Ты организовал это убийство. Твоя акция не была бы акцией, если бы не пролилась кровь Меровейских.
Ярлов только усмехнулся:
– Осторожнее, Иннокентий Федорович! Своими надломами вы можете возобновить ваши переломы. Я понимаю ваши чувства. Если вы возьмете себя в руки (ах да, извините, руки у вас тоже переломлены), ну, скажем, если вы овладеете собой, я позову санитаров, и они доставят вас в морг… то есть туда, где сейчас Кира Платоновна и он… простите, я, наверное, никогда не отвыкну называть его «Федорыч…»
Санитары бережно переложили меня на каталку и отвезли в лифт. Мы спустились на первый этаж, где перед каталкой бесшумно открылись бронированные двери. Прежде всего при лампах дневного света я увидел Киру Совершенно седая, высохшая, как мумия, она стояла над столом, где лежало тело, прикрытое поблескивающим пологом из синтетики. Кира оборотилась ко мне, и в ее сухих глазах я увидел отчаянье, как у Клер перед тем, как та направила машину под откос.
– Прости, – глухо сказала Кира. – Это я во всем виновата. Я от тебя скрыла… Ты не знал.
Ярлов откинул синтетический полог, и я увидел обезображенное пулями лицо Федорыча (я тоже, наверное, никогда не смогу назвать его иначе).
– Совершено кровавое преступление, – сказал Ярлов. – Я бы сказал, это ритуальное убийство. Полагаю, что родители убитого не могут не требовать смертной казни для убийц, кто бы они ни были.
Я увидел телевизионную аппаратуру Сцену с родителями над телом убитого сына Ярлов снимал. Все это происходило в ярловской реторте. Я с отвращением отвернулся от лярвы.
– Нет, – сказал я, подавляя тошноту.
– Нет, – отозвалась Кира. – Его не вернешь. Зачем другие такие же тела?!
– Небовичи! – проскрежетал Ярлов. – Что же, значит, молодому князю Меровейскому повезло с предками, но не повезло с родителями. Признаться, я ничего другого и не ждал от господина Фавстова. Но, может быть, хоть вы, Кира Платоновна, напоследок над телом вашего мертвого сына проявите материнские чувства?
Я видел, какую страшную ловушку поставил Кире Ярлов. На такой вопрос невозможно было ответить: «Нет!» Кира молча покачала в ответ головой.
Глава двенадцатая ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ
НЕСКОЛЬКО дней я пролежал недвижно. Телевизора я больше не включал. Ни доктор Сапс, ни Ярлов больше не заходили ко мне. По-видимому, оба утратили ко мне интерес. Я вполне отдавал себе отчет в том, что меня в любой момент могут вышвырнуть из палаты, вообще из клиники доктора Сапса. Того, что лежало у меня под подушкой, не хватило бы на три дня пребывания здесь, один рентген стоил дороже, а рентгеновскому обследованию я подвергался каждую неделю, иногда чаще. Примерно через день ко мне заходили разные врачи, может быть, это был один и тот же с незапоминающейся внешностью. Только Клавдия не покидала меня. Я чувствовал, что мне надо бы увидеться с Кирой, но говорить об этом с Клавдией было невозможно.
– Сноситесь между собой как-нибудь помимо меня, – холодно отвечала она, когда я заговаривал о встрече с Кирой.
Правда, к похоронам Федорыча Клавдия проявила некоторый интерес, как-никак это был ее племянник. Врач запретил везти меня на кладбище, так что я простился с моим сыном все в том же морге в присутствии Киры и Клавдии, старательно избегавших смотреть одна на другую. Похоронами занималась одна Кира. От помощи ПРАКСа она категорически отказалась. Клавдия заверила меня, что мое пребывание в больнице оплачено Ярловым на несколько недель вперед и мне нечего беспокоиться, но я продолжал беспокоиться, за что же платит деньги Ярлов в моем случае. Значит, он продолжает на что-то рассчитывать, а его расчеты уже стоили жизни моему сыну. Я надеялся только на то, что долго держать здесь меня не будут, снимут гипс и я как-нибудь доплетусь до своего дома. Я был погружен в эти мысли, когда Клавдия впустила в палату мою крестную Софью Смарагдовну.
Она была все такая же. Ее золотисто-каштановые волосы не седели. Никто не отваживался спросить, сколько ей лет. Такой вопрос как-то в голову никому не приходил. Софья Смарагдовна села возле моей постели и ласково погладила мои седые волосы, как она гладила их, когда я был совсем маленький. Я не удержался и, как маленький, заплакал. Она осторожно вытирала мои слезы своим платком:
– Ну что ты, что ты! Тетя Софи с тобой. Ты же знаешь, я никогда не сплю. Помнишь, как я прятала тебя в моем саду? Я всю жизнь тебя прячу, а ты не замечаешь.
– Зачем он морочил меня? – спросил я сквозь слезы.
Она сразу поняла, что я говорю о Фавсте.
– Он тебя не морочил. Он же тебе все сказал, и ты все понял. Ему говорить с тобой иначе нельзя.
– Почему он прямо не сказал мне, что Федорыч – мой сын?
– А потому, что ты должен был сам узнать его. И Кира тоже. Помнишь, он ночевал у тебя. Комнату, которую Марья Алексевна готовила для Веточки Горицветовой, заняла мадам Литли. А в ней мог бы жить Миша Фавстов. И у Киры Ярлов пробовал снять для Федорыча комнату. И Кира позволила ему в этой комнате только переночевать, побоялась, как бы он не стеснил ее. Это в огромной-то квартире!
– Мне стыдно спрашивать, но как он родился?
– Так вот Кире всю жизнь было стыдно тебе об этом сказать. В 1971 году Кира родила его… Она была уже не так молода… Всю жизнь она мечтала о сыне… от тебя. Но она безумно ревновала тебя к Клавдии и решила скрыть от тебя даже свою беременность, а если родится сын, вырастить его самой, без тебя и представить его тебе лишь тогда, когда ты сможешь им гордиться и почувствуешь свою вину перед ней. Вот о чем она мечтала. Заметь, она тогда еще не была разведена с Адиком Луцким, так что ребенок был бы Луцкий, а не Чудотворцев и не Фавстов… Адриан не придал бы никакого значения тому, что у Киры кто-то родился. Они же предоставили друг другу полную свободу. Вот она без тебя и родила… мертвого. – Я задохнулся от ужаса. – А Фавст унес его тайком из родильного дома к себе в лес или в невидимый град, как лучше сказать, сам суди. Фавст оживил его, он один знает как. Отец Иоанн окрестил его, дал имя Михаил. Мы выпаивали его молоком (я знаю, где такое молоко найти), а мед у Фавста свой. Так вот мальчик и рос, и сил набирался, и учился у Фавста и у меня.
– Без родителей?
– Считай, что мальчик рос у дедушки с бабушкой. Помнишь:
Знатнейших отпрысков растят, Подолгу те у них гостят…А он соскучился, и от дедушки ушел, и от бабушки ушел… к ярловским молодчикам, которых Ярлов готовит не для добрых дел…
– А что же отец с матерью?
– Подумай сам, что Фавст мог тебе и Кире сказать? Кто он такой для вас? Полоумный бродяга, бомж, привел неизвестно кого. Взять хоть бы тебя. Пускай ты о Фавсте сто раз писал, заявится к тебе некто и скажет: «Я Фавст, живу четыреста с лишним лет». Поверишь ты ему? Наверняка сочтешь сумасшедшим или похуже кем-нибудь. А Кира? Она же знала, что мертвого родила… И вдруг здрасте-пожалте, твой сын объявился. Вот потому-то мы и не вмешиваемся в ваши дела. Помогаем, как умеем, но вы нашу помощь не умеете принять. Оставалось одно: чтобы Кира и ты своего сына признали, чтобы сердце вам подсказало, и сердце подсказывало вам, а вы сердцу своему не верили. И теперь вы кому поверили? Страшно сказать, мадам Литли, ее анализам… Потому Фавст и насчет Клер ничего не сказал тебе. Ты бы не поверил, а поверил бы, так не понял бы, чему поверил, и натворил бы чего-нибудь еще похуже. Если бы вы с Кирой душа в душу жили… а то какой Мише от вас был бы прок…
– Почему же Фавст не спас его… на этот раз?
– Не успел. К доктору Сапсу витязь попал, и тот что-то с ним сделал. Ярлову, Сапсу, мадам Литли нужно было, чтобы молодой князь Меровейский пал смертью храбрых…
– Скажите, зачем им смертная казнь?
– Чтобы страх был. Чтобы их боялись больше, чем Бога. Кто Бога боится, тот ничего не боится. А если их не боятся, их нет со всеми их ретортами и капиллярами. А доктору Сапсу органы здоровые нужны. Казнят молодых и здоровых, так что Трансцедосу есть чем поживиться. Он же пересаживает все, ему бы голову Фавста, тогда он и головы пересаживать начнет.
– Где же теперь Фавст?
– У себя. Снадобье для Клер готовит.
– Он поможет ей?
– Как Бог даст. Нельзя мне говорить иначе, ты глупостей наделаешь.
– А со мной что?
– На днях с тебя снимут гипс, и тебе надо с Кирой быть, хоть Клавдия обидится, но ей что, с ней Чудотворцев.
– А что сейчас Кира?
– Плохо ей, как всегда, но если кто тебя любит, так это Кира. Ее тоже голыми руками не возьмешь. Она решила Ярлова наказать, а наказывает Клавдию… из ревности. Могилу Чудотворцева собирается раскапывать, чтобы доказать: Чудотворцев лежит в могиле, а не пишет книг и по телевидению не выступает.
– На «Красной»-то «Горке», тетя Софи, кто не выступает.
– «Красная Горка» – не реторта. Дай срок, мы «Фауста» покажем.
– И кого вы будете играть? Маргариту или Елену?
– А ты угадай. Скоро Платон Демьянович закончит «Действо о Граали» с мелодией бессмертия. Кто услышит, тот не умрет.
– Как воскреснет тот, кто не умрет?
– Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся, – ответила она. – Ну, Христос с Тобой. – Софья Смарагдовна меня перекрестила. – Смотри, Киру не покидай! А уж я за тобой присмотрю.
Через несколько дней с меня сняли гипс. И в тот же день, опираясь на палку, я отправился на мочаловское кладбище, где меня ждала Кира. От Трансцедоса до кладбища недалеко, что давало всегда повод для мрачных шуток. Кира ждала меня у ворот. Увидев, что я пришел без Клавдии, она вцепилась в мою руку и больше не отпускала ее. Мы дошли до ограды, в которой ложилась еще одна могила. На ней уже был установлен крест без надписи, как принято в нашем роду. Два мужика копали в ограде. Я осмотрелся, кто пришел. Людей было совсем немного. Телевидение не приехало, хотя Кира рассчитывала именно на телевидение. Разумеется, Клавдия тоже не пришла. «Мне до этих раскопок дела нет. Мы с Платоном Демьяновичем должны работать. А вечером я тебя навещу», – сказала она, выходя вместе со мной за ворота Трансцедоса. С удивлением я заметил у ограды Николая Филаретовича Параскевина. Я знал, что он оплачивает отдельную палату для Клер. Он был не только бодр, но и весел. В этом году ему исполнилось девяносто шесть лет, столько же, сколько Платону Демьяновичу, когда тот отошел. Очевидно, деда Параскевина интересовали результаты эксгумации по личным причинам. Он поцеловал руку Кире, к чему та не привыкла, с непривычной сердечностью пожал руку мне. В это время к ограде подошел мужичок в очках, с портфелем. Он был в явном подпитии.
– Что же вы, дамочка, делаете? – обратился он к Кире. – Я не давал вам разрешения копать здесь. – (Это был заведующий кладбищем или директор, словом, начальник.)
– У себя в ограде что хочу, то и делаю, – отрезала Кира.
– Хоронить здесь без разрешения запрещается, – окрысился директор.
– Да я же никого не хороню, – ответила Кира. – Просто посмотреть хочу.
– Нечего тут вам смотреть. Здесь никто не похоронен.
– Как «никто»? Здесь похоронен мой отец, профессор Платон Демьянович Чудотворцев.
– Никакой профессор Чудотворцев здесь не числится.
– Как не числится? Я всю жизнь хожу на могилу к моему отцу.
– Это ваше личное дело, к кому вы ходите. Вот Серафима Федуловна Чудотворцева здесь похоронена. И этот, как его… Меровейский.
Кира всхлипнула. Какой-то журналист сказал, что раскопки проводятся с научной целью. Дед Параскевин отвел начальника в сторону и сунул ему какие-то деньги.
– Ну разве что с научной, – смилостивился начальник. – Только будьте любезны все по-прежнему закопать.
– Действительно, с похоронами Платона Демьяновича странная история вышла, – заговорил вдруг дед Параскевин. – У Платона Демьяновича была сиделка, можно сказать, не сиделка, а друг дома, но сиделок лучше не бывает: сама Софья Смарагдовна. Тут-то и вышел грех, а может быть, и не грех, не знаю, как сказать. Павлу Платоновичу, старшему сыну профессора, позвонили, чтобы срочно приезжал. Приезжает он в своем обычном состоянии, то есть выпивши, приезжает не один, а со своей тогдашней дамой; что с него возьмешь: артист, и только. Вот приезжают они, а на даче никого нет, и Платона Демьяновича нет. А по телефону, видно, сказали ему, или он так понял, что, мол, папенька скончался. Идет Павел Платонович по улице, плачет и всем встречным говорит: «Папашу в Монсальват увезли». Кто думает, что профессора увезла «скорая помощь», а кто полагает, что повезли его в морг. Подружка Павла Платоновича каких-то его дружков пригласила могилу копать. Лето было, время жаркое, на кладбище никого нет, никто не препятствовал. А Павел Платонович совсем сдал, все повторял: «Монсальват… Монсальват…» – и повела она его в ближнюю рощицу отдохнуть. С дружками, видно, расплатилась она заранее. Возвращаются, а никого нет, и могила засыпана. Не иначе как без них гроб привезли и закопали.
– Но постойте, тут никто никогда не был похоронен, – сказал один из «мужиков», занятых раскопками.
– Как «никто»? – вскинулась Кира.
– Посмотрите сами, госпожа хорошая, право же, никто. Засыпать, что ли?
Кира не возражала, лишь оперлась на мою руку всей своей тяжестью, хоть была совсем легонькая. Я отчетливо чувствовал, что за спиной у меня стоит Платон Демьянович, и не один. Справа от него отец Иоанн Громов, а слева Фавст. И тут же раздался удивительно знакомый голос:
– Последний же враг истребится – смерть.
Конец первой книги
Примечания
1
Одна артерия, одна и та же вена, Одна и та же кровь; ее мутит измена. Шарль Пеги. Перевод В. Микушевича. (обратно)2
Моя медицина помогает от бесплодия, мадам, но зачатие исходит от Бога (фр.).
(обратно)3
А вы, мосье, не могли бы заменить Господа Бога в этом деликатном деле? (фр.).
(обратно)4
Как дела, мосье?.. Ваше здоровье нерушимо, я уверена. Ваша кровь – лучшее лекарство. Ваша кровь переживет все трудности вашей жизни, я вам гарантирую. Пуссен хранит… но нет, ваша кровь хранит ключ…
Жаль… наша очаровательная вестница вне игры. Да, Клер, бедняжка… но ее судьба ясна, как ее имя. Она тоже выживет… Не беспокойтесь! С вашей кровью она переживет сама себя.
(обратно)
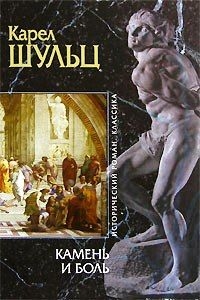
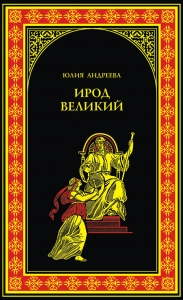


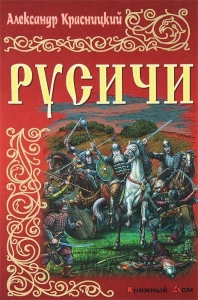
Комментарии к книге «Воскресение в Третьем Риме», Владимир Борисович Микушевич
Всего 0 комментариев