Анатолий Иванович Домбровский Великий стагирит Повесть Рисунки В. Вольского
Глава первая
Богам было угодно, чтобы он появился в Академии седьмого таргелиона[1], когда ее обитатели праздновали день рождения своего учителя Аристокла, мудрейшего из мудрых, прозванного Платоном, а все афиняне — день рождения Аполлона Дельфийского, чьи пчелы некогда наполнили медом, собранным с цветов горы Гметт, рот младенца Платона, наделив его таким образом сладчайшим словесным даром.
Самого Платона не было в Академии.
— Он снова в Сиракузах, — сказал Аристотелю привратник. — И в этот час пирует с тираном Дионисием. Отправляйся в Сицилию, если хочешь увидеть Платона.
— Тогда проводи меня к тому, кого Платон оставил вместо себя, — попросил Аристотель. — Я чужестранец, я прибыл из Стаги́ры. Если нет Платона, я готов учиться у его учеников.
— Я передам твои слова Эвдо́ксу, а ты подожди, — сказал суровый привратник и, закрыв калитку, неторопливо направился в глубь двора, где за деревьями белели стены дома Платона.
Аристотелю следовало бы, конечно, сначала разыскать македонского консула Никанора, к которому у него было письмо от сестры Аримне́сты.
— Ты найдешь дом Никанора во Внутреннем Кера́мике, рядом с харчевней Тимоли́та, по правой стороне, — говорила Аристотелю на прощание Аримнеста. — Запомни. Он поможет тебе найти жилье и обменяет твои деньги на афинские.
Аристотель любил свою сестру. И теперь, вспомнив о ней, улыбнулся. Многие годы она заменяла ему покойную мать, похороненную на Эвбе́е. Когда корабль, на котором он плыл из Стаги́ры в Пирей, шел вдоль берегов Эвбеи, Аристотель, думая о матери, заплакал. И этими слезами, как ему тогда подумалось, он простился не только с могилой матери, но и с родиной, и с юностью — со всей прошедшей жизнью и тем, что наполняло ее.
Аримнеста определила ему в спутники педагога[2] Нелея и повара Тиманфа, повелев первому никогда не оставлять своего господина одного, а второму — кормить его, как если бы тот был его сыном.
Пока Аристотель разговаривал с привратником, Нелей и Тиманф сбросили с плеч свою ношу — сундуки, в которых была одежда и необходимый скарб, и улеглись в тени под деревом, прячась от жары, которая преследовала их сегодня с самого утра, с того самого часа, как они ступили на землю Аттики. Таргелий — месяц сочной зелени в Стагире, утренних туманов, тучных облаков, с которых щедро льются теплые дожди, месяц прохладных морских ветров. Пирей же встретил их жарой и пылью, а дорога от Пирея до Афин показалась в десять раз длиннее, чем была на самом деле: земля дышала зноем, на камни нельзя было ступить босой ногой, а мухи так и липли к потному телу. И хотя Аристотель нанял повозку, уплатив возничему два обола, это немногим облегчило их страдания: повозку трясло на каменистой дороге, и у Аристотеля от этой тряски до сих пор болели спина и грудь; а слепни, которых отгоняли от себя хвостами мулы, садились на людей и больно кусали, так что и ноги, и руки теперь нестерпимо чесались.
— Искупаться бы и смазать тело маслом, — вздохнул Нелей, который тоже страдал от укусов слепней. — Надо было сразу идти к проксену. Надеюсь, у него есть баня. Или к реке. Есть в этом пекле где-нибудь река? Я сомневаюсь…
Фракиец Нелей был крупным мужчиной лет сорока, голос имел низкий и зычный; люди, завидев и услышав его, всегда сторонились, уступали дорогу. А мальчишки никогда не приставали к Аристотелю в присутствии Нелея. Да и взрослые тоже. Аримнеста послала Нелея с братом в Афины, ценя в нем как раз эти качества: силу и грозный вид. Хотя Нелей — Аристотель знал это лучше других — был, в сущности, человеком добродушным и даже мягким, но умел казаться иным.
Повар Тиманф был молчуном. Некоторые люди, видевшие его редко, считали даже, что Тиманф нем. А потом, услышав однажды слова из его уст, бывали поражены сначала чудом — «немой Тиманф заговорил!» — а потом странностью Тиманфа, введшей их в заблуждение: его молчаливостью.
Когда корабль вошел в гавань и причалил у восточного берега Канфара, у главной торговой пристани, забитой кораблями, прибывшими из разных стран, многолюдной и шумной, Нелей принялся болтать не переставая, стараясь указать Аристотелю на то, что видел сам, так что Аристотель вынужден был даже прикрикнуть на него и сказать: «У меня тоже есть глаза, Нелей! Уйми свой язык!» — хотя то, что они увидели на пристани, могло поразить хоть кого.
Никогда Аристотель не видел столько кожаных мешков с зерном — целые горы. Огромная площадь была заставлена пифосами с соленой рыбой. Корабль, прибывший следом за ними с Эвбеи, привез многочисленное стадо овец, которое блеяло, перегоняемое по трапам с корабля на пристань. Грузчики снимали с других кораблей бычьи туши, рулоны парусного полотна, карфагенские ковры, амфоры с вином и маслом. Здесь же, чуть поодаль от причалов, шла бойкая торговля сицилийским сыром, родосским изюмом и фигами, египетскими и лидийскими сладостями, финикийской пшеничной мукой и сирийскими пахучими смолами.
— А что привозят из Фракии? — стал приставать к Тиманфу Нелей. — Ты знаешь, что привозят в Пирей из Фракии?
— Чесотку, — ответил Тиманф. И это было единственное слово, которое он произнес сегодня.
Возвратился привратник. Отпер калитку и сказал:
— Схола́рх Эвдо́кс спит. Я не решился разбудить его — он всю ночь наблюдал за звездами. Не велено его будить.
— Но я хотел бы с кем-нибудь встретиться. Неужели никто не может принять меня?
— Кто ты? — спросил привратник. — Велено спросить тебя, кто ты.
— Я Аристотель, сын асклепиада Никомаха, лекаря македонского царя Ами́нты. Никомах умер. Моя мать из Халкиды, что на Эвбее, Фести́да. Мать умерла. Мне восемнадцать лет. Я приплыл из Стаги́ры, где моя родина. Хочу, чтобы Платон стал моим учителем…
— Я передам твои слова Спевси́ппу, — сказал привратник. — Жди.
— Спевсипп — это кто? — остановил привратника Аристотель. — И не могу ли я сам рассказать ему о себе?
— Ты не знаешь, кто Спевсипп?! — Привратник взглянул на Аристотеля с презрительной усмешкой. — Эфеб, вот что сказал Платон о невеждах: «Невежда — самое дикое создание из всех, существующих на земле».
Тогда поднялся Нелей, подошел к калитке и сказал привратнику:
— Тот, кто оскорбляет своего гостя в доме, — свинья. Но тот, кто оскорбляет его уже на пороге дома, — червь, живущий в свинье. Пропусти моего господина! — потребовал он тем самым голосом, от которого шарахались встречные.
Но привратник оказался не из робких. Он захлопнул калитку и запер ее на засов.
— Так-то, — сказал он, глядя одним глазом сквозь щель. — Грубиянам нет места в доме мудреца.
Нелей схватил молоток и стал изо всех сил колотить им по калитке.
— Никто, кроме меня, не отопрет вам, — сказал привратник, уходя.
— Ты все испортил, — пожурил Нелея Аристотель.
— Стыдно унижаться перед привратником, — стал оправдываться Нелей. — Мне показалось, что он оскорбил тебя, назвав тебя невеждой.
— Только мудрец может согласиться с тем, что он невежда, Нелей. Невежда же убежден в том, что он умнее всех. Но делать нечего — войдем в Афины, разыщем дом проксе́на Никано́ра.
Три дороги вели к Дипило́ну — воротам великих Афин: из Пирея, из Беотии и эта — аллея Академии! Три дороги рассекали Внешний Кера́мик, древнее кладбище, где покоились Солон, Клисфе́н, Эфиальт, Пери́кл — законодатели, вожди, отцы народа. Еще раньше, едва выехав из Пирея, Аристотель попросил возчика указать ему могилы Сократа и Еврипи́да. Возчик выполнил его просьбу. И Аристотель поклонился могилам великих учителей.
Теперь они шли пешком, держась той стороны аллеи, на которой было больше тени. Справа и слева из-за деревьев то и дело появлялись, светясь белым мрамором, надгробия почтенных афинян.
«Здесь я лежу, прощай, прохожий!» — эти слова, высеченные на каменных плитах, постоянно приковывали к себе взгляд Аристотеля. И было мгновение, когда ему почудился целый хор голосов, произносящих это слово: «Прощай!» А пятипалые листья просвирника были так похожи на ладони человеческих рук…
За дипилонскими вратами — шум, блеск, гам, суета, средоточие всех наслаждений, веселья, надежд.
И вот правило: вступая в этот город, помни, что и ты окажешься в сообществе теней Внешнего Керамика. И из всех слов, с которыми ты тогда сможешь обращаться к живым, будут только эти: «Здесь я лежу, прощай, прохожий!» Сто лет, двести и тысячу — только эти слова. Какая, в сущности, тоска…
«Впрочем, не для Тиманфа, — подумал Аристотель и улыбнулся. — Для него и этих слов много».
— Отдохнуть бы, господин, — сказал Нелей, по лицу которого стекал струйками пот.
— Никакого отдыха! — весело ответил Аристотель. — Жизнь, Нелей, это короткий труд между небытием и вечным отдыхом. Не так ли?
— Кто трудится не отдыхая, тот быстро оказывается здесь, под корнями этих кустарников, — проворчал Нелей. — Тебе легко: ты несешь только свою голову, господин.
— Если хочешь, я понесу и твою, — захохотал Аристотель.
— Голова — самое легкое из всего, что у меня есть, — ответил добродушный Нелей.
Они вступили в тень одной из башен Дипилона.
— Страшно, — сказал Нелей. — В таком большом городе, конечно же, есть все: и разбойники, и мошенники, и воры, и насмешники…
— …и великие добротворцы, и правдолюбцы, и покровители, и мудрецы, — добавил Аристотель.
— И богатые лавочники, — сказал Тиманф. — Никогда не видел, чтобы в город везли столько добра.
Они шли, держась ближе к стене, чтобы не мешать бесконечной веренице телег, въезжавших в ворота.
— И его проняло, — сказал о Тиманфе Нелей. — Если Тиманф заговорил, значит, есть чему удивляться.
Аристотель измерил шагами коридор Дипилона.
— Четверть стадия[3], — сказал он Нелею.
— Еще столько же — и я рухну… Из моего разбитого тела потечет кровь, а из вашего сундука, господин, чернила…
— Взгляни налево, — сказал Аристотель.
Слева, в прохладной тени высокой кровли, удерживаемой колоннами, шумел фонтан.
Они не сразу нашли себе место у воды — вокруг было много людей: вода в жаркую пору притягивает к себе путников сильнее, чем магнесийские камни[4] притягивают железо. Люди пили, умывались, поили своих ослов и мулов, просто лежали в тени у журчащей холодной воды, прячась от палящего солнца.
Аристотель и его спутники умылись, попили воды, потом вымыли ноги у желоба, из которого поили животных, присели в тени у колонны.
— Надо поесть, — сказал Тиманф. — Я принесу вина и хлеба.
— Где возьмешь? — спросил Аристотель.
— Здесь пахнет вином и хлебом, — ответил Тиманф. — Где-то рядом есть харчевня.
Тиманф вернулся с кувшином, в котором плескалось красное вино, и горячим пшеничным хлебом. Хлеб он разломил на три части, налил вина в фиалы, которые достал из своего сундука. Все трое принялись есть, макая хлеб в густое вино и разглядывая прохожих.
— Не узнал ли ты, где харчевня Тимолита? — спросил у Тиманфа Аристотель.
— Узнал.
— И где она?
— Там, — махнул рукой Тиманф в сторону улицы, которая начиналась сразу же от ворот. — Возле агоры[5].
— Не узнаю тебя, Тиманф, — сказал Нелей. — Сегодня ты просто болтлив.
Тиманф разбавил оставшееся в кувшине вино водой, и они выпили его.
— Питье для лягушек, — поморщился Нелей. — Уж лучше бы я выпил одной воды, чем это жидкое пойло.
— Ты не фракиец, ты скиф, — сказал Нелею Тиманф. — Тебе бы пить неразбавленное вино, дикарь.
— Перестаньте, — остановил их Аристотель. — Нельзя ссориться в чужом городе. На чужбине даже враги становятся друзьями… Пора идти.
…Они долго блуждали по узким и кривым улочкам, пока искали дом проксена Никанора. И не нашли бы, наверное, когда б не башмачник, возле лавки которого они остановились, совсем сбитые с толку. Словоохотливый башмачник сам спросил их, кого они ищут, и проводил до дома Никанора.
Никанор встретил их приветливо, хлопал в ладоши, улыбался, суетился, без конца повторяя: «Хайрэ! Хайрэ!»[6], словно встревоженная чайка. Велел одной рабыне взбить для гостей кикеон[7], поставить на треножники медные котлы с водой и разжечь под ними огонь, чтобы гости могли искупаться, другой — застелить ложи в саду свежими простынями, чтобы гости смогли отдохнуть…
«Чтобы гости… Чтобы гости… Чтобы гости…» — эти слова то и дело слетали с его губ. Был он толстый и маленький, катался по двору, словно шар, выкрикивая приказания. Полные розовые щеки его лоснились. Он улыбался, поворачиваясь лицом к гостям, и все размахивал короткими руками, словно цыпленок, вздумавший летать.
Аристотель передал ему письмо сестры Аримнесты. Никанор, прежде чем прочесть письмо, поцеловал его, сияя от счастья, затем быстро прочел, защелкал языком — Аримнеста обещала прислать ему пифос свиного жира.
— Ах! — всплеснул он руками и с нескрываемой любовью стал смотреть на Аристотеля: он прочел последние строки письма Аримнесты, в которых сообщалось, что Аристотель вырос в Пелле вместе с Филиппом и был товарищем его детских и юношеских игр и что принимать его следует как знатного македонца, хотя и родился он в Стагире.
Никанор сам хотел помыть юного гостя в бане, но Нелей отстоял свое право прислуживать господину, хотя, как догадывался Аристотель, Нелей дорожил не столько этим сомнительным правом, сколько возможностью самому искупаться и натереться маслом.
На корабле какая баня? Умылся соленой водой — вот и все. А здесь широкий и глубокий кипарисовый чан, начищенные до золотого блеска и пышущие жаром котлы на треножниках, мягкая жирная глина и тонко истертая сода, запах лавандового масла и горячих поленьев, насыщенный паром воздух, отблески огня на белых стенах — достойные человека удобства и покой.
Нелей не торопился. Долго тер своего господина содой и окатывал теплой водой. Потом позволил ему отдохнуть на деревянном ложе, выполоскал после соды чан, налил в него кипятку, разбавил холодной водой, охал и кряхтел, пробуя воду руками, влил немного лавандового масла, чтобы вода пахла свежестью, и снова пригласил господина к купанию. Теперь Аристотель просто лежал в ароматной теплой воде, нежился, подложив под голову руки. Нелей время от времени подливал в чан горячей воды, но занят был собой. Он мылся стоя, сам поливал себя из кувшина, фыркал, хлопал ладонями по мокрому животу, похохатывал от удовольствия.
Потом он намазал господина глиной и снова обмыл его.
— Не правда ли, у тебя сейчас такое чувство, будто тебя и вовсе нет? — спросил он Аристотеля.
— Я доволен тобой, — ответил Аристотель, снова ложась на деревянное ложе.
Нелей вытер его белой простыней, принес лекиф[8] с оливковым маслом, в которое были подмешаны любимые господином благовония, и принялся втирать масло в кожу его рук, груди, спины, ног, наливая из лекифа на широкую мягкую ладонь. Потом он расчесал Аристотелю волосы — густые, вьющиеся, доходящие до плеч, как и подобает волосам господина. Принес чистый хитон[9] и голубой гиматий[10]. Прежде чем обуть его, ополоснул ноги теплой водой, смешанной с духами. Потом оглядел юного господина со всех сторон и удовлетворенно щелкнул языком.
— Аполлон, — сказал Нелей. — Или сын Аполлона.
Аристотель снисходительно улыбнулся. Нелей явно льстил ему, потому что, хоть и был Аристотель высок и строен — палестра и гимнасий развили его тело, лицом он далеко уступал Аполлону. Он был крупноголов, скуласт и нос имел широкий, хотя род его был благородный и древний — род Асклепиадов, прославившийся еще во времена Троянской войны. Асклепиад Махаон извлек вражескую стрелу из тела Менелая и исцелил его рану с помощью лекарств, силу которых открыл отцу Махаона кентавр Хирои, сын наяды Филиры и бога Крона. Всякий может прочесть об этом в «Илиаде» великого Гомера.
Гномон[11] Никанора отмерял восьмой летний час, когда Аристотель в сопровождении Нелея и Никанора отправился на агору, чтобы полюбоваться центром великих Афин, а оттуда подняться к Пропилеям Акрополя и увидеть центр эллинского мира в лучах предзакатного солнца. Это тщеславный Филипп говорил ему: «Я видел Афины в лучах предзакатного солнца», вкладывая в эти слова не только тот смысл, который они несут сами по себе, но и мысль о возможном покорении Афин силою македонского меча или гения.
Нелей ворчал: после бани и сытного обеда ему хотелось спать, а не бродить по раскаленным камням афинских улиц и площадей. Зато Никанор неудержимо рвался вперед и захлебывался от счастья: видно, не часто ему доводилось показывать своим гостям Афины, которыми он гордился так, будто сам создал их. Он останавливался у каждого здания, у каждого храма, замирал в восторге перед статуями богов и героев, тащил гостя, хватая его за руки, по крутым ступеням к новому Булевтерию[12] и театру Диониса, забежав немного вперед и расставив руки, он остановил его даже возле лавки башмачника Симона.
— А здесь-то что? — спросил Нелей. — Три часа назад мы с господином были здесь. И тогда эта лавка принадлежала башмачнику.
— Да, да, да, — с готовностью согласился Никанор. — Теперь она принадлежит башмачнику, который привел вас ко мне. А прежде здесь работал Симон. Тот самый Симон, с которым так любил беседовать Сократ. Вот здесь, где я стою, торчали ротозеи и слушали речи великого мудреца…
На западной стороне агоры, у портика Зевса, Никанор тоже говорил о Сократе. И об архонте-басилевсе[13], который решал здесь свои дела. Но главным образом все же о Сократе, потому что философ любил бывать здесь и затевать споры с праздными афинянами. Здесь же, в одной из комнат портика, допрашивали Сократа, обвиненного в нечестии.
— Потом он принял яд в тюрьме, — кричал Никанор. — Вот она, эта тюрьма, за старым Булевтерием, — и он показал в сторону тюрьмы пальцем, а между тем другой рукой утирал слезы. — А вот здание суда, где его приговорили к смерти… И все плакали тогда. И Платон… А башмачник Симон…
У портика Пейсионакта Никанор снова вспомнил о Сократе. Но Аристотель уже не слушал его: он рассматривал картины Полигнота, изображавшие взятие Трои, битву Тесея с амазонками, переходил от одной картины к другой и думал о том, как, в сущности, прав поэт Пи́ндар; не только люди, но и целые поколения проходят, как неясные образы среди неожиданных сновидений.
Вот боги, вот герои, вот лавочники, вот рабы. Вот храмы, вот судилища, вот харчевня, вот игорные дома и ночлежки для нищих метеков[14]. Все это рядом, все это перемешано, как черепки в разгромленной мастерской горшечника. Законы Солона, законы Писистра́та, законы Перикла… Тысячи законов высечены на кирбах[15]. И сколько их еще будет? Сколько богов, столько и храмов; сколько законодателей, столько и законов; сколько людей, столько и мнений; сколько философов, столько и истин… Когда же будет один бог, один закон, одна истина?
Потом они поднялись на Акрополь и долго стояли у священных ступеней Парфенона.
— Вот образ порядка, создание чистого разума, — сказал Аристотель, продолжая думать о своем.
— Здесь хранятся все сокровища города, — не уставая говорил Никанор. — А там, — он указал на Эрехте́йон, — растет священная олива Афины, — прародительница всех олив, выросшая из камня.
— Где умер Фи́дий? — спросил Никанора Аристотель.
— О, Фидий! — воскликнул Никанор. — Платон, к которому ты пришел, называет Фидия демиургом, создателем и творцом.
— Где умер Фидий? — повторил свой вопрос Аристотель.
— Отсюда видна статуя Афины Парфе́нос, созданная вдохновенным Фидием, но не видна тюрьма, в которой он умер, не дождавшись суда. Его обвинили в хищении золота и слоновой кости, из которых он изваял богиню… Он принес Афинам вечную славу, Афины же хотели обречь его на вечный позор. Смерть Фидия и Сократа отольется кичливым афинянам слезами бесчестия…
— Ты о чем? — спросил Аристотель. Он взглянул на Никанора и не узнал его: лицо проксена было злым, глаза сощурены, губы плотно сжаты, как если бы Аристотель никогда не видел его восторженным и добродушным.
— Придет пора, — ответил Никанор, не глядя на Аристотеля, — многие поднимутся на Акрополь, чтобы увидеть Афины к лучах предзакатного солнца. — Он усмехнулся, и лицо его обрело прежнее выражение.
По мраморной широкой лестнице к Пропилеям все поднимались и поднимались люди. И по мере того, как все ниже опускалось солнце, все больше становилось людей в Верхнем Городе, они стояли в молчании и глядели на раскинувшиеся внизу площади и улицы Афин. Отсюда хорошо была видна агора, светящиеся розовым и лиловым колоннады нижних храмов и портиков, Одеон[16], пестрый изломанный ряд лавчонок в торговой части агоры, крыши жилых кварталов, почти черные в предзакатных косых лучах, В лиловой дымке одна вырисовывались башни Дипилона и Священных ворот. Обращенные к закату стены домов словно оторвались от земли, как вспугнутые чайки, и уже парили над черными и спи ими тенями.
Слава в Стагире — пустой звук, слава в Пелле — лишь отблеск славы, слава в Афинах — подлинная слава. Аристотель желал последней и стремился к ней.
— Афиняне горды, — рассказывал Аристотелю проксен. — И кажется, не в меру хвастливы. Для всех чужеземцев у нас одно имя — метек, себе же мы избираем имена, которые ставят нас рядом с богами. Мы полагаем, что вся земля — для нас. И что сделанное другими лишь тогда приобретает цену, когда достигает Афин. Страны, имеющие золото, богатеют, когда везут его в Афины. И те, что имеют медь, железо, лес, — тоже. И вся мудрость земли стекается в Афины — здесь кладезь мудрости, из которого черпают ее достойные.
Мимо Пестрого портика они проходили уже в сумерках. Торопились, чтобы попасть домой до наступления темноты. Более других настаивал на этом Нелей. Аристотель не возражал ему, а Никанор, догадываясь, что пугает Нелея — Нелею в каждом прохожем мерещился ночной грабитель, — посмеивался и, кажется, нарочно стал прихрамывать и плестись позади.
— Послушаем, — сказал Никанор, когда они оказались у Пестрого портика, откуда доносились голоса споривших. — Здесь собираются наши нынешние философы… Не те, что в Академии Платона, но тоже очень-очень мудрые люди.
— Придем завтра, — стал было возражать Нелей, но Аристотель остановил его и сказал:
— Послушаем.
Они не сразу уловили суть спора, хотя и подошли вплотную к говорящим, сидевшим и лежавшим на каменных скамьях.
— Все соответствует разумному — и это истина, — заговорил тот, что сидел спиной к Аристотелю, — широкоплечий и, судя по всему, высокий афинянин. — И с этим, кажется, все согласились. И вот, следуя этой истине, как можно говорить о шести лапках? Допустим, что лапок шесть, тогда надо утверждать, что с каждой стороны по три. Так?
— Так, — ответили ему несколько голосов.
— И вот что получится, если это так: муха должна с каждой стороны всякий раз, чтоб не упасть на бок, опираться на две лапки. Не станете же вы утверждать, что она будет опираться только на одну лапку?
— Не станем, — согласились другие.
— Значит, — голос философа зазвучал с особой торжественностью, — значит, она опирается одновременно на две лапки с каждой стороны. И стало быть… Следите за моей мыслью! И стало быть, она опирается одновременно либо на первую и последнюю, либо на первую и среднюю, либо на последнюю и среднюю. Обратите внимание: средняя лапка работала дважды. Дважды! Тогда как первая и последняя — только по одному разу. Это неразумно, потому что средняя лапка быстро устанет! Если это будет не средняя, то либо первая, либо последняя.
— О чем они? — шепотом спросил у Аристотеля Нелей.
— Помолчи, — попросил Аристотель.
— И вот вывод! У мухи не шесть лапок, как здесь говорил Гиппа́рх, а восемь. Восемь! Не по три с каждой стороны, а по четыре! И тогда муха опирается поочередно на пару лапок с каждой стороны!
Присутствующие зашумели, одни — поддерживая говорящего философа, другие — возражая ему.
— А мне кажется, что у мухи все-таки шесть лап, — сказал Нелей, трогая Аристотеля за локоть. — Жаль, что уже темно: можно было бы поймать муху и сосчитать…
— Разум дан человеку для того, чтобы кратчайшим путем достигать истины, не занимаясь пустяками, — ответил Аристотель. — Глупец станет отрывать мухе лапки, чтобы сосчитать их, мудрец лишь силою разума и мгновение ока найдет истинное число…
Они остались бы еще, но философы прекратили спор сразу же, как только кто-то из них объявил:
— Диафо́нт уже давно ждет нас у Трифе́ры! У прекрасной Триферы! Самый щедрый из всех Диафонтов!
Все вскочили с мест и шумною толпою углубились в темноту ближайшей улицы.
— Трифера — самая дорогая флейтистка, — объяснил Пикапор. — Она сто́ит две драхмы. Там всегда подают хиосское вино, — вздохнул Никанор. — Каждый день астиномы[17] бросают жребий, чтобы определить, с кем из богатых афинян будет прекрасная Трифера.
— Нельзя ли и нам пойти к ней? — спросил Аристотель. — Я уплачу за вино и за пищу, которые принесут к ней твои рабы, Никанор.
— Господин, — испугался Нелей. — Что ты говоришь, господин? В нашей Стагире, где каждый знает каждого, не любят параситов[18]. Здесь же, где тебя никто не знает…
— Это не так, — возразил Никанор. — Среди тех, кто сейчас отправился к Трифере, мой юный друг Эсхи́н. И если я могу пойти к Трифере по праву друга Эсхина, то Аристотель может пойти к ней по праву моего друга. И значит, никто не назовет его параситом.
— Тогда к Трифере! — обрадовался Аристотель.
— Да, — сказал Никанор, — но сначала домой, чтобы отдать распоряжение рабам, которые пойдут с нами, мой юный друг. И деньги твои, конечно, не при тебе…
— Аримнеста, если помнишь, наставляя тебя, говорила, чтобы ты не ходил на пиры к гетерам, — напомнил Аристотелю Нелей. — И если ты прокутишь деньги, как мы будем жить, господин?
— Успокойся, — сказал Аристотель. — Забудь обо всем, что говорила тебе Аримнеста. Теперь ты должен делать только то, что говорю я! — повысил он голос.
— Да, — склонил голову опечаленный Нелей. — Конечно.
Пир у флейтистки Триферы, устроенный для друзей Диафонтом, еще не начался, когда Аристотель и Никанор, сопровождаемые рабами, несшими амфору вина и корзину с фруктами, постучалась у ворот ее дома, над которыми были зажжены факелы.
Никанор — проксен македонский с другом Аристотелем из Стагиры, — представился Никанор, когда появились рабы-привратники. — Приглашены Эсхином, другом Диафонта.
Их тут же пропустили во двор, освещенный кострами, разложенными под треножниками, на которых стояли, извергая ароматы, котлы и жаровни. Под навесами, справа и слева, у кухонных столов толпились, стуча ножами и гремя посудой, повара, Аристотель успел увидеть на одном из столов тушу огромного кабана, другие были завалены фруктами, овощами. У входа в дом стояли, прислоненные к стенам, амфоры. Девушки у алтаря Зевса Геркейского плели венки для гостей — из фиалок, сельдерея, мирта и плюща.
Рабы остались во дворе. Никанор и Аристотель вошли в дом, дверь которого была завешена пологом из карфагенской ткани, расшитой зелеными, желтыми и красными узорами.
У Аристотеля захватило дух от густого запаха ароматных масел и духов, наполнявшего зал для пиршеств. Запах исходил не только от гостей, но и от стен, от пола, — все было пропитано им, все дышало им, одурманивая и пьяня.
Лампионы[19] на высоких подставках стояли вдоль стен, язычки пламени колебались, когда мимо них проходили люди, и от этого, казалось, качались не только тени, но и весь дом — стены, потолок, пол.
Никанор и Аристотель сняли у порога обувь, и раб-распорядитель указал им, куда пройти, чтобы вымыть ноги.
Они оказались в умывальне не одни: еще трое гостей сидели на скамьях, подняв до колен плащи, и молодые рабыни мыли им теплой водой ноги, черпая ее из медного котла, который только что внесли. Двоих из гостей Никанор узнал: это были Андротион — ученик Исократа и Эсхин — друг Андротиона и Никанора.
— Хайрэ! — приветствовал их Никанор. — Хайрэ, Андротион! Хайрэ, Эсхин! Я привел Аристотеля, стагирита, друга детских лет Филиппа Македонского!
— Хайрэ! — приветствовали их Андротион и Эсхин.
Никанор и Аристотель уселись рядом с ними на скамью, и рабыни Триферы, постелив возле них на пол соломенные коврики, принялись мыть им ноги.
— Как Филипп? — спросил Аристотеля Андротион. — Давно ли ты видел его?
— Давно. Он по-прежнему в руках фиванцев, но, говорят, полон сил и надежд. Он вернет себе македонский престол…
— Да! — воскликнул Андротион. — Афины должны помочь Филиппу! Мы все здесь надеемся, что он объединит всех эллинов и отомстит персам за наши страдания и позор. Иония гибнет под властью проклятых варваров, а Афины погрязли в роскоши и разврате. Мы уже мало в чем уступаем жителям Сибариса[20]. Мы поможем Филиппу!
Между Андротионом и Аристотелем сидел проксен, но Аристотелю не приходилось наклоняться вперед, чтобы видеть лицо Андротиона. Оратор Андротион был выше проксена на голову. Черноглазый, горбоносый и худой, он казался существом иного рода, чем круглоголовый коротышка Никанор. Тонкие губы его брезгливо изламывались всякий раз, когда он начинал говорить о пороках афинян. Эсхин же, друг Андротиона, смотрел на него с суровой решимостью защитить перед любым и в любой момент все сказанное им и бросал на Аристотеля испытующие и предупреждающие взгляды.
Между тем рабыни Триферы сделали свое дело и теперь стояли поодаль в ожидании новых гостей.
— Что же ты молчишь? — спросил Аристотеля Андротион. — Согласен ли ты со мной? И правда ли, что ты друг Филиппа?
— Виноград выжимают, когда он созреет, — ответил Аристотель, улыбаясь. — И прежде чем переплыть реку, стоит поискать брод. Это слова, которые любил говорить Филипп.
— Это слова, которые сказал Пи́ндар. — Эсхин, сидя рядом, положил Аристотелю руку на плечо. — Не будет ли для нас тесным одно ложе? — спросил он.
— Не будет, — ответил Аристотель.
Молодой купец Диафонт возвратился из Карфагена. Плавание его было удачным, сундуки пополнились золотом, и теперь он щедро угощал друзей в доме прекрасной Триферы, где все они бывали уже не раз: и Андротион, и Эсхин, и племянник Платона Спевсипп, и Никанор, и десятки других афинян, принявших приглашение купца Диафонта и приведших своих друзей.
Угощение было обильным — от дичи, мяса и колбас ломились столы. Не поскупился Диафонт и на вино. И слуги Триферы, кажется, не очень старались разбавлять его водой — или таков был приказ Диафонта? — гости быстро опьянели, в пастаде[21] стало шумно, как на рыночной площади. Соленые пирожки с пряностями, чеснок и лук быстро исчезали со столов, а слуги все подливали и подливали в кратеры вино. Несколько молодых людей уже играли в котта́б — плескали на стену красное вино целыми фиалами, выкрикивая имя Триферы. Другие бросали игральные кости, сдвинув ложа к мраморному столику. И оттуда то и дело слышались крики: «Хиосец! Собака! Житель Коса!» Реже: «Удар Афродиты!»
— О чем это они? — спросил у Эсхина Аристотель. — Что за странные слова?
— Вот и видно, что ты не афинянин, — ответил Эсхин, садясь на ложе. — Вот и видно, что ты ни разу не бывал в скирафи́и.
— В скирафии? — Аристотель тоже сел.
— Да. Так у нас называют игорные дома. А игорные дома хоть и запрещены законом, есть повсюду. Играют даже в храме Афины Скира́ды. Отсюда — скирафии. А слова, которые ты слышишь, означают количество очков на костях. Сторона с одним очком — «собака» или «хиосец». С шестью очками — «житель Коса». Когда на всех четырех бабках выпадают разные числа — это «удар Афродиты». Самый плохой удар — из четырех «собак». Не хочешь ли и ты сыграть? Новичкам всегда везет…
— Нет, Ответил Аристотель. — Не существует такого закона, по которому новичкам должно везти. Ты это знаешь. В игре всегда либо везет, либо не везет — там правит случай, Тихе[22].
— Тихе — единственная богиня, которая правит мирим, — сказал Эсхин. — К сожалению, разумеется. Все случайно, все непрочно, все изменчиво. Нет ни лучшего, ни худшего, ни истинного, ни ложного — все случайно. Мы не управляем даже собой.
— Есть в мире неизменное и вечное, — возразил Аристотель. — И то, что неизменно и вечно, происходит по необходимости. Вечно, например, солнце. И то, что оно завтра взойдет, — истина, Эсхин.
— Ты философ? — засмеялся Эсхин.
— Нет, — ответил Аристотель. — Но я хочу стать философом.
— Брось! — Эсхин придвинулся к Аристотелю и обнял его. — Брось эту затею. Философия — пустая трата времени. Нужно быть оратором, а не философом. Ораторы управляют миром, Аристотель. Не цари, не тираны, не архонты, а ораторы! Они управляют толпой, а толпа — единственная сила, с которой считаются даже боги… Философия — занятие для мумий. Живые мудрецы должны быть ораторами, — Эсхин сам зачерпнул вина и наполнил им чашу Аристотеля. — Выпьем за ораторов! Выпьем за учителей моих — Исократа и Андротиона! — выкрикнул оп.
— Я не откажусь выпить за Исократа и Аидротиона, они достойные люди. Но я хочу выпить за Платона, самого достойного из достойных, — сказал Аристотель. — И кто любит Платона, пусть выпьет со мной! — сказал он громко.
Его услышал лишь один человек — Спевсипп, племянник философа. Он подошел к ложу Аристотеля и Эсхина, улыбнулся и спросил:
— За что вы любите Платона, прекрасные юноши? И кто из вас произнес его имя?
— Я произнес его имя, — ответил Аристотель. — Ничего лучшего, чем это имя, я не знаю.
— Кто ты? — спросил Спевсипп.
— Аристотель из Стагиры. Я стучался сегодня у ворот Академии, по привратник не впустил меня, сказав, что ученики Платона празднуют день рождения учителя.
— Да, — сказал Спевсипп. — Мы праздновали день рождения Платона. Приходи завтра, и ты найдешь ворота открытыми. Спроси Спевсиппа — тебя проведут ко мне.
— Он еще подумает, кто станет его учителем, — сказал об Аристотеле Эсхин. — Исократ — вот человек, о котором мы начали говорить…
— Нет, — возразил Аристотель. — Я пришел к Платону.
— Но Платон в Сиракузах, — напомнил Эсхин.
— Дух его живет в Академии, — ответил Эсхину Спевсипп. — И этого достаточно для начала. Исократ — порождение суетного мира. И дорого стоит — тысячу драхм в год. Он продает свою мудрость за деньги, как Трифера продает свое искусство, как гончар — посуду. Искусство Триферы стоит две драхмы в день, а мудрость Исократа — три. Искусство Триферы приносит наслаждение, а мудрость Исократа — напрасные надежды.
— Все надежды — напрасны, — сказал Эсхин, пунцовея. — И те, которые дарит Платон. Быть может, они еще более напрасны, потому-то и не стоят ни обола. Исократ ведет учеников в мир людей и страстей, Платон — в мир теней и бездеятельного созерцания.
Эсхин соскочил с ложа и встал перед Спевсиппом, сжав руки в кулаки. И будь Спевсипп таким же безбородым и вспыльчивым, как Эсхин, не обошлось бы без драки. Но он поднял свой ритон, улыбнулся и сказал:
— За Пейто́, богиню убежденности. Кто верен ей всегда, тот прекрасен, Эсхин! Эриды[23] потешились нами! Хайрэ!
— Хайрэ! — Эсхин взял свой потэр и, хмурясь, все же выпил со Спевсиппом.
А тут и Трифера в сопровождении своих молодых нарядных рабынь спустилась в пастаду. И вот она уже поднесла к губам украшенную золотом и дорогими камнями флейту и своим горячим дыханием извлекла из нее чудные, завораживающие звуки танца. Девушки, как язычки светильников, закачались, двинулись по кругу. И гости замерли, не допив чаши, не договорив слова, не закончив жеста, очарованные музами.
Очарование — вот еще дивная способность мира. Очарования полон свет и лучи его. Очарования полны ночь и звезды. Высота и глубина очаровывают человека. Малое — своей малостью, великое — своим величием. Жуткое и нежное. Цветы и камни. Звук и тишина. Кристалл и вода. Жизнь и смерть. Очарование — что это? Не истина ли сама взывает к человеку и заставляет его замирать? Она так прекрасна, что человек бывает безумно счастлив лишь от одного ее зова, от одного ее приближения. И значит, надо преодолеть очарование. Нужно шире открыть глаза и заставить мысль работать. И тогда из очарования, как Афродита из пены, родится истина. Форма истины — гармония, красота. Бытие красоты — мир, полный переливчатого блеска. Истина же глубже. Она надежна, неизменна и вечна. Очарование — ее зов…
— Аристотель… — Эсхин коснулся его плеча. — Уж не заснул ли ты, Аристотель?
— Нет, — ответил Аристотель и открыл глаза.
— Ты совсем не пьешь, а между тем в нашем кратере прекрасное вино. Разве ты не знаешь девиз афинских пиров? «Пей или уходи!» — вот каков этот девиз. Обернись, и ты увидишь эти слова, написанные над дверью.
— Кто рядом со Спевсиппом? — спросил Аристотель.
— Со Спевсиппом? — Эсхин поморщился, произнеся имя Спевсиппа. — Друг атарнейского тирана, Гермий. Атарнея — в Мизии…
— Почему он здесь?
— Ты окажешься в одной компании с ним, если пойдешь в Академию. В одной компании с другом тирана… Впрочем, у него много денег. И если Платон не берет плату за обучение, он не отказывается от подарков. От дорогих подарков, Аристотель. — Последние слова Эсхин произнес намеренно громко, так, чтобы их услышал Спевсипп.
Спевсипп обернулся и сказал:
— Царь Кипра Нико́́клес заплатил Исократу за составленную для него речь двадцать талантов[24]. Об этом знают все!
— Сколько платит за уроки Платону тиран Сиракузский? — спросил Эсхин.
В этом споре Эсхина и Спевсиппа Аристотель был на стороне Спевсиппа, хотя поражался той смелости, с какой Эсхин бросался в спор с племянником великого философа, человеком высоким и сильным, перед которым юный Эсхин казался совсем мальчиком.
В спор, грозивший перерасти в открытую ссору, вмешался Андротион.
Он стал между Эсхином и Спевсиппом, снова вскочившими с мест, и сказал примирительно, расталкивая руками спорщиков:
— Вы забыли об одном: Исократ и Платон — друзья юности. Их общим учителем был Сократ. Никто из них не хуже и не лучше, потому что Исократ и Платон — люди, а людей нельзя сравнивать, как горшки. Не уподобляйтесь базарным торговцам, друзья. И не забудьте завтра принести жертву Хари́там, которые смягчают ваши сердца и наполняют их дружелюбием и радостью.
…Пир продолжался до глубокой ночи. Состязались в отгадывании загадок — и здесь всех победил Никанор. Потом состязались в пении. Даже Аристотель пел — так осмелел он от выпитого вина, хотя никогда не мог похвастаться голосом. Более того, Трифера наградила его венком, сняв его со своей головы.
— Не думай, что ей понравилось твое пение, — сказал Аристотелю Эсхин. — Ей понравились твои волосы… Она тебя выделила среди нас — радуйся!
Аристотель еще несколько раз ловил устремленные на него взгляды Триферы, но потом ее вниманием завладел Гермий из Атарнея. По приказу Гермия его слуги внесли в зал полный мех вина, положили его на пол, облили маслом, после чего желающие принялись состязаться в пьянстве, подобно тому как это делают крестьяне в День кружек[25], — становились на скользкий и подвижный мех и пили вино. Болельщики считали выпитые кружки. Больше других — девять кружек — выпил сам Гермий. Лишь после девятой он свалился с меха на руки своих друзей, хохоча и выкрикивая слова, славящие Диониса. Вино из меха разлили в кратеры. И пир продолжался.
— Вот, — сказал Эсхин, который уже не пил и сидел грустный, опустив на грудь голову. — Так каждую ночь пируют афиняне. Пируют и плачут, вспоминая свою былую славу. Мы разбили персов, но они жестоко отомстили эллинам, натравливая одни города на другие. Междоусобные войны разрушили морской союз, разорили нас, ослабили, ничего не осталось от прошлого величия Афин. И теперь, пожелай того персы, они могли бы покорить нас и превратить в рабов. Мы же перед лицом этой угрозы бросаемся друг на друга, как собаки, а в промежутках пируем и плачем. Или философствуем. — Эсхин поглядел на Аристотеля. — Философия — то же пьянство, потому что отвлекает нас от главного — от работы по возрождению могущества Афин. Ни Спарта, ни Фивы, ни Коринф — никто не силен, все едва дышат… А персы мечтают о мести. И она придет, придет!
— Ты много выпил, — сказал Эсхину Аристотель. — Ты утопил в вине даже веселье…
— Нет, — возразил Эсхин. — Я не могу утопить в вине грусть, — продолжал он прерванную мысль. — Все здесь наслышаны об уме Филиппа. Многие пророчат ему славу объединителя эллинов…
— Слава Афин — Академия, — сказал Аристотель. — Весь мир знает о ней. Все умные правители стремятся учиться у Платона. И то, чего афиняне не добились оружием, они добьются умом и знаниями…
— Чудак! — захохотал Эсхин. — Чудак! И кто внушил тебе эту мысль?
— Платон, — ответил Аристотель.
— Платон? Он скоро сам убедится, как глубоко заблуждался. Прежний сиракузский тиран продал Платона в рабство. Нынешний же убьет его. Здесь все об этом говорят. Даже одного тирана не может покорить философия, а ты говоришь обо всем мире. Чудак!
Спевсипп вышел из дома Триферы вместе с Аристотелем.
— Завтра после полудня я жду тебя в Академии, — сказал он Аристотелю. — Через три дня я уеду в Сиракузы, чтобы быть возле Платона и помогать ему. Здесь же останется Эвдокс из Книда. Ксенократ также едет в Сицилию. Поэтому приходи завтра. Эвдоксу же не дано право принимать новых учеников. Таким правом после Платона владею лишь я один…
— Я приду, Спевсипп. Я готов хоть теперь следовать за тобой.
— Куда? — захохотал Гермий, который тоже вышел со Спевсиппом. — Куда следовать? Знаешь ли ты, куда мы идем?
— Нет, не знаю, — ответил Аристотель.
— Ты не слушай его, — сказал о Гермии Спевсипп. — Он много выпил и говорит чепуху. Приходи завтра после полудня. И тащи с собою весь свой скарб. Я найду для тебя место в старом гимнасии, если хочешь. Комнату для тебя и для твоего раба, — крикнул Спевсипп, уходя. — Если хочешь…
Спевсипп не сдержал слова и не встретил Аристотеля. Впрочем, на это была веская причина: купец, на корабле которого Спевсипп намеревался плыть в Сицилию, вдруг поднял парус и ушел из Пирея без Спевсиппа. Спевсипп помчался в Пирей искать новый корабль, который мог бы доставить его к Платону.
Обо всем этом Аристотель узнал от Гермия.
— Но ты не огорчайся, — сказал он Аристотелю. — Я покажу тебе твое жилье и познакомлю с Эвдоксом. Мы будем соседями, хотя у меня, кроме комнаты в гимнасии, есть дом в Афинах. Ты, наверное, знаешь: я из Атарне́я, что вблизи Скепсиса в Мизии. Эвбул, тиран Атарнея, мой друг. И было бы против правил приличия, как считают, впрочем, сами афиняне, если бы у меня не было дома… Но я больше люблю комнату в гимнасии, уверяю тебя. Ты в этом убедишься, живя здесь.
Эвдокс жил в доме Платона. Когда Гермий и Аристотель вошли к нему, он лежал на жестком полу и что-то писал на папирусе чернилами.
— Эвдокс, это Аристотель, — сказал Гермий, едва переступив порог комнаты. — Он сам тебе расскажет о себе, а пока знай, что Спевсипп знаком с ним и что по распоряжению Спевсиппа Аристотель будет жить здесь и слушать всех учителей, каких пожелает.
— Ты прочел, что написано над входом в старый гимнасий? — спросил Аристотеля Эвдокс.
— Да. Там написано: «Не геометр да не войдет сюда!» — ответил Аристотель.
— Назови мне священное число гарпедонаптов, — сказал Эвдокс.
— Три, четыре и пять, — ответил Аристотель. — Таково отношение сторон прямоугольного треугольника…
— Кто решил задачу удвоения куба?
— Архит из Тарента.
— Что он сделал еще?
— Он установил различие между прогрессиями, — ответил Аристотель, улыбаясь.
— А чему ты улыбаешься? — спросил Эвдокс.
— Упоминание великих имен приносит радость, — ответил Аристотель словами Платона.
— Хорошо. Если хочешь, можешь присутствовать сегодня на моей лекции по географии, — сказал Эвдокс. — Или выбери себе любого другого учителя…
— А теперь послушай, что я тебе посоветую, — сказал Гермий, когда они вышли из дома. — Сегодня ты устраивай свое жилье. Это первое. Потом я тебе покажу Академию я познакомлю с теми, кто здесь обитает. Иначе тебя постоянно будут беспокоить вопросы: что это? Кто это? Что там? Кто там? Не правда ли?
— Пожалуй, — согласился Аристотель.
— Вечером же я приглашен к юному Демосфену. Ты можешь пойти со мной.
Старый гимнасий был разделен на классы. Помещения же, которые прежде служили для хранения спортивных снарядов, оружия и местом отдыха учителей, теперь были приспособлены для жилья. Еще несколько домов было построено друзьями Платона. Они тоже предназначались для жилья и для занятий.
Некоторые из друзей и учеников Платона жили здесь постоянно. Другие — в Афинах: Академия находилась лишь в шести стадиях от Дипилона. Третьи, как Эвдокс и Гермий, бывали в Академии наездом.
— Сколько ты намерен пробыть здесь? — спросил у Аристотеля Гермий.
— Не знаю, — ответил Аристотель. — Может быть, всю жизнь: за пределами Академии нет ни людей, ни дел, которые влекли бы меня к себе…
— Счастливый, — сказал Гермий. — Ты счастливый. У меня же мой Атарней, куда я обязан вернуться. Каждый мой приезд в Афины раздражает Сузы и стоит нескольких доносов на меня Артаксерксу. Я никогда бы не вернулся в Атарней, когда б не эллины, которые там, в Атарнее, нуждаются в моей зашите. Да и мой друг Эвбул зовет меня, потому что стар уже. Дождусь Великих Панафиней и вернусь… А ты счастливый. Как ты сказал? «За пределами Академии нет ни людей, ни дел, которые влекли бы меня к себе…»
Они шли по тенистой платановой аллее, направляясь к Кефи́су — реке, которая протекала через рощу Академа. Гермий обнял одной рукой Аристотеля, вздохнул.
— Твой друг тиран? — спросил Аристотель.
— Да. Но слово «тиран» звучит здесь оскорбительно. Тиран сиракузский Дионисий Старший сделал это слово ненавистным для всех, кто любит Платона. Дионисий был грубым, жестоким и тщеславным человеком. И он ненавидел свой народ. Но были другие тираны, Аристотель. И ты, должно быть, слышал о Питтаке и Периандре, которых мы помним и теперь, причисляя к людям достойным и мудрым. А ведь они были тиранами, Аристотель… Все теперь в большой тревоге за Платона, — продолжал Гермий, когда они уже стояли на берегу тихой речки, берега которой поросли густой зеленью. — Спевсипп и Ксенократ торопятся к учителю, чтобы быть рядом с ним. Из Сицилии получены тревожные вести: Дионисий Младший изгнал из Сиракуз Диона, своего наставника и старинного друга Платона. Сейчас Дион в Италии. Платон же остался без защиты, враги Диона клевещут на него. И кто знает, чем это кончится… Видно, Дионисий Младший не далеко ушел от Дионисия Старшего, — он так же неверен и тщеславен, как и его отец.
— Что смогут сделать для Платона Спевсипп и Ксенократ?
— Они молоды и сильны. А Платон стар, ему уже шестьдесят. Будь у меня флот, я сейчас же двинулся бы к Сицилии… Философия не может, Аристотель, сделать ничтожного человека великим, жестокого добрым. Только доброго она может сделать великим…
Они осмотрели экседру — зал для занятий в доме Платона. Аристотель, который и прежде слышал о скромности великого философа, все же не мог не подивиться, как просто была обставлена его экседра: стол учителя, его кресло, за креслом на стене белая доска, перед столом — несколько рядов скамеек для слушателей.
Аристотель подошел к столу, посмотрел в окно. Там, за окном, стояла старая олива. Гермий потом утверждал, что этой оливе почти столько же лет, как и той, которая выросла на камнях Акрополя из жезла Афины.
— Афина подарила оливу, Посейдон — воду, Дионис — виноградную лозу, — сказал Гермий. — Но кто подарил афинянам философию? Сократ и Платон…
Они долго рассматривали клепсидру, которая будила по утрам обитателей Академии.
— Уже завтра ты услышишь ее голос — звук вот этих флейт, — объяснял устройство клепсидры Гермий. — Когда к утру наполнится вот этот сосуд, вода приподнимет поплавок и откроет клапан в другой сосуд, который пуст. Вода хлынет в него, вытесняемый ею воздух устремится к отверстиям флейт, и они запоют. И тогда вся Академия наполнится голосами. Как ты думаешь, куда прежде всего устремятся слушатели?
— В экседру, — предположил Аристотель.
— Нет, — засмеялся Гермий. — Нет! В трапезную, мой друг. Ибо и философы не могут жить без пищи… Кстати, здесь не едят мяса, спят очень мало, здесь не принято шуметь, суетиться. Здесь принято, мой друг, слушать учителей и заниматься науками в тишине. Прочие же радости — там, — махнул рукой Гермий, — в Афинах… Никому не возбраняется покидать Академию, когда вздумается, но не стоит этим злоупотреблять, если ты избрал своими наставниками муз.
Комната, которую занял Аристотель, была более чем скромна: одна кровать, одно окно, один ларь для хранения одежды, несколько полок, на которых стояла посуда. Была еще небольшая кладовка, в которую вела дверь из общего коридора.
— Хвала богам, — сказал Нелей, когда Гермий показал им кладовку. — Здесь будет мое жилье. Но куда мы денем Тиманфа?
— Он станет жить с поварами, — ответил Гермий. — Кстати, надо внести в казну Академии несколько драхм — за пищу, которую вы будете получать в трапезной. Казначеем у нас назначен Гипподам, архонтом[26] же с утра избран Лисий из Селинунта — ему и отдашь деньги…
И в Стагире было немало мест, где царила тишина. Но здесь тишина была особенной — величественной, торжественной. На равнинах тишина лежит, в горных ущельях таится, здесь же она стояла, как стоят вековые платаны, серебристые тополя, тенистые гиганты вязы, как стоит свет над колоннами и статуями, посвященными богам и героям.
И когда Гермий ушел, а Нелей принялся благоустраивать жилище, Аристотель вышел из старого гимнасия и долго бродил по роще в одиночестве. И было ему так хорошо и так легко дышалось, как никогда и нигде. Он чувствовал, что величие природы, которая окружала его, — в честь разума, в честь человеческой мудрости, избравшей местом своего обитания эту рощу. И торжественная тишина ее — тоже в честь разума. И удивительно чистый свет, который лежал на полянах, струился сквозь листья деревьев, ослепительно блестел на заводях тихого Кефиса — тоже в его честь. Быть может, даже сами боги — Геракл, Прометей, Эрот и Гефест, чьи статуи украшали сад Академа, пришли сюда, чтобы почтить мудрость великого философа. Только самого философа не было здесь. И это накладывало тень сиротливости на все, что видел глаз.
Он обошел гимнасий с другой стороны и стал за деревьями, вслушиваясь в голоса, доносившиеся из раскрытых окон. Там шли занятия. Аристотель выделил из всех голосов один, который был громче других, и уловил слова:
— Истина присутствует повсюду. Для извлечения ее нам не нужны ни мастерская, ни инструменты, ни свет, ни тьма, ни горные вершины, ни морские глубины. Истина не прячется от нас. Душой своей мы причастны к истине извечно. И правильным размышлением мы находим ее…
— «И правильным размышлением мы находим ее», — повторил вполголоса Аристотель. — «Правильным размышлением»…
Нет, в тот день он был еще далек от мысли, что со временем станет создателем новой науки. Но жила в нем уже, неосознанная тревога перед той пустотой, которую он всякий раз обнаруживал, когда его мысль устремлялась в тайну самого хода познания.
— «И правильным размышлением мы находим ее», — произнес он снова только что услышанные слова. — «Правильным размышлением»…
И Сократ много говорил об этом. И Платон в своих диалогах не раз повторял слова своего учителя. И все же тайна оставалась тайной. Впрочем, быть может, только для него, для Аристотеля? А здесь уже всё знают?
В тот вечер ему не хотелось идти в Афины, но он не мог отказаться от приглашения Гермия, не мог придумать веской причины для такого отказа. К тому же Гермий понравился ему. Не тем, что был красив, конечно, хотя Аристотель любил красивых людей. Прежде всего он понравился Аристотелю своим дружелюбием, откровенностью и сердечным участием в его судьбе. Позже Аристотель узнал, что Гермий старше его на четыре года, что у него есть приемная дочь Пифиада, по которой он скучает на чужбине. Узнал он о нем также много милых пустяков, которые сделали Гермия в его глазах еще более привлекательным.
Они направлялись в дом к Демосфену и снова попали на пирушку. Правда, она была скромнее той, на которой они были вчера у Триферы, и менее многолюдной. И не было здесь ни флейтисток, ни танцовщиц, ни многочисленных слуг.
Демосфен не был богат. Родители его умерли, когда он был совсем юн, опекуны же разграбили оставленное ему родителями наследство. Вид у Демосфена был болезненный, он почти не пил. Разговаривая, слегка заикался и нервно подергивал плечом. Но мысли его были четкими и касались, главным образом, одного: предательства, которое подготавливают Афинам крупные рабовладельцы, ростовщики и купцы.
— У них нет родины, — говорил он, — потому что они поклоняются не отеческим богам, а золоту. И тот, кто возьмет под свою защиту их богатство, станет их лучшим другом. Бедный и свободный народ — враг их. Они готовы предать народ ради сохранения своего богатства. И вот я гадаю, что произойдет раньше: народ прогонит своих грабителей или они предадут его? Мы чаще должны повторять слова Мильтиада, разгромившего персов при Марафоне: «От нас зависит, станут ли афиняне рабами или укрепят свободу…»
— Бедный Демосфен, — сказал Аристотелю Гермий, когда они возвращались в Академию. — Я предвижу, что судьба его будет печальной. Ведь надо помнить, что впереди светлых надежд идет темная сила. И вот светлые надежды эллинов — единство, добровольный свободный союз. Но впереди шагает темная сила, которая объединяет полисы в грозный и мрачный союз мечом и кровью. Зло, мой друг, всегда впереди, но ведь только из зла рождается добро. Конец трагедии — триумф побежденного, не так ли?
— Ты полагаешь, таков закон истории? — спросил Аристотель. — Ты полагаешь, что она совершается не по прихоти богов и полководцев? Разве не цари и стратеги ведут в бой войска? Разве не ораторы возбуждают в народе страсти? Разве не философы указывают государствам истинные пути?
— Истинные пути — это что? — спросил в свою очередь Гермий. — Разве не пути, которые определяет закон?
— Не закон, а мудрое решение.
— Мудрое? Объясни.
Они прекратили спор, потому что навстречу им из-за угла ближайшего дома вышла компания подгулявших эфе́бов. Они шумели, размахивали факелами. Кто-то прикрикнул на них с балкона, но в ту же секунду туда полетели камни.
— Плохи наши дела, если мы им не понравимся, — сказал Гермий. — Бежать же стыдно.
Один из эфебов тут же крикнул, увидев их:
— Вот подарок судьбы! Потрясем их!
Пьяные эфебы окружили Гермия и Аристотеля. Было их человек десять, не меньше. Во всяком случае, тех, в руках у которых горели факелы.
— Ни шагу друг от друга, — сказал Аристотелю Гермий. — Крепче прижимайся ко мне спиной. И не бойся! Конец подлинной трагедии — триумф побежденного!
Эфебы стали размахивать перед их лицами факелами, вызывая на драку, кривляясь и хохоча. Первым в бой вступил Аристотель — после того, как кто-то из пьяных ткнул его в живот чадящим факелом. Аристотель вырвал факел и, обжигая руки, ударил им обидчика. И тут эфебы двинулись со всех сторон, воинственно крича.
Потасовка длилась недолго. Едва в рядах эфебов образовалась брешь, Аристотелю и Гермию удалось сбить с ног нескольких нападавших, Гермий схватил Аристотеля за руку, и они со всех ног, осыпаемые градом камней, летевших им вдогонку, пустились бежать вниз но улице и скрылись за углом дома. Эфебы не преследовали их.
— Живы? — усмехнулся Гермий, переводя дух. — Ну и разукрасили же они нас.
Одежда, руки, лица — все было в саже. Порванный плащ Аристотиля волочился по земле. У Гермия из носа текла кровь.
— Завтра же принесем жертву богиням судьбы, — сказал Гермий. — Могло случиться так, что Эвбул лишился бы своего друга, а философия — Аристотеля… Хочется, конечно, чтобы миром правил прочный, незыблемый закон, но, кажется, им правит случай…
Они спустились к ручью, который журчал поблизости, и при свете луны умылись и постирали одежду.
— Тебе приходилось сражаться с мечом в руке? — спросил Гермия Аристотель.
— Нет. Но рука постоянно тянется к мечу, когда я вижу персов. И у афинян, кажется, разгорается воинственный дух, когда они вспоминают о Ксерксе. Я тоже думаю, Аристотель, эллины должны объединиться против персов. Мы — единый народ. У нас должна быть единая армия, единое правительство, единое государство.
— И единый бог?
— Почему бы и нет? Демосфен мечтает зажечь в народе сочувствие к своим политическим планам, разбить оковы праздности и самодовольства, возбудить в афинянах силы к противодействию тайным замыслам богатых. Увы, мой друг, ты слышишь, чем наполнена эта ночь — криками пьяных, храпом обжор, шепотом сластолюбцев. Всех обуяла жажда удовольствий, роскоши и игрищ. Кого воодушевят речи юного Демосфена?
— Тебе кажется, что в споре Эсхина и Демосфена победит Эсхин?
— Эсхин? Не знаю. Ты заметил, что он возлагает большие надежды на Филиппа?
— Да.
— Эсхин говорит: «Живи и жить давай другим, обстоятельства сильнее нас, нет смысла, подобно Демосфену, плыть против течения».
— О неизбежном никто не должен принимать решения, Гермий. Не следует полагаться также на случай. Но делать то, что в нашей власти, мы обязаны. И потому, кажется, более прав Демосфен, если судьба людей в их руках. Или же прав Эсхин, если судьба людей в руках богов…
— Теперь я вижу, что ты философ, — сказал Аристотелю Гермий. — Теперь я верю, что ты нашел свою дорогу, придя к Платону.
Они решили, что вернутся в Академию утром. На таком решении настоял Гермий. И Аристотель быстро согласился ним: стража у Дипилонских ворот в такой поздний вряд ли была бы довольна их появлением — и это первое, что остановило их. К тому же оба они — и Гермий, и Аристотель — чужеземцы, и это еще более разозлило бы стражу.
«Бродят здесь всякие пьяные метеки, не дают афинянам спать!» — такими, по мнению Гермия, словами встретила бы их у городских ворот стража.
Хотя они выстирали плащи, вид у них был довольно непривлекательный. К тому же плащ Аристотеля был разорван чуть ли не надвое. Привратник Академии непременно заметил бы все это. И то, что от них пахнет вином. И синяки на лицах. И стало быть, легко заключил бы, что ночь они провели беспутно, оскорбив тем самым правила, по которым живет Академия, где воздержанность, скромность — первые принципы поведения.
Обсудив все это, Гермий и Аристотель отправились и афинский дом Гермия.
— Впрочем, это не мой дом, — сказал Гермий, когда они были уже у ворот. — Здесь живут мои родственники. И перед ними не должно появляться в таком виде. Но я их кормлю, и они обязаны снести все неудобства моего ночного визита.
Гермий взял молоток и, улыбаясь, принялся колотить в доску ворот.
Они спали в одной комнате. Старая рабыня разбудила их с восходом солнца и сказала, что ванны уже наполнены горячей водой.
— Вот, — произнес Гермий. — Уже какое утро я не слышу, как поет клепсидра Платона. С той поры, кажется, как уехал Платон, — вздохнул он. — Никогда, Аристотель, не следуй моему примеру, хотя я и друг тебе.
— Обещаю, — ответил Аристотель.
Глава вторая
Платон, возвратившись из Сиракуз, несколько дней не выходил из дома. Спевсипп говорил, что он болен. Ксенократ хмурился, когда у него справлялись о здоровье Платона, и отвечал на вопрос вопросом:
— Кто вам сказал, что он болен? — И добавлял: — Он устал.
— Усталость и болезнь — разве не одно и то же? — размышлял вслух Гермий. — Усталые ноги болят, усталое сердце болит… Сама смерть, говорят, есть усталость. Ведь не зря же смертельно больные и старые люди говорят: «Я устал жить».
— Обманутые надежды ранят душу, — сказал Аристотель. — И тогда душа стремится покинуть тело и соединиться со своим вечным и прекрасным началом… Оскорбленная душа не хочет видеть людей.
— Ты прав, — вздохнул Гермий. — Конечно, ты прав.
Из рассказов Спевсиппа и Ксенократа все уже знали, какие испытания выпали на долю Платона в Сиракузах. Молодой тиран оказался, по словам Спевсиппа, человеком слабым и ничтожным, завистливым и властолюбивым, невежественным и переменчивым в своих чувствах, как весенний ветер. Он окружил себя льстецами и доносчиками. И те сделали все, чтобы Дионисий изгнал из Сиракуз сначала Диона — своего родственника и друга Платона, а потом, измучив угрозами и лживыми признаниями в любви, и самого философа.
— Невежественный тиран — вот самое дикое из всех земных существ, — сказал Ксенократ о Дионисии. — Не просто невежда, как говорит наш учитель, потому что невежда значит в этой жизни не более бревна или камня, а невежественный властелин.
На пятый день Платон вышел из дому и отправился к Тимону. К тому самому Тимону, который, возненавидев людей за их пороки и тупость, проклял всех и жил теперь в полном одиночестве среди старых развалин за городской стеной в шести-семи стадиях от Дипилона. Он никого не подпускал к своему убогому жилищу, отгонял любопытствующих камнями, и только один человек мог безбоязненно приблизиться к нему и разговаривать с отшельником. Этим человеком был Платон.
Никто не узнал, о чем беседовал в тот день Платон с Тимоном. Но, возвратившись, он сказал Сневсиппу, что будет сегодня в обычный час прогуливаться по аллее платанов и беседовать со всеми, кто пожелает его слушать.
— Значит, здоров, — сказал о Платоне Гермий. — Значит, философия более всего обязывает нас любить людей и менее всего — презирать.
— Можно ли мне присутствовать во время беседы с Платоном? — спросил Аристотель. — Не нарушит ли мое присутствие какой-либо из обычаев Академии?
— Что касается обычаев и привычек, то здесь дело обстоит так: учитель не любит людей, сковавших себя привычками, и признает из всех привычек лишь одну — привычку наниматься философией в любое время. И значит, обычай здесь таков: нарушая всякие обычаи, занимайся науками, — ответил Аристотелю Гермий. — Впрочем, некоторый порядок, как ты заметил, все же существует — более разумный, нежели освященный традицией: утром учитель беседует со своими учениками, с посвященными; вечером — со всеми желающими и, стало быть, новичками в философии. Отсюда: утренние беседы — о сложном, вечерние — об общих началах, о простом. Тебе удобнее начать с вечерних занятий, мой друг.
— Можно ли посещать и те и другие? — спросил Аристотель.
— Можно, — улыбнулся Гермий. — Я поступаю именно так, потому что у меня мало времени для общения с Платоном. Близятся Великие Панафинеи…
Он вышел из дома и сопровождении Спевсиппа. Собравшиеся радостными возгласами приветствовали его. Когда он остановился, друзья принялись обнимать его. У многих на глазах заблестели слезы. Эвдокс долго не выпускал Платона из объятий, целовал его, так что Платон даже попытался было освободиться от его объятий, оттолкнуть Эвдокса, по тут и Эвдокс справился со своими чувствами, отошел от Платона, вытирая глаза платком, сказал:
— Я боялся, что уже никогда не увижу тебя. Проклятые Сиракузы…
— Они были вместе у Дионисия Старшего, — шепнул Аристотелю на ухо Гермий. — С той поры прошло уже двадцать лет…
— Полно тебе, Эвдокс, — ответил Платон, растроганный приветствиями друзей. — Вечно тебе кажется, что нынешний день последний. Я же верю, что последний день предупредит нас каким-либо образом о своем приближении. Мы услышим, когда упадет последняя капля, и успеем обнять друг друга…
Он вздохнул и помолчал, переводя взгляд с одного присутствующего на другого и кивая, каждому головой. Было мгновение, когда глаза его встретились с глазами Аристотеля. Он сразу определил в нем незнакомца — отвел взгляд в сторону, поприветствовал кивком головы Гермия, потом снова взглянул на Аристотеля и спросил, обращаясь к Эвдоксу:
— Кто этот эфеб? Он единственный, кого я не знаю.
— Я включил его в число слушателей, — ответил Эвдокс. — Он из Фракии…
— Из Фракии? — не дал договорить Эвдоксу Платон. — Родом из Фракии Демокрит и Протагор[27]. Как зовут юношу?
— Аристотель, — ответил Эвдокс.
— Что ж, — сказал Платон. — Хотя Фракию и считают страной глупцов, она время от времени дарит миру философов.
Аристотелю следовало бы сказать что-нибудь в ответ на слова Платона, но он растерялся, потупился, что привело его в еще большее замешательство, и даже попытался спрятаться за Гермия. Платон, видя это, засмеялся, подошел к нему и сказал, кладя ему руку на плечо:
— Я жалею, что заговорил с тобою при всех и смутил тебя. И все же ты скажи мне: какую цель ты преследуешь, решив заняться изучением философии и других наук?
— Решить нерешенное, — ответил Аристотель.
— И это все? — спросил Платон.
— Все.
— В таком случае желаю тебе прожить тысячу лет. Боюсь, однако, что и за тысячу лет ты не решишь нерешенное. Мне иногда кажется, что мы еще даже не начали это дело. А не начав, как можно говорить о конце?
— Это не так, учитель, — сказал Аристотель, сам подивившись собственной смелости.
— А как же? — Платон поощрил его улыбкой.
— Есть задачи и есть ответы, учитель. Вопрос лишь в том, правильно ли поставлены эти задачи и верные ли даны на них ответы.
— Ты так думаешь? — Платон двинулся с места и повел с собой Аристотеля, держа руку на его плече. — Есть задачи и есть ответы? Но нет уверенности в том, правильны ли эти задачи и истинны ли ответы? И ты хочешь это проверить? Каким образом, Аристотель?
— Это должна быть новая наука…
— Еще одна наука? Наука о проверке истинности других наук?
— Не знаю, учитель.
— Тебе боязно это сказать?
— Возможно.
— Значит, ты не уверен в том, что можно создать такую науку?
— Я попробую ответить на этот вопрос. Но не теперь, учитель. Я еще многого не знаю. Я пришел учиться.
— Это хорошо, — сказал Платон. — Надо учиться. И нельзя уподобляться жеребенку, который, едва насытившись, лягает кобылицу, забыв о том, что ему снова захочется есть… Надо учиться. Где ты будешь жить? — спросил он, останавливаясь.
— Спевсипп и Гермий указали мне жилье, — ответил Аристотель. — Здесь…
Платон отступил на шаг, еще раз оглядел Аристотеля, улыбнулся и сказал:
— Учись и помни: слаще всего говорить истину.
Гермий задержал Аристотеля, который хотел было снова пойти рядом с Платоном.
— Будь скромнее, — сказал ему Гермий. — Другие тоже хотят побыть рядом с ним и услышать обращенные к ним слова.
— Да, да, — согласился Аристотель. — Он просто очаровал меня. И я невольно, как эта тень…
— О какой новой науке ты говорил?
— Это пришло само собой, ни о чем таком я прежде не помышлял, Гермий. Но увидел его глаза, услышал его голос, и во мне невольно родились эти слова о новой науке… Прямо колдовство какое-то. Я вовсе не хотел…
— Не скромничай…
— А ты будь последовательным, Гермий. То ты говоришь мне — будь скромней, то — не скромничай, — засмеялся Аристотель. — Я просто счастлив, что наконец увидел Платона, — признался он. — Просто счастлив, Гермий. И как он это сказал: «Мне кажется, что мы еще даже не начали это дело».
— Он сказал: «Мне ИНОГДА кажется…»
— Иногда? — удивился Аристотель. — Ты ошибаешься, Гермий.
— Пойдем, однако, — сказал Гермий. — Все ушли вперед. Догоним.
Голос у Платона был негромкий, так что все старались держаться поближе к нему, чтобы не пропустить ничего из сказанного им. Но сегодня сделать это было не так просто: стосковавшиеся по Платону за время его долгого отсутствия друзья и ученики — Аристотель насчитал их более тридцати — широким и плотным кольцом окружили учителя. Задержавшимся Аристотелю и Гермию не только не было видно Платона, но и многие его слова из-за шарканья десятков ног не удавалось разобрать.
Аристотель несколько раз пытался проникнуть сквозь это кольцо. По наконец с выражением страдания и обиды на лице оставил эти попытки и поплелся рядом с Гермием, который отстал от всех раньше его. Потом к ним присоединился Демосфен.
— Прав, конечно, старик, — сказал он, — что нехорошо быть жеребенком… Хорошо бы стать быком и разбросать всю эту толпу…
— Боюсь, что тебе никогда не стать быком, — сказал Гермий.
— Кто знает, кто знает, — ответил ему Демосфен. — Один я, конечно, не справлюсь с этой толпой, но вот если уговорить вас и взяться за дело втроем, а?
— Попробуй уговорить, — усмехнулся Гермий.
— Не тот случай, — сказал Демосфен. — А то, пожалуй, попробовал бы…
— Длинногривая кобылица не возьмет в супруги осла…
Гермий и Демосфен продолжали еще перебрасываться колкостями, но Аристотель не слушал их: он еще раз в мыслях повторил весь недавний разговор с Платоном и снова подивился своей неожиданной смелости. То, что он сказал о новой науке, должно было возмутить и оскорбить Платона: ведь такой наукой, удостоверяющей истинность всех других паук, Платон считал геометрию. И то, что называлось после Пифагора философией, было для Платона не более как геометрией. Фигуры и числа — вот тот срединный, умопостигаемый мир, который стоит между миром идей и миром вещей.
Он не управляет ни тем ни другим, но философ, постигая его, одновременно постигает и царство вещей, и царство идей. Точнее: и царство идей, и царство теней, ибо вещи, как утверждает Платон, всего лишь бледные тени, копии идей, следы их блистательного и вечного шествия.
И вот он, Аристотель, сказал о новой науке… Он вошел в Академию, на вратах которой написано: «Не геометр да не войдет!» Он дерзнул мечтать о науке, которая выше геометрии![28] «Весь видимый мир состоит из треугольников», — это сказал Платон, возражая тем, кто, подобно Левкиппу и Демокриту, утверждает, что мир состоит из атомов. Числа и фигуры диктуют все мыслимые и видимые отношения в мире вещей. О каких же новых законах, управляющих миром, возмечтал он, Аристотель? Сказав Гермию, будто мысль о новой науке возникла в его голове только теперь, Аристотель сказал неправду: не теперь она возникла и не теперь была высказана. И если бы он пожелал открыть Гермию правду, он должен был бы сказать, что именно эта мысль — о создании новой науки — привела его в Академию, где только он и мог утвердиться в ее возможности и необходимости.
И Платон не обиделся. Платон сказал: «Мне иногда кажется, что мы еще даже не начинали это дело».
Он оказался славным стариком. Впрочем, Аристотель и прежде слышал от других, что Платон — само воплощение мудрости и простоты. И все же, изучая то, что было написано Платоном, Аристотель никак не мог представить себе, каков он, автор высокомудрых сочинений. Да и как он мог представить себе Платона, когда тот писал о ком угодно, только не о себе. После чтения диалогов Платона Аристотелю порой казалось, что он не мысленно, а на самом деле беседовал с Сократом. Критобу́лом, Эвкли́дом, с другом Сократа Крито́ном, с его учениками Федо́ном и Аполлодо́ром, с пифагорейцами Си́ммием и Ке́бетом… Не было только среди них Платона, хотя ведь это он рассказал о них, говорил за них, спорил, судил, возвышал и осмеивал, любил, ненавидел, искал и находил… И находил, конечно! И то, что найдено, — свято. Вопрос лишь в том, все ли найдено.
Он был по-стариковски красив: белая борода, белые волосы, слегка увядшее, но ставшее от этого еще изящнее, еще тоньше лицо. Лицо доброго, но знающего больше других человека, и оттого грустью отзывающееся на запальчивость других — «Страсти сгинут, что останется?». Улыбкой — на печаль, тихой сосредоточенностью — на беспокойство, приветливостью — на горделивость, ибо излишняя гордыня — признак невежества, многознание же — источник подлинной скромности. Жесты его были плавными, прикосновения рук — мягкими. Он дышал медленно и неглубоко, потому-то тихой и неторопливой была его речь…
Платон очаровывал столь же сильно, как его философия. Это было сладкое очарование. В нем так легко и так радостно было терять себя…
Перед величием и красотой картины мира, созданной Платоном, можно было задохнуться и умереть от восторга. Не страшно задохнуться и не жалко умереть. Каким он, этот мир, являл себя людям до Платона — мрачным хаосом, безумным вихрем, всепожирающим огнем или таким, каким представляли его себе невежественные предки, поклонявшиеся сотням богов… Да и сам он, Аристотель, еще совсем недавно видел этот мир иным, чем теперь, когда он прочитал все, вышедшее из-под пера Платона.
Истина, казалось, лежала у всех на виду, но только божественная рука Платона потянулась к ней, подняла и подставила ее лучам солнца. И тогда все увидели, что на ладони его — кристалл изумительного совершенства. Грани его полны света и глубины. И к чему ни поднесешь этот кристалл, все становится ясным и понятным, приобретает смысл, значение и включается в тот всеобщий порядок, имя которому Гармония.
Внезапно исчез хаос: вещи стали различимыми, познаваемыми, о каждой из них стало возможным сказать, что она есть.
Вещи перестали распадаться на части, на признаки, на свойства, потому что было найдено то единственное и самое главное в них, что делает их неделимыми, — закон вещи, идея вещи, принцип ее бытия.
Софисты перестали дурачить людей своими глупыми рассуждениями вроде тех, что бык рогатое животное и козел рогатое животное, и значит, козел — тоже бык; что дом — убежище от непогоды и пещера — убежище от непогоды, и значит, пещера — дом, а поскольку дом есть каменное строение и храм есть каменное строение, а дом, в сущности, не отличается от пещеры, поскольку и дом и пещера — убежище от непогоды, то, стало быть, и храм есть не более как убежище от непогоды…
Смешно вспомнить, но еще три-четыре года назад сам он увлекался этими словесными фокусами и мнил себя по этой причине сверхмудрым.
Каждая вещь определяется идеей, в которой пребывает неизменной ее непреходящая и неделимая суть. Идеи остановили мир и сделали его доступным неторопливому созерцанию, ибо то, что подвижно, случайно и изменчиво в вещах, неподвижно, необходимо и вечно в идеях. Идет дождь, град, текут реки, ручьи, блещут под солнцем озера, шумят морские волны. Дожди уносятся с облаками, тает и испаряется град, высыхают реки, зарастают травой и превращаются в болота озера, утихают волны — так переменчив и подвижен этот мир воды, но неизменной и вечной остается его идея — идея воды, составляющая суть одного из элементов мира, главные качества которого — холод и влажность. Теперь уже никто не скажет, что главный признак воды — капать, течь, быть прозрачной. Холод и влажность — вот суть воды, заданная всегда и везде ее идеей. Суть огня — тепло и сухость, суть воздуха — тепло и влажность, суть земли — холод и сухость…
В чем суть человека? Не в том, что он ходит на двух ногах, — на двух ногах ходят и птицы; не в том, что он строит себе жилище, — жилища строят для себя и другие животные; не в том, что он общается с подобными себе с помощью звуков, — птицы и многие звери издают звуки, общаясь друг с другом; не в том, что он трудится, — трудятся и муравьи; не в том, чем он владеет или не владеет…
Сущность человека в том, что он мыслит о сущностях мира! Из всех людей наиболее человеком является философ. И потому он, Аристотель, пришел сюда, в Академию, к Платону, к философу, который указал людям мир сущностей, блистающий мир высоких идей, открыл тайну постижения этого мира и проникновения в него бессмертной человеческой души. Сам он стал вровень с богами и приближает к ним всякого, кто готов ступить на стезю вечного и неустанного поиска. И поэтому он, Аристотель, пришел сюда…
Только философию любят ради нее самое и созерцание — ради самого созерцания. Всему же прочему люди посвящают себя ради чего-то другого: игре на флейте учатся, чтобы стать флейтистом, любому ремеслу — чтобы стать мастером, многим искусствам — чтобы обучать этим искусствам других. И только высокие истины человек созерцает ради самого созерцания, которое доставляет радости, удивительные но чистоте и прочности. Тот, кто однажды почувствовал себя дома в философии, останется в ней на всю жизнь…
Между тем шедшие впереди остановились. Платон, Эвдокс и еще несколько человек присели на скамью под раскидистым вязом. Те же, кому не досталось места рядом с Платоном, либо продолжали стоять, подобно Ксенократу и Спевсиппу, либо, как Гермий, Демосфен и Аристотель, уселись на траву рядом со скамьей.
— Теперь расскажи нам сам о Дионисии, — обратился к Платону Эвдокс. — То, что мы знаем от Спевсиппа и Ксенократа, наполняет нас гневом и вечным презрением к тиранам.
— Да, Эвдокс, теперь мне следует сказать о тиранах, — помолчав, ответил Платон. — Не всякого властелина называю я тираном, но лишь того, кто захватил власть против воли граждан и использует ее не на благо всем, а ради удовлетворения своего властолюбия и порочных страстей…
Аристотелю показалось, что, говоря эти слова, Платон взглянул на Гермия и едва заметно кивнул ему — перед другом, тираном Атарнея и Ассы он извинился за тирана Сиракуз.
— В первые дни и в первое время, — продолжал Платон, — он улыбался и обнимал всех, с кем встречался. Он не называл себя тираном, ибо, казалось, стыдился дурной славы отца. Он обещал многое в частном и общем: освободить граждан от долгов, народу и близким раздать земли, распустить свою многочисленную охрану. Он притворялся милостивым и кротким в отношении ко всем.
— Это было необходимо, чтобы завоевать твое доверие, Платон, — сказал Эвдокс.
— Очевидно. Но вскоре обнаружилось, что он исполнен подозрения ко всем и замышляет войну, чтобы народ чувствовал нужду в вожде. Прочие же желания его случайны. То он пьянствует и услаждается игрою на флейте, а потом довольствуется одною водою и изнуряет себя; то упражняется, а в другое время предастся лености и ни о чем не радеет; то будто занимается философией, но чаще вдается в политику. В его жизни нет ни порядка, ни закона. Он хочет удержать власть ради себя, а потому уничтожает всех, кто осуждает его. Так живет тиран, не имея ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы…
— Старался ли ты, Платон, внушить ему иные мысли? И возможно ли это — обучить властелина, тирана иным правилам, чем те, которые предписаны самим характером тирании? — спросил Демосфен.
— Властелин может стать отцом своего народа, если его замыслы благородны. И значит, никогда не следует пренебрегать возможностью возбудить в тиране благородные свойства души.
— Значит ли это, Платон, что ты вновь согласился бы поехать к Дионисию и учить его, если бы он снова позвал тебя? — спросил Эвдокс.
— Благое всегда достойно жертв, — ответил Платон. — Огонь ничего не теряет, когда от него зажигают другой огонь, Эвдокс. К тому же, как ты знаешь, у нас в Афинах наказывают тех, кто не позволяет от своего огня зажечь огонь другому человеку.
— Боги удостоили тебя высшей чести и открыли тебе то, что скрыто от многих, — сказал Эвдокс.
Пять дней шумели Великие Панафинеи. Уже афлофеты[29] получили у казначеев на Акрополе панафинейские вазы с маслом священных олив и вручили их победителям гимнастических состязаний и конских ристаний. Уже лучшие воины получили щиты, а музыканты — деньги. Тишина воцарилась в Одеоне, улеглась пыль на ипподромах Пирея, у мыса Мунихи́й утих скрип весел соревнующихся триер. Вместе с дымом факелов рассеялась тьма безлунной ночи, и наступил рассвет шестого дня. Тысячи афинян и жителей Пирея стали заполнять площадь между Дипилоном и Священными воротами — вымощенный мрамором Помпейон.
Аристотель, боясь потерять Гермия в толпе, не выпускал его руку. Уже несколько раз они обошли вокруг священной триеры, на мачте которой с восходом солнца было поднято покрывало Паллады, расшитое юными афинянками в Эрехте́йоне. Разноцветными нитями, золотом и серебром были вытканы на нем картины, изображавшие деяния Афины и события, прославлявшие афинян. Триера стояла на колесах, спицы которых были увиты цветами. Возле нее уже толпились мускулистые юноши, чьею силой она должна была двинуться в путь до самого ареопага. Далее покрывало понесут вверх по ступеням Пропилей на Акрополь к священнохранилищу в Эрехтейоне, поставленному над могилой Кекро́пса — легендарного царя Аттики и основателя Афин, и развернут его рядом с древней статуей богини.
Аристотель едва держался на ногах: все пять дней Великих Панафиней Гермий не давал ему присесть — всюду водил за собой, стараясь не пропустить ни одного состязания.
— Жизнь в доме тирана — самая опасная из всех жизней, — говорил он Аристотелю. — Сегодня я жив, завтра мне воткнут меч в живот: всегда есть люди, желающие занять трон тирана, Аристотель. И вот я жадно смотрю на все это, хочу наглядеться на великий праздник, на человеческие радости. Хочу, Аристотель, хотя бы в чувствах пожить жизнью этих людей. В Академии я насладился дарами мудрости, на Панафинеях я жадно пожираю дары веселья.
— Тем сильнее будет твоя тоска, когда ты вернешься в Атарней, Гермий, — сказал Аристотель. — Чем больше пьешь, тем тяжелее похмелье…
— У эллинов должно быть одно государство, — тяжело вздохнул Гермий. — И всю жизнь я отныне посвящаю этой задаче. Но кто же нас объединит? Даже афиняне, на которых с надеждой все еще взирают эллины в других землях, едины только в одном — в празднествах. В делах у них нет единства… И все же я с великой радостью, как на прообраз будущего эллинов, смотрю на этот блистательный праздник, Аристотель.
На Помпейоне собрались победители всех предшествующих состязаний — красивейшие, искуснейшие и сильнейшие из афинян. Они пришли сюда пешком, примчались на колесницах, прискакали на горячих лошадях. На всех — праздничные одежды. Всюду пестреют венки, цветы.
Вот уже собрались у выхода на Дромос[30] главные жрецы, рядом с ними — депутации союзных городов, нарядные девушки из благородных семей, в руки которых возле ареопага передадут снятое с мачты священной триеры покрывало Афины; архонты, гиеропии, хореги — все, кому надлежит двигаться к Акрополю впереди процессии. Среди хорегов — Платон, на долю которого выпала подготовка хора в театре Диониса, стоившая ему, по утверждению Спевсиппа, пять тысяч драхм. Другие говорили, что эти деньги внес за Платона Дион, его друг и дядя сицилийского тирана. Дион, изгнанный Дионисием из Сиракуз, жил в Афинах, купив себе богатый дом рядом с домом Пулитио́на, где некогда развлекался любимец Сократа Алкивиад, кощунственно пародируя панафинейские мистерии.
Аристотелю не довелось еще побывать в доме Диона, но Гермий, который был однажды приглашен к нему, рассказывал, что дом Диона так же богат, как дом тирана Эвбула в Атарнее. И поэтому было похожим на правду, что деньги за Платона внес Дион. Ведь пять тысяч драхм — это почти талант. Вряд ли у Платона нашлось бы столько серебра. Академия не приносила ему никакого дохода, а доход с владений был ничтожным…
Словно сильный порыв ветра пронесся над площадью — все вдруг качнулось в одну сторону: люди, лошади, колесницы, жертвенные животные, сосуды в руках метеков. Качнулось и медленно двинулось вслед за священным парусом, сверкающим над толпой.
Голова процессии уже приближалась к агоре, а нарядные афиняне сплошным потоком все вливались и вливались с широкого Помпейона в узкое русло Дромоса. Толпа шумела, смеялась, в глазах ее искрилось веселье — огонек, посылаемый навстречу идущим золотым наконечником копья Афины Промахос[31] с высот залитого утренним солнцем Акрополя.
— Вот, — проговорил восторженно Гермий. — Вот оно — великое восхождение к свету, к истине. И хотя мы с тобой метеки, Аристотель, мы тоже поднимемся вслед за афинянами к покровительнице самого прекрасного города эллинов. Вперед, мой друг.
Гермий и Аристотель вошли в людской поток, и он повлек их по Дромосу мимо запертых рыбных, мясных и овощных лавок, мимо цирюлен и харчевен, выплеснул на агору, к статуям великих полководцев и тираноубийц, пронес мимо портиков, мимо старого булевтерия и пьедестала героев, мимо Одеона и Ареопага к мраморной лестнице Пропилеи.
— Я знаю, когда мы станем одним великим народом, — сказал Аристотель.
— Когда? — спросил Гермий.
— Когда вот так же устремимся, но не к статуям богов, а к истине. Она объединит нас и сделает непобедимыми в веках — истина. Не герои, не цари, не полководцы, Гермий, — одна лишь чистая и сверкающая сильнее солнца истина мира.
— Чем истина может прельстить людей, Аристотель? Ведь она не прибавляет им ни здоровья, ни жизни, ни силы, ни богатства. Чем? Вот и цветок прекрасен, и все обращают к нему взгляды, но, налюбовавшись, отправляются в харчевни, мой друг. Приказ полководца ведет людей на смерть, но кто, скажи мне, с мечом в руке вступился за несчастного Сократа? Я не хочу отнимать у тебя веру в силу истины, мой друг, но ты подумай, как сделать, чтоб она была слаще меда, хмельнее вина, страшнее смерти, сильнее меча, прекраснее солнца. Как сделать это, Аристотель?
— Когда я говорю об истине, я не думаю о некой истине, сверкающей в недоступной вышине. Я говорю, Гермий, об истине жизни. Самое истинное во всем должно быть найдено и принято людьми. А поскольку заблуждений много, а истина одна, то и дорога у всех будет одна: надо правильно мыслить, правильно говорить и правильно поступать.
— Некоторые находят больше удовольствия в том, чтобы говорить чепуху и совершать глупости, Аристотель. Любят шум больше тишины, толпу больше одиночества, пьянство больше трезвости, обжорство больше сытости, обман больше правды… Что с ними делать?
— Истиной должны обладать хотя бы те, кого мы наделяем властью, Гермий.
— Значит, все-таки монархи, тираны, архонты? Истина — для избранных и облеченных властью. Прочие же должны подчиниться власти мудрых? Но об этом говорит и Платон. Давно говорит, мой друг, но никто не прислушивается к его словам.
— Ты прислушался.
— Да, — вздохнул Гермий. — Я прислушался. Я слушаю Платона, но смотрю на Артаксеркса, Аристотель. Обстоятельства сильнее слов. Кто думает иначе, тот ошибается.
— Это грустная истина, — согласился Аристотель. — Но надо исследовать, истина ли? Не мы ли сами создаем обстоятельства?
— Разве я родил и посадил на персидский престол Артаксеркса?
— И все же надо исследовать истинность сказанных тобою слов. Истина, Гермий, сильнее всего — я в это верю. Она не может быть грустной или враждебной человеку. Миром владеет разум. Разумное во всем прекрасном. Значит, и жизнь по законам разума должна быть прекрасной жизнью, Гермий.
Они поднялись на Акрополь в числе последних. Вся площадь между Пропилеями, Эрехтейоном и Парфеноном была запружена народом, который, подобно водовороту, медленно вращался вокруг постамента бронзовой Афины Промахос. День был безоблачный и жаркий. В толпе все чаще стали слышны вздохи, на мокрых от пота лицах угасал праздничный восторг, на головах увядали цветочные венки. И когда, наконец, покрывало Афины было внесено в Эрехтейон и народ устремился к восточному фасаду Парфенона с дарами в руках и с любовью в сердце к прекрасной богине, толпа снова оживилась: близился конец торжественной процессии, конец Великих Панафиней, утомивших всех своей суетой. Близилось возвращение к жизни обычной, по которой всегда тоскуешь среди шумного и многолюдного празднества.
Они тоже вошли под колоннаду храма и тоже смотрели на Афину Деву — создание рук вдохновенного Фидия. Она была чиста и величественна. Сверкала золотом и нежной белизной слоновой кости. Толпа текла мимо нее, не вызывая в ней ни радости, ни печали. Она олицетворяла собой постоянство и гармонию жизни под покровительством мудрой и прочной силы. Воплощение божественного разума, создание человеческого разума — блистательная форма блистательной истины.
Они подошли поближе к статуе, чтобы взглянуть на шит Афины, где, по утверждению афинян, Фидий, кощунствуя, изобразил себя и Перикла[32]. Они нашли голову плешивого старика и воина, чье лицо перечеркнуло поднятое копье.
Гермий пожал плечами и сказал шепотом:
— Я видел тысячу таких стариков и таких воинов. Ужели это вдохновенный Фидий и великий вождь афинян Перикл? Нужно быть ничтожным, чтобы разглядеть в ничтожных образах лики великих. Создав Парфенон и Афину Парфенос, Фидий и Перикл разве не создали наилучший памятник себе? И если великих надо судить, то судить их надо за великое…
— Толпа судит вождей, Гермий. Потому что хочет найти в них низменное, чтобы уравнять их с собой.
Прощальный пир Гермий устроил в доме своего афинского родственника Димоме́ла. Пир был богатый и многолюдный. Ложа и столы поставили прямо в саду — в доме не нашлось бы такой комнаты, где могли бы разместиться все пирующие. Да и ночь была теплая и тихая, даже пламя в светильниках не колебалось. Звездное безлунное небо висело, казалось, над макушками деревьев — такое оно было прозрачное и чистое. Душно пахли фиалки и мята, притоптанная ногами. Пир был шумным, хотя причина его была грустна — Гермий покидал Академию и возвращался в свой Атарней. Но грустили немногие — только близкие друзья Гермия, в их числе Аристотель и Ксенократ. Остальные веселились, потому что быстро забыли об отъезде Гермия, да он и не печалил их: люди уезжают и приезжают, встречаются и расстаются; и пока все это происходит в этой жизни, нет причины для кручины. А кто кого любит, пусть поплачет, расставаясь с любимым: слезы украшают, потому что свидетельствуют о глубине чувств.
Аристотель несколько раз покидал свое ложе, подходил к Гермию и ложился рядом с ним, беря чашу и фрукты с его стола. Потом уходил, чтобы другие друзья Гермия могли побыть рядом с ним. И так в течение всей ночи, пока длился пир, он терзал себя, чувствуя боль в душе и думая о том, что с отъездом Гермия он будет одиноким, потому что ни с кем из живущих в Академии не успел так сблизиться, как с атарнейцем. Это были грустные мысли, но было в них и еще нечто, кроме грусти: чувство, что отныне наступает пора сосредоточенной и деятельной жизни, нора работы, которая так долго и терпеливо ждала его. Предстоит разделить, исследовать и соединить все науки, все знания, чтобы взойти к истине, которая так влечет его к себе, — отколоть камни от бесформенной скалы, обтесать их и отшлифовать, чтобы затем сложить пирамиду, упирающуюся своей вершиной в предельную сферу, за которой — царство вечного и бесконечного разума. Эта решимость взяться за огромное и многотрудное дело, окрашенная грустью расставания с другом, поднимала его душу, наполняла мистическим трепетом: вот он, одинокий и загадочный, возвышается, подобно некоему божеству, над землей…
— В знак того, что дружба наша была радостью для нас обоих, — сказал Гермий, когда Аристотель в очередной раз подошел к нему, — я отдам тебе в жены мою племянницу Пифиаду. Правда, она совсем еще крошка, но ведь и ты не собираешься жениться немедленно.
— Лет через пятнадцать, — ответил Аристотель. — Думаю, что именно столько времени понадобится мне, Гермий, для того, чтобы превзойти в мудрости всех философов…
— А ты самонадеян, мой друг. Почему же надо непременно превзойти всех? — спросил Гермий.
— Только тогда можно стать учителем. Пока ты не превзошел в знаниях своего учителя, ты ученик. И только тогда становишься учителем, когда поднимаешься выше всех.
— Ах, Аристотель, — улыбнулся Гермий, дружески обнимая его. — В сущности, ты еще совсем юнец. И мысли у тебя полны молодого кипения. Вино твое еще не готово, оно только бродит, и один лишь Дионис знает, будет ли твое вино наилучшим. Не торопись хвалить его.
— Я сказал об этом только тебе, Гермий. Но не только для того, чтобы похвастаться. Во мне это горит, зреет. Я готов. И ты потом увидишь, что слова мои не были пустыми, Гермий. Вот мысль, которая реальна: высказаны уже все догадки, найдены все направления, есть первое и последнее, но нет доказательств, не определен главный путь, не выкованы все звенья, чтобы соединить первое и последнее…
— …Тебя и Пифиаду, Аристотель. Не забудь об этом. И скажи мне теперь, согласишься ли ты взять себе в жены Пифиаду, мою племянницу и приемную дочь?
— Да, — ответил Аристотель. — Через пятнадцать лет. Сколько ей будет тогда?
— Семнадцать, Аристотель.
— И прекрасно. Мне же будет тридцать три. И я буду первым среди философов…
— Пей, мой друг.
— Что? — не понял Аристотель, снова увлекшись мыслью о своем высоком призвании.
— Вот отличное наксийское, — засмеялся Гермий. — Не забывай о нем.
Ложи Платона и Эвдокса стояли рядом, под широколистым орехом — чистым деревом; на нем не водится ни тля, ни гусеницы, ни жучки, которые падают с других деревьев. Между ложами Платона и Эвдокса сначала был поставлен светильник с пятью фитилями, но вскоре по приказу Гермия светильник унесли: на огонь летели ночные бабочки и, обжигая крылья, носились вокруг, беспокоя дорогих гостей.
Прощальную чашу принесли после того, как ушла Мирси́на, надорвавшая всем душу грустными мелодиями, которые она искусно извлекала из флейты. Слушая их, Аристотель даже заплакал — так тронули его чистые и высокие звуки. Да и не один Аристотель уронил голову на подушку по вине Мирсины — в исполнении печальных мелодий Мирсина превосходила всех флейтисток Афин.
Когда она ушла, оставив всех в грустной задумчивости, кравчий наполнил вином тонкий ки́лик из красной колиадской глины[33], расписанный золотом, и объявил, что этот килик — прощальный: каждый отпивший из него должен произнести речь в честь Гермия, покидающего Афины.
Первым пригубил килик Платон. Все умолкли, едва кравчий подошел к нему.
— Тимон, который возненавидел людей за их пороки, покинул город и поселился в развалинах среди диких кустарников, — заговорил Платон, держа прощальный килик в руке. — Этот Тимон утверждает, что у людей нет будущего. Все хорошее, говорит он, уже было. Люди, утверждает он, достойны презрения. Тот, кто мудр, должен покинуть их общество и, подобно ему, удалиться от них.
Платон сделал паузу, оглядел присутствующих, словно прислушиваясь к чувствам, которые возбудили в нем слова Тимона, и размышляя о том, теперь ли ему удалиться от людей. Было мгновение, когда Аристотелю показалось, что Платон уйдет, не закончив речь. Да и у других гостей на лицах отразилась неожиданно возникшая тревога. Гермий даже встал, обеспокоенный длинной паузой Платона. А когда Платон заговорил снова, улыбнулся и облегченно вздохнул.
— И я думаю, что люди не стоят пылкой любви философов, — продолжал Платон, — потому что пылкая любовь бывает от восхищения. В жизни людей мало восхитительного. Но в каждом человеке есть то, что достойно нашей заботы, — его душа. И в каждом обществе есть то, что достойно деятельной любви философов, — его лучшая, мыслящая часть. А так как никто, кроме философов, не думает возвышать душу человека и не знает, как наилучшим образом должно быть устроено общество, то вот, стало быть, почему нельзя принять слова Тимона. Философы должны улучшать мир. И так как истина открывается не сразу, а постепенно, и так как лучшие из истин могут быть открыты в будущем, то, значит, и будущее людей обещает быть лучшим, чем прошлое. Тысячу раз жизнь каждого из нас может убедить в обратном, но никогда она не поколеблет наших убеждений, пока мы будем ударами судьбы противопоставлять единственное, что вечно, незыблемо и прекрасно, — истину. Вот чего я тебе желаю, Гермий, — сказал Платон и передал килик Эвдоксу.
Аристотель ловил каждое слово Платона и примерял его к своим мыслям, желаниям, к тому, что можно было назвать еще только предчувствием мысли или желания. И делал он это не только теперь, на пиру, но и всякий раз, когда слушал Платона. Слушал же он его почти каждый день с той поры, как Платон возвратился из Сиракуз. И даже по два раза на день — утром, когда Платон вел беседы со своими друзьями и учениками, и вечером, когда послушать Платона приходили многие из Афин. И вот что еще делал Аристотель — он читал диалоги Платона, которые брал в хранилище рукописей. Это было самое богатое из всех хранилищ, какие он когда-либо видел. В нем были сочинения не только Платона, но и многих других философов, софистов, риторов, ораторов, геометров, астрономов, физиков, живших в других краях и в другое время. И если первым удовольствием для Аристотеля были беседы Платона, то вторым — занятия в хранилище рукописей. Он так усердно предавался им, что, случалось, забывал о пище и сне, благо дверь в хранилище никогда не закрывалась ни днем ни ночью. Главный хранитель рукописей Фрасибу́л вскоре обратил внимание на прилежного ученика и всякий раз, когда тот забывал о пище, напоминал ему, что наступило время второго завтрака или обеда[34]. О приближении первого завтрака напоминала всем своими звучными флейтами клепсидра Платона. Ее гармонический аккорд был ласков и настойчив, как зов друга.
Восторг — любовь, когда все в любимом предмете возбуждает душевный трепет. Обуянный восторгом ни с чем не сравнивает того, кому поклоняется в своей любви, потому что ничего, кроме своей любви, не видит. Он и себя теряет в этом восторге, и так как ничто, кроме предмета любви, для него не существует, то и сама мысль о сравнении лишена смысла.
И вот то чувство, которое возбуждал в Аристотеле Платон, было чувством восторга. Вся душа Аристотеля была заполнена мыслями о нем. Во всем, что окружало его, он обнаруживал его присутствие: в чистоте струй неторопливого Кефиса — чистоту помыслов Учителя; в прохладе, которая клубилась голубым светом под платанами, — возвышающую и ублажающую душу мысль Учителя; в солнечном свете, струящемся сквозь высокие кроны, — летящую к запредельным высям мечту. Он обнимал деревья, мимо которых проходил Платон, гладил ладонью траву, примятую его ногой, целовал листья, касавшиеся его головы.
Он был преисполнен восторга и не прислушивался ни к себе, ни к другим, потому что голос Учителя постоянно звучал в его ушах. И даже, читая слова, написанные им, он слышал их так, словно их произносил Учитель.
И только недавно — Аристотель не сразу обнаружил это — он различил в своей душе себя и его, отделил себя от него и сравнил собственную мысль с его мыслью. И хотя в этом сравнении победил Платон — иначе и быть не могло, — Аристотель обнаружил, что его собственная мысль не исчезла, не пропала, не ушла, а лишь остановилась и оглянулась, ища поддержки у тех, что следовали за ней. Счастье доставляли те сравнения, где его мысли и мысли Платона совпадали. Ни с чем не сравнимое блаженство испытывал он, когда мудрость Платона, словно из небытия, из хаоса и мрака, вызывала к жизни чистые и стройные мысли, принадлежавшие его, Аристотеля, душе и устремлявшиеся, словно дети к матери, к мудрости Учителя.
Это блаженство он испытал и теперь, когда Платон сказал, что призвание и вечная забота философов — улучшать мир. Эта мысль не была ни новой, ни неожиданной. И тот, кто хоть немного знал о жизни. Платона, не мог не вывести эту мысль, обдумывая его поступки: ведь это он, Платон, дважды ездил в Сиракузы, пытаясь наставить на путь истины тиранов. Он произносил перед своими слушателями речи в защиту мудрости, нравственности и законов. С его мыслями соизмеряют справедливость своих поступков многие из тел, кто нынче стоит у власти в Афинах и в других полисах Эллады. И все же… И все же мудрость — обитель чистого созерцания, размышления, находящего пользу в самом размышлении. Из всех наук наиболее полезна эта — наука о мудрости, о причинах и началах. И никто так не далек от практической жизни людей, как философ. И стало быть, зная о том, что такое философия, можно подумать, что истинный философ — человек, далекий от борьбы мнений и страстей, парящий в эмпиреях[35]. Но можно ли подумать так, зная о том, кто такой Платон?
Перед тем как покинуть Академию, Гермий пробыл несколько часов наедине с Платоном. Платон проводил Гермия до ворот. Дальше с ним пошли Ксенократ, Спевсипп, Аристотель и еще несколько человек. Платон остался стоять у ворот и стоял там до тех пор, пока Гермий и его друзья не скрылись за деревьями.
Солнце перевалило уже за полдень, когда они вышли на дорогу, ведущую в Пирей. Тащившаяся следом за ними в сопровождении рабов коляска с дорожным скарбом Гермия громыхала колесами на камнях. Гермий был неразговорчив и на вопросы друзей, отчего молчит, отвечал, что обдумывает недавнюю беседу с Платоном.
— Впрочем, — признался он позже, — не столько то обдумываю, что сказал мне Платон, сколько то, что сказал ему в ответ я. И вот мне кажется, что своими ответными словами я обидел Учителя. Он не нашел в моих словах истины и расстался со мною холодно — вы видели это.
— Не так уж необычно, — сказал Ксенократ, — что Учитель находит истину только там, где ему хочется. А хочется ему, как правило, видеть истину принадлежащей его мыслям, а не мыслям других.
— Стыдись, Ксенократ, — остановил его Спевсипп. — И вот Аристотель, который еще ни разу не слышал, чтобы мы вступали в спор с Платоном. Что подумает он о нас? Не покажется ли ему, что мы не возражаем Учителю только из почтения к его летам, а не из признания его превосходства в мудрости? А вот теперь, когда Учителя нет рядом, мы говорим против него…
— Меня мало волнует, что подумает сейчас о нас Аристотель. Меня больше волнует то, что он подумает о нас позже, когда и сам обнаружит в мыслях Платона бреши и несоответствия. Он подумает тогда, что мы, молчавшие, либо глупцы, либо притворщики. И значит, что мы — не философы. Верно, Аристотель? — обратился к шедшему рядом с ним Аристотелю Ксенократ.
— Для меня каждое слово Учителя священно, — ответил Аристотель, которого слова Ксенократа немало возмутили. — И лучше заблуждаться вместе с Платоном, чем осуждать его вместе с Ксенократом.
— Да вы поглядите на этого восторженного эфеба! — захохотал Ксенократ. — Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что не пройдет и года, как этот преданный ученик станет исправлять Учителя.
— Откуда такая уверенность? — спросил Аристотель.
— Да все оттуда же: если ты подумал сейчас, что ты лучше нас, потому что больше нас любишь Платона, то с той же необходимостью ты можешь подумать, что ты лучше Платона, потому что больше него любишь истину. Ты будешь расти, мой юный друг, — похлопал Ксенократ по плечу нахмурившегося Аристотеля. — Ты будешь расти! В этом мире все так устроено: кто поднял ногу, тот должен ее опустить, если он не истукан и хочет сдвинуться с места…
Никто с Ксенократом спорить больше не стал. Промолчал и Аристотель, поняв, что сейчас нужно говорить не о нем, а о Гермии, с которым все они теперь расстаются.
Больно предаваться печали о безвозвратном. Но расставание с другом — не всегда расставание навеки. А тут еще все поклялись, что непременно станут навещать друг друга. И Аристотель сказал Гермию, едва они вышли на пирейскую дорогу, что обязательно побывает в Атарнее, когда представится к тому случай. Гермий же уверял друзей, что не раз побывает в Академии и что в честь этих встреч они славно попируют. Никто тогда не знал, много ли правды в их словах, но все верили, что будущие встречи в их власти.
— Что же ты сказал Учителю? — снова спросил у Гермия Ксенократ, когда они прошли часть пути, болтая о пустяках. — И нам следовало бы знать, чем ты, как тебе кажется, огорчил его.
— Мы вновь говорили об устройстве города, — вздохнув, ответил Гермий. — Платон испытывал мои намерения. Он прямо спросил, делаю ли я так, как того требует высшая мудрость: преобразую ли я жизнь в Атарнее согласно его установлениям.
— И что ты ответил?
— Я ответил так же прямо, как он спросил. Я сказал: «Нет, Учитель».
— Почему? — воскликнул Аристотель, схватив Гермия за руку. — Ты не хочешь? Или не можешь? Или не считаешь нужным? Как мне стыдно за тебя, Гермий. — Аристотель отпустил его руку и отвернулся. — Как мне стыдно за всех нас! Два Дионисия! И вот еще третий — Гермий… Вот что я скажу Учителю, вот что он должен знать.
— Он знает это, — сказал Гермий. — Я уже сказал ему об этом.
— Ты? Но почему же, почему же, Гермий? — У Аристотеля на глазах заблестели слезы. — Разве то, чему учит Платон, невозможно?
— Да, Аристотель. То, к чему он призывает, выше человеческих возможностей. Вот если бы найти, Аристотель, полис, в котором живут одни несмышленые дети, и разделить всех так, как говорит Платон, на работников, воинов и мудрецов, и держать их строго в этом мнении, не давая соприкасаться с гражданами других городов, и лишить их естественного стремления к удовольствиям и собственности, тогда я построил бы такой полис. И взял бы тебя в соправители, — добавил Гермий, чем вызвал смех у слушавших его. — Ни боги, ни люди не могут построить такой город, — сказал в заключение Гермий. — А значит, ни философы, ни тираны. Но если бы мы и построили его, в нем нельзя было бы жить. Полис Платона — это не совокупность людей, а совокупность отвлеченных идей.
— А в будущем? — спросил Аристотель. — Разве в будущем, когда философия и высшая мудрость станут достоянием, всех, когда каждый из живущих будет понимать, каково наилучшее устройство полиса, разве тогда не окажется возможным построить государство Платона?
Гермий ответил не сразу. Посмотрел на друзей, которые улыбались ему с пониманием, потом взял Аристотеля под руку, отошел с ним в сторону и сказал, наклонившись к его уху:
— Я не хочу тебя разуверять в том, что будущее, о котором ты говоришь, когда-нибудь настанет. Вся беда, однако, в том, что в пределах обозримого времени я не вижу даже начала этого будущего, но уже отлично различаю конец и моей и твоей жизни.
— Я понимаю, — вздохнул Аристотель. — Но по крайней мере, мы должны стараться, чтобы мысли Учителя через нас и через наших учеников дошли туда, где начнется прекрасное будущее…
— Прекрасное? — с грустью переспросил Гермий.
— Да. Я верю, — сказал Аристотель.
— Ты счастливее меня, — ответил Гермий. — Говорят, что если идешь рядом со счастливым человеком, то боги по ошибке могут наделить счастьем и тебя… — улыбнулся он. — Все же я верю, Аристотель, что мы еще увидимся. Тогда-то я точно буду знать, уделили мне боги частицу твоего счастья или нет, способны ли они ошибаться… Жизнь смертных состоит из ошибок — это я знаю. Наш Учитель — смертен. Это я и хотел тебе сказать на прощание. Нет богов среди людей. А потому прими мой совет: никому из живущих не поклоняйся.
— Наибольшим достоинством обладает тот, кому открылась истина, Гермий.
— Кому она открылась, Аристотель?
— Учителю, — ответил Аристотель и остановился.
Гермий, не оглянувшись, пошел дальше и смешался с толпой провожавших его друзей.
Аристотелю больше не хотелось следовать за ними. Но, поразмыслив немного над тем, как они отнесутся к нему, если он сейчас вернется в Академию, он поспешил за ними и вскоре догнал их.
— Одно из двух, — говорил своим друзьям Ксенократ, когда Аристотель поравнялся с ним, — или ты будешь глотать пыль, следуя за тем, кто знает дорогу, или будешь дышать встречным ветром, идя к цели наугад. И здесь каждый должен решать, что лучше…
— Есть третий путь, — сказал Аристотель, понимая, что говорит дерзость. — Цель должна быть не впереди, не сзади, не справа или слева. Цель должна быть выше нас. И двигаться к ней надо не по дорогам земли, а по дорогам мысли. Цель же видна всем. Имя ее — совершенство…
— Это прекрасное решение, — сказал Гермий. — Но если есть образец совершенства, значит, есть и тот, кто идет впереди нас и под чьими ногами пылит дорога.
— Что ты на это скажешь, Аристотель? — засмеялся Ксенократ. — Все-таки одно из двух, не правда ли? Либо Учитель и цель, либо никто и ничто.
— Есть нечто, что является Учителем и целью одновременно, что вечно и неподвижно и манит к себе, как далекий свет, — ответил Аристотель.
— Что же это? Открой нам! — дурашливо взмолился Ксенократ. — Не обойди нас своей великой милостью!
— Не хочу пылить перед тобой, — сказал Аристотель. — Найди это сам…
— Он победил, — указал на Аристотеля Гермий. — Ксенократ, ты побежден.
Они входили в Пирей.
«Ты пойдешь к Тимону, — сказал себе Аристотель. — Даже если он станет бросать в тебя камни, ты подойдешь к нему и спросишь: «В чем правда, Тимон? И почему ты видишь ее не там, где видит ее Платон?» Он много раз приказывал себе сделать это и, наконец, отправился к Тимону, к развалинам гробниц у городской стены к западу от Дипилона, где было обиталище Злого Старца — так называли Тимона афиняне. Все афиняне знали о Тимоне и каждому новому человеку рассказывали о нем, но не многие из них могли похвастаться тем, что видели его и разговаривали с ним. За колючими зарослями дрока и можжевельника, среди старых каменных надгробий, в щелях между которыми водились ядовитые змеи, Тимон нашел себе убежище, добровольно покинув людей. В смельчаков, решившихся навестить его, он швырял камнями, приходя в неистовую ярость. И те, как правило, отступали, опасаясь за свою жизнь. Но был среди афинян человек, который знал к нему тропу и приходил безбоязненно. Только Платона Тимон удостаивал вниманием и беседовал с ним, как с равным, хотя и не разделял его убеждений. Тимон ненавидел людей, а Платон любил их. Тимон не верил ни в истину, ни в богов, а Платон посвятил божественной истине всю жизнь. И когда они оба поднимали глаза к небу, Тимон видел там бездну, куда безвозвратно уходит все, Платон же — источник блага и красоты.
— Ты кто? — Этот вопрос остановил Аристотеля и заставил распрямиться в тот самый момент, когда он собирался вот уже в который раз нырнуть под колючие ветви сухого дрока, чтобы еще на несколько шагов приблизиться к жилищу Злого Старца.
— Я Аристотель, — ответил он, еще не видя того, кто был рядом. — Я ученик Платона.
Тимон стоял по ту сторону куста. И если бы он не подал голоса, Аристотель прошел бы, не заметив его: тень скрывала щуплую фигурку старца, чьи волосы и чья одежда но цвету мало отличались от сухой травы и земли.
— Назвавшись так, ты хочешь сказать, что ищешь меня? — спросил Тимон.
— Да.
— Зачем?
— Я принес тебе смоквы, которые так любит Платон, — сказал Аристотель, подняв руку с узелком, где были смоквы. — И я хочу спросить тебя…
— Иди за мной, — сказал Тимон. — Ты первый из учеников Платона пришел ко мне.
Тимон шел впереди, раздвигая ветви кустарника посохом. Впрочем, он не очень старался: его загрубевшая кожа на руках и плечах, видимо, совсем потеряла чувствительность, и шипы не оставляли на ней никаких следов. Зато Аристотель страдал, поспешая за старцем, — отведенные посохом Тимона ветви словно нарочно хлестали его по лицу, царапали и раздирали плащ, впиваясь в него колючками, а под ногами, спрятанные в траве, то и дело оказывались камни, о которые Аристотель спотыкался. И получилось, что вместо того, чтобы обходить кусты, он, споткнувшись, кидался на них, проклиная в душе тот час, когда ему пришла в голову мысль повидать Тимона.
Аристотель обрадовался, когда они, наконец, подошли к жилищу Тимона.
Старый Тимон, видя его радость, чуть заметно улыбнулся, хотя, наверное, как подумалось Аристотелю, причину этой радости считал не в том, что наконец, кончилась утомительная ходьба среди кустарников, и камней, а в том, что он, Аристотель, лицезреет его, старца Тимона, и оттого наполняется счастьем. Впрочем, эта мысль недолго занимала его.
— Я живу там, — сказал Тимон, указав на старую полуразрушенную гробницу, которая находилась шагах в пяти от них. — Я сказал тебе об этом, чтобы остановить твои глаза… Давай же сюда смоквы и садись.
Аристотель отдал Тимону узелок с плодами и, следуя примеру старца, сел на каменную плиту, нагретую солнцем.
Трещали цикады. Душно пахло можжевельником и чебрецом. Тимон развязал узелок, развернул его на коленях и принялся молча есть смоквы.
Аристотель почувствовал, что его покидает решимость, с какой он направлялся сюда. И чем дольше старец молчал, тем меньше оставалось в нем этой решимости. Лицо Тимона было неприветливым, даже злым. И поглядывал он на Аристотеля недобро. Какой-то жук сел ему на ногу, и Тимон прихлопнул его с такой силой, что сам поморщился от боли и при этом сердито посмотрел на Аристотеля, словно тот послал на него злосчастного жука. Одежда на Тимоне была старая, он давно не подрезал усы и бороду, а седые с желтизной волосы свисали до плеч и были спутаны. В них, как в старой паутине, застряли кусочки сухих листьев, стебельки травы, которая служила ему постелью в его мрачном жилище. У него были длинные и жилистые руки. Босыми ногами, словно лапами, он упирался в выступы камня, на котором сидел. Маленький, головастый и худой, он производил впечатление почти нечеловеческого существа.
— Ты разочарован или хочешь покорить меня своей мудростью? — спросил наконец Тимон, перестав есть. — Многие хотели переубедить меня и возвратить в Афины, чтобы таким образом снискать себе славу мудрейших. Чего хочешь ты?
— Платон тоже? — спросил Аристотель.
— Нет, — ответил Тимон. — Он сказал: «Не надо точильный камень превращать в серп». Что скажешь ты?
— Я пришел к тебе с вопросами, — ответил Аристотель. — Я хочу знать, Тимон, что ты думаешь о людях.
— Я не думаю о них, — засмеялся Тимон. — Они не стоят того, чтобы думать о них.
— Но ведь ты и сам человек! О себе ты думаешь, Тимон?
— Вот! — вскочил на ноги Тимон и замахал возбужденно руками. — Вот! В этом проклятие рода человеческого! Нельзя не думать о себе и, значит, о себе подобных. А между тем мы — глина, или плесень, у нас нет цели, а у жизни смысла. И сколько бы мы ни думали, ни рыскали в поисках истин, мы ничего не найдем, кроме бессмысленности этих исканий, юноша. Только это нас и объединяет — бессмысленность нашего существования.
— А боги, Тимон?
— Боги? Нет богов. Их выдумал Гомер. К тому же он придумал их так много и наделил их столькими пороками, что они даже между собой не могут поладить. Есть люди, которые боятся богов, — их я уподобляю жалким тварям. Есть люди, которые притворяются, будто боятся их, — ничтожные из ничтожных. Есть такие, которые признают одних богов и не признают других. Есть и такие, которые не признают никого из них. Не могут боги объединить людей.
— А если бы существовал один бог? — спросил Аристотель. — Высшая и единая истина, высшее благо, высшее совершенство, начало всего, всепроникающий разум, первый И неизменный закон?
— Где он? — спросил Тимон. — Где он, юноша?
— Он смог бы объединить людей и придать смысл и цель их существованию? Цель — совершенство, смысл — стремление к совершенству…
— Нет, — сказал Тимон. — Никогда еще не было, чтобы бараны мечтали стать пастухами. Твой единый и совершенный бог — не человек. А человек может быть только человеком, как баран — бараном, а камень — камнем.
— Но человек мыслит, Тимон! — возразил Аристотель, — И значит, в мыслях, в духе он может достичь божественной мудрости.
— Это — цель, пригодная, быть может, для философов. Не могут все люди стать философами…
— Искусству обнаружения истины можно научить всех!
— Всех? — засмеялся Тимон. — Кто научит? Как? Когда? И все ли захотят учиться? И не перережут ли люди своих учителей, чтоб освободиться от непосильного труда ученичества? Более того, уверен ли ты в том, что путь к истине — это путь к познанию единого и совершенного бога? Мне думается, что это, скорее, путь к противоположному. Нет бога, нет цели, нет смысла — вот что откроет истинный философ. Искусство обнаружения истины, построенное на подлинном знании, а не на уловках софистов…
— Постой, — остановил Тимона Аристотель. — Как же возможно такое? Ведь очевидно, что если есть белое, значит, есть абсолютно белое, если есть добрый поступок, значит, есть высший принцип доброты, если есть правильное, есть и совершенное… И значит, Тимон, бог — это высшая степень правильного, доброго, красивого, мудрого.
— А куда же деть неправильное, злое, уродливое, глупое, юноша? Если есть высшая степень добра, то есть и высшая степень зла. И значит, твой бог может быть только совершенным добряком и совершенным злодеем одновременно. Но какое же это совершенство, юноша? Высшая степень — выдумка философов. И если их наука служит доказательству высшего совершенства, то это ложная наука.
— Ты говорил это Платону, Тимон?
— Да.
— И что он сказал в ответ?
— Он сказал: «Все доказуемо, но истина лежит за пределами нашей болтовни, Тимон».
— Он так сказал? — удивился Аристотель. — Он не мог так сказать.
— Увы, юноша, увы! — развел руками Тимон. — И философы иногда говорят откровенно… — Он снова принялся есть принесенные Аристотелем смоквы.
— И что же будет? — спросил Аристотель. — Что же будет с людьми?
— Что было, то и будет, — ответил Тимон. — Они будут развратничать, драться, убивать друг друга, размножаться, гибнуть от болезней, от мечей, петь, плакать, наслаждаться, страдать до тех пор, пока земля сможет кормить их. Потом они исчезнут, и на земле станет чисто и тихо. Впрочем, возможно, найдется человек, который изобретет красивую ложь, подобную той, о которой мечтаешь ты, юноша: ложь о едином и совершенном боге. Эта ложь, возможно, на какое-то время объединит их и сделает сдержанными и добрыми, чему я не верю. Понадобится гениальный ум для изобретения науки, ведущей к ложной истине. Но рано или поздно откроется другая истина. Разочарование будет всеобщим и хаос всеобщим, юноша. Бесплодны все наши дела, и все наши помыслы бессмысленны…
— Я пойду, — сказал Аристотель, вставая. — Ты мне не понравился, Тимон. Не зря тебя прозвали Злым Старцем. Прощай, Тимон.
— Прощай, юноша, — ответил Тимон, улыбнувшись. — И запомни: точильный камень не только не стоит превращать в серп, его невозможно превратить в серп. Кстати, тупым серпом колос не снимешь. Оттачивай свой серп, Аристотель: настоящий урожай еще только созревает. Прощай.
Глава третья
Был второй день Анфестерий, праздника первых цветов и молодого вина, День кружек, который наступил после Дня открытых бочек. В Афинах были заперты все храмы, кроме храма Диониса. Да и тот пустовал, потому что статую Диониса еще прошлой ночью, по древнему обычаю, вынесли за городскую стену, во Внешний Керамик, откуда ей предстояло вернуться в Афины вечером во главе шумного и пестрого маскарада. Впереди была безумная ночь, великое состязание в веселье — апофеоз весеннего буйства афинян.
На берегах Или́са было многолюдно. Некоторые украсили себя венками из первых весенних цветов. Там и тут затевались игры в прятки, в мяч. Усевшись на разостланные плащи, группа юношей, не стыдясь никого, играла в кости, а рядом с ними мальчики подбрасывали и ловили камешки.
Цвели вербы. На большом лугу за рекой паслись лошади. Храм Аполлона Ликейского еще просвечивал белыми колоннами сквозь молодую зелень садов на склоне горы Ликабе́т. Миндаль осыпал белые лепестки, и легкий ветер, подхватывая их, кружил над лугами, над рекой. Запах примятой травы и теплой земли смешивался с запахом цветов. Лавочники вынесли свои плетенные из лозы будки прямо на луг и торговали орехами, сладостями и молодым вином.
Солнце было большим и ясным, как золотой щит Афины.
— Вот, — вздохнул Нелей, когда Аристотель сел на раскладной стул, который Нелей постоянно носил, следуя за своим господином. — Вот… — Он вытер со лба пот и опустился рядом с Аристотелем на траву. — Вот счастье — сидеть у тихой реки и греться под солнцем…
Аристотель ничего на это не ответил, хотя слова Нелея предназначались ему. Нелей явно ждал, что Аристотель затворит с ним снова, и тогда будет забыт предыдущий разговор. Конечно, Пелей поступил глупо и дерзко, позволив себе выпить с утра крепкого вина, — это Тиманф уговорил его, это Тиманф во всем виноват, хотя, если признаться, Тиманф, протягивая ему потэр с вином, сказал всего одно слово: «Выпей!» Но ведь вино было хорошим, и утро начиналось веселое, петухи горланили во всю мочь, и небо на востоке светилось, как россыпь драгоценных камней… А он сказал, когда Нелей помогал ему одеться: «Ты слишком стар, Нелей, чтобы пить неразбавленное вино. У тебя и без вина трясутся руки…»
Конечно, трясутся, потому что Нелей действительно стар. В Афинах люди быстро стареют, потому что ведут беспокойную жизнь: много ходят, много говорят, много едят, много пьют и совсем мало спят, словно хотят совсем отучить себя от сна. Жадно живут, торопятся всюду и все успеть, будто наступают последние дни. И быстро стареют… Вот и Аристотель, уподобляясь афинянам, ведет такую же жизнь, как они. А поскольку Нелей постоянно с ним, получается, что и он, Нелей, живет по законам афинян. Так что вовсе не от вина дрожат у него руки, а от усталости, хотя и от вина, конечно. Но как не выпить, если День кружек? Вчера афиняне открыли бочки, которые закупорили с осени. Даже здесь, за городом, чувствуется винный дух, стоит лишь ветерку повеять со стороны Афин. Вчера уже начали пробовать вино, сегодня же пить будут все. Впрочем, если бы не Тиманф, одно слово которого порою стоит многих речей, Нелей не польстился бы на тот проклятый потэр…
Аристотель молчал, глядя на реку, а Нелей продолжал размышлять о своей жизни. А так как она была неотделима от жизни Аристотеля, то, стало быть, рассуждал он и о жизни своего господина.
Нелей постарел, потому что ведь и годы прошли немалые. Для юнца, каким явился в Афины Аристотель, эти годы, конечно, пустяк: он стал лишь крепче и умнее. Для Нелея же, которому уже тогда было пятьдесят, они не принесли ни здоровья, ни ума, да и не за этим привел его в Афины Аристотель. Он потерял свой прежний грозный вид, и голос его стал теперь не таким зычным: как ни хитри, а к старости в человеке обнажается то, что он есть на самом деле. А на самом деле-то Нелей не был ни грозным, ни сильным, а покорным и добродушным рабом, который для всех, кроме господина, старался изо всех сил казаться иным. Впрочем, теперь Аристотель, кажется, и не нуждается ни в его грозном виде, ни в его силе: сам он уже далеко не юнец и может во всем постоять за себя. Многие в Афинах почитают за честь быть знакомым с ним, говорить с ним, принимать его у себя или слушать его беседы на аллеях в роще Академа. Сам благородный Платон говорит о нем, что он — надежда Академии. Некоторые ученики Платона завидуют Аристотелю, но Нелей знает, чего стоила Аристотелю его ученость. Вот он сидит и молчит, хотя все вокруг веселятся, бегают, поют, смеются, пьют вино, собирают цветы, нежатся под солнцем, играют, радуются празднику и первому месяцу весны. Все находят для себя счастливые причины радоваться, даже Нелей выпил потэр вина, а господин его сосредоточенно молчит, о чем-то размышляет, в чем, видно, совсем нет веселья. И таков он почти всегда, если нет рядом собеседников. С собеседниками же он разговорчив, хотя разговоры эти совсем не похожи на те, что ведутся между обыкновенными людьми у цирюльников, банщиков или у шорников. Там, как всегда, веселая болтовня, перепалки, смех, а здесь — строгие рассуждения, мысли о высоком и важном. Нелей не прислушивается к этим беседам, потому что от них у него всегда болит голова… Хотя раньше он и пытался вникнуть в их смысл, и не всегда, кажется, безуспешно. Но потом стал быстро уставать. Всему виной, конечно, старость…
Беседы эти длятся по нескольку часов в день. Собеседники меняются, а Аристотель замены себе не просит. Нелей же всегда рядом с ним, дремлет, если господин и его собеседники сидят на скамьях, бредет следом, чуть поотстав, если господин и его ученики прогуливаются по аллеям рощи. То, что у Аристотеля есть свои ученики, — большая честь и большое доверие, оказанное ему Платоном. В первые годы Платон позволял Аристотелю читать ученикам вслух лишь то, что было написано другими мудрецами. И слушали это чтение не ученики Аристотеля, а ученики Платона. Позже Платон разрешил читать им сочинения, написанные Аристотелем. А теперь Аристотель беседует о своих предметах с собственными учениками, теперь он — настоящий учитель. Правда, учеников у него пока не так много, как у Платона, и занимается он с ними не в классах, а в роще, и не в любом месте рощи, а лишь там, где не прогуливается со своими учениками Платон. Но и это позволено далеко не всем обитателям Академии. Так что Аристотелю действительно оказана большая честь, И большое доверие… Нелей очень доволен этим. И еще тем, что учительство приносит Аристотелю доход, хоть и небольшой, но достаточный, чтобы покупать одежду и пищу. Впервые за многие годы жизни в Афинах его господин стал походить на господина, да и у Нелея появилась приличествующая его положению одежда, без заплат и прорех. Правда, Аристотеля не забывала сестра Аримнеста и, случалось, присылала ему деньги. Дважды приходили с оказией богатые подарки от Гермия из Атарнея в знак былой дружбы. Но Аристотель не умел распоряжаться своими деньгами рачительно, устраивал для обитателей Академии обильные обеды в Афинах, покупал себе перстни и дорогие благовония, баловал подарками своих друзей и вскоре снова довольствовался лишь одними фруктами и овощами, за которые благодаря Тиманфу вовремя вносились деньги в общую трапезную. Тиманф же и Нелей, случалось, нанимались прислуживать за кусок хлеба да за гороховую похлебку в харчевню Опетора близ Помпейона.
Теперь же хоть и невелик доход Аристотеля от учительства, но постоянен, и Нелею не приходится таскать воду для харчевни Опетора по вечерам, а Тиманф теперь занят только своим любимым делом — стряпней, и у него в кладовке всегда стоит амфора с вином…
Все это хорошо. Но если бы господин употребил то время и прилежание, какое он отдал наукам, на что-либо другое, на ведение хозяйства, например, или торгового дела, был бы у него уже богатый дом и все самое лучшее и дорогое в доме… Но еще больше огорчает не то, что всего этого нет у него, а то, что ничему этому и не бывать: вот и у Платона, который превзошел всех своей учёностью, нет ни богатого дома, ни золотой и серебряной утвари, ни многочисленных рабов, ни дорогих одежд…
Жаль, что ему, Нелею, не выпала судьба родиться свободным. Уж он-то не просиживал бы ночи напролет в книгохранилище Академии, не шатался бы по аллеям с молодыми оболтусами, у которых не учение на уме, а развлечения, пиры да флейтистки, он не стал бы тратить свое здоровье на отыскание всяких там истин, которые ничего не стоят в этой жизни. Те же из истин, которые чего-то стоят, достаются людям совсем даром, как, скажем, та, с какой не хочет согласиться Аристотель. Нелей сказал ему, когда тот упрекнул его в том, что он рано и с чрезмерным старанием приложился к потэру с вином:
— Пьющий воду ничего умного не сотворит. Так все афиняне говорят, господин.
— Есть то, что говорят все афиняне, — ответил Нелею Аристотель, — а есть то, что говорят умные афиняне.
— Что же они говорит? — спросил Нелей.
— Они говорят, что пьющий вино тоже ничего умного сотворить не может. Умное могут сотворить только умные, Нелей.
Нелей спорить с ним не стал. Бесполезно и опасно спорить со своим господином, но в тысячу раз бесполезнее и опаснее спорить с философом. Нелей был свидетелем, как однажды ученики Аристотеля посмеялись над Ктесиппом, заносчивым привратником Платонова дома.
— Эй, Ктесипп, есть ли у тебя собака? — спросил привратника юнец, перемигиваясь со своими друзьями.
— И очень злая, — ответил Ктесипп.
— А есть ли у нее щенята?
— Да, — ответил Ктесипп. — И тоже очень злые.
— А их отец, конечно, тоже собака?
— А как же! И тоже злой.
— И этот отец твой, Ктесипп?
— Мой, — ответил Ктесипп.
— Значит, ты утверждаешь, что твой отец собака, а ты — брат щенят, Ктесипп?
Ктесипп едва не задохнулся от такого неожиданного оскорбления, а юнцы хохотали до слез и катались по траве.
Бесполезно и опасно спорить с философами. Не только простым людям нужно вести себя с ними осторожно, но, кажется, и философам. Философам с философами тоже спорить бесполезно — они никогда не соглашаются друг с другом. Постоянно спорящие друг с другом философы в конце концов становятся врагами. И хотя Нелею совсем не понятно, чего они друг с другом поделить не могут, он боится споров, в которые все чаще вступает Аристотель то с племянником Платона Спевсиппом, то с Ксенократом, любимцем Платона, то с Демосфеном, любимцем афинян. Каждый спорщик может стать его врагом. А уж чего хорошего можно ждать от врагов?
Но это все же еще не самое страшное. Самое страшное в том, что Аристотель, как давно уже кажется Нелею, все с меньшим почтением относится к самому Платону. И хотя он не вступает с ним в споры, все же говорит против него со своими друзьями. А вчера он рискнул прогуливаться с учениками по аллее у Кефиса, где любит беседовать с чужеземными мудрецами Платон…
Черные дрозды в рощице за речкой звонко пересвистывались, словно были недовольны людским гомоном — громкими разговорами, смехом и пением. Да и Аристотель то и дело с неодобрением поглядывал на шумных юношей, игравших в кости. Это сидение у реки явно не доставляло ему никакого удовольствия, и, когда б не уговор с Феофрастом встретиться здесь, он не пришел бы сюда ради этих крикливых бездельников и разряженных щеголей, состязающихся в глупом острословии у винных палаток. Берега Илисса — многолюдное место. Тихо и уютно на берегах Кефиса…
Феофраст пришел в сопровождении двух рабов, один из которых, Фаний, был старше своего юного господина, а другой, Помпи́л, его ровесником, и не только ровесником: Помпил был тенью Феофраста и его постоянным собеседником и старался быть равным ему во всех искусствах, какие постигал, живя в Афинах, Феофраст. Таково было не только требование Феофраста, но и, кажется, желание самого Помпила, который был красив, прилежен в учении и искренен в любви к своему господину. И все же Нелей его недолюбливал за его привычку поучать всех, с кем ему доводилось сталкиваться в речах или в делах. Впрочем, он легко расставался со своей дурной, но мнению Нелея, привычкой, когда оказывался в окружении господ, зато всегда был верен ей в кругу слуг: Помпил, красивый и умный, никогда не забывал, что он — раб.
Аристотель обнял юного Феофраста и сразу же повеселел. Пожаловался на скуку, какую он испытал, сидя здесь в ожидании Феофраста, не забыл вспомнить и об огорчении, которое принес ему Нелей.
— От него и теперь разит вином, — сказал он Феофрасту.
Феофраст улыбнулся Нелею, видя, что тот огорчен больше своего хозяина, сказал, что надо простить его по случаю праздника, а чтоб уж совсем забыть о его поступке и не чувствовать запаха вина, предложил отправиться к ближайшей винной палатке и выпить вместе с ним.
— Боюсь, что там торгуют питьем для лягушек, — сказал Аристотель. — И уж если губить свое здоровье, то ради самого лучшего вина, Феофраст, ради лесбосского.
— Да! — воскликнул пылкий Феофраст. — Вино моей родины — самое лучшее во всей Элладе!
— Слушай, старик, и запоминай, — заговорил с Нелеем Помпил, когда Аристотель и Феофраст пошли по тропе, ведущей к городу. — Афиняне о вине говорят так: «Первая чаша несет здоровье, вторая — удовольствие, третья — сон, и после нее надо идти домой. Четвертая чаша делает человека грубым, пятая — крикливым, шестая — наглым. Седьмая чаша — подбитый глаз, восьмая — повестка в суд». Сколько же выпил ты, старик?
Нелей в ответ лишь махнул рукой.
Феофрастом — богоречивым — назвал юного эресца Аристотель. На самом же деле звали его Тирта́мом, но это имя его вскоре все забыли и помнили лишь то, которое дал ему Аристотель за его чистый и красивый голос, за его умение говорить красиво и вдохновенно.
— Завтра учитель возобновляет занятия в экседре, — говорил между тем Аристотелю Феофраст. — Он поручил мне прочесть его слушателям «Тимея» и «Крития»[36]. Утром — «Тимея», вечером — «Крития». Придешь ли ты слушать мое чтение, Аристотель?
— Ах, Феофраст, — ответил Аристотель. — Твое чтение — самое приятное из всех, какие я слышал в Академии. И все же я не приду.
— Почему, Аристотель? — удивился Феофраст, останавливаясь. — Прежде ты всегда приходил…
Аристотель тоже остановился, обнял одной рукой Феофраста. Золотые перстни блеснули под солнцем на его руке.
— Когда говорит сам Платон, я прихожу слушать его, — ответил Феофрасту Аристотель. — Когда он говорит, есть надежда услышать что-то новое, чего я не знаю. Когда читают его сочинения, я не слушаю, потому что все, сказанное в них, мне известно.
— Мне же известно то, что он скажет завтра и послезавтра, — похвастался перед Нелеем Помпил, — потому что ничего нового он уже не скажет…
— Укоротить бы тебе язык, — сказал Помпилу Нелей. — Чем меньше собака, тем чаще она лает…
Аристотель оглянулся, и Помпил промолчал.
— А мне всякий раз открывается в его сочинениях новое и прекрасное, — сказал Аристотелю Феофраст. — Я нахожу в них бездну поэзии…
Аристотель негромко засмеялся.
— Человек, который предлагает изгнать поэтов из государства, сам поэт, — объяснил свой смех Аристотель. — Не кажется ли тебе это странным, Феофраст?
Они снова двинулись к городу.
— Человек, который восстает против выдумщиков, сам выдумщик, — продолжал Аристотель. — Разве не так?
— Но поэзия тоже открывает истину! — возразил Феофраст.
— Истину чувств, но не истину разума, Феофраст. И потом, ради каких чувств придуманы Платоном рассказы об Атлантиде, об атлантах, о мнимых войнах с ними древнего государства афинян?
— Скажи мне, Аристотель, — попросил Феофраст, — сам я не думал об этом, а ты мне никогда не говорил…
— Позови Помпила, — сказал Аристотель, — и пусть он напомнит нам, что говорит об атлантах поэт Критий в сочинении Платона, которое ты, Феофраст, будешь читать завтра вечером.
Помпила не пришлось звать. Он сам бросился со всех ног к Аристотелю и Феофрасту.
— Начни с того места, — сказал Помпилу Аристотель, — где Критий произносит такие слова: «В продолжение многих поколений…»
— Да! — обрадовался Помпил. — Я помню. Критий говорил: «В продолжение многих поколений… они оставались покорны законам…»
— Покорны законам… — повторил Аристотель.
— «…и относились дружелюбно к родственному божеству, — продолжал Помпил, — ибо… держались образа мыслей истинного, высказывая смирение…»
— Обрати внимание и на эти слова, Феофраст, — сказал Аристотель, — «…держались образа мыслей истинного, высказывая смирение…» Продолжай, Помпил.
— «Но когда доля божества от частых и обильных смешений со смертною природой в них наконец истощилась, нрав же человеческий одержал верх, тогда они развратились… Бог же богов Зевс… собрал всех богов…»
— Хватит, Помпил, — сказал Аристотель. — У тебя прекрасная память. Скажи теперь, каково было войско у атлантов?
— Шестьдесят тысяч предводителей вели в бой семьсот восемьдесят тысяч воинов и десять тысяч колесниц. В море вышло тысяча двести кораблей.
— А сколько было афинян? — спросил Аристотель.
— Двадцать тысяч, — ответил Помпил.
— Это помню и я, — сказал Феофраст. — Да и то, что Помпил говорил раньше. Почему ты обращаешься с вопросами к моему рабу, а не ко мне, Аристотель?
— Не надо обижаться, Феофраст, — улыбнулся Аристотель. — Твой раб — это только твоя память, копилка знаний, не правда ли? Ум же принадлежит твоей душе. И вот я обращаюсь к твоему уму: за что Платон погубил Атлантиду? Зачем он своей фантазией поднял ее из морских пучин, показал миру и безжалостно поверг снова в пучину? Я сам отвечу: он погубил атлантов только за то, что нрав человеческий одержал среди них верх. Нрав человеческий, Феофраст! Люди воспротивились богам и установленным богами законам. Двадцать тысяч афинян ринулись в бой против атлантов и одержали победу. А в довершение всего Зевс уничтожил Атлантиду. Платон ненавидит вольнодумцев, Феофраст. Он хочет, чтобы люди всегда оставались рабами богов. За надменность и богоборство погибли потомки Посейдона… И вот вывод: надо уничтожать вольнодумцев, надо казнить их, бичевать, заключать в тюрьму, изгонять. Нужно вернуть законы, по которым все — рабы, лишенные права жить в радости. Старый философ призывает человечество жить по законам, противным человеческому духу и природе. Вот что такое «Тимей» и «Критий». Так я иногда думаю…
— У тебя дурное настроение, — сказал, не глядя на Аристотеля, Феофраст. — Ты так любил Учителя…
— Я и теперь его люблю. Но я разлюбил его выдумки, Феофраст. Истинный путь науки — исследование. Надо исследовать устройство всех государств, чтобы найти наилучшие законы. И заботиться следует не о красоте законов, а о красоте жизни. Разбираться в том, что такое дом, — дело не только того, кто его построил. Лучше судит о нем тот, кто этим домом пользуется. И о руле лучше судит кормчий, чем плотник, и о пиршестве — гость, а не повар. Разве не так, Феофраст?
— Так, Аристотель. Но давай поторопимся, а то повар мой от избытка досуга станет ваять перепелок из мрамора… Фаний, — обратился он ко второму рабу, — иди вперед и предупреди прислугу, что мы идем и будем обедать.
День был таким длинным, что, казалось, никогда не наступит вечер, хотя все ждали вечера, ждали с нетерпением, потому что всем хотелось поглазеть на шествие в честь Диониса. До заката солнца было еще далеко, а уже тысячи афинян потянулись к Дипилонским воротам, во Внешний Керамик, где должно было начаться веселое и шумное представление.
Нелей дремал во дворе возле кухни. Фаний разбудил его, зажав ему нос пальцами. На мгновение Нелею почудилось, что он утонул, но он тут же проснулся, понял, что стал жертвой дурацкой шутки Фания, набросился на него, хотел поймать, но Фаний утвертывался, и Нелей быстро устал. Сел, отдуваясь, грозя Фанию кулаком.
— Отправляемся во Внешний Керамик, — сказал ему хохочущий Фаний. — Протри глаза.
Обед был плохим — накормили Нелея гороховой кашей, хотя каши дали много, так что и теперь еще в животе была тяжесть. Вино же было совсем жидким и кислым, не сравнить с тем, каким угостил его утром Тиманф. В гостях хорошо только господам. Слуг же кормят чем придется, а то и вовсе морят голодом — таковы обычаи в этих Афинах…
— Где же господа? — спросил Нелей.
— Идут, — ответил Фаний, приводя в порядок свою одежду. — Поднимайся, старик.
Аристотель и Феофраст вышли во двор веселые, шумливые.
— Не заглянуть ли нам к Герпилли́де? — спросил Аристотеля Феофраст. — И не взять ли нам ее с собой? Наверняка ее отец уже потащился вместе со своим ослом к Дипилону.
«Пусть возьмут с собой Герпиллиду», — мысленно обратился к богам Нелей, потому что любил ее, как если бы не цирюльник Ми́дий был ее отцом, а он сам. Когда он увидел Герпиллиду в первый раз, он сразу же решил, что такой была бы его дочь, если бы богам было угодно наградить его женой и дочерью. Никогда раньше он и не думал о дочери, а увидев Герпиллиду, подумал. Понравилась юная Герпиллида и Аристотелю, потому-то с того дня он стал стричься только у Мидия.
«Герпиллида прекрасна» — вот что можно о ней сказать. Все остальные афинские девушки, которых видел Нелей, просто красивы, а она — прекрасна. И хотя она прислуживает своему отцу, болтливому цирюльнику Мидию, достойна того, чтобы ей, как царице, прислуживали все. Так думает Нелей, И так уже поступает Аристотель: приходя в цирюльню, он всегда приносит подарки Герпиллиде. Нелей в любое время может перечесть все, что подарил Герпиллиде Аристотель. Сначала он подарил ей голубой поясок, потом зеркальце, потом серебряный браслет, заколку с сердоликом, золотую цепочку и золотой перстенек, два лаковых леки́фа, от одного из которых пахло розой, от другого — шафраном, А недавно он подарил ей голубую калиптру[37] и красные ботиночки…
— Хорошо, — согласился Аристотель. — Возьмем с собой Герпиллиду.
Теперь Феофраста сопровождал только Помпил, Фаний остался дома.
— Ты позовешь Герпиллиду, — приказал Помпилу Феофраст. — Мы же будем ждать вас у харчевни Опетора.
— Вот, — стал хвастаться перед Нелеем Помпил, — какое мне дело поручено! Тебе же никогда не справиться с такой задачей: выманить красотку из дома могу только я.
Нелей не стал возражать: Помпилу на самом деле было дано трудное поручение. Ведь ему предстояло попасть в дом Мидия не через ворота, а через сад. А для этого надо было перелезть через высокую ограду, потому что садовая калитка, как и ворота, была заперта. Потом Помпила ждали новые трудности: пробраться на женскую половину дома, в гине́кей, он мог только никем не замеченным, иначе ему пришлось бы совсем худо — слуги Мидия славились жестоким правом, как, впрочем, и сам Мидий, который часто поколачивал их. Потом ему предстояло проделать из гинекея до садовой калитки в высокой каменной ограде обратный путь и ждать Герпиллиду.
— Получишь драхму, — пообещал Помпилу Аристотель.
Нелей, услышав это, нахмурился: он всегда хмурился, когда его хозяин сорил деньгами.
У харчевни Опетора было многолюдно. Перед тем как отправиться за городскую стену, многие афиняне заходили сюда, чтобы запастись пирожками с творогом и выпить кружку вина, ведь впереди была бессонная ночь. Опетор, красный от беспрерывной беготни, носился от прилавка к прилавку, кричал, размахивал руками, подгонял продавцов, которые валились с ног, — торговля шла, как никогда, бойко.
Помпила и Герпиллиду пришлось ждать долго. И хотя Феофраст и Аристотель стояли поодаль от харчевни, за углом ограды, окружавшей Помпейон — склад утвари, предназначавшейся для Панафинейских торжеств, — все же их быстро заметили. Первым подбежал Никанор, македонский проксен.
— Хайрэ, Аристотель. Радуйся, Аристотель! — закричал он еще издали. — Филипп на троне! Филипп — царь Македонии!..
— Перестань шуметь! — потребовал Аристотель. — Люди могут подумать, что я подданный Македонии. А я из Стагиры, из Фракии. Забыл, что ли?
— Да, да, да! — затряс головой Никанор, толстый и суетливый человек. — Я помню, я помню… Но ведь такая радость! Такая радость! Ты и Филипп — вы вместе росли…
— Конечно, я рад, — сказал Аристотель. — И хватит об этом, Никанор. Многие ли знают в Афинах об этом?
— Многие, Аристотель, многие! И многие радуются! Демосфен же, говорят, узнав об этой новости, порвал на себе одежды от злости и проклял Ификра́та, который помог Филиппу взойти на отцовский престол. Будто Демосфен сказал при этом: «Афины вскормили свою погибель». Будто Филипп — враг Афин…
— Помолчи, — сказал Никанору Феофраст. — Сюда идет Демосфен…
Никанор, едва увидев Демосфена, бросился прочь и скрылся в толпе, текшей мимо харчевни к Дипилону.
— Хайрэ, Аристотель! Хайрэ, Феофраст! — приветствовал философов Демосфен. — И вы собираетесь сопровождать Диониса?
— Да, — ответил Аристотель. — Только взглядом, Демосфен.
— Я тоже, — сказал Демосфен. — Хотя очень хочется напялить на себя баранью шкуру и взгромоздиться на осла… Место всех афинян в стаде баранов и ослов. И не ксоан[38] Диониса надо сегодня нести, а чучело Филиппа…
— Почему ты так не любишь Филиппа? — спросил Демосфена Феофраст.
— Потому что он монарх, — ответил Демосфен. — А еще я знаю тех, кто вернул его на македонский престол. Помогать Филиппу — означает только одно: копать могилу для афинской демократии… Вы оба чужестранцы и потому не чувствуете беды, которая нависла над всеми нами…
— Мне жаль, — сказал Демосфену Аристотель, — что Филипп испортил для тебя праздник молодого вина. Но может быть, вино исправит твое настроение? Зайдем к Опетору?
— Ты знаешь, Аристотель, что мое настроение гнездится совсем не там, куда вливается вино.
Они посмотрели друг другу в глаза. Оба — испытующе. Что хотел увидеть в глазах Аристотеля Демосфен? Что хотел увидеть в глазах Демосфена Аристотель? Надо думать, что каждый из них увидел то, что искал, хотя Аристотель пытался подавить в себе радость, которую принес ему Никанор, а Демосфен — боль, причиненную ему вестью о победе Филиппа. Аристотель устыдился перед Демосфеном своей радости, потому что приход к власти Филиппа подкосил в Демосфене надежду великую и чистую — надежду на свободолюбие и разум афинян. Великим и чистым был Демосфен в своей любви к свободолюбию и разуму афинян, символом этого свободолюбия и разума. И вот в глазах его боль и отчаяние, в лице — черная усталость. Поддержать бы его, ободрить, но чем и как? Аристотель давно уже пришел к мысли, что Демосфен проиграет в своей борьбе, что удел его — трагедия. Аристотель даже был уверен в том, что об этом знает и сам Демосфен. Безнадежное, но прекрасное дело — судьба героев. Горько думать об этом, но изменить ничего нельзя.
Удел Аристотеля — знание. Не любовь, не страсть, не порыв, а следование истине. Порыв прекрасен, но побеждает необходимость, закон. Закон же против Демосфена, потому что слава и сила Афин миновали, потому что поднимаются другие могучие силы. И все же надежда Демосфена — священна…
— Что ты скажешь о Филиппе? — спросил Аристотеля Демосфен. — Ты знал его близко.
— Он сто́ит македонского престола, — ответил Аристотель.
— А афиняне стоят Филиппа, — горько улыбнулся Демосфен. — Но он возьмет с них дорогую цену. Все пируют, все веселятся, и некого позвать на помощь. — Он снова посмотрел Аристотелю в глаза. — И вы мне не помощники. Прощайте.
— Прощай, — ответил Аристотель.
Он смотрел вслед Демосфену, пока тот не скрылся в толпе, и сказал, обращаясь к Феофрасту:
— Если монархия и погубит демократию в Афинах, то виноват в этом будет не Филипп сам по себе, а афинские толстосумы, которые не хотят ни сражаться за нее, ни платить…
Демосфен ушел, а Помпила и Герпиллиды все не было. Аристотель и Феофраст стали беспокоиться: не приключилось ли чего дурного с Помпилом в доме Мидия?
— Не послать ли Нелея к цирюльнику? — спросил у Аристотеля Феофраст.
«О боги! — подумал Нелей. — Только не это!» Ему совсем не хотелось тащиться к Мидию: и путь не близкий, и задача не из легких — выяснять у привратника, где Герпиллида и был ли Помпил. Коли Герпиллида дома, а Помпил пойман в саду, так и ему, Нелею, достанется.
Боги, однако, пожалели Нелея: едва Аристотель повелел ему идти к Мидию, как появились Помпил и Герпиллида, оба смеющиеся, оба раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, оба такие молодые и красивые. «Уж не целовалась ли она с Помпилом?» — подумал о Герпиллиде Нелей, потому что Помпил выглядел совсем счастливым. Да и Герпиллида что-то чаще обычного поглядывала на Помпила, забыв, должно быть, что тот раб. Но если Феофраст даст ему когда-нибудь вольную, как обещает, Помпил вполне может стать знатным человеком.
— Поторопимся, друзья, — сказал Аристотель. — Я слышу пение флейт.
Они влились в людской поток. Аристотель взял Герпиллиду за руку, чтоб не потерять ее в толпе. Он что-то говорил ей, склоняясь к ее уху, и Герпиллида хохотала так звонко и весело, что другие люди, шедшие рядом, улыбались, глядя на нее.
— Боги, пусть она будет счастлива, — шептал Нелей. — Наградите ее за красоту, за смех, за доброе сердце вечным счастьем…
Герпиллида, словно услышав Нелея, повернула к нему лицо и подарила улыбку. Нелей радостно вздохнул и еще раз пожелал ей счастья.
Едва началось праздничное шествие, как Нелей потерял из виду Аристотеля и Герпиллиду — они смешались с пестрой и шумной толпой. Какое-то время он старался не отставать от Феофраста и Помпила, но вскоре и они пропали в водовороте пляшущих нимф и менад.
Пение, хохот, веселые выкрики, музыка, топот тысяч ног, тысячи глаз, тысячи улыбок, цветы, красочные наряды, маски, солнце, молодая весенняя зелень — это такая волшебная смесь, от которой у каждого закружится голова и весело застучит сердце. Кто молод, тот забывает себя. Кто стар, тот становится молодым.
— Сними маску, и я поцелую тебя! — крикнула Нелею женщина, наряженная нимфой.
Она подскочила к нему и дернула его за бороду. И все, кто видел это, покатились от смеха. Да и сам Нелей рассмеялся. Потом две нимфы схватили его за руки и повлекли за собой. Он едва вырвался и, отдышавшись, поспешил к городским воротам: для такого праздника нужны были силы.
Тиманф обрадовался его возвращению.
— А где?.. — спросил он у Нелея об Аристотеле.
— Там, — махнул рукой Нелей, подражая Тиманфу в немногословии.
— Будешь? — спросил Тиманф.
Нелей кивнул головой.
Тиманф принес ему хлеба и вина, сел против него, стал смотреть, как Нелей ест и пьет.
— Сам найдет дорогу домой, — сказал Нелей, все еще думая об Аристотеле.
Тиманф молча согласился с ним.
— К тому же с ним Герпиллида.
— А, — сказал Тиманф и улыбнулся.
Солнце село. Из рощи потянуло прохладными запахами первой весенней травы.
Глава четвертая
Дом Диона давно уже стал походить на муравейник: бежавшие от преследований сиракузского тирана сицилийцы ежедневно осаждали Диона, добиваясь его покровительства, а самые настойчивые из них уговаривали своего знатного земляка отомстить свирепому тирану за причиненные им беды — высадиться с войском у Сиракуз и свергнуть Дионисия Младшего. Дион никак не мог решиться на этот шаг, хотя племянник Дионисий оклеветал его перед всем миром, обвинив в заговоре против своей персоны, и изгнал из Сицилии. Велика была вина Дионисия и перед Платоном, лучшим другом Диона: ведь это он, Дионисий, поправ все законы гостеприимства, угрожал Платону смертью… И все же искушение было слишком велико: изгнанные тираном сицилийцы готовы были, казалось, немедленно броситься в бой, а богатства, которыми они располагали, были достаточны для того, чтобы к войску сицилийцев присоединить значительный отряд наемников.
Душевное состояние Диона волновало Платона, и он все чаще стал покидать Академию ради бесед со своим другом. Платон уговаривал Диона отказаться от мысли о свержении Дионисия, утверждая, что всякое насилие — непременное зло.
Беглецы из Сицилии, зная о том, как сильно влияние Платона на Диона, открыто осуждали Платона и призывали Диона к решительности. Все это тревожило Аристотеля. Тем более тревожило, что сторону сицилийцев занял Спевсипп, племянник Платона. Он добровольно вызвался побывать в Сиракузах и разведать, как отнесутся сами сиракузцы к тому, если Дион высадится с войском на сицилийский берег. Тайная миссия его длилась несколько месяцев. Теперь, возвратившись в Афины, он настаивал на немедленной высадке заговорщиков у стен Сиракуз. Платон, таким образом, мешал осуществлению и его планов.
— Ты внес в ряды обитателей Академии раскол, — сказал однажды Спевсиипу Аристотель. — Более того, ты совсем забросил философию, Спевсипп.
— Боюсь, что первая часть твоего упрека в большей степени относится к тебе самому, — ответил вспыльчивый племянник Платона. — Вопрос о Сиракузах так или иначе решится. Но вот что останется после всех этих событий: разброд, который ты вносишь в ряды учеников.
— О чем ты говоришь? — спросил Аристотель. — Но достаточно ли обоснованно твое обвинение?
— Да! — ответил Спевснип. — И вот еще что, Аристотель: ты стал проводить занятия в аллее, где только Платон может собирать своих учеников. Это освящено традицией. Не забывайся, Аристотель.
— Нет места, Спевсипп, где запрещалось бы учить истине, — ответил Аристотель. — Сицилийцы обозлены против Платона, а ты своими речами только распаляешь их. Уймись, Спевсипп.
— Уймись и ты, Аристотель. Если тебе кажется, что ты превзошел в знаниях Учителя, уходи.
— Пусть мне скажет об этом сам Учитель, — ответил Аристотель.
На этом они расстались. Спевсипп отправился в Афины, к Диону, Аристотель — к своим ученикам.
Десять лет прошло с той поры, как Аристотель впервые появился у ворот Академии. А десять лет в жизни человека — немалый срок. Вот и Пифагор учил, что число десять — есть нечто совершенное и охватывает всю природу чисел, которые, в свою очередь, суть начало всего. Впрочем, если не все, чему суждено быть в жизни, укладывается в десять лет, то многое. В жизни философа это многое измеряется не числом внешних событий, а степенью постижения истины, И вот он, Аристотель, как ему думается, постиг ее в той мере, когда человек перестает быть учеником и становится учителем.
То, что он сделал, заслуживает, кажется, похвалы: он возвратил подлинность миру, сущность — вещам, душу — телу и обнаружил во всем истинное единство. Нелегко было прийти к такому пониманию мира, но еще труднее было высказать это новое понимание: у Платона и тех, кто почитает его, иные мысли, иные убеждения. И будь эти люди врагами Аристотеля, все было бы проще. Но он любит их. И хотя истина и друзья до́роги ему, священный долг велит отдавать предпочтение истине…
Дождь начался еще с ночи и лил не переставая. Всюду стояли лужи. Дул холодный северный ветер. Все зябли, кутались в плащи. Классы в старом гимнасии были заняты. А тут еще и навес над галереей, где собрались ученики Аристотеля, протекал во многих местах, так что и в галерее было очень неуютно. И тогда Аристотель велел всем идти в экседру, которая вот уже несколько дней пустовала, потому что Платон гостил все эти дни у Диона.
Ученики замешкались у входа в экседру: со стороны Аристотеля было неслыханной дерзостью то, что он привел сюда своих учеников. Здесь могли заниматься только Платон и ученики Платона.
— Смелее! — сказал Аристотель и первым переступил порог экседры.
Один запрет был нарушен: он привел своих учеников в экседру Платона. Оставалось нарушить второй негласный запрет: сказать то, что противоречило учению Платона и касалось главного — мира зримого и мира мыслимого, земного и небесного, представлений и знаний об этих мирах. Платон убеждает своих учеников в том, что существует два мира: мир небесный и мир земной, мир чистых идей и мир грубых вещей, истинные знания, которые открываются вознесшейся человеческой душе в занебесье, и заблуждения, которыми наполняют эту душу здесь, на земле, зримые предметы. Из всех картин, рисуемых перед слушателями, для Платона с годами самой дорогой становилась та, где он помещал людей в пещеру, приковывал их к стене, повернув спиною к свету, и из всех радостей жизни оставлял только одну — жалкую радость созерцания теней, проплывающих перед узниками по стене в лучах слабого света. Узники видят тени неведомых им существ и предметов — и это все, что они знают о мире. Ничтожные знания и ничтожная жизнь. Таков, по Платону, удел всех людей, живущих на земле: они видят лишь убогие копии, слабые и зыбкие тени подлинного мира, материальные подобия божественных и прекрасных идей. Из пещеры Платон выпустил лишь одного человека, но и то лишь затем, чтобы убедить его во всемогуществе верховного творца. Из всех людей, живущих на земле, подлинный мир открывается лишь избранным — философам. Что же остается всем прочим людям? Тьма и неведение. Так учит Платон, но так ли это на самом деле?
— Так ли это? — обратился Аристотель к ученикам и сам ответил: — Не так!
Голос его при этих словах дрогнул и чаще забилось сердце. Ученики же его притихли, затаив дыхание, с изумлением взирая на своего учителя. Стало слышно, как за окнами шумит дождь, как струи воды, стекая с навеса, стучат по черепичному желобу.
Аристотель замолчал и повернулся к окну, словно прислушиваясь к дождю, но слушал он себя, свой собственный дерзкий голос, который, окрепнув после короткого замешательства, рвался наружу.
— Мы уже давно вышли из подземных жилищ, — сказал он, снова обращаясь к ученикам. — Эти подземные жилища — наше невежество. Мы видим землю, моря и небо, плывущие в вышине облака, горные вершины, мы слышим, как шумят дожди, как гудят ветры. Мы восхищаемся солнцем, которое порождает день, разливая живительный свет по всему небу и по всей земле. А когда солнце уходит, мы созерцаем звездные и лунные ночи, мы видим далекие светила и наблюдаем их размеренный и неизменный бег. Мы видим прекрасный мир и, ослепленные его величием, терзаем себя вопросом: кто сотворил все это великое и прекрасное? Ведь не мы сотворили все это. Но тогда кто же? Мы ищем творцов и не находим. И чтобы утешить себя, мы придумали иной мир — место обитания богов, полагая, что он еще более велик и прекрасен, коль в нем живут боги. И, едва сделав это, мы, ленивые, говорим себе: истина в ином мире, а в этом ее нет. Но этот свет, и блеск, и красота, и величие, и гармония, которые мы видим здесь, неужели лишены сути, зерна, жизни, истины? И вот я хочу сказать вам: нет, не лишены!
— Остановись! — потребовал Спевсипп, неожиданно появившийся на пороге экседры. — Сюда идет Учитель, и ты должен покинуть место, которое принадлежит только ему.
— Я дождусь Учителя, — ответил Аристотель. — И поступлю так, как скажет он.
Платон вошел не торопясь, спокойно оглядел присутствующих, подошел к столу, на котором лежали свитки его сочинения, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Все, что мы подлинно знаем, есть лишь припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу. Этому ли ты учишь своих учеников, Аристотель?
Аристотель не ответил. Платон попросил его учеников покинуть экседру.
— Иди и ты, племянник, — сказал он Спевсиппу.
Спевсипп ушел. И тогда Платон, садясь, обратился к Аристотелю.
— Я слышал, — сказал он, — что ты не разделяешь многого из того, что написано мной, Аристотель. Так ли это?
— Учитель, — ответил Аристотель, помолчав. — Вот и вершина кипариса не похожа на его корни. Но ведь никто не говорит, что она образовалась без согласия корней.
Платон встал, подошел к окну и принялся смотреть на высокий темный кипарис, стоявший в отдалении. Потом повернулся к Аристотелю, улыбнулся и спросил:
— Ты полагаешь, что истина гнездится на вершине?
— Вершина ближе к солнцу, Учитель, — ответил Аристотель.
— Там ей трудно удержаться: ветры, палящий зной, удары молний… Тебя это не пугает?
— Не пугает.
— Что ж, тогда поговорим. И ты прямо ответишь мне на мои вопросы, Аристотель. Я хочу знать, та ли ты вершина, которая вскормлена моими корнями.
Это был трудный разговор. И долгий. Разговор о предметах мира, о душе и богах, о критериях истинности человеческих суждений, о причинах всего сущего и еще о многом таком, о чем могут говорить только философы.
Был вечер, когда Спевсипп возвратился из Афин в Академию. Накрапывал мелкий дождь. Крупные капли, скатываясь с ветвей деревьев, шуршали в опавшей листве. Было холодно. И Спевсиппу, когда он, наконец, добрался до своего жилья и переоделся во все сухое, очень не хотелось вновь выходить из дома. Но необходимость встретиться с Платоном и сообщить ему о своем решении все же вынудила его снова выйти под дождь, в холодную осеннюю тьму. Он решил отправиться в Сицилию вместе с Дионом. Зачем? Если Платон спросит его об этом — а он непременно спросит, — Спевсипп ответит ему:
— Нужно, чтобы философия присматривала за тираном, хотя Дион — не Дионисий, а я — не ты, Платон.
Платону эти слова понравятся. Хотя, наверное, многих трудов будет стоить Спевсиппу убедить Платона в том, что представителем философии в Сиракузах должен стать он, Спевсипп, племянник Платона, его опора в старости, его наследник и будущий схоларх Академии. Ведь то, что они замыслили с Дионом, — не прогулка по тенистым берегам Кефиса. Вполне возможно, что в Сицилии их ждет не победа, а смерть…
От прислуги Спевсипп узнал, что Платон все еще находится в экседре вместе с Аристотелем, и направился туда.
Платон и Аристотель сидели у стола. Их лица освещал огонек масляной плошки, стоявшей на столе между ними.
Все остальное было погружено во мрак. Так что и Спевсипп, тихо переступив порог экседры, остался невидим. Он не осмелился сразу же прервать разговор Платона и Аристотеля. Следом за Спевсиппом появился Нелей. Он молча сел на скамью и замер, чтобы не мешать говорящим.
Они говорили долго и громко. А потом вдруг замолчали, и стало слышно, как за окнами в опавшей листве шуршит дождь.
— О-хо-хо! — вздохнул Платон. — Темно, поздно, холодно, дождливо, осень, старость, слабость… И вот скоро выгорит масло в лампадке. Дождь идет, Аристотель. Дождь идет. И вот я вспомнил, как однажды, прячась от дождя в копне сена, я наблюдал за жеребенком, который сосал на лугу кобылицу. Когда кобылица попыталась отогнать его, он лягнул ее. Жеребенок лягает свою мать, Аристотель. Это о тебе. О тебе и обо мне. Мы еще потолкуем об этом. Иди.
Спевсипп кашлянул, чтобы заявить о своем присутствии.
— Я тебя давно заметил, — сказал племяннику Платон. — Сбегай в дом и принеси мне плащ. Или прикажи кому-нибудь.
Спевсипп сам принес плащ. Помогая Платону завернуться в него, сказал:
— Ты знаешь, Дион принял решение высадиться на сицилийский берег. Позволь и мне быть вместе с Дионом. Хотя Дион мечтает видеть не меня, а тебя, Платон. Он еще раз просит тебя об этом…
Платон отвел руку племянника, задержавшуюся на его плечо, и сказал:
— Созывайте на зло других. — С этими словами он ушел, шагнув через порог под моросящий ночной дождь.
— Если я еще раз увижу тебя философствующим в экседре, я вышвырну тебя отсюда! — сказал Аристотелю Спевсипп.
Аристотель иронически улыбнулся и ушел, не ответив Спевсиппу. Вместе с ним ушел и Нелей.
— Расскажи мне что-нибудь, — попросил Нелея Тиманф, когда Нелей улегся в своем углу.
— О чем? — вздохнул Нелей. — Я продрог, спать хочу. Ночь, дождь, холод…
— О чем-нибудь, — сказал Тиманф. — Где ты был, что видел, что слышал? Ведь целый день где-то шатался, старый бездельник…
— И ты не лучше меня, — ответил Нелей. — Был я сейчас в экседре и слушал спор нашего господина и Платона.
— О чем же они спорили?
— Э, тебе не понять.
— А ты объясни. — попросил Тиманф.
— Ладно. Только за это ты угостишь меня наксийским, а то я никак не могу согреться, Тиманф, Есть ли у тебя наксийское с медом?
— Найдется.
— Вот и неси. Промок я весь, дрожу, могу заболеть.
— Сейчас, сейчас.
Тиманф отправился в кладовку, долго громыхал там посудой в темноте, наконец возвратился, приблизился к Нелею, спросил:
— Видишь меня? Видишь, где моя рука? Осторожно бери, не разлей. Чистейшее наксийское с весенним медом.
Нелей протянул руку, нащупал чашку с вином, сел в постели, отпил глоток.
— Садись рядом, — сказал он Тиманфу. — Удивляюсь, почему ты сам не пьешь.
— Не научен, — ответил Тиманф, садясь рядом с Нелеем. — И для вас берегу, для тебя и для Аристотеля.
— Вот и хорошо. — Нелей отпил еще глоток сладкого вина.
— Согрелся? — спросил Тиманф.
— Согрелся.
— А теперь рассказывай, — потребовал Тиманф.
— Да что рассказывать? Я и сам-то не все понял. Коротко говоря, так: скоро нас выгонят из Академии.
— Это почему же? — забеспокоился Тиманф. — Что случилось?
— А случилось то, что наш господин во всем перечит Платону. А Платон злится.
— Это как же? В чем перечит?
— А вот в чем. Платон, например, говорит, что человек — это тень.
— Какой человек? — спросил Тиманф.
— А любой, хоть я, хоть ты, хоть наш господин, хоть сам он, Платон. Тень. Понимаешь? А настоящие люди живут где-то в другом месте, за небесами. Например, настоящий ты живешь за небесами, а здесь, рядом со мной, твоя тень.
— Да что ты, что ты? — испугался Тиманф. — Какая же я тень? Ты потрогай меня!
— Все равно — тень. Самая обыкновенная. Фу — и все.
— Чудеса. А что же наш господин? — спросил Тиманф.
— А наш господин с этим не согласен. Наш господин говорит, что все мы настоящие, а никакие не тени. Но ты все равно тень. Где ты? Нету тебя. Где?
— Не пугай меня, — попросил Тиманф. — Или ты уже пьян?
— Вот! — воскликнул Нелей. — Вот и видно, что ты ничего не понимаешь, Тиманф. Ты слушай меня внимательно: есть настоящий человек, есть тень этого человека. «А что, — говорит наш господин, — связывает настоящего человека с его тенью, а?» Что, я тебя спрашиваю. Ну, думай! Если не скажешь, пойдешь снова за вином.
— А зачем все это надо, Нелей? — спросил обескураженный Тиманф. — Кому все это надо?
— Вот и Аристотель говорит: «А кому все это надо? Тут, говорит, с одним сладу нет, а ты, дорогой Учитель, двух придумал…»
— Так и говорит?
— Именно так.
— А Платон?
— Принеси еще наксийского, расскажу дальше… Кстати, кто выпьет много вина, тот вполне вместо одного человека может увидеть сразу двух.
Утром Аристотель послал Нелея к македонскому проксену Никанору с письмом. Нелей возвратился через несколько часов, проклиная дождь и холод, и принес Аристотелю ответное письмо.
«Никанор приветствует Аристотеля, — писал проксен. — Сообщаю тебе, что твоя сестра Аримнеста передала с купцами важные для тебя вести и деньги от твоего щедрого покровителя, к которым приложено от него письмо. Приди и возьми все это сам, потому что и вести очень важны, и деньги слишком велики для того, чтобы передать их тебе с Нелеем».
Аристотель давно не получал никаких вестей от сестры, да и деньги были на исходе. Поэтому отправился в Афины сразу же. Нелей, который мог бы не ходить с ним — Аристотель пожалел старика и сказал ему, что тот может остаться дома, — поплелся следом за Аристотелем, потому что любопытство оказалось сильнее тех страданий, какие доставляла ему сырая осенняя погода и дорога.
— И если деньги, присланные сестрой, велики, — не раз приставал со своими советами к Аристотелю Нелей, пока они добирались до Никанора, — следовало бы купить дом и рабов. Потому что и я уже стар, и повар Тиманф совсем ослабел. И нет тебе от нас никакой помощи, Аристотель. И вот ты худ и бледен, потому что у тебя болит желудок. А болит он у тебя потому, что пища наша и скудна, и груба, и Тиманф постоянно болеет…
Нелей говорил дело. Но Аристотель не отвечал ему. Да и что он мог ответить: в то, что сестра прислала много денег, он не верил. Правда, Никанор написал о каком-то покровителе. О каком? До сих пор у Аристотеля не было покровителей. И деньги, которые время от времени присылала ему сестра, были из тех скудных доходов, которые приносили земли, оставленные ей на Эвбее в наследство матерью.
«Сестра Аримнеста приветствует брата Аристотеля, — написала Аримнеста. — Вот счастье, которое подобно кругам на воде распространяется по всей Македонии и за ее пределы. Оно достигло и тебя. Радуйся, брат Аристотель! И не забывай нас, сестру твою Геро́, племянника твоего, который совсем недавно появился на свет и которого Геро назвала Каллисфе́ном. И если боги того захотят, Каллисфен станет твоим учеником, брат, когда ты решишь либо позвать его к себе, либо вернуться к нам, в Стагиру».
Проксен Никанор сгорал от любопытства. И пока Аристотель читал письмо сестры, стоял чуть поодаль, почти не дыша и не спуская глаз с Аристотеля. А между тем он уже знал о том, что написала Аримнеста и что в другом письме, написанном на пергаменте царской рукой. И в ларец он уже заглядывал. И все же сгорал от любопытства: ему не терпелось увидеть, как примет все эти вести и дары Аристотель.
Отложив письмо сестры, Аристотель взял в руки пергамент Филиппа, царя Македонии. Никанор и вовсе перестал дышать, вперив взгляд в гостя. И когда по губам Аристотеля пробежала улыбка, вздохнул с великим облегчением, готовый сколько угодно шумно выражать свою радость: у великого даря Филиппа родился наследник, сын Александр. Никанор ждал теперь только знака, готовый мчаться в погреб за самым лучшим вином и самыми лучшими яствами.
«…Ты знаешь, Аристотель, что я женился в минувшем году на Олимпиаде Эпирской, дочери тамошнего царя. И если бы я стал описывать тебе ее, ты позавидовал бы мне.
Спустя год после нашей женитьбы Олимпиада родила мне сына Александра. Я получил это известие в Потиде́е, которую накануне покорил. И это было хорошим знаком.
И вот еще что было в ту самую ночь, когда родился Александр: в Эфе́се безумец поджег храм Артеми́ды. Должно быть, в Афинах уже знают об этом. Узнай же и от меня, что Артемисио́н поджег Геростра́т из Эфеса, позавидовавший чужой славе и уничтоживший то, что люди создавали столетиями.
Мои гадатели увидели в этом знамение, говоря мне, что сыну моему Александру предстоит покорить страны, которые лежат восточнее Эфеса.
Многие рассказывали мне также, Аристотель, что видели в ту бурную осеннюю ночь, как на мой дворец в Пелле опустились два орла, и один из них сел головой к востоку, а другой — к западу. Когда Александр закричал, родившись, орлы улетели — каждый в ту сторону, в какую глядел. И вот гадатели, чтобы предречь сыну моему великие завоевания, говорят, что покорит он не только восток, но и запад — те страны, куда улетели орлы.
Ты знаешь, Аристотель, что войнами руководят боги. И чего они пожелают, тому и суждено случиться. Я же одного хочу: чтобы от афинян к тебе пришла бы вся их мудрость и чтобы ты постиг в совершенстве все их науки. И когда мой сын подрастет, то стал бы ты, Аристотель, его наставником. Знай, что я менее благодарен богам за то, что они дали мне сына, чем за то, что они ему позволили родиться в твое время. Ибо я надеюсь лишь на то, что твоя забота и твои поучения сделают его достойным его будущего государства.
Посылаю тебе ларец, в котором ты найдешь то, что сделает твою жизнь приятной и обеспеченной. Это малая часть той платы, которая будет ждать тебя, когда Александр подрастет и станет способным усваивать мудрость. О мудрости же твоей говорят уже теперь. Будто Платон, почитаемый за наилучшего мудреца во всем мире, сказал о тебе, что ты — ум его Академии. Не знаю, так ли он сказал. Но что говорят о тебе другие — я слышал это своими ушами, — делает честь и мне, твоему другу.
Буду просить богов, чтобы они охраняли тебя и привели в мой дом, когда я позову тебя».
— Никанор, — позвал проксена Аристотель, дочитав письмо Филиппа. — Никто не должен знать, кто так щедро покровительствует мне.
— Никто не узнает, — ответил проксен.
— Потому что мудрость философов служит всем, но никому не служат философы, — добавил Аристотель.
— Я запомню.
— Ты, конечно, сосчитал все деньги, которые находятся в ларце.
Никанор опустил голову, притворно смутившись.
— Хватит ли там денег, чтобы обзавестись домом и новой прислугой?
— Хватит, Аристотель. Щедрость… — Никанор хотел назвать имя Филиппа, но вовремя спохватился, — щедрость твоей сестры поистине безгранична: ты можешь купить и дом, и прислугу, и все, что нужно для жизни.
— Ты поможешь мне все это сделать? — спросил Аристотель.
— Я сделаю для тебя все, о чем ты говоришь, потому что так велит мне мой покровитель…
Двадцать девять лет — тот возраст, когда мужчина, даже если он философ, думает не только о бессмертии души. Он думал о радостях и невзгодах, которые сопровождают человека на земле. О том, как избежать невзгод и прибавить к радостям новые радости. Он думал об Александре, наследнике македонского царя Филиппа. И когда б время было послушно ему, он перенес бы мир на десять лет вперед, чтобы встретиться с Александром и стать его учителем. Тогда и Платон и Спевсипп позавидовали бы ему: он стал бы учителем не тирана, а монарха, не развращенного властью, славой и рабской лестью тирана, а юного и чистого наследника царственного престола. И всем стало бы ясно: то, чего не достиг Платон, общаясь с Дионисием, и, надо думать, не достигнет Спевсипп, общаясь с Дионом, удастся ему, Аристотелю. Он воспитает царя, который устроит подвластный ему мир, сообразуясь с мыслями о наилучшем устройстве государства. Эти мысли преподаст и внушит Александру он, Аристотель. Для этого ему не придется выдумывать Атлантиду — наивные фантазии, которые Платон связал с именем Солона. Странно, что этим фантазиям еще кто-то верит. Впрочем, было время, когда и Аристотель верил им. Увы, наука о государстве не может родиться из праздных мечтаний. Ее можно добыть, лишь исследуя самого жизнь.
Мудрый правитель, великое государство, счастливый народ. Созерцать это для философа высшее наслаждение, потому что мудрость правителя, величие государства и счастье народа — земное воплощение высокой философской мечты.
Не день и не два жил Аристотель этими мыслями, испытывая то радость, то тревогу. Радость — когда не возникали сомнения в том, что все так и будет: спокойно пройдут годы, Александр подрастет, и Филипп пригласит его, Аристотеля, в Пеллу. Тревогу испытывал он, порога мучительную, когда приходили непрошеные мысли о том, что в любой день может случиться плохое: может заболеть и умереть он сам — вот уже и сейчас он носит в себе недуг, от которого, кажется, нет избавления; может заболеть и умереть младенец Александр, может случиться переворот в Македонском царстве, и к власти придут другие люди; может случиться тысяча несчастий, из которых достаточно лишь одного, чтобы никогда не встретились Аристотель и Александр. То, что завтра взойдет солнце, — истинно уже сегодня, но то, что Аристотель и Александр встретятся через десять лет, — ни истинно, ни ложно. Истинным или ложным это суждение станет лишь через десять лет, причем у истины здесь не больше прав, чем у лжи. И стало быть, не стоит пока ему хвастать ни перед Платоном, ни перед Спевсиппом своим будущим счастьем, потому что счастье уже сегодня может обернуться несчастьем. Хвастаться можно лишь тем, что уже совершено или совершение чего в нашей власти.
И если это так, то сто́ит уже теперь подумать о собственном наследнике — об ученике или о сыне. Вечность души — хоть и утешение, но для всех остающихся жить после тебя — не более как твое вечное отсутствие.
Он вспомнил об обещании Гермия выдать за него свою племянницу Пифиаду и усмехнулся: как щедры люди на обещания и как мало сбывается из того, что обещано ими! Языком человека правит не разум, но чувства, которые вселенная не принимает в расчет, творя свои дела. И вот, стало быть, еще один святой долг философов: узнать все, предвидеть все, избавив людей от ненужных хлопот и напрасных ожиданий, И все же честный философ — это не оракул, который берется предсказать все. Честный философ скажет: это — вероятно, это — непредсказуемо, а вот это — неизбежно. Более всего непредсказуема судьба человека, более всего необходимо вечное вращение небесных светил, и, значит, никогда не остановится время, за молодостью придет старость, и то, что следует совершить в молодые годы, надо совершить: все возможное познать, чтобы предвидеть все возможное.
Он купил дом в Афинах и завел прислугу.
Узнав об этом, Платон спросил его:
— Не собираешься ли ты теперь открыть свою школу?
— Нет, Учитель, — ответил Аристотель. — Я буду твоим учеником до твоего последнего часа.
— В таком случае, — сказал Платон, — тебе немного осталось ходить в учениках.
Пророчество Платона едва не сбылось, когда пришла весть о гибели Диона. Все, кто видел, как Платон уходил, когда Спевсипп сказал ему о смерти Диона, подумали, не сознаваясь в том друг другу, что дни старого Учителя отныне сочтены. Упала на грудь его голова, опустились плечи, согнулась спина, и ноги едва слушались его. Несколько дней он не выходил из дому, не принимал пищу, и восковые дощечки, лежавшие перед ним, оставались нетронутыми.
На пятый день он позвал к себе племянника Спевсиппа и сказал:
— Ты знаешь, где хранится мое завещание. По этому завещанию ты назначаешься схолархом, а из имений я ничего тебе не оставляю, потому что есть люди беднее тебя: одно из них я оставлю родственникам, другим распорядись после моей смерти так, чтобы друзья мои могли получать вино и хлеб, как только захотят. Рабыню Артемиду отпусти на волю. И более у меня ничего нет, кроме некоторых безделушек, которые не многого стоят. Но вот что самое дорогое в моей Академии — это Аристотель. Тебе показалось, что он разрушает мое учение. Но он только улучшает его. Ты это помни, Спевсипп, и никогда больше не старайся вытеснить его из экседры… Обещай…
— Обещаю, — ответил Спевсипп.
— И пуще всего цени и охраняй дружбу. Ничто не объединяет в этом мире людей достойно, кроме дружбы, Спевсипп.
— Ты говорил об этом, Платон.
— Об этом не жаль говорить каждый день. И за мгновение до смерти стоит подумать только о друзьях, Спевсипп.
— Но пришло ли время думать о самой смерти, Платон?
— Я думаю не о смерти, Спевсипп. Я все время думаю о Дионе. А он уже там, — Платон неопределенно махнул рукой. — Я вспомнил, как душа моя вела меня в Олимпию, когда туда приехал Дион, с которым я не виделся много лет. Я шел и день и ночь, и еще много дней и ночей, чтобы увидеть и обнять Диона, брел через чужие земли, в чужие края… И мы встретились, Спевсипп, и обнялись. Я думаю, что в моей жизни не было счастливее того дня. А теперь Дион там, в стране, которая более всего близка философам и войти в которую мы готовимся всю жизнь. Так неужели я должен медлить, если Дион уже там?
— Там многие, Платон. Но и на земле друзей не меньше.
Платон молчал. Потом сказал, повернув лицо к Спевсиппу:
— Позови Аристотеля.
— Хорошо, — ответил Спевсипп, понимая, почему Платон остановил на нем свой пристальный взгляд: он хотел убедиться, что его просьба позвать Аристотеля не вызывает на лице будущего схоларха выражение неудовольствия. — Я позову, — сказал Спевсипп, вставая несколько торопливее, чем следовало бы. — Он здесь, я видел его, когда направлялся к тебе. Где я должен находиться во время твоего разговора с Аристотелем?
— Не здесь, — ответил Платон. — Ведь и тебя я позвал одного.
Спевсипп нашел Аристотеля в хранилище рукописей и передал ему просьбу Платона.
— Не утомляй старика, — сказал он при этом Аристотелю. — Старик очень слаб и говорил со мной о завещании.
Аристотель поспешил к Платону.
— Скажи мне, Аристотель, — спросил Платон, когда Аристотель сел у его ложа, — где мы будем после смерти? Скажи, однако, то, что думаешь, как для себя ты решил этот вопрос? Скажи так, будто ты только мыслишь, а не говоришь. Ведь для других мы порою говорим иначе, чем думаем.
— Даже самые мечтательные мудрецы древности думали о бессмертии как о чем-то весьма сомнительном, — ответил Аристотель.
— Ты хочешь сказать, что и ты сомневаешься в бессмертии души?
Платон позвал рабыню и велел принести для Аристотеля и для себя вина и пищи. И когда Артемида принесла все, он снова обратился к Аристотелю.
Беседа продолжалась до глубокой ночи, так что рабыня Артемида еще раз ходила за вином. Когда Аристотель ушел, Платон сразу же уснул. А проснувшись утром, потребовал принести ему любимые смоквы и молоко. Вскоре после завтрака он был в экседре. Все заметили, что учитель постарел, но голос его остался чистым и сильным.
Спевсипп, выбрав удобный момент, спросил у Аристотеля:
— О чем ты толковал допоздна с Платоном? Почему он так разительно переменился?
— О жизни и смерти, — ответил Аристотель. — Ведь только об этом философы, по существу, и говорят.
— И что же лучше: жизнь или смерть?
— Плохим или хорошим может быть, Спевсипп, вино. Но хорошим и плохим может быть оно только для тех, кто жив. В этом все дело, — засмеялся Аристотель. — Только в этом, Спевсипп.
Юный Феофраст давно привлекал внимание Аристотеля, восхищая его своим острым и быстрым умом, изяществом мысли, страстностью и стойкостью в спорах, прилежанием, с каким он участвовал в ежедневных трудах, будь то переписка рукописей древних, составление описей книгохранилищ или каталогов животного и растительного мира по свидетельствам купцов и мореплавателей, прибывающих из различных стран. К тому же Феофраст был красив, и это постоянно приковывало к нему взоры окружающих, ведь красота — самый великий дар мудрости. Сам мир, кажется, создай великим разумом по законам красоты… И еще одно обстоятельство заставляло Аристотеля выделять Феофраста среди других слушателей: Феофраст сам, случалось, подолгу не сводил глаз с Аристотеля, и взор его при этом выражал нескрываемое восхищение тем, что Аристотель говорил, чему учил. Одним словом, если Феофраст был любимым учеником Аристотеля, то Аристотель — любимым учителем Феофраста.
Они встретились на агоре, где оратор Демосфен произносил речь перед афинянами против македонского царя Филиппа. Аристотель увидел Феофраста в толпе, подошел к нему сзади и положил руку на его плечо. Феофраст вздрогнул, хотел было сбросить руку Аристотеля, но, увидев, кому она принадлежит, лишь сильнее прижал ее к своему плечу обеими руками.
— Что он говорит? — спросил Аристотель о Демосфене.
— Он говорит, что Филипп Македонский, усмиряя своих северных соседей, фракийцев и иллирийцев, создал могучую армию, победы которой опьяняют его, как опьяняет варвара неразбавленное вино; что, подчинив себе всех соседей, Филипп двинется на Фивы и Афины и превратит эллинов в жалких рабов…
Аристотель убрал с плеча юноши руку, сказал, не глядя на него:
— Демосфен — отличный оратор. Но афиняне плохие слушатели. Ты видишь, они шумят, болтают кто о чем, а Филипп кует тем временем новые мечи. Им следовало бы помнить хотя бы об этом, но они думают только о наслаждениях и собственных мелких выгодах. С таким народом Афины никогда не поднимутся до своего былого величия. И кто-то придет, чтобы покорить их. Хорошо, если только покорить, но не разрушить…
— Опасное пророчество, — сказал Феофраст.
— Да ведь и Демосфен говорит о том же. Послушай.
— Когда собирается буря, — стараясь перекричать беспечных афинян, говорил между тем Демосфен, — каждый тревожится, не тронет ли она его полей и нив. Сейчас же на нас надвигается нечто страшнее, чем буря! Что ж мы медлим предпринимать что-либо? Кто отвратит от нас грозящее зло? Кто, афиняне? Очнитесь! Взгляните, как Филипп шаг за шагом подходит к нам все ближе, — продолжал Демосфен. — Ни эллинские земли, ни земли варваров уже не насыщают его! А мы бездействуем, мы распадаемся, мы не придумываем, не решаем ничего для нашего спасения. Потом, возможно, мы схватимся за голову и будем кричать: «Кто мог бы подумать, что такое случится?» Пока корабль на воде, матросы и кормчий должны быть за делом. Но когда его уже увлечет поток, тогда напрасны все старания. Так и мы, граждане афинские. Пока мы стоим еще неколебимо, мы можем, мы должны быть готовы к борьбе. Тогда и союзники наши не напрасно будут искать в нас опору. Граждане! Нам предки наши завещали славное право: быть покровителями и защитниками слабых. Это право куплено кровью. Мы должны, ради чести нашего имени, свято хранить это право. Мы должны думать, как и чем защитить наших союзников и самих себя!
— Ты бы строил свои стены[39] и не драл попусту глотку, — крикнул Демосфену кто-то из толпы.
— Вот, — вздохнул Аристотель. — Вот и вся благодарность. Увы, кто для себя избрал судьбу оратора, тот должен быть готов к человеческой неблагодарности. По лицам этих афинян, Феофраст, можно без труда прочесть все, что ожидает Демосфена в будущем.
— Попробуй, Аристотель, — попросил Феофраст.
— Конечно, это не занятие для философов, по отчего же не попробовать… Смотри, вон этот грузный и тихий, что стоит справа… О чем он сейчас думает, слушая Демосфена? Он думает о своих деньгах. Он мечтает о таком стороже при своих деньгах, чтоб их никто никогда не коснулся. А Демосфен призывает возводить стены, строить корабли, ковать мечи. За все это надо платить, верно? А этот человек платить не хочет. Он готов стать подданным Филиппа, только бы осталось при нем его богатство. Он предаст Демосфена в трудный час. А вон тот улыбающийся франт… Ему просто ни до чего нет дела. О и ждет вечера, чтобы отправиться на пирушку. Если ему будет каждый вечер обеспечена пирушка, он согласится на любого правителя. Он готов сделать ложный донос на Демосфена, оклеветать его, когда того потребуют его щедрые друзья. Да, Феофраст, Демосфена будут предавать, он не раз будет оклеветан и оплакан, как герой. Это написано на лицах афинян. Хвала богам, что у философов иная судьба, Феофраст. Уйдем отсюда, — сказал Аристотель. — Стыдно взирать на афинян. Никогда толпа не руководствовалась разумом.
— Куда же мы пойдем? — спросил юноша.
— Хочешь погуляем по берегам Илисса, хочешь поднимемся в Акрополь…
— Да, — сказал Феофраст.
День был хоть и солнечным, но словно загрустивший. Чистый и холодный воздух проплывал в вышине над Афинами, и его едва заметное дыхание касалось земли, а лучи солнца беспрепятственно пронизывали его и, отражаясь от белого мрамора храмов, от каменных плит мостовых и замерзших над глубокими тенями древесных крон, уходили обратно в бесконечность небес, унося с собой нерастраченное тепло.
Они спустились к берегу Илисса по тропе, нашли уединенное место, сели в тени дерева, стоявшего почти у самой воды. Река была спокойной. На другом ее берегу белели среди темной зелени несколько колонн некогда разрушенного храма. Над ними, словно зацепившись за верхушки деревьев, стояло белое облако, приковывая взгляд своей чистотой и плавностью нежных очертаний.
— Вот образ красоты — сказал Аристотель, — красоты печальной и торжественной, вечной и быстротечной, милой и недоступной.
— Сказанное может быть сказано и о человеке, — произнес юноша.
— О человеке? Да, пожалуй. Он подобен оттиску золотой печати вечного божества на мягком воске. Отблеск вечного солнца на бегущей к скалам волне. Удар — и тысячи брызг, тысячи солнечных искр. Еще более грандиозно, еще более божественно! Но вот шум падающей воды, белесая пыль под ветром, влажный след на грубом камне — и под тем же солнцем, что рождало ослепительные блики, исчезает, испаряется сам след, всякая память о нем. — Аристотель улыбнулся, увидев, как зажглись восторгом глаза Феофраста.
— Так красиво, — сказал юноша. — Почему же не всегда так?
— Поэзия — для жизни, мудрость — для смерти. Так говорили древние. Хотя точнее следовало бы сказать: поэзия — для смертных, философия — для бессмертных. В этом, должно быть, и есть разница, о которой ты спрашиваешь.
— А что скажет философ о человеке?
— То, что ты знаешь: тело, наделенное жизнью и разумом. И когда мы знаем, что такое жизнь и что такое разум, мы не можем не становиться поэтами. Так велики и прекрасны эти сущности. Жизнь стремится к вечности и страдает, ум обладает вечностью и блаженствует, но, когда они соединяются — ум и жизнь, возникает человек страдающий, блаженствующий, смертный и бессмертный, любящий и ненавидящий, мудрый и глупый, жестокий и добрый, тленный и нетленный…
— Любовь — это стремление жизни к вечности? — спросил юноша. — Любовь преодолевает смерть, а разум ее находит. Любовь — смерть разума, а разум — смерть любви? Зачем же боги соединили несоединимое?
— Только богам и принадлежит власть совершать невозможное, — усмехнулся Аристотель. — И только они сами могут ответить на вопрос, зачем они это делают.
— Да! — воскликнул юноша. — Да! — И лицо его в этот миг было таким прекрасным, таким трепетно вдохновенным, каким Аристотель его еще никогда не видел.
— Ах, Феофраст, Феофраст! — сказал Аристотель. — Я завидую тебе: юность я провел в размышлениях о вечном, а следовало бы, подобно тебе, обнаружить в себе любовь… Человек стареет по отношению к любви. Но никогда — по отношению к разуму. И значит, юность есть форма любви…
— Да! — сказал Феофраст. — Да! А вот и Помпил с Герпиллидой.
— Принимай твое сокровище, Аристотель, — сказал Помпил, глядя на Герпиллиду. — Она не хотела идти. Говорит, что ты разлюбил ее, потому что за полгода в ее ларце не прибавилось ни одной безделушки.
— Не слушай его! — замахала руками Герпиллида. — Это он хочет получить за свои труды уже не драхму, а две. А я люблю тебя, Аристотель.
Когда у реки стало совсем прохладно, они поднялись в Акрополь, к золотому пентелийскому мрамору Парфенона.
— Бот здесь надо остановиться, — сказал Герпеллиде Аристотель, беря ее за руку. — Именно здесь, так чтоб видны были Парфенон, Эрехтейон, Афины и при вот таком повороте головы — Одеон и небо над ними и чтобы отблеск золотого наконечника копья Афины Промахос вторым солнцем светил в глаза. Здесь надо остановиться. И тогда все линии, все числа, — он крепче сжал руку Герпиллиды — все отношения и пропорции, все краски и свет образуют ту величественную и совершеннейшую гармонию, центром, началом и концом, источником и средоточием которой является человек. Мы остановились именно здесь. И именно это мы представляем собой сейчас, — сказал он, понизив голос. — Иктин, Калликрат и Фидий[40], земля Аттики и небо, солнце и горизонт, время, обращенное в прошлое, и время, обращенное в будущее, избрали здесь своим центром человека. Не точку, не пространство, а человека во всей его форме, которая держит в своей пропорции весь видимый мир.
— У меня мурашки побежали по спине от твоих слов, — сказал Феофраст. — Но как можно утверждать такое? Как можно вычислить и рассчитать центр мировой гармонии?
— Но разве ты не ощущаешь это? Разве ты не чувствуешь, что, если погибнешь ты, погибнет все это, если ослепнешь, все канет в непроглядную тьму, если перестанешь мыслить об этой гармонии, распадутся все связи, если умолкнешь, все боги умрут? На этом конце мира — ты центр гармонии, на другом — вечный созерцающий ум.
— Мне страшно подумать о таком, — прошептал Феофраст.
Гергпиллида прижалась щекой к щеке Аристотеля. Потом отпрянула, отвернулась, закрыла лицо руками.
— Что ты, — удивился Аристотель, подойдя к ней, — Что тебя так взволновало?
— Ты, — ответила Герпиллида, не открывая лица. — Разлука ждет меня.
— С кем? — спросил Аристотель.
— С тобой. — Она метнула взгляд на Аристотеля и бросилась бежать.
— Стой! Куда же ты? Подожди! — крикнул ей вслед Аристотель. — Подожди!
Но Герпиллида даже не оглянулась и вскоре скрылась за колоннадой Пропилей.
Старый Тимон был совсем слаб. И теперь его могли разглядывать с близкого расстояния все, кому не лень. По именно это сделало его неинтересным для праздных афинян: увидел один раз — и вот уже нет желания встречаться с немощным старцем вновь. Тем более что Тимон по-прежнему не разговаривал с людьми, сидел молча на камне, подставив лицо солнечным лучам, и не поворачивался на голос. В тех, кто подходил слишком близко и донимал его своими вопросами, он по-прежнему швырял камни, которые в изобилии валялись на старых кладбищенских развалинах. Двух людей он, казалось, узнавал по шагам: Платона и Аристотеля. Поднимался навстречу им прежде, чем они успевали заговорить с ним, и ждал, повернувшись в их сторону лицом.
— Аристотель? — спросил Тимон, когда тот был уже в нескольких шагах от него.
— Да, Тимон.
— Здравствуй, Аристотель.
— Здравствуй, Тимон. Я принес тебе корзину с едой, здесь смоквы, пирожки, вино. Прими, не откажись.
— Благодарю, Аристотель. Поставь на землю. Но более я благодарен тебе за то, что ты пришел.
— Возвращайся в Афины, Тимон, — предложил Аристотель. — Будешь жить в моем доме, где для тебя всегда найдется хлеб и вино. Ты уже стар и немощен. Ты умрешь здесь в одну из холодных ночей…
— Животные умирают в степи, в лесу, им нет дела до людей, и людям нет дела до них. Словом, то, о чем ты говоришь, не противно природе.
— Природе — да, — согласился Аристотель, ставя корзину с пищей у ног Тимона. — Но природе человека противно. Тебя не прогоняли из города, а ты хочешь умереть, как изгнанник.
— Я не хочу умереть, Аристотель, — возразил Тимон. — К тому же я сам изгнал себя. Нет, я изгнал Афины из моих владений. А? Как сказано, Аристотель? Есть еще ум в моих словах? — усмехнулся Тимон.
— Есть.
— Почему не приходит Платон? — спросил Тимон. — Он совсем забыл обо мне. Или он больше не нуждается в камне, о который точат меч мудрости?
— Он болен, — ответил Аристотель. — Он стар и болен, как и ты, Тимон.
— И мудрых и глупых ждет одна участь: тление и забвение, — вздохнул Тимон.
— Я пришёл к тебе проститься перед дальней дорогой, — сказал Аристотель.
— Все земные дороги коротки. Дальняя только та, которая уводит нас в Аид. Куда же ты собрался, Аристотель?
— В Пеллу, Тимон. К Филиппу Македонскому. Вместе с посольством.
— А… — усмехнулся Тимон. — И тебя увлекают тщеславные мечты. И ты хочешь стать спасителем Афин и всей Эллады. Зачем, Аристотель? Городам и государствам тоже отмерен свой срок. И вот век Афин на исходе… Кто упросил тебя отправиться к Филиппу?
— Совесть, — ответил Аристотель.
— Тьфу! — плюнул Тимон. — Не продолжай!
Но Аристотель продолжал:
— Я знал Филиппа. Мы были друзьями в детстве и и первые годы юности. Он вспыльчив, груб, ненасытен, когда речь заходит о богатстве и славе. Он мало думает, потому что много размахивает мечом. Он захватывает один греческий город за другим, разрушил мою Стагиру. Это он сказал: «Перед золотым ослом любой эллинский город открывает ворота».
— И правильно сказал, — засмеялся Тимон. — Придет время, Аристотель, когда полководцы будут не захватывать города и страны, а покупать. Покупать, как покупают баранов или ослов… А что сделаешь ты, Аристотель? Чем ты остановишь Филиппа и во имя какого блага?
— Нельзя разрушать то, чему поклоняются все эллины, Тимон. Не будет Афин — не будет Эллады. Каждый эллин это прежде всего Афины, красота, мудрость и законы, которые веками утверждались здесь, в Афинах. Без Афин эллины станут варварами. Никто не будет почитать их мудрость, их науки и искусства, никто, Тимон, не обернется в сторону эллина с почтением, никто не примет их богов…
— И что же? И что же, Аристотель?
— Или ты не эллии, Тимон, или ты смеешься над святынями.
— Что скажешь ты Филиппу? — спросил Тимон.
— Разумными доводами я попытаюсь унять его грубые страсти.
Тимон промолчал.
— Афиняне должны победить его не силой, потому что такой силы, кажется, нет, а разумом.
— Как?
— Сделать самого Филиппа разумным, подлинным эллином, покровителем и защитником прекрасной Эллады.
— Поздно, — сказал Тимон. — Поздно, потому что эллины утратили разум, а Филипп обрел могущество. Афиняне сами дали Филиппу в руки меч. Пусть благодарят за это Ификрата[41].
— Если Филипп принял афинский меч, почему бы ему не принять и афинскую мудрость?
— Ты сам сказал, что он мало думает, потому что много размахивает мечом.
— И все же я поеду к нему, — сказал Аристотель. — Демокрит говорил, что следует выслушать совет женщины и поступить вопреки ему. Афиняне говорят, что так же надо относиться к твоим советам: ты камень, на котором оттачивается истина.
— Что посоветовал тебе Платон? — спросил Тимон. — Конечно, он посоветовал ехать к Филиппу.
— Да, он сказал, что философия должна быть не только прекрасной, но и полезной.
— Старый мечтатель, неисправимый мечтатель! Он все еще верит, что людьми правит слово. А людьми правит голод. Филипп кормит всех, кто принимает из его рук оружие, а свободные афиняне грабят всех, у кого видят кусок хлеба в руке… Вот истина, Аристотель.
…Ксенократ, как всегда, был молчалив и угрюм. И если прежде он посвящал молчанию один час, то теперь весь день. Он постоянно опаздывал: когда все члены посольства уже были на ногах, он спал, когда все уже спали, он еще возился со своими дорожными вещами или писал, сидя при свете лампадки, мыча себе что-то под нос и мешая спать другим. Он медленно ел, медленно ходил, медленно говорил, медленно принимал решения, а то и вовсе не принимал, пожимал плечами и молчал.
Члены посольства, направляющегося в Пеллу к Филиппу, были недовольны Ксенократом, роптали, часто говорили между собой о том, что не стоило афинянам посылать вместе с ними Ксенократа, этого медлительного осла и молчаливого истукана.
Только Аристотель, давно знавший привычки Ксенократа, относился к нему дружелюбно и защищал его перед остальными, помогал ему в сборах, торопил, разговаривал с ним, когда другие отказывались. Платон говорил о Ксенократе, что тому постоянно нужны шпоры, и Аристотель был для него этими шпорами. Об Аристотеле же Платон говорил, что ему нужна узда. И такой уздой для Аристотеля был Ксенократ. Аристотель даже любил Ксенократа. Ему правилось в Ксенократе то, что он прямодушен, независим и честен. Не нравилось, конечно, то, что он постоянно мрачен. На это, как на другое свойство, указывал, случалось, Ксенократу и Платон, говоря: «Принеси жертву Хари́там, Ксенократ! Пусть они вернут тебе счастливое расположение духа».
С той поры, как заболел Платон, никто не решался сказать эти слова Ксенократу, кроме Аристотеля. И ни с кем, кроме как с Аристотелем, Ксенократ не делился своими печалями.
Путь от Афин до Пеллы был долог. Во многих городах останавливалось афинское посольство на отдых. В первые дни пути разговоры, связанные с предстоящей встречей с Филиппом, были оживленные и длинные. К концу пути они стали редкими и вялыми: всем надоело говорить о Филиппе, о Македонии, да и ничего нового никто сказать уже не мог — все выговорились. Все, кроме Ксенократа.
Была лунная ночь. Ксенократ и Аристотель сидели в саду возле дома, в котором остановилось на ночлег афинское посольство к Филиппу, и любовались отдаленной вершиной Олимпа, белевшей в лунном свете, и, по обыкновению, молчали.
Звенели цикады. Ночные ящерицы, бегавшие по каменной садовой ограде, сталкивали камешки, и те шуршали в темноте, падая в траву. Луна взошла еще днем и теперь висела на западе, прямо над Олимпом. Вершина его светилась, а подошва тонула во мраке. Казалось, будто и луна, и Олимп плывут в небе.
— Ты думаешь о богах? — спросил Ксенократа Аристотель, совсем не надеясь услышать ответ. Спросил потому, что сам думал о богах, которых предки поселили на вершине этой горы, пораженные, должно быть, ее сказочной красотой и тем таинственным светом, который она излучает в лунные ночи.
— Нет, — ответил Ксенократ. — Я думаю о Филиппе.
— О! — удивился Аристотель. — Что же ты думаешь о нем?
— Я думаю о том, что я скажу ему, когда встречу.
— Что же ты скажешь ему?
Ксенократ долго молчал, и Аристотель хотел было уже повторить свой вопрос, но Ксенократ заговорил сам:
— Я скажу ему: «Не смей смотреть в сторону Афин! Ты не найдешь там друзей!»
— И это все?
— Да, все, — вздохнул Ксенократ.
— Но у Филиппа есть друзья в Афинах, — возразил Аристотель. — Лучше, если Филипп будет другом Афин, чем их врагом. Дружба — это всегда лучше, чем вражда. Разве не так?
— Не так, — ответил Ксенократ. — Нельзя дружить воробью с коршуном, голубю с кошкой, ягненку с волком, мудрому с глупым, доброму с жестоким…
— Это самая длинная фраза из всех, какие ты когда-либо произносил, Ксенократ, — засмеялся Аристотель.
— Не уходи от ответа, — сурово произнес Ксенократ. — Или и ты готов продать Филиппу свободу Афин ради мнимого покоя? Я слышал ваши разговоры. Вы ищете и Филиппе привлекательное, но никто из вас по-настоящему не обеспокоен судьбой Афин.
— Когда ты успел подружиться с Демосфеном? — спросил Аристотель.
— Когда ты успел рассориться с истиной? — в свою очередь спросил Ксенократ.
Ксенократа и Аристотеля объединяли двадцать лет жизни в Академии, Платон, любовь к философии, дружба с Гермием. Разъединял их Филипп.
Аристотель заговорил об Академии, о том, что теперь, когда схолархом ее стал Спевсипп, хотя Платон еще жив, ему, Аристотелю, не хочется больше посещать берега Кефиса, что он все чаще думает о Гермии, который приглашает его в Атарней, и что, если Ксенократ хочет, они могут уехать в Атарней вместе и там, под покровительством Гермия, открыть свою школу.
— И вот о чем я теперь все чаще думаю, — признался Аристотель. — О женитьбе. Ведь Гермий обещает отдать мне в жены свою племянницу Пифиаду. Да и я когда-то поклялся, что женюсь на ней…
— А что ты скажешь Филиппу? — спросил Ксенократ.
— О боги! — воскликнул Аристотель. — Я уже забыл о Филиппе! Ведь о чем я говорил с тобой сейчас, Ксенократ? Неужели о Филиппе?
— Ты обязан ответить на мой вопрос! — потребовал Ксенократ.
— Хорошо, хорошо! — разозлился Аристотель. — Я скажу Филиппу, чтобы он забыл об Афинах, которые святы для каждого эллина.
— Угу, — проговорил Ксенократ, поднимаясь со скамьи. — Обязательно скажи. А в Атарней я поеду с тобой, но только после смерти Платона. Спевсипп же мне надоел.
До Пеллы оставалось два дня пути.
Филипп искренне радовался приезду Аристотеля. Обнимал его при встрече, прижимал к груди. Устроил в его честь пир, на котором вино лилось рекой и яства грудами лежали на столах. Был шумен, словоохотлив, много смеялся и много хвастался перед всеми тем, что Аристотель — его старинный и лучший друг. Празднества в честь приезда афинского посольства длились несколько дней. В один из этих дней, обнимая Аристотеля, Филипп вывел его в сад, где няньки прогуливали Александра, сына Филиппа.
— Смотри, — восторженно проговорил Филипп, указывая на сына. — Это мой наследник. Он будет умнее и сильнее меня. Умнее, потому что его учителем станешь ты, Аристотель, сильнее — потому что я оставлю ему могучее государство и еще более могучую армию.
Восьмилетний Александр рубил игрушечным мечом траву и цветы, искоса поглядывая на отца в ожидании похвалы, когда ему одним взмахом удавалось срубить несколько цветков или толстый стебель…
— Подойди к нам, Александр, — позвал мальчика отец.
Александр вложил свой меч в ножны и подбежал к мужчинам.
— Это знаменитый философ. — представил ему Аристотеля Филипп. — Он приехал из Афин.
— Я знаю. — Александр в упор посмотрел на Аристотеля. — Ты Аристотель.
— Да, — ответил Аристотель, отметив про себя, что взгляд Александра не по годам тяжел и осмыслен. — А ты — Александр.
— Александр Македонский, — поправил Аристотеля наследник престола. — Мне хотелось бы побеседовать с тобой и услышать твой рассказ об Афинах. И еще я хотел бы узнать, как велика земля, на которой живут люди.
— Зачем тебе знать об этом? — спросил сына Филипп.
— Я боюсь, что она слишком мала, — ответил Александр, — и ты, отец, успеешь ее завоевать прежде, чем я возьму в руки настоящий меч.
Филипп захохотал, хватаясь за живот. А потом несколько раз спрашивал Аристотеля:
— Каков мой сынок, а? Не правда ли, он умен?
— Да, — отвечал сдержанно Аристотель. — Да, он умен. — И ждал того дня и часа, когда сможет поговорить с Филиппом о главном.
Филипп же, словно чувствуя это, не затевал с Аристотелем серьезных разговоров, пропуская мимо ушей многие его вопросы, постоянно требовал вина для себя и для дорогого гостя. Он показал ему свои конюшни, своих солдат, свои сокровища, устроил в честь послов гимнастические состязания на стадионе и представление в театре, где соревновались в искусстве также музыканты, певцы и поэты.
— Я устал от празднеств, — признался ему Аристотель, убедившись в том, что Филипп преднамеренно избегает бесед наедине с ним. — Близится праздник Аполлона и день рождения Платона… Я должен быть в Афинах. — При этих словах он вопросительно посмотрел на Филиппа.
— Ладно, — усмехнулся Филипп. — Ладно, мой друг, — повторил он со вздохом. — Я хочу лишь одного: командовать войском всей Эллады, чтобы повести его против ненавистных мне персов, которые подсылают ко мне убийц и терзают мою страну на востоке. Боги помогут мне в этом. Они мудры, Аристотель, и не понудят меня разрушить Афины… Это все, Аристотель. Это все, что я отвечу тебе на твои вопросы, просьбы и предупреждения. Скажи Демосфену, пусть не бранится, как рыночный торговец, и не треплет мое имя. Наша судьба в руках богов. Но вот что я хочу доверить тебе, Аристотель, — воспитание моего сына… И этим, быть может, ты исправишь ошибки, которые допущу я. Приезжай, когда сочтешь возможным…
Две печальные вести ждали Аристотеля в Афинах: умер Платон, не дождавшись возвращения своего любимого ученика, уехал Феофраст, не дождавшись возвращения своего любимого учителя.
Спевсипп сказал Аристотелю:
— Платон умер на пиру, который мы устроили в честь дня его рождения.
— Почему покинул Академию Феофраст? — спросил Аристотель.
Спевсипп молчал, ходил по экседре, словно искал что-то, потом подошел к Аристотелю и сказал, глядя ему в глаза:
— Ты слеп, Аристотель: Феофраст не любил и боялся меня. Теперь, когда я схоларх…
— Видно, пришла и моя очередь, — сказал Аристотель.
— Теперь, когда нет Платона, ты не осмелишься оставить Академию! — возразил Спевсипп. — Я обещал Платону…
— Что ты обещал, Спевсипп?
— Хотя я схоларх, ты — ум Академии, Аристотель. Так сказал Платон, умирая.
— Утраты поднимают мудрых к вершинам духа, Спевсипп. Я не благодарю тебя, по я ценю твою веру в мой ум, — сказал Аристотель.
Они обнялись. Таково свойство печали — она сближает людей. Но печаль проходит…
Глава пятая
Они покинули Пирей перед восходом солнца на корабле купца Лахе́та, который направлялся на Ле́сбос с оливковым маслом. Две недели они были в плавании, на третью прибыли в Митиле́ну, где их встретил Феофраст, возвратившийся из Афин на Лесбос полгода назад.
Обнимая то Аристотеля, то Ксенократа, Феофраст плакал от счастья, не зная, куда их усадить, чем угостить, чем одарить, что рассказать, о чем спросить… Он влюбленно глядел на своих друзей, и слезы то и дело застилали ему глаза.
— На корабле, который пришел в Митилену в прошлом месяце, мне привезли письмо от тебя, Аристотель, я узнал, что ты и Ксенократ скоро будете в Митилене. И с той поры я встречал все корабли… Все!.. Каждый день, — несколько раз принимался рассказывать Феофраст. — И вот… И вот… — На этом он останавливался, не зная, как выразить свою радость, и снова бросался обнимать гостей.
Не успел Феофраст пролить все слезы радости, как наступила пора проливать горестные слезы: Ксенократ и Аристотель погостили в его доме только три дня, а на четвертый отправились в Атарней, который в хорошую погоду, случалось, был виден из Митилены на другом берегу пролива.
В Атарней Аристотель и Ксенократ отправились на триере, присланной Гермием, тираном Атарнея и Асса. Сто семьдесят четыре гребца дружно взмахивали веслами и гнали триеру через тихий пролив. И пока триера не воткнулась носом в берег владений Гермия, ни на миг не умолкала флейта, высвистывавшая такт для гребцов. Капитан триеры, триерарх, то и дело подавал команды кюберне́ту, своему помощнику, а тот передавал их громким голосом другим. Весла поднимались и опускались под свист флейты, и триера заметными рывками двигалась вперед, сверкая под солнцем окованным медью тараном.
Для Аристотеля и Ксенократа на палубе были поставлены два мягких ложа и столики с угощениями. Четыре раба держали на высоких шестах широкий белый полог, который укрывал гостей от солнца. Две юные рабыни прислуживали Аристотелю и Ксенократу, подавая им фрукты и смешивая в серебряных кратерах с водой и медом красное лесбосское вино.
Оба они простились с Афинами без сожаления. И хотя Спевсипп, ставший после смерти Платона схолархом Академии, уговаривал Аристотеля и Ксенократа остаться, ни Аристотель, ни Ксенократ не поверили в искренность слов Спевсиппа, человека властного, вспыльчивого и честолюбивого, который, став главою Академии, хотел главенствовать и во всем другом, быть первым после Платона, а между тем и Аристотель, и Ксенократ превосходили его в учености и были более почитаемы в кругу философов, нежели он.
Афиняне обидели Ксенократа, обвинив его в том, что он, находясь в посольстве, побывавшем в Пелле, лишь зря потратил деньги, выданные ему из казны, так как не только не старался повлиять на Филиппа своими речами, но умышленно избегал встреч с ним, не принимал участия даже в общих беседах.
— Теперь еще пуще надо заботиться об отечестве, — сказал Ксенократ, когда узнал, в чем его обвиняют. — Филипп знает, кто из послов подкуплен. Он знает и то, что меня ему ничем не удалось подкупить.
Аристотель встал на защиту Ксенократа. Обвинение с него было снято, но Ксенократ обиделся на афинян. Он продал свой дом и рабов, собираясь уехать в Халкедон, на родину. И наверное, уехал бы, когда б Аристотель не уговорил его отправиться к Гермию. Аристотель тоже продал свой дом, а из рабов оставил только Тиманфа и Нелея. Нелея он высадил в Кари́сте на Эвбее, повелев ему идти в Халкиду, к своей младшей сестре, жившей в доме покойной матери. Старый же повар Тиманф умер за несколько дней до отъезда, сказав на прощание такие слова: «Теперь никто не заставит меня говорить…»
— Тот ли Гермий, каким мы его знали? — спросил, вздохнув, Ксенократ, поворачиваясь на правый бок, лицом к Аристотелю. — Сохранил ли он к нам дружеские чувства? Став тираном, он мог потерять доброе сердце. Помнить о друзьях — не то же самое, что оставаться другом…
— Увидим, — сказал Аристотель, которого волновали те же вопросы, что и Ксенократа. — Время, разумеется, меняет людей. Будем готовы к тому, что мы не узнаем его.
Гермий приехал из Атарнея в Асс накануне, чтобы встретить друзей, которых ждал с нетерпением. Приезд Аристотеля и Ксенократа, которые были известны всем мудрецам Эллады, еще более возвышал Гсрмия в глазах его подданных и обещал ему много радостей: у тирана нет друзей, а эти были истинными друзьями, с тираном никто не спорит, а для Аристотеля и Ксенократа он не тиран, а только друг. У тирана не бывает праздников, приезд же Аристотеля и Ксенократа — настоящий праздник. По его приказу для них приготовлен уже просторный дом в Ассе, к которому примыкает большой сад с тихими аллеями, портиками и скамьями, где они смогут собирать своих учеников и друзей, чтобы вести с ними беседы. Гермий будет навещать их во все свободные дни, отдыхать с ними душой в разговорах о возвышенном и вечном. Конечно, он разрешит им бывать в его дворце в Атарнее, но не настолько часто, чтобы суетная дворцовая жизнь закружила их в своих водоворотах, оборачиваясь к ним своей жестокостью и грязью. Здесь, в Ассе, — приют для чистого духа и свободного от суеты сердца, обитель мудрости и тишины, школа Аристотеля и Ксенократа, солнце Платона, которое закатилось в Афинах и взошло здесь.
— Слава Гермию! Слава Гермию! — кричала толпа, когда Гермий в сопровождении своей многочисленной свиты спустился из Асса к пристани, куда уже подходила триера, посланная им в Метилену за Аристотелем и Ксенократом.
Триера обогнула мол и вошла в бухту, мерно ударяя веслами но тихой воде. И когда она была уже в стадии от берега, толпа по чьей-то команде, — постарались приближенные Гермия — закричала, славя Аристотеля и Ксенократа.
Он ждал их у трапа, испытывая странное волнение. Это волнение лишило его дара речи и величия, приличествующего тирану: он взбежал по трапу на палубу, сам бросился в объятия друзей, смеясь и плача одновременно. Он уже забыл, когда радовался настоящей радостью, смеялся настоящим смехом и плакал такими сладкими слезами. Обнимаясь с друзьями, он вдруг почувствовал, что он совсем лишен какого бы то ни было величия, что он обыкновенный человек, очень усталый, очень одинокий, который неизвестно как смог прожить многие годы без радостей и без друзей.
— Ты такой огромный, — говорил он Ксенократу, — ты такой сильный… И у тебя такой грозный вид, что я немного боюсь тебя…
— А ты не болен ли? — спросил Ксенократ. — И бледен, и худ.
— Аристотель… Ты — Аристотель… Я никогда бы не узнал тебя. Был мальчик, и вот — слава Эллады, мудрость Эллады… — говорил Гермий, снова обнимая Аристотеля.
Аристотель поцеловал Гермия, сказал тихо:
— Пора на берег. Зови в свои владения.
По длинной и крутой дороге, которая вела от гавани к городу, Аристотеля и Ксенократа несли на носилках люди Гермия. Сам же Гермий ехал рядом с ними на коне, сбруя которого сверкала и бряцала золотыми украшениями.
— Гомер сказал об этой дороге: «К Ассу иди, да к пределу ты смерти скорее достигнешь». Должно быть, старик Гомер поднимался по этой дороге пешком и проклял ее. Но проклятием своим он прославил ее. Так и вы, друзья, если и проклянете меня когда-либо, то и это послужит славе моей, — говорил Гермий, удерживая своего коня между носилками Аристотеля и Ксенократа. — И Асс будет праздновать ваш приезд, как если бы нас посетила сама Слава…
Он сдержал свое слово: несколько дней длились празднества в честь Аристотеля и Ксенократа. Всюду, куда они ни приезжали — Гермий показывал им свои владения, — устраивались пиры с представлениями и играми. И неизвестно, сколько бы все это еще продолжалось, если бы Аристотель не заболел: у него вдруг появились острые боли в животе, от которых ему долго не удавалось избавиться. Он вспомнил о Тиманфе, который варил для него травы всякий раз, когда он жаловался на нездоровье, сам пытался подобрать для себя лекарство. Гермий прислал к нему своих врачей. Но вылечила его Пифиада, племянница Гермия.
Он лежал в саду под раскидистым орехом, страдая от боли, когда она появилась на аллее в сопровождении служанок.
— Хайрэ, Аристотель, — сказала она, останавливаясь. — Пифиада приветствует тебя и желает тебе здоровья. Гермий повелел мне…
— Пифиада?! — Аристотель приподнялся на ложе, затем сел. — Что повелел Гермий?
Девушка была так красива, что Аристотель, пораженный ее красотой, не сразу понял, что она сказала, да и то, что сказал он сам, вылетело из его уст, как пустой, неосознанный звук.
— Гермий повелел мне передать тебе добрые слова привета и сказать, что помнит о своем обещании.
— О каком обещании?
— Он не сказал мне об этом, — улыбнулась Пифиада и подошла ближе, щуря глаза. — Ты Аристотель, это верно? — спросила она.
— Да. А ты кто?
— Я Пифиада, — засмеялась девушка. — Или ты не слышал, когда я назвала себя? Пифиада — племянница Гермия, дочь его покойного брата…
— Сколько же тебе лет?
— Цветы живут, пока цветут, — ответила она. — И пока они цветут, они молоды. А тебе сколько?
— Философы живут вечно, — сказал он в тон Пифиаде.
— Покажи мне свой сад и свой дом, — попросила она. — Этот дом называют Домом философов.
— Да, — сказал Аристотель. — Это так.
Пока они гуляли по саду и осматривали многочисленные комнаты дома, Аристотель ни разу не вспомнил о своей болезни. А когда вспомнил о ней, ее уже не было.
Пифиада навещала Дом философов еще несколько раз.
— Где же Гермий? — всякий раз спрашивал ее Аристотель. — Куда он запропастился? Если увидишь его, передай, что я с нетерпением жду, когда он исполнит свое обещание.
Она уже знала, о каком обещании Гермия говорил Аристотель: об обещании отдать ее в жены Аристотелю. Пифиада радовалась судьбе, которую уготовил ей дядя: она полюбила Аристотеля.
Ксенократ сначала ворчал на Аристотеля, а потом махнул рукой.
— Влюбленный философ так же глуп, — сказал он ему однажды, — как и влюбленный эфеб. И вот что закономерно: все влюбленные сочиняют стихи… Ты мог бы записывать стихи на вощеных дощечках или на папирусе, а не переводить пергамент, который предназначается для высоких и вечных истин.
— Истины любви также вечны, — возразил Аристотель. — Пока будут существовать люди, будет любовь.
Организацией школы Ксенократ занимался один. Он собрал в Доме философов все книги, какие только можно было найти в Ассе и Атарнее, побеседовал не с одной сотней людей, желавших стать учениками Аристотеля и Ксенократа, сам написал устав Дома философов и начал занятия с учениками без Аристотеля.
Гермий, занятый своими делами, навещал их редко. Он лишь дважды присутствовал на лекциях Ксенократа, остальное время проводил в разговорах с Аристотелем. Эти разговоры касались главным образом предстоящей свадьбы Аристотеля и Пифиады. И только одни раз в присутствии Ксенократа он заговорил с Аристотелем о государственных делах, предложив ему прочесть и оценить законы, которые он сам написал для своего государства.
— Чтобы оценить законы государства, — сказал Аристотель, — нужно знать, как живут подданные этого государства. Сами по себе законы не бывают ни хорошими, ни плохими. Плохими и хорошими они бывают только по отношению к гражданам… Великий Солон[42] сказал о законах, которые он написал для афинян: «Это самые лучшие законы из тех, какие они могли принять». Можно создать блестящие законы, но их не примут люди. А вообще же на вопрос о том, в каком государстве жизнь устроена всего лучше, Солон ответил: «В том, где за обиженных вступаются все». Сочувствие каждого каждому и доброе участие каждого в судьбе другого — так должна быть устроена жизнь, считал Солон, и эту жизнь должны защищать законы. «Увы! — восклицал он. — Я не видел ни такого народа, ни таких законов».
— Новые законы могут изменить жизнь, — возразил Ксенократ. — Наш учитель Платон написал законы, следуя которым можно построить дивное государство.
— Да, — сказал Аристотель. — Вопрос лишь в том, как им следовать и кто согласится следовать им. Можно, например, написать закон, по которому отменяется рабство. Но можно ли отменить рабство? Вспомни триеру, Ксенократ, на которой мы плыли из Митилены в Асс. По закону, отменяющему рабство, на триере не стало бы гребцов, и она превратилась бы в игрушку волн. Так случится и с государством, Ксенократ. Нынешнее государство, как и триера, не может существовать без рабского труда. К сожалению, разумеется, потому что это лишает нас возможности написать закон: «Рабство отменяется». Точно так же мы лишены возможности написать другие прекрасные законы, Ксенократ. Да и Платон не думал, что в государстве, где будут приняты законы, повелевающие рекам течь вспять, реки действительно потекут вспять.
— Рабство погубит наш мир, — сказал Ксенократ, став мрачным.
— Демократия погубит наш мир, — сказал Гермий.
— Ни то ни другое, — ответил Аристотель. — Наш мир погубят богатство и нищета. Богатство одних свободных граждан делает нищими других свободных граждан. Богатыми становятся немногие, нищими — тысячи. И эти нищие должны либо уподобиться рабам, либо уничтожить рабство. Вот что произойдет и уже происходит в Афинах. Нужно бояться чрезмерного богатства и нищеты друзья. Обогащению одних и обнищанию других должны препятствовать хорошие законы… Я прочту твои законы, Гермий, — сказал Аристотель, когда Гермий встал, чтобы уйти. — Но не теперь, после свадьбы…
Свадьба состоялась осенью. Вопреки всем ожиданиям, она не была пышной. По афинским обычаям, вестники вывезли Пифиаду из ее дома в Ассе в легкой колеснице под белым покрывалом, возложив ей на голову венок из цветов. Правда, сопровождали колесницу толпы людей, родственников Пифиады и праздных ассийцев. Они запрудили собой не только ту улицу, по которой двигалась колесница, но и соседние, торопясь попасть к Дому философов, чтобы увидеть, как Аристотель будет похищать невесту, отнимая ее у родственников. Ничего интересного, однако, они не увидели: Аристотель взял Пифиаду на руки и унес в дом под крики сопровождавших ее женщин. Кто хотел увидеть знаменитого философа — остались довольны, кто хотел позабавиться битвой жениха с родственницами невесты, которые должны были всеми силами противиться ее похищению, ушли разочарованными.
Аристотель подвел Пифиаду к пылающему очагу, и она поднесла ладонь к огню. Это был знак того, что отныне Пифиада вступает под защиту божества этого очага. Потом они вкусили от брачных хлебов и фруктов, омылись водой из Каллиро́и, привезенной в высоких серебряных лекифах из афинского священного источника, как и подобает эллинам, и ушли и покои, куда не долетал шум пира, который начался в их честь, как только наступил вечер.
Аристотель и после свадьбы долго не принимал никакого участии в делах школы. Пифиада, казалось, совсем околдовала его: все свое время он отдавал ей одной, называл ее богиней и едва ли не воздавал ей божеские почести. Его любовь к Пифиаде была так широка, что он готов был воспеть каждого, кто любил ее или был ей мил. Он писал гимны в честь ее родственников и в честь Гермия. Он прославлял землю, на которой она родилась, небо, под которым она выросла, солнце, которое освещало ее и делало зримой ее божественную красоту. Он начал сооружать в саду святилище в ее честь, приносил богам жертвы и подарки храмам в благодарность за Пифиаду и, казалось, готовился и тому, чтобы самого себя посвятить ей одной, служению ей, вечному прославлению ее, забыв обо всем, что он делал раньше и кем он был раньше.
— Я покину тебя, — сказал Аристотелю Ксенократ, которому надоела его безграничная влюбленность в Пифиаду. — Ты стал смешным. Ассийцы раздражены тобой, а я возмущен.
— Прекрасно, — ответил Аристотель. — Уезжай. Вы все завидуете моему счастью… Уезжай!
Пифиада, которой слуги сообщили об этом разговоре Аристотеля с Ксенократом, сказала Аристотелю:
— Я готовлюсь стать матерью, Аристотель, а ты готовься стать отцом. Пора тебе заняться делами нашего дома и своими собственными делами. Ассийцы хотят видеть Аристотеля-философа, а не только Аристотеля — мужа Пифиады. Через неделю я покину тебя, чтобы приготовиться к рождению ребенка. Подумай, с кем ты останешься, если уедет Ксенократ…
Аристотель бросился разыскивать Ксенократа, но не нашел его: тот уехал в Магне́сию за магиесийской рудой, чтобы еще раз попытаться выведать ее тайну. Аристотелю же он повелел передать через своих слуг такие слова: «Глупые магнесийские камни притягиваются друг к другу, а умные люди ссорятся и разъезжаются из-за женщины».
Приехал Гермий и пригласил Аристотеля в Атарней на пир по случаю приезда македонских послов. Аристотелю очень не хотелось расставаться со своей женой, да и неожиданная ссора с Ксенократом не располагала его к участию и пиршествах, но Гермий настоял, и Аристотель уехал в Атарней. Из Атарнея он вернулся через три дня. Сразу же зашел на половину жены и спросил, когда она собирается покинуть Асс, чтобы уехать в родительский дом близ Атарней и отдаться на попечение будущих повитух.
— Через два дня, — ответила Пифиада.
— В таком случае, я успею вернуться, — сказал Аристотель. — Я буду скакать день и ночь и успею…
— Куда? Куда ты собрался? — забеспокоилась Пифиада.
— К Магнесию. Я найду Ксенократа и верну его. Мне приснилось, что он отправился из Магнесии в Смирну, чтобы там сесть на афинский корабль…
— Тогда скачи, — сказала Пифиада. — Я буду ждать твоего возвращения. И уеду лишь тогда, когда ты вернешься.
Из Магнесии Аристотель возвратился один. Его сон оказался пророческим: за день до приезда Аристотеля в Магнесию Ксенократ покинул ее, направившись в Смирну, откуда отплыл и Афины. Из Смирны он прислал с купцами Аристотелю письмо, в котором было всего несколько строк.
«Ксенократ приветствует Аристотеля, — написал он. — Я возвращаюсь в Афины, а ты возвращайся к философии. Пусть мои ученики станут твоими, а слава о тебе дойдет до Афин. И когда она дойдет до Афин, я пойму это так, будто ты зовешь меня, и приеду к тебе».
Аристотель проводил жену в Атарней и вернулся к философии. Гермий стал его постоянным слушателем и ради этого проводил в Доме философов столько времени, сколько позволяли ему его дела. Бывшие ученики Ксенократа стали учениками Аристотеля. Мудрецы из Перга́ма, Скепсиса и Митилены стали частыми гостями Дома философов. А вскоре приехал и Феофраст, любимец Аристотеля. Обнимая и целуя Феофраста, Аристотель сказал ему:
— Давай поклянемся, что не расстанемся больше никогда.
— Я готов, — ответил Феофраст, — если это в нашей власти.
— Да, это в нашей власти, — сказал Аристотель.
…Слава о мудреце нз Асса быстро разнеслась по всей Элладе. Дом философов принимал высоких гостей из разных городов. Возвращаясь на родину, гости прославляли Аристотеля и Гермия. Аристотеля — за мудрость, Гермия — за покровительство мудрецам.
— Вот это достойно мужчины, — похвалила Аристотеля Пифиада, когда он прискакал к ней, узнав, что она родила дочь. — Не то, что ты примчался ко мне, похвально, хотя я и благодарна тебе за это. А то похвально, что о мудрости твоей говорят всюду и всюду завидуют Гермию, у которого такой друг. Как мы назовем дочь? — спросила она.
— Пифиада — вот самое прекрасное имя, — ответил Аристотель.
Весть о том, что Аристотель у Гермия, дошла и до Филиппа Македонского. В начале весны Аристотель получил от него письмо. «Когда пресытишься гостеприимством Гермия, вспомни обо мне, — написал Филипп. — И хотя Гермий мне друг, я завидую ему».
Аристотель показал письмо Филиппа Гермию.
— Значит ли это, что ты уже пресытился моим гостеприимством? — спросил с тревогой Гермий.
— Нет, — ответил Аристотель. — Я хотел лишь узнать: верно ли то, что ты Филиппу друг?
— Ты знаешь, Аристотель, что за моей спиной держава Артаксеркса. И вот простая истина: если враг за спиной, не упускай из виду друзей. Я не верю в могущество Афин, но верю в могущество Филиппа.
— А зачем приехал родосец Мемнон, стратег Артаксеркса? — спросил Аристотель.
— Он говорит, что друг мне, и вот я принимаю его. Филипп далеко, а Мемнон рядом. Могу ли я пренебречь им? И если он действительно друг мне, кому это повредит? Кстати, он наслышан о тебе и хочет, чтобы ты принял его для беседы.
— Я побеседую с ним, — согласился Аристотель. — Но и ты послушай меня, Гермий. Я тоже верю в будущее могущество Филиппа. Я даже верю в то, что он станет гегемоном всей Эллады, о чем он мечтает. Могучий и прочный союз эллинских городов необходим перед лицом окружающих нас варваров. Но Филипп груб и самонадеян. Рядом с ним нет никого, кто бы умерял его грубость и воинственность. И нет такого человека, который мог бы стать его советчиком. Но я думаю о его сыне Александре, Гермий. Когда Александр унаследует отцовский трон и примет под командование огромное войско, поздно будет учить его чему-либо. Александру нужен учитель теперь…
— Ты все-таки хочешь уехать? — вздохнул Гермий.
— Не теперь. Может быть, через год, может быть, через два. Будь готов к этому, Гермий. Обещай, что не станешь удерживать меня.
— Друзей, как и добрую славу, нельзя удержать силой: друзья становятся врагами, а добрая слава — позором, — сказал Гермий, опечалившись.
Аристотель беседовал с персидским стратегом Мемноном, когда вбежавший Феофраст сообщил о приезде Ксенократа.
— Вернулся?! — вскочил на ноги Аристотель. — Слава Зевсу, он вернулся! Но где же он?
— Он идет, он поднимается от гавани к городу.
— Я должен встретить его, — сказал Мемнону Аристотель. — Продолжим беседу завтра.
— Я завидовал Гермию, — ответил Мемнон, — теперь во сто крат более я завидую Ксенократу.
Аристотель соскочил с лошади и обнял Ксенократа. Они долго молчали, потом Ксенократ сказал:
— Ты звал меня, и я пришел.
— Да, — ответил Аристотель, еще крепче обнимая друга.
— Прими приветы от Спевсиппа, от Демосфена, от Герпиллиды, от Никанора…
— От Герпиллиды? — переспросил Аристотель. — Она еще помнит обо мне?
— Она любит тебя, — ответил Ксенократ.
Они пошли рядом. Дорога круто поднималась вверх. Аристотель предлагал сесть на лошадей, но Ксенократ отказался.
— Если Гомер поднялся к Ассу пешком, — сказал он, — почему бы и нам не последовать его примеру?
Аристотель приказал слугам скакать вперед и ждать его у ворог города.
Когда они остались вдвоем, Ксенократ спросил:
— Здорова ли Пифиада?
— Теперь у меня две Пифиады, — смеясь, ответил Аристотель. — Пифиада — жена и Пифиада — дочь.
— Как же ты делишь себя между ними?
— Я отдаю себя третьей.
— Кому же?
— Философии, — ответил Аристотель. — А теперь я хочу спросить тебя, Ксенократ: здоровы ли Афины?
— Больны, — ответил Ксенократ. — Толстосумы ждут Филиппа, нищие проклинают толстосумов и слушают речи Демосфена. Эсхин проклинает Демосфена. Все как в старой поговорке: «Доблестные афиняне не знают себе равных в доблести, порочные — в пороке. Земля Аттики приносит лучший мед и сильнейший яд — цикуту».
— Чем живет Академия? — спросил Аристотель.
— Мечтами о невозвратном, — сказал Ксенократ. — Ученики Платона становятся толкователями Платона, а не толкователями жизни.
— Толкователями снов. А мир уже давно не спит и содрогается в преддверии великих потрясений. Мы увидим эти потрясения, Ксенократ. И чем бы они ни завершились, мы обязаны сделать свое главное дело: собрать всю мудрость мира, отделить истинное от ложного, соединить разрозненные истины в единое целое, исследовать то, что открыто нам в этой жизни, и отдать плод нашего труда детям, которые перешагнут через наши могилы и окажутся в новом мире. Думаю, что он будет велик и един. Великой и единой должна войти в него наша философия, Ксенократ. Путь наш труден и крут, как эта дорога. Но на вершине нас ждут крылатые кони…
Ксенократ остановился, поглядел вверх, куда вела дорога. Там и впрямь стояли кони.
— Следовало бы записать то, что ты сказал, Аристотель. Гомер записал свои слова, которые менее значительны.
— Эту короткую речь я дарю тебе, Ксенократ, — сказал Аристотель, — тебе одному.
…Мемнон появился в Доме философов через несколько месяцев. Был сладкоречив, привез в подарок несколько свитков с изречениями вавилонских мудрецов, восхвалял гостеприимство Гермия, уверял всех, что дружески предан ему и готов в любое время сослужить ему добрую службу: постоять за него перед Артаксерксом, если кто-то попытается очернить Гермия в глазах персидского царя, заключить с Гермием союз гостеприимства, если Гермий осчастливит его своим приездом в Сузы. Он звал к себе и философов — Аристотеля, Ксенократа и Феофраста, — обещая показать им свою библиотеку и коллекцию камней, упавших с неба.
— Поедем к нему, — сказал Аристотелю Гермий. — Такой друг в стане персов стоит целого войска…
— Нет, — ответил Аристотель. — Бойся сладких речей Мемнона. Под личиной дружбы и щедрости скрыт в Мемноне твой враг. Я принимаю его и беседую с ним только потому, что ты велишь. В глазах его коварство, в словах — яд.
— Что с тобой? — удивился словам Аристотеля Гермий. — Сегодня дурная погода, конечно. Больна маленькая Пифиада, молчит Ксенократ, узнав, что ты написал письмо Филиппу… Все это — причина твоего дурного настроения. Но зачем ты говоришь дурно о Мемноне? Я поеду к нему один, Аристотель.
— Ну что ж, не смею перечить тебе, Гермий. Твоя воля — поезжай. Но то, что я сказал о Мемноне, запомни. И еще: я решил для себя, что уеду к Филиппу тотчас, как ты откажешься прислушаться к какому-либо из моих советов. И вот ты отказался, Гермий. И значит, я уеду к Филиппу. Как только поправится Пифиада, — добавил Аристотель. — А у тебя еще есть время подумать. Не верь Мемнону, Гермий…
Гермий ушел, но вскоре вернулся, спросил:
— Если я не поеду к Мемнону, как долго ты останешься со мной?
— Еще год, — ответил Аристотель.
— Хорошо, я подумаю. Ты дорог мне, Аристотель. Но не безразлична мне и судьба Атарнея и Асса. Если Филипп объявит персам войну, Артаксеркс мне первому воткнет в спину нож. Я хочу, чтобы Мемнон удержал руку Артаксеркса до той поры, когда между мною и персами встанет Филипп…
— Правильная мысль, — сказал Аристотель. — Но Мемнон не удержит руку Артаксеркса, он его преданный слуга. Он воткнет тебе в спину нож прежде, чем Артаксеркс повелит ему сделать это. Ты загляни ему в глаза, Гермий, загляни!
— И все-таки в тебе говорит дурное настроение, — заключил Гермий, вздохнув. — Продолжим наш разговор при ясном солнце…
Гермий уехал в Атарней. А через неделю Аристотель узнал, что он отправился к Мемнону. Аристотель разыскал Феофраста и сказал:
— Когда придет твой корабль из Митилены с вином и пшеницей? Помнится, ты говорил о нем…
— Я жду его через три дня. Но ты сам видишь, какое море — ветер и сильная волна. Ты стосковался по лесбосскому вину?
— Нет, Феофраст. Нам нужно готовиться к бегству, — сказал Аристотель. — Я отправлюсь в Атарней за женой и дочерью, а ты с Ксенократом займись вот чем: собери все книги и все ценное, что есть в нашем доме. Упакуйте все это и отправьте на пристань.
— Ты поссорился с Гермием? — спросил Феофраст.
— Нет. Он уехал к Мемнону. И я подумал, что теперь всем нам грозит смерть. Мы скоро услышим о ее приближении… Торопись, Феофраст. И расшевели Ксенократа.
Мемнон предал Гермия. Он велел схватить его, как только тот переступил порог его дома. Гермия поволокли во дворец к Артаксерксу.
— Ты заключил с Филиппом тайный союз против меня, — сказал Гермию Артаксеркс и приказал его повесить.
В тот же день Гермий был казнен. Весть о его гибели дошла до Атарнея через три дня. А еще через три дня к Атарнею и Ассу подошли персидские войска, предводительствуемые Мемноном.
Феофраст настойчиво уговаривал Аристотеля и Ксенократа остаться в Митилене.
— Я достаточно богат, чтобы построить новый Дом философов, — говорил он им. — Я сделаю все, чтобы новый Дом философов затмил своим удобством и красотой прежний.
— Нет, — сказал Аристотель. — Меня зовет Филипп, и я отправляюсь к нему.
— Нет, — сказал Ксенократ. — Я возвращаюсь в Афины.
Первым из Митилены отплыл Аристотель. Ксенократ не пришел проводить его.
— Кто друг Филиппу, тот враг Афинам, — сказал он об Аристотеле Феофрасту. — Лучше погибнуть в Афинах, чем прославиться в Пелле. Что станешь делать ты, Феофраст, когда уеду я?
Феофраст побоялся сказать Ксенократу правду. Он ответил, что останется в Митилене. Но как только корабль с Ксенократом скрылся за горизонтом, сам стал собираться в путь. Через несколько недель он был в Пелле, рядом с Аристотелем.
Глава шестая
Старик Тимон умирал и, умирая, плакал.
— О чем же ты плачешь, старый Тимон? — спросил умирающего Аристотель, когда его позвали к нему.
Тимон лежал на траве. Его голова была слегка приподнята и покоилась на обломке камня — это была единственная его просьба, с которой он обратился к людям, нашедшим его: приподнять ему слегка голову, чтобы он мог видеть стены Афин и то, что вдали возвышалось над ними, — Акрополь, щедро освещенный солнечным светом, лившимся из-за туч. Здесь была тень, а там — солнце, золото и голубизна.
— О чем же ты плачешь, Тимон? — повторил свой вопрос Аристотель. — Не ты ли говорил, что жизнь человеческая ровным счетом ничего не стоит? Ни жизнь, ни сам человек. И вот теперь ты плачешь, прощаясь с жизнью. Ты ли это, Тимон?
— Я не с жизнью прощаюсь, а прощаюсь с Элладой, — ответил Тимон. — С нею мне жаль расставаться. Я умру и, быть может, воскресну. Травою прорасту, цветком, мошкой взлечу из земли. Но как я узнаю, что я в Элладе? Никогда, Аристотель, никогда не увижу я Элладу, потому плачу. А ты меня прости.
— Прости и ты мне мой глупый вопрос, — сказал Аристотель.
Теперь он все чаще вспоминал почему-то об этом разговоре с Тимоном. Впрочем, он знал, почему: Филипп поднимал войско, которому предстояло двинуться на юг, в сторону Афин.
Боги, как неразумны эти афиняне! Они призвали на помощь Филиппа. Конечно, жители Амфиса заслуживали наказании: они вспахали земли, принадлежавшие Дельфийскому храму Аполлона, избили его служителей и, кажется, захватили сокровищницу. Можно было понять несчастных локри́дцев: многолетние неурожаи разорили их, а служители храма воспользовались их бедственным положением и скупили лучшие земли. И все же локридцы поступили вопреки законам и заслуживали наказания. Но такого ли, какое призвали на их головы афиняне, обратившиеся к Филиппу? Там, где проходила армия Филиппа, на многие годы замирала жизнь. О жестокое и неразумное время!..
Жаль локридцев, но только ли их ждут несчастья? Филипп собирает огромное войско, пехоту и кавалерию. Чтобы справиться с локридцами, хватило бы и десятой доли того оружия, которое вот уже несколько дней звенит и сверкает на воинах, заполнивших все улицы и площади Пеллы.
— С таким войском, — сказал Аристотелю Александр, — можно идти на Персию.
Александр возбужден и не посещает уроки: отец решил взять его с собой в поход. Да и другие юноши, друзья Александра, радостно покинули тихую Мие́зу, как только Филипп разрешил Александру взять друзей в свою свиту: Певке́та, Гефестиона, Каллисфе́на, Кратера, Клита и многих других, живших с Александром в Миезе и посещавших вместе с ним святилище нимф, где вел с ними беседы Аристотель. Александр радовался, Аристотель грустил. Загрустив, вспоминал старого Тимона и его слова: «Я не с жизнью прощаюсь, я прощаюсь с Элладой!» Филипп закрывал ему путь в Афины, в Элладу: хотя никто не проронил и слова о том, куда на самом деле замышляет отправиться со своим войском Филипп, все же чувствовалось, что македонским монархом руководит не столько желание наказать взбунтовавшихся локридцев, сколько иное желание — тайное, коварное, роковое, что настал тот самый час, о котором с такой настойчивостью и страстью предупреждал своих сограждан Демосфен.
«Он пойдет на Афины» — эта мысль пришла к Аристотелю среди ночи. Он поднялся с постели и больше не ложился, дожидаясь рассвета, чтобы немедленно отправиться в Пеллу к Филиппу. И хотя он понимал, что Филипп не откроет ему своего подлинного замысла и не даст никаких обещаний, он решил поговорить с ним о том, о чем уже говорил много лет назад, в год смерти Платона, когда всем казалось, что Филипп вот-вот ринется на Афины и сметет их с лица земли. Тогда этого не произошло. Это может произойти теперь. А он все надеялся, что Филипп никогда не решится, что время погасит его желания. Время и страх перед возможным поражением: в Пелле были уверены, что перед общим врагом города Эллады снова вступят в союз, о который разбивались многие армии завоевателей. Но вот сами эллины представили Филиппу случай, какой никогда, быть может, не выпал бы на его долю: Филипп поведет в Фесалию армию, не вызывая тревоги в эллинских городах, и, если решится, захватит их врасплох, среди пиров и сна.
Филипп — страх и гибель Эллады. Не ему бы, грубому и непросвещенному вояке, решать судьбу великого народа. Ох, не ему бы, не ему бы… Александр, юный и прекрасный Александр, — вот на кого Аристотель возлагал в своих мечтах и расчетах великую миссию объединения эллинских городов и создания могучего, единого государства. Добрый монарх, просвещенный монарх, монарх — отец эллинов, их защитник и благодетель — таким виделся Аристотелю Александр на высоком тропе Эллады. Все государством правят дурно: ремесленники, купцы, аристократы, тираны, потому что используют власть против других и своекорыстно. И только тот, кто будет равно печься обо всех гражданах, не выделяя из них никого, стремиться к общей пользе крестьян, ремесленников, купцов и всех свободных граждан государства, — тот и станет его отцом, тот и достоин стать им. Ни древнее, ни новое право, ни сила, но одно лишь достоинство должно выделять правителя среди всех его граждан, и только это в нем и должно почитаться.
Какими же достоинствами обладает Филипп? Он крепко держится на ногах в бою и на пиру, хотя и кровь и вино пьянят его и влекут ежечасно…
Не его видел в своих мечтах и расчетах Аристотель во главе эллинов. Боялся, что это может случиться, но видел не его. И торопился вложить в ум и сердце Александра все то, что было бы более всего необходимым ему, будущему великому монарху, — любовь к эллинам, к их истории, поэзии, к их гению, создавшему все самое прекрасное на земле. Любовь к их будущему, которое нуждалось в защите от собственной их несговорчивости, неразумия, беспечности, от персов, которые уже однажды повергли Элладу в кровь и прах…
Мысль о персах всякий раз больно ранила Аристотеля: он вспоминал Гермия, замученного по приказу Артаксеркса в Сузе. Кровь друга взывала к мести…
Бедный Гермий, какие муки он испытал от рук персидских палачей! Аристотель и теперь содрогался, вспоминая о том, что рассказывали ему о казни Гермия. «Не от копья он погиб, побежденный в открытом сраженье, а от того, кто попрал верность коварством своим» — эти слова Аристотель высек на мраморе, поставленном в честь Гермия у храма Аполлона в Дельфах. Тем самым Гермий был удостоен божеской почести. Но разве люди менее, чем боги? Вот и Александр не раз спрашивал его об этом, говоря: «Если дела людей сравнимы с делами богов, то почему людей мы ставим ниже богов?»
Его не пропустили к Филиппу. Сказали, что Филипп совещается со своими полководцами.
— Там ли Александр? — спросил Аристотель.
— Там, — ответил Аристотелю его племянник Каллисфен, сын сестры Геро, которого Аристотель призвал из Стагиры в Пеллу, как только приехал сам. Каллисфена и других юношей Аристотель обучал вместе с Александром.
— Я вижу, что ты будешь хорошим историографом Александра, — сказал племяннику Аристотель. — Ты не покидаешь его ни на час. И когда Александра отделяет от тебя закрытая дверь, ты стоишь у двери, как страж.
— Да, дядя, — ответил Каллисфен, не уловив в словах Аристотеля иронии. — Ведь это будет наш первый поход! — Глаза Каллисфена сияли восторгом.
— Совещание, надо думать, продлится не час и не два, — сказал Аристотель, беря племянника под руку. — И нам не пристало торчать у запертых дверей. Лучше погуляем по саду, Каллисфен.
Они вышли из дворца. Но гулять по саду не стали — уселись на ближайшую скамью.
— Я, наверное, вскоре покину Пеллу, — сказал Каллисфену Аристотель, обнимая его одной рукой за плечи. — И возможно, навсегда расстанусь с Александром.
— Зачем? — запротестовал было Каллисфен, но Аристотель не дал ему говорить.
— Я уже решил, — продолжал он. — К тому же я все сказал, что должен был сказать Александру, и научил его всему, чему мог научить. В сущности, я даже простился с ним, хотя, видимо, последняя наша встреча еще впереди. Тебя же он избрал своим историографом, и, значит, отныне твоя судьба, дорогой Каллисфен, хочешь ты или нет, навсегда будет связана с судьбой Александра.
— Да, дядя. И я счастлив…
— Погоди, Каллисфен. Ты скажешь мне все, когда я скажу тебе то, что хочу. А я хочу предупредить тебя. Только тебя одного, Каллисфен, потому что ты и я — одна кровь, потому что я люблю мою сестру, которая мать тебе, и твоего отца… И то, что скажу, — только для тебя одного.
— Я слушаю, дядя, — насторожился Каллисфен.
— Ты знаешь Александра не хуже меня, хотя больше смотришь на него влюбленными глазами, чем глазами историка, я, значит, от тебя могло многое ускользнуть. Я говорю о вспыльчивости Александра, о быстрой перемене его настроений. В этом заключается первая опасность, которая в любой момент может подстеречь тебя. И вот мой совет: никогда не приближайся к нему слишком близко, на расстояние меча… Ты понял меня?
— Да, кажется…
— Страсти Александра хоть и уравновешены разумом, но не всегда, а со временем это равновесие может быть нарушено и того более — власть, кровь и победы меняют человека к худшему. И потому я хочу дать тебе мой второй совет: не приближайся к нему на расстояние меча…
— Это первый совет, дядя.
— И третий совет, Каллисфен, — остановил племянника Аристотель. — Твой род берет начало от Асклепия[43], в жилах же Александра течет кровь Геракла и Ахилла. Не становись на пути Александра, Каллисфен, и не приближайся к нему на расстояние меча. — Аристотель умолк.
— Это третий совет? — спросил Каллисфен.
— Да.
— У тебя дурное настроение, дядя?
— Да.
— Почему? — спросил Каллисфен. — Тебя мучают какие-то грозные предчувствия?
— Видишь ли, Каллисфен, отныне имя Александра и мое имя будут произносить вместе чаще, чем я того хотел бы. Многие философы и до меня желали переделать мир соответственно своим представлениям о благе. Дионисий Старший, тиран Сиракуз, продал Платона в рабство. Афиняне казнили Сократа. Дионисий Младший едва не убил Платона. Диона зарезал Кали́пп. Никому из философов еще не удавалось воспитать совершенного правителя. И хотя я очень надеюсь, что годы, затраченные мною на Александра, не прошли даром, я все же весь в тревоге…
— Александр! — вскрикнул Каллисфен, вскочив на ноги. — Александр!
Со стороны дворца, сопровождаемый шумной ватагой друзей, приближался Александр. Аристотель поднялся ему навстречу. Александр обнял учителя, сказал громко;
— Все решено! В поход выступаем завтра! — Заглянув в глаза учителя, спросил с удивлением: — Ты не рад этой вести, учитель? Ты будешь со мной. И ты увидишь, как я управляю кавалерией.
— Ты и прежде радовался всякому поводу, чтобы убежать из Миезы, — сказал Аристотель. — И теперь мне твоя радость понятна. Но все же тебе надо, Александр, еще раз побывать в Миезе. Я хочу побеседовать с тобой перед долгой, а может быть, и вечной разлукой…
— Что ты говоришь, учитель? О какой разлуке? — засмеялся Александр. — Разлуки нет, есть только расставание… Но я буду в Миезе! Мы все сегодня будем в Миезе! — выкрикнул он, обращаясь к друзьям. — И устроим пир!..
Восторженные возгласы друзей Александра оглушили Аристотеля.
— И пригласим флейтисток!
Аристотелю пришлось ждать, когда юноши успокоятся.
— Я не прочь попировать с вами вместе, — сказал Александру Аристотель, когда, наконец, стало тихо. — Но я хотел бы поговорить с тобой без вина и без свидетелей.
Александр нахмурился. Оглядел приунывших друзей.
— Ладно, — ответил он Аристотелю. — Без вина и без свидетелей. Но потом, — глаза его зажглись весельем, — потом — вино и флейтистки!
Святилище нимф на Стримоне[44], окруженное тенистыми рощами, где безлюдные тропы приводили то к каменным скамьям, то к зеркальным запрудам, к древним, увитым плющом портикам, располагало к тихим беседам. И хотя это место было указано Аристотелю Филиппом, Аристотель вскоре сам полюбил Нимфе́йон и считал, что лучшего места для своей школы он не мог бы сыскать во всей Македонии, Дети, которые так скоро стали юношами, успокаивались и умолкали, когда Аристотель уводил их к священным запрудам и рощам. Ему самому казалось, что голос его звучит здесь иначе, чем обычно, наполняясь покоем, величием и торжественным светом.
Он поджидал Александра, сидя на скамье, нагретой за день солнцем. Слушал предвечернюю перекличку птиц в тенистых рощах, любовался неярким золотом спокойного заката, который отражался в зеркальном пруду, и думал о предстоящем разговоре.
Он услышал шаги Александра еще до того, как увидел его.
Александр торопился. И это обидело Аристотеля. Александр торопился не потому, что ему не терпелось увидеть своего учителя, а потому, что намеревался поскорее закончить с ним беседу и отправиться на пир к своим друзьям. Так Аристотель подумал, сам того не желая, и встретил Александра хмурясь, недовольно покашливая.
— Здравствуй, учитель, — сказал Александр. — Мне сказали, что отец не пожелал выслушать тебя… И я тороплюсь принести за него извинения, зная, как ты огорчился.
— Пустое, — ответил Аристотель. — Филипп был пьян и, кажется, не узнал меня…
— Да, он пирует с полудня. Теперь, когда все решено, он пирует…
— Что решено, Александр?
Александр сел рядом с Аристотелем на скамью, долго молчал, потом сказал, склонясь к плечу учителя:
— Я полюбил тебя за эти годы, Аристотель, и мысль о предстоящем расставании повергает меня в печаль. И еще меня мучает вопрос: все ли я постиг из того, чему ты учил меня? История Эллады и Персии, география, астрономия, этика, политика, поэзия, искусство мыслить, искусство спорить и высшая наука — философия были открыты мне тобой, Аристотель. Отцу я обязан жизнью, а тебе — сознательной жизнью.
— Благодарю, — кивнул Аристотель. — Благодарю. Отныне твоим учителем будет сама жизнь, Александр. Нужно только, чтобы душа твоя всегда оставалась мягкой, подобной теплому воску. Но разум твой должен быть твердым, как кристалл. Шлифуй его грани. Лишь многогранный и чистый кристалл способен отразить в себе весь свет мудрости. Ты сын монарха и по логике вещей — будущий монарх. Но и став им, Александр, занимайся искусством, наукой и в особенности философией, ибо…
— …все науки, — продолжил за Аристотеля Александр, — более необходимы в жизни, нежели философия, но лучше ее нет ни одной.
— Да, — сказал с улыбкой Аристотель и умолк, глядя на блестящий медный шарик, который держал на ладони.
Они сидели под деревом в тени, но отблески заката пробивались сквозь листву и вспыхивали тихими золотыми огоньками на поверхности шарика, Александр склонился к плечу учителя так близко, что головы их касались друг друга. Александр невольно рассмеялся, увидев в шарике лицо учителя: нос его был непомерно широк, а губы растянулись в нелепейшей улыбке. Впрочем, и сам Александр выглядел не лучше. Аристотель сжал руку, на которой лежал шарик, и опустил ее на колени.
— Мне пришла в голову одна мысль, учитель, когда я смотрел на твой шарик, образ вечности и совершенства, — сказал Александр. — Если ты охватил весь мир своей мудростью, то почему бы мне, твоему ученику, не превратить его в мое владение?
Александр при этом засмеялся. Это был тот самый смех, который Аристотель не любил: темное и грозное пробивалось сквозь разум, смеялось в Александре.
— Ты быстроног, как Ахилл, но мысль твоя опережает тебя. До сих пор за мыслью поспевал только разум. Никто не пробовал догнать ее на коне и удержать на кончике меча…
— Ты сам говорил, учитель, что если куст не цветет, то это еще не доказывает, что он не расцветет никогда. Иные цветы появляются только раз в тысячу лет. И может быть, я догоню мысль на коне?
— Молодость только тем и удивительна, Александр, — ответил философ, теребя пальцами свою бороду, в которой уже начала пробиваться седина, — только тем и удивительна, что она таит в себе непредсказуемое.
— Мне хотелось бы, учитель, объединить весь род человеческий, весь мир. Не покорить, не выжечь, а объединить. Придать ему единую и совершенную форму.
— Это мысль, достойная человека.
— А бога?
— Бога? Монарх, как и мудрец, один меж Вселенной и людьми. Вселенная молчит, что бы мы ни делали. Но не молчат люди, Александр.
Александр встал, прижав руки к груди.
— О, какая страшная сила возникла во мне, — заговорил он пылко. — О, какая страшная, учитель! Один меж Вселенной и людьми! Вселенная говорит с тобой, а ты говоришь с людьми! Учитель! Дай я обниму тебя. Никогда еще ты не дарил мне такую жуткую и прекрасную мысль! Между Вселенной к людьми!.. — Он обнял Аристотеля, сжал его а своих объятиях.
— Отпусти, — взмолился Аристотель. — Прощаясь с тобой, — сказал он, когда Александр выпустил его из объятий, — я хочу попросить тебя лишь об одном: береги Афины.
Александр поднял на учителя удивленные глаза.
— Да, да, — сказал Аристотель, — у стен Афин остановись с почтением: там корни всего разумного и прекрасного на земле…
Александр долго молчал, потом спросил:
— Ты веришь моим обещаниям, учитель?
— Хочу верить.
— Я обещаю, что Афины будут любить меня, — сказал Александр. — А теперь простимся. Прощай, учитель. Я тороплюсь! — Он улыбнулся той улыбкой, которая, как казалось Аристотелю, обличала в Александре коварство и жестокость.
— Прощай, — сказал Аристотель и отвернулся. Он не верил Александру…
Когда Аристотель узнал, что Филипп, взяв Фермопи́лы, повел свое войско не к храму Дельфийскому, не к Амфису и Дельфам, чтобы покарать взбунтовавшихся локрйдцев, а в Фоки́ду и занял Элате́ю, открывавшую путь в Фивы и Афины, он быстро собрался и вместе с женой и маленькой дочерью отправился на родину, в Стагиру. Это было похоже на бегство, Он сам понимал это. И хотя предвидел, что Филипп повернет к Афинам, все же чувствовал себя оскорбленным. Его возмущение поступком Филиппа было так сильно, что оставаться в Пелле он больше не мог. Для Филиппа его бегство мало что значило — Аристотель это знал. В любом случае оно никак не могло повлиять на решение Филиппа покорить Афины, И только одно, пожалуй, делало поступок Аристотеля разумным: своим бегством из Пеллы он как бы говорил всем, что непричастен к коварным замыслам македонского монарха, что философия не согрешила перед Афиной, богиней мудрости и покровительницей великого города.
В Стагире он поселился в родительском доме, который занимала теперь сестра Аримнеста. Жена Пифиада нашла в лице Аримнесты верную подругу, дочь Пифиада быстро подружилась с маленьким Никано́ром, младшим сыном Аримнесты. Сам Аристотель же вдруг приобрел неограниченный досуг, который вначале тяготил и раздражал его, а потом стал привычным и даже приятным, доставляющим наслаждение. Хотя наслаждение — не цель жизни. Цель жизни — блаженство… Только но руслу истин течет к нам нектар блаженства. Для мудреца все блага, из-за которых воюют другие люди — деньги, почет, власть, — пустое. Всем благам мира он предпочитает прекрасное. Он говорит: лучше одни год прекрасной жизни, чем многие годы бесцельного существования. Прекрасна жизнь мудреца, созерцающего истину. Прекрасно небо. Прекрасен божественный разум, возлюбленный Вселенной…
Он часто бродил но окрестностям Стагиры и брал себе в спутники двух малышей — дочь Пифиаду и племянника Никанора. И хотя дети мешали ему порой, не давали сосредоточиться, все же радость, которую он испытал от общения с ними, была больше маленьких огорчений.
Было лето — время цветов, время бабочек и кузнечиков, время красивых и загадочных жуков, время птиц. И они, конечно, собирали цветы, ловили бабочек и кузнечиков, разглядывали синих и золотых жуков, слушали птиц. И еще они задавали друг другу вопросы, вопросы, вопросы… Тысячи вопросов: почему? для чего? зачем?
— Зачем бабочке крылья? — спрашивал Никанор.
— Чтобы летать, — отвечала Пифиада.
— Зачем ей летать?
— Чтобы быстро и легко перебираться с одного цветка на другой.
— Зачем ей нужно это?
— Чтобы собирать пищу.
— Зачем ей пища?
— Чтобы жить.
— Зачем ей жить?
На последний вопрос не могли ответить ни Пифиада, ни Никанор. Дети смотрели на Аристотеля и ждали, что скажет он.
А что он мог сказать? Зачем живет бабочка? Зачем живет человек? Зачем существует мир? Зачем? Зачем? И если есть цель, ради которой все существует, то откуда она известна бабочке, кузнечику, жуку, птице? Только человек осознает свою цель. Быть может, еще птицы. Но жуки и кузнечики, мошки и цветы — неужели тоже разумны? Жизнь без разума — жизнь без смысла, без цели, без надежды. Без любви.
— Она живет, — сказал Аристотель о бабочке, — чтобы любить.
— Зачем надо любить? — спросила Пифиада.
— Затем, что есть, был, и всегда будет любимый, — ответил Аристотель, поднимая дочь на руки. — И мы угадываем этого единственного и вечного любимого во всем прекрасном, что окружает нас…
— Я не поняла, я не поняла… — замахала руками Пифиада. — Совсем непонятно ты отвечаешь…
— Это, наверное, потому, — засмеялся Аристотель, — что мне и самому не все понятно. Но я стараюсь понять. Постарайся и ты.
— А я понял, — сказал Никанор. — Я знаю.
— Ну? — спросил Аристотель. — Скажи нам, что ты знаешь.
— Ничего он не знает, — недовольно захныкала Пифиада. — Он только хвастается, чтоб быть умнее меня.
— А вот и знаю, — обиделся Никанор.
— Скажи же, — попросил Аристотель.
— Теперь не скажу. Сначала хотел сказать, а теперь не скажу, раз вы такие.
— Какие? Какие? — набросилась на него Пифиада, вырвавшись из рук отца. — Какие?
Она погналась за убегающим Никанором. Потом они оба упали в траву, стали барахтаться и смеяться. А еще через какое-то время опять брели молча за Аристотелем, забыв, должно быть, о недавней стычке.
В тот год он много времени посвятил изучению жизни животных. Он нашел глаза у крота и был несказанно счастлив этим. Глаза — самый совершенный и самый важный орган у живых существ. И то, что его не было у крота, — смущало: почему его лишили глаз, по какой такой злой ошибке? Кто виновен в таком несправедливом распределении телесных органов? И оказалось — сам крот. Ему, как и всем, были даны глаза, чтобы видеть мир, а он, пристрастившись к жизни под землей, соблазнившись молодыми и сладкими корнями растений, сам себя лишил зрения. Глаза у крота заросли кожицей. И под этой кожицей Аристотель нашел их…
Да, он вскрывал животных, как это часто делают гадатели и лекари. Как это делал когда-то его отец Никомах, врачеватель Аминты[45]. По не для того, чтобы предсказывать судьбу или обнаруживать причину недугов. Он искал тайну жизни, бывал счастлив, когда она, сквозь кровь, приоткрывалась ему. Сквозь кровь больных и жертвенных животных…
Однажды и яркий весенний день, взяв яйцо из-под наседки, которая уже третий день не сходила с гнезда, он снял с него скорлупу, затем проткнул тонкую кожицу и увидел то, чего, кажется, никто до него не видел — пульсацию тонкой красной жилки, биение сердца зародыша. Яйцо было теплым, тепло сотворило жизнь…
В дальней речной излучине он наблюдал за сомом, на которого наткнулся случайно. Вода в том месте была прозрачной, особенно по утрам. И всякий раз, приходя туда, Аристотель без труда находил знакомого сома. Так продолжалось без малого пятьдесят дней, пока сом стерег икру. Потом он исчез вместе с мальками. И хотя в этой истории, казалось, не было ничего особенного, она все же взволновала Аристотеля. Никогда он прежде не слышал, чтобы рыбы, подобно птицам и другим наземным животным, охраняли свое потомство.
Открывать маленькие тайны — значит постепенно, шаг за шагом, приближаться к большой, главной. Но не каждому это доступно и не каждому удается: надо найти в свойствах стихий, в свойствах камней, растений и животных одно главное свойство, которое делает их родственными, усиливается от ступени к ступени и завершается в разуме. Проложить мост от пылинки до звезды, от слова до истины, от мертвого к живому, от небытия к бытию, от Земли ко Вселенной, исследуя и размышляя над малым и великим, — постоянный и прекрасный труд. Но венчает ли его бессмертие? Почему нет ответа на этот вопрос?
Тысячи истин открываются человеку, а эта не открывается.
Вот что делает человек постоянно — мыслит. Даже во сне мысли не покидают его. Но как он мыслит? Чем мыслит? О чем мыслит?
Он размышлял о душе, о ее способности мыслить, о фермах мысли, о видах форм и был счастлив в этом чистом и прекрасном мире.
Но был и другой мир, который грубо и дерзко вторгался в его мысли и чувствования. В первом жили начала, причины, категории; во втором — Филипп, Александр, Македония, Эллада…
В конце гекатомбеона[46] во второй год 110-й Олимпиады[47] в Херонейской долине состоялась роковая для Афин битва. Да и не только для Афин — для всех городов Эллады. Армия Филиппа разбила союзную армию Афин, Фив и Коринфа.
В конце метагитниона[48] в Стагиру на несколько дней приехал Каллисфен, чтобы навестить свою мать Геро, младшую сестру Аристотеля. От него Аристотель узнал о подробностях битвы при Херонее. Позже он получил письмо от самого Александра, который в Херонейском сражении командовал конницей. Той самой грозной конницей, которая смяла и уничтожила не знавшую до того ни одного поражения священную фалангу фиванцев.
«От Александра Аристотелю привет, — писал Александр. — Теперь я могу сказать: если я смог разгромить эллинов, которые побеждали персов, я непременно одержу победу и над персами. Я знаю, что это время придет.
А вот победа, учитель, которую одержал в этой битве ты: ни одна македонская стрела, ни одно македонское копье не долетело до стен Афин.
Филипп объявил себя гегемоном[49] Эллады, оставил в Фивах свой гарнизон и возвратился в Пеллу. Теперь в Пелле пируют. До новых битв.
Одного боюсь, учитель: отец завоюет всю землю и ничего не оставит мне».
…Еще через год на собрании представителен всех греческих полисов в Коринфе Филипп Македонский был избран стратегом всех эллинов. Он начал готовиться к персидскому походу, но был убит Павсанием в Эгах, древней столице Македонии. Это была глупая смерть, какая, впрочем, часто подстерегает тиранов и монархов. Филипп погиб от руки своего телохранителя, пал жертвой заговора и мести. Монархом Македонии стал Александр.
Весть о смерти Филиппа донеслась до Афин с быстротою ветра. Демосфен был счастлив тем, что узнал о ней первым. На мгновение он забыл о собственном великом горе — о смерти дочери, которую похоронил несколько дней назад, о траурных одеждах, в которые был облачен все эти дни. Забыл о горе, впервые испытав счастье.
Он сбросил с себя траурные одежды и надел белые, праздничные. Он покрыл свою голову венком — не золотым, который пожалели для него афиняне, а живым венком из ярких цветов. Он выпил кубок вина, чтобы вернуть себе утраченные силы, взял свой лучший посох и вышел из дома на залитую солнцем улицу, щурясь от света и улыбаясь ему. Люди, знавшие о постигшем его несчастье, останавливались в изумлении, видя его в белом гиматии и пышном венке. Он пересек агору и поднялся к зданию нового булевтерия, где заседал Совет Пятисот. Булевты шумели, когда он вошел, обсуждая послание к Филиппу, в котором просили его разрешить афинским купцам торговлю в Эгейском море. Но, увидев Демосфена, вдруг умолкли: никто не ждал его появления, никто не мог догадаться, почему он надел праздничный наряд.
— Вот весть, которая стоит многих, — сказал Демосфен. — Убит Филипп Македонский!
Булевты долго не могли успокоиться. На глазах у многих заблестели слезы. Да и Демосфен, сказав о смерти Филиппа, словно только теперь узнал об этом, не мог сдержать волнения, не мог больше произнести ни слова, видя радость афинян, заплакал сам.
— И вот, — сказал Демосфен, когда шум стих. — Я не сказал об Александре, сыне Филиппа, а вы словно забыли о нем. Александр унаследовал власть и трон отца. Но… — Демосфен поднял руку, словно для того, чтобы указать булевтам выход из внезапно охватившего их уныния. — Но Александр мальчишка! — выкрикнул Демосфен. — Мальчишка и кутила! Мальчишка и объедала! Мальчишка и дурачок! Он не посмеет выбраться из своей Македонии! Мы свободны, афиняне! Мы свободны!
Но это была преждевременная радость.
Едва узнав о речи Демосфена в Совете Пятисот, Аристотель оставил все свои дела, устремился в Пеллу. Он знал: Александр не простит афинянам речь Демосфена.
Но Александра уже не было в Пелле — он повел войска на Афины. Аристотелю с трудом удалось догнать его у Фив.
— Ты куда идешь, Александр? — спросил Аристотель, когда они встретились в походной палатке.
— Под стенами Афин я покажу Демосфену, что я не мальчишка, — не поднимая на учителя глаз, ответил Александр.
— Под стенами? Или за стенами? — спросил Аристотель.
— Под стенами, — ответил Александр. — Но боги видят, — сказал он, сжимая кулаки, — как мне трудно сдержать себя, учитель! Боги видят! И я не знаю, я не знаю, что я сделаю, когда увижу этот город…
— Не забывай о славе Герострата[50], — сказал Аристотель, вставая. — Нет в мире цели, которая бы оправдала разрушение Афин.
— А месть персам за обиду, нанесенную Ксерксом? А единство и могущество Эллады? Я построю новую столицу нового мира, учитель!
— Пустое, — сказал Аристотель. — Прощай.
Но Александр не дал ему уйти. Он схватил учителя за руку, спросил, глядя ему в лицо воспаленными от бессонницы глазами:
— Если я войду в Афины, что сделаешь ты?
— Ты видишь, Александр, что я не очень здоров, — ответил Аристотель. — И годы мои уже не малые. Но вот что я сделаю, если ты войдешь в Афины: я возьму меч и стану рядом с Демосфеном.
— Уходи! — толкнул его Александр. — Уходи, учитель! Мы напрасно встретились. Ты не воин, я не философ. Все решит случай…
…Аристотель вернулся в Стагиру, Александр подошел к стенам Афин. И если ожидание — это дело, то каждый из них был занят только этим.
— Случай — это, быть может, посланец разума, — сказал Александр, когда к нему привели афинских послов, выразивших ему свою покорность и покорность своих сограждан. — Тихе спасла всех: афинян, меня и Аристотеля. Афинян — от моего меча, меня — от суда учителя, учителя — от горького разочарования в своем ученике. Слава Тихе! А Демосфену передайте, — сказал Александр послам, — что рано он снял траурные одежды…
Едва возвратившись в Пеллу, Александр узнал, что взбунтовались фракийцы на севере. Не успел он усмирить северных соседей, как восстали Фивы, поверив слухам, что Фракия стала могилой для молодого македонского монарха. Гарнизон, оставленный в Фивах еще Филиппом, был уничтожен. Боясь расправы, покинул Афины наместник Александра Антипатр. Двенадцать дней понадобилось Александру, чтобы проделать путь из Фракии до Фермопил. Здесь он встретил и разбил авангард фиванцев, затем взял штурмом город, сжег его и разрушил, оставив нетронутым лишь один дом великого поэта Пиндара. Шесть тысяч фиванцев были казнены, тридцать тысяч проданы в рабство. Ужас объял Элладу. Жестокость Александра повергла всех в оцепенение.
«Я призывал тебя, Александр, быть отцом для эллинов, — написал Александру Аристотель. — А что сделал ты?»
«Чтобы отец был добр, — ответил Аристотелю Александр, — дети должны быть послушными».
Глава седьмая
Александру было двадцать два года, когда он во главе тридцати тысяч пехоты и пяти тысяч конницы двинулся на восток. Аристотелю — пятьдесят, когда он возвратился в Афины.
Афины встретили Аристотеля настороженно. И тому имелось объяснение: ведь не кто иной, как он, был учителем Александра. Философы из рощи Академа, наследники Платона, тоже отнеслись к нему холодно. Спевсипп умер. Схолархом Академии стал Ксенократ.
Рад был ему несказанно, казалось, только один человек — Феофраст, который годом раньше приехал в Афины. Он принял самое живое участие в делах Аристотеля и во всеуслышание заявил, что он ученик и друг Великого стагирита. Сначала Аристотель жил в его доме, а позже не без помощи Феофраста купил одно из зданий гимнасия на склоне горы Ликабет, поселился в нем и позвал к себе учеников.
Там было тихо. В тенистых садах пели птицы. Ароматные ветры кружились над портиками и аллеями. Голос суеты почти не проникал в Лике́й, и мир оттуда казался пребывающим в блаженстве. Но иногда, по ночам, Аристотелю чудилось, будто где-то рядом звенят мечи и жутко кричат кони…
Александр не забывал своего учителя. Случалось, что писал ему. Но чаще присылал ему то, что составляло часть его военной добычи. По мнению Аристотеля, часть самую значительную: пергаментные книги и папирусные свитки, образцы минералов и растений, описания ремесел, искусств, животных, составленные персидскими и египетскими учеными, инструменты, лекарства и семена. Лишь однажды — Аристотель скрыл это от своих друзей и врагов — Александр прислал ему деньги. К ним было приложено письмо, которое Аристотель по прочтении уничтожил: «У тебя нет хозяйства и ты не берешь деньги за обучение, — написал ему Александр. — Поэтому я посылаю тебе, как друг, эти таланты, чтобы ты не знал нужды. Прими их. В остальном же просьба моя остается прежней, учитель: исследуй все, что создано старым миром, найди все лучшее, соедини и оставь новому миру».
Это была и его цель. И поставил он ее перед собой прежде, чем сказал о ней Александр. С той поры, как его мысль перебрала по крупицам все, что написали древние и Платон, что говорили живые, что видели глаза, он жил только этой целью: создать свод знаний, неопровержимых и истинных. Он знал, что старому миру пришел конец, и видел, как на крови и пепелищах рождается новый мир. Он боялся, что вместе со старым миром канет в небытие и мудрость этого мира, добытая веками, и надеялся, что новый мир примет ее, обновленную, проверенную и очищенную от шелухи, из его рук.
Он посвящал этой работе дни и ночи. Никогда не просыхали чернила на его мемфисских камышинках[51]. Росла его библиотека. И с каждым годом все больше становилось у него помощников и учеников. Многие пришли к нему, покинув рощу Академа. И сам он, помня о Платоне, обставил свой класс так, как была обставлена экседра Учителя: длинные скамьи для слушателей, стол для лектора, бронзовый шар на высокой подставке и белая доска на стене. Здесь он читал по утрам лекции дли подготовленных, для посвященных в тайны древней и новой мудрости, для тех, кого он сам называл своими учениками. В вечерние часы он выходил в сад к храму Аполлона Ликейского, где на широкой террасе его всегда ждали десятки афинян и чужестранцев. Здесь он преподавал им основы риторики — науки находить наилучшие способы убеждения, столь необходимой для политиков, судей и ораторов. А так как все, к чему стремятся люди, достигается с помощью поступков и речей, то вот еще что такое риторика — наука о достижении целей с помощью речей. И поскольку цели избираются сообразно тому, как скоро и как близко они подводят человека к счастью, то риторика — способ добывания счастья. Все уговаривания и отговаривания касаются счастья… А счастье, как полагают люди, приносит им благородство происхождения, обилие друзей, дружбу с хорошими людьми, богатство, хорошее и обильное потомство, спокойную старость, здоровье, красоту, силу, статность, ловкость, славу, почет, удачу, могущество, безопасность… Что еще? И чем из всего этого владеет он, Аристотель? Может ли он похвастать благородством своего происхождения? Да, пожалуй, поскольку род его ведет начало от Асклепия, бога врачевания. И были в этом роду славные врачеватели: в древние времена — Махао́н, извлекший стрелу из тела Менела́я; в новые времена — Гиппократ[52]. И вот он сам, Аристотель, сын Никомаха, врачевателя Аминты. И хотя он не врачеватель, но тоже достойно продолжает свой род. К тому же, кажется, абде́рит Демокрит сказал, что лекарства врачуют тело, а философия — душу…
Обилие друзей… И здесь он счастлив. Счастлив в учениках своих, среди которых самый любимый — Феофраст.
Дружба с хорошими людьми… Все его друзья — прекрасные люди, и когда онн собираются в классе и он видит их всех, его существо наполняется блаженством.
Не может он похвастаться многочисленным потомством. У него одна дочь. И еще Никанор, племянник, сын Аримнесты, которого он усыновил после смерти сестры. Достоинство женщин — красота, скромность, трудолюбие. Все это есть у дочери Пифиады. Достоинство мужчин — красота, сила, ловкость, скромность и мужество. Все это есть и с годами прибавится у Никанора.
А что с годами прибывает в нем? Старость. Хотя и у нее есть своя красота. Хороша та старость, которая наступает поздно и без страданий. Увы, всем кажется, что старость наступает слишком быстро. А страдания, приносимые его, наступают еще быстрей. Приходят и уходят? Как это сказал Гомер:
Радость даже в страданиях есть, раз они миновали, Для человека, кто много скитался и вытерпел много.Все проходит. Все проходит! Кроме старости… Она наступает. Главная печаль старости — это близость смерти. Но для тех, кто менее всего думает о смерти, много иных печалей. Хорошо тому, кто сделал и сказал главное до наступления старости, потому что старость рассуждает нерешительно. Она злонравна. Она подозрительна по причине своей недоверчивости: старики много знают. Старики малодушны, потому что жизнь смирила их. Они скупы, потому что знают, как трудно приобрести имущество и как легко его потерять. Они трусливы и заранее всего опасаются. Они привязаны к жизни. И чем ближе к последнему дню, тем больше. Они эгоисты более, чем следует. Они более бесстыдны, чем стыдливы. Они не поддаются надеждам. И более живут воспоминаниями, чем надеждой, потому что для них остающаяся часть жизни коротка, прошедшая длинна, а надежда относится к будущему, воспоминание же — к прошедшему. В этом же причина их болтливости: они постоянно говорят о прошедшем, потому что испытывают наслаждение, предаваясь воспоминаниям. В своей жизни более руководствуются расчетом, чем сердцем, потому что расчет имеет в виду полезное, а сердце — добродетель. Они поступают несправедливо вследствие злобы, а не вследствие высокомерия. Они способны к состраданию, но не потому, что любят близких, а по своему бессилию, потому что на все бедствия смотрят так, словно они придут и к ним. Они ворчливы, не бойки и не смешливы. Они угрюмы и неприветливы, эти несчастные старики.
— Что же делать? — воскликнул Эвном, один из слушателей, который часто приходил к храму Аполлона. — Какая мерзость эта старость! И надо ли говорить о ней? Ведь и ты уже не молод, Аристотель! Да и нам, юношам, старости не избежать!
— А с юношами дело обстоит так, — продолжал Аристотель, — юноши склонны к желаниям, и прежде всего к желаниям любви. Впрочем, страсти их переменчивы, скоро загораются и так же скоро гаснут. Они страстны, вспыльчивы и склонны следовать гневу, когда считают себя обиженными. Они любят почет, но еще более любят победу, потому что юность жаждет превосходства. Они не злы, а добродушны, потому что еще не видели многих низостей. Они легковерны, потому что еще не во многом были обмануты. Они исполнены надежд, потому что так разгорячены природой, как развлекающиеся на пиру. Они преимущественно живут надеждой, потому что надежда касается будущего, а воспоминание — прошедшего; у юношей же будущее продолжительно, прошедшее же кратко: в первый день жизни не о чем помнить, надеяться же можно на все. Поэтому их легко обмануть. Они чрезвычайно смелы, потому что пылки и исполнены надежд; первое лишает их страха, второе делает уверенными. Молодые люди стыдливы: они воспитаны исключительно в духе закона и не имеют понятия о других благах. Они великодушны, потому что жизнь еще не унизила их и они не испытали нужды. Они предпочитают прекрасное полезному, потому что живут более сердцем, чем расчетом. Юноши более, чем пожилые, любят друзей, семью и товарищей, потому что находят удовольствие в совместной жизни и ни о чем не судят с точки зрения пользы. Они во всем грешат крайностью и излишеством вопреки Хило́нову изречению: «Ничего сверх меры». Они все делают через меру: чересчур любят и чересчур ненавидят. И во всем остальном так же. Они считают себя всесведущими и утверждают это. Вот причина, почему они все делают через меру. И несправедливости они совершают по своему высокомерию, а не по злобе. Они легко доступны состраданию, потому что считают всех честными и слишком хорошими: они меряют всех ближних своей собственной неиспорченностью. Они любят посмеяться и сказать острое словцо, так как остроумие есть отшлифованное высокомерие.
— Ты рассказал все это затем, чтобы похвалить юность и осудить старость? — спросил Аристотеля все тот же Эвном. — Но ведь и Солон уже сказал, что в первую гебдомаду[53] ребенок меняет зубы, во вторую — наступает зрелость, в третью — возмужание, в четвертую — акме[54], в пятую вступает в брак, в шестую укрепляет разум, а в седьмую и восьмую расцветает ум и речь, в девятую доблесть уступает мудрости, а десятая гебдомада — ожидание смерти. Да и Платон написал об этом в «Законах». Что же своей речью хотел сказать ты?
— Я хотел сказать, Эвном, что у юности так много достоинств и так мало пороков, что никто не станет бороться с нею. К тому же недостатки юности быстро излечивает время. У старости же так много пороков, что было бы лучше, когда бы она и вовсе не наступала. И вот главное, Эвном: кто хочет сразиться со старостью, тот должен знать, чего в ней следует опасаться больше всего. Разум способен исправить природу, Эвном. То, чего человек достигает в лучшие годы зрелости, он может достичь с помощью знаний в юности; а то, чего лишается в старости, может с помощью разума возвратить. Поэтому я говорю: достойная человека старость есть мудрая старость. Приобретать знания, стало быть, никогда не бывает ни слишком рано, ни слишком поздно. И поэтому знания — первое и наилучшее достоинство человека во все годы его жизни…
Вместе со слушателями он был в дальней аллее сада, когда прибежавший раб сообщил ему, что умерла жена. Весть для Аристотеля не была слишком неожиданной — Пифиада давно болела и в последние дни была совсем плоха. И все же он привык видеть ее живой, думать о ней, как о живой. И вот она умерла. Было горько, что самую трудную минуту жизни — уход из жизни — она пережила одна, без него, что он не держал в руках ее холодеющие руки, не остановил взглядом ее ищущий взгляд за миг до угасания…
От мертвых веет холодом. Кто ощутил это, тот знает, что этот холод есть дыхание вечной зимы, которая приближается к нам, унося наших друзей и близких, тот начинает торопиться к завершению главных дел и размышлений. И, сам того не сознавая, торопить других.
Конечно, все открылось ему ценою долгих трудов. И многие годы ушли на это. Но ведь есть разница в том, прорубаешься ты к истине сквозь тернии или находишь ее готовой. Готовой он преподносил ее ученикам, а они, казалось, медлили воспользоваться ею, распространить ее по миру, одарить ею всех, кто нуждался в ней и для кого она была желанна. Он готов был читать лекции с утра до ночи, и не только в классе, не только на аллеях Ликейского сада, но на площадях перед тысячными толпами, перед всей ойкуменой. Еще до смерти раздарить себя, рассеяться, взойти, чтоб не погибнуть однажды вместе со своим богатством, которое философ носит в мыслях.
Так изменил его вдруг этот холод, который он ощутил, стоя у ложа мертвой жены. Он сделал доступной для всех свою библиотеку. По первой просьбе слушателей во время вечерних лекций он начинал говорить о философии, забыв о риторике. И с радостью замечал, что число слушателей с каждым днем прибывало. А однажды он увидел среди слушателей Антипа́тра, наместника македонского монарха в Афинах. Аристотель сам подошел к нему после того, как объявил об окончании беседы.
— Ты здесь впервые, Антипатр, — сказал он ему. — И поэтому я спрашиваю тебя: зачем? И без охраны?
— Охрана здесь. Она следит за мной, но мы ее не видим, Аристотель. Я без охраны не могу и шага ступить в Афинах.
— А Демосфен гуляет в одиночку, Антипатр?
— Да, кажется. Но я с ним не встречаюсь. Теперь скажу, зачем пришел к тебе: я сам хотел убедиться в том, что наш воспитанник[55] не без причины упрекает тебя в забвении некоторых обязательств.
— Ты о чем, Антипатр?
— Ты опубликовал в сделал общедоступной книгу «О природе», о высшем знании, которое предназначено лишь для избранных. Впрочем, передам тебе письмо Александра, если ты навестишь меня, Аристотель. И буду рад побеседовать с тобой в моем доме.
— Значит ли это, что ты мне назначаешь для встречи какой-то день? — спросил Аристотель: его и прежде раздражала некоторая напыщенность речей Аитипатра. — Или я могу сейчас же пойти с тобой?
— Сейчас?
— Мне ничто не мешает.
Они провели в разговорах всю ночь. Говорили о многом: о тайнах рождения и смерти — оба они уже были немолоды, у обоих умерли жены; о людях и о богах, об эллинах и варварах — Александр продолжал войну на Востоке, устремившись к Индии; об афинянах и македонцах, о философах и полководцах. Аристотель рассуждал о военных делах, Антипатр — о философии. Но о чем бы они ни говорили, в их мыслях, если не в словах, все время присутствовал их воспитанник — Александр. И когда уже были, казалось, обсуждены все волновавшие их вопросы, они снова заговорили об Александре.
— Ты, Аристотель, прибавляешь славу Александра к своей. Александр же твою славу — к своей.
— Нет, Антипатр, — возразил Аристотель. — Философия не нуждается ни в каких прибавлениях. И то, что именуется славой, — для философии лишь забава смертных.
— И боги мечтают о славе. Разве только смертные, Аристотель?
— Мы наделили богов своими страстями. Ты думаешь, что Луна хочет стать полной, как Александр хочет стать богом? Луна ничего не хочет, Антипатр.
— Ты не одобряешь то, что варвары воздают Александру божеские почести?
— Это дело варваров, Антипатр. Дело же Александра — позволять или не позволять им делать это. Он позволил.
— Ради высших целей.
— Да, я понимаю.
— Но мы-то знаем, что он не верит в свою божественность, Аристотель. Он близок к богу. Я помню, как он сказал однажды, когда речь зашла о богах: «Бог — общий отец всех людей, но приближает к себе лучших из них».
— Лучших? — засмеялся Аристотель. — Он сказал лучших? Боюсь, Антипатр, что божественные титулы присваивают себе те, кто хочет быть безнаказанным во всех своих делах. «О пайдиос!» — восклицали жрецы храма Аммо́на в Египте, приветствуя Александра. Так передают слова те, кто был там. «О пайдиос — о сын Зевса!» А может быть, жрецы говорили: «О пайдион — о сын мой»?
— О пайдион? О сын мой? Ты так думаешь, Аристотель?
— Так было бы справедливо, Антипатр. И если даже египетские жрецы оговорились, он должен был бы поправить их. Так подобает поступать тем, кто причисляет себя к лучшим.
— Значит, он не только не сын бога, но и не лучший? Я же думаю иначе, Аристотель: совершая великое, он обращает на себя внимание богов. И боги могут одарить его своей славой, своим бессмертием.
— Я согласен, Антнпатр, что славу и бессмертие можно купить кровью врагов. Но можно ли достичь славы и бессмертия, проливая кровь невинных, кровь друзей? Ведь это он убил на пиру Клита, брата своей кормилицы, хотя Клит спас его от смерти при битве на Гра́нике… Все об этом знают. Ведь это он убил…
— Не надо, — попросил Антипатр. — Ты уподобляешься Демосфену…
— Которого вы обвинили в том, чего он не мог совершить, — в растрате денег из казны Гарпала. Где теперь Демосфен, Антипатр?
— На Эги́не. Он в безопасности.
— Опасность подстерегает отныне честных людей всюду, Антипатр.
— Я сожалею, что мы заговорили об этом, — сказал Антипатр. — Ты раздражен, Аристотель. Я-то полагал, что ты прибавляешь славу Александра к своей славе, а из твоих слов получается, что Александр — твоя боль… Там что-то случилось с мальчишкой Гермола́ем, — помолчав, продолжал Антипатр. — Этот Гермолай убил на охоте кабана, в которого целился Александр. Мальчишку наказали, а он взбунтовался, покушался на жизнь Александра. И кажется, не один. Заговорщиков казнили…
— Зачем ты мне об этом рассказываешь? — насторожился Аристотель.
— Гермолай, говорят, был дружен с Каллисфеном, твоим племянником. Говорят, будто на вопрос Гермолая, как стать знаменитым, Каллисфен ответил: «Для этого надо убить самого знаменитого».
— Не мог Каллисфен так сказать. Я знаю его. Надеюсь, Александр разберется и не станет наказывать Каллисфена. Ах, Антипатр, не то меня тревожит, что Александр объявляет себя богом завоеванных народов, а то, Антипатр, что слишком долго длится война. Война ведется ради мира. И если мир не наступил до сих пор, значит, это не та война. Никто не думает о мире. Но когда он все-таки наступит, мы окажемся неспособными управлять этой огромной державой. Она развалится, Антипатр. Рухнет. И может случиться, что под ее обломками погибнет сама Эллада. Александр переступил те границы, которые мы указали ему своими советами. И человеческие границы он переступил, Антипатр…
Возвратившись домой, Аристотель перечитал письмо Александра, которое передал ему Антипатр.
«Александр Аристотелю желает благополучия, — написал Александр. — Ты поступил дурно, обнародовав учение, предназначенное только для слушания в кругу избранных. Чем же мы будем отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько новшеством, сколько знаниями о высших предметах. Прощай».
Не успел Аристотель ответить Александру, как получил известие о смерти племянника Каллисфена. Каллисфена пытали и казнили по приказу Александра в далекой Согдиане. Александр обвинил своего историографа Каллисфена в организации заговора.
Это известие потрясло Аристотеля. И хотя оно дошло до него спустя много месяцев после того, как Каллисфен был уже мертв, он воспринял его так, словно Каллисфена казнили у него на глазах. Да ведь так, в сущности, это и было: не мог Александр, отдавал приказ о казни Каллисфена, не думать об Аристотеле. И значит, он, Аристотель, как бы присутствовал при этом.
— Ради меня не пощадил? Ради меня не пощадил! — Эти слова рождали ужас и ненависть. Он ужасался тем переменам, которые произошли в Александре, упившемся кровью Востока. И ненавидел его, как только можно было ненавидеть ученика, предавшего своего учителя.
А между тем Каллисфен не был виновен в заговоре против Александра. Человек, который через несколько недель навестил Аристотеля, не назвав своего имени, так рассказал об истории гибели Каллисфена.
— Я был на пиру, — сказал человек, — на котором Александр приговорил Каллисфена к смерти. — Этими словами незнакомец остановил Аристотеля, когда тот после утренней беседы возвращался домой. — Если хочешь, я расскажу тебе.
— Да, — не задумываясь, ответил Аристотель. — Свернем на эту тропу.
Они свернули с широкой аллеи на тропинку, которая вела к Илиссу, петляя между густых дроков и можжевельников. Молча прошли несколько шагов. И тут Аристотелю пришло в голову, что он поступает крайне неосмотрительно, углубляясь в чащобу с незнакомым человеком. Он остановился, оглядел незнакомца к спросил:
— Кто ты?
— Я часто встречал тебя в Миезе, — ответил тот, — когда ты направлялся к Нимфеону с мальчиками, среди которых был и мой сын.
— Твой сын? Как его зовут?
— Звали, Аристотель. Он погиб в Персии. Я знал всех мальчиков: Александра, Каллисфена, Гефестиона, Калиппа. Всех, Аристотель. Я был счастлив, Аристотель, что ты обучал вместе с ними и моего сына. Он вырос и был моей радостью. Теперь его нет. Как и многих других, кого увлек с собой Александр в этот бессмысленный поход. Для многих своих друзей нашел он в этом походе смерть, для многих прекрасных юношей. И боги поступят справедливо, если найдут смерть и для него.
— Ты не боишься говорить со мной об этом?
— Нет. Ведь и ты пожелаешь смерти Александру, когда узнаешь, как погиб Каллисфен.
— Ты сказал, что Александр приговорил его к смерти на пиру?
— Да, — ответил незнакомец. — Это был пир в честь женитьбы Александра на прекрасной Рокса́не, дочери согдианского князя Оксиа́рта.
— Разве смертные приговоры выносятся теперь на свадебных пирах? — спросил Аристотель, прислоняясь к стволу дерева.
— Ведь и Филипп бросался с мечом на Александра на свадебном пиру, — ответил незнакомец. — Вспомни, как это было в Пелле десять лет назад.
— Я не был на том пиру, — сказал Аристотель, все более проникаясь доверием к незнакомцу. — Но расскажи мне об этом пире.
— Философ Анакса́рх произнес речь. Он говорил первым после возлияния богам. Он сказал, что истинный бог македонцев, мидян и персов — Александр. Он призывал всех пасть ниц перед Александром, чтобы воздать тому, по восточному обычаю, божескую почесть. Это была речь льстеца, Аристотель, чье раболепство перед Александром перешло все границы… Ты помнишь Анаксарха, Аристотель? Анаксарха из Абде́р…
— Продолжай, — попросил Аристотель, вздохнув.
— Персы и мидяне аплодировали Анаксарху, Аристотель, Тогда поднял свой кубок Каллисфен и сказал, что философ Анаксарх хочет отнять у македонцев друга и полководца, заманив его в компанию персидских и согдианских богов.
— Хорошо, — улыбнулся Аристотель. — Не очень изящно выразился Каллисфен, но верно по существу.
— Эллины и македонцы тоже высоко оценили его слова: они аплодировали ему.
— И что же? Что же сам Александр?
— Он промолчал, но на прощанье не поцеловал Каллисфена. Ты, наверное, слышал, что Александр всякий раз целует своих друзей, расставаясь с ними. Не целует тех, на кого обижен.
— Да, мне рассказывали. И это был смертный приговор для Каллисфена?
— Каллисфен, конечно, думал иначе. Тем, кто стал опасаться за его жизнь, он ответил, смеясь: «Я ничего не потерял, кроме поцелуя». А между тем он потерял жизнь.
— Как это случилось?
— Не сразу, Аристотель. Сначала друг Каллисфена Гермолай убил на охоте кабана, который предназначался для копья Александра. Затем Александр приказал высечь розгами Гермолая и отнять у него коня. Затем Гермолай вместе со своими друзьями решил убить Александра: унижение, которому подверг его Александр, было для Гермолая непереносимым. Но Александр узнал о намерениях Гермолая прежде, чем тот успел осуществить их. Гермолай и его товарищи были казнены. И тогда Александр вспомнил о речи Каллисфена на свадебном пиру, о том, что Каллисфен помешал ему стать богом персов и мидян. Он вспомнил об этом и обвинил Каллисфена в том, что тот подстрекал Гермолая поднять меч на него, Александра…
— Его пытали? — спросил Аристотель.
— Да.
— И многие знали, что он не виновен?
— Многие.
— И не могли защитить?
— От гнева Александра никого невозможно защитить.
— А юный Гермолай рискнул защищать свою честь.
— Ты знаешь, чем это кончилось, Аристотель. Смерть, смерть и смерть сеет вокруг себя Александр. И если он бог, то бог смерти…
В какой мере учитель отвечает за своего ученика, философ — за царя? В какой мере ответственны люди за то, что они совершают? Кто судья им? И если бы все дурное, совершившееся в прошлом, не было совершено и все зло было наказано и всюду торжествовал разум — неужели кому-то было бы плохо на земле? И на небе?
«Если он бог, то бог смерти», — сказал македонец. И еще он сказал: «Пошли ему яд, Аристотель. Останови эту смерть и эту кровь».
Ладно, что было в прошлом, то было. Прошлые беды забыты. Но как остановить будущее? Македонец сказал: «Он еще помнит о тебе. И примет яд, посланный тобой. Конечно, он не должен знать, что это яд. Может быть, лекарство от лихорадки… Там нас всех мучает лихорадка».
— Я поеду к нему, Феофраст, — сказал Аристотель. — Я посмотрю на этого человека, который забыл все человеческое и стал богом. Богом смерти… Я хочу понять, почему истины мира, составляющие его сущность, не становятся сущностью человека… Почему, добытые одним человеком ценою всей его жизни, они не приживаются в другом человеке, которому достаются даром. Или это не истины, или это не человек… Но кто же тогда, кто, Феофраст? Разве среди людей есть существа другого рода? Как же они втерлись в род человеческий? Я очень хочу понять это, Феофраст.
— Он человек, Аристотель, — ответил Феофраст. — Но он пролил слишком много человеческой крови.
— И что же, Феофраст? Это изменило в нем человеческую природу?
— Я думаю, что так. И ему уже нельзя остановиться. Ты сам сказал, Аристотель: кто слишком долго воюет, либо погибает на войне, либо погибает, прекратив войну, потому что теряет свой закал, подобно стали. И значит, вот судьба Александра — сеять смерть и погибнуть самому.
— И все же мне не жаль его, Феофраст.
— Но ты не можешь послать ему яд?
— У философов, Феофраст, против всякого зла лишь одно оружие: истина, — сказал Аристотель. — Только одно оружие. Но мне порою кажется, что оно бессильно.
— Чтобы оружие было сильным, Аристотель, оно должно принадлежать не одному человеку, не двум, не трем, а целой армии. Ты это знаешь лучше меня. Хотя и одна прямая линия указывает на кривизну тысяч других…
Македонец, остановивший Аристотеля в роще, рассказав о смерти Каллисфена, приходил еще дважды, но Аристотель не принял его. И потому, что не хотел с ним больше говорить, и потому, что был болен. Эта болезнь прервала его подготовку к поездке в Вавилон, долго продержала в постели, настолько долго, что изменились его желания и его планы. Ему показалось, что жизнь его подходят к концу. Сначала он сказал об этом только Феофрасту, который ни на один день не расставался с ним, сидел, словно нянька, у его постели, будто бы у него и не было других забот, кроме этой — сидеть у постели Аристотеля, слушать его и подбадривать всякий раз, когда Аристотель падал духом от слишком затянувшейся болезни, от слишком долгого лежания, от постоянных болей, от тоски, которая наваливается на человека, когда его покидают надежды.
Феофраст составил каталог всех книг, написанных Аристотелем, и однажды стал читать его больному:
— «О справедливости» — четыре книги, «О поэтах» — три книги, «О государственном деятеле» — две книги, «О риторике», «Нери́нф», «Софи́ст», «Менексе́н», «О любви», «Пир», «О богатстве», «Поощрение», «О душе», «О наслаждении», «О царской власти», «О воспитании», «О благе» — три книги, «О дружбе», «О науках», «О спорных вопросах» — две книги, «Записки об умозаключениях» — три книги, «Этика» — пять книг, «Первая аналитика» — восемь книг, «Большая вторая аналитика» — две книги, «О природе» — три книги, «Врачевание» — две книги, «Государственные устройства ста пятидесяти восьми городов»… — Феофраст — дочитал весь список до конца, сказал: — Вот сколько написано тобою книг. Ты создал великое, Аристотель.
— Конечно, Феофраст, я знаю, что сделано много. Ты говоришь, что я создал великое. Я же знаю, что создал нечто важное. Но какие смутные времена впереди! Все может погибнуть: люди, которых я научил, книги, которые я написал. Все. И потому, Феофраст, пережив меня, никогда не забывай мою просьбу: оберегай моих учеников от бед, оберегай мои книги от огня. И всем внушай: философы должны заботиться друг о друге. И Платон нас к этому призывал. Только философы знают цену друг другу. И еще: несмотря на все неудачи, которые потерпели все прежние философы, старавшиеся переделать мир к лучшему, сделать его надежным и добрым, несмотря на неудачи Платона и на мои неудачи, все будущие философы обязаны продолжать эту борьбу, Феофраст. Потому что, кроме философов, никто не видит ни истинных путей справедливой жизни, ни самой справедливости.
Герпиллида была еще красива. И оттого, что она появилась в доме Аристотеля весной, ему казалось, что она — порождение весны, сама весна, ее зелень, ее чистые дожди, ее белые облака, теплые ветры, ясные ночи. Она принесла в дом первые цветы, первой открыла окна, первой обратила внимание Аристотеля на то, что за окном поют птицы. Вместе с Герпиллидой к Аристотелю возвратилась память о днях столь далеких и столь дивных, что он удивился, спрашивая себя: «Неужели все это было со мной?»
Он вспомнил, как стоял с юной Герпиллидой и Феофрастом у Парфенона, как он говорил ей о центре мира, думая о себе; о разуме мира, думая о себе; о вечности мира, думая о себе… Но таковы были образы, населявшие его юный ум, такова была уверенность в своих силах, в своей исключительной значимости для судеб Вселенной и Земли.
Он не узнал Герпиллиду, когда она появилась в его доме среди других женщин. И наверное, не узнал бы, если бы ему но сказал о ней Феофраст.
— Как идут наши дела? — спросил он в тот день Феофраста. — Ведешь ли ты занятия с моими учениками, Феофраст?
— Да, Аристотель. Все идет так, словно ты с нами.
— Ты хочешь сказать, что вы прекрасно обходитесь без меня, Феофраст, — усмехнулся Аристотель, сознавая, однако, что говорит так, сам того, быть может, не желая, что не он это говорит, а его старость. — Впрочем, прости меня, Феофраст. Не ты это сказал, а я… У меня такое ощущение, словно я очень долго провел в беспамятстве. Так ли это?
— Как ты запомнил вчерашний день? — спросил Феофраст.
— Приходила какая-то молодая женщина и поила меня горьким настоем… Да, да. Очень горьким настоем, какого я раньше не пил… Это было вчера?
— Нет, Аристотель, Это было не вчера. С той поры прошло уже семнадцать дней. Горьким настоем поила тебя Герпиллида.
— Герпиллида? — переспросил Аристотель. — Какая Герпиллида, Феофраст?
— Она сказала, что ты знаешь ее, Аристотель.
— Позови ее, — попросил Аристотель. — Я, кажется, знал некогда одну Герпиллиду…
Она вошла, улыбаясь, с букетом весенних цветов. Присела у ложа, положила цветы Аристотелю на грудь. Он долго смотрел на нее молча, осторожно нюхал цветы, потом сказал:
— Я вспомнил, кто ты. Теперь я вспомнил тебя, Герпиллида.
— А я о тебе, Аристотель, не забывала никогда, — сказала она.
— Ты еще побудешь здесь, в моем доме? — спросил он.
— Я буду здесь столько, сколько ты захочешь.
Через несколько дней он сказал ей:
— Останься навсегда.
Она заплакала, закрыв лицо руками. Он ни о чем не спрашивал ее, пока она не успокоилась. А когда она перестала плакать и вытерла глаза, спросил:
— Ты о чем плакала?
— О том, что без тебя я, быть может, прожила больше, чем проживу с тобой.
— Жаль, что ты не сказала об этом мне сразу: я поплакал бы вместе с тобой, Герпиллида, — сказал Аристотель.
Они поднялись к Парфенону, как в тот день.
— Скажи мне то, что ты говорил тогда, — попросила Герпиллида.
— Если бы я помнил, я бы сказал. Впрочем, я, пожалуй, помню, о чем я говорил. Но я не смогу сказать так, как говорил тогда. Да и надо ли, Герпиллида? Мы стали иными людьми. И меня уже менее всего волнует отблеск солнца на золотом наконечнике копья Афины Промахос… Менее всего, Герпиллида, меня теперь волнует то, что создано людьми, потому что и самое надежное из созданного ими — пройдет. Моя мысль забредает во все более далекие дали, где нет и следов человека. Туда, где обитает сама истина. И вот почему, Герпиллида: если время разрушит все, если люди разрушат все, что создано их руками, ничего не возродится без знаний. Или понадобятся тысячелетия, чтобы дикарь вновь стал человеком… Надо делать сейчас главное: извлекать истину из ее далеких далей. Извлекать и высевать щедро на всей земле. Это единственное, что взойдет из-под камней и пепла развалин, главный хлеб человечества…
— Разве сейчас на земле так худо, Аристотель? — спросила Герпиллида. — Посмотри: такая тишина, такая чистота, такая благодать — прекрасный город под нами, а за ним поля, сады. И люди спокойны, они трудятся. Не пылают пожарища, не звенят мечи… О чем ты говоришь, Аристотель? О каких развалинах и пепелищах? Мы из крови и плоти, мы горячи и подвижны, мы обладаем волей, мы рождаем себе подобных, мы создаем вещи, мы создаем вот это, — Герпиллида повела перед собой рукой. — Мы создали достойное великой души и великого ума. Душа и ум приведут нас к истинам, которые уравняют нас с бессмертным и совершенным…
— Только это, — сказал Аристотель, — только это последнее — правда. Все же прочие слова, сказанные мною тогда и повторенные тобою теперь, Герпиллида, — поэзия…
Солнце клонилось к закату. Люди покидали Акрополь. Близилась ночь — ночь пиров, игр, веселых и страшных снов, любовных песен, рождений и смертей, надежд и отчаяния. Все боги бесчинствуют ночью в Афинах, и люди торопятся под крыши, которые их не защищают.
— Пойдем и мы, — сказал Аристотель. — Мы сделали то, что хотели, Герпиллида: начали новый круг нашей жизни. И я рад этому.
— Скажи еще что-нибудь, — попросила счастливая Герпиллида. — Еще хоть что-нибудь…
— Ну, пожалуйста, — улыбнулся Аристотель. — Если тебе так хочется…
— А тебе?
— И мне, конечно. Это большое счастье… — Он запнулся: показалось, что сказал не так, как надо, слишком много. — Да, да! Это большое счастье. Большое! Я это чувствую. — Он обрадовался, что преодолел свой скепсис, свою скованность. — Конечно же, милая Герпиллида, я счастлив. Этот новый круг не возвратит нам молодость, но мы увидим, что она не так далеко убежала от нас, наша молодость… Мы, пожалуй, еще погреемся у се костра, который ведь никогда не угасает в нашей памяти. Я чувствую, какой молодой и упругий ветер овевает нас, сколько в нем свежей и чистой влаги, как жадно дышит этой влагой, этим ветром трава… Даже старая олива Афины у Эрехтейона полна, мне кажется, упругих сил. У нее гибкие ветви и полные живого серебра листья, Герпиллида. Спасибо, что ты привела меня сюда, И хотя, наверное, не здесь центр мира, как мне думалось прежде, все же здесь, в Акрополе, среди чудесных созданий Иктина, Калликрата и Фидия возрождается к прекрасным чувствованиям человек. Это так, Герпиллида.
Он жил этим простым счастьем. Любил Герпиллиду и постоянно думал о ней. И хотя знал, что стар для этой жизни и для этих чувств, не мог ни увести себя от них, ни отказаться от них, ни забыть о них хотя бы на миг. И здоровье, казалось, возвратилось к нему. Он стал подвижен и деятелен, не уставал ни говорить, ни думать, ни писать. И если переставал делать что-то, то только затем, чтобы взяться за другое дело. И хотя его временами посещала грусть, она была краткой. Он мял в пальцах сочные листья — и вдруг начиная грустить. Останавливался перед цветущим лугом — и тоже грустил. Слушал птиц — и грустил. Этот молодой мир все же не был его миром. Он помнил об этом. Знал, что близится час прощания с этим миром. И тогда он резко отворачивался от цветов, от птиц, от буйной весенней зелени и торопился к Герпиллиде. В глазах ее он находил любовь — и это означало, что вопреки всему у него есть прочная и живая связь с весной. Хотя бы с этой весной, с последней…
Сначала пришла весть о смерти Гефестиона, ближайшего друга Александра. Рассказывали, что горе Александра не знало границ: он велел казнить Главка, врача Гефестиона, перебил мидийское племя коссеев, запретил играть на музыкальных инструментах, приказал, по персидскому обычаю, остричь гривы у всех лошадей и мулов, снять зубцы у крепостных стен ближайших городов, потратил на похороны десять тысяч талантов, три дня лежал без пищи у тела Гефестиона, а потом сам поднял его на вершину пирамиды, сложенной из тысяч бревен и политой благовониями, и сам поднес к пирамиде горящий факел. Костер пылал несколько дней и ночей, и все это время Александр стоял у костра…
А потом пришла весть о смерти Александра, властелина мира, сына Зевса-Амона, царя Македонии, сына Филиппа и Олимпиады, ученика Аристотеля…
Аристотеля какое-то время оберегали от этой вести, хотя он слышал, как его ученики и родные не раз шепотом произносили слова: «Он умер. Он умер».
— Кто умер? — спросил он Феофраста на следующий день. — Мне даже ночью слышалось, как все шепчут вокруг: «Он умер, он умер». Уж не я ли умер?
— Не ты, — ответил Феофраст. — В Вавилоне умер Александр.
— Что происходит в Афинах? — спросил, помолчав, Аристотель.
— Глашатаи созывают народ на собрание. В Пирей потянулись повозки с беглецами. Афиняне требуют возвращения Демосфена. Леосфен[56] собирает войско против Антипатра. Все говорят об одном: македонскому владычеству пришел конец.
— Ты, кажется, радуешься, Феофраст?
— Весь народ ликует, Аристотель. Афины снова свободны.
— Свобода — великое благо, Феофраст. Но всякая свобода должна быть обеспечена. Вот и бродячие псы свободны, но всякий пинает их при встрече.
— Ты жалеешь о случившемся, Аристотель? — удивился Феофраст. — Но ведь ты сам так ненавидел Александра за смерть Каллисфена. Ведь это Александр обещал отомстить тебе за то, что ты порекомендовал ему Каллисфена….
— Отомстить?
— Да, Аристотель. От тебя скрыли, но он писал в письмах своим друзьям, что накажет тебя за Каллисфена. Он послал Ксенократу пятьдесят талантов, чтобы досадить тебе. Он считал, что ты в дружбе с заговорщиками…
— Значит, мне нечего опасаться, Феофраст? Значит, афиняне не станут преследовать меня за старую любовь к Александру?
— А ты любил его, Аристотель?
— Да, Феофраст. И не радоваться я должен, а скорбеть. А ты иди, Феофраст, и вместе со всеми наслаждайся свободой. Мне же, думаю, пора собираться в дорогу…
— О чем ты, учитель? О какой дороге ты говоришь?
— Скоро ты сам все узнаешь, Феофраст.
Никто не приходил в эти дни на занятия. Пустовали классы и библиотека, стало безлюдно на ликейских аллеях. Грустно было видеть это. И сознавать, что все забыли о тебе, что всех захватили водовороты иных мыслей, иных речей. Голоса народных ораторов не умолкали на афинских площадях и стадионах. Ораторы говорили днем, при солнце, и ночью, при свете факелов. Каждый день заседал Совет, забыв о праздниках, о днях поминания усопших, кочуя из булевтерия в Элевси́ний, из Элевсиния — в храм Тесе́я, из храма Тесея — на Панафине́йский стадион, со стадиона — на Акрополь, с Акрополя — в Пирей.
Прибавилось работы не только у пританов, ежедневно собиравших Совет Пятисот, но и у судей, у жрецов, у коллегии одиннадцати, в чьем ведении находились узники и палачи.
Афины забыли об отдыхе и сне. А здесь, в роще Аполлона Ликейского, царила удручающая тишина.
— Все покинули меня, — сказал Аристотель Герпиллиде. — Даже Феофраст. Это беда, Герпиллида. Но и благо тоже…
— Какое же в этом благо, Аристотель? — удивилась Герпиллида. — Ты целыми днями бродишь один по роще, сидишь в библиотеке, но не пишешь и не читаешь. Я вижу, как ты мучаешься. Но я не знаю, чем тебе помочь…
— Благодарю тебя, Герпиллида. Ты сделала больше, чем могла: ты возвратила меня к жизни, ты была и есть моя опора, мое убежище от всяких невзгод. Твое присутствие делает меня спокойным и уверенным. И мы еще долго будем жить счастливо, хотя надо помнить, что не от счастья к счастью ведет нас жизнь… Долго живут мужественные… Благо же нынешнего положения в том, Герпиллида, что никто не мешает мне проститься со всем, что мне придется оставить здесь. Впрочем, мое прощание, кажется, слишком затянулось. Собирайся и ты, Герпиллида. И скажи детям, что мы намерены покинуть Афины. Пусть и они готовятся в дорогу. Я уже послал домоуправителя в Пирей, чтобы он нанял корабль. Мы отправимся на Эвбею. Верю, что не навсегда…
— Ты не возьмешь библиотеку?
— Я оставлю все Феофрасту.
— Ты не станешь продавать дом?
— Нет, Герпиллида.
— Ты не возьмешь с собой учеников?
— Их нет, — с грустью сказал Аристотель. — Они предпочитают слушать ораторов на агоре…
— Ты торопишься, Аристотель, Говорят, что Антипатр идет с войском из Фессалии…
— Навстречу ему спешит Леосфен… И пока полководцы будут решать судьбу Афин, мою судьбу могут решить сами афиняне. Я понимаю афинян, Герпиллида: они хотят очиститься от всего, что связано с именем ненавистного им македонца. Они изгоняют, они казнят, они разрушают и предают забвению все, что напоминает об Александре. Они не оставят в покое и меня, Герпиллида: воздух свободы опьяняет…
Феофраст разбудил его среди ночи.
— Ты был прав, учитель, — сказал он. — Через два дня басилевс рассмотрит дело о нечестии Аристотеля. Он лишит тебя покровительства законов, а это означает только одно, Аристотель: смерть.
— Каким же образом, Феофраст, меня обвинят в нечестии?
— Ты знаешь, что это лишь повод, Аристотель. Кто-то вспомнил, что ты написал пеан[57] в честь Гермия, атарнейского тирана, и тем самым оскорбил Аполлона, уравняв в славе Гермия и бога.
— Какой ничтожный повод, — горько усмехнулся Аристотель. — Я совершил большее преступление; великое преступление: я отверг всех богов, кроме одного, которого назвал разумом; я воспитал человека, в сравнении с которым все афинские боги — ничто, я сам открыл такие истины Вселенной, которые не были доступны ни Афине, ни Аполлону, ни Зевсу — никому из бессмертных. И если бы меня, Феофраст, судили за это, я принял бы смерть. Но афиняне хотят не только убить меня, но и унизить перед смертью, как это сделали с Сократом, с Фидием и сотнями других… Они хотят судить не за то, за что ненавидят. Ибо то, что они ненавидят, достойно славы, а не смерти, почитания, а не зависти. Я не дам им во второй раз совершить преступление против философии…
В Пирей они добрались на рассвете. Повозку их сопровождал Феофраст, ехавший верхом на лошади. Сначала Аристотель удивлялся тому, как много повозок и верховых спешат в этот предрассветный час в Пирей.
— Неужели эти люди, как и я, бегут из Афин? — спросил он Феофраста.
— Нет, учитель, — ответил Феофраст. — Все другие торопятся в Пирей встречать Демосфена.
— Так он возвращается!
— Да. За ним был послан корабль, И вот он возвращается.
— А как же с долгом в пятьдесят талантов? Ведь к уплате этой суммы за пропажу денег Гарпала его присудили афиняне, а не Александр[58].
— Ты забыл, что афиняне же помогли тогда ему бежать из тюрьмы на Эгину.
— Теперь они везут его домой, чтобы объявить героем? О, переменчивая любовь афинян!
Триера, на которой был доставлен в Пирей Демосфен, вошла в гавань, когда Аристотель, Герпиллида, Пифиада и Никанор были уже на судне, отправлявшемся на Эвбею. Еще не был поднят трап, еще не сошел на берег Феофраст, когда пристань огласилась криками ликующей толпы, — триера Демосфена коснулась бортом причала. Аристотель перешел на корму, откуда лучше была видна триера и пристань. Оперся одной рукой о плечо подошедшего Феофраста. Сказал, волнуясь:
— Я никогда не видел, чтобы так радостно встречали оратора, Феофраст. И никогда не испытывал такого счастья, какое, наверное, испытывает сейчас Демосфен. Я думаю, что это лучший его день…
Едва с триеры был спущен трап, как десятки юношей бросились по нему на корабль. Они подхватили на руки Демосфена и бережно, как драгоценный сосуд, понесли на берег, где его уже ждали сотни, тысячи других рук. По ним, как бог по облакам, Демосфен двинулся к Гипподамию, главной площади Пирея, которая, как и пристань, была заполнена народом. Голоса людей слились в один несмолкаемый гул. Казалось, что огромный хор начал песню и остановился на одном высоком и прекрасном звуке.
— Мы с Демосфеном ровесники, — сказал Феофрасту Аристотель. — Я вижу его славный триумф, а он не видит моего бесславного бегства.
Толпа, словно вода от берега, отхлынула от пристани и потекла вверх, к Гипподамию, за своим славным пловцом.
— Вот прекрасный ответ на вопрос, Феофраст, кто важнее для народа: тот ли, кто дарует ему истину, или тот, кто приносит свободу. Но когда-нибудь истина и свобода сольются в одно. И это одно будет называться истинной свободой, Феофраст.
— Прощайтесь, — сказал Аристотелю и Феофрасту кормчий. — Мы отплываем. Дует попутный ветер, нам пора…
— Что будет, учитель? — спросил Феофраст, обнимая Аристотеля. — Что теперь будет? Ты вернешься? — Феофраст заплакал.
— Не знаю, — ответил Аристотель. — Береги библиотеку. Береги себя. Береги друзей. А что будет со мной, не знаю. Я позавидовал сегодня Демосфену. Но может быть, и Демосфен позавидует мне. Когда-нибудь. Прощай, мой друг Феофраст!
— Прощай, мой учитель!
…Никто из них не узнал о смерти другого. Они умерли почти одновременно, через год после встречи в Пирее, в месяце боэдромио́н, когда на землю Эллады вместе с листьями падают тяжелые туманы. Оба они умерли вдали от Афин, на островах: Аристотель — на Эвбее, Демосфен — на Кала́врии. Аристотель умер от яда, который накопила в нем болезнь. Демосфен — от яда, который он приберег для себя сам в тростниковом пере. Умирая, ни Аристотель, ни Демосфен, кажется, не вспомнили друг о друге. Но каждый думал об Афинах — о своей первой и последней любви. Демосфен умер в храме Посейдона, осажденный македонцами. Аристотель — в материнском доме, забытый друзьями.
…Герпиллида, прибежав на крик сиделки, нашла Аристотеля сидящим в постели. Он был смертельно бледен, но глаза его горели. Он пытался освободить запутавшиеся в покрывалах ноги, чтобы сойти с кровати.
— Куда ты? Куда ты? — обхватила его за плечи Герпиллида. — Тебе нельзя, Аристотель!
— Я хочу сказать… Мне надо кому-нибудь сказать, — шептал он, мало понимая ее. — Мне надо сказать…
— Что? Скажи мне. Что ты хочешь сказать? Аристотель! Что ты хочешь сказать?
Он упал на подушку и закрыл глаза. Но тут же снова открыл их, приподнял голову и сказал внятно и громко, словно и не был болен, словно перед ним стояла не одна убитая горем Герпиллида, а его ученики.
— Надо думать не о боге, — сказал он. — Надо думать о человеке. Нужно просвещать не монархов, а народ… Пусть кто-нибудь запишет эти слова! — закричал он. — Пусть кто-нибудь запишет эти слова!..
И пока Герпиллида металась но комнате в поисках пера и папируса, Аристотель умер. Увидев его мертвым, она потеряла сознание и едва не умерла сама. А когда ее привели в чувство, она не могла вспомнить, о чем просил ее Аристотель, и только горько плакала.
Аристотель и Демосфен умерли в печали, полагая, что мир опустеет без них. Мир и сейчас ощущает эту пустоту.
Послесловие доктора исторических наук А. И. Немировского
Аристотель принадлежит к числу тех великих людей прошлого, о которых исключительно трудно писать, в особенности для читателя, еще не определившего свою профессию и круг интересов, Когда читаешь сочинения Аристотеля, почти не ощущаешь человека, молодого или старого, красивого или некрасивого, не видишь цвета его волос, блеска глаз, не слышишь голоса, звонкого или глуховатого. Необыкновенная судьба Аристотеля развертывается в его сочинениях, раскрывающих его неутомимую любознательность, оригинальность ума, задор полемиста и даже жадную торопливость, не поспевавшую дать блестящим мыслям отчетливую форму.
Биография Аристотеля — это биография самой Науки, причем не только его современницы, а едва ли не Науки всех предшествующих времен. Ибо Аристотель просеял в своем сознании все, что было создано до него в геометрии, физике, биологии, истории и доброй дюжине других наук, для многих из которых он сам заложил научное основание. Одним словом, Аристотель — это целый мир знаний, и для того, чтобы его постигнуть, мало одной жизни.
Талантливая книга, которую вы прочли, ставит перед собой скромную задачу приоткрыть дверь в этот сложный и интересный мир, показать, какие за нею скрываются богатства и чудеса, и предложить вам: войдите в него. Но чтобы этот мир стал ближе и понятнее, я хочу дополнить образный рассказ романиста послесловием историка.
Аристотель жил в одну из самых сложных и трагических эпох эллинской истории. В бесконечных междоусобных войнах Эллада опустошала сама себя. Война велась не только между отдельными городами-государствами, но и внутри государств между отдельными группировками господствующего класса, между богатыми и бедными. Философия не оставалась в стороне от этой борьбы. Недаром восстановленная в Афинах демократия увидела в Сократе провозвестника враждебных ей взглядов и приговорила философа к смерти.
Одни из героев этой книги, Платон, был учеником Сократа и в своих многочисленных сочинениях не только защищал память учителя, но и высказывал свои взгляды как бы устами Сократа. Сократ становится участником сценок (диалогов), где он в споре со своими противниками или в беседах с людьми, безразличными к истине, доказывал свою правоту и развертывал учение самого Платона.
Споры, участником которых Платон делал Сократа и современников, зачастую были вымышленными, но за ними стояли противоречия, из которых эллинское общество времен Платона не могло найти выхода. Платону казалось, что он знает этот выход, — он предложил создать такое государство, в котором не было бы погони за властью и богатством, борьбы между богатыми и бедными. В этом справедливом государстве власть должна принадлежать мудрецам, не обладающим семьей и собственностью, ибо семья и собственность, по мнению Платона, были источниками раздоров в государстве. Не должен был иметь семьи и собственности и класс воинов, людей, охраняющих государство. Собственность и семью Платон сохранял лишь низшему классу, — людям, добывающим пищу и производящим блага. Они должны работать, не вмешиваясь ни в управление государством, ни в его защиту от врагов.
Это учение о государстве было враждебно существовавшей демократии, и Платон, как вы знаете из книги, неоднократно отправлялся в Сицилию, чтобы убедить ее правителей-тиранов устроить «справедливое государство». Но не все ученики Платона слепо шли за своим учителем. К их числу относился Аристотель, пришедший в Афины с севера, из маленького городка Стагиры, расположенного неподалеку от столицы Македонии Пеллы.
Отношения учителя и ученика не только не исключают, но и предполагают противоборство. Подобно тому как цыпленок не может выйти на свет, не разрушив материнскую скорлупу, так же и ученый не может добиться успеха, если он будет повторять выводы учителя, не делая шага вперед.
Скорлупой, разрушенной Аристотелем, была Академия Платона. Он создал свою собственную школу — Ликей и свое учение о государстве. С беспощадностью ученого Аристотель показал, что проект создания «справедливого государства» Платона неосуществим, ибо такие учреждения, как семья и частная собственность, против которых выступал Платон, являются основой любого государства, могущего быть созданным при тех условиях, когда существует рабский груд. Рабство является основой всего, считал Аристотель, и пророчески замечал, что конец рабству наступит тогда, когда ткацкие челноки научатся ткать, а музыкальные инструменты играть без помощи рук. Пока же этого нет, незачем возлагать обязанности рабов на свободных бедняков, как этого добивается Платон.
Пытаясь объяснить природу мира и наших знаний о нем, Платон исходил из того, что видимый нами мир, состоящий из вещей и тел, занимает лишь второстепенное место по отношению к другому, невидимому, но совершенному миру, где эти вещи и тела существуют в виде образов, или, как их называл Платон, идей. Ведь образ, идея стола, убеждал Платон, возникает до того, как плотник возьмется за работу и сколотит стол, причем этот стол будет неизмеримо более грубым и топорным, чем тот, который он мог бы создать, если бы перед его глазами был стол мира идей. Но все-таки откуда плотник вообще узнал о столе, если он не был в мире идей? В мире идей, отвечает Платон на вопрос поставленный им самим, была душа плотника задолго до того, как она вселилась в данного человека. Краешком своей памяти душа донесла идею стола и дала приказ рукам: делай. Идеи, учил Платон, вечны, так же как вечны души, а вещи и тела — смертны. Человек должен заботиться о вечном, неподвластном времени, а не о материальном, сиюминутном.
Таково учение Платона, близко смыкавшееся с религией. Его называют идеализмом. Против такого учения первым начал борьбу ученик Платона Аристотель, а вслед за ним многие передовые ученые, сторонники материализма.
Аристотель считал, что нет никакого мира идей, существующего отдельно от мира вещей, и что, вводя само понятие «идеи», Платон не только вводил в заблуждение учеников, но и закрывал для самого себя правильное понимание мира и природы знаний о нем. Идеи не существуют, как не существуют отдельно от вещей цифры, с помощью которых мы ведем подсчет вещей. Нигде нет вечных и неизменных идей стола, как нет и «пятерок», «троек», «десяток», «уравнений», «корней» вне предметов, которыми мы оперируем. Эту изложенную нами в общей форме критику Аристотелем идеализма В. И. Ленин считал превосходной, отчетливой, ясной.
В то время когда в Академии шли споры о лучших государствах, идеях и материи, над Афинами и другими греческими городами-государствами сгустились тучи. Возвысилось северное государство Македония. Пользуясь разобщенностью греков, парь Филипп стал угрожать греческим городам своей властью.
Греки по-разному относились к Филиппу. Одни видели в нем грубого и жестокого варвара, врага демократии, безжалостного душителя свободы. Другие, напротив, — спасителя Греции, сумевшего дать Элладе единство, человека, могущего разрешить с помощью завоеваний на Востоке социальные противоречия.
Аристотелю не приходилось делать выбора — «с Филиппом» или «против Филиппа», поскольку он был связан с Македонией своим происхождением и биографией. Филипп мечтал овладеть Грецией и шел к этой цели с исключительным упорством, применяя, где это было нужно, коварство и обман. Аристотель в те же годы шел к высотам знания. И когда греческие города-государства признали верховенство Македонии, греческие ученые склонились перед мощью таланта Аристотеля, признав в нем своего главу. В 338 г. до н. э. Филипп подчинил Грецию своей власти. К этому времени Платона уже не было в живых, а Аристотель стоял во главе Ликея.
Ученик Платона, друг Филиппа, Аристотель был также учителем Александра, самого талантливого полководца древности. Нет, Аристотель обучал юного македонца не военной науке — в этом ему учителем был отец, Филипп. Военная наука была единственной из наук, в которой Аристотель ничего не смыслил. Аристотель старался показать юному македонцу преимущества эллинского образования и эллинского образа мыслей и, кажется, в этом преуспел. Александр полюбил поэзию, знал наизусть стихи Гомера. Во время войны с восставшими против него эллинами он пощадил Афины — светоч искусства и образованности. Это можно было считать победой Аристотеля, если бы вскоре не последовали события, показавшие всю глубину расхождения между учителем-мудрецом и учеником-воином.
Сорокатысячное греко-македонское войско переправлялось через Геллеспонт. Позади остались города с полуголодными возбужденными эллинами, пропыленные свитки Платона о справедливом государстве и справедливых законах. Впереди была необозримая Азия с нестройными царскими полчищами, готовыми разбежаться при одном только виде непобедимой фаланги, с дворцами, хранящими неисчислимые богатства, с народами, привыкшими повиноваться сильному.
Довольно слушать мудрецов, витающих в облаках! Ни один из них не указал Элладе верного пути — ни Сократ, ни ученик Сократа Платон, ни ученик Платона Аристотель. Только лишь ученик Аристотеля Александр нашел этот путь! Это путь на Восток! Там упоение победой, царская роскошь, власть, слава!
Но чем дальше уходил Александр от Эллады дорогами войны, чем больше городов открывало ему свои ворота, тем глубже становилась пропасть между Александром — учеником Аристотеля и Александром — завоевателем Вселенной. Сомнения одолевали сына Филиппа. Так ли велика эллинская мудрость? Мудрость египетских жрецов, о которых он раньше знал понаслышке, не только была древнее, но и более соответствовала устремлениям победителя. А когда Александр был объявлен ими сыном бога Амона, он и впрямь усомнился в том, что его отец — македонец Филипп, и, мгновенно забыв все то, чему его учил Аристотель, потребовал от эллинов, чтобы они признали его богом.
Возмущенные наглостью этого юнца, но опасаясь его мести, эллины ответили: «Пусть Александр будет богом, если он этого хочет».
Александр продолжал свой путь на Восток. Новые города раскрывали перед ним свои ворота. Армии царей и сатрапов рассыпались, как ворох сухих листьев под дуновением ветра. Александр все более отдалялся не только от Эллады, но и от эллинов и македонцев, которым он был обязан своими победами и даже жизнью. Он требовал от них поклонов и целования ног по обычаю персидских царей. И когда один из друзей, защитивший когда-то его грудью от вражеской стрелы, отказался выполнить это требование, унижающее свободного человека, он был убит, как говорили историки, в пылу гнева. Но вспыльчивостью не объяснить того, что он бросил племянника Аристотеля Каллисфена в клетку и возил его в ней до тех пор, пока не был пойман лев, которому строптивый философ и историк был предназначен в пищу. Тот ли это Александр, которого обучал Аристотель? Философ мог бы задуматься над этим и вспомнить слова другого мудреца, учившего: «Все течет, все изменяется». И добавить к этим словам свои: «Особенно изменяются люди, отягощенные властью».
Александр, уверовавший в свое божественное происхождение и непогрешимость, продолжал гнать армию на край света, хотя никто, кроме него, уже не понимал смысла дальнейшего продвижения на Восток. Войско повернуло назад. Багровое солнце Индии освещало сгорбленные спины солдат, отрепья одежды, стертые в кровь ноги. Это было началом заката империи, рожденной в войнах. В Древнем Вавилоне Александр умер тридцати трех лет от роду то ли от лихорадки, то ли от яда.
Но не успел еще остыть его прах, как началась вражда между полководцами. Вражда перешла в войны, жестокие и бессмысленные. Держава Александра кроилась и перекраивалась, как хитон, оказавшийся не по плечу наследникам. Она кромсалась, как пирог на погребальной тризне. Каждый хотел захватить кусок побольше и пожирнее.
Вслед за Александром ушел из жизни и Аристотель. Эллины, радостно вздохнувшие после смерти деспота, вспомнили, что он вышел из школы Аристотеля, словно бы учитель был виноват в том, что ученик возомнил себя богом и стал тираном.
Как различны деяния завоевателя и мудреца, так различны и судьбы их творений. Держава Александра рассыпалась, едва успев родиться, а держава Аристотеля рождалась после его смерти. Где его армия? Горсточка учеников Ликея, к которым афиняне относились с недоверием. Но это были ученики, не предавшие своего учителя. Своими трудами они продолжили его дело. И к тому времени, когда греческие государства попали под власть новых завоевателей — римлян, невидимая власть империи Аристотеля, его власть над умами не только эллинов, но и варваров была прочнее, чем когда бы то ни было.
В 88 г. до н. э. Афины восстали против ненавистных римлян. Окруженный римским войском город ожидала судьба других непокорных городов — разрушение, а его жителей — рабство. Но римский полководец Сулла, ворвавшись в город, остановил своих солдат. Он заявил потрясенным афинянам: «Я щажу живых ради мертвых». Афины были спасены не храбростью своих защитников, а гением своих мудрецов и постов. Главным трофеем Суллы были сочинения Аристотеля, сотни свитков, уже изъеденных, червями и покрытых плесенью. В Италии они нашли своих ценителей и почитателей.
И не только в Италии. В Египте, завоеванном Александром, Аристотеля знали не только в городах, населенных греками, но и в деревнях с чисто египетским населением. Есть что-то символическое в том, что в одной из таких деревень в конце XIX века нашли папирус с сочинением Аристотеля «Афинское государственное устройство», но до сих пор не могут отыскать даже места, где находился мавзолей Александра. Древняя земля Египта сохранила память о просветителе, а не о завоевателе.
Необыкновенно прочной была память об Аристотеле и в других странах Востока, завоеванных фалангами Александра. Образ самого Александра исказился почти до неузнаваемости, превратившись в какого-то сказочного демона Искандера двурогого. Аристотель же оставался в памяти людей Востока, ибо он вел там сражение нетленным оружием слова. Сочинения Аристотеля переписывались и изучались, и даже после арабского завоевания и распространения ислама авторитет Аристотеля был так же велик, как в годы после его смерти.
Время для понимания и восхищения Аристотелем на Западе пришло позднее, в эпоху Возрождения, когда передовые люди в борьбе с обветшалыми взглядами на мир искали себе союзников среди великих мыслителей античного мира. Первым из них был Аристотель. В представлении гуманистов он был не человеком отдаленного прошлого, отстоявшего от их времени почти на двадцать веков, а современником, самым живым и мудрым среди них.
Великий художник Рафаэль изобразил на стене одной из комнат Ватиканского дворца всю афинскую школу. На ступенях широкой лестницы, ведущей в зал, с проходом через анфиладу комнат к небесной голубизне в живописных позах изображена группа философов. Они ведут непринужденную беседу, спорят, собравшись небольшими группами, сосредоточенно размышляют. Но над лестницей и людьми, словно сказочное видение, встают две фигуры: одна — седобородого старца с мечтательным лицом и поднятой к небу рукой, другая — человека помоложе, чернобородого, с энергичным выражением лица — простирает руку вперед, указывая на землю. Платон и Аристотель, учитель и ученик, два величайших философа древности. Так они воспринимались Рафаэлем и его современниками: один — обращенный к небу, другой — к земле, но не приземленный, а такой же прекрасный и божественный.
Один великолепный знаток и самый лучший переводчик Аристотеля и сам превосходный стилист сказал о стиле Аристотеля: «Не поцеловала его муза». Действительно, речь Аристотеля по сравнению с речью великого и вдохновенного его учителя Платона может показаться затрудненной, негладкой.
«Не поцеловала муза»… Но ведь в числе муз, пожалуй, не было той, которая могла бы одарить Аристотеля своим поцелуем. В число девяти муз не вошла муза — покровительница строгой мысли, прекрасной своей доказательностью и обнаженной логикой. Этой музы не было потому, что до Аристотеля еще никто в полной мере не умел говорить так логично и последовательно, добиваясь не красоты выражения, а проникновения в причину явления. Это был язык науки. Первым на ее языке заговорил Аристотель, учитель человечества.
Доктор исторических наук А. И. Немировский
Примечания
1
Седьмое таргелио́на — 21 мая.
(обратно)2
Педагог — дядька, сопровождавший ребенка в школу и во время его прогулок.
(обратно)3
Ста́дий — 177,4 м.
(обратно)4
Магнесийские камни — магнитная руда.
(обратно)5
Агора́ — центральная площадь.
(обратно)6
Ха́йрэ — обычное приветствие, которое можно перевести как «радуйся», «будь здоров», «трудись и преуспевай», «грудись с успехом» и т. п.
(обратно)7
Кикео́н — любимый напиток греков, смесь вина, ячменной муки и тертого сыра.
(обратно)8
Леки́ф — сосуд для хранения благовоний.
(обратно)9
Хито́н — нижняя часть одежды.
(обратно)10
Гиматий — верхняя часть одежды, плащ.
(обратно)11
Гно́мон — солнечные часы. Афиняне начинали счет дневным часам с восхода солнца и делили весь день (от восхода до заката) на 12 часов, независимо от того, был ли это короткий (зимний) день или длинный (летний).
(обратно)12
Булевте́рий — здание, где заседал афинский Совет Пятисот.
(обратно)13
Архо́нт-басиле́вс — один из девяти архонтов, в ведении которого были дела, связанные с религиозными культами.
(обратно)14
Метек — чужестранец.
(обратно)15
Ки́рбы — каменные и деревянные столбы с написанными на них текстами законов.
(обратно)16
Одео́н — театр, где афиняне состязались в пении, игре на музыкальных инструментах и в декламации.
(обратно)17
Астино́м — городской надзиратель комиссар полиции.
(обратно)18
Параси́т — так греки называли тех, кто приходил на пир, не будучи приглашенным на него.
(обратно)19
Лампионы — светильники.
(обратно)20
Сибарис — город, жители которого, сибариты, славились своей изнеженностью и страстью к изобретательству новых блюд.
(обратно)21
Паста́да — главная, самая большая комната в доме.
(обратно)22
Ти́хе — богиня случайности, изменчивой судьбы.
(обратно)23
Эриды — богини спора.
(обратно)24
Талант — 6000 драхм (около 25 кг серебра); треть одной драхмы — прожиточный минимум в день бедной афинской семьи.
(обратно)25
День кружек — один из дней праздника, который посвящался богу Дионису.
(обратно)26
Архо́нт — здесь: глава учеников, который избирался в Академии каждый день.
(обратно)27
Демокрит — великий древнегреческий философ-материалист. Протаго́р — софист, современник Сократа.
(обратно)28
Геометрией во времена Платона называли математику, в состав которой входили такие дисциплины, как собственно геометрия, арифметика, теория гармонии и астрономия.
(обратно)29
Афлофе́ты — устроители состязаний в чести, праздников.
(обратно)30
Дро́мос — улица, которая вела от Помпейона к агоре — путь процессии в дни Великих Панафиней.
(обратно)31
Афина Промахос — Афина Воительница, покровительница города.
(обратно)32
Пери́кл (490–429 гг. до н. э.) — вождь афинской демократии и первый стратег. При нем были построены Парфенон и Пропилен.
(обратно)33
Колиа́дская глина — красная глина с мыса Колиад в Аттике. Называлась еще аттической глиной и считалась самой лучшей. Белые глины привозили из Коринфа и Танагры.
(обратно)34
Второй завтрак у греков был в середине дня. То, что они называли обедом, было, с нашей точки зрения, ужином (обедали, когда смеркалось).
(обратно)35
Эмпире́й — от греческого слова «эмпи́рос» — «огненный». По представлениям древних греков, эмпирей — верхняя, наполненная огней к светом часть неба, где обитают боги.
(обратно)36
«Тимей» и «Кри́тий» — произведения Платона, в которых рассказывается об Атлантиде.
(обратно)37
Кали́птра — женский плащ.
(обратно)38
Ксоа́н — деревянная скульптура.
(обратно)39
Демосфен был членом комиссии, которая руководила возведением оборонительных стен Афин и Пирея.
(обратно)40
Икти́н и Калликри́́т — архитекторы, Фидий — скульптор. Ими был воздвигнут ансамбль храмов и скульптур на Афинским Акрополе.
(обратно)41
Ификра́т — афинский военачальник, к которому обратилась за помощью Эвриди́ка, мать Филиппа, когда в Македонии возникла междоусобица, и который помог Филиппу взойти на престол.
(обратно)42
Соло́н (ок. 638–559 гг. до н. э.) — афинский политический деятель, поэт и философ.
(обратно)43
Аскле́пий — бог врачевания.
(обратно)44
Стримо́н — река в Македонии.
(обратно)45
Ами́нта II — македонский царь.
(обратно)46
Гекатомбео́н — месяц, соответствующий второй половине июля и первой половине августа по нашему календарю.
(обратно)47
Второй год 110-й Олимпиады — 338 г. до н. э.
(обратно)48
Конец метагитнио́на — начало сентября.
(обратно)49
Гегемо́н — верховный правитель.
(обратно)50
Геростра́т поджег драм Артемиды в Эфесе, за что был проклят всем эллинским миром.
(обратно)51
Мемфисские камышинки — палочки из мемфисского (кни́дского и анаи́тского) камыша, очищенные и расщепленные, подобно гусиному перу. Греки писали ими, обмакивая их в чернила, составляемые чаще всего из сажи и клея.
(обратно)52
Гиппокра́т — знаменитый врач древности.
(обратно)53
Гебдома́да — седмица, семь лет.
(обратно)54
Акме — расцвет.
(обратно)55
Антипатр был воспитателем Александра Македонского до приезда в Пеллу Аристотеля.
(обратно)56
Леосфе́н — афинский полководец. Погиб во время осады крепости Ламия, в которой укрылся после смерти Александра Антипатр.
(обратно)57
Пеа́н — гимн, который обычно посвящался Аполлону. Посвящать пеан людям считалось преступным.
(обратно)58
Казначей Александра Македонского Гарпа́л похитил казну персидских царей, захваченную Александром. С этими деньгами он прибыл в Афины, склонял их к восстанию против Александра. Гарпал был задержан с частью денег. Деньги были положены на сохранение в Акрополь. Гарпалу удалось бежать. А часть захваченных у него денег пропала. В пропаже денег сторонники Александра обвинили Демосфена. Он был приговорен к уплате пятидесяти талантов и посажен в тюрьму.
(обратно)






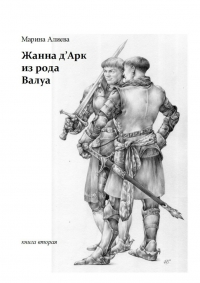
Комментарии к книге «Великий стагирит», Анатолий Иванович Домбровский
Всего 0 комментариев